АНТИЧНАЯ ДРАМА
Античная драма
От Эсхила, которым открывается этот том, до Сенеки, который его завершает, прошло добрых пять веков — время огромное. И в сознании любого, кто мало-мальски знаком с крупнейшими писателями разных эпох и народов, два этих имени обладают, конечно, далеко не одинаковым весом. Когда говорят: «Эсхил», — сразу возникает у одних смутный, у других более или менее четкий образ «отца трагедии», образ почтенно-хрестоматийный, даже величественный, представляются мрамор античного бюста, свиток рукописи, актерская маска, залитый южным, средиземноморским солнцем амфитеатр. И сразу же память подсказывает еще два имени: Софокл, Еврипид. Но Сенека? Если тут и возникнут какие-то ассоциации, то, во всяком случае, не театральные: «Ах да, это тот, который вскрыл себе вены по приказу Нерона…». Справедлива ли такая несоизмеримость посмертной писательской славы Эсхила и Сенеки? Да, справедлива, вне всяких сомнений. После проверки веками — а тем более тысячелетиями — произвола в отборе самых значительных культурных ценностей в общем-то не бывает.
Почему же, несмотря на то, что Эсхил жил в V веке до н. э. в Греции, а Сенека в I веке н. э. в Риме, и несмотря на то, что один оставил в памяти потомства очень глубокий след, а другой как драматург — след слабый, поверхностный, оба оказались под одним переплетом? По праву ли они встретились? Да, по праву. Книга наша называется «Античная драма», а античная драма, если смотреть на нее нашими, сегодняшними глазами, с расстояния в две тысячи лет, — это все-таки одно целое, спаянное не только общими историческими предпосылками — рабовладельческим строем, языческой мифологией, — но и чисто литературной преемственностью, которая состояла в заимствовании и развитии технических приемов, в подражании предшественникам или их пародировании, в полемике с ними и порой даже, говоря нынешним языком, в «личных контактах». Известно, например, что Эсхил и Софокл выступали со своими трагедиями на одних и тех же состязаниях и оспаривали друг у друга первый приз. При всех различиях эпох и талантов, расцвета и упадка, при диаметральной, казалось бы, противоположности трагедии и комедии, при разноязычии греков и римлян, при том, что от одних авторов до нас дошла лишь малая часть написанного, а от других вообще ничего не дошло, — при всем при этом античная драматургия представляется нам сегодня тугим клубком, где скрыты концы нитей, тянущихся ко всем позднейшим победам европейского драматургического гения — и к Шекспиру, и к Лопе де Вега, и к Мольеру, и к Островскому.
Как завязался этот клубок, с чего все началось? Достаточно один раз прочесть любую трагедию Эсхила, чтобы почувствовать в ней какую-то старую культуру зрелищ и лицедейства. Прежде всего бросается в глаза непременное присутствие хора — особенность, на современный взгляд, странная. А потом, вчитываясь, замечаешь, что без хора, пожалуй, и действие не двигалось бы: в одном случае не получилось бы диалога, в другом — не было бы необходимой для понимания происходящего экспозиции, в третьем — и это самое поразительное — вообще не было бы главного действующего лица, потому что хор как раз и есть тот герой, вокруг которого вертится драма. И еще замечаешь, читая Эсхила, что партии хора подчинены каким-то своим композиционным правилам и правила эти разработаны весьма изощренно. Хор поет и в начале, когда появляется перед зрителями, и в середине пьесы, когда актеры уходят, и в конце ее, покидая свою площадку — орхестру. Все эти выступления хора имеют даже особые названия — парод, стасим, эксод. — Бросается в глаза и еще одна закономерность: песни хора обычно состоят из парных частей, и вторая («антистрофа») повторяет ритм первой («строфы») на новом тексте. Такая тонкая механика не возникает на голом месте. За ней легко угадывается традиция, и даже если бы мы не располагали античными свидетельствами о происхождении трагедии и о Фринихе, предшественнике Эсхила, первостепенная роль хора и сложная система хоровых партий в эсхиловском театре натолкнули бы нас на мысль, что «первым» Эсхила можно назвать только условно, и указали бы нам на хор как на отправную точку для поисков, которые привели бы к истокам трагической драмы. А сравнивая огромное значение хора в эсхиловских трагедиях с его ролью у поэтов следующего поколения — Софокла и особенно Еврипида, — о которых кто-то, пусть с долей преувеличения, сказал, что их можно без всякого ущерба для понимания смысла читать, пропуская хоровые партии, — еще отчетливее видишь, что хор в трагедии — это ее самое древнее, самое архаичное, самое близкое к началам драмы ядро.
Театр, оживающий на страницах нашего сборника, даже и самый ранний, эсхиловский, — это театр людей уже цивилизованных, обладающих и письменностью, и высокой литературной и музыкальной культурой. Именно культура и сделала возможным тот качественный скачок, каким был переход от обрядовых песен в честь бога Диониса к профессионально подготовленному представлению. Слово «трагедия» значит в переводе «козлиная песнь». Сам по себе перевод еще ничего не объясняет, и поныне существуют разные его толкования, в основе которых, однако, всегда лежит идущая от греков убежденность в том, что родил трагедию культ Диониса, считавшегося покровителем виноградарства и символом животворных сил природы. В честь Диониса издавна устраивались пьяные шествия. Участники этих процессий изображали пастухов — свиту Диониса, они надевали козьи шкуры, вымазывали себе лица виноградным суслом, пели, плясали, славили своего хмельного бога, которого иногда тоже представлял один из ряженых, и завершали обряд жертвоприношением козла. Козьи шкуры на бедрах и спинах «пастухов», козел как традиционный дар Дионису, не говоря уж об известных мифических спутниках этого бога — козлоногих сатирах, — о да, если все началось с дионисийского культа, то, право же, было достаточно причин, чтобы древнейший жанр драматургии получил свое не очень-то на поверку красивое имя.
Как выделились из хора ряженых запевалы-солисты, как вместо Диониса главными фигурами действа становились другие боги, а вместо богов и наряду с ними — герои мифов, как усложнялось, все больше удаляясь от культовой своей первоосновы, драматическое представление, это не так уж трудно вообразить, а это и есть путь от обрядовых песен к литературной трагедии, зачинателем которой считается Феспид (VI в. до н. э.). Однако, и став литературой, трагедия продолжает развиваться в том же направлении: она становится все более светской, хоровое пенье занимает в ней сравнительно с диалогом все меньше места, среди ее персонажей появляются не только мифические герои, но и реальные исторические лица, такие, например, как персидские цари Ксеркс и Дарий. Она почти обрывает пуповину, связывающую ее с дионисийскими песнями, с религиозным культом.
Но только почти! Если пристальней к ней приглядеться, то полностью она этой пуповины на греческой почве так и не оборвет. Вплоть до Еврипида обязательной принадлежностью театрального реквизита останется жертвенник, а непременной темой трагедийного хора — величание богов; вплоть до Еврипида, и даже чаще всего именно у него, герои и боги будут прибывать к месту действия на колесницах, происходящих от той полуповозки-полуладьи, на которой в особые праздники приезжал в Афины «сам» Дионис, так же примерно, как приезжает сегодня у нас в какой-нибудь детский сад «сам» дед-мороз. И всегда, всегда представления в античных Афинах будут даваться только по праздникам в честь Диониса, два раза в году, зимой и весной, даже если темы драм не будут иметь к этому богу уже ни малейшего отношения.
То, во что нам сегодня нужно пристально вглядываться, было у современников трех великих греческих трагиков всегда на виду. И косность, с какой театральные зрелища допускались лишь на Дионисии и Леней, родила в Афинах пословицу: «При чем тут Дионис?» Насмешливый этот вопрос удивительно меток и заразителен. Он ясно указывает на то, что в эпоху расцвета трагедии сохраненные ею следы богослужебного ритуала воспринимались как пережиток, а нас, отделенных от мира, где верили в богов и героев, толщей веков, этот вопрос прямо-таки призывает расширить его смысл и увидеть за туманной подчас мифологической оболочкой трагедии живую, земную жизнь.
С самой начальной поры греческой драмы земные дела входили в нее и без посредничества мифологии. Афинский театр V века до н. э., и трагический — Эсхила, Софокла, Еврипида, и комический — Аристофана, всегда занимался самыми животрепещущими вопросами политики и морали, это был очень гражданственный, очень тенденциозный театр, сознававший свою воспитательную, наставническую роль и гордившийся ею. И есть, нам кажется, какая-то поучительная закономерность в том факте, что первой доэсхиловской драмой, о которой до нас дошли более или менее связные и подробные сведения, оказалась трагедия Фриниха «Взятие Милета», написанная на злободневную тему, под свежим впечатлением только что отшумевших событий.
История с Фринихом заслуживает того, чтобы ее здесь рассказать, потому что она предвосхищает важные черты театральной жизни своего века. В 494 году до н. э. персы разрушили город Милет — греческую колонию в Малой Азии, восставшую против их господства. Через год, в 493 году до н. э., Фриних поставил в Афинах трагедию о разгроме милетцев и был оштрафован афинскими властями на тысячу драхм на том основании, что своим сочинением довел зрителей до слез, напомнив им о, так сказать, общенациональной беде. А трагедию эту запретили когда-либо ставить. Сентиментальная и наивная, казалось бы, мотивировка запрета в действительности маскировала страх перед агитационной силой пьесы, страх тех, кто чувствовал себя ответственным за недостаточную помощь милетцам и вообще за неподготовленность к отпору персам в момент, когда угроза их вторжения в Грецию приобретала все большую реальность. В тот год, когда Фриних поставил «Взятие Милета», на высокий пост архонта в Афинах был избран Фемистокл, государственный деятель, понимавший неизбежность войны с персами и ратовавший за строительство военного флота. Но Фемистокла вскоре отстранили от власти, он приобрел политический вес лишь через десять лет, и тогда началось усиленное строительство афинского флота, который и победил персов при острове Саламине в 480 году до н. э. А еще через четыре года, уже в зените своей политической славы, Фемистокл на собственные средства поставил трагедию того же Фриниха «Финикиянки», где воспевалась эта победа при Саламине. «При чем тут Дионис?»
Ни «Взятие Милета», ни «Финикиянки» до нас не дошли; первым по времени трагиком, чьи драмы мы можем читать и сейчас, был Эсхил (524–456 гг. до н. э.), от произведений которого, как и от произведений Софокла (496–406 гг. до н. э.) и Еврипида (480–406 гг. до н. э.), хоть малая часть, а все-таки сохранилась. Фриних, следовательно, — лишь предыстория трагического театра, но предыстория знаменательная, основополагающая. Этот театр теснейшим образом связан с общественной жизнью своего времени, с идейными его веяниями и политическими передрягами.
Что же это была за эпоха в Элладе, прославленный V век до н. э.? Мы уже знаем, что начиналась она под знаком войны. Греция представляла собой тогда не единое государство, а несколько самостоятельных городов, каждый из которых возглавлял примыкавшую к нему область как ее административный и торговый центр. Говорили во всех этих городах-государствах (их называли и называют полисами) на разных диалектах одного и того же языка — греческого. У каждого города имелись свои, местные предания, свои боги-покровители и герои, но система религиозно-мифологических представлений была в общем везде одна, запечатленная с наибольшей полнотой гомеровскими поэмами. Самой развитой общественной и культурной жизнью по сравнению с другими полисами жили в то время Афины, крупнейший греческий порт, столица богатой оливковым маслом и вином Аттики. Афины и возглавили общеэллинскую войну с персами и, выиграв ее, еще пышнее отстроились, демократизировали свои политические учреждения, достигли огромных успехов в развитии искусств. Разумеется, афинская демократия была демократией рабовладельческой, и если вождь ее, Перикл, говорил, что государственный строй афинян «называется демократическим потому, что он зиждется не на меньшинстве, а на большинстве народа», что афиняне «живут свободной политической жизнью в государстве и не страдают подозрительностью в повседневной жизни», то, читая эти патетические слова, не следует забывать, что рабов в Афинах было куда больше, чем свободных граждан. Демократизация политических учреждений означала лишь более широкое участие в них мелких свободных собственников, постепенно избавившихся от гнета знати. Но духовный климат Афин был все же совершенно иным, чем, например, в Спарте с ее более суровым бытом и более грубыми нравами, не говоря уж о Персии, где принято было падать ниц перед царями и их сатрапами.
Общеэллинский патриотический подъем, сопровождавшийся в Афинах расцветом культуры, не уничтожил, естественно, всякого рода противоречий ни внутри полисов, в том числе и внутри Афин, ни издавна существовавших между полисами, особенно между Афинами и Спартой; и внутренние противоречия, как это всегда бывает, становились из-за внешнеполитического неблагополучия только острее и обнаженнее. Начавшаяся в 431 году до н. э., через неполные пятьдесят лет после саламинской победы над персами, внутриэллинская, названная Пелопоннесской, война разбила Грецию на два, как мы теперь сказали бы, блока — афинский и спартанский. Война эта затянулась надолго, она закончилась через два года после смерти Еврипида, в 404 году до н. э., поражением Афин и нанесла греческой демократии сильнейший удар. По требованию спартанского военачальника Лисандра вся власть в Афинах перешла к комитету тридцати, установившему жестокий террористический режим. Сильнейший удар был нанесен и искусству, и в первую очередь самому доступному и самому гражданственному его виду — театру.
Даже этот краткий набросок исторических событий V века до н. э. позволяет выделить в них три этапа: становление греческих городов-государств и эллинского самосознания в ходе патриотической войны с Персией; затем, главным образом в Афинах, расцвет общественной жизни и культуры и в связи с этим нравственное развитие личности; наконец, утрата национальной сплоченности, идейный разброд и неизбежные при таких условиях ослабление моральных устоев, переоценка казавшихся незыблемыми этических норм.
И так как великих греческих трагиков тоже три и Эсхил старше Софокла, а Софокл — Еврипида, то, пожалуй, довольно-таки соблазнительно «увязать» каждого с соответствующим этапом, тем более что материал в пользу такой схемы в трагедиях всех троих можно найти. Часто историки литературы и поддавались этому соблазну симметрии и стройности. Но в реальной жизни, к которой художник всегда чутко прислушивается, разные, порой даже противоположные тенденции существуют одновременно, и Еврипид, например, как мы увидим, был не меньшим греческим патриотом, чем Эсхил, хотя и жил во времена внутригреческой распри, а Эсхил, хотя и изображал главным образом волевых, несгибаемо сильных людей, не был глух и к темным, патологическим сторонам человеческой натуры, которые вообще-то считаются специальностью Еврипида. Мало того что симметричная схема не учитывает ни многогранности жизни, ни индивидуальных особенностей дарования, которые определяют интерес писателя к тем, а не к другим ее граням, механическое распределение трех трагиков по трем ступеням истории требует и известной хронологической натяжки. В год смерти Эсхила Софоклу исполнилось сорок лет, а этот возраст, надо заметить, считался у греков вершиной развития человеческих способностей, так что назвать двух первых трагиков современниками есть все основания. Правда, нам могут возразить, что Софокл пережил Эсхила на целых пятьдесят лет. Но ведь и Еврипид пережил его ровно на столько же и умер, кажется, даже чуть раньше Софокла, однако герои Софокла, как мы увидим, гармоничны, величественны и благородны, а еврипидовские истерзаны страстями, поглощены иногда семейными неурядицами и обитают порою не во дворцах, а в хижинах. Конечно, время неизбежно вторгается в книги и накладывает на них свой отпечаток. Но, говоря о художниках, нужно, помимо общеисторических перемен, помнить и о своеобразии каждого таланта, о том, что на смену одним литературным приемам, развивая и совершенствуя их, приходят другие, что искусство не терпит повторения уже сказанного предшественниками.
Возникновению этой стройной трехступенчатой схемы в оценке великих трагиков очень способствовала скудость наших фактических данных об их жизни и творчестве, несоизмеримость малого числа дошедших до нас драм с числом ими написанных. Из античных источников известно, например, что победа молодого Софокла во время его выступления на состязании трагиков в 468 году до н. э. настолько обидела Эсхила, что тот вскоре уехал из Афин на остров Сицилию. Такое свидетельство дает как будто пищу для умозаключений, подтверждающих распространенную схему: «Ну конечно, иные времена — иные нравы, Эсхил уже устарел, он не сумел откликнуться на новые запросы зрителей, и ему ничего не оставалось, как уступить дорогу Софоклу». Но вот в 1951 году среди других текстов Оксиринхского папируса был опубликован фрагмент, из которого явствует, что Эсхилу все-таки удалось победить и Софокла: он получил первый приз за свою трагедию «Просительницы» на том же состязании, где Софоклу достался только второй. И сразу рушатся всякие поспешные построения, и лишний раз обнаруживается уязвимость и хрупкость всяческих схем.
Что было, при всех их различиях, несомненно присуще всем драматическим поэтам V века до н. э. — и трагикам и Аристофану? Убежденность в том, что поэт должен быть учителем народа, его наставником. Воспитательно-просветительную роль театра в те времена сейчас трудно даже себе представить. Не было книгопечатания, не существовало ни газет, ни журналов, и если не считать официальных народных собраний и неофициальных рыночных сборищ, театр представлял собой единственное средство массовой информации. Афинский театр Диониса вмещал около семнадцати тысяч зрителей — столько людей, сколько сегодня средней руки стадион, почти все взрослое население тогдашних Афин. Никакой оратор, никакая рукопись не могли рассчитывать на такое количество слушателей и читателей. При Перикле для беднейшего населения было введено государственное пособие на оплату театральных мест, так называемое «теорикон» (в переводе: «зрелищные деньги»). Представления происходили, правда, только по праздникам, но начинались утром, а кончались с заходом солнца и растягивались на несколько дней. Искусство авторов оценивалось специально избираемыми судьями, первый приз означал для поэта победу, второй — умеренный успех, а третий — провал. Перечень таких красноречивых подробностей можно продолжить, но не ясно ли уже и так, что каждое драматическое состязание было событием не только для виновников торжества — авторов, но и для всего города, что само значение, сама постановка театрального дела обязывали поэта к величайшей взыскательности, к сознанию своей высокой гражданской миссии?
Что греческие драматурги действительно относились к своей работе как к педагогическому служению, подтверждается рядом античных свидетельств. «Как наставники учат мальчишек уму, так людей уже взрослых — поэты», — этот стих в своей комедии «Лягушки» вложил в уста Эсхила Аристофан, его почитатель и сам великий театральный поэт. Об Еврипиде античность сохранила одну историю, может быть, и анекдотическую, но, как всякий хороший анекдот, схватывающую самую суть явления. Зрители будто бы потребовали от Еврипида, чтобы он выкинул из своей трагедии какое-то место, и тогда поэт вышел на сцену и заявил, что пишет не для того, чтобы учиться у публики, а чтобы ее учить. Что касается Софокла, то он, по сведениям Аристотеля, говорил, что «изображает людей такими, какими они должны быть, а Еврипид такими, каковы они на самом деле». «Какими они должны быть»! В самой этой волеизъявительной формуле слышится назидание, и если Еврипид называл себя учителем народа, то Софокл, судя по этим словам, считал себя им в еще более точном и более требовательном смысле.
Уроки, которые давали поэты зрителям, от автора к автору усложнялись, опираясь на преподанное предшественниками. До Эсхила, как утверждают, кроме хора и предводителя хора, в действии участвовал только один актер, а Эсхил ввел второго, после чего Софокл — третьего. Идеи перенимались, обогащались и развивались, разумеется, не так просто и непосредственно, как чисто профессиональный технический опыт, но определенная преемственность, безусловно, существовала и тут.
Эсхил будто бы назвал свои трагедии крохами с пиршественного стола Гомера. Скромную эту самооценку нужно, по-видимому, понимать только так, что сюжеты для своих произведений Эсхил, как затем и другие трагики, черпал в мифологии, а самым обильным источником мифологических историй были «Илиада» и «Одиссея». Ведь мифологические образы гомеровского эпоса трагедия переосмыслила, соотнеся их с эпохой куда более сложных и развитых общественных отношений. Не патриархально-пастушеской Грецией, какую можно представить себе по поэмам Гомера, были Афины Эсхила, Софокла и Еврипида, а развитым городом-государством (подчеркиваем вторую часть этого термина), где процветали земледелие, ремесла и торговля, но — главное для искусства — сложился совершенно другой, в силу этих отличий, тип человека. Индивидуальные особенности человека, его нрав и способности приобрели в его собственных глазах и в глазах общества больший вес, его представление о себе и богах изменилось. Наивно-антропоморфная гомеровская религия, где боги отличались от людей только бессмертием и сверхъестественным могуществом, а вообще-то вели себя как добрые или злые люди, сменилась теперь, когда человек стал мерилом вещей, более сложным религиозным сознанием. Унаследовав от своего прошлого внешнее человекоподобие, боги стали также олицетворением и носителями высоких нравственных норм, людских этических идеалов. И если мы говорим о преемственности — от трагика к трагику — идей, то прежде всего мы имеем в виду непрестанное развитие идеи человеческой личности как основы любых размышлений о мире и жизни, непрестанное углубление в тайники человеческой души.
Раскроем книги, почитаем сначала первого из великой тройки, потом второго и третьего. Ни одна из дошедших до нас трагедий, не только эсхиловских, но и вообще всех сохранившихся, не имеет таких реальных, немифических персонажей, как «Персы». Атосса, Дарий, Ксеркс — это исторические фигуры, правители Персидского государства, а не герои троянского или фиванского цикла мифов. Время действия — не седая гомеровская древность, а 480 год до н. э., когда персидское морское и сухопутное войско потерпело сокрушительное поражение в Греции, сам автор, Эсхил, — современник изображаемых им событий, участник сражений при Марафоне, при Саламине и при Платеях, и пройти мимо такого откровенного, единственного в своем роде слияния поэзии греческого трагика с его правдой значило бы упустить прекрасную возможность проникнуть в его умонастроение.
Действие происходит в стане врагов Греции, в персидской столице Сузах. О величайшем триумфе Греции мы узнаём здесь только из уст ее врагов. Эти враги называют себя «варварами» — несообразность, вызывающая у нас улыбку, ведь так именовали всех неэллинов лишь сами греки, хотя и не вкладывали в это слово всей полноты его нынешнего отрицательного смысла. Действительно, ничего варварского в современном понимании, то есть дикого, нечеловеческого, изуверского, ни в убитой горем Атоссе, ни в рассудительных персидских старейшинах, ни тем более в мудром, с точки зрения Эсхила, царе Дарий нет. Единственному «отрицательному» герою, неразумному и наказанному за свое неразумие царю Ксерксу можно поставить в вину только его непомерную гордость и дерзость, жертвой которых пали тысячи его соотечественников. Но гордыня и наглость для Эсхила вовсе не специфически чужеземные черты — этими недостатками страдают и греки, например, Полиник («Семеро против Фив»), Эгист («Орестея») и даже главный бог греков Зевс, покуда он не утратил своего первобытного человекоподобия («Прометей Прикованный»). Нет, гордыня, не гнушающаяся насилием, — это для Эсхила порок общечеловеческий, это как бы полярная противоположность нравственности. И все-таки именно контекст «Персов» настойчиво оживляет в нашем сознании нынешнее значение слова «варвар», и правы, нам кажется, переводчики Эсхила, не заменяющие здесь «варваров» никакими «иноземцами», «чужеземцами» или «персами». Не в том дело, что персы в этой драме то и дело исступленно плачут, бьют себя в грудь и вообще не стесняются неумеренного проявления горя и отчаяния. Плач, стоны, даже вопли — общее место трагедий, жанровая особенность, связанная, вероятно, с происхождением от обрядовых плачей. В какой трагедии нет рыданий и криков? Ассоциация с «варварством» идет не отсюда.
Атосса рассказывает старейшинам свое зловещее сновидение. «Мне две нарядных женщины привиделись: //Одна в персидском платье, на другой убор //Дорийский был». Приснившиеся царице женщины — символические фигуры, олицетворяющие Персию и Грецию. Когда, продолжает Атосса, ее сын, царь Ксеркс, попытался надеть на обеих женщин ярмо и впрячь их в колесницу, «Одна из них послушно удила взяла, //Зато другая, взвившись, упряжь конскую //Разорвала руками, вожжи сбросила// И сразу же сломала пополам ярмо». Сами эти образы — ярмо, сбруя — уже достаточно многозначительны. Дальше противопоставление греков и персов становится еще яснее. «Кто же вождь у них и пастырь, кто над войском господин?» — спрашивает, имея в виду греков, персидская царица, не представляющая себе никакой другой формы правления, кроме автократической. И получает от хора ответ, поразительно напоминающий уже известную нам речь Перикла: «Никому они не служат, не подвластны никому». И когда выясняется, что сон Атоссы сбылся, что Ксеркс наголову разбит греками, Эсхил, опять-таки устами персидского хора, делает из этого настолько общие и далеко идущие выводы, что можно уже говорить о противопоставлении двух укладов жизни, один из которых — «варварский» и в нынешнем смысле, а другой — достойный человека, цивилизованный: люди больше не будут падать в страхе наземь и держать язык за зубами, потому что — «Тот, кто свободен от ига, // Также и в речи свободен».
В трагедии «Просительницы», действие которой происходит в легендарной для Эсхила древности, есть эпизод, где царь Аргоса Пеласг ведет переговоры с глашатаем грозящих вторжением на его территорию сынов Египта. Антагонистами здесь выступают, таким образом, эллин и египтянин. Пеласг заручился поддержкой народного собрания, он силен единодушием со своими подданными и издевается над законодательствами восточных деспотий, над их, мы сказали бы, бюрократизмом: «Не высекали мы на плитах каменных, // Не заносили на листы папируса // Своих постановлений — нет, свободное // Ты ясно слышишь слово: Убирайся вон!». Не похоже ли отношение Пеласга к египтянам на отношение Эсхила к персам? В «Орестее», мифологической по материалу, трагедии, как и «Просительницы», в словах царя Агамемнона снова звучит знакомый мотив: «Не нужно предо мной, как перед варваром, // С отверстым ртом сгибаться в три погибели, // Не нужно, всем на зависть, стлать мне под ноги // Ковры».
Настойчивость, с которой этот мотив повторяется, показывает, что для Эсхила он очень важен. Персия для поэта не просто конкретный политический враг, но и воплощение отсталого, менее гуманного, чем в родных Афинах, общественного устройства, но и прототип при изображении внешнего врага как угрозы самым глубоким корням греческой цивилизации. В трагедии, например, «Семеро против Фив», где дело происходит, как и в «Просительницах», в легендарные времена, на греческий город Фивы наступают не персы и не египтяне, а греки-аргосцы, то есть соотечественники того самого Пеласга, который обращался к египетскому глашатаю с таким гордым чувством своего превосходства. Но, глядя на события глазами фиванцев, Эсхил словно бы забывает, что и аргосцы — греки. Фиванцы называют их «воинством речи чужой» и молят богов не допустить, «…чтобы взят был приступом //И сгинул город, где звенит и льется речь //Эллады». Патриотическая гордость за Афины, за Грецию перерастает у Эсхила в гордость за демократический принцип государственной жизни, за свободолюбивого человека вообще.
Отмечая, что в «Персах» Эсхил не упоминает об ионийских греках, сражавшихся на стороне Ксеркса, то есть против своих соплеменников, и умалчивает о раздорах в самом греческом лагере накануне решающей битвы, некоторые исследователи объясняют это чисто политическим расчетом автора, тем, что какие бы то ни было укоры представляются ему тактически неуместными в момент, когда нужно создать прочный союз греческих государств. Но дело, нам кажется, не просто в узкополитическом расчете. Эсхил не официозный историк, а поэт, художник, он обобщает события, толкует их широко, противопоставляет, отталкиваясь от них, целые мировоззрения; да, он политик, но политик, как всякий настоящий художник, по большому счету, а не по малому. Среди имен персидских полководцев, перечисляемых в «Персах», много вымышленных. Но какое значение имеет это для нас сейчас? Ровно никакого. Какое значение имело бы для нас и упоминание, скажем, правительницы ионийского города Галикарнаса, гречанки Артемисии, заслужившей благодарность самого Ксеркса? Ровно никакого, если бы оно не стало толчком для размышлений о предательстве, о войне между людьми, говорящими на одном языке, то есть если бы оно не было идейно, художественно продуктивно. Вполне возможно, что такие размышления стали темой других, не дошедших до нас трагедий Эсхила. Но «Персы» не о том. Именно по поводу «Персов», единственной известной нам «исторической» трагедии, хочется напомнить крылатые слова из «Поэтики» Аристотеля: «Поэзия философичнее и серьезнее истории: поэзия говорит более об общем, история — о единичном» (гл. 9, 1451).
Гордость за победоносную Грецию перерастала у Эсхила, мы сказали, в гордость за человека. Нет ли уже в самом осознании человеческого величия какого-то посягательства на авторитет богов, известного богоборчества? Как понимать замечание Маркса о том, что боги Греции были «ранены насмерть»[1] в «Прометее» Эсхила? Если сравнить Зевса, каким он предстает в трагедии «Прометей Прикованный» (мы имеем в виду монологи Прометея и Ио) с образом этого верховного бога в хоровых песнях других эсхиловских трагедий, нельзя не заметить странного противоречия. Зевс в «Прометее» — настоящий тиран, жестокий коварный деспот, презирающий людей, «чей век как день», похотливый насильник, виновник безумия несчастной Ио, злобный и мстительный правитель, подвергающий своего врага Прометея изощреннейшим пыткам. А в «Орестее» это божество по существу доброе, которое пусть «через муки, через боль», но «ведет людей к уму, к разумению ведет», божество, за силой которого скрывается милосердие, а в «Просительницах» хор уповает на справедливый суд Зевса, чья воля «и во мраке ночном черной судьбы перед взором смертных светочем ярким горит». Как согласовать одно с другим?
Прометей, похитивший для людей огонь, научивший их всяческим искусствам и ремеслам, — это, несомненно, олицетворение человеческого разума, цивилизации, прогресса. Пытливый дух Прометея вступает в конфликт с косностью, самовластием, приспособленчеством — всем тем, что олицетворяют Зевс и его присные — Гермес, Гефест, Сила, Власть, старик Океан. Но и пороки, которые они олицетворяют, — это ведь тоже пороки человеческих отношений, и Прометей — а с Прометеем Эсхил — восстает не против богов вообще, а против богов, вобравших в себя худшие качества людей. Боги, «насмерть» здесь раненные, — это примитивные человекоподобные боги, пережиток гомеровских или даже еще более древних времен.
Эсхил — не богоборец в смысле отрицания религии. Но его религия есть прежде всего верность этическому началу, олицетворяемому богиней Правды. В «Просительницах» поэт называет три заповеди Правды, три элементарных требования нравственности: почитание богов, почитание родителей, гостеприимное отношение к чужеземцам. Первый пункт самый расплывчатый, но в него, безусловно, входит убежденность в том, что боги воздают злом за зло, что злое дело не остается безнаказанным, — ведь все трагедии Эсхила как раз и показывают цепную реакцию зла при нарушении этих простейших правил. Более или менее сходные правила, в частности, принцип «зло за зло» были и в Ветхом завете, и в вавилонском законодательстве, и в римских законах Двенадцати таблиц. Религия Эсхила — это разновидность этического кодекса развитых древних цивилизаций, сложившаяся на родине поэта в его эпоху и получившая традиционно греческое оформление.
Мы знаем, что «Прометей Прикованный» — лишь часть трилогии, куда входили еще трагедии «Прометей Освобожденный» и «Прометей Огненосец». Ни порядка частей, ни содержания двух других мы не знаем. Но даже сравнение «Прометея Прикованного» со всеми остальными сохранившимися трагедиями Эсхила, где красной нитью проходит религиозная идея нравственного в своей основе мироустройства, наводит на мысль, что в «Прометее» поэт делает своего рода экскурс в историю современной ему религии, в историю, если можно так выразиться, цивилизации богов, обусловленной цивилизацией человека. В пользу такого многое объясняющего, предположения говорит и явное пристрастие Эсхила, который, как и другие трагики, всегда ставил перед собой воспитательно-просветительские задачи, ко всякому, с его точки зрения, научному материалу. Обратим внимание на длинные географические пассажи в том же «Прометее» или в «Агамемноне», на перечисление, устами Дария в «Персах», персидских царей. Поэт словно бы открывает зрителям мир во всей возможной пространственной и временной широте.
Но хотя в центре этого мира уже стоит человек — гордый своим свободолюбием, совершенствующий себя и своих богов царь природы, мы еще почти не можем разглядеть в эсхиловском человеке тех тонких черт, которые превращают монументальную фигуру в психологический портрет, носителя доброго или злого начала — в полнокровный образ. Нет, Эсхила нельзя упрекнуть в рассудочной отвлеченности, в невнимании к противоречивым движениям человеческой души, даже к ее иррациональным порывам. Его Клитемнестра, его Орест, совершая убийство, правы или не правы не абсолютно. Его безумные Ио и Кассандра написаны художником, которого интересует и патологическая сторона жизни, а не философом, облекающим свои положения в форму диалога. Философский диалог, философская драма придут в литературу позднее, Эсхил для этого писатель слишком ранний. И вот именно потому, что он еще только прокладыватель путей, пионер, его персонажи похожи на исполинские статуи, смело высеченные из каменной глыбы, едва обработанные резцом, нелощеные, но вобравшие в себя всю скрытую силу и тяжесть камня. И пожалуй, «Прометей», где действие происходит на краю света, среди первозданного хаоса скал, вдали от человеческого жилья, трагедия, где по замыслу перед зрителем появляются не люди, а только сказочные существа, только лики, не лица, таким своим внешним построением особенно впечатляюще соответствует этой характерной для Эсхила грубоватой контурности персонажей.
Когда, читая «Антигону» Софокла, доходишь до песни хора: «Много есть чудес на свете…» — возникает ощущение чего-то знакомого. Человек — поет хор — это величайшее чудо. Он владеет искусством мореходства, приручил животных, умеет строить дома, лечиться от болезней, он хитроумен и силен. В этом перечне человеческих возможностей, способностей и умений некоторые пункты кажутся заимствованными из Эсхила, из его списка прометеевских благодеяний. Прямого заимствования тут, конечно, нет. Просто у обоих поэтов один источник — мифы о божествах, научивших человека всяким полезным искусствам. Но, вчитываясь в ту же «Антигону», обнаруживаешь преемственность более глубокую, более содержательное продолжение эсхиловской традиции, чем незатейливый перепев.
Сюжет трагедии очень несложен. Антигона предает земле тело своего убитого брата Полиника, которого правитель Фив, дядя Антигоны Креонт, запретил хоронить под страхом смерти — как изменника родины и виновника междоусобной войны. За это Антигону казнят, после чего ее жених, сын Креонта, и мать жениха, жена Креонта, кончают жизнь самоубийством.
При такой своей сюжетной простоте эта софокловская трагедия дала богатую пищу для размышлений и споров далеким потомкам. Каких только толкований «Антигоны» не предлагало ученое остроумие! Одни усматривали в ней конфликт между законом совести и законом государства, другие — между правом рода (глава рода — брат) и требованием государства, Гете объяснял действия Креонта его личной ненавистью к убитому, Гегель считал «Антигону» совершеннейшим образцом трагического столкновения государства и семьи. Все эти толкования находят более пли менее твердую опору в тексте трагедии. Не вдаваясь в разбор их, поставим перед собой вопрос — почему вообще оказалось возможным так по-разному толковать драму с таким небольшим числом действующих лиц и так экономно построенную. Прежде всего, нам кажется, потому, что у Софокла спорят рельефно изображенные люди, сталкиваются характеры, индивидуумы, а не голые идеи, тенденции. Ведь и в жизни каждый поступок, каждый конфликт, не говоря уж о таком крайнем проявлении воли, как самопожертвование, подготовляется множеством предпосылок — воспитанием человека, его убеждениями, его особым психологическим складом, отчего так и трудно объяснить исчерпывающе любую житейскую Драму.
Софокл, как и Эсхил, полон интереса к человеку. Но у Софокла люди пластичнее, чем у его предшественника. Рядом с главной героиней выведена ее родная сестра Исмена. То, что Антигона и Исмена родные сестры, ставит их в совершенно одинаковое положение относительно Креонта и Полиника. Пожалуй, как у невесты сына Креонта, у Антигоны могло бы быть даже больше внутренних побуждений для «соглашательства», чем у Исмены. Но мирится с жестоким приказом Креонта все-таки Исмена, а не Антигона. Такое же точно сопоставление двух персонажей в момент, требующий решительных действий, мы находим в другой софокловской трагедии — «Электре». Перед нами опять, как и в «Антигоне», две родные сестры — Электра и Хрисофемида. Обеими помыкает их мать Клитемнестра, которая вместе со своим любовником Эгистом убила мужа — Агамемнона и боится мести от рук сына — Ореста, брата Электры и Хрисофемиды. Но Хрисофемида, в отличие от Электры, не способна возненавидеть убийц отца достаточно сильно, чтобы отомстить им с риском для собственной жизни. И неустрашимой помощницей Ореста в час мести оказывается поэтому именно Электра, а не Хрисофемида.
При подобных сопоставлениях двух фигур каждая поневоле оттеняет другую. У Эсхила были контрасты лишь самые резкие — между добром и злом, цивилизацией и дикостью, гордыней и благочестием. Софокловская контрастность богаче оттенками, и богаче оттенками софокловский человек.
В «Электре» Софокла речь идет совершенно о том же, о чем в эсхиловской «Жертве у гроба», — о мести Ореста матери и ее любовнику за убийство отца. И у Эсхила среди действующих лиц важное место занимает Электра. Но у Софокла она становится центральным персонажем, и не будет преувеличением сказать, что этим выдвижением на роль главной героини Электра обязана своей вялой, робкой, готовой к компромиссу сестре, которой в трагедии Эсхила вообще не было. Только в сравнении с Хрисофемидой видна вся самобытность и недюжинность характера Электры, а у Эсхила Электре ничего не оставалось, как довольствоваться продиктованной мифом ролью пассивной союзницы брата.
В софокловском сравнении Антигоны с Исменой и Электры с Хрисофемидой заложен глубокий воспитательный смысл. Да, человек царь природы, да, дела человека чудесны, да, он способен спорить с самими богами. Но каким он должен быть, чтобы осуществить эту свою способность? Максимально требовательным к себе, готовым во имя своего нравственного идеала поступиться личным благополучием и даже пожертвовать жизнью.
Вершина такой педагогической требовательности к человеку — софокловский «Эдип-царь». Когда говорят, что греческая трагедия — трагедия рока, что она показывает беспомощность человека перед предопределенной ему злой судьбой, имеют в виду главным образом эту драму. Но распространенное представление о том, что рок — это движущая сила греческих трагедий, сложилось прежде всего из-за сюжетов, которые поражают нынешнего читателя своей диковинностью гораздо сильнее, чем то психологическое искусство, с каким они разработаны, потому что: к психологическим тонкостям литературы он, в отличие от античного грека, привык, а от ее обязательной связи с мифами, в том числе с мифами, восходящими к древнейшим временам кровосмесительных браков и отцеубийств, внутренне давно отрешился. Иными словами, в восприятии греческой трагедии как трагедии преимущественно рока есть доля модернизации, и убедиться в этом легче всего как раз на примере «Эдипа-царя».
Современный Софоклу зритель был достаточно хорошо знаком с мифом об Эдипе, который убил своего отца, не зная, что это его отец, а затем занял престол убитого и женился на его вдове, собственной матери, не подозревая опять-таки, что это его родная мать. В сюжете трагедии Софокл следовал общеизвестному мифу, и поэтому внимание зрителя, да и автора, не было сосредоточено на сюжете, который так поражает нас поистине роковым стечением обстоятельств. Волновал трагика и публику не вопрос «что?», а вопрос «как?». Как узнал Эдип, что он отцеубийца и осквернитель материнского ложа, как дошло дело до того, что он должен был об этом узнать, как вел он себя, узнав это, как вела себя его мать и жена Иокаста? Ответить на это психологически точно, показать именно в переходе от незнания к знанию благородный и цельный характер героя и научить на его примере зрителя мужественной готовности к любым ударам судьбы — вот какую гуманистическую задачу ставил перед собой Софокл. «Ничего противного смыслу не должно быть в ходе событий; или же оно должно быть вне трагедии, как в Софокловом «Эдипе»,» — писал Аристотель. И в самом деле, ничего «противного смыслу», ничего такого, что было бы нелогично, немотивированно, не вязалось бы с характерами персонажей, в развитии действия «Эдипа» найти нельзя. Если что «противно смыслу», так это явная незаслуженность обрушивающихся на Эдипа ударов, слепое упрямство рока, то есть все связанное с мифом, на котором построен сюжет. Слова Аристотеля о том, что в «Эдипе» «противное смыслу» находится «вне трагедии», дают, нам кажется, ключ к античному восприятию этой драмы: мифологический сюжет, где року принадлежала важнейшая роль, как бы выносился за скобки, принимался как непременная условность, служил поводом для разговора о нравственной ответственности человека за свои поступки, для психологически верной картины достойного поведения в самых трагических обстоятельствах.
В другой софокловской трагедии («Эдип в Колоне»), написанной поэтом в старости, когда у него начались нелады с сыновьями из-за имущества, причина ухода Эдипа из Фив называется другая, чем в «Эдипе-царе», который кончался прощанием героя с родиной и родными и его собственным решением уйти в изгнание: здесь Эдип — изгнанник поневоле, царя лишили престола его сыновья и рвущийся к верховной власти Креонт. Не говорит ли и это об условном и вспомогательном значении мифа для трагика? Ведь пользуясь разными вариантами известного мифологического сюжета и представляя одно и то же мифологическое лицо в разных обстоятельствах, поэт лишь подчеркивал то, что его особенно волновало и занимало. В этом смысле он работал по тому же принципу, что, например, живописцы эпохи Возрождения, для которых привычные библейские сюжеты служили формой, вбиравшей в себя современный жизненный материал и глубокое знание человека.
Сплошь мифологические персонажи действуют и в трагедиях самого младшего поэта прославленной триады — Еврипида. Однако произведения Еврипида кажутся нынешнему читателю написанными намного позднее, чем трагедии двух его старших современников. Они, как правило, вполне понятны и без особых объяснительных комментариев, и наше воображение отзывается на них живее и непосредственней. Почему так? Прежде всего, наверно, потому, что темы, на которые писал Еврипид, ближе нам, чем, скажем, архаичная космография Эсхила или его религиозные представления, чем исключительные обстоятельства, в какие попадают софокловские Эдип или Антигона. О главной теме Еврипида можно судить по двум его самым известным и лучшим трагедиям, включенным в наш сборник, — «Медее» и «Ипполиту». Тема эта — любовь и внутрисемейные отношения. О том же — о любви, о ревности, об обольщенных девушках и внебрачных детях — идет речь и почти во всех остальных дошедших до нас еврипидовских трагедиях.
Но дело не только в темах. Еврипид смело вводил в трагедию, говорившую возвышенным, а порой и выспренним языком, самые реальные бытовые подробности. У Эсхила и Софокла рабы если и появлялось на сцене, то лишь в небольших, «проходных» ролях, а чаще как статисты. Место рабов в еврипидовском театре куда больше соответствовало их месту в современном поэту быту. В трагедии «Ион» старик раб, воспитатель Креусы, фигура, так сказать, «не запрограммированная» мифом, — одно из главных действующих лиц. Еврипидовская Электра из одноименной трагедии оказывается к моменту появления Ореста выданной замуж за простого крестьянина. Ни Эсхил, ни Софокл не уготавливали дочери Агамемнона такой прозаической участи, оба сказали лишь, что Электрой помыкают в родном доме и что она живет в нем чуть ли не на положении служанки. Еврипид дал этой ситуации житейски земное развитие, и с мифологической героиней случилось то, что вполне могло бы при подобных домашних обстоятельствах случиться с какой-нибудь афинской девушкой из родовитой семьи: Электру выдали замуж за крестьянина против ее воли. Поэт словно бы предлагал более созвучное обыденности прочтение мифа.
Стремление Еврипида к максимальному правдоподобию трагедийного действия видно и в психологически-естественных мотивировках поведения персонажей. Трудно перечесть — настолько их много у Еврипида — случаи, когда герой, выходя на сцену, объясняет причину своего появления. Кажется, что поэту претит всякая сценическая условность. Даже сама форма монолога, речи без собеседников, адресованной только зрителям, то есть условность, с которой театр и поныне не расстается, — даже она, на взгляд Еврипида, иной раз нуждается, по-видимому, в логическом оправдании. Прочтите внимательно начало «Медеи». Кормилица произносит монолог, вводящий зрителя в курс дела и в общих чертах намечающий дальнейшее развитие действия. Но вот экспозиция дана, и монолог, выполнив свою задачу, закончился. Однако внутренне поэт еще не «разделался» с ним, потому что еще не мотивировал этой ни к кому формально не обращенной речи. Когда на сцене появляется старый раб с детьми Медеи, первые же его слова прокладывают путь к заполнению логического пробела: «О старая царицына раба!// Зачем ты здесь одна в воротах? Или // Самой себе ты горе поверяешь?» И кормилица объясняет эту речь к «самой себе» как следствие горестного умопомрачения: «До того // Измучилась я, веришь, что желанье, // Уж и сама не знаю как, во мне// Явилось рассказать земле и небу// Несчастия царицы нашей».
Эти особенности драматургии Еврипида, подчиненные общей его установке на приближение трагедии к быту, к житейской практике и житейской логике, установке, новаторскую плодотворность которой показала вся последующая история античного, а потом и всего европейского театра, по-видимому, и создают впечатление, что Еврипид отделен от нас куда более короткой временной дистанцией, чем Эсхил и Софокл, что «пыли веков» на его писаниях гораздо меньше.
При таком «бытовизме» трагедий Еврипида участие в их действии не подвластных земным законам богов, полубогов и всяких чудодейственных сил кажется особенно неуместным. На фоне вселенских стихий крылатая колесница Океанид в эсхиловском «Прометее» не вызывает особого удивления, а волшебная колесница, на которой улетает от Ясона Медея, как-то озадачивает в трагедии с очень реальной человеческой проблематикой. Нынешний читатель, пожалуй, сочтет эту черту еврипидовской драматургии просто архаическим пережитком, сделает извинительную скидку на древность. Но ведь уже и Аристофан порицал Еврипида за негармоническое смешение высокого с низким, уже Аристотель упрекал его за пристрастие к приему «бог из машины», состоявшему в том, что развязка трагедии не вытекала из фабулы, а достигалась вмешательством бога, появлявшегося на сцене с помощью театральной машины.
Ни простая ссылка на древность, ни столь же простое согласие с мнением античных критиков Еврипида, считавших, что ему не хватало вкуса и композиционного мастерства, не помогут нам проникнуть в глубь этого эстетического противоречия, которое не помешало Еврипиду остаться в памяти потомства художником такого же ранга, как Эсхил, Софокл. Поэт действительно старался изображать людей такими, каковы они на самом деле. Он смело вводил в трагедию бытовой материал и так же смело включал в ее поле зрения темные страсти. Показывая в «Ипполите» гибель героя, самоуверенно противящегося слепой силе любви, а в «Вакханках» — героя, чрезмерно полагающегося на могущество рассудка, он предупреждал об опасности, которую таит в себе для норм, установленных цивилизацией, иррациональное начало в людской природе. И если для развязки конфликта ему так часто требовалось неожиданное вмешательство сверхъестественных сил, то дело тут не просто в неумении найти более убедительный композиционный ход, а в том, что поэт не видел в современных ему реальных условиях разрешения многих запутанных человеческих дел. Еврипиду иной раз важнее было поставить проблему, задать вопрос, чем дать на него ответ, — ведь смелая постановка новой проблемы и сама по себе воспитывает и учит.
Уже самая ранняя из дошедших до нас трагедий Еврипида — «Алкеста» — показывает, насколько больше, чем развязка драмы, заботила этого поэта постановка проблемы, проблемы в данном случае нравственно-философской, ибо «Алкеста» — это трагедия о смерти.
Богини судьбы обещали Аполлону избавить царя Адмета от смерти, если кто-либо из его близких согласится сойти в преисподнюю вместо него. «Царь испытал всех присных: ни отца, // Ни матери не миновал он старой, //Но друга здесь в одной жене обрел,//Кто б возлюбил Аидов мрак за друга». Как раз когда Адмет оплакивает умирающую Алкесту, в его дом приходит гостем Геракл. Несмотря на траур, Адмет оказывается хлебосольным хозяином, и в награду за это Геракл, победив демона смерти, возвращает Адмету живой уже похороненную жену.
Если судить только по фабуле и развязке, то «Алкеста» с ее недвусмысленно счастливым концом — произведение как будто совсем другого жанра, чем «Ипполит» или «Медея». Кстати сказать, в «Алкесте» счастливая развязка достигается без помощи приема «бог из машины», она вытекает из сюжета: Геракл появляется не в конце действия, а почти в середине, да и услуга, оказанная им Адмету, мотивирована вполне реалистически — благодарностью за гостеприимство. Но, вчитываясь в «Алкесту», видишь, что Еврипид уже и здесь — «трагичнейший из поэтов», хотя Аристотель назвал его так за то, что «многие из его трагедий кончаются несчастьем» («Поэтика», гл. 13, 1453 а).
Обрабатывая по всем правилам драматургической техники миф с благополучным исходом, Еврипид сделал идейным центром тяжести своего произведения разговор Адмета с отцом. Адмет корит Ферета за то, что тот цепляется за жизнь в преклонном возрасте и не хочет пожертвовать ею ради него, сына. Поведение Ферета тем непригляднее, что на самопожертвование согласилась его невестка Алкеста, и зритель уже склонен стать на сторону Адмета. Но тут слово берет Ферет и возвращает Адмету, который соглашается купить жизнь ценой жизни жены, упрек в трусости: «Молчи, дитя: мы все жизнелюбивы». И сразу ясно, что Адмет не менее эгоистичен, чем его отец, что это еще вопрос — стоит ли ради такого человека жертвовать жизнью, более того — что никаких объективных критериев правомерности самопожертвования нет. Благородный поступок Алкесты, как бы говорит нам поэт, не снимает проблему, а ставит ее, не давая никаких общих решений, и перед лицом этой неразрешимости уместно только молчанье. Вот она, истинно трагическая коллизия, при которой благополучная развязка кажется такой же театральной условностью, как волшебная колесница, уносящая Медею от неразрешимых проблем семьи.
Поэт скептичен, у него нет твердой, эсхиловско-софокловской убежденности в высшей нравственной правоте богов, устраивающих человеческие дела. Приверженец патриархальной старины Аристофан недолюбливал за это Еврипида и всячески противопоставлял ему Эсхила, как певца мужественного поколения марафонских бойцов. И все же Еврипид был настоящим преемником Эсхила и Софокла. Такой же гражданственный поэт, как и они, он так же сознательно служил самой гуманной политической системе своего времени — афинской демократии. Да, Еврипид многое подвергал сомнению и касался вопросов, которые до него в компетенцию трагиков не входили. Но сомнения в величайшей ценности демократических традиций родной Греции не возникало у него никогда. Невозможно перечислить все стихи, в которых поэт прославляет Афины, — так их много в его трагедиях. Чтобы не выходить за пределы нашего сборника, обратим внимание читателя только на то место в «Медее», где грек Ясон заявляет своей покинутой жене — колхидянке, что вполне рассчитался с ней за все, что она для него сделала, — а ей он, заметим, обязан жизнью. «Я признаю твои услуги. Что же // Из этого? Давно уплачен долг, // И с лихвою. Во-первых, ты в Элладе // И больше не меж варваров, закон// Узнала ты и правду вместо силы, // Которая царит у вас». Что говорить, Ясон лицемерит, юлит, но все равно чего стоит это «во-первых» даже в его устах! Тонкий психолог, Еврипид едва ли вложил бы в них прежде всего такой довод, если бы перикловско-эсхиловская гордость за свой свободолюбивый народ не была органична для него самого. Нет, Еврипид, как и Софокл, — родной брат Эсхила, только брат самый младший, наименее косный, критически относящийся к опыту старших.
Однако критика стала настоящей стихией афинского театра с расцветом другого жанра и благодаря другому автору, которого Белинский назвал «последним великим поэтом Древней Греции». Жанр этот — комедия, так называемая древнеаттическая, автор — Аристофан (приблизительно 446–385 гг. до н. э.). Когда Аристофан родился, комические поэты уже лет сорок регулярно участвовали в дионисийских состязаниях наряду с трагиками. Но о предшественниках Аристофана Хиониде, Кратине и о его сверстнике Эвполиде мы мало что знаем, от их произведений сохранились в лучшем случае только фрагменты. В том, что время сберегло нам от века расцвета античной драмы — V века до н. э. — произведения лишь гениальных трагиков и лишь гениального комедиографа, сказывается, должно быть, какой-то закономерный отбор.
Критика Аристофана — прежде всего политическая. Аристофан жил в годы внутригреческой Пелопоннесской войны, которая велась в интересах богатых афинских торговцев и ремесленников и разоряла мелких землевладельцев, отрывая их от труда, а порой и опустошая их виноградники и поля. После Перикла главным должностным лицом в Афинах стал Клеон, владелец кожевенной мастерской, сторонник самых решительных военных, политических и экономических мер в борьбе со Спартой, человек, чьи личные качества не снискали одобрительной оценки ни у одного из античных авторов, о нем писавших. Аристофан занимал прямо противоположную, антивоенную позицию и начал свою литературную карьеру с упорных нападок на Клеона, сатирически изображая его как демагога и лихоимца в ранних своих комедиях. Не дошедшая до нас комедия двадцатилетнего Аристофана «Вавилоняне» заставила Клеона возбудить против автора судебное дело. Поэта обвинили в том, что он дискредитирует должностных лиц в присутствии представителей военных союзников. Политического процесса Аристофан каким-то образом избежал и оружия не сложил. Через два года он выступил с комедией «Всадники», где изобразил афинский народ в виде слабоумного старика Демоса («демос» по-гречески — народ), целиком подчинившегося своему пройдохе-слуге Кожевнику, в котором нетрудно было узнать Клеона. Есть свидетельство, что ни один мастер не решался придать комедийной маске сходство с лицом Клеона и что Аристофан хотел играть роль Кожевника сам. Смелость? Несомненно. Но в то же время эта история с Клеоном показывает, что в начале деятельности Аристофана демократические нравы и учреждения были в Афинах еще очень сильны. За нападки на главного стратега поэта надо было привлекать к открытому суду, а избежав суда, поэт мог снова, и в условиях войны, высмеивать перед многотысячной аудиторией первое лицо в государстве. Конечно, успех театральной сатиры не означал еще политического краха для того, против кого эта сатира направлена, и прав был Добролюбов, когда писал, что «Аристофан… не в бровь, а в самый глаз колол Клеона, и бедные граждане рады были его колким выходкам; а Клеон, как богатый человек, все-таки управлял Афинами с помощью нескольких богатых людей». Но если бы Клеон был уверен, что никто не посмеет публично «кольнуть» его, то он, при своих задатках демагога, правил бы Афинами, пожалуй, еще круче и еще меньше считался бы со своими противниками… Последние годы деятельности поэта — после военного поражения Афин — протекали в иных условиях: демократия потеряла былую силу, и злободневная, полная личных выпадов сатира, столь характерная для молодого Аристофана, сошла в его творчестве почти на нет. Поздние его комедии — это утопические сказки. Политические страсти, волновавшие Аристофана, давно ушли в прошлое, многие его намеки нам непонятны без комментариев, его идеализация аттической старины кажется нам теперь наивной и неубедительной. Впрочем, картины мирной жизни, которую поэт, как противник Пелопоннесской войны, прославлял, трогают нас и теперь, и в 1954 году аристофановский юбилей широко отмечался по инициативе Всемирного Совета Мира. Но истинное эстетическое наслаждение, читая Аристофана, мы испытываем от его неистощимой комической изобретательности, от гениальной смелости, с какой он извлекает смешное из всего, чего ни коснется, будь то политика, быт или литературно-мифологические каноны.
Сама внешняя форма аристофановской комедии — с ее непременным хором, песни которого делятся на строфы и антистрофы, с использованием театральных машин, с участием в действии мифических персонажей — дает возможность пародировать структуру трагедии. В дни драматических состязаний зрители с утра смотрели трагедию, а под вечер, сидя в том же театре, на тех же местах, — представление, призванное очищать душу не «страхом и состраданием» (так определял задачу трагедии Аристотель), а весельем и смехом. Мог ли при этих условиях комический поэт удержаться от насмешливого подражания трагикам? Словно выпущенный из бутылки внешним сценическим сходством, дух пародии захватывал разные сферы трагедии. В комедии «Мир» земледелец Тригей поднимается в небеса на навозном жуке. Это уже пародия на трагедийный сюжет: известно, что не дошедшая до нас трагедия Еврипида «Беллерофонт» строилась на мифе о Беллерофонте, пытавшемся достигнуть Олимпа на крылатом коне. Но и на сюжетах пародирование трагедии не кончается, оно идет дальше, распространяется на язык и стиль. Когда старик Демос во «Всадниках» отнимает венок у своего слуги Кожевника и передает его Колбаснику, Кожевник, прощаясь с венком, перефразирует слова, которыми в трагедии Еврипида прощается со своим брачным ложем умирающая за мужа Алкеста. Подобных примеров множество. Такое последовательное высмеивание технологии трагедии находится на грани посягательства на театральную условность вообще. И грань эту Аристофан переходит в так называемых парабасах.
Парабаса — особенная, неведомая трагедии хоровая партия. Здесь участники хора снимают с себя маски и обращаются не к другим актерам, а прямо к зрителям. Прервав действие ради лирически-публицистического отступления, поэт устами хора рассказывает публике о себе, перечисляет свои заслуги, нападает на своих политических и литературных противников. Разговор со зрителем, по-видимому, не аристофановское изобретение, а древнейшая хоровая основа обличительной комедии. Но на широком фоне пародийных выдумок Аристофана парабаса воспринимается как одна из них — как пародия на театральную условность, как намеренное разрушение сценической иллюзии, предвосхищающее все дальнейшие — от Плавта до Брехта — шаги мировой драматургии на этом пути.
Как бы выходя из «цеховых» пределов, где он родился, аристофановский дух пародии не ограничивался трагедийным театром, а непринужденно вторгался в самые разные области культуры и быта, если только это шло на пользу политическому умыслу автора. Заставляя в «Облаках» Сократа и Стрепсиада беседовать о том, как избавиться от долгов, то есть на тему отнюдь не философскую, Аристофан пародировал форму сократовского диалога и уже этим одним выставлял в смешном свете Сократа, которого считал софистом, расшатывающим устои демократического афинского государства и патриархальной нравственности. Дух пародии не отступал даже перед почтенной тенью Гомера. В комедии «Осы» одержимого страстью к сутяжничеству старика Клеонолюба (красноречивое имя!) запирает в доме его сын Клеонохул, и Клеонолюб выбирается на свободу тем же способом, что Одиссей из пещеры циклопа, — под брюхом, правда, не барана, а выводимого для продажи осла. Что Гомер! Аристофан, не смущаясь, пародирует молитвы, статьи законов, религиозные обряды, — те самые, которые действительно были в ходу в его времена. Дух пародии не знает поистине никаких «табу».
Что же это, безудержное издевательство надо всем и всеми, отрицание, возведенное в абсолют? Ведь даже и тот аристофановский персонаж, чьим торжеством завершается соответствующая комедия, тоже всегда смешон. Любителя спокойной деревенской жизни Стрепсиада, поджигающего в конце концов сократовскую «мыслильню», Аристофан то и дело безжалостно ставит в ситуации, которые должны вызвать у зрителей насмешливое отношение и к этому антагонисту Сократа: то его едят клопы, то он плутует с кредиторами, то его колотит собственный сын. Поднявшись в воздух на навозном жуке, герой «Мира», крестьянин Тригей, кричит театральному механику, который управляет приспособлением для «полета»: «Эй ты, машинный мастер, пожалей меня!.. // Потише, а не то я накормлю жука!» В комедии «Ахарняне» аттический земледелец Дикеополь, — а имя это значит «справедливый город», — заключающий в итоге сепаратный, для одного себя, мир со Спартой, предстает перед публикой в откровенно-фарсовых, изобилующих балаганным юмором сценах. Но как ни смешны эти персонажи, мы не сомневаемся в том, что симпатии автора на их стороне. Холодом всеотрицания от аристофановского смеха не веет.
В том-то и гениальность этого поэта, что у него нет застрахованных от насмешек «положительных» резонеров, а положительный герой есть, Герой этот — крестьянский здравый смысл, а здравый смысл всегда человечен и добр. Благодаря такой гуманной основе аристофановского юмора творения его долговечны, и мы, для которых Пелопоннесская война и ее последствия давно уже стали древней историей, читаем комедии Аристофана с сочувственным интересом и эстетическим удовольствием.
О том, как развивалась греческая драматургия непосредственно после Аристофана, мы мало что знаем. Кроме имен шести десятков авторов, от так называемой среднеаттической комедии ничего не осталось. Судить о ней мы можем лишь умозрительно, по последним аристофановским комедиям («Женщины в народном собрании» и «Плутос»), где среди героев нет конкретных политических фигур, где публицистические парабасы отсутствуют и где хор почти не участвует в действии. Перед нами пробел протяженностью почти в столетие, и если бы не счастливые находки XX века, — в 1905 и 1956 годах были обнаружены тексты Менандра, — пробел в нашем знании античной драмы оказался бы еще больше и насчет следующего, так называемого новоаттического этапа в развитии комедии нам тоже только и оставалось бы строить догадки.
При Менандре (342–292 гг. до н. э.) Афины уже не главенствовали в Греции. После военной победы македонян над афинянами и фиванцами в 338 году до н. э. эта роль прочно закрепилась за Македонией, и по мере расширения державы Александра Афины становились все более провинциальным городом, хотя и долго еще пользовались славой в античном мире, как неостывший очаг культуры. Жизнь здесь текла теперь без политических бурь, гражданские чувства заглохли, людей уже не связывала, как прежде, их принадлежность к одному городу-государству, человеческая разобщенность усилилась, и круг интересов афинянина замыкался теперь, как правило, личными, семейными, бытовыми заботами и делами. Новая аттическая комедия все это отразила, больше того, она сама была порождением этой новой действительности.
Еще до находок 1905 и 1956 годов были известны слова Аристофана Византийского, ученого критика III века до н. э.: «О Менандр и жизнь, кто из вас кому подражал!» При знакомстве с тем, что уцелело от произведений Менандра, такая восторженная оценка может удивить. Уже Аристофан не брал сюжетов из мифологии, а сам их придумывал, относя действие своих комедий к настоящему времени, уже Еврипид смело вводил в трагедию чисто бытовой материал. Эти особенности драматургии Менандра не так уж, скажем мы, оригинальны. И непомерно большую, на наш взгляд, роль играют в комедиях Менандра всякие счастливые совпадения. В «Третейском суде» по воле случая молодой человек женится на девушке, не зная, что именно она была незадолго до этого изнасилована им и что ее ребенок — это их общий ребенок. В «Брюзге» — опять-таки случайно — попадает в колодец старик Кнемон, и это дает возможность влюбленному в его дочь Сострату оказать старику помощь и завоевать его расположение. Такие случайности кажутся нам слишком наивными и нарочитыми, чтобы построенные на них пьесы — с сюжетом к тому же непременно любовным — можно было назвать самой жизнью. Да и персонажи Менандра сводятся в общем к нескольким типам и лишь слегка варьируют одни и те же образцы. Из комедии в комедию переходят богатый юноша, скупой старик, повар и уж непременно раб, который при этом не всегда расстается со своим именем, — настолько слилось, например, имя Дав с маской раба. Нам и тут хочется сказать: «Нет, это еще далеко не вся жизнь тогдашних Афин».
Но как ни преувеличенно выразил свое восхищение Менандром Аристофан Византийский, он восхищался им искренне и был лишь одним из многих его античных поклонников. Овидий назвал Менандра «восхитительным», а Плутарх засвидетельствовал огромную популярность этого комедиографа. Мы читаем Менандра, уже зная и Мольера, и Шекспира, и итальянскую комедию XVIII века. Скряга-старик, плутоватый слуга, путаницы и недоразумения, завершающиеся счастливым примирением влюбленных, две любовные пары — главная и второстепенная — все это нам уже знакомо, и, находя все это у Менандра, мы, в отличие от его античных почитателей и подражателей, не можем проникнуться живым ощущением новизны. А между тем именно к Менандру — через римлян Плавта и Теренция — восходит позднейшая европейская комедия характеров и положений. Из-за того, что Менандр «открыт» только недавно, даже историки литературы еще не оценили по заслугам его новаторства.
Новаторство Менандра состояло не только в том, что он выработал продуктивнейшие, как показало будущее, приемы построения бытовой комедии и создал галерею человеческих портретов такой реалистической естественности, какой ни мифологическая трагедия с ее величавыми героями, ни гротескная аристофановская комедия еще не знали. Менандр первый в европейской литературе художественно запечатлел особый тип отношений между людьми, родившийся в рабовладельческом обществе и существовавший затем в феодальные времена, — сложных отношений хозяина и слуги. Когда один человек подчинен другому, находится при нем почти неотлучно и во всем от него зависит, но посвящен во все, даже интимные подробности его жизни, знает его привычки и нрав, он может, если от природы неглуп, обратить это знание себе на пользу и, умело играя на слабостях своего господина, в какой-то мере управлять его действиями, что родит в слуге чувство своего превосходства над ним. Со смесью преданности и неприязни, доброжелательности и злорадства, уважения и насмешливости разговаривают со своими патронами параситы и рабы у Плавта и Теренция, слуги и служанки у Гольдони, Гоцци и Бомарше, Лепорелло с Дон Гуаном в «Каменном госте» Пушкина. В речах менандровских рабов-наперсников без чьих советов и помощи, обычно не могут обойтись их хозяева ни в любовных, ни в семенных делах, этот тон довольно отчетливо слышен, и, говоря о новаторстве Менандра, нельзя не отметить такой его психологической чуткости.
Мы уже немного забежали вперед, упомянув о римских подражателях Менандра. Римская драма, — во всяком случае, в ее сохранившейся до нашего времени части, — вообще подражательна и тесно связана с греческой, но как все цветы греческой культуры, пересаженные на почву другой страны, другого языка, другой эпохи, и этот ее цветок, приспособляясь к новой среде, изменил свою окраску, приобрел иной аромат.
Скажем сразу — цветок этот захирел. Театральное дело в Риме всегда находилось в неблагоприятных условиях. Власти боялись идеологического влияния сцены на массы. До середины I века до н. э. в Риме вообще не было каменного театра. В 154 году до н. э. сенат постановил сломать только что выстроенные места для зрителей, «как сооружение бесполезное и развращающее общество». Правда, и это, и другие официальные запрещения (приносить с собой скамьи, чтобы не стоять во время спектакля; устраивать места для зрителей ближе, чем в тысяче шагах от черты города) всячески нарушались, но они влияли на умы, заставляли смотреть на театр как на что-то подозрительное и предосудительное. К актерам в Риме относились с презрением, театральных авторов тоже не очень жаловали. Поэт Невий (III в. до н. э.), попытавшийся было говорить со сцены «вольным языком» — это его собственное выражение, — угодил за это в тюрьму, так и не став римским Аристофаном. Примечательно, что крупнейшие римские комедиографы были людьми низкого общественного положения. Невий — плебей, Плавт (ок. 250–184 гг. до н. э.) — из актеров, Теренций (род. ок. 185 г. до н. э.) — вольноотпущенник, бывший раб. Подражательство грекам господствовало в Риме не только в силу общей ориентации тамошней более молодой культуры на старую и утонченную, но и потому, что учить публику собственной, вольной и злободневной песней ни в республиканском, ни в императорском Риме театральный поэт просто не смел.
Отсюда и совсем другое, чем в Греции V века до н. э., отношение римского автора к себе и своему творчеству. Аристофан гордился тем, что он первый учил в комедии сограждан добру. Как оценивал себя Невий, мы не знаем, от его поэзии уцелели лишь отдельные стихи. Для самоощущения же Плавта и особенно Теренция характерно сознание их эпигонства, их вторичности. Они на большое не притязали, все их честолюбие было направлено на то, чтобы развлечь зрителей. В одном из своих прологов Теренций с трогательным простодушием объяснял публике, почему он заимствовал сюжет и вообще весь материал у Менандра: «В конце концов не скажешь ничего уже, // Что не было б другими раньше сказано». Предпосылая пролог каждой комедии, Теренций отвечал в нем своим литературным противникам, и из этих его ответов видно, как чужд был дух первородства обеим полемизирующим сторонам — и самому Теренцию, и его критикам, — трудно сказать, кому больше. Те обвиняли его в том, что он не просто переводит на латинский язык какую-либо комедию Менандра или другого новоаттического автора, а переделывает ее или даже прибегает к контаминации, то есть соединяет в одно целое два греческих образца. А Теренций говорил в свое оправдание, что не он первый так поступает что он лишь идет по стопам своих римских предшественников — Невия, Плавта.
Что касается Плавта, то он был гораздо талантливее Теренция. Жанр Плавта — тоже «комедия плаща» (это название произошло оттого, что актеры, выступая в переложениях комедий Менандра, Дифила и других греков, надевали греческие плащи — гиматии). Однако Теренций остался, как метко назвал его Юлий Цезарь, «Полу-Менандром», а Плавт сумел по-своему оживить старые формы. Действие у Плавта всегда происходит в греческих городах — в Афинах, Фивах, Эпидавре, Эпидамне и других, но плавтовский город откровенно условен, это какая-то особая комедийная страна, где номинально живут греки, но несут службу римские должностные лица — квесторы и эдилы, где в ходу римские монеты — нуммы, где есть и клиенты, и форум, и прочие атрибуты римского быта. Да и юмор у Плавта не менандровский, тонкий и сдержанный, а грубоватый, более доступный римской публике, порой балаганный, и язык у него не литературно-гладкий, «переводной», а богатый, сочный, народный. Полу-Менандром Плавта не назовешь.
И все-таки Плавт не отрывался от греческих образцов настолько, чтобы чувствовать себя оригинальным автором, а не переводчиком. В плавтовском Риме жизнь была куда суровее, чем в эллинистических Афинах. А приметы римского быта в комедиях Плавта призваны были только сделать его переводы более доходчивыми, более понятными публике, но в широкую картину современности не складывались, не уводили зрителя из мира театральных условностей, никаких злободневных обобщений в себе не несли. Человек умный и талантливый, Плавт сам говорил о своей скованности «правилами игры» с веселой насмешкой: «Так все поэты делают в комедиях: // Всегда в Афины помещают действие, // Чтоб все казалось непременно греческим». Но такое подтрунивание над традицией уживалось у Плавта, стоявшего еще у самых истоков латинской словесности, с некоторым недоверием к собственным ее возможностям. Плавт назвал Невия «варварским поэтом», а свою комедию «Ослы», где помимо примет римского быта есть блестки чисто италийского юмора, — всего-навсего «переводом на варварский язык» комедии грека Дифила.
Плавт и Теренций подражали грекам в эпоху, когда Рим, одерживая победы над Карфагеном и крупнейшими эллинистическими государствами — Македонией, Сирией, Египтом, — только становился сильнейшей державой мира. Ко времени Сенеки (конец I в. до н. э. — 65 г. н. э.).
Рим ею уже давно был, пережив и восстания рабов, и войны в непокорных провинциях, и гражданскую войну, и смену республиканского строя империей. Комедиографы Плавт и Теренций принадлежали к низам общества. Сенека носил в лучшие годы своей карьеры звание консула и был очень богат. Кроме философских трактатов и сатиры на смерть императора Клавдия, этот «первый интриган при дворе Нерона»[2], как назвал Сенеку Энгельс, сочинил несколько трагедий, оказавшихся единственными дошедшими до нас образцами римской трагедии, так что судить о ней мы можем только по ним. От произведений римских предшественников Сенеки в этом жанре — Ливия Андроника, Невия, Пакувия, Акция, поэтов III и II веков до н. э. — ничего не осталось.
Итак, перед нами произведения, написанные в другую эпоху, совсем в другом жанре и человеком совсем другого социального положения, чем плавтовские и теренциевы переделки греческих пьес. Тем не менее у первых есть одна общая со вторыми черта — формальное следование канонам соответствующего вида греческой драмы. Здесь, однако, необходима оговорка. Плавт и Теренций писали для сцены, в расчете на то, что их комедии будут играть актеры и смотреть зрители. Сенека же, как считают исследователи его творчества, не был театральным автором, его трагедии предназначались для чтения вслух в узком кругу, Эта их особенность, чем бы она ни была вызвана, сама по себе принципиально отличает Сенеку от всех его предшественников — и греков или римлян — и делает его имя, образно говоря, заметнейшей вехой, а еще точнее — памятником в истории античной драмы. Именно памятником — потому что отказ драмы от спектакля — это свидетельство ее смерти. При всей их несамостоятельности, комедии Теренция были еще органическим продолжением традиции, бытовавшей в античности со времен древнейшего дионисийского действа. А у Сенеки традиция выродилась в ученую стилизацию.
Не нужно понимать это в том смысле, что в своих мифологических, трагедиях Сенека вообще не касался современной ему римской действительности. Напротив. Мотивы всех этих трагедий — кровосмешение («Эдип»), чудовищные злодеяния тирана («Тиэст»), убийство царя женой и ее любовником («Агамемнон»), патологическая любовь («Федра») и т. п. достаточно актуальны для дворцового быта династии Юлиев-Клавдиев, для круга, к которому принадлежал Сенека. Намеки, разбросанные по тексту этих трагедий, часто весьма прозрачны. Но у Сенеки нет той высокой поэзии, в которую претворяла правду жизни трагедия греков, нет эсхиловской окрыленности гуманной идеей, нет софокловской пластичности персонажей, нет еврипидовской аналитической глубины. Обобщения Сенеки не идут дальше общих мест стоической философии — холодно-назидательных рассуждений а покорности судьбе, неубедительной в его устах проповеди безразличия к благам жизни, дальше отвлеченно-риторических выпадов против самовластия. Внешне у Сенеки все как у греческих трагиков, местом действия служат дворцы, монологи и диалоги перемежаются хоровыми партиями, герои в конце погибают, — а внутреннее отношение к мифу у него совершенно иное — миф не служит в его трагедиях почвой для искусства, он нужен Сенеке для иллюстрации ходячих стоических истин и для маскировки чреватых неприятностями намеков на современность.
Кроме девяти мифологических трагедий, под именем Сенеки до нас дошла одна — «Октавия», написанная на римском историческом мате-, риале. Автором «Октавии» Сенека, безусловно, не был. Трагедия, где в форме предсказания приводятся подлинные подробности гибели Нерона, который к тому же изображен деспотом и злодеем, сочинена, конечно, после смерти этого цезаря, пережившего Сенеку — тот по его приказу вскрыл себе вены — на целых три года. Но по композиции, по языку и стилю «Октавия» очень похожа на другие девять трагедий. Это произведение той же школы, и сам Сенека выведен здесь не просто сочувственно, а как некий идеал мудреца. У греков единственная известная нам историческая трагедия — «Персы» Эсхила, у римлян это — «Октавия», отчего именно ее мы и выбрали для нашего сборника.
Сюжетом здесь служат действительные события 62 года н. э. По приказу Нерона, вздумавшего жениться на своей любовнице Поппее Сабине, его жена Октавия была сослана на остров Пандатрию и там убита. Соответствуют действительности и частые в этой трагедии упоминания о других злодействах Нерона — о его матереубийстве, об умерщвлении брата Октавии Британика, об убийстве мужа и сына Поппеи Сабины. Речь идет не о легендарных Эдипах, Медеях и Клитемнестрах, не о туманной древности, как в греческих трагедиях, а о реальных людях, о делах, которые делались на памяти автора.
Греческие трагики «очеловечивали» миф, они смотрели на него сквозь призму более поздней культуры и вкладывали в его толкование свое мироощущение, свои представления о нравственном долге и справедливости, даже свои ответы на конкретные политические вопросы. Автор «Октавии», наоборот, мифологизирует современность, подчиняя драматическое повествование об изуверствах цезаря греческим трагедийным канонам. Поппея рассказывает приснившийся ей зловещий сон — рассказывает своей кормилице. Мать Нерона Агриппина появляется на сцене в виде призрака. О недовольстве народа Поппее сообщает вестник. Как тут не вспомнить сон Атоссы, тень Клитемнестры, кормилицу Федры, вестников и глашатаев Эсхила, Софокла и Еврипида! Сходство с греческой трагедией довершается участием в действии двух хоров римских граждан.
И опять сходство здесь только внешнее. После смерти Нерона и смены династии Юлиев-Клавдиев династией Флавиев, когда говорить о нероновских преступлениях не было уже опасно, автор «Октавии» позволяет себе коснуться этой наболевшей темы. Но как! С начетническим педантизмом и эстетской холодностью препарирует он кровавую быль, укладывает ее в прокрустово ложе литературного подражания, превращая ее тем самым в абстракцию, в миф. Никакого нравственного осмысления реальных событий, никакого душевного очищения подобный отклик на них в себе не несет. В этом и состоит коренное отличье римской трагедии от греческой. Это и есть несомненный признак смерти детища языческой мифологии — античной драмы.
Эсхил (525–456 гг. до н. э.) родился в Элевсине, неподалеку от Афин, умер в Геле, на острове Сицилия. Из нескольких десятков трагедий Эсхила целиком сохранилось семь: «Просительницы», «Персы», «Прометей Прикованный», «Семеро против Фив» и три трагедии («Агамемнон», «Жертва у гроба» и «Эвмениды»), образующие трилогию «Орестея».
Эсхил происходил из аристократического рода. Он участвовал в войне с персами, сражался при Марафоне, Саламине, Платеях и тринадцать раз получал первый приз на состязаниях поэтов-трагиков. Сведения об эмиграции Эсхила в Сицилию, как, впрочем, и все биографические сведения о нем, скудны и противоречивы.
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Тень Дария.
Хор персидских старейшин.
Площадь перед дворцом в Сузах.[3] Видна гробница Дария.[4]
Антистрофа 1
Антистрофа 2
Антистрофа 3
Антистрофа 4
Антистрофа 5
Антистрофа 6
ЭПИСОДИЙ ПЕРВЫЙ
Предводитель хора
Появляется Атосса в сопровождении прислужниц.
Входит гонец.
Антистрофа 1
Антистрофа 2
Антистрофа 3
Предводитель хора
Атосса с прислужницами и гонец уходят.
СТАСИМ ПЕРВЫЙ
Антистрофа 1
Антистрофа 2
Антистрофа 3
ЭПИСОДИЙ ВТОРОЙ
Из дворца выходит Атосса в сопровождении прислужниц, которые несут жертвенные дары.
Антистрофа 1
Антистрофа 2
Антистрофа 3
Появляется Тень Дария.
Тень Дария
Тень Дария
Антистрофа
Тень Дария
Тень Дария
Тень Дария
Тень Дария
Тень Дария
Тень Дария
Тень Дария
Тень Дария
Тень Дария
Тень Дария
Тень Дария
Тень Дария
Тень Дария
Тень Дария
Тень Дария
Предводитель хора
Тень Дария
Предводитель хора
Тень Дария
Предводитель хора
Тень Дария
Предводитель хора
Тень Дария
Геракл, убивающий кентавра Несса. Роспись вазы. Конец VII века до н. э. Афинский музей.
Тень Дария удаляется.
Предводитель хора
СТАСИМ ВТОРОЙ
Антистрофа 1
Антистрофа 2
Антистрофа 3
Появляется Ксеркс с небольшим числом воинов.
Предводитель хора
Антистрофа 1
Антистрофа 2
Антистрофа 3
Антистрофа 4
Антистрофа 5
Антистрофа 6
Антистрофа 7
……………………………
ПРОМЕТЕЙ ПРИКОВАННЫЙ
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Власть и Сила, слуги Зевса.[39]
Гефест.[40]
Океан.[41]
Ио, дочь Инаха.[42]
Гермес.[43]
Хор Океанид.
Пустынные скалы на берегу моря. Гефест, Власть и Сила вводят закованного в цепи Прометея.
(Прометею)
Власть, Сила и Гефест уходят.
Со стороны моря, в крылатой колеснице, появляется хор Океанид.
Антистрофа 1
Антистрофа 2
ЭПИСОДИЙ ПЕРВЫЙ
Предводительница хора
Предводительница хора
Предводительница хора
Предводительница хора
Предводительница хора
Предводительница хора
Предводительница хора
Предводительница хора
Предводительница хора
Хор спускается к скале. Со стороны моря, на крылатом коне, появляется Океан.
Океан улетает.
СТАСИМ ПЕРВЫЙ
Антистрофа 1
Антистрофа 2
Антистрофа 3
ЭПИСОДИЙ ВТОРОЙ
Предводительница хора
Предводительница хора
Предводительница хора
Предводительница хора
Предводительница хора
Предводительница хора
Дионис в ладье. Роспись чаши. Конец VI века до н. э. Мюнхен. Государственный музей древностей
СТАСИМ ВТОРОЙ
Антистрофа 1
Антистрофа 2
ЭПИСОДИЙ ТРЕТИЙ
Вбегает Ио, превращенная Герой в корову.
Антистрофа
Предводительница хора
Предводительница хора
Предводительница хора
Предводительница хора
Предводительница хора
(Убегает.)
СТАСИМ ТРЕТИЙ
Антистрофа
Предводительница хора
Предводительница хора
Предводительница хора
Предводительница хора
Предводительница хора
Появляется Гермес.
Предводительница хора
Гермес удаляется. Раздается гром и подземный грохот.
Удар молнии. Прометей проваливается под землю.
Софокл (496–406 гг. до н. э.) родился в Колоне, афинском предместье, в семье богатого владельца оружейной мастерской. Получил хорошее музыкальное образование и на семнадцатом году жизни участвовал в исполнении благодарственного гимна на торжествах по поводу победы при Саламине. Был близок к Периклу и занимал ряд государственных должностей.
Софоклом написано не менее восьмидесяти трагедий, из которых до нас дошло семь: «Эдип-царь», «Эдип в Колоне», «Антигона», «Трахинянки», «Аянт», «Филоктет», «Электра».
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Пастух Лая.
Домочадец Эдипа.
Хор фиванских старейшин.
Антистрофа 1
Антистрофа 2
Антистрофа 3
Входит Эдип.
ЭПИСОДИЙ ПЕРВЫЙ
Входит Тиресий.
СТАСИМ ПЕРВЫЙ
Антистрофа 1
Антистрофа 2
Входит Креонт.
ЭПИСОДИЙ ВТОРОЙ
Антистрофа 1
Антистрофа 2
СТАСИМ ВТОРОЙ
Антистрофа 1
Антистрофа 2
ЭПИСОДИЙ ТРЕТИЙ
Входит вестник.
Входит Эдип.
Лучник в восточном костюме. Роспись чаши. Конец VI века до н. э. Лондон. Британский музей
СТАСИМ ТРЕТИЙ
Антистрофа
ЭПИСОДИЙ ЧЕТВЕРТЫЙ
Входит пастух.
(Убегает во дворец.)
СТАСИМ ЧЕТВЕРТЫЙ
Антистрофа 1
Антистрофа 2
Входит домочадец.
Антистрофа 1
Антистрофа 2
Входит Креонт.
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Вестник 2-й.
Хор фиванских старейшин.
Антистрофа 1
Антистрофа 2
ЭПИСОДИЙ ПЕРВЫЙ
Входит страж.
СТАСИМ ПЕРВЫЙ
После праздника. Роспись чаши. V век до н. э. Вюрцбург. Музей Мартина фон Вагнера
Антистрофа 1
Антистрофа 2
Входит страж с Антигоной.
ЭПИСОДИЙ ВТОРОЙ
Стража уводит Антигону и Исмену.
СТАСИМ ВТОРОЙ
Антистрофа 1
Антистрофа 2
ЭПИСОДИЙ ТРЕТИЙ
СТАСИМ ТРЕТИЙ
Антистрофа 1
Входит Антигона под стражей.
ЭПИСОДИЙ ЧЕТВЕРТЫЙ
Антистрофа 1
Антистрофа 2
Антистрофа 3
Входит Креонт.
Антигону уводят.
СТАСИМ ЧЕТВЕРТЫЙ
Антистрофа 1
Антистрофа 2
Входит Тиресий с мальчиком-поводырем.
ЭПИСОДИЙ ПЯТЫЙ
СТАСИМ ПЯТЫЙ (ГИПОРХЕМА)
Антистрофа 1
Антистрофа 2
Входит Вестник.
Эвридика уходит.
Вестник 2-й
Вестник 2-й
Антистрофа 1
Антистрофа 2
Антистрофа 3
Антистрофа 4
Еврипид (480–406 гг. до н. э.) родился, по преданию, на Саламине в день знаменитого морского сражения у этого острова. Согласно античным свидетельствам, отец и мать Еврипида промышляли мелкой торговлей. Жизнь поэта прошла в Афинах, где он, как утверждают, помимо поэзии, занимался живописью и философией, не принимая, в отличие от Эсхила и Софокла, прямого участия в политической жизни. Незадолго до смерти Еврипид переехал в Македонию, куда его пригласил царь Архелай, который высоко ценил его творчество и будто бы сделал поэта своим близким советником. В Афинах поэт при жизни не был, по-видимому, так популярен, как оба его старших собрата, зато в эллинистическую эпоху слава его возросла, благодаря чему число дошедших до нас драм Еврипида (восемнадцать из девяноста двух) больше, чем эсхиловских и софокловских вместе взятых.
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Кормилица.
Сыновья Медеи и Ясона.
Хор коринфских женщин.
Действие происходит в Коринфе, перед домом Медеи.
Старый дядька ведет двух мальчиков.
(за сценой)
(за сценой)
На орхестру вступает хор коринфских женщин.
(за сценой)
(за сценой)
Антистрофа
(Кормилице.)
ЭПИСОДИЙ ПЕРВЫЙ
Выходит Медея.
Входит Креонт.
СТАСИМ ПЕРВЫЙ
Антистрофа 1
Антистрофа 2
ЭПИСОДИЙ ВТОРОЙ
Входит Ясон.
СТАСИМ ВТОРОЙ
Антистрофа 1
Антистрофа 2
Менада. Роспись чаши. V век до н. э. Мюнхен. Государственный музей древностей
ЭПИСОДИЙ ТРЕТИЙ
Приходит Эгей.
Эгей уходит.
(Одной из рабынь.)
Рабыня уходит.
СТАСИМ ТРЕТИЙ
Антистрофа 1
Антистрофа 2
ЭПИСОДИЙ ЧЕТВЕРТЫЙ
Входит Ясон.
(Вызывает из дому детей.)
(К детям.)
Дети уходят в сопровождении дядьки.
СТАСИМ ЧЕТВЕРТЫЙ
Антистрофа 1
Антистрофа 2
ЭПИСОДИЙ ПЯТЫЙ
Возвращается дядька, с ним дети.
Дядька уходит.
(Уходит в дом.)
Входит Медея.
ЭПИСОДИЙ ШЕСТОЙ
Входит вестник.
(Быстро уходит.)
СТАСИМ ПЯТЫЙ
Антистрофа 1
Один детский голос
Детские голоса
Антистрофа 2
Входит Ясон.
Появляется колесница, запряженная драконами.
В ней Медея с телами детей.
Колесница с Медеей исчезает.
(покидая орхестру вслед за Ясоном)
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Старик слуга.
Кормилица.
Хор трезенских женщин.
Афродита на гусыне. Роспись чаши. V век до н. э. Лондон. Британский музей
Действие происходит в Трезене перед дворцом.
(появляясь в вышине)
(Исчезает.)
Входит Ипполит с охотниками. Навстречу им — старик слуга.
(к статуе)
Старик слуга
(к охотникам)
(К старику.)
Ипполит и охотники уходят.
(перед статуей Афродиты)
На орхестру вступает хор трезенских женщин.
Антистрофа 1
Антистрофа 2
ЭПИСОДИЙ ПЕРВЫЙ
Из дворца на низком ложе выносят полулежащую Федру. С ней старая кормилица и служанки.
(К Федре.)
Уходит во дворец.
СТАСИМ ПЕРВЫЙ
Антистрофа 1
Антистрофа 2
ЭПИСОДИЙ ВТОРОЙ
Антистрофа 3
Антистрофа 2
Антистрофа 1
Входит Ипполит, за ним кормилица.
(кормилице)
Кормилица уходит.
СТАСИМ ВТОРОЙ
Антистрофа 1
Антистрофа 2
ЭПИСОДИЙ ТРЕТИЙ
(за сценой)
(за сценой)
Одна из хора
Другая из хора
(за сценой, с плачем)
Появляется Тесей.
Двери дворца отворяются. Видно тело Федры.
Антистрофа
(Подходит к телу и, разжав руку Федры, вынимает складень, распечатывает его и читает)
Входит Ипполит.
(еще не видя трупа)
(показывая труп)
(К статуе Артемиды.)
(Уходит со свитой.)
СТАСИМ ТРЕТИЙ
Антистрофа 1
Антистрофа 2
ЭПИСОДИЙ ЧЕТВЕРТЫЙ
Приближается вестник.
Показывается Тесей.
Вестник уходит.
СТАСИМ ЧЕТВЕРТЫЙ
Артемида появляется в вышине.
Рабы вносят ложе с Ипполитом.
Артемида исчезает.
Рабы уносят Ипполита. За ними уходит Тесей.
(покидая орхестру)
Биографические сведения об Аристофане (ок. 446–385 гг. до н. э.) в общем исчерпываются изложенным в статье.
До нас дошло одиннадцать его комедий, а написано им было, по античным свидетельствам, ровно вчетверо больше.
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Стрепсиад, старик земледелец.
Фидиппид, его сын.
Слуга Стрепсиада.
Ученики Сократа.
Сократ, мудрец.
Правда, спорщик.
Кривда, спорщик.
Пассий, заимодавец Стрепсиада.
Аминий, заимодавец Стрепсиада.
Хор Облаков.
На орхестре два дома. Один Стрепсиада, другой Сократа.
В доме Стрепсиада видны две постели. На одной из них спит Фидиппид, Стрепсиад ходит перед своим домом.
(Указывая на сына.)
(Ложится.)
(Встает, кричит слуге.)
Слуга приносит светильник и книгу. Держит светильник над господином.
(просыпается)
Фидиппид снова засыпает.
Лампа гаснет.
Слуга уходит.
Битва греков с амазонками. Роспись чаши. V век до н. э. Мюнхен. Государственный музей древностей
(Подходит к соседнему дому.)
Выходит ученик.
Дверь открывается, видны ученики.
(Ученикам, подбегающим к двери.)
Ученики уходят.
(оглядывается; рассматривает диковинные предметы в мыслильне)
(Замечает Сократа.)
(важно и торжественно)
(Обсыпает его мукой.)
(Молится.)
(Закутывается.)
Издали доносится пение Облаков.
Первое полухорие
Гремит гром.
(К Стрепсиаду.)
Антистрофа 1
Второе полухорие
Гремит гром.
На орхестру вступает хор Облаков, похожих на женщин.
Хор Облаков приближается к дому Сократа.
(к Облакам)
(К Сократу.)
(показывая на Облака)
(Сократу.)
Сократ и Стрепсиад входят в мыслильню.
(вслед Стрепсиаду)
Первое полухорие
Предводитель первого полухория
Второе полухорие
Антэпиррема
Предводитель второго полухория
ЭПИСОДИЙ ПЕРВЫЙ
Из дома выходит Сократ.
Слышен голос Стрепсиада.
Сократ уходит в мыслильню. Стрепсиад ложится.
Первое полухорие
Гермес с младенцем Дионисом. Роспись кратера. V век до н. э. Ватикан
(катается, закутавшись в плащ)
ЭПИСОДИЙ ВТОРОЙ
(выходит из мыслильни)
(про себя)
(Срывает плащ со Стрепсиада.)
(Размышляет.)
(К Сократу.)
(Уходит в свой дом)
Антистрофа 2
Второе полухорие
(к Сократу)
ЭПИСОДИЙ ТРЕТИЙ
Стрепсиад и Фидиппид выходят из дому.
(Входит в дом.)
(выходит из дому с птицами под мышкой)
(Уговаривает.)
(Стучит в дверь мыслильни.)
(поучающе)
Сократ уходит к себе. Из мыслильни, бранясь, выходят Правда и Кривда.
ЭПИСОДИЙ ЧЕТВЕРТЫЙ
(указывая на Фидиппида)
(к Фидиппиду)
АГОН ПЕРВЫЙ
Первое полухорие
(к Правде)
Второе полухорие
Антэпиррема
(К Фидиппиду.)
(К Правде.)
(Показывает на зрителей в амфитеатре.)
(Считает.)
(Убегает в дом Сократа.)
(в сторону)
Кривда и Фидиппид входят и дом Сократа, Стрепсиад — к себе.
(Вслед Стрепсиаду.)
(К зрителям.)
ЭПИСОДИЙ ПЯТЫЙ
(с мешком за плечами выходит из дому)
(появляется в дверях)
(отдает ему мешок)
(поет и пляшет)
(К Сократу.)
Фидиппид, высохший и бледный, выходит в сопровождении Сократа.
(К зрителям.)
Входят в дом.
ЭПИСОДИЙ ШЕСТОЙ
(входит со свидетелем)
(выходит, навеселе)
(к свидетелю)
(разглядывая Пасия)
(Уходит в дом.)
(к свидетелю)
(возвращается с корзиной)
(вслед уходящему Пасию)
ЭПИСОДИЙ СЕДЬМОЙ
(к зрителям)
(Бьет его, Аминий бежит.)
Стрепсиад входит в дом.
Первое полухорие
Антистрофа 3
Второе полухорие
ЭПИСОДИЙ ВОСЬМОЙ
(выбегает из дома, преследуемый Фидиппидом)
(к зрителям)
АГОН ВТОРОЙ
Первое полухорие
Второе полухорие
Антэпиррема
(к зрителям)
(Обращаясь к хору.)
(Обращаясь к статуе Гермеса на орхестре.)
(Прислушивается.)
(К слуге.)
Ксанфий выполняет приказание.
(Лезет на крышу с факелом.)
(высовывается из окна)
(на крыше)
Второй ученик
Второй ученик
(высовываясь из окна)
Второй ученик
(Спускается с крыши. Слуге.)
Дом рушится.
Хор и актеры покидают орхестру.
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Два раба Тригея.
Тригей, земледелец.
Дочь Тригея.
Гермес, бог.
Полемос (Война).
Ужас, прислужник Полемоса.
Гиерокл, толкователь прорицаний.
Торговец оружием.
Сын Ламаха.
Сын Клеонима.
Лица без слов: Ирина, богиня Мира; Жатва и Ярмарка, сопровождающие богиню Мира;
горшечник; копейщик; панцирщик и другие ремесленники, изготовляющие военное снаряжение.
Хор земледельцев.
Диор перед домом виноградаря Тригея. Двое рабов замешивают корм в хлеву.
Первый раб
Второй раб
Первый раб
Второй раб
Первый раб
Второй раб
(к зрителям)
Первый раб
Второй раб
(К зрителям.)
Первый раб
Второй раб
Первый раб
(Тащит корыто.)
Второй раб
(К зрителям.)
(Заглядывает в дверь.)
Первый раб
Второй раб
Первый раб
Второй раб
Слышится голос Тригея.
(за сценой)
Второй раб
(Вбегает в дом и тотчас же выбегает в ужасе.)
(появляясь над крышей дома верхом на навозном жуке)
Второй раб
Второй раб
Второй раб
Второй раб
Второй раб
Первый раб
Второй раб
Второй раб
Девочки — дети Тригея — выбегают из дома.
(Тригей поднимается на воздух верхом на жуке.)
(Кричит вниз.)
Жук опускается на Олимпе, перед дворцом небожителей.
ЭПИСОДИЙ ПЕРВЫЙ
(сразу переменив тон)
(Гермес уходит.)
Слышится ужасный грохот.
(Прячется.)
ЭПИСОДИЙ ВТОРОЙ
На орхестру выходит Полемос с огромной ступкой в руках.
(спрятавшись)
(над ступкой)
(Бросает в ступку чеснок.)
(к зрителям)
(Бросает в ступку луковицу.)
(Бросает в ступку сыр.)
(Льет в ступку мед.)
(в испуге)
(выбегает)
(Бьет, его).
(про себя)
(про себя)
Ужас убегает.
(к зрителям)
Вбегает Ужас.
(Убегает.)
(к зрителям)
(прибегает снова)
(Уходит вместе с Ужасом.)
(выйдя из укрытия)
(К зрителям.)
На орхестру выходит хор афинских поселян. С ним несколько спартанцев, беотийцев, аргосцев и мегарцев.
Хор шумно пляшет.
Хор продолжает плясать.
Хор продолжает плясать.
Хор продолжает плясать.
Продолжают плясать.
Продолжают плясать.
Продолжают плясать.
Первое полухорие
Первое полухорие
(Идет к пещере).
Из ворот дворца появляется Гермес.
Антистрофа 1а
Второе полухорие
Второе полухорие
Аполлон и муза. Роспись чаши. V век до н. э. Бостон. Музей изящных искусств.
(В сторону.)
(Подносит ему подарок.)
Гермес любуется подарком.
(Отходит в сторону.)
(с золотым кувшином с руках)
Гермес и Тригей совершают возлияние. Все хватаются за канат, чтобы отвалить камень от пещеры, где скрывается богиня Мира.
(подходит к тянущим)
Тянут за канат.
Антистрофа 2
Снова принимаются тянуть.
(к афинянам)
Гермес и Тригей разгоняют Города и другой пришлый народ. Остается один хор земледельцев, который снова берется за канат.
Принимаются тянуть.
Тянут. Камень отвален.
Из пещеры поднимается богиня Мира, с нею Жатва и Ярмарка.
Антистрофа 1б
Первое полухорие
(обращаясь к богине Мира)
(Как бы перешептывается с богиней Мира.)
(Богине Мира.)
(как бы пошептавшись с богиней Мира)
(К богине Мира.)
(к Жатве и Ярмарке)
Тригей вместе с Жатвой и Ярмаркой спускается вниз и покидает орхестру.
Хор остается один.
Первое полухорие
Второе полухорие
ЭПИСОДИЙ ТРЕТИЙ
Тригей со своими спутницами спускается «на землю» и появляется у ворот своего дома.
(зрителям)
Раб Тригея выбегает ему навстречу.
(Рабу, указывая на Жатву.)
(Показывает на Ярмарку.)
Раб уводит Жатву в дом.
Первое полухорие
Первое полухорие
(возвращается)
(зрителям)
(Рабу, который возится около Ярмарки.)
(зрителям)
(К Ярмарке.)
(К Ярмарке.)
Антистрофа 3
Второе полухорие
Второе полухорие
Тригей и раб спешат в дом.
Первое полухорие
(возвращаясь)
(Уходит в дом.)
Первое полухорие
(возвращаясь)
Первое полухорие
(Окропляет водой жертвенное животное.)
(Осыпает животное горстью ячменя.)
Раб уходит в дом.
Антистрофа 4
Второе полухорие
Второе полухорие
Второе полухорие
ЭПИСОДИЙ ЧЕТВЕРТЫЙ
(рабу, который возвращается с частью туши)
(Уходит в дом.)
(прибегает)
Гиерокл входит. Тригей и раб заняты жертвоприношением.
(Гиероклу.)
Сцена из комедии. Роспись кратера. IV век до н. э. Лондон. Британский музей
(торжественно)
(продолжает вещать)
(Торжественно.)
(передавая рабу мясо)
(Обращается к собравшемуся в театре народу.)
(Пытается стащить кусок. Тригей бьет его.)
(зрителям)
Тригей и раб бьют Гиерокла. Тот убегает. Они преследуют его и покидают орхестру.
МАЛАЯ ПАРАБАСА
Первое полухорие
Предводитель первого полухория
Второе полухорие
Антэпиррема
Предводитель второго полухория
ЭПИСОДИЙ ПЯТЫЙ
Тригей выходит из дверей дома, за ним — слуги.
Собирается народ.
Входят кузнец и горшечник.
Кузнец и горшечник уходят. Входит торговец оружием, за ним копейщик, панцирщики другие поставщики военного снаряжения.
Торговец оружием
Торговец оружием
(указывая на мастера, изготовляющего султаны)
Торговец оружием
Торговец оружием
(рассматривая султаны)
Торговец оружием
Торговец оружием
Торговец оружием
Торговец оружием
Торговец оружием
Торговец оружием
(вскакивает)
Торговец оружием
Торговец оружием
Торговец оружием
Торговец оружием
Торговец оружием
Торговец оружием
Торговец оружием
Торговец оружием
ЭПИСОДИЙ ШЕСТОЙ
Из дома появляются два мальчика.
Сын Ламаха
(прерывает его)
Сын Ламаха
(продолжает)
Сын Ламаха
(продолжает)
Сын Ламаха
Сын Ламаха
Сын Ламаха
Сын Ламаха
Сын Ламаха
Сын Ламаха
Мальчик уходит.
(К другому мальчику.)
Сын Клеонима
(декламирует)
Сын Клеонима
Сын Клеонима уходит.
Из дома выходит свадебное шествие во главе с нарядно одетой невестой Жатвой.
Тригей идет ей навстречу.
(обнимает Жатву)
(Зрителям.)
В праздничном шествии актеры и хор покидают орхестру.
Менандр (342–292 гг. до н. э.) родился в Афинах, в очень богатой семье. По античным свидетельствам, Менандр отказался переехать в Александрию, куда его приглашал царь Птоломей I Сотер, и прожил всю жизнь со своей верной подругой Гликерой в приморском пригороде Афин. Менандр погиб, утонув в Пирейской бухте во время купанья.
В 1905 г. в Египте при раскопках была найдена рукопись с большими фрагментами четырех комедий Менандра («Герой», «Третейский суд», «Отрезанная коса» и «Самиянка»). В 1950 г. один швейцарский коллекционер купил на рынке в Александрии папирус с текстом комедии «Брюзга».
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Хэрей, прихлебатель.
Сострат, влюбленный.
Пиррий, раб.
Кнемон, отец.
Девушка, дочь Кнемона.
Горгий, пасынок Кнемона.
Сикон, повар.
Гета, раб.
Женщина, мать Сострата.
Симиха, старуха.
Каллипид, отец Сострата.
Сцена представляет собой сельскую местность в Аттике. Видны дома Кнемона и Горгия и вход в пещеру — святилище нимф.
ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
Из святилища выходит Пан.
(к зрителям)
Со стороны деревни на сцене появляются Сострат и Хэрей.
(Уходит в святилище.)
Со стороны усадьбы Кнемона на сцену вбегает Пиррий.
(в сторону)
Со стороны усадьбы появляется Кнемон.
Пиррий прячется в стороне.
(не замечая Сострата)
(Замечает Сострата.)
(в сторону)
(в сторону)
(Кнемону.)
(Уходит в свой дом.)
Из своего укрытия выходит Пиррий.
Из дома Кнемона выходит его дочь.
Дочь Кнемона
(в сторону)
Дочь Кнемона
(в сторону)
Дочь Кнемона
(в сторону)
Дочь Кнемона
Дочь Кнемона
(дает Сострату кувшин)
(Уходит в пещеру за водой.)
Дочь Кнемона
Из дома Горгия выходит раб Дав. Первые свои слова он произносит в дверях, обращаясь к матери Горгия, которая находится внутри дома.
Из пещеры выходит Сострат.
(Дочери Кнемона)
Дав выхватывает кувшин из рук Сострата.
(В сторону.)
(Дочери Кнемона.)
Дочь Кнемона уходит с кувшином в дом отца. Дав уходит в дом Горгия.
Сострат и Пиррий уходят. Из дома Горгия выходит Дав.
Хоровая сцена.
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
Горгий и Дав.
(Хочет уйти в поле.)
Входит Сострат.
Горгий и Дав отходят в сторону.
(подходя к Сострату)
(указывая на дом Кнемона)
(в сторону)
Горгий уходит. Сострат берет мотыку.
Входит повар Сикон. Он тащит барашка.
Входит Гета.
(указывая на святилище)
Сикон и Гета уходят в святилище. Хоровая сцена.
ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ
Кнемон выходит из своего дома. К святилищу приближается толпа богомольцев.
(Симихе, находящейся внутри дома)
Мать Сострата
(в сторону)
Мать Сострата
Из святилища выходит Гета.
Мать Сострата
Мать Сострата
(Одному из рабов.)
Участники обряда уходят в святилище.
(Уходит в дом.)
Из святилища выходит Гета.
(Стучит в дверь Кнемона.)
Выходит Кнемон.
(Уходит в святилище.)
(Уходит в дом.)
Из святилища выходит Сикон и Гета.
Выходит Кнемон.
(не глядя на Сикона)
(Уходит в дом.)
Сикон и Гета уходят в святилище. Со стороны поля входит Сострат.
Из святилища выходит Гета.
(Сикону, который остался внутри)
(оглядываясь)
Гета не узнает скрючившегося, одетого в овчину Сострата.
(Размышляя вслух.)
(Уходит в поле.)
Из дома Кнемона выбегает старуха Симиха.
(Прислушивается.)
Выходит Кнемон.
Симиха уходит.
(Уходит в дом.)
Со стороны поля входят Сострат, Горгий и Дав.
(Указывая на овчину и мотыку.)
Сострат и Горгий уходят в святилище, Дав — в дом Горгия. Хоровая сцена.
ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ
Из дома Кнемона выбегает Симиха.
Из святилища выбегает Сикон.
Из святилища выходит Горгий.
Из святилища выходит Сострат.
Сострат, Горгий и Симиха уходят в дом Кнемона.
Из дома доносится голос дочери Кнемона.
Дочь Кнемона
(В сторону.)
(Уходит в святилище.)
Из дома Кнемона выходит Сострат.
(Прислушивается.)
Из дома выходят Кнемон, Горгий и дочь Кнемона.
(заметив Сострата)
(указывая, на Сострата)
(Сострату.)
Сострат подходит.
(Уходит в дом, опираясь на руку дочери.)
Входит Каллипид.
(Уходит в святилище.)
Сострат уходит в святилище, Горгий — в свой дом. Хоровая сцена.
ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ
Из святилища выходят Сострат и Каллипид.
Из своего дома выходит Горгий.
(Уходит в дом Кнемона.)
Трагический актер с маской. Роспись кратера. IV век до н. э. Вюрцбург. Музей Мартина фон Вагнера.
Каллипид уходит в святилище.
Из дома Кнемона выходит Горгий с матерью и сестрой.
Сострат и Горгий уходят в святилище. Из дома Кнемона выходит Симиха.
(в дверях, Кнемону, который остался дома)
Из святилища выходит Гета.
(Одному из музыкантов, играющему на свирели.)
Симиха уходит в святилище.
Из святилища выходит Сикон.
Входят в дом и вскоре выносят спящего Кнемона: впереди Сикон, Гета позади. Правей.
Сикон отходит в сторону. Гета стучит в дверь дома Кнемона.
(просыпается)
(оборачивается и притворяется удивленным)
(Отходит в сторону.)
К двери подходит Сикон.
(Стучит в дверь.)
Сикон отходит в сторону. К дому снова подходит Гета.
Сикон снова подходит к дому.
Сикон и Гета пытаются поставить Кнемона на ноги.
Рабы приносят венки и факелы.
Все уходят в святилище. Кнемона уносят.
ТИТ МАКЦИЙ ПЛАВТ
Биографические сведения о Плавте (ок. 250–184 гг. до н. э.) очень скудны. В «Хронике» христианского писателя Иеронима Плавт упомянут так: «Плавт, родом из Сарсины в Умбрии, умер в Риме. Из-за трудностей с продовольствием он нанялся к мельнику на ручную мельницу и там и свободные от работы часы обычно писал комедии и продавал их». О том, что Плавт ради куска хлеба вертел жернова на мельнице, сообщает и римский писатель II в. н. э. Авл Геллий.
Сохранилось двадцать комедий Плавта. Помещенная в этом сборнике комедия «Два Менехма», как и большинство пьес Плавта, — типичнейшая комедия интриги. Ситуация «Двух Менехмов» использована Шекспиром в «Комедии ошибок». Лучшая плавтовская комедия характеров «Горшок» послужила образцом для «Скупого» Мольера. Некоторые ситуации «Горшка» переработаны А. Н. Островским в комедии «Не было ни гроша, да вдруг алтын». Островский вообще любил Плавта и перевел на русский язык его комедию-фарс «Ослы».
ДВА МЕНЕХМА
(«Содержание» в форме акростиха не принадлежит Плавту. Это позднейшее добавление к списку комедии. Оно переведено С. Ошеровым.)
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Столовая Щетка, парасит.
Менехм I и Менехм II (Сосикл) — братья-близнецы.
Эротия, гетера.
Килиндр, повар.
Мессенион, раб Менехма II.
Служанка гетеры.
Матрона, жена Менехма I.
Старик, отец матроны.
Действие происходит в Эпидамне.
(Показывая на декорацию.)
ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
СЦЕНА ПЕРВАЯ
Столовая Щетка.
Столовая Щетка
СЦЕНА ВТОРАЯ
Менехм I, Столовая Щетка.
Столовая Щетка
(в публику)
(в публику)
Столовая Щетка
(к Менехму)
Столовая Щетка
Столовая Щетка
Столовая Щетка
Столовая Щетка
Столовая Щетка
Столовая Щетка
Столовая Щетка
Столовая Щетка
Столовая Щетка
Столовая Щетка
Столовая Щетка
Столовая Щетка
Столовая Щетка
Столовая Щетка
Столовая Щетка
Столовая Щетка
Столовая Щетка
Столовая Щетка
Столовая Щетка
Столовая Щетка
Столовая Щетка
Столовая Щетка
Столовая Щетка
Столовая Щетка
Столовая Щетка
(Направляется к дому гетеры Эротии.)
Столовая Щетка
Столовая Щетка
СЦЕНА ТРЕТЬЯ
Эротия, Столовая Щетка, Менехм I.
(выходит из своего дома)
Столовая Щетка
Столовая Щетка
Столовая Щетка
Столовая Щетка
Столовая Щетка
(в публику)
Столовая Щетка
Столовая Щетка
Столовая Щетка
(в публику)
(указывая на плащ)
Столовая Щетка
(в публику)
Столовая Щетка
(к параситу)
Столовая Щетка
Менехм и Щетка уходят.
СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ
Эротия, Килиндр.
Входит Килиндр.
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
СЦЕНА ПЕРВАЯ
Менехм II, Мессенион.
СЦЕНА ВТОРАЯ
Килиндр, Менехм II, Мессенион. Килиндр.
(на ухо Менехму)
(в публику)
(в публику)
(К Менехму.)
(Уходит в дом Эротии.)
Философ. Фреска. Вилла в Боскореале. I век до н. э. Неаполь. Национальный музей
(Носильщикам)
СЦЕНА ТРЕТЬЯ
Эротия, Менехм II, Мессенион.
(служанке, стоящей в дверях ее дома)
(Мессениону)
(Мессениону, тихо)
Эротия уходит.
(Носильщикам.)
ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ
СЦЕНА ПЕРВАЯ
Столовая Щетка.
Столовая Щетка
СЦЕНА ВТОРАЯ
Менехм II, Столовая Щетка.
Столовая Щетка
Столовая Щетка
Столовая Щетка
Столовая Щетка
Столовая Щетка
Столовая Щетка
Столовая Щетка
Столовая Щетка
Столовая Щетка
Столовая Щетка
Столовая Щетка
Столовая Щетка
СЦЕНА ТРЕТЬЯ
Служанка, Менехм II.
ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ
СЦЕНА ПЕРВАЯ
Матрона, Столовая Щетка.
Столовая Щетка
Столовая Щетка
СЦЕНА ВТОРАЯ
Менехм I, Столовая Щетка, Матрона.
Столовая Щетка
Столовая Щетка
Столовая Щетка
Столовая Щетка
Столовая Щетка
Столовая Щетка
Столовая Щетка
Столовая Щетка
(К матроне.)
Столовая Щетка
Не замолчу я.
(Матроне.)
Столовая Щетка
Столовая Щетка
Столовая Щетка
Столовая Щетка
Столовая Щетка
Столовая Щетка
Столовая Щетка
Столовая Щетка
Столовая Щетка
Столовая Щетка
Столовая Щетка
(показывая на Менехма)
Столовая Щетка
Столовая Щетка
Столовая Щетка
Столовая Щетка
Столовая Щетка
(смотря вслед жене)
СЦЕНА ТРЕТЬЯ
ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ
СЦЕНА ПЕРВАЯ
Менехм II, Матрона.
(не замечая Матроны)
СЦЕНА ВТОРАЯ
(в публику)
(в публику)
(в публику)
(приподнимаясь)
(К зрителям.)
СЦЕНА ТРЕТЬЯ
Старик, лекарь.
СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ
Менехм I, старик, лекарь.
Вот, безумствовать уж начал!
Оба уходят.
(Показывая на дом Эротии.)
СЦЕНА ПЯТАЯ
СЦЕНА ШЕСТАЯ
Старик, Менехм I, рабы, Мессенион.
(Бьет рабов.)
(продолжая держать Менехма)
Рабы убегают.
(Изображая других, поздравляющих его, рабов.)
(в публику)
(Уходит к Эротии.)
СЦЕНА СЕДЬМАЯ
Менехм II, Мессенион.
СЦЕНА ВОСЬМАЯ
Менехм I, Мессенион, Менехм II.
(выходя из дома Эротии)
(Мессениону)
(после долгого сравнения, обоих)
Оба Менехма
(в публику)
ПУБЛИЙ ТЕРЕНЦИЙ АФР
Прозвище «Афр» указывает на африканское происхождение Теренция (род. ок. 185 г. до н. э.). Поэт был рабом у сенатора Теренция Лукана и вместе с вольной получил по обычаю родовое имя своего хозяина. На двадцать пятом году жизни Теренций покинул Рим и умер где-то в Греции.
До нас дошли все шесть комедий, которые Теренций успел написать за свою короткую жизнь. Известны и даты их постановок. Поэт дебютировал в 166 г. до н. э. комедией «Девушка с Андроса». Последняя комедия, «Свекровь» (ее перевел на русский язык — не полностью и прозой — А. Н. Островский), была поставлена в 160 г. до н. э.
По поводу включенной в наш сборник комедии «Девушка с Андроса» составленная Светонием (II в. н. э.) биография Теренция рассказывает, что прежде, чем купить у Теренция эту пьесу, устроители игр — эдилы направили его за отзывом к известному поэту Цецилию Стацию. Теренций застал Стация за обедом и был из-за своей плохой одежды принят довольно нелюбезно. Лишь услыхав начало комедии, Стаций пригласил Теренция занять место за столом и разделить с ним обед.
ДЕВУШКА С АНДРОСА
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Симон, старик.
Памфил, его сын,
Хремет, старик.
Харин, молодой человек.
Гликерия, возлюбленная Памфила.
Сосия, вольноотпущенник Симона.
Дав, Дромон — рабы Симона.
Биррия, раб Харина.
Мисида, рабыня Гликерии.
Лесбия, повивальная бабка.
Критон, старик с Андроса.[274]
Действие происходит в Афинах, на улице, между домами Симона и Гликерии.
ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
СЦЕНА ПЕРВАЯ
Симон, Сосия.
(рабам, несущим провизию)
СЦЕНА ВТОРАЯ
Симон, Дав.
Актер в роли царя. Деталь фрески из Геркуланума. I век до н. э. Неаполь. Национальный музей
СЦЕНА ТРЕТЬЯ
СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ
СЦЕНА ПЯТАЯ
Памфил, Мисида.
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
СЦЕНА ПЕРВАЯ
Харин, Биррия, Памфил.
СЦЕНА ВТОРАЯ
Дав, Харин, Памфил.
СЦЕНА ТРЕТЬЯ
Дав, Памфил.
(Указывает на дом Хремета.)
СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ
Симон, Дав, Памфил.
(к Памфилу)
СЦЕНА ПЯТАЯ
Биррия, Симон, Дав, Памфил.
СЦЕНА ШЕСТАЯ
Дав, Симон.
(про себя)
ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ
СЦЕНА ПЕРВАЯ
Мисида, Лесбия, Симон, Дав, Гликерия (за сценой).
(про себя)
(за сценой)
СЦЕНА ВТОРАЯ
Лесбия, Симон, Дав.
(про себя)
(про себя)
Дав уходит.
СЦЕНА ТРЕТЬЯ
Симон, Хремет.
СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ
Дав, Симон, Хремет.
(про себя)
СЦЕНА ПЯТАЯ
Памфил, Дав.
Сцена из комедии. Мозаика из Помпеи. II век до н. э. Неаполь. Национальный музей
ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ
СЦЕНА ПЕРВАЯ
Харин, Памфил, Дав.
СЦЕНА ВТОРАЯ
Мисида, Памфил, Харин, Дав.
(говорит в дом, Гликерии)
(Про себя.)
СЦЕНА ТРЕТЬЯ
Мисида, Дав.
СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ
Хремет, Мисида, Дав.
(ища Дава)
(про себя)
(про себя)
Хремет уходит.
СЦЕНА ПЯТАЯ
Критон, Мисида, Дав.
ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ
СЦЕНА ПЕРВАЯ
Хремет, Симон.
СЦЕНА ВТОРАЯ
Дав, Хремет, Симон, Дромон.
(говорит, обернувшись к дому)
(про себя)
(с иронией)
(насмешливо)
СЦЕНА ТРЕТЬЯ
Памфил, Симон, Хремет.
СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ
Критон, Хремет, Симон, Памфил.
(говорит к дому)
СЦЕНА ПЯТАЯ
Харин, Памфил.
СЦЕНА ШЕСТАЯ
Дав, Памфил, Харин.
ЛУЦИЙ АННЕЙ СЕНЕКА
Местом рождения Сенеки (конец I в. до н. э. — 65 г. н. э.) был город Кордуба в Испании (нынешняя Кордова). Сын известного ритора, Сенека получил в Риме риторическое и философское образование. Участие в политических интригах подвергало его жизнь постоянной опасности. При Калигуле он чуть не оказался жертвой террора, при Клавдии, избежав смертного приговора, был сослан на остров Корсику, откуда вернулся лишь через восемь лет, чтобы стать воспитателем Нерона, который в первые годы своего правления возвысил и озолотил Сенеку, а затем подверг опале и в конце концов обрек на самоубийство.
Кроме трагедий, общая характеристика которых дана во вступительной статье, и сатиры на смерть императора Клавдия, Опека оставил большое количество морально-философских сочинений (три послания, озаглавленных «Утешения», трактаты «О гневе», «О краткости жизни», «О стойкости мудреца» и др., двадцать книг «Писем к Луцилию»), а также труд по естествознанию — «Вопросы природы».
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Кормилица Октавии.
Агриппина.
Кормилица Поппеи.
2 хора римских граждан.
Действие происходит в Риме, в 62 г. н. э.
СЦЕНА ПЕРВАЯ
На орхестру входит хор римских граждан.
СЦЕНА ВТОРАЯ
СЦЕНА ТРЕТЬЯ
Входит Нерон в сопровождении префекта.
Сенека удаляется и другую сторону).
СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ
На пустой сцене появляется призрак Агриппины.
Призрак Агриппины
(Исчезает.)
СЦЕНА ПЯТАЯ
СЦЕНА ШЕСТАЯ
Входит Поппея, за ней ее кормилица.
Кормилица Поппеи
СЦЕНА СЕДЬМАЯ
На орхестру вступает второй хор — сторонники Поппеи.
Второй хор
Вбегает вестник.
СЦЕНА ВОСЬМАЯ
Входит префект.
Расходятся.
СЦЕНА ДЕВЯТАЯ
На орхестру вступает первый хор.
Стражники вводят Октавию.
Примечания
Греческие и латинские подлинники трагедий и комедий были изданы, как и другие тексты античных писателей, сохранившиеся благодаря рукописной традиции, в первые же десятилетия книгопечатания в Европе, то есть уже во второй половине XV века. Теренций, например, был впервые издан в 1470 году, Плавт — в 1472 году. С тех пор и до наших дней эти тексты множество раз переиздавались в разных странах мира — в XIX и XX веках обычно с небольшими изменениями, учитывавшими новейшие толкования так называемых темных мест филологами-классиками, и часто с приложением разночтений.
Уже в древнерусской переводной литературе отразилось знакомство с античной драмой. В хрониках Амартола и Малалы и в сборнике «Пчела» (XI–XII вв.) встречаются изречения из трагедий Эсхила, Софокла и Еврипида. Среди переводов Максима Грека, сделанных в начале XVI века, есть фрагмент из Менандра.
В XVIII веке в России появились переводы из Теренция. В 1757 году В. К. Тредьяковский издал свой перевод «Евнуха» под заголовком: «Евнух. Комедия в пять действий, с латынския Теренциевы от мерских самых срамословий очищенная стихами Василия Тредьяковского». В 1773–1774 годах в Санкт-Петербурге были изданы в трех томах «Комедии Публия Терентия Африканского, переведенные с латинского на российский язык с приобщением подлинника». В этом издании комедия «Девушка с Андроса», включенная и в наш сборник, дана в переводе Александра Хвостова и озаглавлена «Андриянка».
В первой половине XIX века русские переводы из античной драматической поэзии появлялись редко. Из произведений, представленных в нашем томе, в это время вышли на русском языке, в частности, «Облака» Аристофана (в 1821 г., в переводе И. Муравьева-Апостола), «Антигона» Софокла (в 1846 г., в переводе Ап. Григорьева; еще раньше, в 1801 г., отрывки из «Антигоны» были переведены П. Львовым, а в 1825 г. — Д. Мерзляковым), отрывки на «Прометея Прикованного» Эсхила (1850 г., перевод Каролины Павловой).
В основном античная драматургия была переведена на русский язык во второй половине XIX и в начале XX века. Многие произведения появлялись в разных переводах на протяжении небольшого отрезка времени и даже почти одновременно. Так, в 1890 году «Прометей Прикованный» Эсхила вышел в суворинской «Дешевой библиотеке» в переводе В. Алексеева, а в первом номере «Вестника Европы» за 1891 год — в переводе Д. Мережковского. С небольшим разрывом во времени выходили также переводы из Еврипида Д. Мережковского и И. Анненского. Именно в этот период и увидели свет первые русские переводы большинства пьес, включенных в наш сборник.
Подробный перечень произведений античной драматургии на русском языке можно найти в двух справочниках:
1. П. Прозоров, «Систематический указатель книг и статей по греческой филологии, изданных в России с XVII столетия по 1892 год, с прибавлением за 1893, 1894 и 1895 годы», изд. Императорской Академии наук, СПб. 1898.
2. А. Воронков, «Древняя Греция и древний Рим. Библиографический указатель изданий, вышедших в СССР (1895–1959 годы)», Изд-во АН СССР, М. 1961.
Дореволюционные переводы античной драматургии представлены в томе работами поэта Иннокентия Анненского (1856–1909) и режиссера Сергея Радлова (1892–1958). Остальные переводы сделаны в советское время.
Кроме новых, выполненных в 1967–1968 годах, переводов из Эсхила и Сенеки, в этом томе собраны переводы уже ранее публиковавшиеся. Тексты последних даны по следующим изданиям:
1. Софокл, Трагедии, Гослитиздат, М. 1954.
2. Еврипид, Трагедии. В двух томах, «Художественная литература», М. 1969.
3. Аристофан, Комедии. В двух томах, Гослитиздат, М, 1954.
4. Менандр, Комедии. Герод. Мимиамбы, «Художественная литература», М. 1964.
5. Плавт, Избранные комедии, «Художественная литература», М. 1967.
6. Теренций, Комедии, Academia, 1934.
Примечания
К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 1, стр. 389.
К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 15, стр. 607.
Сузы — столица Сузианы, зимняя резиденция персидских царей.
Дарий — Дарий I, сын Гистаспа, персидский царь, подавивший в 494 г. восстание ионийских греков и потерпевший в войне с европейскими греками поражение при Марафоне в 490 г.
Ксеркс — сын Дария, вступил на престол после смерти отца, в 485 г. до н. э.
Экбатаны — главный город Мидии, летняя резиденция персидских царей.
Башен древних киссийских… — Киссия — область, где находились Сузы
Амистр, Артафрен, Мегабат и Астасп — Здесь и ниже подлинные, упоминаемые и в других источниках имена персидских полководцев перемежаются выдуманными Эсхилом.
И от Сард золотых… — Сарды — столица Лидии.
Тмол — гора, на северном склоне которой находились Сарды.
Пролив Геллы (Геллеспонт) — Дарданеллы.
Афамантида — дочь Афаманта. Согласно мифу, Гелла, дочь царя Афаманта и богини облаков Нефелы, убегая от мачехи на золоторунном баране, утонула в проливе, который поэтому и назван ее именем.
Отпрыск Данаи — В Греции существовало предание о том, что предком персов был Персей — сын Данаи, одной из возлюбленных Зевса, на которую он сошел в виде золотого дождя.
Бактрия — одна из северных персидских провинций.
Остров Аянта — Саламин, где существовал культ этого героя Троянской войны.
…кормящей голубей земли. — Имеется в виду остров Саламин.
Хрисийским войском… — Хриса — город в Троаде (Малая Азия).
Араб-магиец — Магийцы — азиатское племя.
Мизия — северо-западная провинция Малой Азии.
Вождь киликийцев… — Киликия — страна на юго-восточном берегу Малой Азии.
Афинян город, значит, и поныне цел? — Вопрос Атоссы и ответ Гонца намекают на то, что персы сожгли Афины незадолго до саламинского морского боя.
Какой-то грек из воинства афинского… — Геродот говорит, что этого грека послал к персам Фемистокл (см. вступительную статью). Описание саламинского сражения у Эсхила совпадает с рассказом Геродота лишь в общих чертах.
Есть возле Соломина остров маленький… — Имеется в виду остров Пситталея. Геродот: «Афинянин Аристид… взял с собой много тяжеловооруженных воинов из числа расставленных вдоль саламинского берега… и высадился с ними на остров Пситталею. Они перебили всех персон, находившихся на этом острове».
Беотия — область в Средней Греции.
Дорида — небольшая область в Средней Греции.
Фессалия — восточная часть Северной Греции.
Больба — озеро в Македонии.
Эдонида — местность в Македонии.
…у берегов Кихрейских! — Кихрей — мифический царь острова Саламина.
Аидоней — поэтическая форма имени бога преисподней Аида.
Баал, или «бален» — фригийское слово, означающее «царь».
Мид первым нашим был военачальником… — Следующая далее история персидских царей совпадает с рассказом Геродота лишь отчасти.
Фригия — область в Малой Азии.
Галис — река в Малой Азии, впадающая в Черное море, ныне Кзыл-Ирмак.
Пропонтийский пролив — Мраморное море.
Книд — собственно, не «остров открытого моря», а мыс и город в Карий (Малая Азия).
…мариандинский слезный напев… — то есть напев, бытовавший у мариандинов (племя на северо-западе Малой Азии).
С тирийских кораблей… — Тир — приморский город в Финикии (береговая страна между Сирией и Палестиной).
Власть, Сила- В поэме Гесиода «О происхождении богов» (VIII в. до н. э.) об этих демонах сказано, что они рождены дочерью Океана богиней Стикс.
Гефест — бог огня и кузнечного искусства.
Океан — брат Фемиды, матери Прометея.
Ио — дочь речного бога Инаха; согласно мифу, в нее влюбился Зевс, и за это жена Зевса Гера обратила Ио в корову и приставила к ней сторожем стоглавого Аргуса (Аргоса). Когда Гермес, по приказанию Зевса, убил Аргуса, Ио стал преследовать посланный Герои овод (или слепень).
Гермес — В роли гонца и слуги Зевса этот бог всякого плутовства выступал уже у Гомера.
Фемиды мудрой сын… — Богиня справедливости и правосудия Фемида отождествлена у Эсхила с матерью титанов Геей (Землей).
Нет, имя прозорливца незаслуженно дано тебе… — «Прометей» по-гречески значит «предусмотрительный», «осмотрительный», «прозорливый».
Нартек — растении из семейства зонтичных. Сердцевина его медленно тлеет и потому долго храпит огонь.
Тефия — дочь Урана (Неба) и Геи, жена Океана, мать Океанид и речных божеств.
…Океану, что воду струит, извиваясь… — По представлению древнейших греков, океан, как река, опоясывал плоский круг земли.
…в железородную явиться землю? — Скифия славилась месторождениями железа, меди и золота.
…судьба Атланта-брата… — По древнему мифу, титан Атлант поддерживал на своих плечах свод неба. Местопребыванием Атланта считался нынешний Гибралтарский пролив, то ость крайний запад известного грекам мира.
Тифон неистовый — мифологическое олицетворение вулканических сил.
Исчезнут нивы тучные Сицилии — Эсхил был современником извержения Этны в 478 г. до н. э.
Дочери Колхиды — амазонки, сказочные девушки-воительницы.
…возле вод Меотийских — Меотида — нынешнее Азовское море.
Плачут Арии герои… — Ария — одна из восточных областей древней Персии.
Мойры — богини судьбы.
Эринии — богини мести.
Гесиона — одна из дочерей: Океана, жена Прометея.
Они же сестры твоего отца. — Отец Ио, речной бог Инах, считался сыном Океана.
Тогда к Додону и Пифо гонцов своих стал посылать отец мой… — В Додоне (северо-западная Греция, Эпир) жрецы предсказывали будущее но шелесту священных дубов. Пифо — древнее название местности у Парнаса в Фокиде, где находился город Дельфы со знаменитым храмом Аполлона. Жрица этого храма Пифия предсказывала будущее и давала советы.
Локсий — Аполлон.
Керхния — источник в Арголиде.
Лерна — город в Арголиде.
Халибы — племя в Малой Азии, славившееся, своими изделиями из стали.
К реке Дикарке выйдя… — Географические описания областей, лежащих за пределами собственно Греции, у Эсхила путаны и порой фантастичны.
Близ Термодонта, в Темискире… — Темискира — область в восточной части черноморского побережья, где якобы находилось царство амазонок. Термодонт — река в Темискире.
Салмидесс — город на черноморском побережье Фракии.
Боспор — в переводе значит «коровья переправа», «коровий брод». Здесь речь идет о Боспоре Киммерийском — Керченском проливе. Нынешний Босфор назывался Боспором Фракийским.
Он из твоих потомков, избавитель мой. — Намек на Геракла, который был, по-видимому, героем не дошедшей до нас трагедии Эсхила «Прометей Освобожденный».
Кистена — где именно находился этот «край горгон» — неясно.
Форкиды — Горгоны считались дочерьми морского бога Форкия.
Аримаспы — сказочное племя одноглазых людей.
Эфиоп-река — верхнее течение Нила.
Тебя он в треугольную и выведет ту землю… — То есть к дельте Нила.
Молосская равнина — местность в Эпире.
…Феспрота Зевса дом… — иными словами: храм Зевса в Эпире. Феспроты — южноэпирское племя.
Эпаф — Это имя происходит от греческого глагола со значением «прикасаться».
…и пятьдесят сестер вернутся в Аргос… — Миф о пятидесяти дочерях Даная обработан Эсхилом в трагедии «Просительницы».
Земля пеласгов — Аргос.
Арес — бог войны.
Не два ль царя с твердыни той упали… — Имеются в виду Уран и Крон. Уран был свергнут Кроном, а Крон — Зевсом.
О деда Кадма юные потомки! — Основателем Фив считался мифический герой Кадм.
И у пророческой золы Исмена. — Исмен — протекающая через Фивы река, на берегу которой находилось святилище, где жрецы предсказывали будущее но пеплу сожженных жертв.
Явившись в Фивы, ты избавил нас… — Придя в Фивы, Эдип, согласно мифу, разгадал загадку Сфинкса, крылатого чудовища, которое убивало всех, кто не мог ее отгадать. Тогда чудовище бросилось со скалы и погибло, а Эдипа фиванцы посадили на царский престол и женили на своей овдовевшей царице.
Пифон, или Пифо — древнее название местности у Парнаса в Фокиде, где находился город Дельфы со знаменитым храмом Аполлона. Жрица этого храма Пифия предсказывала будущее и давала советы.
Исцелитель Делиец — бог Аполлон, родиной которого считался остров Делос.
Смерти пламенного бога… — то есть Ареса, бога не только войны, но и всякой гибели, в данном случае — чумы.
Амфитрита — жена бога морей Посейдона.
Царь Ликейский — Аполлон.
…мчась в горах Ликийских! — Ликия — область в Малой Азии.
Киферон — гора на границе Аттики и Беотии.
Керы — богини рокового конца.
…средоточия земного… — Мраморный конус, стоявший в дельфийском храме, называли «пупом земли».
…ни в Олимпию… — В Олимпии (Пелопоннес) находился храм Зевса.
…ни в древний храм Абайский… — то есть в храм Аполлона в городе Абах (Фокида).
Царь Киллены — Гермес, родиной которого считалась гора Киллена в Аркадии.
Геликон — горный хребет в Беотии.
Истр, Фасис — так назывались у греков реки Дунай и Риони.
…Подземных умоляю… — то есть богов подземного царства, преисподней.
…над потоком Диркейским. — Дирке — река в Фивах… словно орел… — Орел считался заклятым врагом дракона, а фиванцы возводили свой род к поколению людей, выросшему из посеянных Кадмом драконьих зубов. Поэтому сравнение с орлом символично.
Арей — он же Арес — бог войны.
Лабдаков дом. — Лабдак — отец Лая, дед Эдипа.
…о судьбе фригийской гостьи… — Речь идет о мифической фиванской царице Ниобе, дочери фригийского царя Тантала, превращенной в камень. Этот миф изложен в «Илиаде» (песнь 24, стихи 602 и след.).
В брак вступил ты несчастливый… — Женой Полиника была дочь аргосского царя Адраста, который и руководил походом на Фивы.
Так пострадала Даная прекрасная… — Даная была заключена в темницу своим отцом, которому предсказали, что его убьет ее сын. Даная — одна из возлюбленных Зевса, на которую он сошел в виде золотого дождя.
…Дриантов заносчивый сын, повелитель эдонян… — Речь идет о фракийском царе Ликурге, который, по преданию, отказывался чтить бога Диониса.
…Финея жена… — Филей — царь одной из областей Фракии. Его вторая жена, Идея, потребовала ослепления двух его сыновей от первого брака.
…Эрехфеева рода… — Первая жена Финея, Клеопатра, была внучкой аттического героя Эрехфея (Эрехтея).
…дочь Борея, что резвых быстрее копей… — Отец Клеопатры Борой считался богом северных ветров.
…электром сардским… — В столице Лидии, Сардах, торговали электром — сплавом золота и серебра.
…кони Солнца… — Бог Солнца, Гелиос, по мифу, каждое утро выезжал с востока на колеснице, запряженной четверкой огнедышащих коней.
Многоименный, слава девы кадмейской… — Вакх (Дионис) считался сыном дочери Кадма Семелы.
Корикийские нимфы. — Парнасские нимфы; на южном склоне Парнаса находилась пещера, которая называлась Корикийской.
Кастальский ключ — источник на Парнасе, посвященный музам и Аполлону.
Ты приходишь со склонов Нисы… — Местонахождение горы Нисы, которую связывают с Вакхом и другие греческие авторы, неясно.
…как сраженная молнией мать! — Семела, по подстрекательству Геры, попросила Зевса предстать перед ней во всем своем величии и, сраженная молнией, преждевременно родила Вакха и умерла.
Фиады — вакханки.
Иакх — одно из имен «многоименного» Вакха.
Амфион — беотийский герой, муж Ниобы (мифическая фиванская царица, дочь фригийского царя Тантала, превращенная в камень. Этот миф изложен в «Илиаде» (песнь 24, стихи 602 и след.).). В Фивах существовало святилище Амфиона.
Плутону помолясь и придорожной богине… — Плутон — бог подземного царства. Изваяния Гекаты, богини Луны и Ночи, обычно ставили на перекрестках дорог.
Мегарей — старший брат Гомона, погибший в бою с наступавшими на Фивы аргосцами.
О, для чего крылатую ладью… — Речь идет о корабле Арго, на котором Ясон со своими спутниками (аргонавтами) отправился в Колхиду за золотым руном. Ясона послал туда, чтобы избавиться от него, его дядя Пелий, царь фессалийского города Иолка. В Колхиде Ясона полюбила дочь тамошнего царя Эета Медея, которая помогла аргонавтам добыть золотое руно и, убив своего младшего брата Апсирта, задержала преследовавшего аргонавтов Эета погребением сына. Прибыв в Иолк, Медея пообещала дочерям Пелия (Пелиадам) омолодить их отца, разрубив его на куски и сварив в котле, и проделала эту операцию над бараном, но Пелия она не омолодила, а убила. Затем сын Пелия, Акаст, изгнал из Иолка Ясона и Медею, и те направились к царю Креонту в Коринф, где и происходит действие этой трагедии.
Лазурные утесы. — У входа в Понт (Черное море), согласно мифу, находились утесы, которые то сходились, то расходились, за что и были названы Симплегадами («сходящимися»). Когда между Симплегадами пролетел пущенный Ясоном голубь, Симплегады остановились и пропустили корабль Арго.
…иль зачем та падала на Пелий… — Намек на корабль аргонавтов; гора Пелий (Пелион) в Фессалии славилась корабельным лесом.
…проходя у Камешков сегодня… — то есть мимо того места, где обычно играют в камешки (шашки).
Пирена — название источника.
Сизифово потомство — коринфяне. Мифический герой Сизиф, широко известный благодаря выражению «сизифов труд», считался одним из древнейших коринфских царей. В словах Медеи есть пренебрежительный оттенок, так как Сизиф славился своим корыстолюбием и плутовством.
…позволишь надругаться над Гелиевой кровью? — Так Медея называет самое себя, считая своего отца сыном Гелия (Солнца).
Мусагет — «предводитель Муз», эпитет Аполлона.
…когда ты был послан укротить быков… — Эет обещал отдать Ясону золотое руно, если тот укротит двух огнедышащих быков и, вспахав ими поле, засеет его зубами дракона. Благодаря полученному от Медеи волшебному средству, Ясон выполнил это условие.
Орфей — мифический певец, чье пение укрощало диких зверей и сдвигало с места деревья и камни.
Но у меня враги: в Фессалии. — Имеется в виду сын Пелия Акаст.
Эрехтиды — афиняне, чьим первым царем считался Эрехтей (Эрехфей).
…девять чистых Пиэрид… — девять муз; «Пиэриды» — производное от «Пиэрия»: так называлась посвященная музам местность около горы Олимпа.
Кефис — Это название носило несколько рек в Древней Греции. Здесь, судя по контексту, имеется в виду река в Аттике.
…чтоб, обогнув мету, вернуться к месту… — Мета — столб, достигнув которого состязавшиеся атлеты бежали в обратном направлении.
Ино — сестра Семелы, родившей Диониса от Зевса. За то, что Ино воспитала Диониса, жена Зевса Гера поразила ее мужа Афаманта безумием, и тот убил своего старшего сына от Ино — Леарха. Спасая своего второго сына Меликерта от обезумевшего мужа, Ино бросилась в море и стала морским божеством Левкофеей.
Скилла (Сцилла) — мифическое морское чудовище, лежавшее на расстоянии выстрела из лука от другого чудовища — Харибды. Скилла и Харибда связывались во времена Еврипида с Сицилийским проливом.
В священную я рощу унесу малюток, Геры Высей… — В роще близ Коринфа находился храм Геры.
Я ухожу в пределы Эрехтея… — то есть в Афины.
Киприда — Афродита, богиня любви.
…от Понта до Атлантовых пределов… — то есть от Черного моря до Гибралтара, от восточного до западного рубежа известного грекам мира.
Питфей — дед Тесея, прадед Ипполита, трезенский царь.
…чтоб Элевсина таинства узреть… — Элевсин — город к северо-западу от Афин, главный центр культа Деметры и Персефоны.
…не даром же Тесею Посейдон… — Имя отца Тесея — Эгей — толковалось и как прозвище бога Посейдона, который поэтому и считался отцом Тесея.
Дий — Зевс.
Латона — латинизированная форма имени матери Аполлона и Артемиды — Лето.
Деметра — богиня растительности, в особенности — хлебных злаков.
Брашно — хлеб.
Уж не Пана ль гнев тебя безумит… — Пану, богу лесов, пастбищ и скота, приписывалась способность наводить на людей ужас. Отсюда и выражение — «панический ужас».
Корибанты — жрецы богини Кибелы (ниже она названа «самой Матерью»), культ которой отличался разнузданностью и исступленностью.
Иль из родимого Крита… — Федра — дочь критского царя Миноса.
Я царственной наездницей клянусь… — то есть амазонкой Антиопой (по другим источникам — Ипполитой), матерью Ипполита.
В мольбе твоих не выпущу колен. — Припадание к ногам — знак священной мольбы.
Ты вспомнила быка?.. — Мать Федры Пасифая, отдавшись быку, родила быкоголовое чудовище — Минотавра.
Для ложа Диониса Ариадна… — Ариадна, старшая сестра Федры, стала женой Диониса на острове Наксосе.
…Кефала в чертог свой Эос увлекла… — Мифический прекрасный охотник Кефал был похищен богиней утренней зари Эос и из-за ее козней нечаянно убил свою жену Прокриду.
Гекатомба — большое, торжественное жертвоприношение, буквально — «приношение ста быков».
…на бреге Алфея… — то есть в Олимпии, где находилось святилище Зевса Олимпийского.
Ярма не познавшая дева… — Вся эта строфа посвящена похищению Гераклом Иолы, дочери эхалийского царя Эврита.
Ограда священная Фивы… — Строфа посвящена истории Семелы.
Диркея — правильнее — Дирке.
Устами, да, — но сердце ни при чем. — Этот стих пародирует Аристофан в комедии «Лягушки»: «Язык клялся, но выбран мной Эсхил».
Я чистою богинею клянусь… — то есть Артемидой. Эта клятва мотивирует молчание хора, знающего тайну Федры, и откладывает развязку до появления самой Артемиды.
Эридан — мифический поток, богатый янтарем, по-видимому, это река По в северной Италии.
Несчастные девы — сестры Фаэтона, сына Гелиоса (Солнца). Фаэтон, согласно известному мифу, упросил отца позволить ему управлять один день солнечной колесницей. Но так как юноша не мог сладить с огненными конями, Зевс, чтобы спасти от пожара вселенную, поразил неумелого возницу молнией, и тот упал в реку Придан, а из слез сестер, оплакивавших Фаэтона, произошел янтарь.
Плоды Гесперид золотые… — Геспериды, дочери титана Атланта, стерегли где-то на западном краю земли сады с золотыми яблоками.
Мунихий (правильнее: Мунихия) — полуостров с одноименным портовым городом неподалеку от Афин.
Синис — (в переводе «Грабитель») — разбойник, бесчинствовавший, по преданию, на Коринфском перешейке и убитый Тесеем.
…и скалы бы Скироновы тогда… — На Скиронских скалах (на границе Мегариды и Аттики) Тесей, по преданию, убил разбойника Скирона, который сбрасывал прохожих в море, после чего их трупы пожирала черепаха.
Хариты — божества красоты и радости.
Каллипид, Харипп, Ксантипп. — В каждое из этих имен входит корень «ипп» — конь, лошадь.
Хэрефонт — один из учеников Сократа.
…Фазанов подарил мне Леогоровых. — Леогор — лицо историческое.
Фалес — знаменитый философ VII в. до н. э., причисленный к греческому канону семи мудрецов.
Да, растянули мы с Периклом бедную — В 445 г. до н. э. остров Эвбея попытался отколоться от Афинского морского союза. Военная экспедиция во главе с Периклом пресекла эту попытку. Лакедемон — Спарта.
Византий — город на европейском берегу Босфора, ставший впоследствии столицей Византийской империи.
Афамант. — Стрепсиад намекает на не дошедшую до нас трагедию Софокла «Афамант», где герой намеревается принести себя в жертву Зевсу, чтобы искупить убийство своего сына. Жертвенных животных обычно украшали венками.
Меотийские болота — Меотида — нынешнее Азовское море.
Мимант — отрог горной цепи Тмола (Малая Азия).
Город Кекропа — Афины. Кекроп — легендарный основатель Афин.
Там — несказанные таинства правятся… — Имеются в виду элевсинские мистерии.
Бромий — одно из имен Диониса. О состязаниях «в честь Бромия» см. вступительную статью.
Парнеф — горная цепь в северной Аттике.
…из породы козла Ксенофанта… — Это, по-видимому, выпад против автора дифирамбов Гиеронима, отца которого звали Ксенофант.
Продик — известный философ-софист.
На гулянии панафинейском… — Панафинеи — праздник в честь богини Афины.
Диасии — весенний афинский праздник в честь Зевса.
В пещеру я схожу Трофония. — Трофоний — эпитет Зевса как бога подземного царства. Подземное святилище Зевса-Трофония в Беотии слыло жутким местом.
Вмиг узнает… брата кудри милые. — Намек на хорошо известный зрителям миф: найдя на могиле отца прядь волос, Электра догадалась о возвращении своего брата Ореста.
Был когда-то грозен Клеон… — см. вступительную статью. Клеон погиб в 422 г. до н. э. в сражении у Амфиполя.
Гипербол — афинский политический деятель времен Пелопоннесской войны; погиб в 411 г. до н. э. на острове Самосе.
Эвполид — комедиограф, современник Аристофана.
…наших славных «Всадников»… — см. вступительную статью. Фриних — комический поэт второй половины V в. до н. э. Не путать с трагиком Фринихом (приблизительно 510–470 гг. до н. э.), о котором идет речь во вступительной статье.
Гермипп — афинский комедиограф, современник Аристофана.
Пафлагонец — В комедии «Всадники» Клеон был изображен в виде раба из малоазиатской области Пафлагонии.
Селена — луна и богиня луны. Здесь Аристофан намекает на лунное затмение 425 г. и солнечное — 424 г. до н. э.
Если вы Клеона-вора… обличите… — Выше о Клеоне говорилось в прошедшем времени, как о мертвом. Дошедший до нас текст, по-видимому, объединяет две редакции комедии.
Кинф — гора на острове Делосе, на которой Лето родила Аполлона и Артемиду.
Ты, что в Эфесе… — обращение к Артемиде. В городе Эфесе находился известный храм Артемиды — тот самый, который был в 356 г. до н. э., сожжен Геростратом.
…но на вас она сердита: вы обидели ее… — Аристофан касается злободневной для его публики темы — реформы календаря, сместившей дни ежегодных праздников.
Сарпедон, Мемнон — герои Троянской войны.
Пока всходить не будет месяц… — Долги было принято возвращать в последний день лунного месяца.
… и сразу растоплю истца ходатайство? — то есть воск, которым покрывались писчие таблички.
Сократ, безбожник с Мелоса… — Сократ родился в Афинах, на острове Мелосе родился его современник, философ-атомист Диагор.
Телеф — легендарный герой, сын Геракла, царь Мизии, явился к Агамемнону, переодевшись нищим.
Панделет — по свидетельству античного комментатора Аристофана — кляузник и доносчик.
Фринид — известный во времена Аристофана кифарист.
Диполии (или — ниже — Буфонии) — праздник в честь Зевса-Градодержца.
(Золотые цикады — старинный афинский головной убор.
Тритогения — эпитет богини Афины.
Сыновья Гиппократа — хорошо известные в Афинах родственники Перикла.
Академия — роща возле Афин, где впоследствии собирались Платон и его ученики, которых поэтому называли академиками.
Пелей, Фетида — мифические фигуры.
«Лучше б мне в Египте дохнуть…» — то есть в стране, где не бывает дождей.
«Молодой и старый день» — день отдачи долгов, «молодой» по отношению к наступающему лунному месяцу и «старый» по отношению к истекшему.
Солон (род. между 640 и 630 гг. до н. э.) — афинский законодатель.
…божок… из племени Каркинова? — Каркин — неудачливый трагический поэт, отец четырех сыновей, тоже плохих драматургов, самый известный из которых — Ксенокл. Аристофан часто высмеивал это семейство.
Тлеполем — лицо, упоминаемое в трагедии Ксенокла, откуда взяты этот и предыдущий стих.
…как будто бы с осла упал. — Выражение переведено буквально, оно равнозначно нашему «потерпеть провал», «сесть в лужу».
Симонид — Имеется в виду Симонид Кеосский (556–467 гг. до н. э.).
Милый отец наш… — Многие стихи диалога Тригея и Девочки пародируют Еврипида.
В Пирее, в бухте Жучьей… — Дано подлинное название бухты.
Пять талантов заплатит хиосский народ… — Намек на постоянные поборы с военных союзников Афин.
Афмониец — житель Афмонии, афинского пригорода.
Клянемся близнецами! — Близнецы — Кастор и Полидевк, сыновья Зевса и Леды, Они пользовались в Спарте большим почетом.
Пилос — стратегически важный, благодаря прекрасной гавани, город на Корифасийском мысе, захваченный в Пелопоннесе афинянами в 425 г. до н. э.
Кожевник — Клеон.
Диоскуры — в переводе: «Зевсовы отроки», Кастор и Полидевк.
…чтобы в преисподней Кербера не разбудить… — Аристофан называет Кербером (имя трехглавого пса, сторожившего вход в преисподнюю) погибшего своего врага Клеона.
Формион — известный афинский полководец времен Пелопоннесской войны.
Ликей — гимнасий за восточной окраиной Афин, место военных учений.
Да ничего худого. Словно Килликон. — Килликон — гражданин Милета, предавший свою родину жителям Приены и заявивший при этом, что не сделал ничего дурного.
Писандр — афинский флотоводец, член олигархического совета четырехсот, пользовавшийся славой предателя и лихоимца.
…они все время праздники у нас крадут… — Аристофан касается злободневной для его публики темы — реформы календаря, сместившей, дни ежегодных праздников.
Панафинеи — Панафинеи — праздник в честь богини Афины.
Мистерии — Имеются в виду элевсинские мистерии.
Адонии — празднества в честь Афродиты.
Оры — богини времен года, ясной погоды, урожая, юности, красоты.
Эниалий — «Воинственный», эпитет бога войны Ареса.
Ох, достанется вам, беотийцы! — Понятный афинянам намек на политические расчеты, из-за которых беотийцы выступали против заключения мира.
Фидий злополучный… — Знаменитый афинский скульптор V в. до н. э. Фидий, пользовавшийся покровительством Перикла, был из-за интриг против Перикла обвинен сначала в краже золота, отпущенною государством на статую Афины, а затем, когда доказал свою невиновность, — в том, что изобразил на щите богини самого себя и Перикла. Умер в тюрьме в 431 г. до н. э.
Ушел у нас весь разум в кожу… — Снова потревожена тень кожевника Клеона.
Нет, коль запьешь настойкою полынной. — К полынной настойке в древности прибегали, когда объедались; смысл: союз с Жатвой сулит пресыщение.
Сыт будет Ганимедовой амвросией. — Ганимед — прекрасный юноша, похищенный Зевсом и назначенный его виночерпием.
Морсим, Меланфий — плохие поэты-трагики, сыновья Филокла, племянника и неумелого подражателя Эсхила.
Хиосец Ион — лирик и трагик, умер в 422 г. до н. э. Два фрагмента из стихов Иона Хиосского вольно переведены Пушкиным («Вино» и «Юноша! скромно пируй…»).
Браврон — местность в Аттике, где находилось святилище Артемиды и где каждые четыре года устраивались гулянья.
Истм — Коринфский перешеек, место, где происходили так называемые Истмийские игры.
Хэрид — фиванский музыкант, известный своей неумелой игрой.
Где благочестивый сонм? — Подлинная обрядовая формула.
Стильбид — прорицатель, сопровождавший афинскую армию в походе на Сицилию.
Бакид — древнебеотийский прорицатель.
Пританей — общественное здание в греческих городах, считавшееся символическим центром государства. В Пританее поддерживался «вечный огонь», и там получали бесплатный обед члены коллегии пританов, а также заслуженные граждане и почетные иностранные гости.
Сивилла — так называли в древности женщин-прорицательниц.
«Проклят, поруган, и прогнан…» — цитата из «Илиады».
Орей — город на острове Эвбее.
Элимний — местность на острове Эвбее.
Таксиарх — пехотный командир.
Пандион — покровитель одной из аттических фил (территориально-политических общин) — Пандиониды.
Коттаб — распространенная в Афинах игра: остаток вина выплескивался из кубка в металлический сосуд, и при этом произносилось имя возлюбленной. Если вино целиком попадало в сосуд и производило чистый звук, влюбленный мог рассчитывать на ее благосклонность.
«Воин Салийский гордится…» — цитируется известное стихотворение Архилоха (VII в. до н. э.).
Гимен-Гименей, о! — Обращение к богу брака Гименею было обычным припевом свадебных песен.
Филы — название дома в Аттике, не путать с филой (территориально-политическая община). Дем — меньшая административно-территориальная община, чем фила.
Холарг — название аттического дема.
Чтоб, как в басне, в бой вступить с собакою… — намек на басню легендарного баснописца Эсопа, включенного в IV в. до н. э. в число семи мудрецов.
Тарент — старинная греческая колония в Италии, основанная в VIII в. до н. э. спартанцами и подчинившаяся римскому господству в 272 г. до н. э.
Эпидамн — греческий торговый город в Иллирии, на берегу Адриатического моря. Римлянам название «Эпидамн» по созвучию напоминало слово «дамнум», что значит «ущерб», «убыток», «урон» (это созвучие обыграно Плавтом, см. стр. 572), и они переименовали Эпидамн в Диррахий (отсюда нынешнее албанское название — Дуррес).
Пинфий, Липарон — эти имена сиракузских правителей выдуманы Плавтом. Другие два имени в этом перечне — исторические.
…предлагаю… биться… об заклад — то есть чтобы обе стороны внесли перед разбором дела денежный залог, который затем достанется выигравшей стороне.
О Иакх, о Бромий… — Притворяясь бесноватым вакхантом, герой выкрикивает культовые имена Диониса.
Кикнов сын. — Кикн — имя по меньшей мере пяти мифологических героев. Кого из них имеет в виду Плавт — непонятно.
…бородатому Тифону… — Тифон — сын троянского царя Лаомедонта. Полюбив Тифона, богиня утренней зари Эос уговорила Зевса даровать ему бессмертие, но не выпросила для своего возлюбленного вечной юности, и Тифон одряхлел: у него стали сохнуть руки и ноги и пропал голос. Менехм II называет Тифоном отца матроны за его старость.
Андрос — остров к югу от Эвбеи, самый северный из Кикладских островов.
…Дав я, не Эдип… — Имеется в виду способность Эдипа отгадывать загадки.
…он уроженцем называл всегда себя рамнунтовским. — Рамнунт — область в Аттике.
Аврора — богиня утренней зари, Эос у греков. Титан — здесь: Солнце. Титанами называли не только детей Урана и Геи, но и потомков этих детей. Бог Солнца Гелий считался сыном Гипериона.
Пандионовых птиц… — Дочь афинского цари Пандиона Прокна была превращена в ласточку, а другая его дочь, Филомела, в соловья.
О мать, по которой я плачу всегда… — Мать Октавии Мессалина была убита императором Клавдием, отцом Октавии, за супружескую измену.
Клото — одна из богинь судьбы, которые у греков назывались мойрами, а у римлян — парками.
Я сносила мачехи злобный гнет… — Умертвив Мессалину, Клавдий женился на своей племяннице Агриппине, а ее сына от другого брака, Нерона, женил на своей дочери Октавии.
Стигийский — «погребальный», «похоронный». Стикс — река в царстве мертвых.
…мой бедный отец… — Клавдий был отравлен Агриппиной.
…от кого бежала британцев рать… — При Клавдии в 45 г. н. э. римляне утвердились в южной части Британии.
Юный брат почил, погублен, ядом… — Брата Октавии Британика Нерон отравил, видя в родном сыне Клавдия своего соперника.
Я могу повторить, Электра, твой плач… — О мифической героине Электре см. во вступительной статье.
…в благодарность смерть несчастной послал… — Мать Нерона Агриппина была убита по его приказу.
…служанке повинуясь… — Имеется в виду любовница Нерона, гречанка-вольноотпущенница Акте.
В день свадьбы тестя в жертву принесен был зять… — В день свадьбы Клавдия и Агриппины был убит жених Октавии Силен.
…ковы женщины, дорогою злодейств к престолу рвущейся? — Речь идет об Агриппине.
Пенаты — боги дома и хранители семьи.
…рабыня, завладевшая хозяином… — Акте.
Крылатый бог — Купидон, бог любви.
То сверкал белизной лебединых крыл… — намек на мифы о Леде, с которой Юпитер сошелся, приняв облик лебедя, о Европе, которую он похитил из Сидона, превратившись в быка, и о Данае, к которой он проник к виде золотого дождя.
С небосвода светит Леды сыны… — Кастор и Поллукс, по мифу превращенные после смерти в созвездие Близнецов.
…восседает на отчем Олимпе Вакх… — Вакх, как и упоминаемый ниже Геркулес, — сын Юпитера (Зевса) от смертной. Вакх — сын Семелы, Геркулес — Алкмены.
Юнона — жена Юпитера.
Мы видели комету… — В 60 г. н. э. над Римом действительно появилась комета.
Boom — созвездие Волопаса. Древние представляли себе его возничим «повозки» — Большой Медведицы.
Богов из храмов дерзко изгоняет враг… — намек на отмену обожествления Клавдия.
…выродок Домиция… — Отцом Нерона был первый муж Агриппины Домиций Энобарб.
Маны — духи умерших.
…едва лишь погиб наш вождь… — Клавдий.
Марс — бог войны.
…о дева, кого рукою своей… — Виргиния, дочь плебея Луция Виргиния, была в V в. до н. э. убита своим отцом, который спас честь дочери ценой ее жизни.
…Лукреция дочь. — Обесчещенная царским сыном дочь сенатора Лукреция, жена патриция Тарквиния Коллатина, покончила с собой (VI в. до н. э.).
…жена Тарквиния, Туллия дочь… — В 534 г. до н. э. дочь царя Сервия Туллия убедила мужа захватить власть, убив ее отца. Туллия убили на улице, и его дочь, торопясь домой, приказала своему вознице переехать его труп.
…коварно послал Нерон на пагубном корабле… — Приводим рассказ римского историка Светония о расправе Нерона с Агриппиной: «Он выдумал распадающийся корабль, чтобы погубить ее крушением или обвалом каюты… он самым нежным письмом пригласил ее в Байи… задержал ее здесь на пиру, а триерархам отдал приказ повредить ее либурнскую галеру будто бы при нечаянном столкновении, и когда она собралась обратно в Бавлы, он дал ей вместо поврежденного свой искусно построенный корабль, проводил ее ласково и на прощание даже поцеловал ее в грудь. Остаток ночи он провел без сна, с великим трепетом ожидая исхода предприятия. А когда он узнал, что все вышло иначе, что она ускользнула вплавь, и когда соотпущенник Луций Агерн радостно принес весть, что она жива и невредима, он, не в силах ничего придумать, велел незаметно подбросить Агерну кинжал, потом схватить его и связать, как подосланного убийцу, а мать умертвить, как будто она, уличенная в преступлении, сама наложила на себя руки».
Ахеронт — река в подземном царстве.
Уж лучше жить мне на скалистой Корсике… — см. биографические сведения о Сенеке перед примечаниями к «Октавии»
…когда Сатурн царил над ней. — Век Сатурна (Крона) отождествлялся с легендарным «золотым веком».
Астрея-дева — богиня Справедливости.
…Плавта голову и Суллы мне доставят. — Плавт и Сулла — придворные Нерона, казненные им.
Отец отчизны, Август… — первый римский император Октавиан Август.
Брут поднял меч… — Марк Юний Брут, один из главных участников заговора против Юлия Цезаря.
…оружья трех мужей страшась — так называемых триумвиров: Октавиана, Марка Антония и Эмилия Лепида.
Ростры — брусья, прикреплявшиеся к носовой части военных кораблей. Здесь речь идет о рострах, вывешенных в качестве трофеев на римском форуме.
…шел римский флот на гибель флоту римскому. — Имеется в виду флот Октавиана и флот сторонников Помпея.
…но вот один, разгромленный в сражении… — Имеется в виду Марк Антоний.
…две тени скрыв. — Раньше Антония, покончившего с собой в Египте, там погиб предательски убитый Помпей.
Дит — Плутон, бог подземного царства.
Титий — мифический герой. За то, что он оскорбил богиню Лето, Титий был не только убит богами, но и наказан в подземном царстве: там два коршуна терзали его печень.
Иксион — мифический герой. Он воспылал любовью к богине Гере, и за это его приковали к вечно вращающемуся огненному колесу.
…дворец из мрамора… — намек на так называемый «Золотой дом», дворец, постройкой которого был в это время занят Нерон.
Целей — мифический герой, супруг морской богини Фетиды, отец Ахилла.
…спешит мой бывший муж… и сын… — Первый муж Поппеи Руфий Криспин покончил с собой по приказу Нерона. Сына Криспина и Поппеи утопили по приказу Нерона.
Лары — добрые духи умерших, покровительствующие их осиротевшим домам.
Спартанка — Елена, дочь Тиндара (ниже она названа Тиндаридой), виновница Троянской войны.
Фригийский пастух — Парнас, который в награду за то, что присудил золотое яблоко Афродите, получил в жены Елену.
…падут дома моим объяты пламенем… — намек на римский пожар 64 г. н. э. Утверждали, что город поджег Нерон, который, любуясь пожаром, читал стихи о сожжении Трои.
Обоих Гракхов оплакала мать… — Братья Тиберий и Гай Гракхи (II в. до н. э.), инициаторы аграрной реформы, погибли в борьбе с ее противниками — аристократами.
Ливий — Ливий Друз Младший, инициатор реформы суда (начало I в. до н. э.), убитый своими политическими врагами.
О, если бы мне соловьиные крылья… — намек на миф о Филомеле.
…Августа внучка, Агриппы дочь… — Юлия — внучка Октавиана Августа, жена полководца Германика, после смерти которого возглавила сенатскую оппозицию, за что была сослана императором Тиберием на остров Пандатрию, где и погибла.
Ливия — Ливия Ливилла (начало I в. н. э.) в сообщничестве со своим любовником Сеяном отравила своего мужа. За это мать Ливии казнила ее голодной смертью.
Юлия — внучка Августа, Юлия-младшая, известная своим распутством.
Эреб — подземное царство мрака.
Ифигения — дочь Агамемнона, которую Артемида спасла в Авлиде от смерти на алтаре, унеся девушку на облаке в Тавриду.
Тривия — «Находящаяся на распутье», эпитет Дианы-Гекаты, храмы которой строились на скрещениях дорог.

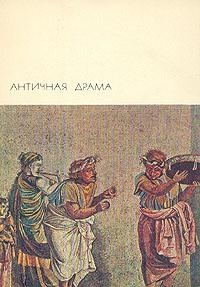

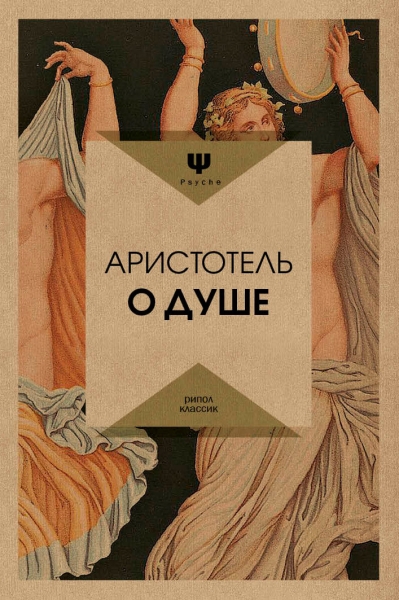
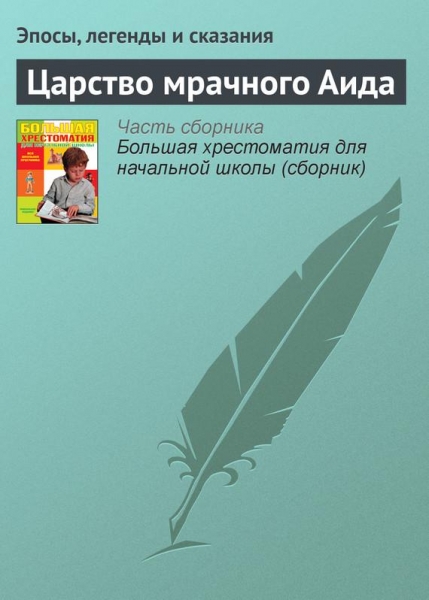
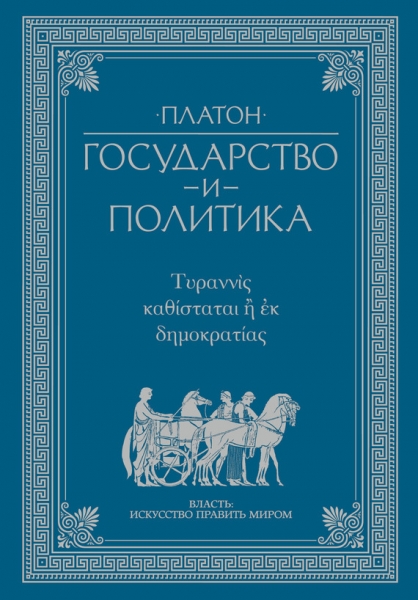
Комментарии к книге «Античная драма», Аристофан
Всего 0 комментариев