Душа. Её жизнь и законы. Составитель Н.А. Котова
Рекомендовано к публикации Издательским советом Русской Православной Церкви
ИС Р19-902-0062
Фонд «Традиция», 2019
Псково-Печерский монастырь, 2019
От издателей
Начало Псково-Печерским листкам положил игумен Павел (Горшков), бывший настоятелем Псково-Печерского монастыря в годы Великой Отечественной войны. Возобновлено их издание по благословению митрополита Псковского и Великолукского Владимира в 1991 году. Цель издания заключается в том, чтобы более чем пятисотлетний опыт, накопленный подвижниками единственной в своем роде обители, становился известным благочестивым христианам — паломникам Псково-Печерского монастыря, а также для их духовного и нравственного назидания и возрастания.
Непосредственным участником возрождения Псково-Печерских листков был архимандрит Нафанаил (Поспелов). До самой своей кончины в 2002 году он подбирал святоотеческие творения духовно нравственного содержания и сам набирал тексты на пишущей машинке. Помощникам он часто говорил апостольские слова: «Наше слово не мудрость человеческая, а Истина Божия…» (см. 1 Кор. 2, 4–5). Последний листок, составленный старцем (№ 466. Святой пророк Божий Илия), вышел за несколько дней до его праведной кончины.
К 2018 году издано 1609 листков. Приступая к изданию их отдельными сборниками, мы, в память об их составителях, оставляем текст без изменений.
О душе и духовной жизни
Листок № 31. Душа
По проповедям митрополита Крутицкого и Коломенского Николая (Ярушевича)
Родился высокопреосвященный Николай 13 января (по новому стилю) 1892 года в культурной благочестивой семье. Отец его протоиерей Дорофей Ярушевич был настоятелем собора в г. Ковно. Мать Екатерина воспитывала детей, которых в семье было шестеро.
При крещении младенцу было дано имя Борис, а при постриге в монашество (23 октября 1914 года) получил имя Николай, в честь святителя и чудотворца Николая.
В 1910 году поступил в Петербургскую духовную академию, которую блестяще окончил в 1914 году.
Образованнейший архиерей, удостоенный высшей степени доктора богословия, которая присваивалась ему 7 раз: в МДА в 1949 году, дважды в Чехословакии (в 1950 и 1955 годах), дважды в Румынии (в 1954 и 1955 годах), в Болгарии в 1952 году и в Венгрии в 1953 году.
Вчитайтесь в проповеди приснопамятного митрополита — и вы услышите голос исполненного благодатию проповедника Слова Божия.
Приснопамятный высокопреосвященный митрополит Николай придавал большое значение необходимости напоминать людям о том, что забота о душе должна быть для каждого из нас целожизненным трудом.
Вопрос о душе достаточно полно изложен в Слове Божием, но не всегда понятен людям, мало подготовленным к восприятию серьезных вещей.
Сознавая важность правильного понимания этого вопроса, высокопреосвященный проповедник, обладавший особым талантом излагать серьезные вопросы в форме, доступной пониманию не только ученым специалистам, но и самому широкому кругу верующих людей, успешно использует свои возможности и в данном случае. Вопрос о безсмертии души и воскресении мертвых в свое время специально разрабатывался митрополитом Николаем. К сожалению, почти законченный его труд погиб в Санкт-Петербурге во время последней мировой войны.
И неудивительно поэтому, что лейтмотив его поучений — безсмертие души и вечное блаженство за гробом для верующего, уготовляющего себя к мирной и непостыдной кончине. И потому во многих своих словах (независимо от того, на какую тему произносилась им данная проповедь) он затрагивает этот важный вопрос.
При вдумчивом, внимательном чтении этих проповедей составляется вполне четкое представление о природе души, ее происхождении, безсмертии, высоком ее достоинстве и неоценимости.
Ведь только глубокая вера в то, что душа человека безсмертна, дает людям силы переносить скорби земной жизни.
Душа не есть что-то материальное, вещественное, видимое.
Душа человека — это совокупность всех наших чувств, мыслей, желаний, стремлений, порывов сердца, нашего разума, сознания, свободной воли, нашей совести, дара веры в Бога.
Все это составляет душу человека.
Она безсмертна.
Душа — это безценный дар Божий, полученный от Бога исключительно по любви Его к людям.
Если бы человек и не знал из Священного Писания, что, кроме тела, он имеет еще душу, то при одном уже только внимательном отношении к себе и окружающему миру он мог бы понять, что присущие только ему разум, сознание, совесть, вера в Бога, все то, что отличает его от животного, составляет его душу.
Это его душа, которая Советом Божественной Мудрости живет и будет жить в нескончаемой вечности, если будет предана Богу. Нередко в жизни наблюдается, что люди здоровые и обезпеченные не могут найти полного удовлетворения в жизни, и наоборот, люди, изможденные болезнями, полны благодушия и внутренней духовной радости. Эти наблюдения нам говорят о том, что, кроме тела, в каждом человеке есть душа.
И душа, и тело живут своей жизнью.
Подтверждение тому, что, кроме тела, в каждом человеке есть душа, митрополит Николай видит в событии беседы Господа нашего с пророками Моисеем и Илией на Горе Преображения. Они беседовали о предстоящих крестных страданиях Господа… И если эти страдания были необходимы, значит, кроме плоти и костей, в человеке есть что-то, что вызывает необходимость этих страданий.
Не за прах, в который превратится наше тело, а за счастье нашей безсмертной души должен был пострадать Господь.
Автор подчеркивает, что именно душа делает всех людей равными перед Богом.
И мужчине, и женщине даны Богом при творении одинаковые души.
Душа, которую дал людям Господь, носит в себе образ и подобие Божие.
Бог — вечен, Он не имеет ни начала, ни конца Своему Бытию. Наша душа, хотя и имеет начало своему существованию, но она не знает конца, она безсмертна.
Бог наш есть Бог Всемогущий. И человека Бог наделил чертами могущества: человек — хозяин природы, он владеет многими тайнами природы, он покоряет себе воздух и другие стихии.
Бог есть Дух Вездесущий, а человеку дана мысль, способная во мгновение переносить его в самые отдаленные концы земли. Духом мы бываем вместе со своими близкими, разделенными от нас далеким расстоянием.
Бог есть Дух Всеведущий. Разум человека имеет печать этого Божественного свойства. Он может охватить неисчислимые массы знаний; память человека хранит в нем эти знания.
Бог есть Дух Всесвятый. И человек, с помощью Божией благодати, имеет силу достигать вершин святости.
Образ Божий находится в самой природе нашей души, в ея разуме, в ея свободе, а подобие — в надлежащем развитии и усовершенствовании этих сил человеком — в стремлении его разума и свободной воли к добродетели и святости, в стяжании даров Святаго Духа.
(«Образ Божий, — говорит святой Димитрий Ростовский, — есть и в невернаго человека душе, подобие же токмо в христианине добродетельном; и егда согрешает смертне христианин, тогда подобия токмо лишается Божия, а не образа. И аще в муку вечную осудится, образ Божий тот же в нем во веки, подобие же уже быть не может».)
Душа сближает нас с Богом. Она — нерукотворный храм, предназначенный быть жилищем для Духа Божия. Она является местом обитания в нас Духа Божия. И в этом ее высочайшее достоинство. В этом ее особая честь, предназначенная ей Богом. Даже Ангелам чистым и безгрешным не дано этой чести. Не о них сказано, что они являются храмом Духа Святаго, а о человеческой душе.
Человек не рождается готовым храмом Божиим.
Родившийся только предназначен им быть. Лишь после крещения душа получает право стать храмом Божиим. Ибо при крещении она освящается Святым Духом. И Господь Иисус Христос, основав Святую ЦЕРКОВЬ, повелел ей совершать крещение людей, чтобы их безсмертные души соделывались храмом Духа Божия. (Не принявшие же крещения остаются только «предназначенными» быть Божиими храмами.)
Еще в Ветхом Завете Дух Святый через пророков говорил: «Вселюся в них и буду ходить в них; и буду их Богом».
Душа — это наш внутренний храм. И истинно христианская душа обладает изумительными свойствами.
Великим даром наградил ее Бог — дал ей свободную волю.
Ей прирождена потребность делать добро людям, любить, быть чистой, кроткой и не иметь злобы и гнева. В ней живет жажда свободы духа, который не препятствовал бы тому, что заложено в природу человека, чего требует его сердце… она жаждет внутреннего благодатного мира Божия.
А мир Божий — это одно из свойств Царства Божия, и живет оно там, где и должно пребывать Божие Царство, т. е. внутри нас в нашем сердце, в нашей душе. Но не надо забывать, что мир — это достояние только той души, которая напоена благодатной любовью к своему Господу за все безчисленные Его благодеяния.
Мир Божий насыщает только душу, до дна открытую перед всевидящим Оком, чистую и нелукавую. В такой чистой душе всегда, в любую минуту жизни, пребывает Бог.
Душа — безценный дар Божий. Ведь для возвращения человеку утраченного райского блаженства пострадал воплотившийся Сын Божий.
Душа наша драгоценна… Господь Спаситель приходил на землю и претерпел страдания для спасения наших безценных душ. Душа предназначена к вечному блаженству. Она неоцененна: из всех созданий Божиих она самое высшее создание после Ангелов. Господь Иисус Христос, однажды как бы положив ее на весы, сравнил со всеми богатствами и ценностями земного мира и сказал, что все эти богатства — ничто в сравнении с душой.
Она великий дар Божий, оценить который не в силах ни мысль наша, ни сердце наше.
У души, как и у тела, — свои потребности.
В ней живет врожденное стремление к святости, к украшению безсмертного духа, тоска по небесному нашему жилищу, искание Бога и томление по Нем.
Жаждет душа моя к Богу крепкому… (Пс. 41, 3).
Сколько мыслей и чувств рождают эти святые слова в верующем сердце! Эта жажда души вдохновляет людей на подвиги, вдохновляет на мученичество.
Как уже было сказано, душа каждого человека стремится к святости. На Руси всегда было много монастырей. Насельниками их были самые разнообразные по своему званию и положению в жизни люди. Но всех их влекло одно — жажда общения с Богом. У русского человека было извечное особое стремление к паломничеству по святым местам. Люди пешком шли, — не ехали (как мы теперь), а шли, — десятки, иногда сотни верст. И в великой радости доходили до святых мест. Там проводили несколько дней и, с обновленной душой, пускались в обратный путь.
Что влекло их туда?..
Все та же жажда ощутить дыхание Божие. Насытиться им, напитать свою душу и унести полученное святое благодатное чувство в свои дома… Поделиться этой благодатью с близкими.
И так часто душа не находит себе места среди земного шума; она тянется куда-то ввысь из пут греха и страстей, жаждет вырваться на простор чистого воздуха, насладиться красотой открывающейся перед ней вечной жизни…
Она носит в себе нежную и тихую, и в то же время глубокую, идущую из самых недр человеческого духа, тоску по небу, по небесной вечной красоте. Носит в себе предощущение жизни безконечной, с возглавляющей ее Божественной красотой и порывается к своей родине, как птицу притягивают осенью теплые края.
Жажда души — это жажда нашей мысли расширить свои знания. Не ограничивать их лишь познанием видимого. А иметь возможность проникнуть в сферы невидимого мира — мира духовного, и это — жажда внутреннего благодатного мира, внутреннего покоя, счастья, которые бы не нарушались, несмотря на окружающие каждого из нас невзгоды, скорби, бедствия… Это — жажда свободы духа, чтобы никакие греховные путы не препятствовали бы ей проявить себя в любом виде доброделания.
Душа жаждет уяснить, в чем смысл нашей жизни и почему жизнь так коротка, а человеку хочется много сделать и совсем не хочется уходить из этой жизни.
Душа жаждет уничтожить все колебания, сомнения, недоумения… Чтобы по вере своей мы могли проникнуть в духовный невидимый мир и, познав его, стараться жить здесь свято.
Утоляется жажда души только благодатию Божиею.
Когда мы любуемся красотами природы, мы при этом испытываем наслаждение не только от зрительного ощущения, но при этом душа наша видит величие Творца. В эти минуты наша душа встречается со Христом.
Душа ищет Бога и общения с Ним, томится по Нем… рвется к своему первоисточнику, тянется к своему Небесному Отцу, как ребенок к матери…
В различных проявлениях нашей души, часто неосознанных, наблюдается тоска по вечной жизни. Это бывает, когда человек долгое время живет всецело погруженный в бездумную жизнь, полную житейских порочных дел, но вдруг начинает томиться и тосковать. В душу такого человека проникает чувство сознания своей греховности. Это значит, что душа начинает скучать по чистой жизни, по небесному воздуху, по своему Отцу и тянется к Нему. Она взывает: «Омой меня, Господи, благодатию покаяния».
Высшим же проявлением души человеческой является вера в Бога. Это ее крылья, на которых она подымается над землей, проникает своим духовным взором в небо духовное, в мир невидимый. И насущная потребность души — исполнение заповедей Божиих. Душа имеет свой голод и свою жажду.
Голод души сильнее телесного голода.
Душа голодна, когда нет в сердце молитвы. Когда сердце очерствело и стало чуждо всему святому.
Жизнь души сокрыта от наших взоров. Но душа нуждается, как и тело, в утолении и голода, и жажды; ищет для себя чистого и свежего воздуха, так как устает дышать в атмосфере человеческих грехов, ищет для себя воздуха неба, жаждет общения с Богом, нуждается в неиссякаемом источнике света и тепла, согревающих ее. И потому влечется в храм.
Как сад растет и цветет только тогда, когда освежается влагой, так и душа наша зреет для жизни вечной только тогда, когда ее орошает благодатный дождь Святаго Духа, «Святым Духом всяка душа живится».
В храме душа черпает подкрепление для перенесения всех земных испытаний. В нем она орошается не только каплями благодати Божией, но обильным ее дождем. Он изливается на нас через общие молитвы, песнопения, благословение священнослужителей. И если наша молитва глубока и искренна и исходит из нашего внутреннего существа, — мы ощущаем близость Божию, Его присутствие в храме среди нас.
Нельзя оставлять голодающую и жаждущую душу без насыщения. Если она не насытится на пути своей земной жизни, — то безмерно тяжек будет ее голод в вечности. Но по своей греховности мы можем и не заметить голода души. А он проявляется в томлении духа, часто непонятной для нас, как бы безпричинной тоске.
Необходимо заботиться о питании и врачевании души, так как через это созревает и растет наша духовная жизнь, углубляется наша жизнь во Христе и соединяет нас с Господом.
Душа может быть духовно мертвой для вечной жизни. Но в храме Божием в нее попадает драгоценное семя Божия слова… чудо совершается в этой душе, она одевается в чистую и светлую одежду…
Душа болеет от наших грехов душевными муками, скорбями и тревогами, которые врачуются в Церкви Христовой. Ибо именно в Церкви мы дышим плодотворной животворящей молитвой и в ней почерпаем силы для своей духовной жизни. В храме незримо присутствует наш Спаситель.
Показателем того, что в нас живет здоровая душа, служит наше стремление к молитве. В человеке же, не ощущающем потребности к молитве, — душа засыхает.
Всякий грех оставляет на душе язвы. И исцеляются они покаянием. Было сказано уже, что здоровая душа стремится к молитве. Ибо молитва — это дыхание нашей души.
По словам святых отцов, на молитве душа наша на эти мгновения как бы исходит из своего тела, и навстречу ей… идет Сам Всемогущий и любвеобильный Отец. Так как общение нашей души с Богом совершается через молитву, каждый должен вырастить в своей душе духовный плод молитвенного горения, чтобы молитва стала сладкой, радостной потребностью души — как воздух для легких, как пища для тела.
Душа создана не для греха. Грех противен и чужд ей, вышедшей из рук Творца чистой и безгрешной.
И при крещении человека она одевается в белоснежные одежды, которые обычно в течение жизни загрязняются грехами. Нельзя забывать, что наша духовная природа так устроена, что все мысли, чувства, желания, все движения нашего духа тесно связаны между собой. И грех, попадая в сердце, даже когда еще и не совершен, а только пришла мысль о нем, а потом уже и через действие, сразу налагает свою печать на все стороны нашей духовной деятельности. И добро, вступая в борьбу со злом, проникшим в нас, начинает слабеть и тускнеть.
Очищается душа слезным покаянием. И это необходимо, ибо она есть храм Святаго Духа. А Дух Святой может обитать только в чистой храмине.
Очищенная же от грехов душа представляет собой невесту Божию, наследницу рая, собеседницу Ангелов. Она становится царицей, исполненной благодатных дарований и милостей Божиих.
Величие и красота верующей души в ее смирении. Вход в душу — это наше сердце. И для того, чтобы сберечь нашу душу чистой, мы должны старательно оберегать сердце от проникновения в него всего греховного, нечистого, того, что может повредить душе. Человек получил от Бога душу чистой и святой. И, как уже было сказано, в купели святого крещения она получила белоснежные одежды, но постепенно наши грехи и пороки загрязняют ее.
Сначала грех ложится на нее одним малым пятном, а затем грехи покрывают ее уже целыми пластами грязи. Наши грехи и страсти пачкают и рвут одежду души.
Душа прежде тела переходит в жизнь вечную.
С нашим преображенным телом она соединится только после воскресения мертвых.
Перед каждым из нас — общий для всех верующих людей долг, долг перед Богом и своей безсмертной душой — стремиться спасти душу.
Если мы не приготовим за свою земную жизнь душу к вступлению в новый мир, в котором ей предстоит жить, какой чужой будет чувствовать она себя в этом новом мире! Перед ней будет закрыт вход в Царство Небесное!
Братие и сестры!
В короткую нашу земную жизнь можно и погубить свою душу для вечности, и спасти ее.
Будем же трудиться над украшением души своей нетленной вечной красотой, подражая пресветлой красоте нашего Господа, чтобы нам прийти на Небо, как в родной дом. Аминь.
О происхождении душ человеческих
Первых людей Бог создал непосредственно, а всех потомков творит посредственно — силою Своего благословения, всегда действительного. О происхождении душ человеческих от Бога говорят:
• Екклесиаст — и возвратится персть в землю, якоже бе, и дух возвратится к Богу, иже даде его (Еккл. 12,7);
• пророк Исаия — тако глаголет Господь Бог, сотворивый небо, и водрузивый е, утверждей землю, и яже на ней, и даяй дыхание людем, иже на ней, и дух ходящим на ней (Ис. 42, 5; ср.: 57,16);
• пророк Захария — глаголет Господь прострый небо, и основаяй землю, и созидаяй дух человека в нем (Зах. 12, 1).
На основании этого соображения и мест Священного Писания Святая Церковь признает ту мысль, что души человеческие, как и сами люди, творятся Богом чрез посредство родителей, совершенно для нас неизъяснимо (Прав, испов., ч. 1, отв. на 28-й вопрос). Церковь, последуя Божественным словам, утверждает, что душа творится вместе с телом, а не так, чтобы одна творилась прежде, а другое после (5-й Вселенский Собор).
Несмотря на это, касательно происхождения души в каждом человеке существовало три мнения.
Одни (Платон, Ориген, Синезий и немногие другие) допускали предсуществование душ, т. е. говорили, что души человеческие все существовали еще прежде сего мира, и уже готовые посылаются в тела, для покаяния в грехах своих.
Другие (Аристотель, Иларий, Феодорит, святой Кирилл Александрийский, святой Иероним) думали, что души вновь творятся Богом, по мере появления на свет людей.
Третьи (Тертуллиан, святой Григорий Нисский, святой Макарий Великий и др.) утверждали, что обе субстанции — и душа и тело — вместе и зачинаются, и совершенствуются.
Первого мнения — о предсуществовании душ, нельзя принять даже за вероятное, потому что:
а) душа ничего не помнит из прежней жизни своей, а следовательно, не может и раскаиваться в тех грехах, которых не знает;
б) Священное Писание ясно говорит, что грех вошел в мир человеческий вместе с преступлением Адамовым; если же невинные души посылаются в тела, то как же они делаются виновными и за что страдают в испорченном теле?
Поэтому мнение это, как не основанное на Священном Писании и несообразное со здравым смыслом, быв названо «нелепым и нецерковным» (святой Григорий Богослов), «баснословным» (святые Григорий Нисский, Феодорит), «еретическим» (святой Августин), торжественно осуждено на Константинопольском Соборе в 541 году.
Второго мнения — мнения о новом творении душ, также нельзя принять, потому что:
а) им не объясняется переход наследственной порчи от Адама на его потомков, и при нем вся вина наследственного бедствия людей, значит, возлагается на Творца;
б) это мнение не может быть примирено с покоем Творца, закончившим всякое новое создание, и при нем непонятно будет — как вочеловечение Сына Божия не было принятием одного только тела.
Третьим мнением — мнением о рождении души вместе с образованием телесного организма, самым лучшим образом объясняются:
а) переход порчи Адамовой к потомкам;
б) сходство детей с родителями даже по душевным качествам;
в) им подкрепляется мысль об общем начале людей.
При этом мнении Бог все-таки остается Виновником нашей души, по первоначальному благословению на чадорождение (Быт. 1, 28).
Итак, в силу творческого благословения, человек происходит от человека, не только как живой от живого, но и как разумный от разумного, духовнотелесный от духовно-телесного, т. е. каждый человек по душе и по телу происходит от своих родителей. Это мнение принято Православной Церковью. Что же касается указанных других мнений, которых держались некоторые отцы и учителя Церкви, то они — мнения частные, и ни сами виновники их, ни другие никогда не придавали им значения догмата, или положения церковного.
Дьяченко Григорий, протоиерей.
Из области таинственного (ч. 1, гл. 6, п. 5)
Дух — высшая часть человеческой души
В человеке надо различать душу и дух. Дух содержит чувство Божества — совесть и ничем неудовлетворимость. Он есть та сила, которая вдохнута в лицо человека при сотворении. Душа — низшая сила, или часть той же силы, назначенная на ведение дел земной жизни. Она такого чина, как и душа животных, но возвышена, ради сочетания с нею духа.
Все действия, или, вернее, движения души, столь многообразны и сложны, так переплетаются друг с другом, столь молниеносно изменчивы и зачастую трудно уловимы, что их для удобства различения принято разделять на три вида, три разряда: мысли, чувства и желания. Эти движения души служат предметом изучения науки, называемой «психологией».
1. Органом тела, с помощью которого душа производит свою мыслительную работу, является мозг.
2. Центральным органом чувства принято считать сердце. Оно является мерилом того, что нам приятно или неприятно. Сердце естественно рассматривать как некий центр жизни человека, центр, в котором вмещается все, что входит в душу совне, из которого исходит все, что обнаруживается душею вовне.
3. Желаниями человека руководит воля, которая не имеет для себя вещественного органа в нашем теле, а орудия для исполнения ее предначертаний — это наши члены, приводимые в движение при помощи мускулов и нервов.
Жизнь душевная состоит в удовлетворении потребностей ума, чувства и воли: душа хочет приобрести знания и испытывать те или иные чувства.
Дух из Бога, сочетавшись с душею животною, возвел ее на степень души человеческой. И стал человек двояк. Одно тянет его к Небу, другое — к земле. Когда человек в своем чине держится, то он живет духом, т. е. страхом Божиим водится, и совести слушается, и горнего ищет. А когда он поддается влечениям души дольней, то выходит из своего чина, и то, чего хочет дух, думает достать среди тварей. Этого ему не удается, и он томится и крушится. Дух тут, как пленник в узах, находится в услужении у варваров — страстей похотных. Сам он не удовлетворяется и страсти делает неудовлетворимыми, сообщая им безграничный разлив. Отчего животные потребности у животных все в своей мере, а у человека, когда он предается чувственности, чувственные потребности предела и меры не имеют? Эту безмерность сообщает им дух, попавший в плен к ним, и дух этой безмерностью желает затушить свою жажду безконечного, по образу Коего создан и в Коем едином благо его.
Так вот видите, что и животные у нас отправления есть, и в самом их движении проявляется нечто, совсем животным несвойственное.
О чем ни рассуждать, всегда придешь к тому заключению, что человек обладает духом, которого истинная жизнь есть жизнь в Боге. Там только он находит покой, там его рай и обетованная земля.
«Дух, — говорит святитель Феофан, — как сила от Бога нашедшая, ведает Бога, ищет Бога и в Нем Одном находит покой. Неким духовным, сокровенным чутьем удостоверяясь в своем исхождении от Бога, он чувствует свою полную зависимость от Него и сознает себя обязанным всячески угождать Ему и жить только для Него и Им». Это как раз то, о чем говорил еще блаженный Августин: «Ты, Боже, создал нас со стремлением к Тебе, и безпокойно наше сердце, пока не успокоится в Тебе».
Дух в человеке проявляется в трех видах:
1) страх Божий;
2) совесть;
3) жажда Бога.
1. Страх Божий — это, конечно, не страх в нашем обычном, человеческом понимании этого слова: это благоговейный трепет перед величием Божиим, неразрывно связанный с неизменною верою в истину бытия Божия, в действительность существования Бога как нашего Творца, Промыслителя, Спасителя и Мздовоздаятеля.
2. Второе, чем проявляет себя дух в человеке, это — совесть. Совесть указывает человеку, что право и что неправо, что угодно Богу и что не угодно, что должно и чего не должно делать. Совесть есть наш внутренний судия — блюститель закона Божия. Святые отцы называют совесть «голосом Божиим» в душе человека.
3. Третье проявление духа в человеке святитель Феофан метко назвал жаждою Бога. Ничем тварным и земным наш дух удовлетвориться не может, пока не обретет покоя в Боге, к живому общению с Коим дух человеческий всегда сознательно или безсознательно стремится.
По творениям святителя Феофана Затворника.
Вып. 8. № 1462. С. 211–213.
Духом святым всяка душа живится
Из беседы преподобного Серафима Саровского с Мотовиловым о цели христианской жизни
Многие толкуют, что когда в Библии говорится: «вдунул Бог дыхание жизни в лице Адама первозданного и созданнаго Им от персти земной» — что будто бы это значило, что в Адаме до того не было души и духа человеческого, а была будто бы лишь плоть одна, созданная из персти земной. Неверно это толкование, ибо Господь Бог создал Адама от персти земной в том составе, как батюшка святой апостол Павел утверждает: «да будет всесовершен ваш дух, душа и плоть в пришествие Господа нашего Иисуса Христа». И все три части нашего естества созданы были от персти земной, и Адам не мертвым был создан, но действующим животным существом, подобно другим живущим на земле одушевленным Божиим созданиям. Но если бы Господь Бог не вдунул потом в лице его сего дыхания жизни, т. е. благодати Господа Бога Духа Святаго, возводящего его в богоподобное достоинство, то был бы он подобен всем прочим созданиям, хотя и имеющим плоть и душу и дух, принадлежащие каждому по роду его, но Духа Святаго внутри себя неимущим. Когда же вдунул Господь Бог в лице Адамово дыхание жизни, тогда-то, по выражению Моисееву, и бысть Адам в душу живу, т. е. совершенно во всем Богу подобную и такую, как и Он, на веки веков безсмертную…
Когда же вкушением от древа познания добра и зла, преждевременно и противно заповеди Божией, узнали (Адам и Ева) различие между добром и злом и подверглись всем бедствиям, последовавшим за преступление заповеди Божией, то лишились этого безценнаго дара благодати Духа Божия…
Когда же Он, Господь наш Иисус Христос, изволил совершить все дело спасения, то по воскресении Своем дунул на апостолов, возобновив дыхание жизни, утраченное Адамом, и даровал им эту же самую адамовскую благодать Всесвятаго Духа Божия. Но мало того — Он обещал им благодать — возблагодать. И вот в день Пятидесятницы торжественно ниспослал Он им Духа Святаго в дыхании бурне, в виде огненных языков, на коемуждо из них седших и вошедших в них и наполнивших их силою огнеобразной Божественной благодати, росоносно дышащей и радостотворно действующей в душах причащающихся ея силе и действиям. И вот эту-то самую огневдохновенную благодать Духа Святаго, когда подается она нам, всем верным чадам Христовым, в таинстве святаго крещения, священно запечатлевают миропомазанием в главнейших, указанных святой Церковью, местах нашей плоти, как вековечной хранительницы этой благодати. Говорится: «печать дара Духа Святаго…»
Если бы мы не грешили никогда после крещения нашего, то вовеки пребыли бы святыми непорочными и изъятыми от всякия скверны плоти и духа, угодниками Божьими. Но вот в том-то и беда, что мы, преуспевая в возрасте, не преуспеваем в благодати и разуме Божием, как преуспевал в том Господь наш Иисус Христос, а напротив того, развращаясь мало-помалу, лишаемся благодати Всесвятаго Духа Божия и делаемся во многоразличных мерах грешными и многогрешными людьми.
Но покаянием (утреневанием к Богу, бдением, многими слезами, творением добрых дел Христа ради, противоположных содеянным грехам), яко вторым крещением, омываемся от греховной скверны и опять являемся пред лице Божие паче снега убеленные Его благодатию…
Святой отец, живший по времени еще ближе к нам, преподобный Силуан Афонский пишет:
Для души нужен Господь и благодать Святаго Духа, без которой душа мертва. Как солнце греет и живит полевые цветы, и они влекутся к нему, так душа, любящая Бога, влечется к Нему и блаженствует в Нем, и от многой радости хочет, чтобы все люди также блаженствовали. Господь для того и создал нас, чтобы мы вечно на небесах пребывали с Ним в любви.
Слава Господу и Его милосердию: Он так много возлюбил нас, что дал нам Духа Святаго, Который учит нас всему доброму и дает силу побеждать грех. Господь по многому милосердию Своему дает нам благодать, и мы должны крепко хранить ее, чтобы не потерять, ибо без благодати человек духовно слеп. Слеп тот, кто собирает богатства в этом мире; это значит, что душа его не знает Духа Святаго, не знает, как Он сладок, и потому пленяется землею. А кто познал сладость Духа Святаго, тот знает, что она ни с чем не сравнима и не может уже ничем плениться на земле, но пленен только любовью Господа, и покоен он в Боге, и радуется, и плачет о людях, что не все познали Господа, и жалеет их.
Когда душа в Духе Святом, то она довольна и не скучает о небесном, ибо Царствие Божие внутри нас, ибо пришел Господь и вселился в нас. Но когда душа потеряет благодать, тогда скучает она о Небесном и слезно ищет Господа.
Листок № 46. Странники
Странник я у Тебя и пришелец, как и все отцы мои.
Пс. 38, 13
Эти слова пророка Давида из его 38-го псалма хочется привести вам, мои дорогие, сейчас в наше общее назидание.
Так говорит псалмопевец, размышляя о скоротечности нашей земной жизни. Сказанная им истина напоминает каждому из нас о безпрерывном течении времени: один за другим неудержимо и безвозвратно уходят в безпредельную вечность год за годом; одно поколение сменяется другим; умирает одна жизнь, уступая место жизни другой.
Сколько изменений претерпела земля за всю свою историю! Сколько на ней обитало таких народов, которых время навсегда смело с ее лица, и имена многих из этих народов даже не сохраняются в памяти человечества. Сколько история знает царств, которые шумною своею жизнью заполняли землю, достигали расцвета в науках, искусстве, торговле, и от них не осталось и следа. Сколько за долгую историю мира было на земле городов — цветущих, украшенных замечательными зданиями и хранилищами памятников искусства, а время и их уничтожило. Разрушенные обломки таких городов засыпаны землей, илом, песком, залиты морской водой, и сейчас в разных концах земли люди раскапывают эти обломки когда-то прекрасных городов, известных истории только по именам или даже вовсе неизвестных.
Так все течет и изменяется на земле. Шумная слава исчезает как звук, громкий, но короткий. Богатства, сокровища земные ускользают из рук человеческих быстрее воды. Земные наслаждения, плотские чувствования улетают короче утренней зари. И узы дружбы, узы любви, узы родства разрушаются, изменяются, исчезают.
Человек, поставленный в середину этого текущего, изменчивого мира, также увлекается общим течением, и никакая сила не может остановить неудержимого потока времени.
Было время, когда на земле жили наши прадеды. Каждый из них занимался своей работой, болел, лечился, старился. Они уступали место нашим дедам, деды — нашим отцам, отцы — нам. Пройдет немного времени, и не будет нас с вами на земле. И другие люди будут обитать на ней, и другие люди — наши преемники — будут стоять на том священном месте, где стою я; и внимать их проповеди и собираться в храмах Божиих на молитву будут другие люди — наши потомки, наши дети, внуки.
Человек живет, старится и умирает. Такова история каждой человеческой жизни. А сколько перемен совершается с каждым из нас, пока мы живем своею короткою жизнью!
Внутри нас — безпрерывная смена впечатлений, настроений, желаний, намерений, вне нас — все новые связи, встречи. Жизнь течет и изменяется. И сами мы изменяемся: проходит та или другая пора в нашей земной жизни, и уже не то нам нравится, что нравилось раньше, не того желает наше сердце, чего желало раньше, и не к тому стремится наша мысль, наша душа, к чему стремилась раньше. Можно ли узнать в дряхлом старце, который печальными мутными глазами смотрит вокруг себя, когда-то цветущего юношу, взор которого горел радостью и надеждой, который впереди себя видел долгую-долгую жизнь, был весел и беззаботно смотрел вперед? Да и самих себя мы часто не узнаем по прошествии известного времени. Все течет, все уходит в вечность.
И о чем все это говорит нашему сердцу? Странник я у Тебя, Господи, и пришелец, как и все отцы мои.
Вот о чем напоминает безпрерывное течение времени: о том, что все мы здесь, на земле, — странники и пришельцы. По слову святого апостола Павла, мы не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего (Евр. 13, 14).
На земле нет ничего вечного. Вечен один Бог, не знающий ни начала, ни конца Своего бытия, и вечна та жизнь, в которую мы вступим своей безсмертной душой. Мы и ищем будущего нерукотворенного Небесного Иерусалима, куда стремится каждый, кто идет за своим Господом, кто Господом живет и с Ним умирает. Это непрерывное течение времени напоминает нам о том, что не здесь наша родина. Наше вечное отечество там — на Небе, в доме нашего Небесного Отца, Который так возлюбил род человеческий, что послал Сына Своего Единородного на крестную смерть за вечное счастье людей (Ин. 3, 16).
Наше вечное жилище там, где пребывает Господь наш Иисус Христос, Который за нас пострадал, умер, воскрес в третий день по Писанию, вознесся на Небо, открыл двери Царства Небесного для каждого из нас и там ждет всех нас после конца нашей короткой земной жизни. Там наша вечная родина, откуда наша Преблагословенная Небесная Матерь, наша отрада и прибежище, источает Свою материнскую любовь на пути нашей земной жизни. Вечно жить мы будем там, где уж вечно живут наши старшие братья — святые угодники, Божии люди, которые свои небесные благословения ниспосылают нам от лица Божия и ими укрепляют нас на нашем жизненном пути, где обитают все наши предки, умершие с верою.
Святой апостол Павел говорит, что ветхозаветные праведники, жившие на земле среди развратного падшего, порочного мира, сохранили свою веру в Истинного Бога и чистоту своей души тем, что всегда напоминали себе о том, что они — странники и пришельцы на земле, что не здесь наш постоянный град, но в той жизни, к которой мы стремимся душой и которая не знает конца.
И мы все с вами, дорогие дети своего Небесного Отца, дети Сладчайшего Спасителя, совершая свой короткий земной путь, должны всегда себе об этом напоминать.
Перед лицом Господа здесь, на земле, мы только временные гости, как и отцы наши, уже прошедшие свой земной путь и отошедшие со своей верой к Господу, Хозяину Неба и земли.
Путешествующий странник совершает путь по чужой стране, всем сердцем стремится на родину. Он не останавливается на пути больше, чем это нужно для отдыха, потому, что идет вперед, в свою родную страну. И каждый из нас, христиан, совершая свой путь по земле, направляясь в жизнь вечную, не должен сердцем прилепляться ни к чему земному так, чтобы это земное было дороже небесного, ибо все мы должны любить в Боге и ради Бога. Мы должны в течение всей жизни думать о спасении своей грешной души, а в предстоящей разлуке с близкими, родными, любимыми сердцем утешать себя тем, что мы идем туда, где, если того будем достойны, с ними встретимся и будем вместе в не знающей предела жизни у нашего Небесного Отца.
Странник, идущий по чужой земле на свою родину, не смущается тем, что на его пути встречаются бури, ненастья, обрывы, крутизны. Он преодолевает все трудности пути силой своей души, устремленной к той родной земле, куда идет.
Так и истинный христианин все бури и ненастья, какие встречаются в жизни, преодолевает силой своей веры в Господа и в вечную, не знающую конца жизнь. Он переносит и терпит скорби, испытания, лишения в этой земной жизни со смирением и благодушием, всецело покоряясь Промыслу Божию, ведущему нас по земной дороге. Такой христианин знает, что эти скорби, эти бури, встречающиеся ему по пути, скоротечны и преходящи: скорби сменяются радостями, радости — скорбями, как и ясный день сменяется облачным и дождливым. Он знает, что без воли Божией и волос не падает с головы его. Он знает и другое: что мудрость и благость Божия не подадут, не пошлют такого искушения, которое погубило бы нас для вечности, и что любовь к нам найдет надежное средство к тому, чтобы нас поддержать, спасти от падения среди сомнений, страданий, тяжелой борьбы в нашей земной жизни. Все радости, здоровье, благополучие христианин принимает с благодарением к Господу и молится о том, чтобы Господь не лишил его Своей Божественной помощи, когда Он попустит быть бедам и болезням.
Странствующий по чужим краям, идя к своему дому, не приобретает для себя ничего лишнего, чтобы не связывать, не стеснять себя в пути ношей, а если и приобретает, то только то, что ему потребуется дома, и старается послать это вперед себя.
Так и христианин, готовясь к вечной жизни, спешит делами любви, милосердия, сострадания приготовить себе для этой жизни несгораемое, никем не обворовываемое духовное богатство, с которым каждый из нас там, в стране любви, мира, света и вечной радости, будет наслаждаться всеми благами вечной жизни, приготовленными Небесным Хозяином для верного, любящего, преданного Ему раба. Свои излишки, свои достатки христианин отдает через руки нищих, по слову Священного Писания, взаймы самому Господу (Притч. 19,17), посылая вперед себя туда, в страну вечной жизни, то духовное сокровище, которое с ним останется в безконечных веках на его вечной Родине.
Идущий в вечную жизнь подкрепляет и укрепляет себя во время пути мыслью о том, что он с каждым днем все ближе и ближе подходит к пределам своей родной земли. Он не перестает думать о своей вечной Родине, в которую вступит, как только окончится его короткая земная жизнь.
Он говорит самому себе на протяжении всего своего, подчас очень нелегкого земного пути: потерпи, осталось еще немного, и Господь, всегда верный Своему слову, исполнит Свое обещание: Претерпевший до конца спасется (Мф. 10, 22).
Как древние иудеи в плену на берегах Вавилонских плакали о своем Иерусалиме, так и истинный христианин тоскует своим верующим сердцем о Небесном Иерусалиме, стремясь своим духом к тем обителям, какие Господом приготовлены для нас, если мы будем достойны их наследовать.
Всякий странник должен знать путь, по которому идет, должен иметь руководителя, который вел бы его верным путем, чтобы не заблудиться и не удлинить своего пути.
У нас, дорогие мои, есть такой Небесный Руководитель. Им для нас является Сам Господь наш Иисус Христос. Он указывает нам путь к вечному спасению. Он оставил нам Свое Божественное Слово, научающее нас прямому и верному пути в Царство Небесное. Он сказал о Себе: Я — свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни (Ин. 8,12).
Он — наш свет. Слово Божие — это светильник ногам нашим, по слову псалмопевца. Когда человек идет в темноте, он спотыкается, падает, натыкается на препятствия, сбивается с прямой дороги. Так и человек, отдающийся влечению своих страстей и похотей, во всем уступающий своим развращенным наклонностям, сбивается своим сердцем с дороги, которая ведет в Царство Небесное. А кто живет по заповедям Божиим, для кого евангельское Божественное Слово является светочем на пути, тот знает, что идет верным путем к жизни вечной, и никакие препятствия, никакие бури и ураганы на этом пути не столкнут его в пропасть, ибо он видит при этом свете все опасности на своем пути. Хотя, может быть, усталыми и слабыми, но верными ногами он идет по пути в Царство Небесное.
Совершающий долгий путь должен останавливаться время от времени, чтобы не иссяк у него запас телесных сил, должен иметь место и время для отдыха. Для христианина, идущего на свою вечную Родину, есть место и время для такого духовного отдыха, для подкрепления своих слабеющих на этом пути сил.
Местом для этого отдыха служит святой храм. Сюда мы приходим для того, чтобы своей грешной, осуетившейся, заполненной заботами, тревогами, тяготами земной жизни душе найти успокоение, чтобы здесь напитать свою безсмертную душу животворящей пищей — Телом и Кровию Господними, чтобы напоить жаждущее сердце благодатью Святаго Духа, духовным питием слова Божия, подкрепляющего нас и услаждающего наше верующее сердце. А время для такого отдыха учредила, по заповедям Божиим, Святая Церковь. Это — воскресные дни, это — праздничные дни, когда Святая Церковь созывает своих детей под своды храмов, чтобы всем нам вместе переживать события земной жизни Господа и Его Матери, прославлять святых Божиих людей и каждому раскрывать сердце перед всевидящим оком Небесного Отца, изливая в молитве все свои наболевшие думы, чувства, желания, услаждая сердце благодатию святой молитвы.
Все мы идем туда — в Горний Иерусалим, двери в который открыты для каждого из нас. Когда мы туда придем, когда окончится земной путь для каждого из нас, — никто не знает. Не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий (Мф. 25, 13), — говорил Господь о Своем втором пришествии, и эти Его слова приложимы и ко дню отшествия каждого из нас из земного мира. Поэтому любящий Господа своего всю жизнь заботится о том, чтобы сердце хранить в чистоте, а когда оно загрязняется, спешит очистить его от греховной скверны. Тот, кто готовится к вечной жизни, живет заботой о том, чтобы своим смирением, чистотой, милосердием, неосуждением, делами любви к Богу и ближнему быть достойным этой жизни, чтобы перейти туда не со страхом перед осуждением и вечной смертью, но с упованием на ходатайство за нас Сына Божия, с верою в милость Божию, чтобы войти в жизнь будущего века со спокойной душой, а не с горьким сожалением о покидаемом мире, со светлой надеждой на то, что Господь не оттолкнет нас от Себя, примет как детей в Свое Божественное лоно, утешит нас Своим вечным утешением в Царстве Небесном.
Смотрите за собою, — говорит Спаситель, — чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно (Лк. 21, 34).
Христианину страшно уйти туда, в вечную жизнь, бедному духовно, со слабой верой, без добрых дел. Ведь жизнь будущая не похожа на нашу земную жизнь. Там другое содержание жизни, другой круг сожителей, которые будут окружать нас: там нет ничего плотского, чувственного. И если мы придем туда не приготовленными своей душой, мы будем вечно чувствовать себя чужими в том мире.
Вот мы и должны себе напоминать, дорогие мои, о том, что мы — странники и пришельцы, как и отцы наши. И, напоминая, должны готовить свою душу к будущей жизни верою, усердием к молитве, слову Божию, любовью к святому храму.
Пусть каждый из нас, опуская свой духовный взор в глубину своего сердца, спрашивает себя: готово ли мое сердце разрешиться от уз плоти и предстать пред лицом Божиим, готова ли моя душа уйти из этого мира, когда Господь позовет меня к Себе туда, где пребывают Божии люди и святые ангелы?
Счастлив тот, кто смог бы самому себе на этот вопрос ответить словами пророка: Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое (Пс. 56, 8).
Святой пророк был всегда готов к зову Божию, готов к тому часу, когда Господь возьмет его к Себе, в Свое Вечное Царство.
Примите, дорогие мои, от всего моего любящего вас во Христе сердца, горячее молитвенное пожелание, чтобы до конца своих дней мы оставались верными Господу православными христианами и не переставали заботиться о своей грешной душе, не оставляя ее, безсмертную душу, голодающей и жаждущей, питая ее словом Божиим, Святыми Тайнами Христовыми, святой благодатью Божией, ее обильно подает нам Господь в святых храмах.
Любите Божий храм! В нем мы возносимся духом от земли к небу и своей грешной душой соприкасаемся с тем Божественным горним миром, в который вступит каждая православная душа, когда Господь призовет ее к Себе.
Не зная, когда придет этот час, будем готовиться встретить ту священную минуту, когда ангел подойдет к безсмертной душе и разлучит ее с телом. Пусть каждый из нас встретит этот благословенный час с горящим светильником веры в Господа, с сыновней благодарной любовью к Нему и никогда не увядающей на всех путях нашей земной жизни, нас подкрепляющей и воодушевляющей надеждой на то, что Господь помянет нас во Царствии Своем. Аминь.
Листок № 49. Об исправлении сердца
Извнутрь во от сердца человеческа помышления злая исходят, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, татьбы, лихоимства, (обиды), лукавствия, лесть, студодеяния, око лукаво, хула, гордыня, безумство. Вся сия злая извнутрь исходят и сквернят человека.
Мк. 7, 21–23
Сыны падшего (Адама) — зачатые в беззаконии и вышедшие в свет с растленною природою — мы в Святой купели Крещения возрождаемся в святую жизнь и в Таинстве миропомазания получаем силу Святого Духа для святой Жизни. Потому, если никто не может похвалиться непорочностию и безгрешностию, а между тем, без насилия совести не может отказаться от святого долга представить себя Богу святым, то что другое должен возбудить и согреть в сердце, как не воодушевленную решимость к самоисправлению, как не Божественную ревность об очищении сердца своего от всего Богопротивного? Но воспитание в себе всего святого так трудно и многосложно, путь к добру пролегает среди такого множества сокровенных распутий, что приступающему к благому подвигу самоисправления непременно должно начертать предварительно в мысли, что и как исправлять, носить сие начертание постоянно в уме и сердце, чтобы с ним, как с верным путеводителем, безпреткновеннее и надежнее привесть к концу начатое дело.
Итак, первое. Что нам исправлять в себе?!
Почти все, что есть в нас. Грех любит полновластие. Если он в любви у нашего сердца, то уже овладевает им всем и всего человека покрывает своею зловредною силою. Для грешного и человека и человечества надпись одна: от ног даже до главы несть в нем целости (Ис. 1, 6). В этом каждый легко убедится, если проникнет внутрь грешного сердца. Там увидит он коренное семя зла, увидит основные возбуждения греха, равно как и то, в чем он обнаруживается.
Семя всего нравственного зла — самолюбие. Оно лежит на самом дне сердца. Человек по назначению своему должен бы забывать себя в своей жизни и деятельности, должен бы жить только для Бога и людей. Освящая свою деятельность возношением ее как благодарственной жертвы к Богу Спасителю, он должен бы всю ее простирать на пользу ближних и на них же изливать все, что бы ни получил от Щедродавца — Бога. Одно здесь не бывает без другого: нельзя любить Бога, не любя ближних, и нельзя любить ближних, не любя Бога, — равно как, любя Бога и ближних, нельзя не жертвовать собою славе Божией и благу ближних. Но когда человек мыслию, сердцем и желанием отвращается от Бога, а вследствие того и от ближних, то естественно останавливается на одном себе, — себя поставляет средоточием, к которому направляет все, не щадя ни Божественных уставов, ни блага ближних.
Вот корень греха! Вот семя всего нравственного зла! Глубоко кроется оно во внутренности сердца. Но разрастаясь и подаваясь ближе к поверхности сердца, семя сие выходит из него уже в трех видах, как бы в трех ветвях, проникнутых его силою, преисполненных его жизнию: в самовозношении, своекорыстии и любви к наслаждениям. Первое заставляет человека говорить в своем сердце: кто — как я; второе: всем хочу завладеть; третье: хочу жить в свое удовольствие.
Кто — как я! Какая душа не ощущала в себе подобного движения? Не те только, кои от природы одарены высокими совершенствами или своими трудами успели сделать что-нибудь важное и общеполезное, могут мысленно возноситься над другими. Самовозношение проходит по всем возрастам, званиям и состояниям, следит за человеком чрез все умственные и нравственные степени усовершения; оно не подчиняется никаким внешним отношениям, и хотя бы человек жил один, в безвестности и отдалении от всех, он всегда и везде не свободен от искушения — превозношения. С тех пор как он к сердцу принял первую лесть змия: будете яко бози, с тех пор он начал возвышать себя над всеми, начал ставить себя выше той черты, на которой поставлен природою и обществом, — это общая болезнь всех и каждого. Кажется, что опасного полюбоваться мыслию, что я выше того, другого, третьего? А между тем смотрите, сколько зла и сколько темных порождений проистекает из сей незначительной, по-вашему, мысли! Мыслию и сердцем возносящий себя над всеми: если предпринимает что, предпринимает не по гласу разума и совести, не по советам мудрых и внушению слова Божия, а по своим соображениям предпринимает потому, что этого ему хочется, он своеволен; если приводит в исполнение предпринятое — всего ожидает от одного себя: он самоуверен, самонадеян; когда исполнит, все относит к себе и оттого бывает высокомерен, горд, притязателен, неблагодарен; поставляя себя в отношение к другим, желает, чтобы везде и во всем исполнялась его воля, чтобы все двигалось по его мановению: он властолюбив и склонен к насилию; поставляя других в отношение к себе, не может терпеть их влияния, в каком бы скромном виде оно ни являлось: он презрителен и непокорлив; встречая нарушение своей воли — выходит из себя, обиженный — воспламеняется местию; он жаждет чести и славы, когда обладает сильным характером; лицемерен и тщеславен, когда слаб душою; дерзок, своенравен, спесив, склонен к пересудам, когда низок. Вот в каких видах является самовозношение, вот сколько греховных движений одолжены ему своим происхождением! Едва ли кто может не изобличить себя в том или другом.
Хочу, чтобы все было мое, замышляет своекорыстный, — и вот вторая отрасль коренного нравственного зла. Заметнее всего раскрывается в ней дух самолюбия. Оно как бы самолично действует здесь: своекорыстный не скажет слова, не сделает шага и движения без того, чтобы отсюда не вытекла для него какая-нибудь выгода. Так все у него рассчитано, так все упорядочено, всему дан такой ход, что и время, и место, и вещи, и лица — все, к чему прикасается его рука и мысль, несет в его сокровищницу сродную себе дань. Личная польза, интерес — это коренная пружина, везде и всегда приводящая в быстрое движение все его существо, и по ее возбуждении он готов все обратить в средство для своих целей: будет искать высших степеней достоинства и чести, если это выгодно, возьмет самую трудную должность, если она прибыльнее других, решится на все труды, не будет ни есть, ни пить, лишь бы соблюдалась его польза. Он или корыстолюбив, или любостяжателен, или скуп и только под сильным влиянием тщеславия может любить великолепие и пышность. Его собственность дороже ему самого себя, дороже людей и Божественных постановлений. Душа его как бы поглощается вещами и живет даже не собою, а ими. Вот сила и область второй отрасли злого семени — самолюбия! И у кого нет каких-нибудь вещей, с которыми расстаться столь же больно, как потерять самое сердце, — расстаться со счастьем?
Хочу жить в свое удовольствие, говорит порабощенный плоти и живет в свое удовольствие. Душа погрязает у него в теле и чувствах. О Небе, о духовных нуждах, о требованиях совести и долга он не помышляет, не хочет и даже не может помышлять (см. Рим. 8, 7). Он изведал только разные роды наслаждений; с ними только и умеет обходиться, говорить об них и рассуждать. Сколько благ на земле, сколько потребностей в его теле, столько полных удовольствиями областей для преданного чувственности, и для каждой из них образуется в нем особенная наклонность. Отсюда — лакомство, многоядение, изнеженность, щегольство, леность, распутство — наклонности, сила которых равняется силе закона природы, стесняющего свободу. Станет ли он услаждать вкус — делается сластолюбивым; игра цветов научает его щегольству, разнообразие звуков — многословию; потребность питания влечет его к многоядению, потребность самосохранения — к лености, иные потребности — к распутству. Состоя в живой связи с природой чрез тело, душевно преданный телу столькими каналами пьет из нее столько удовольствий, сколько в теле его отправлений, и вместе с наслаждениями он впивает в себя и коренной дух природы — дух механического непроизвольного действования. Потому, чем у кого больше наслаждений, тем теснее круг его свободы, и кто предан всем наслаждениям, тот, можно сказать, совершенно связан узами плоти.
Вот как разрастается в нас зло от малого, почти незаметного, семени. На дне сердца, как мы заметили, лежит семя зла — самолюбие, от него идут полные его силою три отрасли зла — три его видоизменения: самовозношение, своекорыстие, чувственность, а сии три рождают уже безчисленное множество страстей и порочных наклонностей; как в древе главные стволы пускают от себя множество ветвей и отростков, так образуется в нас целое древо зла, которое, укоренившись в сердце, расходится потом по всему нашему существу, выходит вовне и покрывает все, что окружает нас. Подобное древо, можно сказать, есть у каждого, чье сердце хоть сколько-нибудь любит грех, — с тем только различием, что у одного полнее раскрывается одна, а у другого — другая сторона его. Что же за причина, что мы большею частию не замечаем его в себе и нередко держим на мысли вслух, не стыдясь, говорим: что ж такое я сделал? Или: чем я худ? Причина тому очень естественная, и она есть новое порождение живущего в нас греха. Не замечаем потому, что не можем. Этого не позволяет нам грех: он очень хитр и предусмотрителен. Непокровенное древо зла, изображенное нами, с первого раза могло бы встать пред взором ума и оттолкнуть от себя каждого; потому он спешит одеть его листвием, прикрыть его безобразие и прикрывает так, что не только корня и стволов, даже и ветвей не может различить душа, в которой растет сие древо. Эти лиственные прикрытия суть рассеянность и многозаботливость. Рассеянный не любит жить в себе, многозаботливый не имеет свободной минуты. Один не может, а другому некогда замечать то, что происходит внутри. С первым пробуждением от сна душа их тотчас выходит из себя — и у первого уходит в мир мечтаний, у последнего же погружается в море нужных будто дел. Настоящего для них нет, что, собственно, характеризует всю их деятельность. Один охотник живет в самосозданном мире и действительного касается только отчасти, ненамеренно, поверхностно, другой и мыслию, и сердцем весь впереди. Каждое дело он спешит окончить как можно скорее, чтобы приступить к другому; начинает другое и — спешит к третьему; вообще настоящим у него заняты только руки, ноги, язык и прочее, а его дума вся устремлена в будущее. Как же при таком ходе внутренних движений заметить им, что кроется в сердце?
Но грех не довольствуется одним этим лиственным покровом: сквозь него можно еще как-нибудь проникнуть, можно раздвинуть листья его ветром скорбей и внутренних потрясений совести и открыть скрывающееся под ним безобразие греха; потому грех сам из себя создает некоторый непроницаемый покров, наподобие стоячей мутной воды, куда погружает свое древо с листвием. Этот покров слагается из неведения, нечувствия и безпечности. Не знаем своей опасности, потому и не ощущаем ее; не ощущаем, потому и предаемся безпечности. И что бы вы ни предпринимали для вразумления такого грешника, все напрасно. Он глубоко сокрыт во грехе, как в море. Производите сколько можно сильнейшие звуки над водою — кто в воде, ничего не услышит. Поражайте чем вам угодно нерадивого грешника — он не смутится нисколько. Изобразите пред ним его собственное состояние — он скажет: это не я. Представляйте ему крайнюю опасность, от которой он недалеко, — он будет уверять вас, что это не до него касается; возбуждайте его от усыпления — он не устыдится провозгласить: я действую. Так крепок покров, которым закрывает, наконец, себя грех от взоров того, кем обладает!
Вот в общих чертах все, что предлежит нам изменить в себе, вот обширное поприще деятельности в святом подвиге самоисправления! Надобно снять покров с греха — изгнать из души безпечность, нечувствие, самообольщение, рассеянность и многозаботливость; надобно отсечь его ветви — все порочные страсти и наклонности; наконец, ископать его с самым корнем, изгнать самолюбие — самоотвержением. Труд не малый и не легкий! Греховная нечистота, изображенная пред сим, покрывает душу не как пыль, которую можно стряхнуть легким движением воздуха. Нет, она проникла самое существо наше, срослась с ним воедино, стала как бы его частию: потому освобождаться от нее есть то же, что отделять себя от себя; что изымать око, усекать руку. Впрочем, такая трудность не подавлять нас должна, а возбуждать от нерадения. Искренно желающий спасения не смотрит на препятствия; от них он еще бодреннее воспрянет, решительнее приступит и ревностнее начнет спасительное дело самоисправления.
Второе. Как же совершать сие дело? С чего начать, что делать потом, что далее, какой вообще ход внутреннего самоисправления? Сердце человека глубоко, как узнать, что в нем происходит, а тем более, что должно в нем происходить при известных обстоятельствах. Всякий имеет свой характер, у всякого свое настроение, свои страсти, наклонности, привычки. У всякого потому ход внутреннего самоисправления должен быть свой, и одного для всех установить никак невозможно. Самоисправление не есть дело холодных соображений, а живого и ревнивого действования, совершающегося глубоко в сердце. Христианство — тайна не в основании только, но и в приложении. Ход образования его в сердце подобен пути по сокрытому и запутанному подземному ходу. Вступающему на него скажут: вот путь, — и решившийся идти идет уже сам. Кто убо может спасен биты? (Мф. 19, 25) — скажет кто, соображая все трудности самоисправления. Отвечаем ответом Спасителя на подобный вопрос: у человек сие невозможно есть, у Бога же вся возможна (Мф. 19, 26).
Решившийся начать христианскую жизнь чрез Святые Таинства получает благодать Духа — просвещающую, укрепляющую и утешающую. Пребывая неотлучно с ним, она руководит его во все время опасного земного странствования самым премудрым и предусмотрительным образом. И кто может надеяться сам совершить исправление своего сердца? Разве в сем святом деле может кто ожидать успеха от человеческой помощи и человеческого искусства? Послушайте, что говорит Господь: воскроплю на вы воду чисту, и очиститеся от всех нечистот ваших… и очищу вас. И дам вам сердце ново, и дух нов дам вам, и отъиму сердце каменное от плоти вашея и дам вам сердце плотяно, и Дух Мой дам в вас (Иез. 36, 25–26). Все от Господа. Ему и предадим себя — представим себя Его благодатному действию как нечистое и безобразное смешение, да образует из нас, как художник и содетель, добрые сосуды в честь и годные на всякое доброе дело. Со своей стороны мы можем представить Богу только искреннее желание самоуправления и полную готовность повиноваться его мановениям. Что происходит с тем, кого посетит благодать Господня, как она поведет его по пути очищения в состояние чистоты и непорочности — это Спаситель изобразил в притче о блудном сыне.
Первее всего, благодать поучает человека, как разоблачить и снять с него (греха. — Примеч. ред.) покровы: ибо иначе как и приступить к труду, не видя, над чем трудиться? В этом действии спадет с очей ума ослепление, сердцу возвращается чувство и воля пробуждается от усыпительной безпечности. Вместе с тем душа невольно останавливает внимание на себе и сосредоточивается внутрь: скорбь и страх, перенося душу за гроб, к судному престолу, отторгают ее от мира и представляют заботливости ее другой, Высший, вечный предмет. Обнаженное древо греха стоит теперь пред умным взором грешника, во всей безобразной наготе, и уже — не по роду своему — плодородит самоосуждение, покрывает стыдом, жжет судом и угрызениями совести. Луч милосердия Божия в смиренной душе рождает теплоту умиления и изводит токи слез раскаяния — обильные непрестанные слезы с самым корнем вымывают из сердца все древо греха. Так совершается все. Человек стоит теперь на чистой земле непорочности и ревнует о святом благочестии.
Коротко и легко дело самоисправления в описании; но не так коротко, а тем менее легко бывает оно на самом деле. Многообразны нужды наши, многообразны и попечительные действия в нас благодати: одного приемлет она прямо в блаженный покой, изводит на пажить духа, пасет и услаждает; другого долгими обходами испытывает и после многообразных уже странствований проводит туда, как утружденного и изможденного путника. Стропотно ходит с ним в первых, боязнь же и страх наведет нань. И помучит его в наказании своем… и искусит его в оправданиях своих, и паки возвратится прямо к нему и возвеселит его и откроет ему тайны своя (Сир. 4, 18–19, 22).
Поспешим же в сей благодатный покой, в место веселия духовного, в самые тайники Божественного действования и освящения. Трудно! Но что же бывает без труда? С тех пор как проклята для человека земля в делах своих, человек в поте лица достает себе благо телесное, тем более духовное. Зато сколько бывает, наконец, утешений в приобретении. Жена егда рождает, скорбь имать (Ин. 16, 21), но за радость рожденного дитяти забывает все прежние скорби. Недостойны страсти нынешнего времене к хотящей славе явитися в нас (Рим. 8, 18) — явиться и здесь в духе, и там во всем нашем существе. И что еще особенно может служить нам в утешение? То, что труд самоисправления не столько тягостен на деле, как нам кажется с первого раза. Он представляется необъятным только со стороны, только дотоле, пока мы не вступили в него. И здесь, как в обыкновенных делах, все зависит от воодушевления, с каким кто приступает к делу. Спросите у всякого нелицемерно деятельного человека, спросите его о тяжести трудов: он тоже скажет вам, что труды его могут исчислять и взвешивать только другие, а для него их нет, он не замечает их. Воодушевление, приводя в быстрое движение все его силы, поглощает все безпокойства, возносит его над всеми препятствиями, и среди неудобств он идет, как по гладкому и пространному пути. То же в деле спасения; тесен путь к Царствию, тяжким представляется иго Христово: но только до тех пор, пока мы стоим еще вне, соображаем, обдумываем ход новой жизни. Но когда зародится и образуется в сердце спасительная решимость, она приносит с собою и воодушевление на благое делание. Воодушевленный последователь Христов идет в след Его, радуясь и благословляя иго, воспринятое от Него. Со стороны будут видеть его в труде, в язве и озлоблении, а он, как пред Сердцеведцем, вслух всем исповедует, что он и все подобные ему живут, яко незнаеми, и познаваеми… яко скорбяще, присно же радующеся: яко ничтоже имуще, а вся содержаще (2 Кор. 6, 9–10). Спросите, где взять такое воодушевление? Будем молиться, и молитва веры низведет сей Божественный огнь. Будем молиться о воодушевлении, о решимости и возбуждении от греховного сна. Ныне бо ближайшее нам спасение… Нощь (убо) прейде, а день приближися (Рим. 13, 11, 12); Бог, рекий из тьмы свету возсияти, иже возсия в сердцах наших, к просвещению разума славы Божия о Лице Иисус Христове (2 Кор. 4, 6); Бог же упования да исполнит вас всякия радости и мира в вере, избыточествовати вам во уповании, силою Духа Святаго (Рим. 15, 13).
Листок № 111. Притча о милосердном самарянине
Будьте убо милосерды,
якоже и Отец ваш милосерд есть.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Дорогие мои, други наши! Ныне чаще, чем когда-либо за все время жизни моей, а это немало лет, приходится слышать вопрос:
«Как жить, чтобы не погибнуть?» «Как жить, чтобы спастись?» — спрашивают верующие. «Как жить?» — спрашивают и те, чьи понятия о жизни не простираются дальше завтрашнего дня.
Этот вопрос задают и молодые, только начинающие жить, и пожилые, уже завершающие свой жизненный путь, в конце которого они сделали страшное открытие, что жизнь уже прожита, но не в радость созидания, и все труды, все усилия вложены во все пожирающую разруху и гибель.
Да, вопрос «как жить?» совсем не праздный.
И как созвучны эти вопрошения современников наших с вопросом, который некогда был задан Начальнику Жизни — Христу — Его современником, и не просто современником, а хранителем закона, данного Богом.
Он спросил: Учитель! что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? (Лк. 10, 25).
И словеса Господня — словеса чиста звучат в ответ законнику, а с ним и нам, открывая единственно правильный путь решения всех вопросов, недоразумений и недоумений. Всегда надо нам обращаться к слову Божию, говорит Господь.
… в законе что писано есть; како чтеши? (Лк. 10,26).
Закон Божий! Он дан на все времена всему человечеству. Он дан в Божественном Писании, он дан в законе совести каждого живущего, он дан в законах Богозданной природы. И мы с вами сегодня не отвергнемся того, что знаем этот великий закон Господень, закон, в котором кроется земное счастье наше и которым простираемся мы в вечность блаженного пребывания с Господом и со всеми Его святыми.
Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею, и всем разумением твоим… возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и Пророки (Мф. 22, 37, 39–40).
Да, да, мы знаем этот закон и требования его, мы знаем и как исполнить его жизнью своей, ибо кто из нас не знает, что для нас хорошо и желательно, а что плохо, чего мы всеми возможными средствами должны стремиться избежать.
Господом дана заповедь: не делай другому того, чего не желаешь себе. Эта заповедь тоже всегда с нами, всегда при нас, как неусыпный и безпристрастный страж, она выявляет, она обличает одновременно и наше знание, и наше лукавство.
И если законника евангельского Господь заставляет признать, что тому известно все необходимое для спасения, то и мы не оправдаемся наивным вопросом, будто бы не знали пути спасения до сегодняшнего дня.
Божий закон — один, и две заповеди остаются непреложными на все времена, пока стоит мир. Это два якоря жизни.
«Люби Бога всем сердцем, всей душой… Люби ближнего, как самого себя». О любви к Богу мы не ставим вопрос, ибо это кажется нам, верующим, само собой разумеющимся.
Но вот ближний?
Кто же мой ближний?
И уже не законник вопрошает ныне Христа и обличается Господом, а мы с вами, дорогие наши, становясь совопросниками века сего, но не исполнителями ясного и жизненного слова Божия.
Это мы прикрываем вопросами свое малодушие, свою духовную леность, свое нежелание трудиться, свое нежелание любить. Мы забываем, что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут… (Рим. 2,13).
Мы с вами, пожалуй, даже не задали бы Господу вопрос: «Кто же ближний наш?» Ибо теперь почти повсеместно и откровенно все для нас стали дальними.
Даже кровные родные, даже родители и те отстранены непомерно разросшимся нашим «Я».
«Я» и «мое» — вот наш новый жизненный закон. По нему и самые близкие, те, кто вложил в нас свою жизнь, израненные многими тяготами трудов, болезнями и скорбями, израненные нами же, напрасно будут ждать от нас помощи.
И вчерашние друзья сегодня уже перестанут быть ближними нашими, впав в беду, потеряв возможность быть нам полезными на празднике жизни, в погоне за счастьем.
Тут мы даем полную свободу оценке всего и всех. Так незаметно никого близкого не оказывается рядом с нами, не находим мы того, кто был бы достоин нашей любви:
— один — грешник и недостоин любви;
— другой — иноверный или инакомыслящий;
— третий — сам ископал себе яму, в которую впал, значит, достоин наказания.
Широка и глубока заповедь Божия, а мы, став на путь высокомерного суждения, вместив в себя одновременно чувствования и священника, и левита, прошедших мимо бедствующего человека, тоже проходим мимо всякого, кто оказывается рядом, кто нуждается в нашем внимании, кто просит нашей помощи, уже не говоря о тех, кто просто безмолвно страдает рядом.
И вот мы уже не исполнители закона, а судьи. И вопрос «как спастись?» звучит праздно, попранный отвержением Богом данной заповеди о любви к ближнему.
У нас нет ближнего.
И услышим ли мы с вами сегодняшнюю притчу — назидание о милосердном самарянине, у которого закон любви был написан в сердце, для которого ближним оказался не ближний по духу, не ближний по крови, но тот, кто случайно встретился на его жизненном пути, кто именно в ту минуту нуждался в его помощи и любви?
Услышим ли мы определение Господне для законника, для нас, знающих закон: Иди, и ты твори такожде (Лк. 10, 37).
Забудь себя и свое «Я», поставь в средоточие жизни своей того человека, которому нужна твоя помощь, материальная ли, духовная ли. Поставь в средоточие жизни того, кому нужен ближний, и стань им ты.
Вот, дорогие наши, мера нашего духовного возраста, где кроется ответ на вопрос о спасении.
Иди, и ты твори такожде.
Иди и ты поступай, как учит Господь.
Иди и ты твори добро всякому нуждающемуся в нем, невзирая ни на происхождение человека, ни на общественное положение его, невзирая ни на что.
Иди и твори добро, и ты исполнишь заповедь любви.
Делай добро… делай добро от сердца, делай его во имя Бога всем братьям твоим в Боге, делай добро и врагам, делай добро ненавидящим и обидящим тебя, и ты исполнишь заповедь любви. И любовь к ближним сделает тебя близким к Богу, и ты исполнишь закон Христов и спасешься.
Но вот теперь, когда опьянение нахлынувшей на нас так называемой духовной свободой проходит, рассеивается туман самообмана и обольщения, и видим мы, что церкви открылись или еще во множестве открываются, монастыри принимают только вчера крестившуюся молодежь и из мест заключения пишут письма, желая тюремную камеру или барак заменить на монастырскую келью, то именно теперь становится очевидным, что творить дела любви, исполняющие закон Христов, не так-то просто.
Да, этому надо учиться, этого надо хотеть. Надо только в делах любви к ближнему увидеть и почувствовать возможность преображения души своей, возможность спасения.
Притча о Добром самаритянине
Но ничего этого нет.
Этого пока нет, и главное, что и стремления к этому не видно.
И не задумаемся ли мы с вами над совершенно новыми явлениями в жизни нашей?
Сегодня, когда поток неведомых ранее соблазнов захлестнул Россию, когда блуд, насилие, сребролюбие, пьянство, наркомания стали явными и уже привычными пороками, а тяга к святыне и кощунство над ней одновременно борют и владеют человеком, вопрос о милосердии, о любви вырастает в первостепеннейший, главнейший вопрос жизни. Ибо только милосердием и любовью можно стяжать Святой Дух Божий, Которым только и можно противостать страшным духам злобы, овладевшим людьми и миром.
И не случайно, дорогие мои, в это страшное апокалиптическое время последнего срока существования мира милость Божия опять протягивает руку погибающему человеку.
На улицах, среди живущих рядом с нами, все более и более появляется людей, просящих милости нашей.
И пожилые люди, которыми всегда держалась Церковь, теперь опять вышли на улицы, чтобы принести Церкви пользу — вернуть ей погибающих, давая людям возможность проявить в себе дух христианского милосердия, чтобы отпавших от Бога грехом вернуть к Нему милосердием. И те, кто просит сейчас помощи нашей, виновато и испуганно глядя на нас, зарабатывают нам своим нелегким нищенским трудом Царство Небесное.
Так не пройдем же мимо протянутых к нам рук, мимо страждущих, болью и горем исполненных глаз, мимо ближнего нашего. Не пройдем, дорогие мои, мимо своего спасения; не пройдем мимо Самого Христа, Который в образе каждого нуждающегося в нашей помощи призывает нас на вечерю Любви.
При дверех нелицеприятный Суд Божий и благостная речь Сына Человеческого — Христа — к одним: приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам… ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне (Мф. 25, 34–36).
Но и грозный, решительный приговор не замедлит для других: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его… (Мф. 25, 41).
Спасайтесь, други наши, спасайтесь!
Спасайтесь делом, проходя нелегкий, особенно ныне, для всех путь жизни во спасение.
Ты Сам, Милосердый Господи, вдохни в нас чувство Своей любви и удостой вечных радостей в стране живых. Аминь.
16 (29) ноября 1992 года
Листок № 174. О семи горячностях духа и семи духах нечистых
О семи горячностях духа
Горе человека в том, что он постоянно торопится, но торопится суетно, безплодно. Человек переворачивает горы своей энергией, воздвигает и разрушает целые города в очень короткие сроки. Но, если мы вглядимся в его энергию и посмотрим на ее последствия, мы увидим, что она не увеличивает добра в мире. А что не увеличивает добра, то безплодно. Даже уничтожение зла безплодно, если это уничтожение не есть проявление добра и не несет плодов добра.
Жизнь людей стала в мире очень торопливой и становится все более торопливой: все бегут, все боятся куда-то опоздать, кого-то не застать, что-то пропустить, чего-то не сделать. Несутся машины по воздуху, воде и земле, но не несут счастья человечеству; наоборот, разрушают еще оставшееся на земле благополучие.
Вошла в мир дьявольская торопливость, поспешность. Тайну этой поспешности и торопливости открывает нам Слово Божие в 12-й главе Апокалипсиса: И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братий наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его Кровию Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, веселитесь небеса и обитающие на них! Горе живущим на земле и на море! потому что к вам сошел диавол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени (Откр. 12, 10–12).
Вы слышите: на землю и на море диавол сошел в великой ярости, зная, что не много ему остается времени. Вот, откуда это неудержимое, все ускоряющееся круговращение вещей и даже понятий в мире, вот откуда всеобщая торопливость и в технике и в жизни, — все более безудержный бег людей и народов.
Царству сатаны скоро наступит конец. Вот причина веселья неба и тех людей на земле, которые живут небесным. Обреченное, предчувствующее свою гибель, зло мечется в мире, будоражит человечество, раздувает себя до последних пределов и заставляет людей, не положивших на свое чело и сердце крестной печати Агнца Божия, безудержно все стремиться вперед и ускорять свой бег жизни. Зло знает, что лишь в таком безсмысленном коловращении людей и народов оно может рассчитывать присоединить к своей гибели еще часть человечества. Затормошенные, куда-то несущиеся люди мало способны думать и рассуждать об истинах великих и вечных, для постижения которых нужна хотя бы минута божественного молчания в сердце, хотя бы мгновение святой тишины.
Техника уже давно увеличивает скорость передвижения людей и их добывания земных ценностей. Казалось бы, больше времени должно остаться у людей на жизнь духа. Однако нет. Душе труднее и тяжелее стало жить. Материальность мира, быстро крутясь, втягивает в себя и душу человека. И душа гибнет, ей нет времени уже ни для чего возвышенного в мире, — все вертится, все кружится и ускоряет свой бег. Какая ужасная призрачность дел. И, однако, она крепко держит человека и народы в своей власти. Вместо духовного устремления миром уже владеет психоз плотской быстроты, плотских успехов. Вместо усиления святой горячности духа происходит все большее горячение плоти мира. Создается мираж дел, ибо к делам призван человек и не может быть спокоен без дела. Но дела плоти не успокаивают человека, так как не человек ими владеет, а они им. Человек — раб дел плотских. Строит на песке. Построение на песке разрушается. От земного дома человеческого остается куча пыли. Вместо многих гордых строений осталась куча песка. И из этого песка опять строит человек себе мир. Песок осыпается, и человек трудится, подбирая его… Бедный человек! Все закованы в цепи малых, ничего не дающих дел, которые надо выполнить возможно скорее для того, чтобы можно было как можно скорее начать ряд других, столь же ничтожных дел.
Где же взять время на добро? Даже подумать о нем нет времени. Все заполнено в жизни. Добро стоит, как странник, которому нет места ни в служебной комнате, ни на заводе, ни на улице, ни в доме человека, ни — тем более — в местах развлечений его. Добру негде приклонить голову. Как же торопиться его делать, когда его нельзя даже на пять минут пригласить к себе, — не только в комнату, но даже в мысль, в чувство, в желание. Некогда! И как добро этого не понимает и пытается стучаться в совесть и немного мучить ее. Дела, дела, заботы, необходимость, неотложность, сознание важности всего совершаемого… Бедный человек! А где же твое добро, где же твой лик? Где ты сам? Где ты прячешься за крутящимися колесами и винтами жизни? Все же скажу тебе: торопись делать добро, пока ты живешь в теле.
Ходи в свете, пока ты живешь в теле. Ходи в свете, пока есть свет. Придет ночь, когда уже не сможешь делать добра, если бы и захотел.
Но, конечно, если ты на земле, этом преддверии как рая, так и ада, не захотел делать добра и даже думать о добре, вряд ли ты захочешь делать его тогда, когда окажешься среди ночи, за дверью этого существования, вытолкнутый из рассеявшей и развеявшей твою душу суеты земной жизни в холодную и темную ночь небытия. Оттого торопись делать добро! Начни сперва думать о том, чтобы его делать; а потом подумай, как его делать, а потом начни его делать. Торопись думать, торопись делать. Время коротко. Сей вечное во временном. Введи это дело, как самое важное дело, в твою жизнь. Сделай это, пока не поздно. Как ужасно будет опоздать в делании добра. С пустыми руками и с холодным сердцем отойти в иной мир и предстать на Суд Творца.
Кто не поторопится сделать добро, тот его не сделает. Добро требует горячности. Теплохладным диавол не даст сделать добра. Он их свяжет по рукам и ногам прежде, нежели они подумают о добре. Добро могут делать только пламенные, горячие. Быть добрым может только в нашем мире молниеносно добрый человек. И чем дальше идет жизнь, тем больше молниеносности нужно человеку для добра. Молниеносность — это выражение духовной силы, это — мужество святой веры, это — действие добра, это — настоящая человечность!
Поспешности суеты и зла противопоставим быстроту, горячность движения в осуществлении добра. Господи, благослови и укрепи! Быстрота раскаяния после какого бы то ни было греха — вот первая горячность, которую принесем Богу. Быстрота прощения согрешившего перед нами брата — вот вторая горячность, которую принесем. Быстрота отклика на всякую просьбу, исполнение которой возможно для нас и полезно для просящего, — третья горячность. Быстрота отдачи ближним всего, что может вывести из беды, — четвертая горячность духа, Богу верного. Пятая горячность — умение быстро заметить, что кому надо, и вещественно и духовно, и умение послужить хоть малым каждому человеку; умение молиться за каждого человека.
Шестая горячность — умение и быстрая решимость противопоставить всякому выражению зла — добро, всякой тьме — свет Христов, всякой лжи — Истину. И седьмая горячность веры, любви и надежды нашей — это уменье мгновенно вознести сердце и все естество свое к Богу, предаваясь в Его волю, благодаря и славословя Его за все.
Семь нечистых духов
Хорошо известна и обширно применяется притча Спасителя о нечистом духе, вышедшем из человека. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит; тогда говорит: возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И пришед, находит его незанятым, выметенным и убранным; тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и вошедший живут там; и бывает для человека того последнее хуже первого (Мф. 12,43–45). Добавление Господа Иисуса Христа: Так будет и с этим злым родом — ясно показывает, что содержание притчи раскрывает, прежде всего, социально-историческую судьбу «рода лукавого и прелюбодейного», который «ищет знамения», ибо притча рассказывается Спасителем с намеком на этот «род».
Но мысль подвижников благочестия обычно останавливается на аскетической экзегетике притчи, и это очень понятно, так как она поучительна, серьезна и душеспасительна. Но исчерпана ли?
Нечистые духи в аскетическом понимании соединяются нередко с различными родами страстей.
Таким образом, вышедший из человека нечистый дух есть вместе с тем некая побежденная страсть. Дальнейший смысл, кажется, в основном понятен. Когда душа, по изгнании страсти, не умеет наполнить себя святым положительным содержанием, — нечистые духи помогают внедрить в нее гораздо более обильную, насыщенную и интенсивно работающую страстность — семь злейших нечистых духов.
Но почему семь? Случайно ли? А если нет? А если нет, — то есть, если цифра семь имеет не просто символический смысл, означающий полноту, но и вполне реалистическое содержание, из сего следует, что семь страстей, которые нечистые духи вызывают к действию в душе человека, — всегда постоянны, одни и те же (конечно, речь идет только о тех случаях, когда греховные страстные движения, — вполне конкретные, как, например, пьянство и блуд, — из души изгоняются, а начать доброе делание она не озабочивается).
Наблюдение за подобными ситуациями, а у человека внимательного они всегда найдутся под рукой, а также логика духовно-нравственной жизни человека доказывают одинаковость действия греха в подобных случаях.
Что бы нужно было сделать человеку, сумевшему победить греховную привычку? Для начала поставить ум свой на страже сердца, чтобы он рассматривал, по крайней мере, самые грубые греховные помыслы и, как сторож, пусть даже и не очень хороший, старался бы не пропускать самые несомненно враждебные.
А когда этого нет… Посмотрим, что может получиться…
Итак, грех побежден! Ура! Склонность, положим, к пьянству изгнана из моего сердца. И я торжествую. Увы, недолго. Я не успел дать место Духу Святому в моем вычищенном сердце. И это так понятно! Я так старался сам, так сильно и умиленно просил помощи Божией; так сердечно и долго пытались помочь мне мои близкие — всячески и прежде всего — соединенной своей молитвой. И теперь я спокойно и безмятежно отдыхаю. Но тут-то нечистый дух пьянства, поскитавшись по безводным местам, ища покоя и не обретя, тихонечко возвращается — и, видя горницу души пустой, идет за известной ему семеркой товарищей, которые помогут ему — по опыту знает — вновь вселиться в эту чистенькую и такую лакомую, такую желанную душу. Дело облегчается тем, что, как он видит — сторожа нет.
Первым в дело идет нечистый дух гордости, который в зависимости от характера и настроения чистенького «пациента», раскрывается одним из трех лиц: самодовольство («какой я все же молодец, что сумел сам победить свой грех»), самонадеянность («оказывается, это не так уж трудно; и у меня вполне достаточно сил, чтобы справиться с этим»), самоуверенность («да и вообще эта мерзость не посмеет больше ко мне приблизиться, зная, что я опытный борец с нею и победитель»). И при моей неопытности в духовно-нравственной жизни он, соблазняя меня тремя своими лицами в любом сочетании и последовательности, — проникнет и прочно обосновывается в бедной моей душе.
И не просто обосновывается; он дает проход своему товарищу, другому нечистому духу, духу лености. И действительно — что такое? — все прекрасно и навсегда: дух пьянства не возвращается, другие безобразные духи тоже недвижны по отношению ко мне (а дух самодовольства, самоуверенности, самонадеянности проник ласково и незаметно) — можно и отдохнуть. Прежде в моей жизни было много греха, но много и напряженной борьбы; я устал от этой напряженности; и совесть спокойна; да и что теперь, собственно, нужно делать? — труд духовный, кажется, ничего, можно и немного погодя. А пока — отдохнем… отдохнем… отдохнем… Я вполне заслужил отдых своей прежней напряженной работой. И дух лености распространяется неторопливо, но властно.
И вот я, нравственный богатырь, свален и опутан сладкой паутиной духа лености, нежелания напряженности. А сей властитель уступает местечко и следующему своему товарищу, закрепляющему успех. Совесть, порою попискивая, подает сигналы, что все же что-то пора начать и делать. Но леность не дает прохода единственно существенно нужному доброму духу внутреннего делания, зато легко пропускает хитрого и нечистого духа делания внешнего. Всякое внешнее делание имеет обычно то свойство, что им, как правило, душа удовлетворяется. Это опасно и всегда, но особенно опасно тогда, когда внешний, безжизненный характер (или наоборот — слишком чувственный) приобретает делание по самому существу своему; наиболее внутреннее — молитва. Ехидно вползший третий дух нечистый или совсем аннулирует молитву, или делает ее безсильной. Я лишаюсь одного из главных оружий.
Чувство удовлетворенности, как присущее внешнему деланию, гонит прочь остатки покаяния (если только они еще сохранились в моей душе), но зато пропускает торжественно и пышно появляющегося четвертого нечистого духа — нераскаянности, нежелания каяться. Он безстрашно проходит в сопровождении хороших помощников: самооправдания и невнимательности к себе. Многочисленные вседневные погрешности, видя свободу проникновения, безпрепятственно проникали в душу и, оставаясь нераскаянными, производили свое разъедающее действие. Для более крупных погрешностей тут же находились извинительные причины. Шло обширное «непщевание вины о гресех». Даже бывая в церкви на исповеди (в основном на «общей»), я по существу оставался нераскаянным. Так я лишился и другого главного оружия.
Нераскаянность уже и сама по себе может привлечь из «безводных мест» любых нечистых духов; но они — многоопытные — знают, как действовать, где удобнее всего нанести самый больной удар. Его наносит следующий нечистый дух — дух неблагодарности; ему к тому же естественно занять свое срединное место там, где уже обжились самодовольство, лень, безмолитвенность, нераскаянность. Дух сей — очень коварный, лживый и злобный. Тот, кем он овладеет, становится в большой степени чужд действию Святого Духа и не слышит Его внушений. Дух нечистый вселяется в меня, и я качусь в пропасть. Я, неблагодарный, ничего доброго не способен видеть ни в действиях Божиих, ни в действиях людей, жалостливо спешащих мне на помощь, а все приписываю себе.
Тогда-то, вслед за неблагодарностью, скачет шестой нечистый дух. Он приносит с собой равнодушие ко всем людям. Он приносит с собой замкнутость на себе. И мне все люди небезразличны уже лишь по тому, какие они со всех сторон несут мне обиды (обиды, конечно, мнимые, но для меня-то они действительны). Растет озлобленность и недовольство. Между тем сам я в своей ослепленности и равнодушии раздаю обиды направо и налево, но, не видя людей, — не вижу и наносимые мною обиды. В моей окрестности по естественному порядку вещей смыкается круг одиночества. Наиболее разрушительно мое отношение к тем, кто стремится меня спасти…
Сей нечистый дух хорошо поработал. Вокруг меня одни обломки: обломки моей души; обломки прежних добрых отношений. Еще я по укоренившейся привычке во всех моих бедах вижу вину тех, кто суть и были окрест меня, в себе же наблюдаю одно добросердечие, но уже все более и более неладно становится на душе, и от этой неладности возрастает смутность, и самое главное — не весть, как освободиться. И тогда-то вползает и распространяется, как кисель, по всему пространству души седьмой страшнейший дух нечистый — дух уныния. О его действии можно написать диссертацию, но — печальную. Посему лучше здесь поставить точку.
Тем более — самая пора начать запить. Семь нечистых духов сделали все для того, чтобы духу — простенькому, очевидному духу, например, пьянства — вольготно жилось в опустошенной разрушенной храмине души.
Конечно, это — схема, и схема в реальности, по милости Божией, далеко не всегда доходящая до полного разрушительного предела. И вообще, жизнь представляет такие варианты развития безспорнейших, кажется, схем, что только ахнешь, и ахать часто приходится. К тому же за пределами рассмотрения схемы остается аскетический вопрос — как противостать нечистым духам. Вместе с тем нравственно-психологический опыт рассмотрения такого механизма страстей может оказаться небезполезным для тех, кто порою в недоумении, ничего не понимая, останавливается перед фактом развития страстной природы души человека, «незанятой, выметенной и убранной».
Дай нам всем Господь духа осторожности, внимательности и разумения.
Листок № 258. Что внутрь нас деется?
Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо так поступая, и себя спасешь и слушающих тебя.
1 Тим. 4, 16
Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство Небезное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие.
Мф. 7, 21–23
Желающий исправить себя должен познать себя; желающий познать себя должен испытать себя; а желающему испытать надлежит войти внутрь себя, подвергнуть рассмотрению все, бывающее там, чтобы через то навыкнуть различать в себе все доброе и худое и, соответственно тому, действовать на себя. Смежи всяк внешние чувства свои, обрати око внимания внутрь и смотри — что там.
На первый взгляд вы ничего там не увидите, не потому, чтобы там не было ничего, но потому, что там слишком много всего, и все сбито и бродит в безпорядочном смятении. Вы будете испытывать то же, что испытывают, когда бывает густой туман. Туман, как стеною, отграждает от нас все предметы и сокрывает их в себе; так точно и тот, кто в первый раз обращается внутрь себя, видит, что как мрачным покровом закрыто все его внутреннее. В этом можете удостовериться теперь же. Но не прекращайте труда самоуглубления, потерпите немного, и вы скоро начнете различать мало-помалу происходящее внутрь вас, подобно тому, как вошедший снаружи в слабо освещенную комнату, постояв немного, начинает один за другим различать находящиеся в ней предметы.
Усугубьте же внимание и смотрите: вот предмет, который вас занимал, отошел; его место заступил другой, этот тотчас замещен третьим; не успел этот показаться, как его теснит четвертый, гонимый в свою очередь пятым, и так далее. Одно помышление спешно заменяется другим, и это так быстро, что почти нет возможности дать себе отчет в том, что прошло через нашу голову. Эта подвижность помышлений не оставляет нас не только в промежутках занятий, например, при переходах с одного места на другое, но и во время их, как бы важны они ни были: и во время молитвы в храме или дома, во время чтения и даже углубленного размышления. Обычно называют это думанием; в существе же дела это есть расхищение ума, или рассеянность и отсутствие сосредоточенного внимания, столь нужного в деле управления самим собою. Вот это и поставлено первою чертою нашего внутреннего человека.
Противоположное тому состояние у святых есть внимание ума, по коему ничто самовольно не входит в голову и не выходит из нее, а все подчинено свободе и сознанию, в коем обычно пребывает один Бог и лицо Его — созерцающее. Между этими противоположностями стоят разные степени душ, трудящихся в борьбе с помыслами и ревнующих об умиротворении их.
Присмотритесь еще внимательнее, и вы различите в себе, под этим смятением помышлений в уме, в воле постоянную заботу об устроении своего быта, которая непрестанно точит душу, как червь, гонит человека-труженика от одного дела к другому, устремляя его все вперед и вперед, по недовольству ничем обладаемым, и, при производстве одного, всегда представляя сотни других дел, будто бы неизбежных. С первого пробуждения нашего от сна осаждает душу забота и не дает нам ни посидеть на месте, ни поговорить с кем-либо как должно, ни даже поесть спокойно, пока не свалит нас, утомленных, глубокая ночь на отдых, в свою очередь возмущаемый заботливыми сновидениями. Эта болезнь именуется многозаботливостию, которая снедает душу, словно ржа железо. Ее и поставьте второю чертою того, что происходит внутри нас. Противоположное сему свойство святых есть безпечалие, которое, впрочем, не есть беззаботность, а смиренный труд, правильный, состоящий в предании себя и своей участи всепромыслительному попечению Божию. Средину между ними составляет борьба самопромышления со смиренным преданием себя Промышлению Божию, при посильном и своем труде.
Смотрите еще глубже, и вы должны увидеть внутри пленника, связанного по рукам и по ногам, против воли влекомого туда и сюда, в самопрельщении, однако ж, мечтающего о себе, что он наслаждается полною свободою. Узы этого пленника составляют пристрастия к разным лицам и вещам, окружающим его, от которых больно нам отстать самим и болезненно расстаться, когда другие отнимают их у нас. Как рыба, попавшаяся на удочку, хоть и плавает, но никак не дальше, сколько позволит то нить, к которой прикреплена удочка, или как птица в клетке хоть летает и ходит, но никак не дальше пределов клетки; так и пристрастия оставляют еще душе свободу действовать, как хочет, пока она не касается предметов их; а коснись дело до этих предметов, душа никак не совладеет с собою. И чем больше пристрастий, тем меньше круг свободы.
А бывает и так, что иной всем связан и не в силах сделать движения в одну сторону без того, чтобы не причинить себе боли с другой. Подобно тому, как идущий где-либо в лесу и запутавшийся там и руками, и ногами, и платьем в прилипчивую траву, каким бы членом ни двинул, чувствует себя связанным; таким точь-в-точь чувствует себя и пристрастный ко многому тварному. Это поставьте третьею чертою нашего внутреннего состояния — пристрастность. Противоположное ему свойство святых есть отрешенность от всего, свобода сердца, внутренняя независимость. Средину между ними составляет работа над освобождением сердца от пристрастий.
Расхищение ума, многозаботливость и пристрастность — это еще не вся доля наша. Хоть они качествуют внутри, но все еще витают как бы на поверхности сердца. Приникнем же глубже вниманием к этому сердцу и прислушаемся к тому, что там.
Упреждаю ваше соображение сравнением. Путник в горах — видит пещеру, вход в которую прикрыт разросшеюся травою, внутри мрак. Приложив ухо, он слышит там шипение змей, рычание и скрежет зубов диких зверей: это образ вашего сердца. Случалось ли вам когда наблюдать за движениями его? Попробуйте сделать это, хотя в продолжение небольшого времени, и смотрите, что там делается: получили неприятность — рассердились; встретили неудачу — опечалились; враг попался — загорелись местью; увидели равного себе, который занял высшее место, — начинаете завидовать; подумали о своих совершенствах — заболели гордостию и презорством (презрение к ближним, надменность). А тут человекоугодие, тщеславие, похоть, сластолюбие, леность, ненависть и прочее — одно за другим поражают сердца, и это только в продолжение нескольких минут. Все это исходит из сердца и в сердце же возвращается.
Справедливо один из подвижников, внимательных к себе, созерцал сердце человеческое полным змей ядовитых, то есть страстей. Когда загорается какая-либо страсть — это то же, как бы змей выходил из сердца и, обращаясь на него, уязвлял его своим жалом. И когда выникает змей — больно, и когда жалит — больно… Ужаливая, питается он кровью сердца и тучнеет; тучнея, делается более ядовитым и злым и еще более тиранит сердце, в котором живет. Так бывает не с одною страстью, но со всеми; а они никогда не живут поодиночке, а всегда все в совокупности, одна другую заслоняя, но не истребляя.
Таково сердце человека, греху работающего, кто бы он ни был. В противоположность этому, сердце святых свободно от страстей или украшается безстрастием. В средине стоят борющиеся со страстьми и похотьми под знаменем подвигоположника Господа в Его всеоружии.
Вот чему возможно в каждом из нас делаться. По этому описанию можем определить, что именно во мне и в тебе есть, и что потому мы есмы, и чего можем чаять. Горе рассеянным, многозаботливым, привязанным к чувственному и терзаемым страстями! Блаженны, напротив того, души, внимательные к себе, успокаивающиеся в Боге, отрешившиеся от всего и сердце свое очистившие от страстей!
Благословенны и труды тех, которые, оставя пагубы (гибель) первых, стремятся востечь к блаженству вторых!
Феофан Затворник, святитель.
Внутренняя жизнь
Грозен суд Божий на всех лицемеров-лжеучителей. Но и тот, кто хотя право верует, но нерадиво живет, не избегнет той же участи. Иудеи все полагали в догматах и о жизни нимало не заботились. Посему и святой апостол Павел обличает их: Вот ты называешься Иудеем, и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом (Рим. 2, 17), но пользы для тебя в том нет никакой, когда не видно того из жизни и дел твоих. Послушай, что говорит Господь подобным тебе: Не всяк, глаголяй Ми: Господи, Господи, не всякий, кто признает Меня только на словах своим Господом и Учителем, внидет в Царствие Небесное, но творяй — только тот, кто всегда и во всем, по мере сил своих и при помощи благодати Моей, творит волю — святые заповеди Отца Моего, Иже есть на небесех.
Спаситель не сказал: творяй волю Мою, потому что на первый раз такая мысль была слишком высока для их слабости. Притом же воля Сына не различна от воли Отца. Итак, одна вера, без добрых дел, не может спасти человека. Это говорит Сам Господь наш Иисус Христос, и притом говорит о такой крепкой вере, которая может даже творить чудеса, ибо послушайте, что предрекает Он дальше: Мнози рекут Мне во он день — в тот, всеми ожидаемый день Страшного Суда Моего: Господи, Господи! Не в Твое ли имя пророчествовахом, и Твоим именем бесы изгонихом, и Твоим именем силы многи сотворихом! И тогда исповем — открыто объявлю им: яко николиже знах — Я никогда не знал вас, не признавал вас за Своих; Я не любил вас за лукавое сердце ваше и тогда, когда вы именем Моим творили чудеса. Но и вы никогда не знали — не любили Меня, ибо не творили воли Отца Моего Небесного; а потому Я не знаю — не признаю вас Своими и теперь: Отыдите от Мене делающий беззаконие! «О грозная нечаянность! — размышляет святитель Филарет, — они призывали Господа, следовательно, веровали в Него, знали Его; они пророчествовали, бесов изгоняли, чудеса творили, следовательно, немалую веру имели: но Господь не приемлет их во Царствие Свое и даже не знает их!» Какая невероятная сила зла и испорченности человеческой!.. Но как же сказано: Всяк, иже призовет имя Господне, спасется (Рим. 10, 13)?
Да, если призовет нелицемерно — всем сердцем своим, устремится к Богу всеми силами души своей и покажет свою веру в добрых делах. Но есть люди, которые Бога исповедуют ведети, — говорят, что они веруют в Бога, а делами отмещутся Его, отрекаются Его (Тит. 1, 16). Такая вера мертвая, которую имеют и духи отверженные: Беси, сказано, веруют и трепещут. Что пользы, братия мои — увещает святой апостол Иаков, брат Божий — если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его (Иак. 2, 14)? Конечно, не может. О сем и святой апостол Павел говорит: Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, — то я ничто (1 Кор. 13, 2). Видишь, и чудеса не приносят пользы тому, кто творит их без добродетели. Кто же, спросишь, те, коих Иисус Христос, несмотря на их чудотворения, представляет достойными мучения? Бог действовал и чрез Валаама (Чис. 22, 23), открывал будущее Фараону и Навуходоносору (Дан. 2, 4), и Каиафа пророчествовал, сам не зная, что говорил, и некоторые изгоняли бесов именем Христа, хотя сами не были Христовы. Иуда также совершал чудеса и, однако, лишился Царствия Небесного. Так и ныне, по замечанию блаженного Феофилакта, мы освящаемся чрез недостойных священников, совершающих таинства; и сие бывает не по чистоте и достоинству самих священников, но по вере приемлющих от них сии таинства.
«Не станем же, возлюбленные, — увещевает святитель Иоанн Златоуст, — думать, что мы, не совершая теперь чудес, посему самому имеем менее благодати. За чудеса мы сами остаемся должниками пред Богом, а за жизнь и дела — Бога имеем должником своим». Кроме того, «чудотворцу, — как говорит блаженный Августин, — всегда грозит опасность заразиться самомнением и гордостью, а исполнение заповедей Божиих ведет человека к смирению». Итак, Спаситель, оканчивая Свою беседу на горе блаженств, объявляет Себя Судиею мира. Правда, Он не сказал прямо: Я буду судить, однако же, если бы не Сам Он был Судиею, то как бы сказал: И тогда исповем им: отыдите от Мене…?
«Многие ужасаются только одной геенны; но я думаю, — говорит святой Златоуст, — лучше подвергнуться безчисленным ударам молнии, нежели видеть кроткое лице Господа, от нас отвращающееся, и ясное око Его, не могущее взирать на нас. И в самом деле: если Он меня, врага Своего, так возлюбил, что предал Себя на смерть за меня, и если после всего этого я не подам Ему и хлеба, когда Он алчет (в лице моего ближнего), то какими уже глазами буду взирать на Него? О, если бы мы никогда не подвергались сему позору! Единородный Сыне Божий! Если бы мы никогда не испытали на себе сего нестерпимого наказания!»…
Листок № 266. Наши оправдания
Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом не радеть. Не можете служить Богу и маммоне[1].
Не два, а много владык над нами. Один у нас Господь на небе, а сколько владык на земле! Не говорим уже о наших страстях, которые, как владыки, повелевают нами и требуют от нас себе угождения: что значит наша служба, наши занятия домашние и общественные, самое звание наше — что такое, как не владыки, которые так или иначе заставляют нас жить и действовать?
Не удивительно потому, что многие из нас говорят: «Что нам делать? Рады бы мы и Богу служить: кто не рад сему? Рады бы и молиться Ему: кто не хочет сего? Но, увы! долг службы, занятия домашние и общественные, самое звание наше не позволяют нам исполнять желание сердца. Иное дело — иноки, отшельники: для них мир как бы не существует; им только и дела — служение Богу; а нам много ли остается времени и досуга для служения Богу?» Что же? Ужели, в самом деле, звание наше, какого бы рода оно ни было, может препятствовать служению Богу? Ужели одни только иноки могут свободно служить Господу?
Сохрани нас, Боже, от подобных мыслей!.. «Мы и рады бы, — говорят люди простые, — служить Богу, да не можем; рады бы мы знать волю Божию, но мы люди темные, не можем разуметь Писания; рады бы ходить на службу Божию, но работы, которыми мы живем и питаемся, не дают нам на то времени; рады бы и молиться Богу, но хребет наш после трудов дневных и наклониться не может. С утра до ночи мы на поле, с утра до ночи работаем: когда же нам служить Богу, когда нам молиться?»
Высказывается как будто правда, и сердце как будто успокаивается, но эта правда — ложь, этот покой — хуже безпокойства! Ужели правда, будто одним только ученым и премудрым дано ведать волю Божию? Нет! Исповедаю ти ся Отче, Господи Небесе и земли, — говорит Спаситель, — яко утаил еси сия от премудрых и разумных, и открыл еси та младенцем (Лк. 10, 21). Посмотрите на святых апостолов: все они были мужи простые и некнижные, и, однако ж, кто лучше их понимал волю Божию? Пастыри вифлеемские тоже были люди неграмотные, и, однако ж, они прежде всех премудрых мира успели поклониться лежавшему в яслях Младенцу Иисусу и узнать в Нем обетованного Мессию — Спасителя.
Итак, грешно нам, братие, говорить: «Где нам знать волю Божию? Мы люди темные». На что ж у нас совесть? На что и служители алтаря Господня, назначенные для возвещения воли Божией? Внимайте, братия, своей совести, и вы узнаете волю Божию; обращайтесь чаще с вопросами к служителям престола Божия, и вы узнаете волю Божию; молитесь чаще и усерднее Подателю всякой мудрости, и вы узнаете волю Божию. «Мы и рады бы ходить в церковь на службу Божию, да работы наши не дают нам на то времени». Итак, мы дорожим нашими работами, потому что ими поддерживается жизнь наша телесная; но не душа ли больши есть пищи? (Мф. 6, 25).
Мы не имеем досуга каждый день посещать храм Божий, но Господь этого и не требует от нас: шесть дней делай, — говорит Он, — и сотвориши в них вся дела твоя: день же седмый суббота, а у нас, новозаветных чад Церкви, — воскресенье, Господу Богу твоему. А сколько в году праздников, сколько воскресных дней! О, если б хотя только сии святые дни неопустительно проводить нам в храме Божием должным образом!.. И это с нашей стороны немалая была бы жертва и служение Богу…
«Рады бы мы, — говорят иные, — и молиться Богу; но хребет наш после дневных трудов и поклониться не может». Так-то всегда бывает у нас! Нужно добыть нам пищу, и хребет наш легко наклоняется; а нужно Богу молиться, он и наклониться не может. Нужды-то наши телесные, видно, все впереди нужд духовных… Но если хребет наш или колена от усталости не хотят послужить Богу, будем, по крайней мере, работы наши начинать с благословением Божиим, продолжать с благочестивыми чувствами, оканчивать с благодарною к Богу молитвою; тогда и работа наша будет вместе приятным служением Богу. Или и это для нас тяжело? Но, скажите, ужели же ум наш во время работ ни о чем не мыслит? Ужели и язык наш остается совсем неподвижным? Никто сего не скажет.
А если уста наши без усталости празднословят, а во время молитвы чуть движутся, что тому причиной? Итак, сами мы виноваты в том, что не служим Богу каждый в своем звании и состоянии. «С утра до ночи, — говорят, — мы на поле, с утра до ночи работаем: когда же нам молиться, когда служить Богу?» Тут-то и случай молиться, тут-то и случай служить. Давно сказано, что праздность есть мать всех пороков; а когда мы в трудах и занятиях, — тут уж мало места пороку; а когда труды свои освящаем еще и молитвою и благочестивыми размышлениями, то что такое работа наша, как не служение Богу?
Кто был святой Антоний Великий? Самый строгий подвижник пустыннической жизни. А он служил Богу и плел корзины.
Кто был святой апостол Павел? Самый ревностный благовестник Христов. А он служил Богу и делал палатки.
Кто был святой Иосиф, обручник Пресвятой Девы? Воспитатель Самого Спасителя. А он служил Богу и занимался древоделием… Можно же есть и пить во славу Божию (см. 1 Кор. 10, 31); как же можно думать, будто работы, приличные нашему званию, могут мешать служению Богу? Только плоть наша ленивая может внушить подобную мысль: иди за мною, сатано, — скажем ей в ответ, — соблазн ми еси: яко не мыслиши, яже (суть) Божия, но человеческая (Мф. 16, 23). «Мы бы не прочь послужить Богу, — говорят другие. — Да куда же нам деваться с ежедневными заботами и хлопотами? У нас их так много, что нам некогда даже и подумать о служении Богу». И опять плоть ленивая, а не сердце чистое может высказывать подобные мысли. У нас так много занятий, что нам некогда и подумать о служении Богу…
Вот, Боже наш, до чего мы дожили!.. Ты послужил для нас, приняв на Себя зрак раба, послужил до кровавого пота, до самой смерти. Ты и доныне подаешь нам вся обильно в наслаждение (1 Тим. 6, 17); а нам, рабам Твоим, нам недосуг стало и послужить Тебе!..
Нет, возлюбленные, пусть все дела наши предпринимаются с доброю целию, совершаются честно и добросовестно и освящаются молитвою, тогда и на мысль нам не придет сказать: «Нам некогда и подумать о служении Богу»; тогда и самый труд наш земной будет служением для неба. И богатство не может помешать нам служить Господу Богу, если только мы сами захотим… Много ли из нас найдется таких богатых людей, каков был святой праотец наш Авраам? А он целую жизнь был богат и целую жизнь служил Богу.
Как же это было? Во всех действиях своих он показывал, что Господь посылает ему сокровища для того, чтобы питать нищих, помогать бедным, защищать сирот; целые дни сидел он при дверях своей палатки в сладкой надежде принять к себе странника, осчастливить несчастного, и целую жизнь таким образом был богат, и целую жизнь служил Богу.
Итак, смотрите: у Авраама богатство и у Иуды — золото, но первый с богатством восходит на небо, последний с золотом падает в бездну ада… Что же мешает и нам подражать Аврааму? Итак, богатство для христианина — не препятствие, а прекрасное средство служить Богу. Точно так же и всякая служба общественная нисколько не препятствует служить Богу, иначе Спаситель и не сказал бы: воздадите кесарева кесаревы, и Божия Богови. Славен был Давид, велик Езекия, знатны были и древние христианские благочестивые цари и князья, как Константин Великий и наши Владимир Равноапостольный, Александр Невский, — и, однако ж, ни бремя государственных занятий, ни блеск двора — ничто не могло препятствовать им открыто служить Богу и молиться Ему… Прекрасные они были граждане на земле, прекрасные теперь граждане на небе!
Так, братие, должно быть и с каждым из нас. Звание наше, какого бы рода оно ни было, с тем и дается нам Господом на земле, чтобы мы чрез него достигли звания небесного. Господи, помоги нашей немощи! Сам, Всесильный, дай нам силы, чтобы мы служили и Тебе, Царю Небесному, и несли звание земное так, чтобы чрез него достигали звания небесного. Аминь.
Печатается по изданию:
Троицкие листки. 1901. № 240.
Листок № 287. И Бог требует, и душа просит исповеди
Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом не радеть. Не можете служить Богу и маммоне[2].
О совесть, совесть! Кто не испытал на себе горьких обличений твоих? Кто не томился душою, не страдал сердцем от тайных укоров твоих? Иной несчастный грешник, терзаемый тобою, теряет надежду на Божие милосердие и предается мрачному отчаянию…
Но прочь это исчадие гордости сатанинской! Отец Небесный дал нам благодатное средство облегчить душу, снять с нее тяжкое бремя греховное и примирить ее с правосудием Божиим. Это спасительное средство есть святое таинство покаяния, или исповедь.
Ты согрешил, тебя мучит совесть: иди скорее к отцу твоему духовному, открой ему рану сердечную, исповедуй пред ним грех твой, и лишь только он скажет тебе: прощаю и разрешаю тебя, — тотчас же тебе станет легко и отрадно, и совесть твоя не будет так безпощадно терзать твое сердце.
Глаголи ты беззакония твоя прежде, да оправдишися (Ис. 43, 26), — говорит Сам Бог во Священном Писании.
Аще[3] исповедуем грехи наша, верен есть и праведен (Господь. — Примеч. ред.), да оставит нам грехи наша и очистит нас от всякия неправды (1 Ин. 1, 9), — поучает возлюбленный ученик Христов Иоанн Богослов.
Когда молчал я, — говорит о себе царь Давид, — обветшали во мне костимой от вседневного стенания моего. Ноя открыл Тебе грех мой… я сказал: «исповедаю Господу преступления мои», и Ты снял с меня вину греха моего (Пс. 31, 3, 5).
Душа сама просит этой исповеди, сама требует, чтобы яд греховный, который терзает ее в совести, был извергнут из нее покаянием. Грех — это ядовитая змея, которая не перестанет мучить грешную душу, пока ее не убьешь, не выкинешь из души чистосердечным раскаянием, пока не пожалуешься на самого себя, не произнесешь сам над собою суда пред лицем Божиим и не получишь чрез твоего отца духовного разрешения, умиротворения, успокоения в благодатном таинстве святого покаяния.
Голос совести есть голос Божий в душе грешника, и сколько бы ни лукавил грешник, сколько бы ни старался оправдать себя пред этим неподкупным судиею, совесть его не может успокоиться, пока он не осудит себя самого.
Послушайте вот, как в древности исповедовали грехи свои истинно кающиеся грешники, исповедовали не пред отцем только духовным, но пред всею церковью, готовые исповедать их пред целым светом!
«В мою бытность в одной обители, — рассказывает святой Иоанн Лествичник, — случилось, что один разбойник пришел, изъявляя желание вступить в монашество. Превосходный пастырь и врач (игумен) велел ему семь дней пользоваться совершенным покоем и только рассматривать устроение обители.
Потом пастырь призывает его и спрашивает наедине: желает ли он остаться с ними жить? И увидев, что он со всею искренностию согласился, опять спрашивает, что он сделал худого, живя в мире? Разбойник немедленно и со всем усердием исповедал ему все грехи свои.
Тогда пастырь сказал: “Хочу, чтобы ты объявил все это перед всем братством”. Он же, истинно возненавидевши грех свой и презревши весь стыд, не колеблясь отвечал: “Если хочешь, то сделаю это даже посреди Александрии”.
Тогда пастырь собрал в церковь всех своих овец, которых было триста тридцать, и во время совершения Божественной литургии, по прочтении Евангелия, повелел ввести сего осужденника. Некоторые из братий влекли его и слегка ударяли; руки были у него связаны назади; он был одет в волосяное вретище[4], и голова его была посыпана пеплом.
Когда он был близ святых дверей, священный оный и человеколюбивый судия воззвал к нему громким голосом: “Остановись, ибо ты недостоин войти сюда”.
Пораженный исшедшим к нему из алтаря гласом пастыря (ибо, как он сам после с клятвою уверял нас, ему казалось, что он слышит гром, а не голос человеческий), разбойник пал на землю, трепеща от страха.
Когда он таким образом омочил помост слезами, тогда сей чудный врач повелел ему объявлять все сделанные им беззакония; и он с трепетом исповедал один за другим все возмутительные для слуха грехи свои, которые не следует предавать писанию.
Тотчас после сей исповеди пастырь повелел его постричь и причислить к братии.
На мой вопрос: для чего он употребил сей образ покаяния, — сей истинный врач ответил: “Во-первых, для того, чтобы исповедавшегося настоящим посрамлением избавить от будущего; что и сбылось, ибо он, брате Иоанне, не прежде встал с помоста, как получивши прощение всех согрешений.
И не сомневайся в этом, ибо один из братий, присутствовавших при сем, уверял меня, что он видел некоторого страшного мужа, державшего писанную бумагу и трость; и как только лежащий выговаривал какой-нибудь грех свой, то он тростию своею изглаждал его.
Да и справедливо; ибо Давид говорит: рех, исповем на мя беззаконие мое Господеви, и Ты оставил еси нечестие сердца моего (Пс. 31, 5).
Во-вторых, как в числе братий моих есть и такие, которые имеют согрешения не исповеданные, то я хотел сим примером побудить их к исповеданию, без которого никто не может получить прощения».
Правда, нелегко бывает открыть отцу духовному рану сердечную: грешнику стыдно сознаться в своем грехе, — стыдно, но необходимо!
Вот что рассказывает сам о себе один подвижник: «В юности моей я был часто побеждаем одною греховною страстию. Между тем я знал, что святой старец Зенон многих избавляет от страстей, и желал открыть ему свою страсть, но враг все меня останавливал: “Ты сам знаешь, — внушал он мне, — сам читал, что нужно тебе делать, чтобы исцелиться от страсти; зачем же тебе соблазнять старца?”
И когда я хотел идти, страсть утихала во мне; а когда не шел — она снова обуревала меня.
Старец видел, что я страдаю от помысла, но не обличал меня, ожидая, когда я сам ему откроюсь в этом. Поговорит, бывало, со мною о доброй жизни и отпустит.
Наконец, со скорбию и плачем я сказал сам себе: доколе, окаянная душа, ты не захочешь исцелиться? Многие издалека приходят и получают пользу, а ты живешь около врача, как же тебе не стыдно оставаться так? Пойду сейчас же к старцу, и если там никого не застану — значит, есть воля Божия, чтобы я открыл ему свои помыслы.
Прихожу — у старца нет никого. Он стал поучать меня о том, как очищать себя от грешных помыслов, а я опять стал колебаться и хотел уйти без исповеди. Старец встал, помолился и пошел провожать меня. Томимый совестию, я шел за ним. Старец видел мое состояние и, подойдя к дверям, вдруг обратился ко мне, слегка толкнул меня в грудь и ласково сказал: “Что у тебя тут? Ведь и я — человек!”
И только что он сказал это, как будто открылось у меня сердце, — я упал к его ногам и со слезами сказал: “Помилуй меня, отче!” — “Что с тобою?” — спросил он.
Я отвечал: “Ты сам ведаешь, отче!” И сказал старец: “Тебе самому нужно исповедать, что тебя так томит”.
С трудом я открылся ему, и он сказал мне: “Целых три года томился ты, чего же ты стыдился? Ведь и я такой же грешник… Иди с миром в свою келью, да смотри — никого не осуждай!”
С той поры благодатию Христовою и молитвами старца страсть больше меня не тревожила».
А вот еще поразительный случай, когда Господь возвратил умершего к жизни, дабы он мог исповедать забытый им грех.
Один благочестивый крестьянин, напутствованный Святыми Тайнами, вскоре умер. Его омыли, положили на стол и приготовили гроб.
Прошло два часа, как больной испустил дух, — вдруг открывает он глаза и садится сам собою, тогда как в течение всей своей болезни не мог того сделать, оставаясь в крайнем изнеможении сил. Первые слова его при этом были: «Пошлите поскорее за священником», — что и было тотчас исполнено.
Когда священник прибыл к ожившему, тот просил всех выйти из комнаты.
Домашние удалились, оживший глубоко вздохнул и сказал: «Батюшка! Я ведь умирал, был взят ангелами и представлен ко Господу. Когда явился я пред Него и поклонился Ему, — Он посмотрел на меня так милостиво, с такою любовию, что и выразить невозможно. Вид Его — и сказать нельзя — как хорош! “Что ж вы взяли его? — наконец кротко сказал Господь приведшим меня ангелам, — а у него есть еще на душе грех, в котором он никогда не каялся своему духовнику”. И при этом Господь напомнил мне не исповеданный мой грех.
Тогда только и сам я почувствовал, что точно — было у меня такое дело, но забыл и никогда не каялся в том священнику.
“Отведите же его, — продолжал Господь, — чтоб он очистил свою совесть пред духовником, и потом опять возьмите его сюда”.
“И сам не знаю, — сказал после того оживший, — как я сделался опять жив”».
Тут он с чувством рассказал забытый грех, священник прочел над ним разрешительную молитву, прося вспомнить и его, как духовного своего отца, когда снова предстанет пред Господом.
И едва священник вышел, как оживший мирно предал дух свой Господу.
Так-то милостив Господь! И так необходимо для нас таинство исповеди!
Бог вложил в душу человека совесть как отображение Своего правосудия, и надобно, чтобы грешник признал над собою власть сего неподкупного судии, смирился пред Богом по требованию сего судии и получил разрешение в своем грехе чрез иерея — преемника апостолов, коим сказано: елика аще свяжете на земли, будут связана на небеси, и елика аще разрешите на земли, будут разрешена на небесех (Мф. 18,18).
Печатается по изданию: Троицкие листки. 1896. № 262.
А. Апухтин
Листок № 308. Христос грешную душу к Себе призывает
Почто ты, человече, Меня оставил?
Почто Возлюбившаго тебя отвратился?
Почто паки пристал к врагу Моему?
Помяни, что Я ради тебя с небес сошел.
Помяни, что Я ради тебя воплотился.
Помяни, что Я ради тебя от Девы родился.
Помяни, что Я ради тебя младенцем был.
Помяни, что Я ради тебя смирился.
Помяни, что Я ради тебя обнищал.
Помяни, что Я ради тебя гонение потерпел.
Помяни, что Я ради тебя принял злословие, поношение, поругание, безчестие, раны, заплевание, заушение, насмешки и позорныя страсти.
Помяни, что Я ради тебя со беззаконными вменился.
Помяни, что ради тебя Я умер позорною смертию.
Помяни, что ради тебя Я погребен был.
Я сошел с небес, чтобы тебя на небо возвести.
Я смирился, чтобы тебя возвысить.
Я обнищал, чтобы тебя обогатить.
Я понес безчестие, чтобы тебя прославить.
Я был изранен, чтобы тебя исцелить.
Я умер, чтобы тебя оживить.
Ты согрешил, а Я грех твой на Себя взял.
Ты виноват, а Я казнь приял.
Ты должник, а Я долг за тебя заплатил.
Ты на смерть осужден, а Я за тебя умер.
И ко всему этому — любовь Моя, милосердие Мое Меня привлекло. Не мог Я терпеть, чтобы ты страдал в таком злополучии.
Ужели ты сию любовь Мою пренебрегаешь?
Вместо любви — платишь ненавистью!
Вместо Меня — любишь грех!
Вместо Меня — работаешь страстям!
Но что же ты нашел во Мне достойное отвращения?
Ради чего не хочешь прийти ко Мне?
Добра ли себе хочешь? — Всякое добро у Меня.
Блаженства ли хочешь? — Всякое блаженство у Меня.
Красоты ли хочешь? — Что прекраснее паче Меня?
Благородства ли хочешь? — Что благороднее Сына Божия и Сына Девы?
Высоты ли хочешь? — Что выше Царя Небеснаго?
Славы ли хочешь? — Кто славнее Меня?
Богатства ли хочешь? — У Меня всякое богатство.
Премудрости ли хочешь? — Я — Премудрость Божия!
Дружества ли хочешь? — Кто любвеобильнее Меня, Который душу Свою за всех положил?
Помощи ли ищешь? — Кто поможет, кроме Меня?
Врача ли ищешь? — Кто исцелит, кроме Меня?
Веселия ли ищешь? — Кто увеселит, кроме Меня?
Утешения ли в печали ищешь? — Кто утешит, кроме Меня?
Покоя ли ищешь? — У Меня обрящешь покой душе своей!
Мира ли ищешь? — Я — мир душевный!
Жизни ли ищешь? — У Меня источник жизни!
Света ли ищешь? — Аз есмь Свет миру!
Истины ли ищешь? — Аз есмь Истина!
Пути ли ищешь? — Аз есмь Путь!
Вождя ли к небеси ищешь? — Аз есмь Вождь верный!
Что же, почему же не хочешь прийти ко Мне?
Приступить ли не смеешь? — Но к кому доступ удобнее Меня?
Просить ли опасаешься? — Но кому, просящему с верою, Я отказал?
Грехи ли не допускают тебя? — Но Я за грешников умер!
Смущает ли тебя множество грехов? — Но милосердия у Меня еще больше!
Приидите ко Мне еси труждающиися и обремененнии, и Аз упокою вы (Мф. 11, 28).
Воздыхание грешной души ко Христу, Сыну Божию
Изведи из темницы душу мою, исповедатися имени Твоему!
Иисусе Сыне Божий, помилуй мя!
Привлецы мене, да прииду к Тебе!
В темнице заключен есмь, Господи, и тьма окружает меня; связан многими узами железными, и несть ми ослабления…
Расторгни узы, да буду свободен!
Прогони тьму, да узрю свет Твой!
Изведи из темницы, да прииду к Тебе!
Даждь ми уши слышати Тя!
Даждь ми очи видети Тя!
Даждь ми вкус вкусити Тя!
Даждь ми обоняние чувствовать Твое благоухание!
Даждь ми нозе приити к Тебе!
Даждь ми уста глаголати о Тебе!
Даждь ми сердце боятися и любити Тя!
Настави мя, Господи, на путь Твой, и пойду во истине Твоей! Ты бо еси Путь, Истина и Живот.
Возьми все мое у меня и дай мне творить только Твою волю благую!
Отыми ветхое и дай мне все новое!
Отыми сердце каменное и дай сердце плотяное, Тебя любящее, Тебя почитающее, за Тобою последующее!
Дай мне око, да узрю любовь Твою!
Дай мне око, да узрю смирение Твое и последую Ему!
Дай мне око, да узрю кротость и терпение Твое и последую Ему!
Рцы слово, и будет все. Ибо слово Твое — уже дело есть.
Верую, Господи, помози моему неверию!
Иисусе Сыне Божий, помилуй мя!
Буди душе моей пища и питие!
Буди душе моей жаждущей — источник воды живой!
Буди свет помраченной душе моей!
Буди отрада в скорби моей!
Буди веселие в печали моей!
Буди избавитель в пленении моем!
Буди мир и покой в злой совести моей!
Буди премудрость в безумии моем!
Буди ходатай против клевещущих на меня!
Буди оправдание противу грехов моих!
Буди освящение в нечистоте моей!
Буди победа противу врагов моих!
Буди щит противу гонителей моих!
Буди ходатай за меня пред гневом Божиим!
Буди жертва за грехи моя!
Буди крепость в слабости моей!
Буди жизнь против смерти моей!
Буди свет в недоумении моем!
Буди сила в немощи моей!
Буди мне сироте — Отец вечный!
Буди Судия против оскорбителей моих!
Буди Царь против царства диавольскаго!
Буди вождь в пути моем!
Буди заступник в час смерти моей!
Буди покровитель по смерти моей!
Буди жизнь вечная по воскресении моем!
Иисусе Сыне Божий, помилуй мя!
Даждь славу имени Твоему, мне же спасение вечное!
Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему даждь славу! Аминь.
Господи, аще хощеши, можеши мя очистити! (Мф. 8, 2). Господи, отрок мой лежит в дому разслаблен люте стражда… рцы слово, и исцелеет отрок мой (Мф. 8, 6, 8). Господи! спаси ны, погибаем (Мф. 8, 25).
Помилуй мя, Господи Сыне Давидову дщи моя зле беснуется! (Мф. 15, 22)…
Помилуй мя, Господи Сыне Божий: душа моя зле беснуется! Господи, помоги мне! Дай мне насытиться от крупиц, падающих от трапезы рабов Твоих!
Господи, Сыне Божий, привел я к Тебе душу мою, имущую бесы — страсти: верую, Господи, помози моему неверию (Мк. 9, 24). Повели им изыти из души моей и ктому не входить в нее!..
Так милосердый Господь наш призывает каждую душу грешную к Себе; так воздыхает и душа кающаяся к своему Спасителю… Но где тот путь, который приводит ко Христу Спасителю? Где душа наша найдет Его, милосердаго своего Господа? — Господь во храме святем Своем (Пс. 10, 4), в Таинствах Церкви Своей, о Которой сказал: созижду Церковь Мою и врата адова не одолеют ей (Мф. 16, 18). Ей вверил Он благодать Свою, о ней заповедал: аще же и Церковь преслушает [брат твой], буди тебе якоже язычник и мытарь (Мф. 18, 17). Нигде, кроме Церкви Христовой, не найдешь ты Христа. Пусть разные лжеучители говорят: се зде Христос или онде, — не ими им веры. Если благодатное призывание Господа коснулось твоего сердца, спеши в церковь, принеси раскаяние во грехах твоих пред иереем Божиим и от него услышишь слово примирения с Господом, чрез него соединишься с Господом и в пречистых Тайнах Тела и Крови Его, нашего Спасителя. В Таинствах Церкви обретешь ты мир души и силы благодатныя для борьбы с своим лютым врагом — привычным грехом… Господь тебе в помощь, душа кающаяся, Господом призываемая, Господа ищущая!
Печатается по изданию: Троицкие листки. 1897. № 678.
Листок № 319. Помыслы
…Братия мои, что только истинно (то есть все доброжелательное, ибо зло есть ложь, равно как и наслаждение им есть ложь), что честно (против тех, которые думают о земном), что справедливо, что чисто (против тех, коим бог — чрево), что любезно (то есть Богу и людям; а сие последнее значит, чтобы никого не оскорблять), что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, — и Бог мира будет с вами (Послание святого апостола Павла к Филиппийцам, гл. 4, ст. 8–9), то есть если вы будете исполнять это, то будете жить в спокойствии.
Блаженный Феофилакт, епископ Болгарский
Не только дела, но и помыслы будет судить Господь
Не только за грехи, сделанные на самом деле, Господь будет судить, но и за греховные помыслы, которые пожелает человек исполнить, как сказано в святом Евангелии: всяк, иже воззрит на жену, ко еже вожделети ея, уже любодействова с нею в сердце своем (Мф. 5, 28). А равно, если кто имеет на кого злобу, хотя бы он и не привел оную в исполнение на деле, но будет осужден за злое намерение свое, и не только за всякую злую мысль, но даже за каждое праздное слово воздаст человек ответ в день суда Божия, как сказано в святом Евангелии (Мф. 12,36). Как за злые мысли человек будет осужден, так за добрые будет награжден. Если кто, видя другого в несчастий или в бедности, пожалел о нем, но по недостатку своему не мог оказать ему помощи, то и доброе желание это Господь вменит ему за самое дело; или если кто желал бы идти к службе в храм Божий, но по нездоровью или по иным обстоятельствам не мог, то желание его Господь приемлет за самое дело.
Из сего должно понимать и разуметь, что за всякое доброе желание, хотя и неисполненное, человек будет награжден, а за злое наказан. Также должно знать, что злые греховные помыслы приносит человеку враг его диавол, и если человек не приемлет их, то за сие награждается от Бога, чему много есть примеров: святая Мария Египетская в продолжение семнадцати лет покаяния своего боролась с греховными помыслами и за сопротивление им достигла равноангельской чистоты; и многие другие, подобно ей противившиеся греховным помыслам, увенчаны были Подвигоположником Господом Иисусом Христом. Повествуется в Прологе, что ученик некоего святого старца, находившись при нем, однажды не успел взять на сон грядущий старческого благословения, как старец заснул; ученику этому до семи раз приходил искусительный помысл уйти без благословения спать, но он мужественно отразил эти помыслы и остался до пробуждения старца, которому во сне явлено было, что ученику его ниспосланы были семь венцев за его седмикратное отражение помыслов.
Вот как драгоценно пред очами Божиими сопротивление греховным помыслам.
Что такое помыслы хульные и как от них избавиться?
У многих бывает в помыслах невольная хула на Господа, на Пречистую Его Матерь, на святых угодников, а наиболее в церкви при воззрении на святые иконы и даже на Святейшие Таинства. Такое неверие и злобное хуление появляется на душе, и человек с ужасом отвращается от этих мыслей, а они еще более лезут в голову. Неразумеющие о том, откуда появляются такие богопротивные помыслы, — нередко предаются чрезмерной печали и не смеют даже сказать духовнику о такой мысленной брани на Бога.
Святой Димитрий Ростовский говорит: «Диавол всеми своими козньми печаль нанести нам тщится, влагая в ум наш хульныя мысли на Бога, или на святых Его, или на Божественныя Тайны; но ничто же успеет, егда пренебрежем его, и смущение от себя отринем».
Значит, в помыслах этих нет греха, если человек не хочет их, ненавидит их и отвращается от них; только тот будет достоин осуждения, кто, удерживая такие помыслы в своем разуме, охотно усвоивает их себе, и тот еще, кто, почитая их собственными своими, а не безовскими, отчаивается чрез то в своем спасении, подобно Каину, и говорит: вящшая вина моя, еже оставитися ми (Быт. 4, 13). Святой Иоанн Лествичник говорит, что когда человек отвергает хульные помыслы, то не только не бывает в них виновен, но и сподобляется за терпение умножения небесной мзды. Влагающий в человека эти помыслы диавол старается уверить его, что он сам рождает в себе эти помыслы, дабы чрез то привесть в отчаяние; но должно знать, что все эти помыслы, коих душа не желает, от диавола. Случается так, что человек как бы в каком-то забвении на малое время примет помыслы, но, опомнившись, прогоняет их: в таком случае должно из глубины сердца вздохнуть ко Господу и покаяться, — и Господь простит. Непременно должно исповедовать духовным отцам эти помыслы, но не объяснять в подробности и не повторять самых хульных слов, ибо сего невозможно. Кто смущается этими помыслами, у того враг усиливает их, а кто пренебрегает ими, от того враг уходит посрамлен. Во время нападения сих помыслов ни в какое рассуждение и спор с ними входить не должно, а творить непрестанно молитву внутренно: Господи Иисусе Христе, помилуй мя грешного, по реченному святыми отцами: бий супостаты именем Христовым, крепче сего оружия нет ни на небе, ни на земле.
Итак, помыслы хульные должно пренебрегать, уподоблять их лаянию пса, которое хотя и слышим, но вреда от него не терпим; а если начнем возражать против этих помыслов, то они усилятся и до тех пор не отойдут, пока не оставим их без внимания.
Смиримся, перестанем осуждать ближних, будем ко всем милостивы, в молитве усердны, в пище и питии воздержны, — и помыслы вражеские удалятся от нас — по реченному в Евангелии: сей род изгонится ничимже иным, токмо молитвою и постом. Но и в этом случае, как всегда и везде, должно иметь благоразумие. Иные из подвижников, мучимые хульными помыслами, наложили на себя безмерные посты, в церковь Божию перестали ходить и Святых Христовых Тайн не приобщались, считая себя недостойными, — а некоторые даже отчаялись в спасении своем; но все это — по действию бесовскому. В таковых случаях, как и во всем, не должно руководиться своим разумом, а обращаться к духовным отцам, которые от Бога даны нам как руководители в духовной жизни. Помыслы хульные усиливаются во время молитвы и прочих добрых дел; но кто пренебрегает ими, того они скоро оставляют.
Кои проводят жизнь свою в смертных грехах без покаяния, в небрежении и лености, на тех не нападает враг хульными помыслами, ибо считает их уже как бы своими пленниками — борет он помыслами этими заботящихся о спасении души своей, живущих в покаянии и любви Божией, по реченному в Священном Писании: хотящий жити благочестно о Христе, — гоними будут.
Святой Димитрий Ростовский упоминает о блаженной Екатерине Синайской, которая продолжительное время смущаема была хульными и скверными помыслами; когда же явившийся ей Господь отгнал от нее бесов, она возопила к Нему: где бяше доселе, о, Сладкий мой Иисусе? Отвеща Господь: в сердце твоем бех. Она же рече: и како можагие се быти, понеже ми бяше сердце исполнено мысльми скверными? Отвеща же Господь: по сему разумей, яко бех в сердце твоем, яко ты ни единого любления имела еси к нечистым мыслям: но паче избыти тщащися и не могущи, болезновала еси, и сим сотворила Ми еси место в сердце твоем. Советуем также прочитать житие святителя Нифонта (23 декабря). Он несколько лет мужественно боролся с помыслами неверия, за что был увенчан от Самого Господа.
«Итак, да никтоже смущается, — говорит святитель Димитрий, — ниже отчаивается, имуще наваждение от помыслов хульных, ведуще, яко нам суть сия в пользу паче, а не соблазн, самим же бесом в посрамление».
Печатается по изданию обители святого Пантелеймона. 1909. № 30.
Много может молитва праведного…
Иак. 5, 26
Итак, только усердная молитва праведника много может. Но и мы грешны, и молимся часто без усердия, и потому что могут значить наши молитвы? Полезны ли они сколько-нибудь для нас, или мы, молясь, только время тратим?..
Нет, и мы не напрасно время тратим, когда молимся, и наши молитвы полезны для нас.
Если мы не имеем усердия к молитве, то это усердие может появиться в нас, когда мы будем молиться постоянно. Усердная и пламенная молитва не сразу приобретается. Но от нашего старания во время молитвы может и в нашей душе родиться молитвенный жар (точно так в теле нашем при нашем движении мы ощущаем тепло).
Святой Марк говорит: «Молясь по принуждению и с нетерпеливостью мы пролагаем путь к тому, чтобы молиться нам с радостью в покое — это дар благодати Божией». Значит, ни в коем случае не нужно оставлять молитвы: надо, сколько возможно, принуждать себя к молитве. И потому, когда приходит время молитвы, молись и ты, хотя бы тебе и не хотелось молиться. И когда приходит время сна, и когда наступает утро, непременно читай свои молитвы, как бы ни казались они тебе трудными. Грехи служат препятствием успеху наших молитв. Они, как облака, препятствуют нисходить к нам лучам Божия благословения; вопль страстей (греховных наклонностей), как шум моря, не допускает нашим молитвам доходить до слуха Божия.
Но неужели, поэтому грешник не должен молиться? Нет, он-то и должен молиться, ему-то и необходима молитва. Ибо и ум наш просвещается светом истины, когда мы молимся Богу, Который есть безпредельная Любовь, и воля наша направляется к добру, когда мы молимся Богу, Который есть верховное добро.
Оттого-то и бывает, что иной начинает молитву грешником, а оканчивает ее праведником; приступает к молитве совершенно нечистым, оскверненным, а отходит убеленным благодатию Божией паче (более) снега. Таким образом, грешник своею молитвою может исходатайствовать себе у Бога прощение грехов, а по прощении грехов будет исполнено и то, что он просит себе у Бога.
Пройдут греховные облака, утихнут вопли преступных страстей, и Бог, как солнце после мрачной бури, явится к нему со Своею милостию, и молитва его, как фимиам благовонный, будет приятна для Бога.
Из поучений протоиерея Родиона Путятина
Молитва Пресвятой Богородице об отгнании помыслов
Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами отжени от мене, смиреннаго и окаяннаго раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверная, лукавая и хульная помышления от окаяннаго моего сердца и от помраченнаго ума моего; и погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь и окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя: яко благословенна еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь.
Листок № 320. Пора одуматься!
Воспряни от сна и войди в самого себя, отвергни помыслы свои и смотри: вот день преклонился. Подумай, брат, еще и о том, что братий наших, которые вчера были вместе с нами, с нами разговаривали, сегодня нет уже с нами, — позваны к Господу своему и нашему, дабы каждый из них показал Ему свою куплю.
И теперь познайте, что значит вчерашний день и что сегодняшний: вчерашний, подобно утреннему цвету, прошел, а сегодняшний, подобно тени вечерней, исчезает.
Что же ты, возлюбленный, не радишь? Что ленишься, что опьянел от безпечности, как от вина? Что не возбуждаешь себя к трудам? Что ты раздражаешь Врача, не желая исцелиться? А когда Он начнет лечить, зачем скрываешь язвы твои от Него; а потом поносишь Его, что не исцелил тебя? Время покаяния дается тебе, а ты не радишь о нем. За что же поносишь Законодателя, что Он послал тебе смерть, когда ты безпечен? Разве тогда скажешь смерти: отпусти меня на покаяние?
Воспряни, возлюбленный, воспряни; последний час постигнет тебя, как западня, и тогда ужас обнимет твою душу, и ты скажешь: как протекли дни мои в рассеянии? И как прошло время жизни моей в непотребных помыслах? Но что пользы так рассуждать в час смерти, когда ты не можешь уже возвратиться в век сей? Как не плакать, как не скорбеть? Как не поражаться страхом, когда Господь вселенной и Сам и чрез Своих рабов — пророков и апостолов проповедует и взывает, и никто не слушает! Что же они проповедуют?
Брачный пир, говорят, готов и упитанное заклано, Жених со славою и величием сидит в чертоге и приходящих принимает с радостию, дверь открыта, и слуги спешно приготовляют стол; поспешайте же скорее, пока дверь не заперта, чтобы не остаться вам за дверью, и тогда никто уже не проведет вас чрез нее.
Между тем никто не думает о сем, никто не заботится о сем; безпечность и суета века сего как узами связала нашу душу.
Священное Писание мы правильно списываем, правильно читаем, но не хотим искренно повиноваться ему, потому что не хотим усовершать себя по правилам его. Кто же ходит в дальний путь без съестных припасов, как мы, оставивши свои съестные припасы здесь, думаем ничего не брать в путь?
Блажен, кто с надеждою пришел ко Господу и принес с собою нескудный запас! Когда я подумал, возлюбленные, о Страшном суде, ужаснулся, и когда представил райские радости, то со стенанием плакал, сколько только мог плакать, потому что я погубил дни свои в лености и рассеянности, и в помыслах нечистых провел лета свои; как умалились они, не заметил, как прошли, не опомнился…
Дни мои исчезли, а беззакония умножились!
Горе, горе, возлюбленные мои! Что делать мне, покрытому стыдом, в то время, когда вокруг меня станут те, которые знали меня, которые видели меня в этой благочестивой одежде и называли блаженным, между тем как я внутри исполнен был беззакония и нечистоты и забыл о Господе, испытующем сердца и утробы? Точно, мне позорно будет тогда, и несчастен, кто постыжен будет там!
Человеколюбивый, Всеблагий! Милосердием Твоим умоляю Тебя, не поставь меня ошуюю с козлищами, оскорбившими Тебя, не говори мне: не знаю тебя, но дай мне по милосердию Своему непрестанный плач, сокрушение и смирение сердца, — очисти его, чтобы оно соделалось храмом святой благодати Твоей. Хотя я грешен и неблагочестив, однако же безпрестанно толку в дверь Твою; хотя я ленив и безпечен, однако же иду Твоим путем…
Братия мои возлюбленные! Прошу вас, как друзей, старайтесь благоугождать пред Богом, пока есть время; плачьте пред Ним день и ночь на молитве своей и славословии, чтобы Он освободил нас от безконечного будущего плача, скрежета зубов, огня геенского и червя неумирающего, чтобы даровал нам радость во Царствии Своем и в жизни вечной, где нет ни скорби, ни печали, ни воздыхания, где не нужны ни слезы, ни покаяние; где нет ни страха, ни трепета; где нет смерти, где нет ни противника, ни врага; где нет ни вспыльчивости, ни гнева, где нет ни ненависти, ни вражды; но везде радость, удовольствие и веселие, и трапеза исполнена духовными яствами, которые приготовил Бог для любящих Его. Блажен, кто будет призван к этой трапезе, напротив, несчастен, кто лишится ея!
Прошу вас, возлюбленные, окажите мне свою любовь, ходатайствуйте за меня в молитвах своих пред Всеблагим, человеколюбивым единородным Сыном Божиим, чтобы Он излил на меня милость Свою, избавил меня от множества беззаконий моих и дал мне обитель возле ваших обителей, чтобы мне быть соседом вашим.
Поелику — вы чада Его возлюбленные, а я подобен псу презренному, то вы будете бросать мне крупицы от стола своего, и на мне исполнится слово Писания, что и псы едят от стола падающие крошки[5].
Прошу же вас, возлюбленные, принесите за меня молитвы свои и будем все заботиться о жизни нашей, ибо все проходит, как тень!
Возненавидим мир и то, что в нем, то есть чувственные попечения, и не будем иметь другой заботы, кроме только о своем спасении, как Господь наш сказал: какая польза человеку, если он и целый мир приобретет, душе же своей повредит? или какой выкуп даст человек за душу свою?
Мы, братия, купцы духовные и подобны купцам мира сего. Купец ежедневно вычисляет свою пользу и свой убыток, и ежели потерпит убыток, старается и заботится, как бы вознаградить его. Так и ты, возлюбленный, верно рассчитывай, пока идет твоя торговля.
Каждый вечер входи в сердце свое, размышляй и спрашивай самого себя: не оскорблял ли я чем Бога? Не говорил ли праздного слова? Не был ли нерадив? Не оскорблял ли брата своего? Не осуждал ли кого-нибудь? Когда уста мои открывались на славословие, душа моя не рассеивалась ли по миру?
Когда чувственная похоть пробуждалась во мне, не услаждался ли я ею? Не был ли увлечен земными заботами?
Если во всем этом ты понес убыток, то старайся вознаградить его; воздыхай, плачь, чтобы снова не потерпеть убытка.
Поутру опять рассуждай и спрашивай себя: как я провел ночь свою? Вместе с телом бодрствовал ли мой ум? Глаза мои проливали ли слезы? Не предавался ли сну во время коленопреклонения? Когда находили злые помыслы, не удерживал ли их с удовольствием?
Если найдешь себя виновным в этом, старайся исцелиться и поставь стража у сердца своего, чтобы не понесть подобного убытка. Если таким образом будешь подвизаться, то сохранишь свою торговлю в хорошем состоянии.
Из творений преподобного Ефрема Сирина
Печатается по изданию: Троицкие листки. 1901. № 237.
Что так поздно?
Когда хозяин дома и отец семейства, по какому-либо делу отправившись в город или на поле, долго не возвращается, супруга начинает чувствовать живейшее безпокойство: часто выходит за ворота, прислушивается к шуму ветра и к шороху листьев древесных, устремляет взоры в темнеющую даль, отовсюду ждет и все вопрошает: что он не идет? Дождусь ли я его? Когда же услышит его приближение, она бежит к нему навстречу и с кротким упреком говорит ему: что так поздно? что так поздно? Когда сын или дочь где-нибудь долго замедлят, — родители спрашивают у них: что так поздно? Время темное; есть лихие люди, есть опасные звери; долго ли подвергнуться опасности? И почему было не поспешить?..
Не так ли и благодать Божия постоянно вещает к сердцу грешника, медлящего на темном пути греховном? Что так долго не идешь ко Мне? Зачем так поздно возвращаешься? Или не ведаешь, что каждая минута промедления отнимает у тебя часть награды, уготованной тебе Мною? Или не знаешь, что на пути ко спасению лежат тысячи соблазнов и препон? Враг-человекоубийца непрестанно ходит, яко лев рыкаяй, некий кого поглотити; лукавый мир повсюду изрывает яму, чтобы низвергнуть тебя в нее, самая плоть твоя и похоть очес, и гордость житейская поминутно угрожают тебе пропастью. Что так поздно? Что так поздно?! Но лучше поздно, чем никогда!
Из «Воскресного чтения». 1845 г.
Листок № 325. Чего нам бояться больше всего?
Запаления, якоже Лот, бегай, душе моя, греха; бегай Содомы и Гоморры; бегай пламене всякаго безсловеснаго желания.
Великий канон, песнь 3-я
Каждый человек избегает того, что причиняет ему вред и несчастье. Несчастье для человека, когда он лишится имущества; поэтому он и оберегает свое имущество и остерегается воров. Заболеть, лишиться здоровья — это еще большее для человека несчастье; он и бережет свое здоровье и предохраняет себя от болезней. Еще горшим злом для человека является лишение жизни, смерть; поэтому человек так и дорожит своею жизнью и боится смерти. Но есть еще одно зло на земле, которое приносит человеку больше вреда, чем сама смерть. Оно тем опаснее для людей, что они очень мало его боятся и не только не убегают его, но охотно уживаются с ним и даже находят в нем для себя некоторую усладу и удовольствие. Какое же это зло? Это зло — грех.
Грех несравненно хуже всякого вора. Хуже потому, что вор крадет у нас сокровища тленные, скоро преходящие, легко вновь приобретаемые, да и нужные-то нам до тех пор, пока мы живем на земле. А грех обкрадывает самую душу человека, лишает ее самых дорогих ее сокровищ, нетленных, вечных, тех сокровищ, с которыми человек будет жить в нескончаемые века по смерти. Эти сокровища суть те дары, которыми Бог наделил человека, как Свой образ; это — невинность и чистота души, живая вера человека в своего Творца, надежда на Него и любовь к Богу и ближним. С человеком, отдавшимся во власть греха, всегда так и бывает, что он не только невинность и чистоту души, никого не любит, кроме себя, но лишается даже драгоценного дара веры в Бога и надежды на Его милосердие.
Возьмем далее любую болезнь, хотя бы самую страшную. Всякая болезнь простирается только на тело человека: она расслабляет тело, лишает его силы, бодрости, разлагает, наконец, лишает его жизни и умерщвляет. Грех же разлагает, растлевает, духовно умерщвляет самую душу человеческую, и не только душу, но еще прежде души тело, так как ни болезней, ни самой-то смерти не существовало бы, если бы не было греха, если бы люди не согрешили. Злоба, зависть, гнев, гордость, блуд, пьянство, да и вообще все страсти и пороки — разве они не искажают, не растлевают богоподобной души человеческой? У иных больных заживо уже гниет и разлагается тело. Какие ужасные мучения выносят эти страдальцы! Жалко бывает смотреть на них. А разве не жалко смотреть на человека, это дивное Божье создание, когда у него от страстей и пороков истлевает самое драгоценное его сокровище — образ Божий? и разве душа наша не страдает, когда ее разъедают духовные болезни — грехи?
Она, бедная, еще больше страдает от них, чем от телесных болезней. Это каждый из нас знает по опыту. Телесные страдания для нас не так мучительны, как душевные. Если душа здорова, мы и болезнь всякую легко стерпим. Ну, а уж если душа больна, тогда тяжело нам бывает терпеть!
Особенно тяжело бывает человеку, когда у него много на душе накопилось грехов, которые, как тысячепудовая тяжесть, гнетут и давят ее. Благо такому человеку, если он станет врачевать свою душу обращением к Богу, раскаянием, исповедию и исправлением.
Но горе ему, если он до самой смерти останется нераскаянным! Страсти и пороки, как ржа, как черви какие, изъедят всю душу такого человека, сделают ее мертвою духовно. Видали ли вы: иногда в лесу бывают деревья, у которых изъедена вся сердцевина? Такие деревья с виду часто кажутся совершенно здоровыми и целыми, но стоит нанести им лишь один-другой удар топором, и они тотчас же рухнут.
Так бывают и люди, которые совне телом остаются живыми и здоровыми, как и все прочие, в действительности же они хуже мертвецов, так как душа-то у них мертва, так как душа их изъедена грехами; стоит лишь смерти нанести им свой последний удар, чтобы эти живые мертвецы перешли в состояние вечной смерти. Таких людей и по смерти ожидают еще большие муки; для них загробная жизнь будет хуже смерти. Слово Божие это ужасное состояние нераскаянных грешников в будущей жизни называет второю смертию (Откр. 20, 6-14).
Да, братие, нет на земле зла хуже греха! Грех — самая заразительная болезнь: с тех пор, как согрешили впервые наши прародители, грех перешел на все человечество, заразил собою всех людей, так что нет ни одного человека, который бы избежал этой заразы. Грех — самая страшная и ужасная болезнь: чтобы излечить людей от этой болезни, необходимо было, чтобы Сам Бог сошел на землю и стал человеком; мало того, чтобы Он пострадал, был распят на кресте и умер за нас позорною смертию.
Но что ужаснее и опаснее всего в грехе, так это то, что люди по своему легкомыслию и безпечности, кажется, менее всех других зол и болезней боятся греха. Когда узнают люди, что кто-либо из близких к ним заболел серьезной и опасной болезнью, они стараются или сами удалиться, или этого человека удалить от себя. Когда в городе или деревне появится опасная эпидемия, например, холера, обыватели бьют тревогу, предпринимают всевозможные меры к тому, чтобы подавить ее распространение и предохранить себя от нее. Когда заболевает, наконец, кто из людей какою-либо болезнью, он не опускает рук, не остается безпечным, но обращается к врачам, старается поскорее излечиться от болезни.
Но не то бывает, когда усиливается и свирепствует среди людей самая ужасная болезнь — грех; болезнь, которая поражает душу человека и грозит ему вечною смертью. Здесь обычно не предпринимают никаких предосторожностей, не удаляются от опасно больных членов общества, не спешат лечить себя от появившейся болезни. Напротив, здесь иногда считают для себя даже неловким оставаться свободным от какой-либо греховной болезни, когда все окружающие бывают заражены ею. Когда знакомимся мы друг с другом, скажите, часто ли мы обращаем внимание на то, не заражен ли наш новый знакомец каким-либо вредным, противным Церкви Православной учением или какою-либо греховною страстью: пьянством, распутством, азартною игрою и пр.? Когда случается кому-либо из близких нам лиц заболеть одною из подобных греховных болезней, настойчиво ли мы стараемся удалить себя от его вредного влияния? Чаще же всего случается каждому из нас заболевать то одной, то другой греховной болезнью: то злоба, то гнев, то зависть, то гордость, то высокомерие, то плотские страсти обуревают нашу душу. Что же мы? спешим тотчас к духовному врачу — духовнику? стараемся поскорее излечить свою болезнь, отстать от своей греховной страсти? О если бы так! Как часто в таких случаях мы остаемся неподвижными, ленивыми, безпечными, словно мы не видим, не замечаем грозящей нам опасности!
Но не безумно ли такое отношение людей ко греху! не гибельно ли такое легкомыслие! Только одна злоба и коварство диавола могли настолько омрачить человеческий ум и заполонить сердце человека, чтобы он проявлял удивительное легкомыслие в деле, касающемся его вечного спасения, и даже находил усладу в том, что является для него самым великим злом, самым страшным ядом.
Бойся же греха, брат-христианин, больше всего в мире! Послушай, что говорит Священное Писание: Беги от греха, как от лица змея; ибо, если подойдешь к нему, он ужалит тебя (Сир. 21, 2). Беги же от него, как от самой ужасной болезни, как от самого великого для тебя несчастья! Не мирись со грехом, не терпи его ни в себе, ни в людях! Борись со грехом! Гони его из души своей, из своей жизни! Больше всего храни себя и других от греха! Что бы ты ни думал, что бы ни говорил, ни делал, всегда спроси себя: не грех ли? Совесть всегда скажет тебе правду. Чего не одобряет совесть, что запрещает Господь и святая Церковь Православная, того берегись, как огня, как яда, как самого опасного врага твоего!
А если ты не устоял против греха, пал, согрешил; не опускай рук, не унывай, не отчаивайся! Сколько бы раз ты ни согрешил, не переставай каяться, до гроба не переставай бороться со грехом! Никогда не ослабевай в этой борьбе и всегда проси Бога о помощи! Господь, когда увидит твое желание и твердое намерение неустанно бороться со грехом, никогда не оставит тебя и всегда будет поборать грех за тебя. Вот что говорит Он всякому борцу-христианину: буди верен даже до смерти, и дам ти венец живота (жизни) (Откр. 2, 10).
Печатается по изданию Пастырско-просветительского Братства при Московской духовной академии. 1910. № 40.
Листок № 362. Без трудов и подвигов Царства Небесного не получишь
Христос пришел, Царствие Божие уже открылось, Иоанн Предтеча, возвестивший Его пришествие, уже принадлежит не столько Ветхому, сколько Новому Завету: «от дней же Иоанна Крестителя», с того времени, как он указал всем на пришедшего Христа, и доселе, и теперь Царствие Небесное уже не ожидается только, как грядущее, но и нудится, силою берется, с такою ревностию берется, как берутся города приступом, потому что оно уже наступило, и все нуждницы, употребляющие усилие над собою, восхищают его. Его восхищают все кающиеся грешники, которые с сердечною болью расстаются с лестными для них ожиданиями Мессии-завоевателя и чувственного блаженства в Его царстве и обрекают себя на покаяние и трудную перемену всей своей нравственной жизни.
Троицкий листок. 1896. № 873–875.
Слово Божие говорит нам, что Царствие Небесное нудится и нуждницы восхищают е, т. е. Царствие Небесное как величайшее благо требует со стороны человека постоянного понуждения себя к исканию его, постоянной внутренней борьбы против греха, постоянного упражнения во всем богоугодном, спасительном, а потому только те сподобятся вечного блаженства, которые сопротивляются греху.
Из сказанного очевидно, что мы созданы в этот мир не для наслаждения жизнию, не для веселья, а для борьбы, в которой главные наши враги: грехолюбивая плоть наша, лукавый обольстительный мир и дух злобы — диавол, ярость коего против нас неописанна, ее невозможно и изобразить! Слово Божие уподобляет его рыкающему льву, ищущему, кого бы поглотить (1 Пет. 5, 8).
А мы, осуетившиеся, живущие беззаботно, кому подобны? Подобны мы людям, воображающим, что они прогуливаются по безконечной равнине, тогда как стоят они на краю стремнины, но не видят этого и видеть не хотят.
Душевная наша слепота закрывает от нас опасность положения нашего: мы только и думаем, что об удовлетворении своих суетных желаний, об удовольствиях этой жизни и о прочем подобном, а мысль о висящей над головою нашею беде, о грехах наших, о суде Божием и о предстоящей нам безконечной загробной жизни — не только далеко от нас, но вовсе ее нет у многих из нас.
Пользуясь такою безпечностью нашею, хитрый враг так опутал нас сетями своими, что у нас, как говорится, что шаг, то грех: мы и лукаво делаем, и лукаво мыслим, все в нас проникнуто грехом, все порабощено грубой чувственности, а что хуже всего — это то, что мы не сознаем настоящего положения своего, — нам думается, что все обстоит благополучно, что все идет своим порядком, и что мы живем, как живется, как говорится: «день да ночь, и сутки прочь», а что ожидает нас впереди, об этом у большинства и речи, и мысли нет!
Будущее вообще мы привыкли считать чем-то отдаленным, как бы мало касающимся нас, а если иногда при виде близких своих, переселяющихся в вечность, и приходит мысль, что и нам этот путь неизбежен, то стараемся развлечься, избавиться от подобного тяжелого впечатления, и так в продолжение всей своей жизни убаюкиваем себя, закрываем глаза от угрожающей опасности, не желая ее видеть.
Но приведется же, наконец, и нам встретиться с глазу на глаз с неумолимою смертию, и что тогда будет?.. А что эта встреча последует, что она неминуема, то это так же верно, как и то, что мы существуем.
Пора, пора нам серьезно подумать о своей будущности, пора нам проснуться от греховного усыпления, пора сказать душе своей: востани, что спиши? Пора исправить свою жизнь.
Начнем с того: будем чаще и усерднее молиться Богу — ив храме Божием, и в домах своих, будем как можно более делать добра, будем чаще думать о смертном своем часе, который, кто знает, быть может, уже близ нас; памятование о нем спасительно. Проводя жизнь беззаботно, мы никогда не освободимся из сетей диавольских, коими, как паутиною, опутал он нас и уже считает многих из нас как бы своею добычею.
Востанем мужественно, призовем на помощь Всемогущего, разорвем сети диавольские, посрамим его и обрадуем нашего Ангела-хранителя. Размыслим со вниманием, что ради спасения нашего Господь сошел с неба, претерпел страшные страдания, завершившиеся позорною на кресте смертию, а мы ради своего собственного спасения и пальцем не хотим пошевелить. Какое омрачение, какая пагубная безпечность!.. Надеемся спастись без малейшего труда. Но суетна наша надежда, ибо многими скорбьми подобает нам внити в Царствие Небесное.
Прочтем жития святых, угодивших Богу, и что в них увидим?.. Иные труженики провели всю свою жизнь в строгом постничестве, покаянии и денно-нощных слезных молитвах, лишали себя даже необходимого, другие — посвятили себя на апостольское служение спасению ближних, постоянно заботились не о своем благе, а о благе ближних своих, претерпевали безчисленные скорби и гонения и самым делом исполнили заповедь Божию: больше сея люб ее никтоже имать, да кто душу свою положит за други своя.
Наконец, видим безчисленные лики мучеников, которые кровию своею запечатлели любовь свою к Богу, да и самые ближайшие к Господу ученики Его, — не все ли они мученически скончались? Кто был распят, кто обезглавлен, кто какою иною смертию умерщвлен!
Наконец, и сама Пречистая Дева Богоматерь какою лютейшею сердечною болезнию страдала при виде Бога и Сына Своего, неправедно осужденного, умученного и ко кресту пригвожденного?! Воистину сбылось тогда божественное о Ней проречение: и Тебе же самой душу пройдет оружие. Итак, пред нашими глазами страшная картина страданий!..
Пострадал Спаситель мира, пострадали и все близкие Его, все возлюбившие Его, почему и сказал Он: иже не приимет креста своего, и вслед Мене грядет, несть Мене достоин.
Но как же мы хотим наслаждаться этою жизнию и, в веселии проводя дни свои, спасти душу? Это невозможно.
Очевидно, что суетна наша надежда, напрасно наше ожидание. Если истинно хотим мы спастись, то должны, при помощи Божией, сопротивляться царствующему в нас греху, быть настороже, как бывает в военное время, в опасении внезапного нападения врага, зорко следить за внушаемыми им помыслами злобы, гордости, сребролюбия, сластолюбия и многими иными, с гневом отгонять их от себя, как лютых наших врагов, и понуждать себя непрестанно к любви, смирению, милосердию, воздержанию, покаянию и прочим душеспасительным добродетелям, внимательно следить за дурными своими привычками.
От долговременного к ним навыка, хотя и нелегко от них отстать, но это необходимо, если не хотим погибнуть. Во всех добрых начинаниях и намерениях наших нужно призывать Господа на помощь, зная и ведая, что без Него не только что-либо доброе сделать, но и помыслить не можем. Он, Спаситель наш, того только и ждет, дабы мы, как упоминаемый в Евангелии блудный сын, познали свое бедственное положение и обратились к Нему, Небесному Отцу своему, с сердечным покаянием: согретых, Отче, на небо и пред тобою, и уже несмь достоин нарещися сын твой, сотвори мяяко единого от наемник твоих.
Вот истинный путь, вводящий в Царствие Небесное, вот блаженная пристань, к которой все мы должны стремиться!
А если будем жить безпечно, как живем, тогда нечего нам и ждать, ибо что посеем во временной этой жизни, то и пожнем в вечной.
Многие там восплачут и возрыдают, будут горько раскаиваться и упрекать себя, но уже будет поздно: участь каждого будет тогда навеки безповоротно решена.
Печатается по изданию обители святого Пантелеймона. 1888. № 11.
Листок № 365. Как душу спасать?
Испытай, душе, и смотряй, якоже Иисус Навин[6], обетования землю, какова есть, и вселися в ню благозаконием.
Великий канон, песнь 6-я
Подобно Иисусу Навину, бывшему в земле обетованной для предварительного осмотра ее, и ты, душа христианская, испытай и виждь, что это за блага, какие уготованы любящим Бога в Царстве Небесном, чтобы возбудить в себе ревность к исканию их. Любящие Бога еще в настоящей жизни предвкушают их, ибо и здесь испытывают сладость общения с Богом в молитве, в таинствах, в чтении и изучении словес Закона Господня, сладчайших меда и сота. Иди к Царству Небесному путем благозакония, — доброго, согласного с Законом Божиим, жития!
Епископ Виссарион (Нечаев). Уроки покаяния
Исповедание — учение веры, открыто признаваемое.
Живот — жизнь; органическое существование, бытие в союзе души и тела; вечная, блаженная жизнь.
Присно — всегда, непрестанно, безпрерывно.
Умно и у мне — умственно, мысленно, духовно, благоразумно.
Что сказать тому, кто спросит: как душу спасти? Вот что: покайся и, укрепись силою благодатною в таинствах, ходи путем заповедей Господних, по тому руководству, какое дает тебе святая Церковь чрез богодарованное пастырство. И все это должно совершать в духе веры искренней, не размышляющей.
В чем же вера?
В сердечном исповедании, что Бог, в Троице покланяемый, все создавший и о всем промышляющий, спасает нас, падших, в силу крестной смерти воплотившегося Сына Божия, благодатию Пресвятого Духа, во Святой Своей Церкви. В этой жизни полагаются начатки обновления, которое в будущем веке явится во всей своей славе, так что и ум постигнуть, и язык изрещи не может…
Боже наш, как велики обетования Твои!..
Как же ходить неуклонно путем заповедей?
На это одним словом не ответишь. Жизнь — сложное дело. Вот что требуется:
А) Покайся и обратись ко Господу, познай свои грехи, оплачь их с сокрушением сердечным и исповедай пред духовным отцем, дав обет словом и в сердце своем положив пред лицем Господа не оскорблять Его более грехами своими.
Б) Затем, пребывая в Боге умом и сердцем, телом трудись в исполнении лежащих на тебе, по твоему положению, обязанностей и дел.
В) В этом труде паче всего блюди сердце свое от худых помыслов и чувств — гордости, тщеславия, гнева, осуждения, ненависти, зависти, презрения, уныния, пристрастия к вещам и лицам, рассеянности, многозаботливости, всех чувственных удовольствий и всего того, что отделяет от Бога ум и сердце.
Г) Чтобы устоять в этом труде, положи наперед не отступать от того, что сознаешь должным, хоть бы умереть пришлось. Для сего с самого начала произволением приноси живот свой в жертву Богу, чтобы жить так, как бы ты не был жив себе, а только единому Богу.
Д) Подпорою жизни в этом порядке служит смиренное предание себя в волю Божию и ненадеяние на себя; а духовное поприще, на котором совершается эта жизнь, есть терпение или непоколебимое стояние в порядке спасительной жизни, с благодушным перенесением всех сопряженных с тем трудов и неприятностей.
Е) Подпорою терпения служат: вера, или уверенность, что, работая так Богу, ты раб Его, а Он твой Владыка, Который видит твои труды, благоугождается ими и ценит их; надежда, что помощь Господа Бога, присно покрывающего тебя, всегда готова тебе и низойдет на тебя во время благопотребное, что Бог не покинет тебя до конца твоей жизни и, сохранив тебя верным заповедям Его здесь, среди всех искушений, введет чрез смерть в царство Свое вечное там; любовь, которая, денно и нощно помышляя о возлюбленном Господе, всячески заботится творить одно угодное Ему и избегать всего, что может оскорблять Его в слове, деле и помышлении.
Ж) Орудия такой жизни суть: молитва, церковная и домашняя, паче же умная, посильный пост по уставу Церкви, бдение, уединение, телесный труд, частое исповедание грехов и святое причащение, чтение Слова Божия и писаний отеческих, беседа с людьми богобоязненными, частое совещание с своим духовным отцем о всех случаях внутренней и внешней жизни. Учредитель всех сих подвигов в мере, времени и месте есть благоразумие с советом опытных.
3) Огради себя страхом. Для сего помни последнее — смерть, суд, ад, Царство Небесное.
Более всего внимай себе, храни ум трезвым и сердце несмущенным.
И) Последнею же метою поставь возгорение духа, чтобы духовный огнь возгорался в сердце твоем и, собрав все силы воедино, начал созидать твоего внутреннего человека и окончательно попалять терние твоих грехов и страстей.
Так устройся, и благодатию Божиею спасешься.
Пустынножительство в мире
Есть удаление от мира телом — это удаление в пустыню; но можно удалиться от мира, и оставаясь в мире, — это удаление от него образом жизни. Первое не для всех уместно и не всем под силу; а второе обязательно для всех и всеми должно быть выполняемо. Вот к этому-то и приглашает нас в своем каноне святой Андрей, когда советует удалиться в пустыню благозаконием.
Брось обычаи мира, и всякое твое действие, всякий шаг совершай так, как повелевает благой закон Евангельский, — и будешь жить среди мира, как в пустыне. Между тобою и миром это «благозаконие» станет как стена, из-за которой не виден будет тебе мир; хоть и пред глазами будет он у тебя, да не для тебя. У мира будут свои чередования и изменения; а у тебя свой чин и свои порядки: он пойдет в театр, а ты в церковь; он будет танцевать, а ты класть поклоны; он пойдет на гулянье, а ты останешься дома, в своем уединении; он будет упражняться в празднословии и смехотворстве, а ты в молчании и богохвалении; он в утехах, а ты в трудах; он в чтении пустых романов, а ты в чтении Слова Божия и отеческих писаний; он на балах, а ты в беседе с единомышленными тебе или с отцем духовным; он в корыстных расчетах, а ты в Богомыслии.
Начертай во всем себе правила и порядки жизни, противоположные обычаям мира, и будешь в мире — вне мира, как в пустыне, ни тебя не будет видно в мире, ни мира в тебе. Таким образом, и в мире ты будешь пустынножитель.
Умная молитва — долг и мирян
Пишете: «Была у меня одна благочестивая особа, — и мы разговаривали о делах Божиих. Коснулись молитвы. К моему удивлению, гостья моя стояла на том, что мирянам не только не под силу, но и совсем не подходит умную иметь молитву. Я сказала на это что могла. Прошу и вашего об этом слова».
Ваша гостья неправо рассуждала. У кого нет умной внутренней молитвы, у того и никакой нет, ибо только умная молитва и есть настоящая молитва, Богу угодная и приятная. Она должна составлять душу домашнего и церковного молитвословия; так что коль скоро ее нет при сем, то молитвословия те имеют только вид молитвы, а не суть молитвы.
Ибо что есть молитва? Молитва есть ума и сердца к Богу возношение, на славословие и благодарение Богу и испрашивание у Него потребных благ душевных и телесных. Существо молитвы, стало быть, есть умное к Богу восхождение из сердца. Становится ум в сердце сознательно пред лицем Бога и, исполняясь достодолжного благоговения, начинает изливать пред Ним сердце свое. Вот и умная молитва! Но такова и должна быть всякая молитва. Внешнее молитвословие, домашнее или церковное, дает ей только слово и форму; душу же или существо молитвы носит всякий сам в себе в своем уме и сердце. Весь церковный молитвословный чин наш, все молитвы, сложенные для домашнего употребления, исполнены умным обращением к Богу. Совершающий их, если он хоть мало внимателен, не может избежать сего умного к Богу обращения, разве только по совершенному невниманию к совершаемому им делу. Без умной молитвы никому нельзя обойтись. Не возноситься к Богу молитвенно мы не можем, ибо природа наша духовная того требует. Вознестись же к Богу мы иначе не можем, как умным действием, ибо Бог умствен. Есть, правда, умная молитва при словесной или внешней, — домашней ли или церковной, и есть умная молитва сама по себе, без всякой внешней формы или положения телесного; но существо дела там и здесь одно и то же. В том и другом виде она обязательна и для мирских людей. Спаситель заповедал — войти в клеть свою и молиться там Богу Отцу своему втайне. Клеть эта, как толкует святитель Димитрий Ростовский, означает сердце. Следовательно, заповедь Господня обязывает тайно в сердце умом молиться Богу. Заповедь эта на всех христиан простирается. Вот и апостол Павел что заповедует, когда говорит, что должно всякою молитвою и молением молиться на всяко время духом? (Еф. 6, 18). Заповедует умную молитву, — духовную, — и заповедует всем христианам без различия. Он же всем христианам заповедует непрестанно молиться (1 Сол. 5, 17). А непрестанно молиться иначе нельзя, как умною молитвою в сердце. Значит, умная молитва для всех христиан обязательна; а если обязательна, то нельзя уже говорить, что невозможна, ибо к невозможному Бог не обязывает. Что она трудна, это правда; а чтоб была невозможна, это несправедливо. Но ведь и вообще все доброе трудно; тем паче таковою должна быть молитва, источник для нас всего доброго и верная того опора. Спросит кто: как же это сделать? Очень просто: возымей страх Божий. Страх Божий, как чувство, привлечет внимание и сознание к сердцу, а как страх, заставит внимание и сознание стоять в сердце благоговейно пред Богом. Вот и умное предстояние Богу, — вот и молитва умная! Доколе в сердце есть страх Божий, дотоле умное предстояние Богу не отойдет от сердца. Вот вседейственное средство к умной молитве! Но как же, скажет кто, дела развлекают? Не будут развлекать: возымей только страх Божий. Умному предстоянию Богу или памяти Божией мешают не дела, а пустоделие и худоделие. Отстрани пустое и худое, оставь одно обязательное, не по светской, а по евангельской обязанности, — и увидишь, что исполнение такого обязательного не только не отклоняет от Бога, а, напротив, привлекает ум и сердце к Богу. То и другое (обязательные по Евангелию дела и молитва) одного рода и требует одинакового строя душевного. Что ни стал бы ты делать из этого круга, всегда обратишься к Богу, чтоб помощи испросить и дело самое Ему посвятить во славу. Вставши утром, установись покрепче пред Богом в сердце в утренней своей молитве и потом исходи на дело свое, Богом тебе определенное, не отрывая от Него чувства своего и сознания. И будет то, что силами души и тела будешь делать дела свои, а умом и сердцем пребывать с Богом.
Неправо понимают умную молитву, когда думают, что для нее требуется сидеть где-либо скрытно и таким образом созерцать Бога. Нигде не нужно для сего укрываться, кроме своего сердца, и там установят, зреть Господа пред собою, как бы Он был одесную, как делал святой Давид. Говорят: к образованию умной молитвы помощным средством служит уединение, а для мирян как возможно уединение, — у них непрестанные дела и столкновения? То правда, что для умной молитвы нужно бывает уединение. Но есть два рода уединения: одно всецелое, всегдашнее, когда кто уходит в пустынь и живет один; другое — частное, бывающее по временам. Первое, действительно, не идет к мирянам, а второе возможно для них, и даже есть у них. У всякого случается сколько-нибудь времени всякий день, когда он бывает один, хоть бы даже и не заботился намеренно о том, чтоб устроять для себя часы уединения. Вот эти часы и может он обратить на образование, укрепление и оживление умной молитвы. Следовательно, никто не может отговариваться недостатком благоприятного умной молитве положения в порядках своей жизни. Улучишь такой час, — и углубись в себя. Брось все заботы, стань умно в сердце пред Богом и изливай пред Ним душу свою. Но есть, кроме внешнего, еще внутреннее уединение. Вне — обычное течение дел человеческих; а между тем среди них иной один себе сидит в сердце, ничему не внимая. Всеми испытывается, что когда у кого болит сердце о чем-либо, то будь он в самом веселом и многоречивом обществе, ничего не слышит и не видит. Там — у сердца своего сидит он с своею болезнию. Если же так бывает в житейских делах, то отчего не быть подобного сему и в порядке жизни духовной? Есть и тут болезнования, которые еще гораздо сильнее и глубже всех болезней житейских. Когда кому западет в сердце болезнование в этом порядке жизни, что будет в силах тогда извлечь сознание его из его уединенного пребывания в сердце? — Следовательно, стоит только его завесть, чтоб быть уединенну, и наедине будучи. И за этим недалеко ходить. Оживи страх Божий, — и пойдут болезнования самые сокрушительные, которые прикуют внимание и чувство к единому потребному, како приидем и явимся лицу Божию. Вот и уединение! Еще одно недоумение: в деле умной молитвы надо иметь руководителя; где взять его мирянину? Там же, в миру, и между духовными отцами и даже между мирянами. То правда, что реже и реже становятся лица, к которым можно было бы благонадежно обратиться за советами о духовной жизни. Но они всегда есть и будут. И желающий всегда находит их, по милости Божией. Жизнь духовная есть Божия жизнь; и Бог особое имеет попечение о взыскивающих ее. Возревнуй только, — и найдешь все благопотребное около себя. Так, стало быть, хотят или не хотят миряне, а от умной молитвы нечем им отговориться. Пусть берутся за нее и учатся ей.
Листок № 387. О подвиге общения
Христианская жизнь есть хождение во свете. За серостью нашей жизни мы не видим и не сознаем себя в полноте нашей миссии на земле, в полноте данных нам от Бога дарований, не сознаем даже самих себя. Дарования нашей души остаются у нас неиспользованными. Мы кажемся себе никчемными и других считаем такими же, меряя их по себе, и говорим: «Мы маленькие люди, обыкновенные. Где уж нам что-либо сделать». «Только бы кусок хлеба заработать». Это умаление себя часто ослабляет нашу волю к действию, — между тем, как мы ни малы и слабы, но каждый из нас имеет свою миссию. Каждый человек в мире имеет свое назначение, является посланником Божьим на земле. Для Господа нужна каждая душа, и каждый ответственен за свою жизнь и не избавлен от ответственности за других. Не в малости нашей дело, а в нежелании взять на себя ответственность. Мы часто говорим: «Это не мое дело», «пусть уж другие стараются, моя хата с краю». Такими словами мы перекладываем свою ответственность на других. Перекладывая же ответственность на другого, мы как бы тем самым перекладываем и вину тоже на другого, отчего возникает осуждение, которое ведет к разделению. Возьмем для примера то, что произошло с нашей Родиной. Мы не хотим все признать себя виновными, а все говорим, что в нашем несчастье виноваты то те, то другие. А между тем, если каждый признает свою вину в разрушении России и покается в ней, то Господь дарует спасение нашей Родине.
Внешняя жизнь во многом зависит от нас самих. В силу своего посланничества на земле каждый имеет влияние на окружающую и тем самым на мировую жизнь. Если недобрая воля как бы нейтрализует силу добра, тем паче воля, освобожденная от греха, имеет громадное значение.
Мы живем каждый день, и каждый день общаемся с теми или иными людьми. Общаясь друг с другом, мы можем раскрыть себя или в худшую, или в лучшую сторону. К сожалению, мы обычно не вскрываем света и добра, в нас обретающихся. Наши дарования нейтрализуются серостью нашей жизни. Мы часто сами не знаем ценностей нашей души, и от этого ложится на душу некоторое помрачение. Ведь для выполнения нами своего назначения, для раскрытия нас самих надо, чтобы открылись наши внутренние очи: только тогда мы увидим в душе те ценности, которые закрыты от нашего внутреннего ока. Надо самим открывать в себе эти ценности и помогать другим раскрывать их. Особенно надо подчеркнуть значение последнего: помогая другим открыть себя, мы сами открываемся себе в своей глубине. Этим именно и полезно общение с другими людьми: оно является для нас школой нашего спасения, школой нашего духовного напряжения, — избегать же общения с людьми для христианина не всегда полезно.
В одиночестве человек становится почти всегда беден. Чем больше он будет отдаляться от людей, тем более он будет сам беднеть. Живя в одиночку, мы как бы отрезаем себя от общей жизни, от жизни целого организма и в этой самости засыхаем, так как не питаемся тогда соками общей жизни. Через общение же с людьми происходит извлечение нераскрытых сил человека: через соприкосновение сродных начал силы эти приходят в движение. Общение с людьми обогащает, таким образом, нашу душу: она расцветает через полноту нашего сближения с другими людьми. Каждый человек ведь индивидуален, но каждый человек может восполнить в себе недостающее через общение с целым организмом человечества. Люди — цветы Божии; надо, как пчела, уметь собирать мед с этих цветов, обогащать себя индивидуальностью других и свою индивидуальность раскрывать для других.
Иногда общение нам бывает трудно, но мы призваны к общей жизни, и общение с людьми есть поэтому христианский долг. Человек, общаясь с другими и творчески преодолевая разделение, раскрывает свои ценности, обогащается сам и тем самым обогащает других. Каждая ведь встреча может дать нам очень много. Если быть внимательным к окружающим нас людям, то непременно унесешь богатство, отыщешь ценности — свет и добро. В каждом человеке есть прекрасное, и только наша греховность не позволяет нам видеть это. Обычно мы только внешне прикасаемся друг к другу и не даем себе труда добраться до подлинной сущности человека. Мы не раскрываем человека с душевной стороны во всей его полноте. Мы встречаемся с Иваном, Петром, Марьей, Дарьей и в большинстве случаев расцениваем их неправильно, рассматривая их чисто внешне. Мы говорим: «Тот симпатичный, а этот нет». Часто, видя какие-нибудь недостатки человека, мы сторонимся от него, принимая то, что несущественно для него, за его истинную действительность, и, не пытаясь даже добраться до сущности, осуждаем его, чем отделяемся друг от друга, не пытаясь преодолеть то, что разделяет нас. Мы привыкли общаться с людьми нам приятными, когда в нас есть естественное расположение друг к другу. Встречая же малейшее препятствие при общении, мы не употребляем воли для преодоления его. Поговорить с человеком, к которому имеешь предубеждение, нам очень трудно, но именно это затруднение нам и надо преодолевать. Господь хочет собрать нас воедино, лукавый же старается отделить нас друг от друга. Через преодоление разделения мы опознаем друг в друге то единое, что у нас от Бога, что составляет нашу силу, что дает нам благо жизни — благобытие. Грех разделил весь род человеческий. При победе в себе греха люди взаимно приближаются, так как возвращаются к изначальному своему состоянию общности человеческой природы — единого организма. Не преодолевая того, что нас разделяет, мы видим не подлинную жизнь каждого человека, а личину его, которую мы неправильно принимаем за действительность. Наша разделенность, наша самость искажает нашу жизнь.
Нередко мы должны для общения с людьми побороть в себе некое неприятное чувство, пересилить себя, совершить некоторый подвиг, побороть свою неприязнь, что является уже доброделанием или добродетелью. В самом деле, это есть наша задача каждого дня для каждого из нас. Общительность есть дарование Божие, а из необщительного сделать себя общительным ради пополнения своей скудости — есть подвиг.
Иногда мы видим, что в рядовых людях вдруг открываются необыкновенные ценности при каких-нибудь чрезвычайных событиях, как, например, война или какое-нибудь иное бедствие. Зачем же ждать этих чрезвычайных событий, чтобы узреть добро в человеке? Относясь творчески к жизни, мы всегда можем его выявить, надо только постараться выйти из инертности и преодолеть разделение. Преодолевая это разделение между людьми, люди начинают ощущать единство жизни, которое дает им благо, несет радость, блаженство. Через преодоление разделенности мы как бы входим внутрь друг друга, примером чего может служить дружба. Про таких людей говорят: «они живут душа в душу». Только через преодоление того, что разделяет нас, является перед нами полнота жизни.
Нам обычно кажется, что наши встречи с людьми случайны. Конечно, это не так! Господь ставит нас друг около друга в семье, в обществе, чтобы мы один от другого обогащались, чтобы, прикасаясь друг к другу, люди трением возжигали блестки света. Господь говорит: «Вот тебе задача. Я поставил тебя с тем или иным человеком. У тебя в сердце есть талант, которым Я наградил тебя, раскрой его». Господь, посылая каждую душу в жизнь, оделяет ее каким-либо талантом и дает ей арену для действия, для расцвета ее духовной жизни. И как каждый человек духовно неповторим, то если его духовное богатство не будет выявлено, это будет смерть духовная, исчезновение света Божия в данной точке бытия. Поэтому каждый должен заботиться о своем духовном мире, чтобы дать свету Божию в нем засиять, а не исчезнуть.
Отчего не хотим мы, как бы медлим использовать силы, которые находятся в нас? Через борьбу с грехом в нас самих мы освобождаем начала добра в себе и этим можем сами творить новую жизнь, сокращать зло на земле, сокращая, прежде всего, зло в самих себе. Малейшее усилие с нашей стороны разрежает нашу инертность, пробуждает дремлющее в нас добро и выявляет его.
Каждому даны свои таланты. Каждого Господь спросит: «Почему ты не сделал того, что должен был сделать?» Задача каждого в своей жизни раскрыть и умножить талант, данный ему Богом. Обыкновенно говорят: «У меня нет никаких талантов», — имея в виду талант ученых, художников, общественных деятелей… Но гораздо важнее таланты сердца, которыми Господь наделил каждого человека, как, например, приветливость, чуткость, сострадательность. Раскрытие этих талантов, как природных свойств нашей души, в наших руках; эти наши таланты, конечно, раскрываются лишь через живое общение с людьми. Мы и должны, поэтому научиться извлекать ценности своей души через близость к тем людям, с которыми нас поставил в жизни Господь. Мы вообще ведь соединены различными нитями друг с другом, — и нам надо через эти нити создавать общность и единство в нашей жизни. Наша задача в жизни может быть сформулирована как искание общности в жизни с людьми, с которыми мы связаны. Больно сознавать, что многие люди жалуются на одиночество. Обособленность от других, действительно, угнетает человека, а единение, наоборот, дает бодрость, так как человек чувствует, что он в мире не затерян. Единение между людьми есть нить, переброшенная от земли к Небу, к Богу, к Единящему центру. Единство, исходящее от сердца одного к сердцу другого, имеет в себе направление к единому центру — к Богу, ибо единение между людьми и есть жизнь, разделение же есть смерть. Единение между людьми несет нам благо, которое дает нам радость жизни. Это есть закон жизни, отступая от которого люди должны страдать неминуемо. Мы все созданы по образу Божию, — и это значит, что образ Божий и есть то, что нас единит. Сближаясь, можно постепенно достигнуть единомыслия, единодушия, единоволия… того единства, о котором Христос сказал: Якоже Ты, Отче, во Мне, и Аз в Тебе, да и тии в Нас едино будут (Ин. 17, 21). А мы даже не считаем долгом искать в серости людской жизни того, что у нас от Бога, что на самом деле могло бы нас сблизить. Разделенность мы принимаем за подлинное бытие и не употребляем усилия, чтобы преодолеть эту разделенность. А состояние разделенности лишает нас возможности находить радость в повседневной жизни, мешает нам раскрыться и выявить свои ценности.
Мы все ждем радостей жизни извне, а того, что есть в нас самих, мы не замечаем. Мы потому и окутаны тьмой — и внутри, и вовне. В наших сердцах лежит тьма греховная, и мы придаем не то значение вещам, какое надо. Мы запутываемся в мелочах, устаем в суете, дела не делаем, а друг с другом ссоримся. Так день идет за днем, и данный момент жизни уходит без того содержания, которым мы могли бы наполнить нашу жизнь, если бы прежде всего искали друг в друге общее нам, божеское. Мы не различаем значимости минут, дней, часов, вещей… У нас ослепление какое-то. В нашей обыденной жизни, где требуется поминутно преодолевать препятствия, чтобы быть в общении, мы по несознанию важности этого не преодолеваем их. Мы ходим во тьме и ежеминутно спотыкаемся, отчего очень страдаем. Если бы мы попробовали преодолеть тьму в нас самих, то этим самым сделалось бы светлее и вокруг нас, но мы не стараемся рассеять тьмы. Если же достигнуть момента осветления, то все изменяется, и люди, окружающие нас, становятся как бы иными.
Постоянно слышно: «Нет людей хороших». Как нет людей? Среди нас люди и с образованием, и с умом, и с душевным кладом, и только за внешней, серой оболочкой мы этого не видим, чем зарываем и свои таланты, и чужие. Мы рабы ленивые и лукавые.
Мы говорим, что не можем умножить свои таланты, хотя и сказано: Толцыте, и отверзется вам.
В каждом сердце надо искать клад. Клады ищут часто, но не душевные, а надо искать душевный клад. Могут спросить: «Зачем?» Ответим: чтобы обогатиться. Мы видим в людях только внешнее и берем от них внешнее и не замечаем клада, лежащего в каждом, не ищем этого клада. Надо искать талант сердца — этот клад есть источник блага. Но как это сделать? Для этого нужно напряжение и труд. Без труда, говорят, — рыбку не вынешь из пруда. Если и великие таланты, получив дар от Бога, должны трудиться, чтобы был соответствующий плод, то тем более это верно для обыкновенных людей.
Подходя к человеку, будем вглядываться в его сердце, которое есть центр человека. Христос сказал, что все исходит из человеческого сердца: Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое (Лк. 6, 45). Доброта сердца есть дар Божий, ее можно удесятерить, — на доброте сердца легче построить добродетель. Иоанн Златоуст говорит: «Не в том чудеса, что делаем великие дела, а чудо то, когда злой превращается в доброго», ибо тогда побеждаются уставы естества, совлекается ветхий человек и созидается новая тварь через борьбу с грехом. Борясь с грехом, человек совершенствуется, то есть становится тем, что его роднит с Богом. Человек, побеждая грех в себе, открывает этим лучшие стороны своей души, чем в то же время вскрывает и в другом человеке клад, о существовании которого тот и сам даже не подозревал. При грехе человек как бы боится другого человека, не ступает радостно по земле. Он думает про себя, как бы ему не встретиться с тем или иным человеком… Побеждая же грех, человек подходит легко к другому человеку и заражает его добром. Наша задача обращать внимание не на внешнее, а искать в себе и в других то, что у нас от Бога. Если посмотреть каждому человеку внутрь, то можно увидеть его истинную сущность. Это нелегко сделать, но надо нудить себя на это.
Подойдем к тому же с другой стороны. Душа наша многогранна и раскрывается не вся целиком сразу. Разнообразные силы душевные зреют благодаря действию нашей воли, а еще более через влияние нашего опыта, всей жизни. Как часто, устремляясь к добру, мы даем простор дурным движениям, связанным с этим добром: так прорастают в душе новые плевелы. Усилием воли мы могли бы вырывать эти плевелы, — и тогда талант души мог бы раскрыться в атмосфере уже очищенной. Господь прижимает нас друг к другу, как, например, в изгнании, а мы не сближаемся, не ищем божеского друг в друге, а только все ссоримся и отделяемся друг от друга. Мы не раскрываем своего капитала, тогда как этот капитал, раскрытый через общение, своим единством может приблизиться к единству ума, воли и чувства. Это клад душевный, обретение которого прекратило бы наше разделение. Найдя этот клад, мы будем черпать из него силы для жизни. Если этого не сделаем, Господь посечет нас, как смоковницу безплодную.
Когда мы пребываем в добром общении с людьми, мы освещаемся искорками света, уносим с собой то невидимое, чем и живем. Господь посылает нас в мир, чтобы выявить свои богатства. Если мы по крупинкам соберем открытое нам добро и свет, то и это уже будет много. Если будем собирать крупинки света, то в этой атмосфере пропитаемся и сами светом, — и тогда произойдет вспахивание нашего окаменевшего сердца. Отыскивание этого света и есть процесс нашего спасения. Здесь важен уже процесс самого искания, так как это уже есть момент духовного просветления: красота искомого тогда наполняет красотою нашу душу. Вот пришла благая мысль отыскать клад в своей душе, и в поисках его мы неминуемо будем выдергивать плевелы из своего сердца. Момент исторжения греховных терний из нашего сердца и очищение его и дает нам ощущение подлинного блага, дает радость жизни. Это благо есть ступень к обители лицезрения Бога, момент нашего духовного роста — блаженство. Сказано: Чистии сердцем Бога узрят (Мф. 5, 8). Такими отдельными моментами человек как бы вдвигается в вечность, утверждается в вечности, уготовляя себе уголок в обители, которая есть свет, идущий от Света светов.
Подвиг очищения сердца требует от нас хождения во свете, а мы ходим во тьме и не ищем света. Тьма в нас самих переходит и на других, и мы свои действия определяем нереальным отношением к другим. Темные состояния загораживают подлинную перспективу жизни, ее подлинное восприятие. Надо помнить, что подлинное у человека — божеское, что дает благо и радость, тьма же окрашивает все в темные тона. Господь сказал: Я Свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме (Ин. 12, 46). В мире то, что мы принимаем за реальность, не есть подлинная реальность, какой является лишь Божественный свет, но этот свет может засиять в нас лишь в итоге борьбы с грехом, через преодоление тьмы усилием нашей воли и благодатью Божией.
Божественный свет, который мы в себе открываем, делает нас зрячими, а когда у нас открыто зрение, то мы не будем всю силу нашей души влагать в незначащие вещи. Когда с помощью Божией свет этот выявится в нас, он будет все нам освещать. С Божественным светом, как с фонариком, идет человек и освещает свой путь, и тогда всюду и в других людях видит он тот же свет. Свет этот есть ведь в каждом человеке, но он так закрыт тьмой, что мы до времени его не ощущаем и не видим его в других. Ощутив этот свет, мы как бы просыпаемся, и все меняется вокруг нас, напор темных сил и чувств теряет свою силу. При Божьем свете мы этой внутренней обращенностью к Богу собираем из хаоса света и тьмы разбросанные точки света в один фокус и этим не только светим сами, но вызываем к действию свет и в других людях.
Когда в общении с людьми возникают затруднения, когда лукавый производит бурю в нашем сердце и там водворяется темнота, надо обращаться за помощью к Богу, призывая имя Его мысленно. Это есть момент духовный. Вот человек одержим некой страстью, он движется как бы механически и может, находясь в темноте, наговорить много глупостей, которые внесут неминуемое разделение. Надо скорее хвататься за то, что внесет свет во тьму, то есть за Господа. Обращенностью к Богу, этим творческим актом, человек призывает свет, и этот свет от Бога идет в его сердце, то есть Сам Господь нисходит в сердце и Своим присутствием все там освещает и начинает там царить. Этим обращением к Богу, творческим словом к Воплотившемуся Слову собирается свет и начинается царение Божие, которое уничтожает разделение. Тогда в сердце обитает Бог. Тогда тьма преодолевается, и это преодоление вводит нас в иную область бытия, — новую радостную жизнь. Эта новая жизнь является следствием озарения нас Божественным светом, который открывает нам присутствие в нашем сердце Господа, в сердце водворяется мир и радость, и тогда мы начинаем ощущать то единение, которого так ждет наша душа.
Надо уметь освещать наши взаимоотношения с людьми светом Христовой истины, чтобы они приносили нам благо. Отыскивая общее нам божеское, мы становимся соработниками Божьими на земле. Работая Господу, мы как бы преображаемся, входим в область бытия света, и в нашей преображенности отображается свет и слава Божия, и Сам Господь утверждается в нас: Идеже бо есте два или трие собрани во имя Мое, ту есть посреде их (Мф. 18, 20). Аминь.
Печатается по изданию: О подвиге общения.
Мысли из бесед епископа Сергия (Прага).
Печоры: Путь жизни, 1938.
Листок № 398. Памятка для духовных чад
Думаю, что для правильного роста духовной жизни каждому христианину и христианке нужно чаще спрашивать себя, имеется ли в нем:
1. Вера в Бога Отца нашего небесного несомненная, живая, то есть оправданная делами жизни, начиная с мыслей, желаний, слов и так далее. Сомнения считать тяжким грехом и гнать их немедленно покаянием. Бог есть Отец наш, а Церковь — Мать, поэтому люди как истинные дети Бога и святой Церкви должны несомненно верить, что каждое слово Бога и каждое правило, обряд и установление святой Церкви — есть непреложная истина.
2. Любовь к Богу, выражающаяся прежде всего в молитве пламенной и постоянной, в доставлении храма святой Троице в сердце нашем и в предстоянии пред Его престолом, как горящая лампадка, с краткой, но частой молитовкой, стараясь ею наполнять день и ночь, когда не спишь. Тогда станет понятно слово апостола Петра древним христианам: вы сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом (1 Пет. 2, 5). Таким образом, в этом храме святой Троице, что человек поставил в сердце своем, душа его и будет сама священником, приносящим святые молитвенные жертвы за себя и за всех. Обычно люди в молитве ищут наслаждения, — а мне кажется, что молитва есть наш долг, священная обязанность пред Богом, и потому главное в молитве — это внимание и труд, а остальное, как Бог даст, благословит Господь наш молитвенный труд радостию — благодарим, а если сухостию — тоже благодарим, мы радости-то недостойны. Любовь к Богу выражается в богомыслии, чтении слова Божия, в безусловном и мгновенном послушании святому Божьему Закону и святой Церкви и в том, наконец, чтобы не творить себе кумира, то есть не любить больше Бога никого и ничего.
3. Надежда христианская, выражающаяся во всецелом предавании себя Промыслу Божию премудрому, всеблагому и всемогущему, в постоянном уповании на помощь Божию нам благодатию Святого Духа.
4. Всегда нужно держаться за руку Божию, как говорит святой Давид в 15-м псалме, стих 8: Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь, то есть нужно всегда помнить о вездеприсутствии Божием и о соприсутствии Бога человеку.
5. В жизни вообще, и особенно в духовной, нужно хранить святое рассуждение, которое есть духовная соль, не дающая жизни портиться, оно хранит правильность, неповрежденность духовной жизни.
6. Любовь к ближнему; она должна основываться на твердом исповедании, что все человечество есть единая семья, имеющая Отцом Самого Господа Бога и прародителей Адама и Еву. Отсюда выводы: а) на земле нет чужих, все родные; б) на земле нет злых и зла, а есть больные братья и сестры, и есть великая болезнь духа всего человечества, выражающаяся или в отчуждении от Бога и Его святого Закона, или в теплохладии. Нужно заметить, что в очах правды Божией отчуждение от Бога (неверие) и теплохладие равноценны, и уже Господом объявлено, что холодный и теплохладный извергнутся из уст Божиих, то есть из Царства Небесного, если не покаются. Таким образом, земля есть больница, все люди, больные душою и телом, братья и сестры, и по отношению друг к другу есть духовные братья и сестры милосердия. Отличительное же свойство истинных братьев и сестер милосердия есть до самоотвержения любить всех людей и служить им к временному и вечному их спасению. Вообще нужно жить так, чтобы от каждого человека изливалась одна радость, мир, утешение, кротость (ровность) на всех окружающих.
7. Грех имеет три степени: а) прилог, то есть мысленный толчок греховный (грех приложился к уму), б) совершение греха в мечте и в) слово или дело, когда этот прилог или мечта обнаруживаются в слове или деле. Вот и нужно приучиться к постоянной (вообще очень частой) краткой молитовке Богу, Богоматери, Ангелам и святым и к немедленному внутреннему покаянию, которым мгновенно побивается прилог, не допуская его до мечты. Борьба с прилогами есть одно из главных деланий в духовной жизни, и, если она серьезна и настойчива, человек преображается по образу Христа. При серьезной борьбе с прилогами у христианина появляется решение воспитывать в себе необнаружение греха в другом, чтобы внутренней молитовкой за грешника, прежде слова о нем осудливого или гневного, остановить в себе вспышку гнева или осуждения, и в человеке образуется ровность или кротость, и человек этот себя и всё, и всех победит и приведет ко спасению.
8. Очень важно для духовной жизни, чтобы христианин подобрал себе общество людей, среди которых он отдыхал бы душою, получал помощь, особенно духовную. Это достигается знакомством, особенно в храмах, с достойными людьми и чтением духовной литературы. Самое же главное — нужно приучить себя быть всегда в обществе Самого Господа Бога Триединого, Богоматери, святых Ангелов и святых угодников Божиих, что достигается молитвой, богомыслием и вообще благоговейными размышлениями, а также чтением житий святых и их творений. Таким образом, находясь мысленно, любовию сердца и молитвой со святым чтением, что есть беседа с этими земными и небесными святыми друзьями, человек одухотворяется, облагодатствуется.
9. Помысл смертный уничтожает пристрастие ко всему временному, земному и широко открывает дверь ко всему вечному, небесному. Понятно, как спасительно приучить себя к помыслу смертному.
10. Необходимо помнить цель жизни человека — богоуподобление, сыновство по отношению к Богу и братство по отношению к людям.
11. На всякую работу или службу в земной жизни нужно смотреть как на данное от Бога послушание в миру или в обители и исполнять его добросовестно.
12. Наконец, всё покрывающее — это святые таинства Церкви и богослужение со всеми церковными обрядами. Нужно непременно всем христианам знать смысл и значение каждого принятого или принимаемого таинства, вспоминать об этом, размышлять, проверять себя. Прежде всего, вспомните уже принятые таинства крещения и миропомазания. Дали обеты на всю вечную жизнь: отречение от сатаны и злых дел его и сочетание Христу, погрузили в святые воды купели, утопили, убили первородный грех и грехи, совершенные до крещения, и самое грехолюбие, погрузили во Христа всего человека, его тело и душу, всю жизнь его, в постриге отрезали самость свою и обещались жить только по воле Божией, по заповедям Божиим, по правилам и вообще руководству Церкви святой, в купели человек умер греху, умер земной жизни и воскрес (вынырнул) со Христом и во Христе для блаженного — вечного безсмертия. В таинстве миропомазания человек получил особую благодать Святого Духа, освящающую христианина и дела его, помогающую ему. Об этом нужно крепко помнить и никогда не теряться, что бы ни случилось в жизни, никогда не падать духом, не смущаться трудностями жизни, несчастиями, болезнями, — а равно и счастием земным, помня всегда, что с нами благодать святого мира Святого Духа, специально данная для помощи нам. Ей и слава, честь и благодарение, — а унынию и гордости не быть! Далее нужно помнить, что таинство покаяния есть как бы второе крещение, оно восстанавливает невинность, а посему нужно не раз в год, а возможно чаще прибегать к нему, и не в общей только исповеди, а, главное, в отдельном исповедании, когда является возможность дать полный отчет о своей жизни во Христе, получить разрешение грехов, омыться в духовной купели покаяния, особенно слезного, получить руководственные советы духовника и бодро идти обновленным на трудовую духовную жизнь! Особенно после исповеди нужно напомнить себе, что человек, решивший серьезно жить по-христиански, должен обязательно сейчас же претворять в жизнь данные советы, а не откладывать под разными предлогами, только на словах восторгаясь руководителями и даваемыми ими советами. Вспоминаю здесь слова апостола Павла о христианах, и особенно о женщинах, которые постоянно учатся и ничему не научаются именно оттого, что только с удовольствием слушают, а в жизнь немедленно не претворяют слышанного. Таинство святого причащения Тела и Крови Христовых есть возвращенное Древо Жизни, оно соединяет существенно тело и душу человека с Богом, и люди всего мира, приобщаясь Тела и Крови Христовых, не только каждый отдельно соединяется с Богом, но и все объединяются во Христе у Его святой Чаши во единое целое Общество Любви. В таинстве брака муж и жена получают благословение Божие и благодать для взаимного достижения вечного спасения и для рождения и воспитания детей тоже для вечной жизни. Юноши и девицы, не вступившие в брак посредством обета девства, души свои, как невесты, соединяют со Христом-женихом, это тоже есть брак… Таинство елеосвящения (соборование) ко исцелению души и тела, его принимать обязаны все христиане, ибо все болеют телом и душой грехами, а в таинстве елеосвящения особенно молится иерей об исцелении души от грехов, особенно забытых, вообще в этом таинстве грехи — прямо считаются болезнью души. Обязательно все христиане должны изучить смысл богослужения и обрядов церковных, особенно их исторический и символический смысл, и приучить себя, присутствуя при совершении богослужения и обрядов, духовномолитвенно переживать этот смысл.
Преподобноисповедник Сергий (Сребрянский)
См. Дамаскин (Орловский), иером. Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской
Православной Церкви XX столетия. Книга 3.
Тверь, 1999. С. 586–588.
Листок № 490. О чтении духовных книг
…приводитесь вы в заблуждение, не зная Писаний, ни силы Божией (Мк. 12, 24).
…я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему (Рим. 1, 16).
Вера от слышания, а слышание от слова Божия (Рим. 10, 17).
…и в поучении моем разгорится огнь (Пс. 38, 4).
Размышление о божественных словах Духа, когда мы их как бы утончаем, разжигая и испытывая оныя, истребляет вещество худых помыслов и производит умственный огонь, который, согревая ум, приготовляет его к сильной молитве и представляет прошения Богу с разумом. Ибо, в ком размышление о божественных словах возжено огнем Давида, у того, разгоревшись, огонь любви к духовному созерцанию сильное стремление свое превращает в высокий пламень. Размышляя, говорит, о божественных словах: я горел, как Клеопа и бывшие с ним, говорящие: Не сердце ли наше горело в нас? (Лк. 24, 32).
Толковая псалтирь
Внемли чтению. 1 Тим. 4, 13
Так, святой апостол Павел заповедует своему возлюбленному ученику, епископу Тимофею, чтение святых и душеполезных книг как одно из главных средств для преуспевания в духовной жизни. И святые отцы, следуя Апостолу, заповедуют всем непрерывное чтение святых книг как одно из важных средств к духовному совершенству.
Пока процветала вера и чистая жизнь, не было Писания. Благодать Святаго Духа, живущая в сердцах, просвещала людей Божиих вместо книг. Таковы были древние: Ной, Авраам и сын его, Иов и Моисей; с ними Бог беседовал не чрез Писания, но непосредственно, лицем к лицу.
Так и Христос апостолам даровал не книги, но Духа Святаго. Но как скоро люди сделались недостойны благодати Духа Святаго, то должны усердно прибегать к чтению Священного Писания и душеполезных книг. Чтение сие необходимо особенно в нынешние времена, когда светское образование и мирские обычаи грозят подавить вкус ко всему духовному и распространяются быстро ложные учения и понятия.
Вы, читатели, без сомнения, читаете много книг; но часто ли вы читаете духовные книги? Читайте их.
Чтение духовных книг есть занятие почтенное, полезное, отрадное.
1. Почтенно чтение духовных книг. Ибо какое чтение может сравниться с чтением духовных книг? Какую честь получите, если будете читать историю, творения философов, знаменитых писателей языческой древности?.. Но если истинная честь и слава состоят в том, чтобы чувствовать близость к Богу и святым Его, то чрез духовное чтение мы достигнем этой чести и славы, ибо чрез него говорит с нами Бог, чрез него беседуют с нами великие святые, чрез них мы входим в общение со всем Царствием Небесным. Какая честь смертному человеку и бедной твари?!
Бог говорит с нами, когда мы читаем Священное Писание. Ибо что оно заключает? Слово Самого Бога: в нем Его истины, Его учение, Его заповеди. Но слушаем ли мы, когда Он говорит, или читаем, когда они написаны, все один и тот же Бог говорит нам. «Если мы читаем Священное Писание с верою, — говорит святой Василий Великий, — то чувствуем, что мы видим и слышим Самого Христа. Что нужды, живым ли голосом, или чрез писание кто говорит нам? Это все то же. Так и в Священном Писании Бог говорит с нами так же истинно, как мы говорим с Ним чрез молитву. Поэтому молитва и чтение священных книг должны быть постоянными занятиями нашими: постоянно или молись, или читай, если хочешь быть всегда с Богом. Почему время, свободное от присутствия в храме, мы не хотим употреблять на чтение или молитвы?
Почему не хотим беседовать с Христом, слушать Христа? С Ним беседуем, когда молимся, Его слышим, когда читаем Божественное слово. Зачем мы отметаем Слово Божие и читаем книги, только питающие любопытство, а иногда гибельные, вредные? (Ибо одно из зол настоящего времени есть неразборчивое чтение.)
С нами беседуют святые, когда читаем их писания. Чрез свои писания они наставляют нас и говорят с нами, и мы, так сказать, воскрешаем их, чтобы беседовать с ними после их смерти. Нам нечего завидовать современникам Златоуста, Василия Великого, Григория Богослова, Амвросия и других. Из святого собора отцев мы можем избрать того, с которым нам приятнее беседовать. Не можете провести времени приятнее, отраднее и полезнее, как в чтении святоотеческих писаний.
Наконец, чрез чтение душеспасительных книг мы входим в общение со всеми жителями Рая. «Когда я читаю книги о Боге, — говорит священномученик Тимофей, — то окружают меня ангелы Божии». В святых книгах говорится о славных святых, об их блаженстве, об их добродетелях и подвигах, чрез которые они сподобились быть наследниками Царствия Божия. Читая их, мы сами как будто делаемся гражданами другого мира и жителями Неба, слышим только то, что касается Рая, так что можем говорить: житие наше на небесех есть (Флп. 3, 20); вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу (Еф. 2, 19). Ужели не великая честь-то, что мы входим в общение и беседуем с вельможами Царя Небесного? Что может нам придать столько чести, сколько дает собеседование чрез чтение духовных книг со святыми ангелами, блаженными душами и Самим Богом?
2. Упражнение в чтении душеполезных книг есть занятие не только почтенное, но и полезное. Какую пользу может приносить чтение других книг? Несколько удовлетворения любопытства, несколько приобретенных знаний. Но многие, особенно противные учению Православной Церкви, книги приносят только большой вред. Господь Иисус Христос, Свет наш, Царь наш, говорит: по плодам их узнаете их (Мф. 7, 16). Каковы же плоды книг, противных вере и нравственности? Они отчуждают от закона Господа или, лучше сказать, от Законоположника — Бога. Они — жилище демонов и князя их диавола. Они не к свету ведут читающих, но во тьму. Они не к страху Божию побуждают, но более к преуспеянию во грехах. Это суть те плевелы, которые враг посеял на поле Домовладыки (Мф. 13, 25–28). Это терние, выросшее на земле, проклятой Владыкою Богом. Они — ложь, тьма, прелесть. Бегайте их, особенно люди молодые, чтобы учение их не утвердилось в сердце вашем. Бегайте также книг, возбуждающих страсти, чтобы не отогнать от себя ангелов Божиих и Духа Святаго. Бегайте вредных книг: они иссушают слезы, ослепляют сердце и погубили, губят и погубят множество людей. Но «когда я читаю святые книги, — говорит святой Григорий Богослов о книгах святого Василия Великого, — то просветляюсь и духом, и телом, становлюсь храмом Божиим и мусикийским орудием Святаго Духа, бряцающим Божественную славу; чрез них я исправляюсь и чрез них я получаю какое-то Божественное изменение, делаюсь другим человеком». Вот что великий святитель Григорий говорит о чтении святых книг по собственному опыту. Оно всецело преобразует человека или делает его святым.
Вспомните, как совершилось обращение блаженного Августина. Давно уже коснулась сердца его благодать Божия; он не мог выносить мук души от своей греховной жизни, однако ж не мог и оставить ее. Он хочет и не хочет этого. Но как только услышал глас: возьми, читай, — взяв Священное Писание, начал читать и, прочитав несколько слов, тотчас стал другим, получил решимость оставить свою греховную жизнь — и оставил ее.
Что сделало такую перемену? Совет, который часто слышится, но на который не обращается должного внимания: возьми, читай.
Итак, прилежите к чтению духовных книг: оно произведет в вас ту дивную перемену, которую произвело во многих святых. Чрез сии книги получаем мы просвещение великое и святое. Чрез них научаемся пути ко спасению, узнаем, какие искушения ожидают нас на сем пути, и о средствах, какими можем избавиться от них. Всякий, не читающий духовных книг, удаляется от Бога, ибо впадает в прежние грехи от неведения Писания. От этого произошли ереси, и пренебрегается истинная духовная жизнь. Как слепые без вождя бредут и впадают в яму (Лк. 6, 39), так и не читающие святых Писаний идут к глубокой тьме. Да просвещаются очи наши светом Слова Божия, ибо Священное Писание более, чем солнце, просвещает читающих с любовью и сохраняющих заповеди Божии. Свет Христов просвещает всех.
Чрез чтение возбуждается живейшая ревность ко спасению души. В мыслях моих возгорелся огонь (Пс. 38, 4). Приближение к сему огню не может не воспламенить. Можно чрез чтение ученых книг получить свет, но к чему послужит просвещенный ум, если сердце сухо? Гораздо лучше иметь сокрушение, нежели знать определение его. Какая польза высокомудрствовать о Пресвятой Троице и быть чуждым смирения, без коего нельзя быть угодным Пресвятой Троице? Чтение духовных книг не только просвещает разум, но в то же время воспламеняет святыми чувствами сердца и отрешает человека от любви к миру.
Чрез духовное чтение приобретается мужество и воспитывается решимость трудиться для вечного спасения. Таково свойство души нашей, что она ослабевает, изнемогает, если не читаем. Отцы святые говорят, что никому в настоящее время нельзя спастись, если не читать часто духовных книг. Как железо, не бывая долго в употреблении, покрывается ржавчиною, так и душа повреждается, если часто не упражняется в чтении. По свидетельству святого Иоанна Златоуста, что делает пища для умножения сил телесных, то доставляет душе чтение Божественного Писания. Духовная пища делает душу крепкою, возвышенною и переносит ее на Небо. Читающего Божественные Писания и поучающегося в них день и ночь Пророк сравнивает с древом, насажденным при исходищих вод (Пс. 1, 3), ибо и душа, насажденная при водах Божественных Писаний, напояясь ими, расцветает, и богатеет духовными плодами, и, собирая в себе росу Всесвятаго Духа, погашает огнь внешних бед и внутренних страстей (греховных наклонностей).
Конечно, великую пользу можно получить чрез слушание проповедей, но оканчивается проповедь — и забывают ее, и теряется весь плод поучения. Но святые книги суть врачевство против забвения. Их можно читать и перечитывать по мере нужды и потребности и останавливаться в них на том, что особенно полезно нам в то или другое время, в тех или других обстоятельствах. Когда проповедуется Слово Божие, то первоначально оно зачастую слушающего затрагивает, но впечатление это также часто легко и теряется, ибо человек не имеет достаточно времени для того, чтобы обдумать слышанное…
Но читающий добрую книгу останавливается, когда хочет и где хочет и столько, сколько хочет, сколько нужно. Как немного постоявший подле огня не может согреться, а для этого он должен постоять подолее подле огня, и чем долее будет стоять, тем более согреется; так Слово Божие, которое Пророк сравнивает с огнем, выходя из уст проповедующих, быстро течет и слегка только согревает, а написанное в книгах остается навсегда, и того, кто долго стоит подле сего огня, согревает и воспламеняет. В проповедях и беседах, когда слушают многие, каждый обыкновенно относит к другому советы и наставления; и немного таких, которые думают, что проповедник собственно для них говорит.
Таким образом, слышанное проходит легко, без всякого плода. Но при чтении нельзя думать о других: каждый прилагает к себе то, что читает. При проповедях и беседах устных, хотя бы и приспособлен был предмет к лицу, многого нельзя и даже не должно сказать. Но в духовных книгах, как бы в зеркале, человек может видеть себя, каков он и куда идет. Это зеркало говорит свободно и не льстит никому, а каждый тут ясно видит свои недостатки.
3. А сколько отрады, радости и утешения доставляет чтение душеполезных книг. Нет ничего приятнее оного. Псалмопевец говорит: коль сладка гортани моему словеса Твоя, Господи! (Пс. 118, 103) …слаждшя паче меда и сота (Пс. 18, 11). Эта пища удовлетворяет все вкусы; это истинная манна, пища небесная, ангельский хлеб, приготовленный Небом без труда с нашей стороны, имеющий в себе всякую сладость и всякое благоухание, удовлетворяющий потребностям каждого. Что может быть его приятнее? Если вы не знаете сего по собственному опыту, то поверьте опытам безчисленного множества святых, которые находили в чтении всю свою радость и величайшее для себя утешение. Ибо что столько раз и так сильно утешало святых и благородных Маккавеев среди их великих скорбей? Не в чтении ли святых книг они почерпали свою радость? Святой апостол Павел советует Римлянам искать утешение в Священном Писании (Рим. 15, 4). Чем он утешал себя в темнице? Он просит возлюбленного ученика своего Тимофея прислать оставленные у него книги, чтобы пользоваться ими во время заключения в темнице (2 Тим. 4, 13).
Поставляем ли мы, подобно сим святым, радость свою в чтении душеспасительных книг? Увы! наше утешение, нашу славу и благо мы поставляем в суетных вещах. Мы читаем только книги, питающие любопытство или, часто, и самые вредные.
Для приобретения учености дни кажутся коротки, и проводят целые ночи в чтении книг, читают по несколько часов, ничем не развлекаясь. Что сказать о тех, которые проводят дни и ночи в чтении книг вредных, соблазнительных, погашающих веру и возбуждающих и питающих страсти? «Скорее оставь их, брат, — говорит один великий подвижник, — чтобы не обжечь тебе сердца своего огнем диавольским, чтобы вместо пшеницы не посеять на поле своем терния (Мф. 13, 26) и вместо жизни не получить смерти, и зачем говорю много? чтобы вместо Христа не принять тебе диавола. Не медли в том и спасайся, как Лот из Содома» (Быт. 19, 17) (Варе. ст. 607).
Не ленитесь, христиане, читать духовные книги, чтобы душа не умерла от голода слышания Слова Божия, чем угрожает Бог чрез Пророка (Ам. 8, 11–12). Вспомните, что вельможа царицы Кандакийской, в пути и на колеснице сидя, читал Священное Писание и за то сподобился быть призван в Царство Иисуса Христа (Деян. 8, 26–39).
Будем же читать постоянно Священное Писание, творения святых отцев Церкви и другие душеспасительные книги. Только, приступая к чтению сих книг, должны прежде всего усердно молиться Господу Богу, да отверзет очи сердца нашего, чтобы не только уразуметь написанное, но и исполнить оное, ибо читающий и не творящий есть презритель Божественного Писания.
Молитва святого Иоанна Златоуста:
егда хощеши книги честь, или послушати инаго чтуща, то помолися Богу, так глаголя:
Господи Иисусе Христе, отверзи ми очи сердечнии услышати слово Твое, и разумети е[7], и творити волю Твою, яко пришлец аз есмь на земли, не скрый от мене заповедей Твоих, но открый очи мои, да разумею чудеса от закона Твоего. Скажи ми безвестная и тайная премудрости Твоея: на Тя уповаю, Боже мой, да Ты просветиши ум мой и смысл светом разума Твоего, не токмо чести написанная, но и творити я[8], да не в грех себе святых жития и словеса прочитаем, но во обновление и просвещение, и в святыню, и в спасение души и в наследие жизни вечныя. Яко Ты еси просвещаяй лежащих во тьме, и от Тебе есть всякое даяние благо, и всяк дар совершен. Аминь.
Печатается по изданию обители святого Пантелеймона. 1905. № 63.
Листок № 535. Что в теле болезнь, то в душе грех
1. Что болезнь в теле, то грех в душе.
Когда тело заболит, больной ни о чем уже другом не заботится, ни о богатстве, ни о славе, ни об утехах, а все об одном уврачевании тела и восстановлении здоровья. Так и когда душа болит грехом, надлежит всю заботу обращать ни на другое что, ни на богатство, ни на славу, ни на удовольствия, а на одно уврачевание болезни душевной и возвращение душе здравия. Что же скажу я, всеокаянный, в оправдание свое, в день Страшного суда, если тогда душа моя окажется больною многими и различными болезнями? Почему не приложил никакого попечения о здравии души своей, а всю жизнь свою трудился и хлопотал только о богатстве, славе и удовольствиях?
2. Причина этому, кажется, та, что не знает грешник о болезнях души своей и не чувствует в настоящей жизни, какое зло причиняют они душе; не зная же и не чувствуя сего, обманывается и, полагая, что у него все хорошо, нисколько не безпокоится о здоровье души своей.
И не потому ли грешник, то есть больной душевно, горд бывает, что безчувствен есть и не чувствует зла, причиняемого ему грехами? И еще что? Чем более кто безчувствен, тем более гордится, как говорит и божественный Давид: гордыня ненавидящих Тя взыде выну (Пс. 73, 23). Будучи же горд, он и мысли не допускает, чтобы был болен, и ненавистию отплачивает тому, кто стал бы говорить ему о его болезни или предлагать врачевство, тогда как настоящий христианин, чувствующий раны и болезни души своей, ищет врача и охотно подчиняется его врачеванию. Когда тело наше заболевает, мы чувствуем боль и, чувствуя ее, ищем врачевства, да уврачуемся. Если б не имели мы чувства, то не чувствовали бы и боли; если б боли не чувствовали, не чувствовали бы потребности и во врачевстве. Тому же следовало бы быть и в душе, то есть чтоб она своим духовным чувством чувствовала свою духовную болезнь. Но бывает иначе — не чувствует. Не чувствуя же болезни, не тяготится ею и не ищет врачевства. Оттого грешник, не чувствуя боли в душе, живет себе весело и не печалится о грехах, Влача достойное состояние, ибо пока он таков, неисцелим и, как неисцелимый, — погибший, ненавистный Богу и святым Ангелам.
Посему надлежит нам, сколько можно, позаботиться о том, чтобы прийти в чувство душою своею, возболезновать о грехах своих и взыскать Врача душ и телес Господа Иисуса Христа и, припадши к Нему, умолять Его, да исцелит болезни души нашей. Эти болезни души суть похоти богатства, славы и удовольствия, по причине коих люди бывают гневливы, досадительны, неподвижны на добро, празднолюбивы, лихоимны, хищны, неправедны, тщеславны, горды, завистливы, человеконенавистны, мстительны. Что скажешь ты о всем этом?! Малы эти болезни душевные и ничтожны?! И благословно душе, верующей во Христа, не чувствовать их и не печалиться о них? Не должно ли, напротив, плакать и рыдать, и жалобные испускать вопли, чтобы Врач наш, видя сие, сжалился над нею и дал ей и увидеть, и восчувствовать болезни свои? Ибо пока не увидит она их и не восчувствует, не может уврачевать ее Сам всемогущий Врач. Да и что есть уврачевание души? Есть дивное некое изменение души, по коему уврачеванная душа и похоти злые, которые прежде были ей так вожделенны, начинает считать мерзостию и заразою, и за это ненавидит их не сама по себе, а благодатию исцелившего ее Врача, Коего и благодарит она потом всегда и о Коем велегласно проповедует всем, взывая: сия измена десницы Вышняго (Пс. 76, 11). Но чтобы пришел Врач, надобно призвать Его; чтобы призвать, надобно увидеть болезнь и почувствовать ее.
3. Как внешнее свое состояние человек сознает и чувствует, именно, слаб ли он или крепок, здоров или нездоров, счастлив или несчастлив, обиду терпит или благодеяние получает, — как все это он знает и чувствует, так всякий христианин должен видеть и чувствовать свое внутреннее состояние, здоров ли по душе или болен, счастлив или несчастлив, благоденствует или страждет. И если не чувствует он этого внутренне в себе самом, то всуе носит имя христианина, и хоть именуется так, но на самом деле не таков. Ибо если бы он был истинным христианином и имел общение с Владыкою Христом, то был бы причастен и живота Его и света, так как Христос есть живот и свет. Следовательно, и видел бы себя, и чувствовал все свое, потому что видеть и чувствовать есть естественное свойство живых, так что у кого нет этого, тот мертв. Таким образом, кто не видит и не чувствует душевно добра и зла, которое прибывает в него и выбывает из него, тот еще мертв и не просвещен лучами умного Солнца правды. Да потщится же таковый наискорейше потещи и припасть мысленно к Иисусу Христу, умоляя Его сжалиться над ним, оживить его и просветить, дать ему прийти в чувство и познать состояние свое, и потом от Него единого да взыщет спасения себе. Ибо безчувственного человека не может спасти и Сам Бог, могущий все творить.
Человек создан состоящим из двух естеств, мысленного и чувственного, души и тела. Почему потребовалось для него и двоякое врачевство, после того как он впал в великую болезнь после великого здравия, какое имел прежде. Болезнь есть потеря здравия, и возболевший по преступлении человек возболел естеством. Болезнь же, в естество внедрившаяся и ставшая естественною, непременяема, как естество. Суди теперь, сколь великая потребна сила, чтобы пременить больное естество в здравие, когда это есть то же, что поставить его выше естества, как оно есть в нем в настоящем своем состоянии? Для указания сего-то и дано нам богодухновенное Писание, которое есть для нас врачебная наука.
Врачебное искусство, врачующее тело человеческое, никак не может уврачевать первоначальную коренную болезнь, то есть тление, но употребляет всякие свои способы лишь на то, чтобы врачевать вторичные болезни, когда естественно-больное тело выходит и из этого естественно-болезненного своего состояния и впадает во вторичную какую-либо болезнь, в водянку, например, или в горячку; это врачевание происходит не от букв, какими прописывает врач врачевство, а от употребления того, что им прописывается; прописываются же им разные вещества, которые при различной врачевательной силе и действенности все однородны, однако ж, с заболевшим телом, чтоб могли воздействовать на это тело и врачевать его.
Итак, если врачебное искусство, истоща все способы врачевания и все употребив врачевательные вещества, доходит лишь до того, чтобы врачевать вторичные болезни тела и поставлять заболевшее тело только в предшествовавшее сей болезни состояние, которое есть естественноболезненное состояние тления, то где взять силу к врачеванию сей последней коренной болезни? Она — выше естества. Чтоб уврачевать и больное человеческое естество и восстановить в нем истинное, свойственное ему по первоначальному его устроению здравие, для сего потребна сверхъестественная и пресущественная сила. Какая же это сверхъестественная и пресущественная сила, могущая возвратить нам первоначальное здравие? Это есть Господь наш Иисус Христос, Сын Божий, Который, чтоб уврачевать подобное подобным, благоволил воспринять человеческое естество здравое. И вот, когда кто верою прилепляется ко Христу, тогда Христос сочетавается с ним и Божеством, и здравым человечеством, и чрез такое единение восстановляет в нем первоначальное истинное здравие.
Но как при врачевании тела на восстановление здравия в нем действуют не буквы, коими прописывается врачевство, а сила прописанных веществ, так и в отношении к врачеванию души оздравление ее и спасительное на нее воздействие совершается не буквами Божественного Писания, а силою Христа, Который прописан в Писании. Не в словеси бо царство Божие, но в силе (1 Кор. 4, 20). Ибо все Божественное Писание, Ветхое и Новое, руководит естественно-больное человеческое естество к Иисусу Христу, Который есть единственный Врач душ и телес наших. Кто остается непричастным Его Божественной благодати, тот остается и неуврачеванным, а кто причащается Его благодати, у того душа перестает уже быть больною. Ибо плод веры нашей христианской есть здравие души. Затем Бог соделался человеком, чтоб душа чрез Него могла воспринимать здравие свое. Следовательно, у кого душа не здрава, тот еще не стал христианином настоящим. Здоровою же душа делается силою божественною и светом благодати, даруемой Христом за веру. Душа невидима, и не видно, здорова она или нет, не только для других, но нередко и для нее самой. Но есть видимые знаки, по которым для всех явно бывает ее состояние. Укажу на самый видный, на упорядочение и исправление пяти чувств — зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания. Когда кто держит их в порядке и владеет ими разумно, — явно, что душа его в своем чине, здорова, и человек тогда является настоящим разумным животным и действует по разуму и рассуждению, а не как животные несмысленные, состоящие во власти у своих чувств. Владение пятью чувствами будто есть очень простое дело; но я тебе скажу, что кто властвует над пятью чувствами, тот властвует над всею вселенною и над всем, что в ней, ибо у нас все бывает от них и чрез них. Но кто таков, тот сам властвуем бывает от Бога и всецело покорствует во всем воле Божией. Так царство Божие водворяется и первоначальный чин восстановляется, ибо человек вначале определен был царем мира. В сем черта образа Божия и подобия. Таким образом, кто не властвует над пятью чувствами, тот не бывает по образу Божию и подобию; и хотя бы он всю мудрость мира поглотил и знал все сущее, о нем неложен приговор: приложися скотом несмысленным иуподобися им (Пс. 48, 13). Он живет на похуление Бога, Создателя всяческих, как написано: имя Божие вами хулится во языцех (Рим. 2, 24). И Христово имя похуляется таковыми, и вера христианская поношается от неверных, которые говорят: если бы Бог христианский был истинный Бог, то христиане не были бы таковы же, как и мы; между тем многие из них живут гораздо хуже нас, в неправдах и срамных похотях.
Нас же да просветит благодать Христова, да подаст здравие душе нашей, и да даст нам силу держать в своей власти пять чувств и жить достодолжно, чтобы славилось имя Божие чрез нас. Ему слава и поклонение ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Листок № 584. О сокровенном делании христианина
Желающему стать совершенным христианином следует умертвить себя для лукавых дел мира, которые он совершал прежде, и, как шкуру с шерстью, совлечь с себя век сей и оставить его вовне через полное удаление и отречение от него, а затем, через рассечение (то есть через посещение Божественной благодати), промыть нечистоты лукавых помыслов двояким способом: сначала страсти явные, а потом страсти более тонкие и с трудом постигаемые. Тогда, преданный огню Святого Духа, он отлагает всякую сырость произволения и, полностью изменившись, становится вкусным и годным к употреблению на небесной трапезе для вкушения Царя Небесного, и предстает наследником Царства, как сказано Господом в Евангелии: Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и совершать дело Его (Ин. 4, 34).
Каждому должно всегда и во всем исследовать и испытывать себя: живет ли он в соответствии слову истины и следует ли стопам Господа (см. 1 Пет. 2, 21), или же избрать, чтобы его испытывали духовные мужи; и всегда искать проповедников слова истины, стяжающих христианство делом и истиной.
В мире из многих, поящих людей разнообразными словесами и премудростями, лишь те радуют души небесной радостью и ведут к благому изменению, кто говорит Духом Святым (см. 2 Пет. 1, 21) и приправлен благодатью (см. Кол. 4, 6), кто говорит живым голосом сердца, а не болтает и шлепает губами лишь для того, чтобы одурманить толпу, кто сообщает внимающей душе силу и небесную радость через глаголющую в нем благодать и преображает людей в подобную же святость благодати. Именно таких людей должно разыскивать и искать — говорящих живым сердцем в Духе, им оставаться преданным, ибо от них можно получить действительную пользу по Богу. Внемлющие им со временем могут и уподобиться им, постоянно пребывая с ними.
Среди христиан есть те, которые внутри себя стяжали в силе небесное сокровище Духа; они не всем явны, но скрывают себя, живут скромно и не желают, чтобы стало известно, кто они. Однако есть и другие, которые посредством немногих видимых добродетелей — постов, бдений, безмолвия, слова мудрости (см. 1 Кор. 12, 8) или чего-нибудь подобного — желают считаться за духовных, не обладая действием и силой Духа. Если обладающий большим скрытым богатством захочет вынуть часть своего золота, то он за небольшие деньги купит все имущество изображающего себя богачом и желающего считаться за такового. Но если он обнаружит свое богатство и сделает его явным для всех, то многие воспылают завистью к нему, изумленные тем, что признаваемый всеми за нищего неожиданно оказался таким богачом; его начнут обременять многими общественными служениями и расходами. Воры и разбойники ночью и днем будут следить за ним, чтобы убить и отнять у него богатство. Со всех сторон его окружат опасности, он впадет в убытки и неожиданные скорби, поскольку никогда не был пожалован никаким саном или властью от царя. Поэтому разумный муж, обладающий множеством сокрытого золота, но не пожалованный еще саном, со всякой предосторожностью скрывает свое богатство, чтобы не стать известным многим.
Так и христианин, нашедший в себе духовную харизму и радующийся утешению Божественной благодати, пусть надежно сокроет в себе утешение Духа или ведение небесных тайн, не хвастаясь и не показывая себя ближним, дабы, подпав под власть завистливой злобы, не быть незаметно обкрадываемым незримыми разбойниками под благовидными предлогами и не оказаться совершенно обворованным еще до тех пор, когда Небесный Царь назначит его на какое-либо служение и пожалует ему духовный сан. Ибо домостроители тайн Божиих (1 Кор. 4, 1), могущие действительно принести пользу душам и назначаемые на это Духом, — именно они непрестанно стяжают небесное сокровище и произносят свои слова со властию (см. Лк. 4, 32), нехвастливо и нетщеславно. Ведь у апостола сказано: Так мы и говориму угождая не человекам, но Богу, испытующему сердца наши (1 Фес. 2, 4).
Христиане должны с великим влечением устремляться к лучшим и большим дарам (см. 1 Кор. 12, 31) Духа, быть ненасытными в стяжании небесного богатства и всегда алкать и жаждать правды (см. Мф. 5, 6). И блаженный Павел убеждает и увещает обладающих великими харизмами стремиться к ней, не удовлетворяться уже приобретенными дарами Духа, но со всяким молением стараться стяжать то, что делает невозможным падение, — совершенную и непреложную любовь Духа, которая содержит в себе все харизмы.
Все считают себя христианами вследствие исповедания веры во Христа или из-за каких-либо немногих добродетелей. Но очень мало истинных христиан, богатых Духом Святым, вкушающих изысканные блюда благодати.
Другие, будучи в ужасной бедности мирского духа, лишенные силы небесного богатства и смешавшие свой ум со страстями, когда обретают в себе один добрый помысел из многих злых, то успокаиваются; хотя они и преследуются бедностью, но, не имея различных действий Духа, проявляющихся в Божественных добродетелях, преисполняются уверенностью, облачаясь в скудные одежды малых добродетелей. И Господь показал, сколь большое различие между теми, кто в будущем явятся истинными поклонниками, и теми многими, которые лишь кажутся таковыми, поклоняясь не в духе и истине, а только поверхностным и внешним образом.
Многие считаются здоровыми, то есть духовными, в силу каких-либо поверхностных и телесных добродетелей, а внутри одержимы ужасными тайными страстями. Другие, находясь во власти явных грехов и будучи для большинства презренными и отверженными, как мытарь для фарисея (см. Лк. 18, 11), — если они обратятся к истинному Врачу — Христу, то, приблизившись к Нему, получают более быстрое исцеление, чем вышеназванные христиане, как быстрее получил прощение мытарь, чем фарисей, ибо сказано, что он пошел оправданным (Лк. 18, 14). Ведь они, в своем внутреннем человеке (см. Рим. 7, 22) не столь больны, как пораженные тайными страстями — самомнением, превозношением, спесью, неверием, гордыней, бахвальством, лицемерием, тщеславием, трусостью, постыдными помыслами и тому подобным. Ибо Писание гласит: Яко человек зрит на лице, Бог же зрит на сердце (1 Цар. 16, 7). Однако требуется одно: чтобы человек обрелся бы здоровым и снаружи и изнутри чрез Божию благодать и чрез подвиг собственной свободной воли — и тогда он удостаивается стать наследником Царства во Христе Иисусе, Ему же слава и держава во веки веков. Аминь.
Библиотека отцов и учителей Церкви: Преподобный Макарий Египетский. М., 2002.
С. 520–524, 526–527.
О благодарности Богу с присовокуплением краткого изложения первоначальных учений
Из творений преподобного Исаака Сирина
Кто болен и знает свою болезнь, тот должен искать врачевства. Кто сознает болезнь свою, тот близок к уврачеванию своему и легко найдет оное. Жестокостью сердца умножаются болезни его, и, если больной противится врачу, мучение его увеличивается. Нет греха непростительного, кроме греха нераскаянного. И дар не остается без усугубления, разве только когда нет за него благодарности.
Содержи всегда в памяти превосходящих тебя добродетелью, чтобы непрестанно видеть в себе недостаток против их меры; содержи всегда в уме тягчайшие скорби скорбящих и озлобленных, чтобы самому тебе воздавать должное благодарение за малые и ничтожные скорби, бывающие у тебя, и быть в состоянии переносить их с радостью.
Во время своего поражения, расслабления и лености, связуемый и содержимый врагом в мучительном томлении и в тяжком деле греха, представляй в сердце своем прежнее время рачительности своей, как был ты заботлив о всем даже до малости, какой показал подвиг, как с ревностью противился желавшим воспрепятствовать твоему шествию.
Вспомни о падении сильных, и смиришься в добродетелях своих. Припомни тяжкие падения падших в древности и покаявшихся, а также высоту и честь, каких сподобились они после сего, и приимешь смелость в покаянии своем.
Преследуй сам себя, и враг твой прогнан будет приближением твоим. Умирись сам с собою, и умирятся с тобою небо и земля. Потщись войти во внутреннюю свою клеть, и узришь клеть небесную, потому что та и другая — одно и то же, и входя в одну, видишь обе. Лестница оного царствия внутри тебя, сокровенна в душе твоей. В себе самом погрузись от греха, и найдешь там восхождения, по которым в состоянии будешь восходить.
Не тот любитель добродетели, кто с борением делает добро, но тот, кто с радостью приемлет последующие затем бедствия. Не великое дело — терпеть человеку скорби за добродетель, как и не колебаться умом в избрании доброго своего изволения при обольстительном щекотании чувств.
Покрой согрешающего, если нет тебе от сего вреда: и ему придашь бодрости, и тебя поддержит милость Владыки твоего. Немощных и огорченных сердцем подкрепляй словом и всем, насколько возможет рука твоя, — и подкрепит тебя Вседержительная десница. С огорченными сердцем будь в общении, и трудом молитвенным, и соболезнованием сердечным — и прошениям твоим отверзется источник милости.
Постоянно утруждай себя молитвами пред Богом в сердце, носящем чистый помысл, исполненный умиления, и Бог сохранит ум твой от помыслов нечистых и скверных, да не укорится о тебе путь Божий.
Юности трудно без обучения отдаться под иго святыни. Начало помрачения ума (когда признак его начинает открываться в душе) прежде всего усматривается в лености к Божией службе и к молитве. Ибо, если душа не отпадет сперва от этого, нет иного пути к душевному обольщению; когда же лишается она Божией помощи, удобно впадает в руки противников своих. А также, как скоро душа делается безпечной к делам добродетели, непременно увлекается в противное тому.
Непрестанно открывай немощь свою пред Богом, и не будешь искушаем чуждыми, как скоро останешься один, без Заступника своего.
Преподобный Исаак Сирин. Слова подвижнические. М., 1993. С. 9–12.
Из творений святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского
Бога имей началом и концом всякого дела.
Самая лучшая польза от жизни — умирать ежедневно.
Старайся узнавать все поступки добродетельных.
Тяжело жить в бедности, но еще хуже разбогатеть неправедно.
Делая благотворения, думай, что подражаешь Богу.
Милости Божией ищи себе милостями к ближним.
Владей плотию и смиряй ее как можно лучше.
Обуздывай гнев, чтобы не выступать из ума.
Удерживай око, и язык пусть знает меру.
Уши пусть будут замкнуты ключом, и да не любодействует смех.
Светильником всей своей жизни признавай разум.
Смотри, чтобы из-за видимости не ускользнула у тебя действительность.
Все разумей, но делай, что позволительно делать.
Знай, что сам ты странник, и уважай странников.
Во время благополучного плавания наипаче помни о буре.
Что дается от Бога, все то должно принимать с благодарением.
Лучше наказание от праведника, нежели честь от порочного.
При дверях у мудрых стой неотступно, а у богатых не стой никогда…
Маловажное не маловажно, когда производит великое.
Обуздывай наглость — и будешь великий мудрец.
Береги сам себя, а над падением другого не смейся.
В жертву Богу преимущественно пред всем прочим приноси душу.
О, если бы кто соблюл сие! Он спасется!
Григорий Богослов, святитель.
Песнопения таинственные. М., 2000. С. 434–436.
Листок № 781. Во исцеление души
Снова и снова обращается к нам слово Божие: всячески действует Господь. Он не оставляет человека в покое, потому что в этом своем покое человек черствеет и почва его сердечная, засохшая и затвердевшая, может, наконец, стать неспособною принять слово Божие. Оно коснется лишь поверхности, как сказано в притче о сеятеле, и пропадет, потому что почва его внутрь не приняла. Благодарение Богу за все, чем Он переворачивает эту твердую землю, чтобы сделать ее рыхлою, мягкою и открыть в ней отверстие для слова Своего!
Наш «сокровенный» человек
Сокровенный сердца человек.
1 Пет. 3, 4
Каждый из нас живет двойною жизнью. Есть человек внешней жизни, каким он представляется посторонним, и есть человек сокровенной жизни, каким он предстоит перед Богом. Кто-то даже сказал, что в каждой личности сидят четыре человека: тот, которого люди знают; тот, которого близкие друзья знают; тот, которого он сам знает, и тот, которого Бог знает. Эти четыре человека друг на друга большею частью мало похожи.
Человек не тот, каким он кажется не только людям, но даже и себе. Тот, которого знает и видит Бог, — это сокровенный человек без притворства, без лжи, без всякой прикрасы.
Помнится у родительского дома одна тяжелая доска, которая лежала прямо на земле, на заднем дворе. Мы, дети, иной раз подбегали к ней и с большим усилием приподнимали ее, чтобы посмотреть, что там под нею. Ах, какой ужас! Ползли во все стороны какие-то серые, отвратительные гады, и как они прятались от света! Мы скорее опускали доску, убегали подальше, а потом опять приходили посмотреть. Пожалуй, у каждого есть такая доска в душе и в жизни. Наружная сторона ее, может быть, полированная, изящная, она нам самим нравится, и мы охотно показываем ее другим. Но есть внутренняя сторона, спрятанная, темная, которая к земле приникла и все нечистое прикрывает. Поднять надо эту доску, пусть пропитается насквозь светом Божиим, пусть очистится внутренность и пусть предстанет пред Богом «сокровенный человек», Ему угодный, которого «грехи покрыты и в чьем духе нет лукавства» (Пс. 31, 1,2).
Какова же моя тень?
Тень проходящего Петра.
Деян. 5, 15
Во времена апостолов люди спешили со своими нуждами к ним и приносили больных и расслабленных, чтобы хотя тень проходящего Петра осенила их, уверенные, что тень эта принесет исцеление и жизнь. Каждый из нас, проходя по жизненному пути, бросает на него свою тень. Жизнь наша сама по себе отражается на окружающих, и мы должны прилагать все наши старания, чтобы это отражение приносило с собой пользу, облегчение и исцеление. Влияние наше на ближних действует не только сознательно, но невольно и незаметно. Что-то неуловимое распространяется вокруг нас от всего нашего существа на окружающих, как тонкий аромат цветов, незаметно насыщающий собою воздух. Деятельность наша может прекратиться, но жизнь не прекращается, и одним нашим существованием мы помогаем или мешаем существованию других. Человеческие недостатки и качества заразительны и даже безсознательно для нас самих влияют на окружающих. Это влияние, когда оно благотворно, напоминает живительное дуновение горного воздуха, которое стольким приносит здоровье и силу.
Какую же тень бросаю я ежедневно вокруг себя? Действует ли она, как ядовитый, смертоносный змей, или же, как древо жизни, приносит целебный плод? Способна ли тень моя прикрыть от невзгод тех безчисленных труждающихся и обремененных, которые встречаются повсюду? После случайной встречи со мною, после обмена несколькими словами чувствует ли себя встречный сколько-нибудь ободренным? Когда мы сами, под влиянием Духа Божия, проливаем любовь, участие и мир, то каждое наше слово, каждый взгляд может поднять дух в наших ближних, передавая им то, что нам Господь для них дает. Таким образом, даже тень некоторых людей действует благотворно. Такова ли моя тень?
Станем Светильником
Веруйте в свет, да будете сынами света.
Ин. 12, 36
Учитесь так жить, чтобы ваш взор всегда был обращен к свету, Свет же этот — Христос, сказавший: Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни (Ин. 8, 12).
Если мы будем ходить в этом свете, то станем сынами света, тьма потеряет над нами свою силу, и мы переселимся от власти тьмы… в Царство возлюбленного Сына Божия (Кол. 1, 13).
Тогда мы сами будем светильниками, озаряющими мрак скорби в жизни других, и научимся с самых молодых лет творить дела любви, самозабвения, милосердия, сострадания к ближним. И сила света, в нас действующая, не оскудеет и в старости, и озарит дни немощи, страдания и минуту перехода в другой мир.
Будем ежедневно воспринимать какое-нибудь слово утешения из Священного Писания, будем хранить в нашем сердце залог радостных, ободряющих мыслей; будем постоянно всматриваться в Евангелие, взирать на светлый образ Христа, и наша душа обратится в живой источник света и радости. Тогда радость в Господе и мир Божий, который превыше всякого ума (Флп. 4, 7), будут преобладать в нашей жизни, и мы предвкусим уже здесь, на земле, что блаженство в деснице Твоей вовек (Пс. 15, 11).
Наше основание
И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне.
Однажды в чудное весеннее утро две птички вылетели свивать гнездышки. Одна из них выбрала прелестный уголок и расположилась между ветками густого дерева. Воздух благоухал ароматом свежей зелени, внизу журчала речка, весело сверкая днем на солнышке, а ночью отражая безчисленные небесные светила. Но вдруг поздно вечером разразилась буря; речка превратилась в бурный поток, выступила из берегов и затопила всю местность далеко кругом, уничтожая все по пути. Дерево было сломано, гнездо разрушено, и исчезло уютное жилище бедной птички. Она свила его слишком низко, рассчитывая лишь на теплые, солнечные дни и тихие звездные ночи.
Другая птичка поднялась на недосягаемую высь и свила гнездышко в диком ущелье, на высокой скале. Там скоро закипела молодая жизнь, гнездышко наполнилось птенчиками. Разразившаяся буря прогремела внизу, в долине, пронеслась мимо скалы, но не могла достигнуть до высокой вершины, — и утром, когда солнце засверкало вновь, теплое гнездышко, оставшееся невредимым, было на своем месте, в безопасности.
А мы где свили свое гнездо? Где основание наших мыслей и чувств? Стоит ли душа наша на твердом, непоколебимом камне веры, готовая противустоять всем соблазнам и искушениям, или же мы построили «дом свой на песке, — и падение его будет великое»? Никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос (1 Кор. 3, 11).
Во исцеление души
Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя прегрешения.
Из молитвы Ефрема Сирина
Снова и снова обращается к нам слово Божие: всячески действует Господь. Он не оставляет человека в покое, потому что в этом своем покое человек черствеет, и почва его сердечная, засохшая и затвердевшая, может, наконец, стать неспособною принять слово Божие. Оно коснется лишь поверхности, как сказано в притче о сеятеле, и пропадет, потому что почва его внутрь не приняла. Благодарение Богу за все, чем Он переворачивает эту твердую землю, чтобы сделать ее рыхлою, мягкою и открыть в ней отверстие для слова Своего! Нужда, болезни, скорби, безысходные наши беды, все, что являет нам наше безсилие и нищету, — это Божий плуг, переворачивающий землю, это Божии посещения. Он хочет прорезать глубокие борозды в этой безжизненной непокорной почве, чтобы сделать ее способною воспринять живое семя.
Глубокие борозды сокрушения и сознания своего греха — вот почва, благоприятная для принятия слова Божия, вот значение и плод поста, к которому мы приступаем в память сорокадневного поста Иисуса Христа за грехи наши. Много есть примеров и в Ветхом Завете, когда назначался пост для того, чтобы опомнились люди, смирились, осознали свой грех, исповедали его и отступили от него. В этом смысле молим и мы теперь: «Даруй ми зрети моя прегрешения».
Повторяем это, коленопреклоненные, много раз, но как и для чего? Неужели для того только, чтобы устами произнести желание увидеть грехи свои, а душой даже и не взглянуть на них или же, увидав их вскользь, потом еще ближе прижать их к сердцу и не расставаться с ними никогда? Прикрыть поскорее свои раны, спрятать их от собственных и чужих глаз и оставить их только прикрытыми, но смердящими и гниющими в сердце!
Зачем же «мне зреть свои прегрешения»? Неужели чтобы утаить их вновь в душе и еще покойнее ужиться со смертельными своими язвами? Сатана усердно закрывает их от нас, залепляет их грязным тряпьем, под которым они гниют все больше и разъедают душу. Бог раскрывает раны, потому что Он Врач души; обнажает, срывает тряпье, чтобы исцелить! Этого просим мы, взывая: «Даруй ми зрети моя прегрешения!» Лишь бы только взывали мы искренно, лишь бы не смотрели легко на тот грех, который пригвоздил Сына Божия ко Кресту! Даруй же мне «зрети моя прегрешения», проникнуться ими, возненавидеть их и отвергнуть их навсегда!
Наши крылья
Поднимут крылья, как орлы.
Ис. 40, 31
Существует поэтичная легенда о том, как были созданы птицы. Красивые перышки украшали этих милых тварей, они обладали чудным голосом и заливались звонкою песнью, но, увы, не могли парить в далеком воздушном пространстве, так как у них не было крыльев. Тогда Господь Бог создал крылья; указал птичкам на них и сказал: «Возьмите эту ношу и несите ее на себе». С недоумением и страхом глядели птички на эту незнакомую ношу; потом послушно взяли ее своим клювом, наложили на себя, и показалось им очень тяжело ее нести. Но скоро, по мере того, как они прижимали их к себе, крылышки приросли к этим маленьким существам, и птички научились ими пользоваться. Расправив их, они поднялись высоко над землею. Так ноша превратилась в крылья. Вместо тяжести птички обрели новую, неведомую им способность летать.
Легенда эта имеет духовный смысл. Все мы — птицы без крыльев, и те испытания и обязанности, которые посылает нам Господь, должны научить нас подниматься выше всего земного. Мы смотрим на наши заботы, как на тяжелое бремя, но когда поймем, что Господь посылает нам их, чтобы научить нас подняться выше, то примем их от Него. И что же? Они превращаются в крылья и несут нас к небу, а без них мы, быть может, приросли бы к этой жалкой земле. Они же, вознося нашу душу, превращаются в благословение. Отстраняясь от исполнения долга, уклоняясь от посланной нам ноши, мы теряем возможность духовного развития. Решимся же твердо нести наши бремена, уповая на Господа, и будем помнить, что Он хочет превратить их в крылья. Все выше и выше понесут нас эти крылья, пока не поднимемся туда, где птичка находит жилье себе… у алтарей твоиху Господи сил, Царь мой и Бог мой (Пс. 83, 4).
Не забудем, что во время полета нашего через земную жизнь эти Богом данные, часто еще слабые, крылья нуждаются в покрове, в укреплении и, главное, в очищении от земной пыли, от которой они тяжелеют. И тут является нам любовь Божия, подобно широким крыльям, распростертая над земными странниками. Под Кров Всевышнего должны мы прибегать вновь и вновь, чтобы укрепиться для нового полета, и, расправляя крылья, всегда помнить, что они могут остаться поднятыми только Силой Божией.
Труд во имя Христа
А мы — рабы ваши для Иисуса.
2 Кор. 4, 5
Рассказывают про одного знаменитого художника, который расписывал потолок в соборе святого Петра, что он прикреплял маленькую лампочку к своей шапке, чтобы его тень не падала на живопись. И нам хорошо бы последовать этому примеру и никогда не омрачать собою тот свет, при котором мы работаем. Нам надо так постановить себя в отношении к своему делу, чтобы наше «я» не бросало тень на то, что мы делаем во Имя Христа.
Нелегко, без сомненья, прожить всю жизнь так, чтобы при исполнении нашей обязанности ничего личного не вмешивалось в наше расположение. Искушение подчас очень сильно. Обстоятельства складываются не по-нашему; нам кажется, что нас не ценят и не оказывают нам должного уважения. Естественно, является в нас чувство оскорбленного самолюбия, и чувство это нередко охлаждает наше рвение и вселяет рознь в отношения наши к нашим сотрудникам. Но в таком действии нет христианского духа, и Сам Христос поступал иначе.
Никакая обида, никакое пренебрежение, будь оно кажущееся или действительное, не должны уменьшать нашу ревность и постоянство в исполнении долга. Щепетильность не входит в число плодов Духа Святаго.
Свобода от тяжкой цепи
И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих.
Иов. 42, 10
Я свободен только тогда, когда забываю о себе. Забота о себе и о своих невзгодах есть цепь, связывающая меня. Если бы я мог забыть о себе, я был бы свободен.
Если бы я вспомнил, когда надвигается на меня туча, что та же туча покрывает и брата моего, я бы уже не заметил тени ее над своею головой. В молитве за него мое бремя исчезло бы безследно, и я перестал бы его ощущать. О, дух самозабвения, божественный дух Христов, дух смирения и любви, излившейся на Кресте, — в тебе одном могу я найти полную свободу! Освободи меня от самого себя, сними с меня эту тяжелую цепь.
Меня сковывает не горе, не страдание, а то, что это страдание сосредоточено на мне самом. Помоги мне взять на себя чужие бремена, помоги мне вкусить сладостное чувство мира, наложив на себя бремена окружающих меня и имея в этом общение с Тобою, взявшим на Себя наши немощи и болезни! Научи меня молиться за других. И что бы ни сковывало мою собственную душу, дай мне вырваться к той свободе, которую Ты даруешь, свободе самоотречения и готовности быть Твоим орудием для служения другим молитвою, словом или делом.
Печатается по изданию: День за днем.
Каждый день — подарок Божий.
Дневник православного священника.
М.: Сибирская благозвонница, 2004.
Листок № 792. Слово о любви
Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, — то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не безчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится.
Кор. 13, 1–8
Любовь есть совершенство веры и послушания божественной воле; в ней исполнение закона и путь по превосхождению (1 Кор. 12, 31). Три первоапостола Петр, Иоанн и Павел говорят о любви в следующих характерных словах. Апостол Петр говорит: Прежде же всех друг ко другу любовь прилежну имейте (1 Пет. 4, 8), подчеркивая слова прежде всех. Апостол Иоанн, который считается апостолом любви, в своем Евангелии и Посланиях с догматической точностью описывает ее происхождение и ее место в жизни разумных существ.
Однако для нас, чтобы достичь цели нашей беседы, достаточно будет ограничиться тем описанием любви, которое дает апостол Павел в Первом послании к Коринфянам, потому что это описание имеет одновременно и теоретическую, и практическую стороны.
Апостол Павел не только описывает любовь, но и анализирует ее, желая нам показать ее составляющие, то есть то, что входит в ее существо, — но не по природе, так как по природе она божественна и непостижима, а в ее действованиях. Описав все высочайшие дарования, обладателями которых были апостолы, учители, пророки, а также те, кто имел дары исцелений, говорения на языках, толкований, он, как бы сожалея о том, что он до сих пор упомянул, и желая перенести нас в более высокую сферу, продолжает: Ревнуйте же дарований больших, и еще по превосхождению путь вам показую. Аще языки человеческими глаголю и ангельскими, любве же не имам, бых яко медь звенящи, или кимвал звяцаяй. И аще имам пророчество, и вем тайны вся и весь разум, и аще имам всю веру, яко и горы преставляти, любве же не имам, ничтоже есмь. И аще раздам вся имения моя, и аще предам тело мое, во еже сжещи е, любве же не имам, ни кая польза ми есть. Любы долготерпит, милосердствует, любы не завидит, любы не превозносится, не гордится, не безчинствует, не ищет своих си, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, радуется же о истине; вся покрывает, всему веру емлет, вся уповает, вся терпит. Любы николиже отпадает (1 Кор. 12, 31; 13, 1–8).
Блаженный апостол, показав в своем рассуждении преходящий характер других великих дарований Святого Духа, свойственных состоянию святости, отмечает, что из всех этих даров пребывают вера, надежда, любы, три сия; больши же сих любы (1 Кор. 13, 13). Поэтому-то он и назвал любовь путем по превосхождению. Возможно, некоторые станут недоумевать, представляя себе другие дарования, такие высокие, превосходные и полезные, посредством которых святые люди иногда оказывали человечеству большие благодеяния. Приведем, однако, некоторые примеры, связанные с нашей темой, чтобы убедиться в верности слов апостола Павла.
Если, к примеру, кто-то имеет дарование языков, то есть может вещать о спасительном домостроительстве Бога на родном языке каждого человека, не изучая его, но сам собой, по Благодати Святого Духа, то разве это можно считать какой-то маловажной вещью? Однако при всем этом говорение на языках — временное дарование, которое прейдет вместе с этим миром, потому что язык будет не нужен, когда все станет совершенным во Христе. Другое дарование — пророчество. Разве это мало: знать людские тайны, советы Божественного Промысла о прошлом и настоящем? Но и пророчества будут упразднены, когда придет «исполнение времен». Даже вера: что она есть, как не средство, которое нас приводит к своему конечному пределу? Ведь мы веруем, чтобы приблизиться к Богу, стать близкими Ему и соединиться с Ним. Когда это будет совершено, тогда вера станет излишней, потому что мы будем непосредственно видеть то, что раньше принимали верой.
И вот если среди всех этих дарований будет отсутствовать любовь, то это будет похоже на рассматривание замечательных картин или статуй великих личностей, но не будет общением с самими этими личностями. Потому что дарования эти — всего лишь «картины», то есть образы, не имеющие в себе жизни. Они не участники жизни, потому что Вечная Жизнь — это только Сам Бог (см. Ин. 17, 3; 1 Ин. 5, 20), а Бог любы есть (1 Ин. 4, 8).
Но кроме того, что эти сверхъестественные дарования преходящи, следует добавить, что они также не составляют и нашей цели. В некотором смысле они больше служат средствами, содействующими достижению цели, предела наших исканий и чаяний. Даже милосердие и сострадание, сопровождающиеся иногда дарованиями исцелений, как мы видим в житиях наших отцов, которые Благодатью Божией исцеляли от хронических и неизлечимых болезней, или в меньшей мере проявляющиеся в наших с вами усилиях по облегчению участи тяжело страждущих, — так вот, даже сострадание есть не что иное, как лишь маленькая частица той же любви, потому что польза от сострадания в любом случае относительна и ограничивается временем и пространством. Так что согласно сравнению, которое делает апостол Павел, любовь превосходит все дарования и благодеяния и составляет «полноту».
Как «путь по превосхождению» любовь такова не только сама по своей природе, но и имеет совершенные свойства, поэтому ее воздействие на нас может совершенно нас изменить, согласно чудодейственной измене десницы Вышняго (Пс. 76, 11), и преобразить по нашему Первообразу, сделав подлинными образами Бога. Таким образом, любовь есть животворящая энергия для всех других дарований. Поэтому-то, хотя апостол Павел вначале и упомянул о других дарах, потом он как бы пожалел об этом и, рассмотрев, чем же они являются без любви, сделал прискорбный вывод, что, имея их все и не имея любви, человек «ничто», и ничто ему не на пользу.
Конечно, это не означает, что божественные добродетели и вышеупомянутые дарования вообще излишни. Напротив, все они служат вспомогательными средствами, способствующими очищению и просвещению человеческой природы на ее пути к совершенству. Но само совершенство осуществляется только любовью. Любая добродетель остается неполноценной, если не будет завершена любовью. Поэтому только через любовь верующий никогдаже отпадает.
Исследуем теперь проводимый апостолом Павлом разбор различных проявлений любви, а также и ее воздействие на наш характер. Любовь, говорит он, долготерпит, милосердствует, не завидит, не превозносится, не гордится, не безчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, радуется же о истине. Он перечисляет и другие ее свойства, заканчивая тем, что любы николиже отпадает. Рассмотрим подробнее эти характерные признаки любви.
1. Любовь долготерпит. Насколько прекрасно, когда кто-то долготерпелив! Долготерпелив муж мног в разуме, говорит Священное Писание (Притч. 14, 29). Он не смущается, не меняется к худшему, если с ним поступают несправедливо и враждебно; он с терпением и любовью переносит вспышки гнева и злобы других. Он все переносит, потому что все измеряет любовью.
2. Любовь милосердствует. Что иное есть добросердечность, как не любовь на деле? Один беглый взгляд на жизненный путь нашего Христа убедит нас в том, что вся Его жизнь была сплошным милосердием. Ничто Его больше не занимало, кроме того, чтобы облагодетельствовать и спасти людей. Ведь и совершенный подражатель Христа Бога нашего, апостол Павел, говоря о милосердии Господа как о единственном идеальном пути нашей жизни, писал в своих посланиях: Никтоже своего си да ищет, но еже ближняго кийждо (1 Кор. 10, 24). И снова: Друг друга тяготы носите, и тако исполните закон Христов (Гал. 6, 2). А Иоанн Богослов, идя еще дальше, завещает христианам совершенное христоподражание: И мы должни есмы души по братии полагати (1 Ин. 3, 16).
3. Любовь не завидит. Великодушие, щедрость, благородство — вот что отличает человека, который свободен от страшного заболевания души, именуемого недоброжелательностью, источник коего в зависти. Какое отвращение испытывает человек, если вдруг столкнется с душой, живущей под властью зависти и злобы! Зависть состоит не только в том, когда кто-либо завидует другому относительно того, чего сам не имеет, но видит у других в изобилии. Зависть проявляется и в том, когда человек, движимый ею, желает, чтобы вещь или почесть, которую имеет он, не имел другой. Все это, обезображивающее душу человека, может уврачевать только любовь.
4. Любовь не превозносится. Эта сторона любви обращена к смиренномудрию, значение которого огромно и имеет в себе нечто таинственное: оно ничтожно по своему внешнему облику и велико в своей сущности. Смиренномудрие — средоточие мудрости, достоинства, величия, всего высокого и прекрасного, что находится в природе разумных созданий. Поэтому вочеловечившийся Бог Слово, когда пожелал приблизиться к Своему творению, облачился в смиренномудрие, как в одежду, и спрятал под ней природу Своего Божества. Будучи Всемогущим Богом, Он никогда не похвалялся Своими боголепными свойствами и всевластием, даже когда благоволил открыть близким ученикам познание Своих подлинных качеств, но «хвалился» только Своим смирением, говоря: Научитеся от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем (Мф. 11, 29).
Противоположность смиренномудрию — эгоизм и гордость, когда человек осознаёт за собой какие-либо достижения и преимущества. Однако, если мы зададимся вопросом: каково наше истинное место согласно границам и законам нашей природы, то есть каковыми мы были созданы от начала, если мы осознаем, к какому концу должны стремиться, становясь сообразными нашему Первообразу Христу, тогда мы найдем в себе множество недостатков и упущений и поймем, что должны ощущать стыд вместо превозношения. Если мы поразмыслим о том, что созданы по образу и подобию своего Творца, что получили Божественную Благодать от Христа, в Которого и облеклись при крещении, что безчисленные примеры святых и друзей Божиих во все века и во всех обстоятельствах жизни ободряют нас и убеждают в том, что наша природа способна делать добро и излучать святость, если мы, таким образом, осознаем, что после всего этого внутри нас продолжает господствовать всеобщее зло и многообразное лукавство, разве тогда мы найдем хоть какой-то повод к тому, чтобы гордиться? И все-таки человек омрачается и больше следует злу, умудряясь при этом еще и превозноситься. В таком состоянии только любовь может научить его не иметь превозношения.
5. Любовь не безчинствует. Это означает благоприличие, благопристойность, добропорядочность. Высший отличительный признак поведения, благородство, когда-то составлявший предмет доблестного соперничества, со всеми остальными добрыми качествами ныне лежит в презрении у нашего теплохладного и безразличного поколения. При всем при том, благородство остается достопримечательной и ценной стороной любви. Неужели доброе поведение — не такое уж важное качество нашей личности? Разве мы с вами не удивляемся доброте, приятности, вежливости, когда видим эти качества в людях, встречающихся на нашем жизненном пути? Более того, мы все можем признать, что вежливое обращение с нами других людей влияет и на нас самих, так что смягчает нашу жестокость и враждебность. Так вот то, от чего смягчается сердце, и есть любовь, которая успокаивает всякую грубость, всякое возбуждение, одним словом, не безчинствует.
6. Любовь не ищет своего. Эта сторона любви, то есть отсутствие своекорыстия и корыстолюбия, также очень важна, потому что она приводит в порядок общественные отношения. Естественные законы, на которые опирается жизнь, дают каждому право бороться за средства к самосохранению, и таким образом отсюда проистекают так называемые «права личности». Однако все, что одному человеку кажется необходимым и оправданным, если не будет упорядочено законом любви, заканчивается деспотизмом над другими. Неразумное и эгоистичное отношение человека к собственному праву на самосохранение часто достигает состояния скотской жизни и завершается трагическим лозунгом современного «общественного вещания»: «Твоя смерть есть моя жизнь».
Эгоистичная склонность к самосохранению рождает самолюбие. Самолюбие не живет без корыстолюбия, а корыстолюбие нуждается в неправде, хищении и т. д. Однако «торможение», которое создается любовью, не только сбрасывает лишнюю скорость в устремленности человека к собственному благополучию в ущерб другим, но и останавливает его в поиске того, что законно: она заставляет его не искать даже своего. Более того, она доходит до отдания жизни в жертву за других людей, как и Господь наш, Самосущая Любовь, пожертвовал Собой за живот мира и спасение (ср.: Ин. 6, 51). Любовь предпочитает давать, нежели брать; она прощает прежде, нежели у нее испросят прощения; дает в долг тогда, когда знает, что ей его не вернут; когда ее принуждают к чему-либо, делает больше требуемого. В общем, она живет не ради себя, а ради ближних.
7. Любовь не раздражается. Кротость — весьма желанная добродетель! Это определенный вид приветливости, делающей приятной нашу жизнь, по которой все мы тоскуем, потому что хотим, чтобы наша жизнь в обществе других людей была сносной и приемлемой. Напротив, присутствие раздражительности и гнева отравляет всякое благородное чувство, изгоняет мир, заставляет исчезнуть радость, разрушает счастье, согласие, гармонию, единство, влечет за собой смущение, смятение, страх, подозрительность, разделение, душевное и телесное расстройство, помрачение ума, развращение помыслов, решений и действий и, самое ужасное, злые умыслы и убийства, которые являются качествами человекоубийцы дьявола.
Современное светское общество, привыкшее лицемерить, всячески оправдывает и покрывает взрывы раздражительности и гнева, пытаясь объяснить это естественными причинами: так, говорят, что тот или иной человек «нервный», «своеобразный», «впечатлительный» и т. п., не желая признать присутствия гнева как душевной страсти, как энергии, действующей против природы, как уродливого искажения человеческой разумности.
Существуют другие немощи, которые влияют на частную жизнь отдельного человека и вредят только ему одному. Однако страсть гнева является постоянной и всесторонней, не оставаясь лишь в той душе, которой она обладает, но выплескивается наружу, в окружающую среду, так что ее зловоние отравляет и других. Этот палящий ветер раздражительности, который не только сжигает и опустошает все, что попадется на его пути, но и препятствует всему, что еще только собирается произрасти, может быть остановлен и успокоен только любезным и кротким нравом, потому что любовь не раздражается.
8. Любовь не мыслит зла. Здесь речь идет о невинности, непорочности и искренности. Христос в связи с этим учит нас: Аминь глаголю вам, аще не обратитеся и будете яко дети, не внидете в Царство Небесное (Мф. 18, 3); и далее: Иже убо смирится яко отроча сие, той есть больший во Царствии Небеснем; и иже аще приимет отроча таково во имя Мое, Мене приемлет (Мф. 18, 4–5).
В самом деле, это удивительное состояние, когда человек не мыслит зла, есть отблеск одного из многообразных лучей любви, это невинность, которую Господь наш относит к маленьким детям, еще не заразившимся проказой лукавства и многоразличного зла. Нас осквернили многообразные пороки, и внутри нас потерялось всякое невинное сознание и мысль. Стало быть, нам ничего не остается делать, как обратиться вспять и стать, какими мы были прежде, — незлобивыми, непорочными, простыми и искренними, потому что только таковых сможет вместить в себя Царство Божие.
9. Любовь не радуется неправде, радуется же о истине. Иными словами, любовь радуется с радующимися и плачет с плачущими, как говорит апостол Павел (Рим. 12, 15). Любовь не имеет ничего своего, и, однако же, все принадлежит ей: она ничего не имеет, и всем обладает. Она распространяется до безконечности, минует границы пространства и времени. Она хочет всех покрыть, всех оправдать, всех освободить, всех успокоить, взять всеобщие боль и слезы на свой собственный счет — ей достаточно того, чтобы другие перестали испытывать боль, страх и несчастья.
«Не радуется неправде». Хотя любовь — это всегда радость, однако она в одном только случае не радуется — неправде. Мера любви довольно странна, когда она отдает: ее мера точна, утрясенная, нагнетенная и переполненная, как называет эту меру Господь наш (Лк. 6, 38). Напротив, когда любви бывает необходимо что-либо взять, тогда эта мера пропадает, и ей ничего не бывает нужно, она не имеет, что взять.
Неправда, о которой печалится любовь, не есть только тот случай, когда кто-либо похищает вещь, принадлежащую другому, или когда кто-либо лишен того, что мог бы получить. Под неправдой любовь подразумевает все, чего лишен другой. Неправдой она считает и справедливое наказание, которому подвергаются люди по их собственной вине. Любовь, имея похвальное дерзновение, противится даже божественной справедливости, наказывающей нераскаянных грешников, и, когда не может изменить наказания, сострадает и плачет вместе с наказанными, утешая их хотя бы этим.
10. Любовь николиже отпадает. Мы рассмотрели некоторые из сторон любви, описанных апостолом Павлом. Остается теперь исследовать то свойство любви, которое, по большей части, следовало бы назвать ее результатом: «любы николиже отпадает». Различные плоды Святого Духа, о которых говорит апостол Павел, есть как бы лучи солнца, называемого любовью, но не сама по себе любовь. Эти лучи, то есть духовные дарования, о которых говорит апостол Павел в начале своего гимна любви, несмотря на все свое величие, составляют частные моменты духовной жизни, поэтому всегда есть опасность изменения к худшему и падения. Несмотря на все эти дарования, в человеке еще живет склонность к злу, еще нет совершенной безопасности, недостает последней «печати». И этой «печатью» служит любовь, которая уже никогда не отпадает.
Подлинно блажен тот, кто подвизается с верой и поднимается по лествице добродетелей, чтобы от общего, от составляющих, дойти до центра, до самой сущности, то есть до блаженной любви. Тогда от Того, Кто направил его к ней, он услышит, что любы николиже отпадает. Здесь прекращается опасность изменения достигнутого блаженного состояния и удаляется страх возвращения вспять, потому что любы вон изгоняет страх… бояйся же не совершен в любви (1 Ин. 4, 18).
Когда в человеческое сердце войдет любовь со всеми ее свойствами, тогда в нем проявится подобие Богу, и человек тот станет уже «новым», «созданным по Богу» (ср.: Еф. 4, 24). Тогда в нем будут высвечиваться черты и образ небесного человека. Вся история нашей Церкви говорит именно об этом, потому что на кого из людей подействовала любовь Божия, тех она преобразила, сделав из земных небесными. Трусливые становились мужественными, отрекшиеся прежде — исповедниками и мучениками, блудницы — преподобными, сребролюбцы — милостивыми, лукавые — невинными, волки делались овцами, а овцы — львами. И все это изменение производила десница Вышняго (ср.: Пс. 76, 11). И если бы кто спросил, как такое может осуществиться на практике, то эти люди кратко ответили бы, что они подражали своему Господу Иисусу Христу.
Имея ответную любовь к нашему Иисусу и становясь сообразными Его характеру, в тойже образ преобразуемся от славы в славу… (2 Кор. 3, 18). Если это будет нами достигнуто, Духом Господа нашего, то исполнится цель нашей жизни. Именно это имел в виду апостол Павел, когда писал: Паки болезную, дондеже вообразится Христос в вас (Гал. 4, 19). Ему же слава во веки веков, аминь.
Старец Иосиф Ватопедский. Слова утешения.
Богородице-Сергиева пустынь, 2005. С. 174–194
(в сокращении).
Листок № 949. Заметки на полях каталога огородных растений и цветов
Душа кроткая и смиренная лучше этих цветов, и запах и аромат лучше и красивее. Господь украсил цветы, но Он любит больше человека и дал человеку Духа Святого, а Он слаще всего мира и приятен для души. Если бы мы Его знали, то больше любили бы, чем цветы.
Цветы сотворил Бог для человека, чтобы душа в твари прославляла Творца и любила Его. Не должно забывать Бога и на одну секунду в сутки: Он любит нас, возлюбим и мы Его всем сердцем и будем просить Его милости, и исполнять Его святые заповеди: в них мы познаем Бога. Он наше сердце, и желание, и веселие, и упование.
Теперь взыдем умом на небо, так как наш Господь там живет и милостиво смотрит на землю, и рад зело, если мы каемся во грехах и желаем жить свято, и с Ним все небеса рады, что мы каемся. Но скорбит Господь и небеса, если кто грешит и не кается. Ты, благодать Святого Духа, дала мне это знание, слава Господу и Его милосердию.
Люблю я цветы, но любишь ли ты Господа и любишь ли врагов, которые оскорбляют тебя? Если любишь, то хороший ты человек. Господи Боже мой, помози мне Тебя любить так, как святые Тебя любили. Они жили на земле и работали руками, но душа их была занята Богом, и они были сильны в Боге. За скорби благодарили Бога и души свои смиряли. За труды и смирение почтил их Господь.
Горе мне, живущему на земле, топчу святую землю и оскверняю воздух, но Господь любит меня и дает каждый день, и час, и секунду жизнь и ждет от меня милостиво покаяния, чтобы я смирялся и вечно был с Ним. Милостив наш Господь, Он нас любит, за нас страдал, лежал в яслях, все небо удивлялось — Сын Божий лежит в яслях. Пришел спасти нас и ввести в рай, идеже Сам будет, и нас зовет: Идеже есть Аз, ту и слуга Мой будет (Ин. 12, 26). На Фаворе Господь показал Славу Свою ученикам, и они попадали от благоговения во время Преображения — вот Господь куда ведет человека. Ах, вот как нам надо жить и стараться угождать Богу!
Господь Бог познается благодатью Святого Духа и от созерцания Его творения, кому как Бог дает; созерцая творения Господа, душа удивится премудрости Божией, как Творец создал небо и землю, и все. От Святого Духа душа знает Бога, насколько благодать Святого Духа открывает и научает. Иисус Христос Себя показывал в Духе Святом, как Ему угодно, душа видит Его благость, и милость, и кротость, и любовь, и смирение, и все Бог покажет душе Духом Святым, и душа, возлюбив Господа, полностью занята бывает Им.
Вот нам, христианам, легко жить на свете: у нас на душе хорошо и приятно. Мы души свои привыкли смирять, и за это нам милостиво Господь дает Свою благодать. Она нас учит любить Бога всей душой и ближнего, как себя, — вот наша жизнь в Боге, а враги завидуют нам и хотят, чтобы мы забыли Бога, но мы, поддерживаемы благодатию Божиею, любим Бога и в Нем обретаем покой. Одному человеку Господь дал разуметь Своею благодатью, что есть люди, похожие на Господа нашего Иисуса Христа, это те, которые исполняют заповеди Божии; но есть люди, похожие на врага, это те, которые служат ему, и не дивно: от дуба бывает дуб, а от березы бывает береза, так и мы, христиане, имеем Духа Святого, Он нас просвещает, и вразумляет, и помогает во всем добром. Господь, как чадолюбивая мать дитя умывает от всяких нечистот, так и нас прощает и милостиво освящает, лишь бы мы каялись от души. Господь милостиво к Себе ждет и зовет: Приидите ко Мне, еси труждающиеся и обремененный, и Аз упокою вы (Мф. 11, 28). Как в Боге сладко и приятно для души, только сумей себя вести прилично и смиренно, ко всем заповедям направляя. Посмотрим на эти цветы. Все они для нас сотворены: как Он нас любит без конца, лишь бы мы Его любили и исполняли Его святые заповеди.
У меня ум забит сором, разве иногда просветит его Господь за молитвы святых отцов, живущих здесь, в монастыре. Они во плоти ангелы, руками работают и ногами ходят по земле, но душой, как ангелы, любят Господа в смирении духа.
Святые любили слезы проливать перед Богом, ибо веселы были духом, но святые скорбят за нас, кто плохо живет, подобно мне. Откуда это видно? Из Святого Писания. Святые много слез проливают за нас, ибо в них Дух Святой. Он есть любовь. Он в душе их живет, учит душу любви и смирению. Он душе легко все делает удобным.
Хорошо, если бы душа привыкла Богу молиться за весь мир и проливать слезы за весь мир. Есть много таких монахов, которые плачут за весь мир. Они есть и на Святой Горе Афон, которую Господь хранит за молитвы святых и Божией Матери. Она, я верю, знаю, любит тех монахов, которые послушливы и часто исповедуются, и не принимают плохих мыслей. Зело Божия Матерь скорбит, кто нерадиво живет и нечисто, и Духа Святого у таких в душе не будет, но будут скорби, и уныние, и раздражительность.
Благодарю я Господа, Он нас создал, и Святым Крещением просветил, и дал Пречистое Тело и Кровь, и дает Себя познать, как Он милостив, наш Господь. Он грехов наших не поминает — это говорит Святое Писание и личный опыт. Он милостиво ждет нас на покаяние. Люди, которые каются, будут вечно жить с Богом и будут Бога любить, и будут как дети милы Отцу. Господь будет любить Свое создание, и люди будут любить своего Создателя, и будут вечно радоваться в Боге.
Души, еще на земле познавая Бога Духом Святым, о Боге думают, и душе легко любить Его. Хорошо бы, если бы люди все знали Бога. Ах, как бы это было хорошо: на земле все жили бы в любви и смирении. Многомилостивый Господь, даруй Тебя всем познать. Ты мил душе нашей!
Твое смирение удивляет души наши! Оно дивно, неописуемо, но познается Духом Святым. Он душу веселит и смиряет. Дивно, как в одной душе вселяется и дух смирения и любви. У Бога все возможно. Милостивый Боже, даруй нам всегда духа смирения. Весело жить, и хорошо, и легко.
Господу милостивому слава, что Он нас много так любит и дает нам Свою благодать. Она нас учит Господа познавать и помогает святые заповеди хранить. В них душа обретает покой в Боге. Наша радость, милостивый Господь наш, грешных возлюбил и дает им Свою благодать Святого Духа. Он сладкий, Его сравнить на земле ни с чем нельзя; вот чем наделил нас Господь по милости Своей.
Человек, Бога не зная, подобен скоту несмышленому, а кто Бога познал, тот может любить Бога. Бог познается Духом Святым, а не умом простым. Господа познать — величайшая милость Божия душам. Его не знают цари земные. Но монахи знают, как Господь любит монахов, и они любят Господа: «Любящия Мя люблю, — говорит Господь, — прославляющия Мя прославлю». Хорошо быть с Богом; душа покойна в Боге; Тот любит Бога, кто исполняет заповеди Божии. Гордый не может любить Бога. Кто любит много кушать, не может, как должно, любить Бога. Бога любить — всего надо лишиться земного, ни к чему не иметь пристрастия, но все думать о Боге, и Его любви, и сладости Духа Святого.
Душа, познавшая Господа, скучает по Нем день и ночь и слезно ищет Его, ибо не может забыть сладости Духа Святого. Как царя, если сделать бедным, он не может забыть своей славы и хорошую трапезу, так и душа, познавшая Господа, не может быть покойна, пока благодать душу обильно не насытит пищей милости Божией. Разве я был бы послушником, богатым милостью Божией, если бы душа моя не познала Господа? Я не перенес бы столько искушений от врагов, но пожалел меня Господь, и описываю Его милости и щедроты мне, грешному. Слава Господу и Его милосердию, что Он нас много любит, я же многогрешен, не стою пищи, не только благодати.
Слово о святом послушании, каким родом оно выше поста и молитвы
Послушание нас смиряет. Иногда злые и горделивые помыслы заставляют молиться и поститься. Но послушник все делает по благословению, помышляя, что его старцем или духовником управляет Господь. Если послушник так привыкнет, что им управляет старец от Господа, то он легко спасется за послушание. У послушливого есть все добродетели: сердечная молитва, данная за послушание, умиление и слезы. Он любит Господа и боится, как бы Его не оскорбить преслушанием, ибо милостивый Господь дает ему мысли святые, смиренные. Он любит весь мир, принося за мир слезные молитвы, — так благодать учит душу за послушание.
Будем думать: меня сюда, в это место, привел Господь и к этому старцу; дай, Господи, нам спастись, много козней у врага, но кто исповедует старцу помышления, тот спасется, ибо духовнику дан Дух Святой нас спасать.
Слава, Господи, Твоему милосердию, что Ты хочешь спасти нас и познать Тебя помогаешь. Ты благ, Господи, и сколь сладка Твоя благодать Святого Духа. Его святые Апостолы прошли всю землю, сладко говорили о Господе, все души верующие ощущали в себе перемену, ибо душа веселится благодатию Божиею.
Дал Господь познать всем Господа, и особенно Он дает Себя познать послушливым простецам. Царь пророк Давид был меньший брат и пастух, и Господь его любил за кротость. Кроткие всегда послушливы. Он написал нам Псалтирь Святым Духом, живущим в нем. И Моисей пророк был пастух у тестя — вот послушание. И Матерь Божия была послушлива, и святые Апостолы были послушливы. Этот путь показал нам Сам Господь. Его будем держаться и получим на земле плоды Духа Святого. Он нас научит всему доброму.
Преслушники мучаются злыми мыслями. Да вразумит нас Господь быть послушливыми, и узрим милости богатые еще на земле. Ум наш всегда будет занят Богом, душа наша всегда будет смиренна, благодатию Божиею наставляема. Когда я был еще в миру, люди меня хвалили, и я думал, что я хорош. Но когда пришел в монастырь, я узнал хороших людей и понял, что не стою одного пальца их и даже их портянок — вот как можно ошибиться и попасть в гордость и погибнуть.
От хороших людей идет радость и веселие. Приехал к нам святой владыка Николай и много привез нам радости. Вот сказано в Апостоле: Дух Святой поставил епископов, и Дух дает радость и веселие, когда мы смотрим на Владыку, — он в образе Христа. Так Дух его светом украсил. Мы любим святителя много. Так любили Господа ученики Христовы, когда смотрели в лице Господа и радовались. А наш милостивый Господь дал на землю Духа Святого. Он живет в епископах православных.
О епископы Света! Ведите нас ко Отцу Небесному, куда жаждут души наши день и ночь. Познали мы Господа Духом Святым. Он нас привлек Его любить, и созерцать, и бояться, как бы его не оскорбить гордостью, преслушанием. Богу нашему слава!
По своей воле живем — сами себя мучим, а по воле Божией — хорошо, радостно и спокойно. Душа соскучилась на земле и вспомнила Адама в раю, и возжелала умом видеть рай, и посмотреть там деревья, и какого они цвета, и как они велики, касаются ли облаков или они низки и кудрявы, и кто их насадил. О, Адаме, отец, скажи нам о рае и скажи нам, какой наш Господь. И ты Его знаешь: Он создал рай, Он Сам лучше рая, тебе известна Его тишина и кротость. О, Адаме, ты видишь нашу болезнь и скорби на земле. Скажи, как скорби миновать, если можно; нет на земле утешения, но одна печаль съедает душу.
Предайся воле Божией, и скорби будут меньше, и легче будешь переносить их, потому что душа будет в Боге и в Нем находить будет утешение, ибо Господь любит душу, которая предалась воле Божией и духовным отцам.
Скрытная душа не сказывает грехов духовному отцу и впадает в прелесть. Она хочет высокая стяжать, и это сатанино желание, говорит преподобный Серафим Саровский. Нам нужно страсти изгонять из души и тела и избежать прелести.
Адам, Адам, живущий на небесах, и видящий Славу Господню, и слушающий песни Господни, как наш Господь величается! За страдания пропой нам песню, если это можно, чтобы слышала вся земля, и забылось горе на земле, ибо Духом Святым поются песни на небесах, они приятны, они дают мир душе и веселие. Да в мире и любви будем жить, приносить хвалы Господу за Его великую милость! Он любит нас безконечно. Господь Сына возлюбленного дал нам. Иисус Христос любит нас без конца и зовет нас к Себе: Приидите ко Мне, еси труждающиеся и обремененный, и Аз упокою вы — в этом наша радость и веселие. Какой же это покой? Покой в Духе Святе, его же имеют православные христиане, которые исполняют заповеди Божии. А жалко мне, зачем я заповеди не исполнял и лишился любви Божией и сладости Духа Святого, Которого имеют люди, православные христиане, но паче монахи, которые забыли мир и возлюбили Единаго Господа. Он им за это дает мир душе и телу. Сей мир небесный, его нужно блюсти. А если потеряли, то будете плакать, как Адам, выгнанный из рая. Адам рыдал много лет и вопиял к Богу. Большие Адам принял страдания, ибо Адамова душа много любила и поэтому много скорбей понесла.
О, рае, рае небесный, кто вселится в тебя, и кто будет зреть лице Господне, и кто будет видеть Славу Господню, и кто будет слышать песни Херувимские? Чья душа сие будет видеть? О, как надо быть смиренну, чтобы Господь душу возлюбил и дал ей покой вечный видеть лице Господне и созерцать Его милость! Ах, как надо жить на земле, чтобы видеть лице Господне! Слава Господу и Его милосердию, что Он много так нас возлюбил и дал ход в рай видеть силы Господни! О, все, живущие на небесах, вы видите Славу Господню и зрите Его красоты, Его Славу!
Мы живем на войне, если кому придется согрешить, то иди тот скорее к духовнику и все расскажи, чтобы духовник стоял в епитрахили. Веруй, ты поправился и сейчас изнутри вышел бес, которого ты принял по ошибке. А если не будешь каяться, то тебе до гроба так и не поправиться. Бесы в наше тело входят и выходят. Если человек раздражился, то бес в него взошел, а если смирился, то бес вышел.
Но если станешь молиться Богу, а бес стоит против тебя, не дает тебе сделать поклон, то ты смири себя и скажи: хуже меня нету на свете, и сейчас бес исчезнет. Они боятся смирения и того, кто имеет сокрушение о грехах, и боятся чистой исповеди. Если ты слышишь, в тебе есть бесы, и слышишь их разговор, то не робей. Они в тебе живут, в теле, но не в душе, и смиряй себя, люби пост, воздержание, а водки и вина не пей.
Во мне были бесы, но не знаю, сколько; но после я узнал, сколько бесов в человеке: если человек украл и не исповедался, то один есть, если убил и не исповедался, то два есть, если пьяный напился, то три есть, если игумена или старца не послушался, четыре есть, если деньги собирал, то в нем много бесов.
Кто нечисто исповедуется и творит свою волю, хотя он приобщается Святых Таин, но бесы в нем живут в теле и возмущают ум. Если хочешь, чтобы бесы не жили в тебе, то смири себя и будь послушлив и нестяжателен, люби в точности исполнять послушание и чисто исповедуйся.
Духовник стоит в епитрахили в Духе Святом и похож на Господа нашего Иисуса Христа и сияет в Духе Святом. И вот, когда духовник говорит, Дух Святой его словами прогоняет грех. Дух Святой дан Господом Святым Апостолам и после епископам. И духовники, и священники имеют Духа Святого. Один старец видел духовника в образе Христа. Вот как нас Господь любит, несмотря на наши многие грехи. Так надо Бога благодарить, любить, как и Он нас много любит.
Господь любит душу мужественную, чтобы она крепко надеялась на Господа. Много пожалел меня Господь. За гордость я испытал нападение бесов и видел их, а за смирение поправлял меня Господь.
Эти цветы напоминают нам рай земной, в котором жил Адам, и к нему приходил Господь, и ему было с Господом весело и приятно, потому что Адам любил чистою совестию. А когда согрешил, то чистая совесть потерялась, и он в изгнании много бед претерпел. Душа Адама была вся в слезах от горя, но он не терял надежды, каялся. Это нам чистый пример, и мы должны подражать Адаму в покаянии и терпении. Нас много Господь пожалел и дал нам Сына Своего возлюбленного. Сын Иисус Христос так много нас возлюбил, и дал нам Себя на страдание, и дал Духа Святого Апостолам, и епископов поставил. И Он живет в духовниках, им дано нас, овец, спасать, они во образе Христа и похожи на Него. Пастырей надо любить и перед ними благоговеть. Если бы мы видели пастырей, в какой они находятся благодати Святого Духа! Но нам Господь не дает за то, что мы горделивы и не любим друг друга. А если будем послушливы пастырям, то милостивый Господь откроет тайны Божии. Вот как нас любит Господь, несмотря на наши многие грехи. Ах, много любит нас Господь. Любовь Его познается от Духа Святого. Слава Господу и Его милосердию, что так много любит нас Господь и дает себя познать, сколь Он милостив и сколь сладка Его благодать Святого Духа.
Ах, как нам надо жить смиренно, и послушливо, и воздержанно, и каяться на всякий час, любить Господа! Душе, которая кается, Господь за покаяние дает дар Духа Святого. Он влечет ненасытно любить Бога Господа, души греет благодатью Своею, как солнце греет все растения. Но лучи солнца не всюду проникают, а Господь всюду есть. Но гордым грешникам не дает Себя познать и Собой насладиться, Его благодатию. Душа, когда возлюбит Господа, другого не хочет любить, потому что благодать Божия сладка, она всех влечет к Богу. Вот почему святые будут видеть Славу Господню на небе.
Душа Бога будет любить, и от этой любви оторваться люди не могут. Как нам надо просить Духа смирения, чтобы Господь нас полюбил! Он хочет, чтобы мы Его любили и из любви к Нему себя смиряли. Надейся, что Он избавит грешника кающегося, хотя бы ты был в прелести, как я, чувствовал в себе бесов и слышал их разговоры во своем теле. Но когда душа покается духовнику, то бесы выйдут. Дух Святой, прощающий нам грехи в духовниках, дан им со времен Господа на земле. А если веру не будешь иметь, то проси Бога. Он вразумит тебя. Господь хочет, чтобы мы Его просто просили, как дитя мать просит. Но если мы гордые, то ничего не получим. Если мы гордые, то надо просить у Бога смирения, и Господь даст смирение видеть сети врага. Что нам благодать Божия помогает, сие узнаем и победим страсти. Слава Господу и Его милосердию, что Он много так нас любит, что дает узнать, что делается на небесах и как живут там старшие братия, которые угодили Богу смирением и любовию, и всем добродетельны. И чем они там утешаются, известно от Духа Святого: что они любят Бога и их любит Господь.
Какая красота рая, нам неизвестно, и побывать там нельзя, потому что душа несмиренна, горделива, и за это Господь не дает знать, что делается на небесах. Но смиренным святым Господь показывал рай, но рассказать ясно, не скажешь, да и ум наш не понимает. Но Господь сказал: Царствие внутри вас есть. А внутри садов нет, а Дух Святой есть в православных христианах. Вот мы счастливы — на земле живем, а Царство Небесное в нас. Надо разобрать, не живет ли в нас грех, не таится ли в нашей душе и теле. Для этого, чтобы его изгнать, дал нам Господь святых духовников. Они нас очищают покаянием, в них живет Святой Дух. Когда духовник скажет слово, погорает в душе грех, и душа чувствует свободу, мир. И если душа будет приносить покаяние, то Господь даст познать радость и веселие в Боге. И тогда будет Царствие в нас.
Крепко надо душу свою смирять, каждую минуту, до тех пор, чтобы она и во сне смирялась. Святые любили себя смирять и плакать, и за это Господь их любил и давал Себя познать, коль наш Господь благ и сладка Его благодать Святого Духа, которая научила познать Бога. Сперва входит в душу Дух Святой, и сразу познается Господь наш Иисус Христос, и тогда неописуема радость о Господе. О, братия родная, постараемся на деле победить себя, чтобы душа познала Бога. Велика радость знать Бога. Душа ненасытно хочет Его. Велика Божия милость грешному человеку. Господь дает Себя познать, сколь Он милостив, как Он много нас любит. Любовь сия познается от Духа Свята. Вот как в нашей Православной Церкви живет Дух Святой.
Если бы мы были смиренны, то Господь дал бы нам видеть рай каждый день. Но то беда, что мы не смиренны, и поэтому нам дано с самим собою вести войну; кто сам себя побеждает, тому Господь дает за смирение и труд помощь Свою Святую.
Писал грешник Святой Афонской Горы схимонах Силуан
Печатается по изданию: Даниловский благовестник.
1992. № 1 (2). С. 28–31.
Листок № 959. Душе, чтобы войти в Царствие Божие, должно родиться от Святаго Духа, и каким образом бывает сие
1. Слышащие слово должны в душах своих показать дело слова, потому что слово Божие — не праздное слово, но имеет дело, совершаемое в душе. Для того и называется делом, чтобы оказывалось делом и в слушающих. Посему Господь да явит дело истины в слушающих, чтобы слово соделалось в вас плодоносным. Как тень представляет тело, но служит только указателем тела, самая же действительность есть тело; так подобным образом, и слово есть как бы тень истины — Христа, и слово представляет истину. Отцы на земле рождают чад от своего естества, тела своего и души своей, и рожденных как чад своих со всем рачением тщательно обучают, пока не соделаются совершенными мужами, преемниками и наследниками, потому что у отцов вначале та цель и забота, чтобы родить детей и иметь наследников, и если бы не родили, то была бы им великая печаль и скорбь, посему и наоборот, родив, радуются тому, даже бывает радость родным и соседям.
11. Таким же образом и Господь наш Иисус Христос, восприяв на Себя попечение о спасении человека, совершил все домостроительство и с самого начала прилагал рачение чрез отцов, патриархов, чрез Закон и пророков; а напоследок, пришедши Сам и пренебрегши крестный позор, претерпел смерть. И весь труд, все рачение Его были для того, чтобы от Себя, от естества Своего породить чад Духом, благоволив, чтоб рождались они свыше от Божества Его. И как земные отцы печалятся, если не рождают, так и Господь, возлюбив род человеческий как собственный Свой образ, восхотел породить их от Своего Божественного семени. И если иные не хотят приять таковое рождение и быть рожденными от чресл Духа Божия, то великая печаль Христу, за них страдавшему и терпевшему, чтобы спасти их.
12. Господь хочет, чтобы все люди сподобились сего рождения, потому что за всех умер и всех призвал к жизни. А жизнь есть рождение от Бога свыше. Ибо без сего рождения душе невозможно жить, как говорит Господь: Аще кто не родится свыше, не может видети Царствия Божия (Ин. 3, 3). А посему все те, которые уверовали в Господа и, приступив, сподобились сего рождения, радость и великое веселие на небесах доставляют родившим их родителям. Все Ангелы и святые Силы радуются о душе, рожденной от Духа и соделавшейся духом. Ибо тело сие есть подобие души, а душа — образ Духа; и как тело без души мертво и не может ничего делать, так без небесной души, без Духа Божия, и душа мертва для Царства и без Духа не может делать того, что Божие.
13. Как живописец внимательно смотрит царю на лицо и пишет его образ, и когда лицо царево прямо против живописца и к нему обращено, тогда удобно и хорошо живописать ему образ; а когда царь отвратит лицо, тогда невозможно писать живописцу, потому что лицо не устремлено на пишущего; таким же образом и превосходный живописец — Христос в душах, которые в Него веруют и к Нему устремлены непрестанно, скоро по образу Своему живописует небесного человека и от Духа Своего, от ипостаси неизглаголанного света Своего, написует небесный образ и дает душе прекрасного и доброго Жениха ее. А если кто не устремлен к Нему непрестанно и не презрел все прочее, то Господь не пишет в нем образа Своего светом Своим. Посему надобно нам к Нему устремить взор, в Него уверовав, Его возлюбив, все отринув и Ему единому внимая, чтобы, написав небесный Свой образ, ниспослал его в души наши, и таким образом, нося в себе Христа, прияли мы вечную жизнь и, удостоверившись в том, здесь еще упокоились.
14. Как золотая монета, если не приимет на себя и не отпечатлеет на себе царского образа, не обращается в торговле, не влагается в царскую сокровищницу, но всякий отметает ее, так и душа, если не имеет образа небесного Духа в неизреченном свете, то есть отпечатленного в ней Христа, то неблагопотребна для горних сокровищ и отметается купцами Царствия — добрыми апостолами. Ибо и тот, кто был зван, но не имел на себе брачного одеяния, как чуждый изринут в чуждую тьму, потому что не имел в себе небесного образа. Это есть знамение и знак отпечатленного в душах Господа, это — Дух неизреченного света. И как мертвый ни на что не потребен и вовсе ни к чему не годен для живых, почему выносят его вон и полагают вне города, так и душа, которая не имеет в себе небесного образа Божественного света, то есть жизни души, делается как бы не имеющею цены и вовсе отверженною, потому что неблагопотребна для града святых душа мертвая, не имеющая в себе светозарного и Божественного Духа. Как в сем мире душа есть жизнь тела, так и в вечном и небесном мире жизнь души есть Божий Дух.
15. Посему кто старается уверовать и прийти ко Господу, тому надлежит молиться, чтобы здесь еще приять ему Божия Духа, потому что Он есть жизнь души, и для того было пришествие Господа, чтобы здесь еще дать душе жизнь — Духа Своего. Ибо сказано: дондеже свет имате, веруйте во свет (Ин. 12, 36); приидет нощь, егда не можете делати (Ин. 9, 4). Посему если кто здесь не искал и не приял жизни душе, то есть Божественного света Духа, то он во время исшествия из тела отлучается уже на шуюю страну тьмы, не входя в Небесное Царство и в геенне имея конец с диаволом и с ангелами его. Или как золото или серебро, когда ввержено оно в огонь, делается чище и добротнее, и ничто — ни дерево, ни трава не могут изменить его, потому что само бывает как огонь и поядает все приближающееся к нему, так и душа, пребывая в духовном огне и в Божественном свете, не потерпит никакого зла ни от одного из лукавых духов; а если и приблизится что к ней, то потребляется небесным огнем Духа. Или как птица, когда летает в высоте, не имеет забот, не боится ни ловцов, ни хитрых зверей и, паря высоко, над всем посмевается, так и душа, прияв крила Духа и воспаряя в небесные высоты, всего выше, над всем посмевается.
16. Плотский Израиль, когда Моисей разделил море, проходил по дну его; а христиане, став чадами Божиими, шествуют поверх горького моря лукавых сил, потому что и тело, и душа их соделались домом Божиим. В тот день, когда пал Адам, пришел Бог и, ходя в раю и увидев Адама, пожалел, так сказать, и изрек: «При таких благах, какое избрал ты зло! После такой славы, какой несешь на себе стыд! Почему теперь так омрачен ты, так безобразен, так бренен? После такого света, какая тьма покрыла тебя!» Когда пал Адам и умер для Бога, сожалел о нем Творец; Ангелы, все Силы, небеса, земля, все твари оплакивали смерть и падение его. Ибо твари видели, что данный им в царя стал рабом сопротивной и лукавой силы. Итак, тьмою, тьмою горькою и лукавою облек он душу свою, потому что воцарился над ним князь тьмы. Он-то и был тот изъязвленный разбойниками и ставший полумертвым, когда проходил из Иерусалима в Иерихон (см. Лк. 10, 30).
17. И Лазарь, которого воскресил Господь, этот Лазарь, исполненный великого зловония, почему никто не мог приблизиться к гробу его, был образом Адама, принявшего в душу свою великое зловоние и наполнившегося чернотою и тьмою. Но ты, когда слышишь об Адаме, объязвленном разбойниками, и о Лазаре, не позволяй как бы по горам блуждать уму твоему, но заключись внутри души своей, потому что и ты носишь те же язвы, то же зловоние, ту же тьму Все мы — сыны этого омраченного рода, все причастны того же зловония. Какою немощию пострадал Адам, тою же пострадали и все мы, происходящие от Адамова семени. Ибо такая же немощь, как говорит Исайя, постигла и нас: ни струп, ни язва, ни рана палящаяся: несть пластыря приложити, ниже елея, ниже обязания сотворити (Ис. 1, 6). Такою неисцельною язвою уязвлены мы; одному Господу возможно уврачевать ее. Поэтому-то и пришел Он Сам; ибо никто из ветхозаветных, ни самый Закон, ни пророки не могли исцелить сей язвы: Он один, пришедши, уврачевал эту неисцельную душевную рану.
18. Итак, приимем Бога и Господа, истинного Врача, Который, пришедши и много для нас потрудившись, один может уврачевать наши души. Ибо непрестанно ударяет Он в двери сердец наших, чтобы отверзли мы Ему, и Он взошел и почил в душах наших, а мы омыли и помазали ноги Его, и сотворил Он обитель у нас. И там укоряет Господь неомывшего ног Его (см. Лк. 7, 44); и в другом еще месте говорит: Се стою при дверех… аще кто услышит глас Мой и отверзет двери, вниду к нему (Откр. 3, 20).
Для того Он благоволил много пострадать, предав тело Свое на смерть и искупив нас от рабства, чтобы, пришедши к душе нашей, сотворить в ней обитель. Потому и тем, которые поставлены будут ошуюю на суде Его и которых пошлет с диаволом в геенну, Господь скажет: странен бех, и не введосте Мене; взалкахся, и не даете Ми ясти; возжадахся, и не напоисте Мене (Мф. 25, 43, 42); ибо и пища, и питие, и одежда, и покров, и упокоение Его — в душах наших. Посему непрестанно ударяет в дверь, желая войти к нам. Приимем же Его и введем внутрь себя, потому что и для нас Он есть и пища, и жизнь, и питие, и жизнь вечная. И всякая душа, которая не прияла в себя и не упокоила Его в себе ныне, или лучше сказать — сама не упокоилась в Нем, не имеет наследия со святыми в Царстве Небесном и не может войти в Небесный Град. Ты Сам, Господи Иисусе Христе, в оный введи нас, прославляющих имя Твое со Отцем и Святым Духом во веки. Аминь.
Печатается по изданию: Преподобный Макарий Египетский. Духовные беседы. Беседа 30. Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2008.
Листок № 988. Христианин и земные блага
Скажу вам, возлюбленные, о ваших печалях: не скорбите!
Ни болезни, ни лишение имущества, ни поношения, ни темницы, ни самая смерть — ничто это не страшно для христианина. А страшно совершить грех, страшно идти против Бога, отказаться от Него, забыть Его, забыть Его святые заповеди, жить в страстях — вот что для нас есть настоящее горе.
Священномученик Онуфрий (Гагалюк)
…По закону духовной жизни всякое пристрастие наше к земным вещам отдаляет нас от Бога; пристрастие не только к каким-либо значительным вещам, но и самым маленьким. Удаление от Бога не проходит даром для нашей духовной жизни. Оно ослабляет нашу душу, делает ее неспособной к религиозным порывам, становится во всякое мгновение — когда мы привязываемся к какому-либо земному благу — преградой, хотя бы и очень тонкой и незаметной для нас, между нами и Богом.
Через пристрастие к земному — пусть самое небольшое, по которому отдалилась душа, — в нашу душу входит сатана, и производит опустошение добродетелей, и всевает в душу всякие греховные мысли. И чем дальше продолжается у христианина это влечение книзу, чем больше человек запутывается в своей земляности, тем тяжелее слышать ему все духовное, как на это указал Сам Спаситель наш: потому говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют; и сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом услышите — и нс уразумеете, и глазами смотреть будете — и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули… да не обратятся, чтобы Я исцелил их (Мф. 13, 13–15).
О всем этом прекрасно говорит приснопамятный протоиерей отец Иоанн Кронштадтский, живший в том же миру среди людей, знавший про то, как земные блага влекут к себе христианина.
«Премерзкий враг (сатана), — замечает отец Иоанн, — силится уничтожить любовь любовью же: любовь к Богу и ближним — любовью к миру, его благам мимолетным, любовью богатства, почестей, удовольствия, игр различных. Поэтому да погашаем в себе всячески любовь к миру сему и да возгреваем любовь к Богу и ближним через самоотвержение».
«Сердце наше, — пишет отец Иоанн в другом месте своего дневника, — просто, единично и потому не может работать двум господам — Богу и маммоне, то есть богатству: значит, нельзя служить искренно Господу и вместе с тем иметь пристрастие к земным вещам, ибо это относится к маммоне. Все земные вещи, если мы привязываемся к ним сердцем, удаляют его и от Бога, и от Матери Божией, и всех святых — от всего духовного, небесного и вечного отвращают нас и привязывают нас к земному, тленному, временному, также и от любви к ближнему отвращают.
В довершение всего сказанного надо еще сказать, что дух привязанности к земному, щажение и делание земного есть дух диавольский, и диавол сам вселяется в человека через привязанность его к земному: он нередко входит в наше сердце как наглый победитель через мгновенное пристрастие к земному, не отвергнутое тотчас, помрачая, подавляя, умерщвляя дух наш и делая его не способным ни к какому делу Божию, заражая его гордостью, хулою, ропотом, презорством святыни и ближнего, противлением, унынием, отчаянием, злобою».
Отсюда становится психологически понятной теперешняя жестокость и нравственная распущенность и богохульство многих прежде добрых православных людей. Земные блага отвлекли их от Бога, сатана овладел их душами и всеял в них злобные семена ненависти и зависти, кощунства и иных злых дел.
Поистине надо иметь глубокую мудрость, постоянную духовную осторожность, трезвиться и бодрствовать, сердце иметь пламенеющее любовью к Богу и ближнему, чтобы не заботиться о земных благах: богатстве, власти, науках и всяком земном благополучии. Поэтому иные христиане, будучи богатыми и знатными мира сего, бросали все свои земные преимущества и становились нищими и безславными, боясь, как бы земные блага не лишили их главнейшей утехи — Христа Спасителя, как бы не погубить своей души, увлекшись земными благами. В их сердце как бы звучали слова Спасителя: какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? (Мф. 16, 26)…
Земная жизнь для православного христианина — не пир веселый удовольствий земных, а подвиг, борьба для наследования Царства Божия. Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его (Мф. 11, 12).
Такая-то, исполненная работой над собой жизнь, целью которой является искоренение своих страстей: блуда, самолюбия, зависти, объедения, лености, и наполнение души духом целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви, — такая жизнь и называется аскетизмом, или духовным подвижничеством.
Ясно, что всякий православный христианин, не только монах, но и мирянин, должен быть именно подвижником, аскетом, если он не хочет услышать страшного голоса Божия: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие (Мф. 7, 23)…
Священномученик Онуфрий (Гагалюк). Заветы новомучеников и исповедников Российских.
Сретенский календарь на 2005 г. С. 159–161.
Листок № 1008. Блажен, кто может видеть красоту в душе человека
Преподобный Никон Оптинский (Николай Беляев в миру) поступил в Оптинский скит 19 лет от роду, в декабре 1907 года, и сразу предал себя в полное безропотное послушание преподобному старцу Варсонофию. Но всего лишь 4 года и 4 месяца послушник Николай имел возможность воочию перенимать опыт своего наставника, затем, по переводе последнего настоятелем в Старого лутвин монастырь, ему пришлось довольствоваться лишь письменным и молитвенным общением. В 1923 году Оптина была закрыта безбожной властью; монастырь продолжал существовать под видом сельскохозяйственной артели, кое-кому из престарелых монахов удалось остаться, а остальные были вынуждены покинуть обитель. Еще в течение года продолжалось богослужение в Казанском соборе, в котором и был назначен служить и окормлять приходящих иеромонах Никон. «В какую бездну и тьму грех низвергает человека! — восклицал преподобный. — Истинно уподобляется он скотам, питает свою душу, свою безсмертную душу, скотской пищей; ту душу, на которой начертан образ Божий; ту душу, которой дана способность уподобляться Богу! Всякая страсть отнимает у человека образ человека, делая его подобным скоту и зверю. Посмотрите, что делает, например, гнев и злоба. Человек, объятый злобой, весь делается зверообразным, глаза мечут искры, искажается лицо — он, кажется, ближнего своего готов пожрать. И все вообще страсти и грехи: чревоугодие, неверие, сребролюбие и другие превращают человека в скота».
На долю преподобного Никона выпало перенести два ареста и, наконец, ссылку на далекий Север. Вот строки из его писем духовным чадам, написанные из ссылки: «Любовь ко Господу, и в Господе ко мне грешному, выразите общею любовию и миром между собою. Бог есть любовь, и всякая злоба, какой бы благовидной причиной она ни прикрывалась, противна Ему».
Скончался преподобный Никон Оптинский исповедник в 1931 году от туберкулеза легких и был погребен на местном кладбище села Валдокурье под Пинегой.
Преподобие отче наш Никоне, моли Бога о нас!
Блажен, кто может видеть красоту в душе человека
Божие благословение да пребывает над тобою вовеки. Пишу тебе в ответ на просьбу твою о молитвах за тебя. Не бойся безпокоить меня своими просьбами и нуждами духовными. О том лишь я скорблю, что недостаточен я в духовном отношении, что не в состоянии вполне удовлетворить запросам ума и сердца человека, не в состоянии утешить его, как бы этого хотелось. Но по долгу отца духовного буду о тебе молиться, ибо чувствую, что без помощи Божией ничего не сделаешь. А молитва чудеса творила и творит, особенно тогда, когда ею испрашивается благое, спасительное дело. Меня же в данном случае двигает лишь желание спасения твоего и моего, спасения вечного. Теперь, деточка, буду отвечать по порядку.
Пишешь о тяготе и трудности жизни. Верю, что трудно, но надо терпеть. Это — суд Божий. Это — воля Божия. Смиряйся и молчи, и ни в чем себя не оправдывай. Мирнее будешь. Не томи себя унылыми мечтами и воображениями. «Высших себе не ищи, креплыних себе не испытуй, а еже тебе повелена — в сих пребывай». Пока человек живет, он не погиб. Поэтому и ты непогибшая. А кто сколько развратился или усовершился, тебя не касается. Каждый своему Господу стоит или падает. Блажен тот, кто может видеть красоту в душе человека. Поэтому не осуждай никого, а, наоборот, каждого встречай с надеждой найти в нем одно хорошее. Представьте себе, что перед вами красивое здание, какой-нибудь блестящий дворец. Вы будете любоваться изящными линиями его архитектуры, его стройными колоннами, блеском его зеркальных стекол, красивыми узорами его полов. При этом вам и в голову не придет отыскивать его помойные ямы, отхожие места и нюхать их смрад. Зачем же, когда мы встречаем человека, мы не будем любоваться его душевной красотой, тем образом Божиим, который заключается в его душе, а будем копаться в его немощах, как делают это те, кто осуждает.
И твоя душенька дорога мне, как дорогого моего чада духовного. Сколько раз я и скорбел о тебе, и молился. О, дитя мое, дитя! Да вразумит тебя Господь разумевать истину! Не разумея ее, ты впадаешь в ошибки и имеешь неправильные понятия о многих вещах и явлениях. Ты пишешь, что не теряла веру в людей. Надо верить в Бога, а людям надо отдавать лишь должное — ни больше ни меньше. Без людей нельзя обойтись. Помнишь, я тебе рассказывал статью из «Луга духовного», как ангел сказал, что Богу угодно, чтобы люди наставлялись людьми же. Но люди всегда люди. А потому надо терпеть благодушно и со смирением несовершенство людей, заимствуя от них, подобно мудрой пчеле, полезное, назидательное. Из слова Божия, из житий святых мы видим, что неудовольствия, споры, разногласия бывали и между святыми, даже между апостолами, но это не помешало им быть сосудами Святого Духа и притекающим к ним получать от них и через них и назидание, и спасение.
Ты склонна очень к унынию, ибо все близко принимаешь к сердцу. Это неправильно. Ты хочешь быть милосерднее Бога. Надо всякому человеку, тем более родному, сочувствовать. И помочь, что в твоей силе, а все остальное предавать воле Божией. Господь ведает, что творит.
А живешь ты для спасения своей души, а вовсе не для спасения других. Хорошо спасать других, но хорошо тогда только, когда первая твоя обязанность — спасать свою душу. Поэтому не скорби о родных паче меры.
Далее ты пишешь о «воспоминаниях». Это — невольная мучительная дань греху. Если ты прежде не мучилась так, как теперь, это вполне понятно. Тогда ты переживала настоящее, а теперь испытываешь последствия прошедшего. Это закон духовной жизни. Терпи и не унывай. Святитель Феофан, затворник Вышенский, очень хорошо пишет о действии покаяния, что в известном своем периоде оно имеет разрушающую силу или действие. Душа кающегося болезнует, томится, горит, но, разрушая старое, строит новое благодать Божия. И у святых отцов есть указания, что покаяние открывает зрение на грехи, то есть человек начинает видеть в себе все новые и новые грехи, и самые грехи начинают казаться все тяжелее и тяжелее. От этого святые плакали о своих грехах, когда уже стали святыми, чудотворцами.
Смотри на исповедь как на Таинство, где личность духовника не имеет первостепенной важности, ибо грехи могут прощаться на исповеди у любого православного священника. Беседа, руководство, поддержка духовная и т. п. — это уже другое дело. За этим не ко всякому можно идти.
Чувства твои и переживания скорбные в памяти у меня и касаются грешного сердца моего. Прости, Бога ради. Но решаюсь написать тебе мое мнение, основанное на чтении святоотеческом и личном опыте. Я пришел к заключению, что скорбь есть не что иное, как переживание нашего сердца, когда что-либо случается против нашего желания, нашей воли. Чтобы скорбь не давила мучительно, надо отказаться от своей воли и смириться пред Богом во всех отношениях. Бог желает нашего спасения и строит его непостижимо для нас. Из всего, что батюшка Нектарий мне сказал в последнее мое посещение его, более всего мне понравились его слова: «Нет гибельнее ничего, как желание или старание устроить свою жизнь по своему смышлению».
Да, нужно принимать меры возможные, подсказываемые здравым разумом, а не противные духу христианского жития, но, принимая их, успеха ожидать должно всецело от руки Господней. Гордость человеческая говорит: «Мы сделаем, мы достигнем», и начинаем строить башню Вавилонскую. Требуем от Бога отчета в Его действиях, желаем быть распорядителями вселенной, мечтаем о заоблачных престолах — но безсилие человека доказывается со всей очевидностью горьким опытом.
Непостижимы для нас пути Промысла Божия, а потому необходимо со всем смирением предаваться воле Божией. Это первое. Затем второе. Никто и ничто не может повредить человеку, если сам себе он не вредит — напротив, кто не уклоняется от греха, тому и тысяча спасительных средств не помогут. Следовательно, единственное зло есть грех. Иуда пал, находясь со Спасителем, а праведный Лот спасся, живя в Содоме. Эти и подобные этим мысли приходят мне, когда гляжу умственно на окружающее. Что будет? Как будет? Когда будет? Если случится то и то — куда преклониться? Где найти подкрепление, утешение духовное? О Господи, Господи! И недоумение лютое объемлет душу, когда хочешь своим умом все предусмотреть, проникнуть в тайну грядущего, неизвестного нам, но почему-то страшного. Изнемогает ум. Планы его, средства, изобретаемые им — детская мечта, приятный сон. Проснулся человек — и все исчезло, сталкиваемое суровой действительностью. И все планы рушатся. Где же надежда? Надежда — в Боге, Господь — упование мое и прибежище мое!
В предании и себя, и всего воле Божией обретаю мир душе моей. Если я предаю себя воле Божией, то воля Божия и будет со мной совершаться. А она всегда благая и совершенная. Если я Божий, то Господь меня и защитит, и утешит. Если для пользы моей посылается мне какое искушение, благословен Господь, строящий мое спасение. Даже при наплыве скорбей силен Господь подать утешение великое и преславное. Так я мыслю, так я чувствую, так наблюдаю и так верую.
Знай, чадо мое, что, аще сохранишь веру Христову, «не потопит тебя буря водная, ниже пожрет тебе глубина». Знай, что «по множеству болезней в сердце твоем утешения Господни возвеселят душу твою». Знай, что «спасение — Господне» и что «суетно спасение человеческо». Прибегай за помощью к людям по мере твоих потребностей душевных и телесных, но успеха в получении этой помощи жди от Господа.
Не унывай, видя в себе немощи различные. Это много зависит от переживаний твоих и взвинченных нервов. Потерпи и себя. Бог даст, окрепнут твои силы душевные и телесные. Я вижу в тебе желание доброй христианской жизни, а если это есть, значит, жива душа твоя. Жива будет душа моя и восхвалит Тя, и судьбы Твоя помогут мне (Пс. 118, 175), — так восклицал святой пророк Давид от лица всякого верующего и к Богу прибегающего. Восклицай и ты так в надежде на милость Божию — и Господь не оставит тебя, ибо ни Господь, ни ангел-хранитель не отступали от тебя, а с любовью хранят тебя, защищают тебя. Терпи все. Враг не вынесет твоего постоянства и отступит, видя, что не может укрепиться на тебя. И за смирение твое да придет к тебе всесильная помощь Божия и благодать.
Верю, что тяжело тебе, что скорбно, но верю, что не оставит Господь тебя, аще уповать будешь на Него. Мы хотя и грешные, но все же Божии и иных богов не знаем.
Молитвенно тебя всегда помню и заочно осеняю крестным знамением. Да хранит тебя Господь и управит путь жизни твоей во спасение.
Преподобный Никон Оптинский: Жизнеописание и духовные наставления. М., 1998. С. 113, 115, 159–160, 175, 198–199, 218–219, 225, 240–241, 259–261, 271, 274, 300, 314, 347–348, 369, 379–380.
Православный церковный календарь на 2008 год издания Соловецкого монастыря.
Письмо матери
Христос посреди нас! Мира и радования желаю тебе, дорогая мама!
Шлю тебе иноческий привет, ныне я уже узник, и, хочется сказать, узник о Христе, ибо хотя я и грешен, но в данном случае совершенно неповинен, как мне кажется. Сижу в темнице без предъявления мне какой-либо вины и, как видно, только потому, что я монах, что я трудился для обители. Да будет воля Божия, благая и совершенная! Благословляю Господа, на Господа надежду и упование возвергаю, в Господе отраду мою нахожу.
17-го сентября, помолившись за литургией и отслужив после нее молебен о твоем здоровье и прочих близких моих, я возвратился в келию и был арестован и отправлен в г. Козельск, в тюрьму, где и нахожусь. Со мною еще четыре человека духовного звания, такие же узники о Христе, и потому среда, в которой я нахожусь, не тяготит меня, я даже благодушествую. Но, ожидая всегда смерти, я решил в день моего рождения обратиться к тебе, дорогой моей мамаше, с моим, быть может, последним словом и приветом. Да благословит тебя Господь! Как иерей, призываю на тебя Божие благословение и молю Господа: да воздаст Он тебе вечными милостями Своими и вечным блаженством за все то добро, какое я получил от тебя. Да почиет на мне твое родительское благословение, которого усердно прошу у тебя. Помню тебя, и здесь, в заключении, приношу Богу мою молитву о тебе, хотя и слабую, по немощи моей. И себя, и дорогую мне обитель нашу, тебя и всех предаю Господу Богу моему, Творцу и Промыслителю, ибо Он печется о всех и творит то, что нужно и полезно нам. Усердно прошу твоих святых молитв о мне, грешном, о спасении моей грешной души — цели земной жизни. И что мне более нужно, если бы я достиг сей вожделенной цели? Потому прошу молитв о моем спасении. Твердо верю, что все в руках Божиих, и спокоен. Чаю жизни будущего века, аминь.
Прошу передать от меня Божие благословение маме крестной (прошу ее святых молитв и благословения), сестре и братьям и всем прочим родным и знакомым; о всех них молился всегда. Да благословит и спасет их Господь! У всех прошу прощенья, а наипаче у тебя, ибо ошибки мои сознаю. Прости.
Господь да будет со всеми нами!
Грешный иеромонах Никон
26 сентября 1919 г. Козельск; тюрьма
Листок № 1025. Терпеливо понеси свою душу
Венец старцев — многосторонняя опытность, и хвала их — страх Божий (Сир. 25, 8). По летам и годам иночества, казалось бы, пора быть уже старцем, а до сих пор нет ни опытности, так как не было духовных подвигов, нет ни страха Божия, потому что тогда не было бы постоянной рассеянности и неисправимого нерадения.
Правда, есть надежда, что самый путь, которым Господь ведет меня, в конце концов приведет к Нему, потому что все на нем бывающее смиряет. Чем ближе подходит человек в своем внутреннем делании и настроениях к Истинному Свету, тем больше и больше открывает в себе темных сторон и притаившихся во мраке духовной лености и греховности страстных навыков или наклонностей. Именно, как пишете Вы: «С каждым днем все больше и больше чувствую свою никуданегодность». Это значит, что стал понемногу светить в нашей совести Свет, Которого не сможет уже объять никакая греховная тьма, раз мы сами искренне желаем от нее освободиться. Не надо нам забывать, что и с духовными нашими немощами бывает то же, что и с физическими болезнями. У каждой болезни есть свой период, раньше которого никогда не наступает кризис и не может быть выздоровления, как бы ни искусен был врач и ни хотел этого сам больной. То же и с нашими духовными немощами. Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению (Флп. 2, 13). Потому и великий апостол языков все приписывает Богу. «Я тружусь и подвизаюсь, — пишет он, — силой Его, действующей во мне могущественно». Не надо падать духом, оттого что не изжиты у Вас тяготящие Вашу совесть и душу немощи, хотя всячески Вы хотите переломить себя. Значит, не пришел еще для этого час воли и милости Божией. Надо, следовательно, еще и потужить, и помолиться, и поплакать, и потомиться, сугубо ощущая свой грех и необходимость всепобеждающей благодати Божией.
Необходимо терпеливо понести свою душу, это своего рода духовное истощание, та нравственная Гефсимания, в какой сильнее, чем когда-либо, познается свое духовное ничтожество, тяжесть своего жизненного креста, страх перед неодолимостью всевозможных препятствий и скорбей жизни, тоска от внутреннего разъединения с людьми, даже любимыми, тяжкая агония, оставленность Богом и почти физическое ощущение всей несветимой тьмы зла и греха. В этом тяжелом душевном кризисе более, чем когда и в чем другом, потребно смирение. У нас не было бы той страшной муки и боли, какие, как буря, захватывают нас во время душевных крушений, если бы мы не переоценивали себя, были крепки верой и всегда бы не только помнили, но и чувствовали сердцем и предощущениями надежды Его последние слова: Я с вами во все дни до конца века (Мф. 28, 20).
Конечно, холод мертвого долга не то, что живая теплота милосердной любви, раздражительность далеко не то, что терпение, и т. д., но эти смены весны и лета духовной жизни ненастной осенью и хмурой зимой, упадка духовной энергии, некоторого как бы утучнения плоти при видимом исчезновении «жирка» — все это неминуемо, и эту полосу не раз приходится всем пережить. Говоря словами Апокалипсиса, «здесь терпение и вера святых». Вот что здесь необходимо. «Где ты был, Господи?» — некогда горестно воззвал Антоний Великий, когда после долгой и мучительной борьбы он претерпел и справился с изнурительным недугом искушения. Вы знаете, что ответил ему Бог — что Он все время был около Антония и смотрел на его подвиг. Несомненно, и теперь близ Вас Господь, и, быть может, гораздо ближе около «поверженной» и немного как будто уставшей, чем около «гордой» Его силой.
Вы, конечно, отлично знаете, что можно читать ежедневно полунощницы и т. д. и быть очень посредственным христианином, и можно делать как будто самое обычное, серое, повседневное дело и быть выше пустынников, все время посвятивших подвигу и молитве. Никогда не надо, по-моему, назначать себе молитвенных программ, но надо непременно вырабатывать в себе постоянное памятование о Боге и вечном и дух сокрушения и сострадания. Все это не так-то скоро удается и никогда почти не приходит «с соблюдением». Я чувствую, как теперь страшно трудно сохранить свой внутренний мир, как трудно хранить смирение, когда многое вокруг нас вызывает на осуждение, негодование и гнев, когда так все насыщено и напитано самолюбием и гордостью, как трудно быть кротким, как еще труднее любить и хранить внутреннюю тишину, среди которой только и возможно слышать благодатное веяние Святого Духа Божия. Но невозможное для человека возможно для Бога! Нам часто невозможно изменить внешние условия своей жизни, невозможно избежать многих повседневных неудобств и житейских скорбей, но Богу возможно все это обратить нам на душевную пользу и дать нам для этого терпение. Когда смиришься перед обстоятельствами своей жизни и перед теми, с кем не без воли Божией живешь, то легче становится переносить их, и хорошо и тихо бывает на сердце.
Смиримся перед этой благой, ведущей нас ко спасению десницей Божией, и одно только всегда будем вопиять Ему от сердца: «Имиже веси судьбами спаси мя»!
Нас везде остается малое стадо. Что мы без Него? Или кто или что может устрашить нас, если Он с нами, если пребываем в Его любви? Не скудость страшна, а страшно, когда оскудевает любовь, когда исчезает смирение, когда остывает душа без молитвы, когда меркнет свет веры, когда эта земная жизнь с ее суетой, соблазнами и беззаконием вытесняет память о будущей, к какой всегда надо готовиться. Но Он Сам сказал: «Не бойся, малое стадо» — не только Его ближайшим ученикам, но и всем верующим. «Не молю, чтобы взял их от мира, — просил Он некогда Отца, — но чтобы сохранил их от зла». Это буди, буди СО всеми нами. (Письма владыки Германа. С. 219, 267–268, 277, 300–301, 314, 321, 326.)
Печатается по изданию: Православный церковный календарь на 2008 год издания Соловецкого монастыря. С. 326–327.
Краткое жизнеописание священномученика Германа (Ряшенцева)
Епископ Герман (в миру Николай Степанович Ряшенцев) уже в раннем детстве ощутил призвание Божие, которое определило выбор его жизненного пути. В 1902 году он поступает в Казанскую духовную академию. На третьем курсе академии, в Великую субботу 1905 года, двадцатилетний студент принимает монашеский постриг с именем Герман, в честь святителя Германа Казанского.
В 1906 году отец Герман принимает священный сан и оканчивает академию со званием кандидата, защитив кандидатскую диссертацию на тему «Нравственные воззрения преподобного Симеона Нового Богослова». 17 августа того же года последовало назначение его в Псковскую семинарию преподавателем Священного Писания, позже был инспектором той же семинарии. 30 января 1910 года иеромонах Герман определением Святейшего Синода перемещен на должность инспектора в Вифанскую семинарию, через два с половиной года он становится с возведением в сан архимандрита ее ректором.
Весной и летом 1917 года отец Герман был как священник командирован в действующую армию.
Вернувшись с фронта, отец Герман некоторое время живет в Сергиевом Посаде и в Москве.
К этому времени относится составление им одного из лучших акафистов, появившихся в XX веке, — акафиста преподобному и благоверному князю Даниилу Московскому. 14/27 сентября 1919 года, в праздник Воздвижения Честного Креста Господня, совершается его хиротония во епископа Волоколамского, викария Московской епархии. Управлять викариатством епископу Герману пришлось очень недолго: уже в начале 1921 года (очевидно, в конце января) он был арестован и заключен в Бутырскую тюрьму. Правда, арест был кратковременным и в том же году Владыка был освобожден, но выезд из Москвы ему был запрещен. 1/14 сентября, в праздник Донской иконы Божией Матери, сослужил Святейшему Патриарху Тихону за Литургией в Донском монастыре. В июле 1922 года епископ Герман был вновь арестован и несколько месяцев провел в Бутырской тюрьме, а затем был административно выслан в Тобольский округ. В начале августа 1925 года Владыка возвращается в Москву. На свободе ему удалось пробыть только четыре месяца. В ночь с 30 ноября на 1 декабря епископ Герман был арестован. 21 мая 1926 года вынесен приговор: три года ссылки. В сентябре он прибывает к месту своей ссылки — город Турткуль в Каракалпакии, потом Ходжейли.
14 января 1928 года епископ Герман получает разрешение на выезд и возвращается в Москву.
26 июня 1928 года епископ Герман получает назначение в Вязники. На Вязниковской кафедре он пробыл всего полгода.
14 декабря 1928 года Владыка был арестован в Вязниках, а 15 декабря его уже допрашивали во Владимире. 17 мая 1929 года Владыка был приговорен к трем годам лагерей. В начале 1930 года он попадает в Соловецкий лагерь. Там через месяц заболевает тифом. Болезнь, продолжавшаяся два с половиной месяца, превратила Владыку в инвалида. В конце 1930 года «вместе со стариками, больными и калеками» он был переведен на материк и затем на положении ссыльного, иногда в крайне тяжелых условиях, не имея даже крова над головой («на открытом воздухе»), жил на Севере до февраля 1933 года. За это время ему пришлось сменить более двенадцати мест назначения. Об одном из таких перемещений, совершившимся Пр омыслом Божиим, — из Деревянска в Вочь, Владыка писал Н. А. Верховцевой: «В день памяти князя Даниила… проделали до района сто километров по глубокому, часто по колено снегу и в сильную метель, переходящую в буран, и 21 марта по старому стилю дошли в село Вочь…»
Получив 2/15 января 1933 года, в день памяти преподобного Серафима, разрешение уехать, Владыка отправляется в избранный им из предложенных для проживания город Арзамас. Новый арест в начале марта 1934 года он встретил спокойно. «Вы слышали о том, что Мася[9] со второй недели поста до Вознесения была в доме отдыха (то есть в тюрьме. — Примеч. ред.), — пишет Владыка Н. А. Верховцевой по дороге в новую ссылку. — Там было очень хорошо. Она жила среди своих… Так как еще задолго до болезни ей одной дивной старицей… было предсказано все, что случилось тогда и совершается теперь, то она была очень спокойной и даже очень подбадривала своих сотоварищей». Постановление о предъявлении обвинения епископу Герману от 4 марта 1934 года гласило: «Ряшенцев Герман Степанович достаточно изобличается в том, что совместно с епископом Серапионом активно боролся за поднятие авторитета религии и сплачивание духовенства в Арзамасской епископии». Так «из уст» безбожных, владевших только казенным советским «новоязом», Бог «совершил хвалу» Своим святым.
В мае 1934 года Владыка прибывает на станцию Опарино Северо-Котласской железной дороги, где ему надлежало отбывать ссылку, но вскоре, 10 августа того же года, он получает распоряжение поселиться в Сыктывкаре, в пригородном селе Кочпон.
Приближался день окончания ссылки (2 марта 1937 года). В 1936 году многие ссыльные, отбывшие свои сроки, уехали. Владыка ждал освобождения, обсуждал с друзьями, где лучше поселиться для новой «передышки». Но наступил 1937 год. 24 февраля 1937 года он был арестован в пятый и последний раз. Приговор тройки при УНКВД Коми АССР вынесен 13 сентября и для всех одинаков: расстрелять. 15 сентября священномученик Герман, епископ Вязниковский, и его соузники были расстреляны вблизи города Сыктывкара. На месте расстрелов ныне находится аэродром.
2 сентября 2001 года Комиссия по канонизации Русской Православной Церкви, рассмотрев представленные Православным Свято-Тихоновским богословским институтом материалы, не нашла препятствий для причисления епископа Германа к лику святых мучеников, и на заседании Священного Синода 6 октября того же года его имя было включено в состав Собора новомучеников и исповедников Российских.
Священномучениче Германе, моли Бога о нас, грешных!
Листок № 1307. Познай себя
В этом кратком изречении — «Познай себя» — сказалась высшая мудрость древнего мира, который оставил нам в правиле «самопознания» богатейшее наследие ума и житейского опыта.
Правило «Познай себя» было пышным цветом и драгоценным плодом философской мысли в древности. Оно было положено в основу и новой философии среди христианских народов, и все, что было открыто в этой области ценного, высокого, несомненно, обязано этому мудрому правилу — «Познай себя».
В христианстве принцип самопознания, конечно, получил более высокое, одухотворенное значение и нашел для себя более широкое применение. Оно расширило для человека горизонты духовного мира, раскрыло необъятное величие души человеческой и пролило в жизнь такое обилие света, о каковом язычники не могли даже и мечтать (см. Мф. 4, 16; Ис. 9, 1–2).
При свете христианского учения люди легче, успешнее могли проникать в свой внутренний духовный мир, могли свободнее и лучше «познавать себя».
К сожалению, современная жизнь, а вместе с ней и наука, в особенности психология, далеко уклонились от древнего мудрого правила «Познай себя». Мы не знаем своего внутреннего, духовного существа, часто недоумеваем по поводу различных нестроений и несчастий в жизни человеческой, считая их непонятными и незаслуженными, мы ропщем на Бога, на людей и судьбу и очень часто причину наших бедствий и страданий, лишений и огорчений усматриваем вовсе не там, где она на самом деле существует. Чаще всего мы склонны видеть эту причину во внешних обстоятельствах жизни, тогда как на самом деле она обретается в нас же самих.
Но беда наша — в том, что мы редко заглядываем или даже вовсе не умеем заглядывать внутрь себя. Заботясь об удовлетворении только внешних, материальных потребностей, мы забываем, что, кроме нашего тела и кроме внешнего, видимого мира, существует другой, невидимый и необъятный мир духовный, жизнь которого столько же реальна, насколько реальна и жизнь мира материального.
Если жизнь материального мира предъявляет к нам известные требования и вызывает в нас известные потребности, каковые мы стремимся так или иначе удовлетворить, то и жизнь мира духовного также имеет в нас свои права и также заявляет о своих потребностях, которые, к сожалению, большей частью оставляются без должного удовлетворения нами по той простой причине, что мы, не зная своего духовного существа, не знаем и своих духовных потребностей или не желаем и не умеем их удовлетворять.
Всячески заботясь о благоустроении своей внешней, материальной жизни, мы забываем о потребностях и нуждах духовных, последние для нас как бы не существуют. Это ненормальное явление служит скрытой причиной величайшей трагедии человеческой жизни. Как река, стесненная или прегражденная в своем естественном течении, стремится к образованию нового русла, производя на своем пути грозные разрушения, так и заглушенные или подавленные духовные стремления всегда дают о себе знать великим разладом в существе человека и весьма часто нарушают гармонию его жизни глубоким расстройством.
В самом деле, откуда все эти страдания и мучительные томления духа человеческого по каким-то неведомым идеалам жизни, часто доводящие людей до болезненного мистицизма и фанатизма; откуда эти изуверства, враждебные и нетерпимые отношения людей друг к другу; откуда все эти отчаянные разочарования в жизни наряду с крайними проявлениями полной нравственной распущенности и дикого разврата? Все это имеет один общий источник: отрицательное отношение человека к запросам, требованиям и стремлениям своей духовной природы, которой многие люди совершенно не знают и не понимают.
«Душа болит, душа тоскует!» — жалуется человек иногда при полном внешнем довольстве и даже роскоши. Он не подозревает, что страдает от духовной неудовлетворенности, которая терзает и истощает его душу, подобно физическому голоду. Отсюда и возникает тот ужасный нравственный разлад человека с самим собой и с окружающим миром, который невольно побуждает людей блуждать по опасным распутьям жизни и многих доводит до самоубийства и других тяжких преступлений.
Не умея устроить собственную жизнь, мы по незнанию себя не можем и не умеем правильно относиться и к другим окружающим нас людям: родным, близким и знакомым — и весьма часто вносим страшный разлад в жизнь других, отравляя существование самым близким и дорогим нам лицам.
Вообще благодаря недостатку самопознания мы давно уже утратили, так сказать, мудрость жизни или искусство жить, которыми гораздо более нас владели древние, знавшие и умевшие применять в жизни мудрый принцип «Познай себя».
В наших школах обучают детей и юношество безчисленным предметам, из которых многие, быть может, никогда и ни на что не пригодятся в жизни и в то же время не дают ни малейшего понятия о важнейшей «науке жизни», которая заключается в двух словах: «Познай себя».
Оттого-то после многочисленных школьных экзаменов, блестяще выдержанных, с треском проваливаемся на житейском экзамене, не умея дать ответ на самые элементарные вопросы жизни. Но жизнь, конечно, за это нас по головке не гладит, задает нам тяжелые испытания и задачи и до тех пор не дает нам «аттестата зрелости», пока мы сколько-нибудь не узнаем и не поймем свое внутреннее, духовное «я».
Но нас это очень мало интересует. И вот в жизни, неизбежно и большей частью неожиданно, мы сталкиваемся с роковым предметом и странным явлением нашего «я», которое предъявляет нам категорические требования, смущает, мучит, терзает нас, не мирится с нашей исключительно материальной жизнью, лишенной каких-либо высших духовных интересов.
Мы распознаем это «я» иногда в изречениях Божиих, в словах поэтов, мудрецов, на дне некоторых радостей и горя, в любви и в болезни или в неожиданных обстоятельствах, когда оно издали делает нам знак и указывает перстом нашу связь с вселенной.
Если древние языческие мудрецы усердно были заняты самопознанием и оставили в наследие нам такой благодетельный принцип жизни, как «Познай себя», то тем более необходимо самопознание для нас, христиан, которым Евангелие ясно говорит, что «Царство Божие внутрь нас есть», в нашей душе, почему и Христос часто говорит своим слушателям: «Внемлите себе», и апостол Павел заповедал своему ученику Тимофею: «Внимай себе и учению!».
Кормчий. 1916. № 33–34. С. 340–342 // Православный церковный календарь на 2008 год издания Соловецкого монастыря. С. 118–120.
О духовной свободе
Жизнь наша в руце Божией, а если человек посягает на свободу, Богом дарованную человеку, то это грех, и правды не может быть в том.
Сознавая свою немощь, каждый из нас должен дорожить своей духовной свободой.
Уж как просто-то: не нравится, не по душе — отошли, и на том конец всем переживаниям. Людям только увидеть и сделать выбор: или света, тепла и добра — а значит, путь за Богом, или упоиться самостью в грехе.
Это о главном.
Свободу человека никто отнять не может, даже Творец его.
Духовной свободой, дарованной Богом, дорожи сам и учись дорожить этим даром в других.
Неведомому чаду. Деятельные и созерцательные слова (обретенные в переписке). Слово 31. Печоры: Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, 2009. С. 71–72.
Руководство к христианской жизни
Листок № 3. Правила благочестивой жизни
Эти правила благочестивой жизни были опубликованы в книге И.М. Концевича «Оптина пустынь и ея время». В предисловии к «Правилам» протопресвитер Адриан сообщает, что получил их от великого оптинского старца Нектария, и только после кончины старца (9 апреля 1928 года) понял ценность этого дара. «Когда скончался старец, — пишет о. Адриан, — я остался одинок, без старческих указаний, и в тот момент, когда мне была необходима старческая помощь, я нашел этот листок и, перечитав его вторично, понял значение батюшкиного дара: “Правила благочестивой жизни”, в сущности, были для меня живым старцем».
1. Принуждай себя всегда вставать рано и в определенное время. Без особенной причины не спи более семи часов. Как скоро пробудишься от сна, тотчас вознеси мысль свою к Богу и сделай на себе с благоговением крестное знамение, помышляя о распятом Господе Иисусе Христе, умершем для нашего спасения на кресте.
2. Немедленно встань с постели, оденься и не позволяй себе долго нежиться на постели. Одеваясь, помни, что ты находишься в присутствии Господа Бога и Ангела-Хранителя, и вспоминай о падении Адама, который грехом лишил себя одежды невинности, и проси у Господа Иисуса благодати облечься в Него.
3. Потом немедленно начни молитвы утренния: преклонив колена, молись внимательно, благоговейно и с глубочайшим смирением, как должно перед взором Всемогущего; испрашивай у Него веры, надежды и любви, благословения на наступающий день, также сил к благодушному принятию всего того, что Ему будет благоугодно в тот день послать или попустить, и к перенесению всех тягостей, бедствий, смущений, напастей, скорбей и болезней души и тела, из любви к Иисусу Христу.
4. Прими твердое намерение все делать для Господа Бога, все принимать от Отеческой руки Его, и особенную решимость делать именно такое-то добро или избегать именно такого-то зла…
5. В каждое утро хотя четверть часа посвящай на краткое размышление об истинах веры, особенно о непостижимом таинстве Воплощения Сына Божия и о страшном втором пришествии Его, об аде и рае. Размышляй так: может быть, этот день есть последний день моей жизни, — и все так делай, как бы ты хотел делать, готовясь предстать теперь же на суд Божий.
6. Благодари Господа Бога за сохранение тебя в прошедшую ночь, и что ты еще жив и не умер в грехах. Сколько людей в прошедшую ночь предстали пред страшное судилище Господа! Также возблагодари Бога, что еще есть для тебя время благодати и милосердия и средства для покаяния и приобретения неба.
7. Каждое утро думай о себе, что только теперь начинаешь и хочешь быть христианином; а прошедшее время напрасно погибло.
8. После молитвы и размышления, если позволяет время, почитай какую-нибудь книгу духовную, например святого Димитрия «Алфавит духовный» и святителя Тихона Задонского «Сокровище духовное от мира собираемое», и читай до тех пор, пока сердце твое придет в умиление. Довольно подумав об одном месте, читай далее и внимай тщательно тому, что Господь говорит твоему сердцу.
9. После сего займись делами твоими, и все занятия и дела твои да будут во славу Божию, — помни, что Бог везде видит тебя, зрит все действия, занятия, чувствования, помышления и делания твои и щедро воздаст тебе за все добрые дела.
10. Не начинай ни одного дела, не помолясь Господу Богу, ибо то, что мы делаем или говорим без молитвы, после оказывается или погрешительным, или вредным и обличает нас чрез дела неведомым для нас образом. Сам Господь сказал: «Без Мене не можете творити ничесоже».
11. Среди трудов твоих всегда благодушествуй, успех оных поручая благословению Господа.
12. Исполняй все тяжкое для тебя, как епитимию за грехи твои — в духе послушания и смирения; в продолжение трудов произноси краткия молитвы, особенно молитву Иисусову, и представляй себе Иисуса, Который в поте лица Своего ел хлеб свой, трудясь с Иосифом.
13. Если твои труды совершаются успешно по желанию сердца твоего, то благодари Господа Бога; если же неуспешно, то помни, что и это Бог попускает, а Бог делает все хорошо.
14. Во время обеда представляй, что Отец Небесный отверзает руку Свою, чтобы напитать тебя; никогда не оставляй молитвы перед обедом, уделяй от своего стола и нищим.
15. После обеда считай себя как бы одним из тех, которых в числе пяти тысяч напитал чудесно Иисус Христос; и возблагодари Его от сердца, и моли, чтобы Он не лишил тебя небесной пищи, слова Своего и пречистых Тела и Крови Своих.
16. Если желаешь жизни мирной, то предай всего себя Богу. До тех пор ты не найдешь душевнаго мира, пока не успокоишься в едином Боге, любя Его единого.
17. Всегда и во всем поминай Господа Бога и святую любовь Его к нам грешным. Во всем старайся исполнить волю Божию и угождать только единому Богу, делай и терпи все для Бога.
18. Заботься не о том, чтобы уважали и любили тебя люди века сего, но о том, чтобы угодить Господу Богу и чтобы совесть твоя не обличала тебя во грехах.
19. Бодрствуй тщательно над самим собою, над чувствами, помышлениями, движениями сердца и страстями: ничего не почитай маловажным, когда дело идет о твоем спасении вечном.
20. Во время памятования о Боге умножай молитвы твои, чтобы Господь помянул тебя тогда, когда ты забудешь о Нем.
21. Во всем да будет твоим учителем Господь Иисус Христос, на Которого взирая оком ума своего, спрашивай себя самого чаще: что в этом случае помыслил бы и сделал бы Иисус Христос.
22. Будь кроток, тих, смирен; молчи и терпи по примеру Иисуса. Он не возложит на тебя креста, которого ты не можешь понести; он Сам поможет тебе нести крест.
Не думай приобресть какую-либо добродетель без скорби и болезней души. Проси у Господа Бога благодати исполнять как можно лучше святейшие заповеди Его, хотя бы они казались тебе весьма трудными.
24. Исполнив какую-либо заповедь Божию, ожидай искушения, ибо любовь ко Христу испытывается чрез преодоление препятствий.
25. И на малое время не оставайся в праздности, а пребудь всегда в трудах и занятиях, ибо не трудящийся недостоин имени человека.
26. Уединяйся по примеру Иисуса, Который, удаляясь от прочих людей, молился Отцу Небесному.
27. Во время тягости душевной или охлаждения к молитве и ко всем благочестивым занятиям не оставляй дел благочестия; так, Господь Иисус Христос трижды молился, когда душа Его была прискорбна даже до смерти. Делай все во имя Господа Иисуса, и таким образом всякое дело твое будет делом благочестия.
28. Убегай даже самых малых грехов, ибо не удаляющийся от малых непременно впадет в большие и тяжкие.
29. Если хочешь, чтобы не тревожили тебя злые помыслы, то со смирением принимай уничижение души и скорбь телесную, не в одно какое-либо, но во всякое время, во всяком месте и во всяком деле.
30. Всякий помысл, удаляющий тебя от Господа, особенно скверный плотский помысл, изгоняй из сердца как можно скорее, как сбрасываешь с одежды и одну искру, попавшую на нее. Когда придет такой помысл, то молись крепко: «Господи, помилуй, Господи, помоги мне, Господи, не оставь меня, избавь от искушений»… или иначе как.
31. Но среди искушений не смущайся. Кто посылает случай к сражению, Тот даст и силы к победе. Будь спокоен духом, уповай на Бога: если Бог за тебя, то кто против тебя?
32. Испрашивай у Бога, чтобы Он отнял у тебя все, что питает твое самолюбие, хотя бы это для тебя было и очень горько. Желай жить и умереть для одного Господа Бога и всецело принадлежать Ему.
33. Когда потерпишь какое-либо безчестие от людей, то подумай, что это послано от Бога к славе твоей, и таким образом в безчестии будешь без печали и смущения, и в славе.
34. Если имеешь пищу и одежду, то и сим будь доволен по примеру Иисуса, нас ради обнищавшего.
35. Никогда не спорь, и слишком много не защищай себя, и не извиняй; ничего не говори против начальников или ближних без нужды или обязанности. Будь искренен и прост сердцем, с любовью принимай наставления, увещания и обличения от других, хотя бы ты был и очень умен.
36. Не будь ненавистником, завистливым, чрезмерно строгим в слове и делах. Чего не хочешь себе, того не делай и другому; и чего себе от других желаешь, то прежде сам сделай для других.
37. Если кто посетит тебя, то возвысь сердце твое к Господу Богу и моли даровать тебе дух кроткий, смиренный, собранный; и будь ласков, скромен, осторожен, благоразумен, слеп и глух; смотря по обстоятельствам. Помышляй, что Иисус находится среди тех, с которыми ты находишься и беседуешь.
38. Не говори ничего необдуманно, твердо помни, что время кратко и что человек должен дать отчет во всяком безполезном слове; разговору назначай определенную цель и старайся направлять его к спасению души. Более слушай, нежели говори: во многоглаголании не спасешься от греха.
39. Испрашивай у Господа благодати благовременно и молчать, и говорить. Не любопытствуй о новостях: они развлекают дух. Если же кому принесешь пользу словами своими, то признай в этом благодать Божию.
40. Когда ты находишься наедине с собою, то испытывай себя, не сделался ли ты хуже прежнего, не впал ли в какие грехи, которые прежде не делал?
41. Если согрешишь, то немедленно проси прощения у Бога со смирением, сокрушением и упованием на Его благость и поспеши принести покаяние пред отцом духовным; ибо всякий грех, оставленный без покаяния, есть грех к смерти. Притом если не будешь сокрушаться о грехе, сделанном тобою, то опять в него скоро впадешь.
42. Старайся делать всякому добро, какое и когда только можешь, не думая о том, оценит или не оценит он его и будет ли тебе благодарен.
43. И радуйся не тогда, когда сделаешь кому-либо добро, но когда без злопамятства перенесешь оскорбления от другого, особенно от облагодетельствованного тобою.
44. Если кто от одного слова не оказывается послушным, того не понуждай чрез прение, сам воспользуйся благом, которое он потерял. Ибо незлобие принесет тебе великую пользу.
45. Но когда вред от одного распространяется на многих, то не терпи его, ищи пользы не своей, но многих. Общее благо важнее частного.
46. Во время ужина вспоминай о последней вечери Иисуса Христа, моля Его, чтобы Он удостоил тебя вечери небесной.
47. Прежде, нежели ляжешь спать, испытай твою совесть, проси света к познанию грехов твоих, размышляй о них, проси прощения в них, обещай исправление, определив ясно и точно, в чем именно и как ты думаешь исправлять себя.
48. Потом предай себя Богу, как будто тебе должно в сию ночь явиться пред Ним; поручай себя Божией Матери, Ангелу-Хранителю, святому, которого имя носишь.
49. Представляй постель как бы гробом твоим и одеяло как бы саваном. Сделав крестное знамение и облобызав крест, который на себе носишь, усни под защитою Пастыря Израилева, Иже храняй не воздремлет, ниже уснет.
50. Если не можешь спать или бодрствуешь во время ночи, то вспоминай слово: среди полунощи бысть вопль: «се Жених грядет», или вспоминай о той последней ночи, в которую Иисус молился Отцу до кровавого пота; молись за находящихся ночью в тяжких болезнях и смертном томлении, за страждущих и усопших, и моли Господа, да не покроет тебя вечная тьма. Среди полночи встань с постели и помолись, сколько сил станет.
51. Во время болезни прежде всего возложи упование твое на Бога и часто вспоминай и размышляй о страдании и смерти Иисуса Христа для укрепления духа своего среди болезненных страданий. Непрестанно твори молитвы, какие знаешь и можешь, проси у Господа Бога прощения во грехах и терпения во время болезни. Всячески воздерживайся от ропота и раздражительности, так обыкновенных во время болезни. Господь Иисус Христос претерпел ради нашего спасения самые тяжкие болезни и страдания, а мы что сделали или потерпели ради нашего спасения?
52. Как можно чаще ходи в храмы к Божественной службе, особенно старайся как можно чаще быть во время литургии. А воскресные и праздничные дни непременно посвящай делам благочестия; находясь во храме, всегда помни, что ты находишься в присутствии Бога, Ангелов и всех святых; остальное время дня после литургии посвящай на благочестивое чтение и другие дела благочестия и любви.
53. День рождения и Ангела твоего особенно посвящай делам благочестия.
54. Каждый год и каждый месяц делай строгое испытание твоей совести, исповедуйся и приобщайся Святых Таин. К приобщению Святых Таин приступай всегда с истинным гладом и с истинною жаждою души, с сокрушением сердца, с благоговением, смирением, верою, упованием, любовью.
55. Как можно чаще размышляй о страданиях и смерти Иисуса Христа, умоляя Его ризою заслуг Своих покрыть все грехи твои и принять тебя в царство Свое.
56. Имя Иисуса всегда имей в устах, в уме и в сердце.
57. Как можно чаще размышляй о великой любви к тебе Господа Бога, в Троице славимого и покланяемого, чтобы и самому тебе возлюбить Его всем сердцем твоим, всею душою и всеми силами твоими.
58. Творя сие, будешь вести мирную жизнь на сей земле и блаженную на небе во веки веков. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да будет с тобою. Аминь.
Беседы преподобного Серафима Саровского о том, как сладостно жить по-христиански
Не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот оно здесь, или: вот там. Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть.
Лк. 17, 20–21
Как все мы жадно, безумно ищем счастия, основанного на богатстве, высоком положении, власти, и совершенно забываем, что прочное, верное счастье близко к нам, доступно каждому, что оно в нас самих, в верности Христу, в исполнении Его заповедей, в том глубоком мире, в той непреходящей духовной радости, которая осеняет жизнь всякого истинного христианина. Этой радости никто не может отнять. Ее не могут нарушить самые большие бедствия. Во глубине всех зол тяжко испытываемый христианин, поднимая к небу слезный вздох, все же чувствует глубокий мир на душе, все же ощущает великую радость, мысленно лобзая десницу Божию. Ибо он сознает тогда, что Всеблагий Господь, давая ему горе, тем самым как бы избирает его и приближает к Себе, дает ему часть в тех страданиях, которые Сам понес за него, когда жил на земле в человеческом образе… Да, жизнь истинного христианина полна великой, нетленной радости, которая есть начаток и слабое отражение небесного нескончаемого ликования.
А мы не ищем этой радости, мы не знаем ее. Вся наша жизнь проходит в нескончаемой погоне за призраком земного счастья: за бездною трудно достижимых и большею частию не зависящих от нас земных выгод. Мы забываем, что ничего из земного не понесем с собою в ту жизнь, что одни, приобретенные здесь, на земле, совершенства духовные решат нашу участь в будущем веке. И по неразумию своему, неудовлетворенные большею частию здесь, нищими явимся мы и к порогу вечной жизни.
Среди суеты мира, среди одолевающего нас равнодушия к жизни духовной, христианской, да послужит нам отрезвляющим призывом память людей, которые на земле искали одного небесного и познали, еще живя во плоти, великое духовное счастье полного единения с Богом. Один из таких людей, преподобный Серафим Саровский, умалил, уничижил, распял в себе земную природу и все то, чего обыкновенно жаждут люди. Изнуренный бдением и постом, с ранами на ногах от долгих молитвенных стояний, вечно в работе, согбенный после нападения чуть не до смерти избивших его разбойников, угнетаемый тяжестью грузной, набитой камнями котомки, которую он носил на плечах, чтобы смирять тело и телесным страданием предохранять себя от искушений вражиих, «томлю томящаго мя» — как говорил он, — как он мирянам, далеким от духовной жизни, должен был казаться жалок, ничтожен! Но в этом уничижении и удручении плоти, в этом полном распятии в себе мира он познал вершину счастия, доступного человеку; он живо предвкушал ожидавшее его небесное блаженство. Послушаем же его беседы о сладости жизни христианской, и дай Бог, чтоб образумила нас эта беседа и склонила нас к исканию единственно верного и единственно всем доступного счастия — истинной жизни христианской.
Однажды в ближней пустыньке (место в двух верстах от обители, в Саровском лесу, где старец последние годы жизни проводил в работе дневное время) отца Серафима посетил один господин с супругой. Когда они подошли к старцу и поклонились ему до земли, старец благословил их и положил на их головы руки, прочел тропарь Успению Богоматери: «В рождестве девство сохранила еси…» Потом, севши на грядку, он приказал и посетителям сесть; но они невольно стали на колени, наслаждаясь его беседою о будущей жизни, о жизни святых, о заступлении, предстательстве и попечении о нас грешных Владычицы нашей Богородицы и о том, что необходимо нам в здешней жизни и для вечности.
Беседа продолжалась не более часа, но этого часа они не могли сравнить со всею своею прошлою жизнию. Во все время продолжения беседы они чувствовали неизъяснимую, небесную сладость, Бог весть каким образом переливавшуюся в сердце, сладость, которой нельзя сравнить ни с чем на земле и о которой впоследствии они никогда не могли вспомнить без слез умиления и ощущения живейшей радости во всем существе. Доселе, хотя гость и не отвергал ничего священного, но и не утверждал ничего. Для него в духовном мире все было безразлично. Но отец Серафим впервые дал ему почувствовать сладость этой жизни.
Однажды великий старец повел беседу с иноком, имевшим к нему большое усердие и веру. Говорил старец со свойственной ему простотою. Он описывал подвиги и страдания святых, твердую их веру и пламенную любовь к Спасителю, по стезям Которого они неуклонно шли, неся каждый свой крест для получения спасения, вспоминал и разные чудотворения, которые они совершали благодатию Божиею к славе Господа. Описывал многих подвижников, в иночестве прославившихся своими подвигами, в злострадании и непрестанном над собою бдении. Он говорил, что все святые, которых ублажает Церковь, оставили нам жизнь свою как пример для подражания, и что все они были подобострастны нам, но неуклонным исполнением заповедей Христовых достигли совершенства и спасения, обрели благодать и сподобились даров Святого Духа. Исполнение же заповедей есть бремя легкое для всякого христианина; только нужно всегда в памяти иметь их, а для этого всегда иметь в уме и на устах молитву Иисусову, а пред очами представлять жизнь и страдания Господа нашего Иисуса Христа, пострадавшего из любви к роду человеческому. В то же время необходимо очищать совесть исповеданием грехов и приобщением пречистых Таин Христовых.
Отечески обняв инока, великий старец сказал: «Радость моя, стяжи мирный дух!» И тут же начал объяснять, что такое мирный дух. По его словам, это значило привести себя в такое состояние, чтобы дух наш ничем не возмущался. Надобно быть подобно мертвому или слепому при всех скорбях, клеветах, гонениях и поношениях, которые неминуемо приходят ко всем, ищущим Христа. «Так спаслись, — говорил старец, — все праведники и наследовали вечное блаженство, а пред ним вся слава мира сего как ничто; все блага и радости мирские и тени не имеют, что уготовано любящим Бога в Небесных обителях. Там вечная радость и торжество. Чтоб нашему духу свободно возноситься туда и питаться от сладчайшей беседы с Господом, нужно смирять себя непрестанным бдением, молитвою и памятью о Боге. Вот я, убогий Серафим, читаю для этого Святое Евангелие ежедневно. Чрез это не только душа моя, но и самое тело услаждается и питается оттого, что я беседую с Господом, содержу в памяти моей жизнь и страдания Его, день и ночь славословлю, благодарю и хвалю Искупителя моего за все Его милости, изливаемые к роду человеческому и ко мне недостойному».
— Радость моя, — повторял старец опять, — стяжи мирный дух, и тогда тысяча душ спасутся вокруг тебя!
Старец в эти минуты погрузился в какие-то высокие духовные созерцания, и собеседник его стоял пред ним в неизъяснимом восторге и благоговении. Потом старец снова стал говорить о сладости жизни христианской. Вздохнув из глубины души, он, полный светлой радости, молвил: «Ах, если б ты знал, возлюбленнейший, какая радость, какая сладость ожидает душу праведного на небеси, то ты бы решился во временной жизни переносить всякие скорби, гонения и клевету с благодарением».
Потом старец стал говорить о вечных муках грешников.
«Страшно читать слова Спасителя, где Он творит праведный суд Свой грешникам. Если назначенных им мучений боится и трепещет сам сатана, то в каком состоянии будут нераскаянные грешники? И аще праведник едва спасается, нечестивый и грешник где явится?» (1 Пет. 4, 18).
Тем, которые заглушали свою совесть и ходили в похотях сердец своих, во аде нет помилования; нет там милости не сотворившим здесь милости.
В здешней временной жизни виновник еще может отговориться от наказания: или чрез случай, или чрез друзей. Но там одно из двух — или отыдите, или приидите! и не будет возврата… И в заключение беседы старец говорил о том, как необходимо теперь тщательнейшим образом заботиться о своем спасении, пока мы можем еще принести покаяние и возлюбить Спасителя нашего!
Великий старец, все претерпевший и земным страданием купивший Небо, научи и нас искать единственного верного счастья во Христе!..
Печатается по изданию: Троицкие листки о великом старце Серафиме Саровском.
1903. № 10.
Примечания
Богатству.
Богатству.
Аще (церковнослав.) — если, когда, хотя.
Вретище — 1) бедная, худая одежда; рубище нищего; 2) одежда покаяния (2 Цар. 3, 31; Иов. 16, 15; Дан. 9, 3; Мф. 11, 21).
Так говорит о себе великий угодник Божий, подвижник пустыни, любобезмолвный Ефрем, воздвигающий всех своими писаниями к покаянию; а что сказать о себе нам, грешным, в суете мира сего живущим и в нерадении пребывающим?.. Если он называет себя псом презренным, как назвать себя нам, грехами смердящим?.. Подумайте, друзья мои, о своей греховности!..
Е (церковнослав.) — его.
Я (церковнослав.) — их.
Мася — епископ Герман.

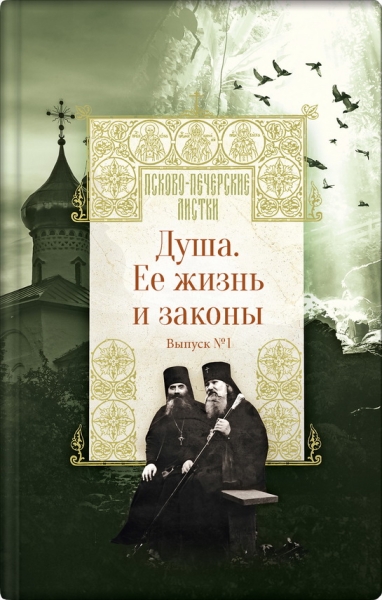


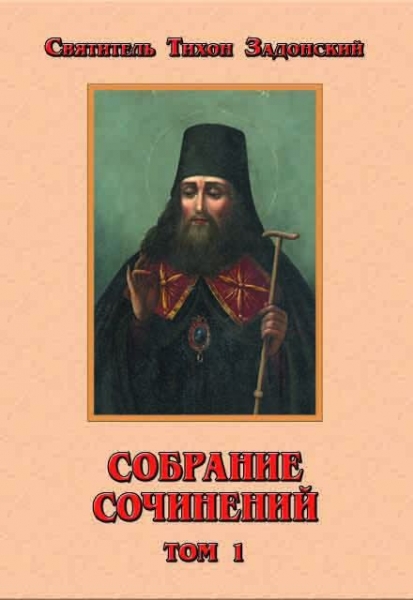
Комментарии к книге «Душа. Её жизнь и законы», Н. А. Котова (сост.)
Всего 0 комментариев