Для чтения книги купите её на ЛитРес
Реклама. ООО ЛИТРЕС, ИНН 7719571260, erid: 2VfnxyNkZrY
Лори Готтлиб Вы хотите поговорить об этом? Психотерапевт. Ее клиенты. И правда, которую мы скрываем от других и самих себя
Lori Gottlieb
MAYBE YOU SHOULD TALK TO SOMEONE: A Therapist, HER
Therapist, and Our Lives Revealed
Copyright © 2019 by Lori Gottlieb
All rights reserved
Published by special arrangement with Houghton Miffl in Harcourt Publishing Company.
Cover design by Gill Heeley
Illustrations copyright © 2019 by Arthur Mount.
© Бабина Н., перевод на русский язык, 2020
© ООО «Издательство «Эксмо», 2020
«Я читаю книги о психотерапии почти полвека, но я никогда не встречал чего-то подобного «Вы хотите поговорить об этом?»: это настолько смелая, дерзкая, полная прекрасных историй, искренняя, глубокая и захватывающая книга! Собирался прочитать пару глав, но не смог оторваться и дочитал до конца, наслаждаясь каждым словом».
«Если у вас есть хоть капля интереса к психотерапии или к загадке человеческого бытия, вы должны прочитать эту книгу. В ней столько мудрости, теплоты и юмора: вы отлично проведете время в компании Лори Готтлиб!»
«Это смелая и вдохновляющая книга, которая способна по-настоящему изменить вас. Лори Готтлиб открывает завесу тайной жизни психотерапевтов и их клиентов и тем самым помогает нам понять не только себя и окружающих, но и саму суть человеческой природы. Ее желание разобраться с проблемами даже самых непростых ее пациентов показывает, что мы не одни такие «странные», и может, нам просто стоит… поговорить обо всем этом?»
«Настоящая, живая, откровенная… Невыразимо искренние мемуары о психотерапии человека с уникальным опытом – и врача, и пациента».
«Книга для поклонников Оливера Сакса и… Норы Эфрон. Осторожно: вы не сможете оторваться!»
«Психотерапевт и колумнист The Atlantic Лори Готтлиб мудро, убедительно и с юмором продемонстрирует нам, каково это – оказаться на другой стороне кушетки».
«Чудесная книга… Готтлиб рассказывает о своих клиентах, и о собственном опыте – как психотерапевта, так и клиента – с любовью к людям, юмором и изяществом».
«Психотерапевт, столкнувшийся с теми же проблемами, с которыми пытаются справиться ее клиенты… Кто НЕ захочет об этом прочитать?! Лори Готтлиб ищет ответы на свои вопросы с обезоруживающей откровенностью».
Книги Лори Готтлиб:
Marry Him: The Case for Settling for Mr. Good Enough
Stick Figure: A Diary of My Former Self
I Love You, Nice to Meet You: A Guy and a Girl Give the Lowdown on Coupling Up
Inside The Cult Of Kibu: And Other Tales Of The Millennial Gold Rush
Счастье стоит классифицировать как психическое расстройство и внести в будущие издания основных диагностических руководств под новым названием: «Большое аффективное расстройство приятного типа». В обзоре соответствующей литературы показано, что счастье статистически нетипичное состояние, его составляют отдельные кластеры симптомов, оно ассоциируется с рядом когнитивных нарушений и, возможно, отражает ненормальное функционирование центральной нервной системы. Против этого есть лишь одно возможное возражение – счастье не расценивается негативно. Но с научной точки зрения это нерелевантный критерий.
Известный швейцарский психиатр Карл Юнг говорил:
«Люди готовы на что угодно, лишь бы избежать попытки заглянуть в собственную душу».
Но также он говорил следующее:
«Кто смотрит внутрь себя, просыпается».
Примечание автора
Эта книга задает вопрос: «Как мы меняемся?» – и отвечает: «Во взаимосвязи с другими». Отношения, о которых я пишу здесь, между пациентом и психотерапевтом, требуют священного доверия – только тогда появится сама возможность измениться. В дополнение к полученным письменным разрешениям на использование их историй в книге, я пошла на многое, чтобы скрыть черты личности и любые узнаваемые детали; в некоторых случаях беседы и сценарии нескольких пациентов были приписаны одному. Все изменения тщательно продуманы и дотошно выверенны, чтобы дух истории остался неизменным, одновременно служа великой цели: раскрыть нашу общую природу, помочь нам увидеть себя более ясно. Так что, если вы узнали себя на этих страницах, это одновременно и совпадение, и случайность.
Примечание к терминологии: тех, кто посещает психотерапию, называют по-разному, чаще всего – «пациентами» или «клиентами». Я не думаю, что оба слова в точности отражают отношения с людьми, с которыми я работаю. Но «люди, с которыми я работаю» звучит странно, а слово «клиенты» может смущать из-за множества присвоенных ему коннотаций, поэтому для простоты и ясности я использую слово «пациенты».
Часть первая
Нет ничего желаннее, чем освободиться от болезни, но нет ничего страшнее, чем оказаться без костыля.
ПРИМЕЧАНИЕ К ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ, ДЖОН:
Пациент жалуется на «подверженность стрессу», проблемы со сном и трудности во взаимоотношениях с женой. Демонстрирует раздражительность по отношению к окружающим и ищет помощи, чтобы «справляться с идиотами».
«Прояви сочувствие».
Глубокий вдох.
«Прояви сочувствие, прояви сочувствие, прояви сочувствие…»
Я мысленно повторяю это, словно мантру, в то время как сорокалетний мужчина, сидящий напротив, рассказывает мне обо всех людях в его жизни, которых считает «идиотами». Почему, вопрошает он, мир переполнен таким количеством идиотов? Они такими рождаются? Становятся? Может быть, размышляет он, это как-то связано с той химией, что добавляют в современную еду?
– Вот почему я стараюсь есть органические продукты, – говорит он. – Чтобы не стать таким же идиотом, как все остальные.
Я упускаю из виду, о каком именно идиоте идет речь: это может быть стоматолог, который задает слишком много вопросов («Ни один из них не риторический»); коллега, который общается исключительно вопросами («Он никогда ничего не утверждает, потому что это означало бы, что ему есть что сказать»); водитель, остановившийся на желтый сигнал светофора прямо перед ним («Никакого чувства спешки!»); сотрудник Apple в секции Genius Bar, который не смог починить его ноутбук («Нашли гения!»).
– Джон, – говорю было я, но он начинает рассказывать бессвязную историю о своей жене. Я не могу вставить ни слова – а ведь он пришел ко мне за помощью.
Кстати, я его новый психотерапевт. (Мой предшественник, который продержался всего три сеанса, был «славный, но идиот».)
– А потом Марго начинает злиться, можете себе представить? – говорит он. – Но она не говорит, что злится. Она просто ведет себя, как будто очень зла, чтобы я спросил, что случилось. Но я знаю, что если спросить, первые три раза она ответит: «Ничего», а где-то на четвертый или на пятый раз скажет: «Ты знаешь, в чем дело». И я отвечу: «Если бы знал, не спрашивал!»
Он улыбается. У него широкая улыбка. Я пытаюсь работать с этим – с чем угодно, чтобы превратить его монолог в диалог и наладить контакт.
– Любопытно, что вы сейчас улыбнулись, – говорю я. – Потому что вы рассказываете о том, как все вас раздражают, в том числе и Марго, и все же улыбаетесь.
Улыбка становится еще шире. Я никогда не видела таких белых зубов. Они сияют, как алмазы.
– Я улыбаюсь, Шерлок, потому что точно знаю, что беспокоит мою жену.
– А! – отвечаю я. – Значит…
– Погодите, сейчас будет самое интересное, – перебивает он. – Как я уже сказал, я и в самом деле знаю, что не так, но я не собираюсь выслушивать очередную жалобу. Так что вместо того, чтобы спрашивать, я…»
Он делает паузу и смотрит на часы на книжной полке позади меня.
Я хочу использовать эту возможность, чтобы слегка замедлить Джона. Можно было бы прокомментировать этот взгляд на часы (ему кажется, что его здесь поторапливают?) или то, что он только что назвал меня Шерлоком (я его раздражаю?). Или я могла бы не уходить от его линии повествования и попытаться понять, почему он приравнивает чувства Марго к жалобам. Но если я решу прояснить контекст, мы не установим контакт за эту сессию, а Джон, как я узнаю сейчас, – человек, который испытывает проблемы, налаживая контакты с людьми.
– Джон, – начинаю я снова. – Давайте вернемся к тому, что сейчас произошло…
– Отлично, – перебивает он. – У меня есть еще двадцать минут.
И продолжает свой рассказ.
Мне очень хочется зевнуть, и приходится прикладывать абсолютно нечеловеческие усилия, чтобы крепко стиснуть челюсти. Я чувствую сопротивление мышц, искажающих мое лицо в нелепую гримасу, но, к счастью, зевок остается внутри. К несчастью, наружу вырывается отрыжка. Довольно громкая. Как будто я пьяна (на самом деле нет; обо мне в этот момент можно сказать много неприятного, но «пьяная» не из их числа).
Из-за отрыжки рот снова приоткрывается. Я сжимаю губы так сильно, что глаза начинают слезиться.
Конечно, Джон этого даже не заметил. Он по-прежнему говорит о Марго.
Марго сделала то. Марго сделала это. Я сказал то, она сказала это. А я потом сказал…
Во время учебы куратор однажды сказала мне: «В каждом есть черты, за которые можно полюбить». К своему величайшему изумлению я обнаружила, что она была права. Невозможно узнать о человеке все и не проникнуться к нему симпатией. Мы могли бы взять злейших врагов, поместить их в одну комнату, заставить поделиться своим опытом, личными историями, страхами и страданиями – и даже самые непримиримые противники вдруг поладили бы. Я находила что-то приятное буквально в каждом, с кем имела дело в качестве психотерапевта, включая человека, обвиняемого в покушении на убийство (за всей этой яростью прятался настоящий милашка).
Я никак не отреагировала, когда за неделю до этого, во время нашей первой сессии, Джон объяснил, что пришел ко мне, потому что в Лос-Анджелесе я была «никем». Это означало, что он не столкнется с кем-то из коллег по телеиндустрии, приходя на лечение. (Его коллеги, предполагал он, ходят к «известным, опытным психотерапевтам».) Я просто отметила это на будущее, до времен, когда он станет более открыт к общению со мной. И я даже не дрогнула в конце той сессии, когда он вручил мне пачку денег и объяснил, что предпочитает платить наличными, чтобы жена не узнала, что он посещает психотерапевта. «Вы будете кем-то вроде моей любовницы, – сказал он. – Или девочки по вызову. Без обид, но вы не тот тип женщины, которую я бы назвал своей любовницей… если вы понимаете, о чем я».
Я не понимала. (Кто-то поблондинистее? Помоложе? С более белыми и сверкающими зубами?) Но решила, что подобный комментарий – одна из защитных реакций Джона на сближение с другим человеком или признание, что ему нужен кто-то еще.
– Ха-ха, девочка по вызову! – сказал он, задержавшись у двери. – Я просто буду приходить каждую неделю, сбрасывать накопившееся напряжение, и никто не узнает об этом. Смешно ведь!
О да, хотела сказать я, безумно смешно.
Тем не менее, когда я слышала его смех, пока он спускался по лестнице, я была уверена, что смогу найти в себе проблески симпатии к Джону. Несмотря на отталкивающую манеру поведения, что-то симпатичное – даже прекрасное – наверняка должно было обнаружиться.
Но это было на прошлой неделе.
Сегодня он казался полным мудаком. Мудаком с потрясающими зубами.
Прояви сочувствие, прояви сочувствие, прояви сочувствие.
Я повторяю свою беззвучную мантру, снова пытаясь сосредоточиться на Джоне. Он рассказывает об ошибке, совершенной кем-то из персонала на его шоу (человеком, чье имя в повествовании так и звучит – Идиот). И в это время до меня доходит: напыщенные речи Джона звучат до жути знакомо. Не ситуации, которые он описывает, но чувства, которые те пробуждают в нем – и во мне. Я знаю, как это помогает – обвинить внешний мир в собственных неудачах, чтобы отодвинуть на второй план свою роль в экзистенциальной пьесе под названием «Моя Невероятно Важная Жизнь». Я знаю, каково это – купаться в праведном гневе, в совершеннейшей уверенности в собственной правоте и в жуткой обиде. Именно так я чувствую себя весь день.
Чего Джон не знает, так это того, что меня трясет с прошлого вечера, когда мужчина, за которого я собиралась замуж, внезапно объявил, что уходит. Сегодня я пытаюсь сосредоточиться на пациентах (позволяя себе плакать только в десятиминутные перерывы между сеансами, тщательно вытирая потекшую тушь перед следующим посетителем). Другими словами, я справляюсь со своей болью так же, как, полагаю, Джон справляется со своей: скрывая ее.
Будучи психотерапевтом, я многое знаю о боли и о том, как она связана с утратами. Но еще я знаю кое-что гораздо менее очевидное: перемены и утраты идут рука об руку. Мы не можем измениться без каких-либо потерь – вот почему многие люди говорят, что хотят меняться, но все равно остаются прежними. Чтобы помочь Джону, мне надо было узнать, какую потерю он пережил, но прежде всего мне нужно было понять свою. Потому что сейчас все, о чем я могла думать, это то, как поступил мой бойфренд накануне вечером.
Я смотрю на Джона и думаю: я слышу тебя, брат.
Погодите-ка, подумаете вы. Зачем вы все это мне рассказываете? Разве психотерапевтам не стоит оставлять свои личные переживания при себе? Разве они не тот самый чистый лист, который никогда не привносит ничего от собственной личности, необъективные наблюдатели, которые воздерживаются от осуждения пациентов – даже про себя? Кроме того, разве психотерапевт не должен, как никто другой, держать свою жизнь под контролем?
С одной стороны – да. Все, что происходит в кабинете, должно быть в интересах пациента, и если психотерапевт не может отделить собственные переживания от аналогичных эмоций людей, которые к нему приходят, ему однозначно стоит поискать работу по другому направлению.
С другой стороны, это – прямо здесь, прямо сейчас происходящее между мной и вами – не психотерапия, а история о психотерапии: как мы исцеляемся и чем руководствуемся при этом. Прямо как в шоу на канале National Geographic, которые показывают эмбриональное развитие и рождение редких крокодилов. Я хочу запечатлеть процесс, при котором люди, отчаянно пытающиеся измениться, давят изнутри на створки своих раковин до тех пор, пока те не треснут и не раскроются – незаметно (но иногда громко) и медленно (но иногда внезапно).
Так что пусть подобный образ меня – с текущей по заплаканному лицу тушью в перерывах между сеансами – может быть неприятен для созерцания. Именно здесь начинается история о горстке страдающих людей, с которыми вы обязательно познакомитесь, – и с моей собственной человечностью.
Психотерапевт, разумеется, ежедневно сталкивается с вызовами, как и любой другой человек. Это сходство, на самом деле, лежит в основе того контакта, который мы устанавливаем с незнакомцами, доверяющими нам свои самые интимные события и секреты. Во время учебы мы узнаем разнообразные теории, инструменты и методы, но за фасадом этой с трудом наработанной экспертности лежит тот факт, что мы знаем, как трудно быть человеком. Другими словами, мы по-прежнему приходим на работу, будучи собой – со своими слабыми местами, ожиданиями и незащищенностью, своими личными историями. Из всех моих верительных грамот самой важной является то, что я сертифицированный член человеческой расы.
Но показать эту человечность – совсем другое дело. Коллега как-то рассказала: когда ее доктор в телефонном разговоре сообщил, что ее беременность замерла, она была в Starbucks и залилась слезами прямо там. Случайно увидевший ее пациент отменил следующую встречу и больше не появлялся.
Писатель Эндрю Соломон рассказывал следующую историю о супружеской паре, которую он встретил на конференции. В течение дня, по его словам, каждый из супругов в личной беседе признался ему, что принимал антидепрессанты, но не хотел, чтобы другой знал об этом. Оказалось, что они прятали одни и те же лекарства в одном доме. Не важно, насколько общество открыто к вещам, которые раньше считались сугубо частными; стигматизация наших эмоциональных проблем остается неизменной. Мы можем говорить почти обо всем, что касается физического здоровья (вы можете представить себе супругов, прячущих друг от друга свои лекарства, помогающие при рефлюксе?), даже о сексе, но стоит поднять тему тревожности, депрессии или непреодолимого горя, как в выражении лиц, оглядывающихся на вас, вы с огромной долей вероятности прочтете: «Спасите меня от этого разговора, немедленно».
Но чего мы так боимся? Это же не значит, что если мы вглядимся в эти темные углы и включим свет, то обязательно найдем кучу тараканов. Светлячки тоже любят темноту. И в подобных местах есть красота. Но мы должны как следует присмотреться, чтобы увидеть ее.
Моя работа, работа психотерапии, состоит в том, чтобы наблюдать.
И не только за пациентами.
Малоизвестный факт: психотерапевты тоже ходят к психотерапевтам. На самом деле, мы обязаны посещать сеансы во время обучения, чтобы иметь представление о том, что будут ощущать наши будущие пациенты. Мы учимся воспринимать обратную связь, переносить дискомфорт, знать о слепых пятнах и осознавать влияние нашего поведения и личных историй на нас самих и на других людей.
Но затем мы получаем лицензию, люди начинают приходить за советом к нам, и… мы продолжаем ходить на психотерапию. Не обязательно на постоянной основе, но большинство из нас оказываются в чьем-то чужом кресле: отчасти – чтобы было где поговорить об эмоциональном воздействии той работы, которой мы занимаемся, отчасти из-за того, что жизнь идет своим чередом, и психотерапия помогает противостоять своим демонам, когда те наносят визит.
А они обязательно будут это делать, потому что у каждого есть свои демоны: большие, маленькие, новые, старые, тихие, громкие – разные. Эти общие страхи – свидетельство того, что мы не так уж и отличаемся. Это открытие позволяет выстроить с ними иные отношения – например, попытаться урезонить свой навязчивый внутренний голос или не заглушать чувства, отвлекаясь на вино, еду или бесконечные часы, проведенные в интернете (занятие, которое мой коллега называет «самым эффективным безрецептурным быстродействующим обезболивающим»).
Один из самых важных шагов в психотерапии – помочь людям взять на себя ответственность за текущие собственные трудности. Только осознав, что они могут (и должны) наладить свою жизнь, они приобретают способность порождать изменения. Тем не менее люди чаще носятся с верой в то, что большинство проблем создают обстоятельства или конкретная ситуация – словом, нечто внешнее. И если проблемы обусловлены всем и вся, приходящим извне, к чему утруждать себя изменениями? Даже если вести себя по-другому, разве остальной мир не останется прежним?
Это весомый аргумент. Но жизнь обычно работает не так.
Помните знаменитую фразу Сартра: «Ад – это другие»? Это правда: мир заполнен сложными людьми (или, как полагает Джон, «идиотами»). Готова поспорить, вы могли бы с ходу назвать пять воистину невыносимых людей – одних вы старательно избегаете, других избегали бы, не носи они ту же фамилию, что и вы. Но иногда – гораздо чаще, чем мы обычно осознаем, – этими невыносимыми людьми являемся мы сами.
Именно так: иногда ад – это мы.
Иногда мы сами становимся корнем собственных проблем. И если нам удастся сойти с привычного пути, случается нечто удивительное.
Психотерапевт как бы держит зеркало перед лицом пациента, но пациенты делают то же самое в ответ. Терапия – не односторонний, а параллельный процесс. Каждый день пациенты поднимают вопросы, над которыми приходится думать и нам самим. Если они смогут яснее увидеть себя в созданном нами отражении, мы сможем четче разглядеть себя – в их осмыслении. Это происходит с психотерапевтами по ходу сеанса; это же случается и с нашими психотерапевтами. Мы зеркала, отражающие зеркала, отражающие зеркала, показывающие друг другу то, что мы пока не можем увидеть.
Что возвращает меня к Джону. Сегодня я не думаю обо всем этом. Это был трудный день с трудным пациентом; ситуацию ухудшало еще и то, что Джон в моем графике шел сразу за молодой женой, умирающей от рака. Это и так плохое время для работы с кем бы то ни было, но особенно – в дни, когда вы не выспались, ваши свадебные планы только что рухнули и вы понимаете, что ваша боль тривиальна в сравнении с чувствами смертельно больной женщины, и одновременно чувствуете (но едва ли осознаете), что она нетривиальна, потому что умираете внутри.
Тем временем в паре километров от меня, в старомодном кирпичном здании на узкой улице с односторонним движением, психотерапевт по имени Уэнделл тоже принимал пациентов. Один за другим они садились на диван с видом на прекрасный сад во внутреннем дворике, обсуждая те же самые вещи, которые мои пациенты рассказывали мне на верхнем этаже стеклянной офисной башни. Пациенты Уэнделла посещали его неделями, месяцами, даже годами, но мне еще только предстояло его встретить. На самом деле, я даже не слышала о нем. Но этому было суждено измениться.
Я вот-вот стану новым пациентом Уэнделла.
2 Если бы у королевы были яйца…
ПРИМЕЧАНИЕ К ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ, ЛОРИ:
Пациентка лет сорока пяти проходит курс лечения после неожиданного расставания. Говорит, что ей нужно «всего несколько сессий, чтобы справиться с этим».
Все начинается с презентации проблемы.
По определению презентация проблемы – это событие, которое приводит человека на психотерапию. Это может быть паническая атака, увольнение, рождение ребенка, проблемы в отношениях, неспособность сделать серьезный жизненный выбор или приступ депрессии. Иногда презентация проблемы менее конкретна – это ощущение тупика или смутное, ноющее чувство, что что-то идет не так.
Какой бы ни была проблема, обычно она «презентуется», потому что человек достигает переломной точки в жизни. Повернуть направо или налево? Сохранить статус-кво или двигаться на неизведанную территорию? (Предупреждаю: психотерапия всегда выводит на неизведанную территорию, даже если вы выбираете статус-кво).
Но люди не переживают из-за переломных моментов, когда приходят на свой первый сеанс. По большей части они просто хотят почувствовать облегчение. Они хотят рассказать свои истории и начинают с презентации проблемы.
Итак, позвольте посвятить вас в подробности Инцидента с Бойфрендом.
Первое, что я хочу сказать о Бойфренде, – он необыкновенно добропорядочный человек. Он добрый и щедрый, забавный и умный, и если вы в данный момент не смеетесь над очередной его шуткой, значит, он рулит в аптеку в два часа ночи, чтобы купить тот самый антибиотик, который ну никак не может подождать до утра. Если он вдруг окажется в магазине Costco, то напишет и спросит, не нужно ли вам чего-нибудь. А когда вы ответите, что надо купить стиральный порошок, он привезет еще и ваши любимые фрикадельки, а также двадцать банок кленового сиропа для вафель, которые сам же приготовит. Он донесет эти двадцать банок из гаража до вашей кухни, уберет девятнадцать из них в высокий шкафчик, куда вы не дотягиваетесь, а двадцатую поставит на полку, откуда утром ее будет легко достать.
Еще он оставляет любовные записки на вашем столе, подает вам руку, придерживает двери и никогда не жалуется, когда его затаскивают на семейные праздники, потому что он искренне рад провести время с вашими родственниками – даже самыми любопытными или пожилыми. Безо всякого повода он заказывает вам с Amazon набитые книгами посылки (книги для вас – эквивалент цветов), а вечером вы валяетесь рядом в кровати и вслух читаете друг другу выдержки из них, прерываясь только на страстные поцелуи. Когда вы запоем смотрите что-то на Netflix, он нежно массирует то самое место на спине, где имеется намек на сколиоз; а когда он останавливается и вы слегка подталкиваете его локтем, он снова продолжает на еще шестьдесят восхитительных секунд, прежде чем предпринимает попытку убрать руки так, чтобы вы не заметили (и вы притворяетесь, что не заметили). Он делится остатками своего бутерброда, и санскрином, и дает закончить за ним фразу, и расспрашивает, как прошел день, с внимательностью личного биографа. Он будет помнить о вашей жизни больше, чем вы сами.
Если этот портрет выглядит однобоко – так и есть. Существует множество способов рассказать историю, и если я чему-то научилась, будучи психотерапевтом, так это тому, что большинство людей – довольно ненадежные рассказчики. Это не значит, что они намеренно вводят в заблуждение. Дело скорее в том, что любая история имеет несколько линий повествования, и люди сознательно отбрасывают те из них, которые не соответствуют их точке зрения. Большинство пациентов рассказывают мне истинную правду – с определенного ракурса. Спросите человека о его спутнике жизни, пока оба влюблены друг в друга, затем еще раз – после разрыва, и каждый раз вы узнаете только половину истории.
Что вы только что прочитали о Бойфренде? Это хорошая половина.
А теперь плохая: десять вечера, будний день. Мы лежим в постели, болтаем и едва успели решить, на какой фильм пойдем в кино в выходные, как Бойфренд странно затихает.
– Ты устал? – спрашиваю я.
Мы оба работающие родители-одиночки, нам хорошо за сорок, так что обычно утомленное молчание не означает ничего. Даже когда мы не измотаны, совместное времяпрепровождение в тишине приносит чувство покоя и расслабления. Но если бы тишину можно было услышать, сегодняшнее молчание звучало бы иначе. Если вы когда-нибудь были влюблены, то знаете, о чем я говорю: это молчание на частоте, которую может воспринять только ваша вторая половинка.
– Нет, – говорит он. Один слог, но его голос слегка дрожит; за этим следует еще более напряженное молчание. Я смотрю на него. Он смотрит на меня. Он улыбается, я улыбаюсь, и снова наступает оглушительная тишина, нарушаемая лишь шорохом его дергающейся под одеялом ноги. Теперь я встревожена. В рабочем кабинете меня не напрягают даже настоящие марафоны по молчанию, но в собственной спальне я могу продержаться не более трех секунд.
– Что-то не так? – спрашиваю я, прикладывая максимум усилий, чтобы голос звучал как обычно. Но это риторический вопрос, если вообще вопрос. Ответ, видимо, «да», потому что во всей мировой истории за этим вопросом не следовало ничего обнадеживающего. Когда на терапию приходит пара и первоначальный ответ звучит как «нет», со временем выясняется, что за ним скрыта иная истина – какая-то вариация на тему «я тебе изменяю», «я гей», «я превысил (а) лимит по кредитке», «моя стареющая мать теперь будет жить с нами» или «я тебя больше не люблю».
Ответ Бойфренда – не исключение.
– Я понял, что не смогу жить под одной крышей с ребенком еще десять лет.
Я понял, что не смогу жить под одной крышей с ребенком еще десять лет.
Я начинаю смеяться. Знаю, в его словах нет ничего смешного, но учитывая, что мы планируем провести жизнь вместе, а у меня восьмилетний ребенок, это звучит настолько забавно, что я воспринимаю это как шутку.
Бойфренд ничего не говорит, так что я прекращаю смеяться. Смотрю на него. Он смотрит в сторону.
– О чем ты вообще говоришь? Что значит «ты не сможешь жить с ребенком еще десять лет»?
– Прости, – отвечает он.
– Простить за что? – спрашиваю я, все еще пытаясь понять. – Ты серьезно? Ты хочешь расстаться?
Он объясняет, что на самом деле хочет продолжать отношения, но сейчас, когда его дети-подростки вот-вот отправятся в колледж, он понял, что не готов ждать еще десять лет, пока гнездо опустеет.
Моя челюсть отваливается. В буквальном смысле. Я чувствую, как рот открывается и какое-то время просто висит в воздухе. Я впервые слышу об этом, так что нужна пара минут, чтобы челюсть смогла закрыться и я вновь обрела способность разговаривать. Мой мозг кричит: «Что-о-о-о?», а рот изрекает:
– И как давно ты об этом думаешь? Если бы я сейчас не спросила, что не так, то когда ты вообще собирался мне это сказать?
Мне кажется, что это не по-настоящему, потому что всего пять минут назад мы выбирали кино на выходные. Мы планировали быть вместе в эти выходные. В кино!
– Не знаю, – смущенно отвечает он. Он пожимает плечами, не двигая ими. Все его тело – одно сплошное пожимание плечами. – Никак не мог найти подходящий момент, чтобы затронуть эту тему. (Когда мои друзья-психотерапевты слышат эту часть истории, то немедленно определяют его как «избегающий тип личности». Когда все остальные мои друзья слышат это, они немедленно классифицируют его как «мудака».)
Снова молчание.
Я чувствую себя так, словно смотрю на эту сцену сверху, наблюдая за растерянной версией себя, невероятно быстро проходящей через известные стадии горя: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Если смех был отрицанием, а мое «и когда ты собирался мне сказать?» – гневом, то сейчас я перехожу к стадии торга. Как, спрашиваю я, мы можем все уладить? Может быть, мне надо чаще звонить няне? Или мы будем чаще ходить на свидания?
Бойфренд качает головой. Его подростки не просыпаются в семь утра, чтобы поиграть в Лего, говорит он. Он предвкушает приближающуюся долгожданную свободу и хочет расслабляться по утрам в выходные. Не важно, что мой сын играет в Лего сам по себе. Проблема, видимо, в том, что иногда он говорит: «Посмотри на мой Лего! Посмотри, что у меня получилось!»
– Дело в том, – объясняет Бойфренд, – что я не хочу смотреть на Лего. Я просто хочу почитать газету.
Я обдумываю вероятность того, что его тело захватили инопланетяне. Или что у него начинает развиваться опухоль мозга, первый симптом которой – изменения личности. Интересно, что Бойфренд подумал бы обо мне, если бы я решила расстаться с ним, потому что его дочери-подростки хотят показать мне свои новые леггинсы из Forever 21, когда я пытаюсь расслабиться и почитать книгу. Я не хочу смотреть на леггинсы. Я просто хочу почитать книгу. Что же это за человек такой, кто исчезает просто потому, что не хочет смотреть на леггинсы?
– Я думала, ты хочешь на мне жениться, – говорю я жалобным голосом.
– Я хочу, – говорит он. – Я просто не хочу жить с ребенком.
Я обдумываю это секунду, словно головоломку, которую пытаюсь разгадать. Это звучит как загадка Сфинкса.
– Но у меня с самого начала был ребенок, – говорю я, и мой голос становится громче. Я взбешена оттого, что он поднял эту тему сейчас, что он вообще поднял эту тему. – Это тебе не заказ в ресторане! Как бургер без картошки, как…
Я думаю о пациентах, которые описывают свои идеальные сценарии развития событий и настаивают, что будут счастливы исключительно в такой ситуации. «Если бы он не бросил бизнес-школу, чтобы стать писателем, он был бы парнем моей мечты (поэтому я рассталась с ним и встречаюсь с менеджерами хедж-фондов, которые наводят на меня скуку)». «Если бы работа не была за мостом, это было бы идеальной возможностью (поэтому я остаюсь на своей бесперспективной работе и продолжаю рассказывать, как завидую карьерам своих друзей)». «Если бы у нее не было ребенка, я бы на ней женился».
Конечно, у всех нас есть качества, которые все портят. Но когда пациенты постоянно занимаются подобным анализом, иногда я говорю: «Если бы у королевы были яйца, она была бы королем». Если вы идете по жизни, постоянно все фильтруя и выбирая, если вы не сознаете, что «лучшее – враг хорошего», вы можете лишить себя радости. Поначалу пациенты бывают ошарашены моей прямотой, но фактически это экономит им месяцы терапии.
– На самом деле, я не хотел встречаться с женщиной, у которой есть ребенок, – говорит Бойфренд. – Но потом я влюбился в тебя и не знал, что делать.
– Ты не мог влюбиться в меня до первого свидания, на котором я сказала, что моему сыну шесть, – говорю я. – Ты ведь знал, что надо сделать после этого, не так ли?
Снова удушающее молчание.
Как вы уже, наверное, догадались, разговор ни к чему не привел. Я пыталась понять, не кроется ли истинная причина в чем-то еще – как она может не быть в чем-то еще? В конце концов финалом стало его желание свободы. «Дело не в тебе, дело во мне» (которое всегда расшифровывается как «дело не во мне, дело в тебе»). Может быть, Бойфренд несчастен из-за чего-то другого в наших отношениях, о чем боится мне рассказать? Я спрашиваю его спокойно, мой голос становится мягче, потому что я помню: Очень Разозленные Люди Не Очень Идут На Контакт. Но Бойфренд настаивает на том, что все дело лишь в его желании жить без детей – но не без меня.
Я испытываю какую-то смесь шока и недоумения. Я не понимаю, почему это никогда не всплывало. Как можно спать с человеком и совместно планировать дальнейшую жизнь, когда втайне думаешь, не уйти ли? (Ответ прост – это довольно распространенный защитный механизм, который называется «компартментализация». Но прямо сейчас я слишком занята другим защитным механизмом – отрицанием, – чтобы это увидеть).
Бойфренд, кстати, адвокат, так что он излагает все так же, как делал бы это перед судом присяжных. Он на самом деле хочет на мне жениться. Он на самом деле меня любит. Ему просто хочется проводить больше времени со мной. Ему хочется иметь возможность спонтанно уехать куда-нибудь вместе на выходные или вернуться с работы и отправиться куда-нибудь поесть, не беспокоясь о ком-то третьем. Ему нужна приватность пары, а не коллективная жизнь семьи. Когда он узнал, что у меня есть маленький ребенок, он подумал, что это не лучший вариант, но ничего не сказал мне, потому что решил, что сможет приспособиться. Однако два года спустя, когда мы были близки к тому, чтобы стать одной семьей, как раз тогда, когда его свобода замаячила впереди, он осознал, насколько она для него важна. Он знал, что отношения подходят к концу, но в то же время не хотел этого. Даже когда он думал о том, чтобы все мне рассказать, он не знал, как заговорить об этом, потому что мы уже давно были вместе и я бы явно очень сильно разозлилась. Он не решался мне сказать, говорит он, потому что не хотел быть ублюдком.
Защита уходит на перерыв – и ей очень жаль.
– Тебе жаль? – перебиваю я. – Знаешь что? Пытаясь НЕ БЫТЬ ублюдком, ты стал ХУДШИМ ублюдком в мире!
Он снова замолкает, и тут до меня доходит: вот это жуткое молчание и было его способом поднять эту тему. И хотя мы снова и снова говорим одно и то же, пока лучи солнца не начинают пробиваться сквозь жалюзи, внутри мы оба знаем, что сказать больше нечего.
У меня есть ребенок. Он хочет свободы. Ребенок и свобода взаимоисключающи.
Если бы у королевы были яйца, она была бы королем.
Вуаля – я презентовала свою проблему.
3 Пространство шага
После того как вы говорите кому-нибудь, что вы психотерапевт, следует удивленная пауза, за которой следуют неудобные вопросы: «О, психотерапевт! Рассказать тебе о моем детстве?» Или: «Поможешь разрешить проблему со свекровью?» Или: «Меня тоже подвергнешь психоанализу?» (Ответы, кстати: «Пожалуйста, не надо», «Возможно» и «Зачем мне это делать? Если бы я была гинекологом, разве вы спросили бы, не хочу ли я провести осмотр?».)
Но я понимаю, откуда берутся эти вопросы. Это все страх – страх быть разоблаченным, раскрытым. Заметите ли вы неуверенность, которую я так умело скрываю? А мою уязвимость, мою ложь, мой стыд?
Разглядите ли вы человека в моей личности?
Меня поражает, что люди, с которыми я разговариваю на барбекю или на ужине у общих друзей, кажется, не задаются аналогичным вопросом: а могут ли они разглядеть во мне некие качества, которые я тоже пытаюсь скрыть в вежливой беседе. Стоит им услышать, что я психотерапевт, как я превращаюсь в кого-то, кто может проникнуть в их разум – если только они не будут достаточно осторожны, чтобы защититься шуточками про психотерапевтов или побыстрее отойти в сторону, чтобы снова наполнить бокал.
Однако иногда люди задают больше вопросов. «С какими людьми вы сталкиваетесь в своей практике?» Я говорю, что это такие же люди, как и все остальные – то есть точно такие же, как те, кто спрашивает. Однажды на вечеринке в честь Дня независимости я сказала одной любопытствующей паре, что довольно многие ходят на парную терапию, и они начали спорить прямо у меня на глазах. Ему было любопытно, почему она проявляет такой интерес к работе семейного психотерапевта – в конце концов, у них-то нет проблем (неловкий смешок). Она хотела знать, почему он не проявляет интереса к эмоциональной стороне жизни пар – в конце концов, возможно, им могла бы понадобиться некоторая помощь (испепеляющий взгляд). Но воспринимала ли я их как очередных пациентов? Отнюдь. В тот раз именно я была человеком, отошедшим «наполнить бокал».
Психотерапия вызывает странные реакции, потому что в какой-то мере она похожа на порнографию. И та, и другая связаны с обнаженностью. Обе могут вызвать нервную дрожь. И обеими пользуются миллионы людей, большинство из которых держит это в тайне. И хотя статистики пытались определить число людей, проходящих психотерапию, их результаты считаются искаженными, потому что многие пациенты предпочитают не признавать этого.
Но даже эти заниженные цифры все равно высоки. Около тридцати миллионов взрослых американцев в течение года оказываются на кушетке у практикующих психотерапевтов, а ведь Соединенные Штаты в этом отношении даже не являются мировым лидером. (Любопытный факт: страны с наибольшим количеством психотерапевтов на душу населения – это, в порядке убывания, Аргентина, Австрия, Австралия, Франция, Канада, Швейцария, Исландия и США).
Учитывая, что я психотерапевт, вы могли бы подумать, что на следующее утро после инцидента с Бойфрендом меня может посетить мысль самой обратиться к специалисту. Я работаю в окружении дюжины психотерапевтов – в здании, полном психотерапевтов; я участвую в нескольких консультационных группах, в которых мы совместно разбираем вопросы пациентов, так что я хорошо разбираюсь в этом мире.
Но пока я парализованно лежу в позе эмбриона, это не то решение, которое я готова принять.
– Вот ведь скотина! – говорит Элисон, моя лучшая подруга, когда я пересказываю ей эту историю прямо из кровати, пока сын не проснулся. – Да и скатертью дорога! Что за человек может так поступить – даже не с тобой, а с твоим сыном?
– Точно! – соглашаюсь я. – Что за человек может так поступить?
Следующие двадцать минут мы проводим, поливая Бойфренда грязью. Во время первого приступа боли люди, как правило, набрасываются либо на других, либо на себя, чтобы обратить гнев наружу или внутрь. Мы с Элисон, разумеется, выбираем первый вариант! Она, на Среднем Западе, начинает работать на два часа раньше, чем я, на Западном побережье, и сразу переходит к делу.
– Знаешь, что тебе нужно? – говорит она.
– Что? – Мне кажется, будто меня пырнули ножом прямо в сердце, так что я готова на все, чтобы унять эту боль.
– Тебе надо с кем-нибудь переспать! Переспать с кем-нибудь и забыть о Детоненавистнике.
Мне моментально начинает нравиться новое имя Бойфренда – Детоненавистник.
– Ясно, что он оказался не тем человеком, каким ты его считала. Выкинь его из головы.
Элисон двадцать лет замужем за парнем, с которым они встречались еще в колледже – она понятия не имеет, как утешать одиноких людей.
– Это может помочь тебе быстрее вернуться в игру. Это как упасть с велосипеда – надо сразу же садиться обратно, – продолжает она. – И не закатывай глаза.
Элисон хорошо меня знает. Я закатываю свои красные, горящие от слез глаза.
– Хорошо, пересплю с кем-нибудь, – хмыкаю я, зная, что она пытается меня развеселить. Но потом снова рыдаю. Я чувствую себя как шестнадцатилетка после первого разрыва отношений – не могу поверить, что так реагирую в свои сорок.
– О нет, – говорит Элисон, и ее голос будто обнимает меня. – Я здесь, и ты с этим справишься.
– Я знаю, – отзываюсь я, но пока что не справляюсь. Есть такая известная поговорка, парафраз из стихотворения Роберта Фроста: «Лучший выход – всегда насквозь». Единственный способ добраться до другой стороны тоннеля – пройти его насквозь, не в обход. Сейчас я не могу представить себе даже вход.
После того как Элисон паркует машину и обещает позвонить в первый же свой перерыв, я смотрю на часы. 6:30 утра. Я звоню своей подруге Джен, психотерапевту с другого конца города. Она отвечает после первого же гудка, и я слышу, как ее муж спрашивает, кто это. Джен шепчет: «Кажется, это Лори». Она явно видела имя на экране, но я плачу так отчаянно, что даже не могу поздороваться. Если бы не определитель номера, она бы явно решила, что звонит какой-то больной пранкер.
Я перевожу дыхание и рассказываю ей, что случилось. Она внимательно слушает. Говорит, что не может в это поверить. Мы опять проводим двадцать минут за поливанием Бойфренда грязью, а потом я слышу, как ее дочь заходит в комнату и говорит, что ей нужно приехать в школу пораньше на тренировку по плаванию.
– Я позвоню тебе в обед, – говорит Джен. – Но пока я не уверена, что это конец истории. Что-то не так. Если только он не социопат, все это никак не вяжется с тем, что я видела в последние два года.
– Вот именно, – говорю я. – Значит, он социопат.
Я слышу, как она делает глоток из стакана и ставит его обратно.
– В таком случае, – говорит она, проглотив воду, – у меня есть на примете отличный парень. Не Детоненавистник.
Ей тоже нравится новое имя Бойфренда.
– Через пару недель, когда ты будешь готова, я хотела бы тебя познакомить.
Я почти улыбаюсь от нелепости ситуации. Что мне действительно нужно в первые часы после расставания, так это чтобы кто-то посидел рядом со мной и моей болью. Но я знаю, каким беспомощным чувствуешь себя, когда видишь, как твой друг страдает, а ты ничего не делаешь, чтобы это исправить. «Посидеть рядом с тобой и твоей болью» – один из тех редких видов жизненного опыта, который люди получают в защищенном пространстве кабинета психотерапевта, но его очень сложно воссоздать за пределами этой комнаты – даже для Джен, которая сама психотерапевт.
Положив трубку, я задумываюсь о фразе «через пару недель». Смогу ли я и правда собраться на свидание так скоро? Я представляю, как знакомлюсь с приличным парнем, который изо всех сил старается завязать разговор на первом свидании и ненароком упоминает что-то, что напоминает мне о Бойфренде (почти все напоминает мне о Бойфренде, я уверена), а я не могу сдержать слез. Слезы на первом свидании – это провал. Психотерапевт, рыдающий на первом свидании, – это одновременно и провал, и тревожный сигнал. Кроме того, мое ограниченное восприятие позволяет сосредоточиться исключительно на происходящем прямо сейчас.
Сначала один шаг, потом другой.
Это то, что я говорю своим пациентам, находящимся в разгаре депрессии; то, что заставляет их задуматься. Вон там ванная. Это около полутора метров от меня. Я ее вижу, но не могу там оказаться разом. Один шаг, потом другой. Не смотреть на все расстояние сразу. Просто сделать шаг. А после него сделать еще один. И вот вы уже добираетесь до душа. А потом сможете добраться до завтра – и до следующего года тоже. Один шаг. Людям в депрессии сложно представить, что она скоро пройдет, но им и не нужно этого делать. Любая деятельность побуждает вас делать что-то еще, заменять порочный круг правильным. Большая часть великих трансформаций происходит после сотни мизерных, едва заметных шагов, которые мы делаем на своем пути.
Многое может случиться в пространстве шага.
Каким-то образом у меня получается разбудить сына, приготовить завтрак, собрать ему обед с собой, поговорить с ним, завезти его в школу и доехать до работы, не уронив ни слезинки. Я могу это сделать, думаю я, поднимаясь в лифте к своему офису. Один шаг, потом другой. Одна пятидесятиминутная сессия за раз.
Я захожу на этаж, здороваюсь с коллегами в коридоре, открываю дверь в свой офис и начинаю привычную рутину: убираю личные вещи, отключаю звук в телефоне, открываю ящик с папками и взбиваю подушки на диване. Потом, изменяя привычке, сажусь туда сама. Я смотрю на пустое кресло психотерапевта и изучаю вид с этой стороны комнаты. Это странным образом успокаивает. Я остаюсь здесь, пока маленький зеленый огонек на двери не начинает мигать, сигнализируя, что мой первый пациент уже здесь.
Я готова, думаю я. Один шаг, потом другой. Со мной все будет хорошо.
Хотя сейчас – нет.
4 Поумнее или посексуальнее?
Меня всегда привлекали истории – не только то, что в них происходит, но и то, как их рассказывают. Когда люди приходят на психотерапию, я слушаю не только их непосредственное повествование, но и отмечаю гибкость в обхождении с рассказом. Считают ли они свою историю единственной, «точной» версией? Или же знают, что их вариант – лишь один из возможных способов ее рассказать? Осознают ли они, что опущенные и упомянутые детали, а также мотивация поделиться историей влияет на восприятие слушателя?
Я очень много думала над этими вопросам лет в двадцать – не в связке с психотерапией и пациентами, а в отношении персонажей кино и на телевидении. Вот почему, выпустившись из колледжа, я нашла работу в сфере развлечений – или, проще говоря, «в Голливуде».
Это было крупное актерское агентство, и я работала ассистентом младшего агента, который, как и многие в Голливуде, был ненамного старше меня. Брэд представлял сценаристов и режиссеров и выглядел так по-мальчишески – со своими гладкими щеками и лохматыми патлами, которые он постоянно смахивал с глаз, – что его модные костюмы и дорогие туфли выглядели на нем слишком взросло, как будто он надел вещи отца.
Технически мой первый день на работе был испытательным сроком. Глория из отделов кадров (я так и не узнала ее фамилии: все называли ее «Глория из отдела кадров») сказала, что Брэд сократил количество кандидатов в ассистенты до двух финалисток, и каждая из нас должна проработать день в качестве теста. В середине своего тестового дня, возвращаясь из копировальной комнаты, я подслушала разговор своего будущего босса и еще одного агента, его наставника.
– Глория из отдела кадров хочет получить ответ до вечера, – услышала я голос Брэда. – Выбрать ту, что поумнее, или ту, что посексуальнее?
Я застыла потрясенная.
– Всегда выбирай умную, – ответил второй агент, и мне стало интересно, какой именно считает меня Брэд.
Час спустя я получила работу. И несмотря на то что я сочла сам вопрос вопиюще некорректным, странным образом я чувствовала себя оскорбленной.
Я не очень поняла, почему Брэд оценил меня как «умную». Все, что я сделала в тот день, – несколько раз позвонила по телефону (звонки постоянно срывались из-за нажатия не той кнопки или сбоя телефонной системы), сварила кофе (который дважды вернули обратно), отксерила сценарий (я нажала «10» вместо «1», устанавливая количество копий, и спрятала девять лишних сценариев под диван в комнате отдыха) и споткнулась о провод от лампы в офисе Брэда, приземлившись на задницу.
Я сделала вывод: та, что посексуальнее, должно быть, непроходимо глупа.
Технически моя должность называлась «литературный ассистент», но на деле я была секретаршей, которая весь день прокручивала список звонков, обзванивала руководителей студий и кинематографистов, сообщала их помощникам, что мой босс на проводе, и переключала звонок на него. Всем было известно, что ассистенты должны молча слушать эти звонки, чтобы мы знали, какие сценарии куда отправить, не требуя дополнительных инструкций. Однако порой участники разговора забывали о нас, и мы слушали всевозможные сплетни из жизни знаменитых друзей наших руководителей: кто поссорился с супругом, кого из управляющих студии «конфиденциально» собираются отправить на «продюсерский отгон» – условное обозначение для бессмысленного студийного производства. Если человек, с которым хотел переговорить мой босс, был недоступен, я должна была «оставить сообщение» и перейти к следующему из сотен имен в списке, иногда получая стратегические инструкции перезванивать в неподходящее время (до 9:30 утра, потому что никто в Голливуде не приходил на работу раньше 10.00, или во время обеда), чтобы намеренно упустить человека.
При всей блистательности мира кино – каталог Брэда был забит домашними номерами и адресами людей, которыми я восхищалась годами, – работа ассистента была полной его противоположностью. Вы делаете начальнику кофе, записываете к парикмахеру и на педикюр, забираете вещи из химчистки, перехватываете звонки от родителей или бывших, копируете и рассылаете документы, отвозите машины в мастерскую, выполняете личные поручения и всегда, в обязательном порядке, приносите бутылки с охлажденной водой на каждую встречу (не говоря ни слова сценаристам и режиссерам, с которыми мечтали встретиться всю жизнь).
Наконец, поздно вечером вы допечатываете десять страниц пометок – с одинарным междустрочным интервалом – к сценариям, которые пришли от клиентов агентства, чтобы ваш босс мог глубокомысленно комментировать их на следующей встрече, ничего не читая. Мы, ассистенты, тратили немало усилий на эти заметки, чтобы продемонстрировать, насколько мы талантливы и способны, чтобы однажды – Господи, пожалуйста! – оставить работу ассистента с ее отупляющими обязанностями, долгими рабочими часами и минимальной платой без компенсаций за переработку.
Через несколько месяцев работы стало очевидно, что пока те, кто посексуальнее (а их было немало), в моем агентстве получали все внимание, те, кто поумнее, получали дополнительную работу. В свой первый год я почти не спала, потому что читала десятки сценариев в неделю и писала комментарии к ним – после рабочего дня или в выходные. Но я не возражала. На самом деле это была лучшая часть моей работы. Я училась создавать истории и влюблялась в увлекательных персонажей с богатым внутренним миром. Шли месяцы, и я начала немного больше доверять своим инстинктам, уже не так боясь предложить нелепую идею.
Вскоре меня взяли на должность начинающего администратора; теперь я принимала участие в тех встречах, на которые другие ассистенты приносили бутылки с водой. Я тесно сотрудничала со сценаристами и режиссерами, сидя в кабинете и изучая материал, сцену за сценой; помогала вносить правки, на которых настаивала студия, не доводя сценаристов, которые защищали свое детище, до яростного исступления и угроз покинуть проект. (Эти переговоры окажутся отличной практикой для парной психотерапии.)
Иногда, чтобы мне не мешали в офисе, я работала с кинематографистами по утрам в своей крошечной квартирке. Вечером, выбирая закуски на следующий день, я думала: «Джон Литгоу[1] будет есть этот бублик в моей дрянной гостиной с этим жутким ковром и облупившимся потолком. Может ли быть что-то лучше этого?»
Оказалось, что может, – по крайней мере, я так думала. Меня повысили. Это было повышение, ради которого я много работала и о котором мечтала. До тех пор пока я его не получила.
Ирония заключается в том, что большая часть творческой деятельности на подобной работе появляется, пока у вас нет большого опыта. Когда вы только начинаете, вы человек «за кулисами», который делает всю сценарную работу в офисе, пока более высокопоставленные люди охотятся за талантами, обедают с агентами или заглядывают на съемочные площадки, чтобы узнать, как идут дела компании. Когда вы становитесь директором по развитию, то переходите от внутренних взаимодействий к внешним – и если вы были общительным ребенком в старшей школе, эта работа для вас. Но если вы были книжным червем и постоянно проводили время с друзьями в библиотеке, будьте осторожнее в своих желаниях.
Теперь я целый день неуклюже пыталась социализироваться на деловых обедах и встречах. Вдобавок все процессы, казалось, двигались со скоростью ледника. На создание фильма могут уйти годы – в прямом смысле, и я тонула в мысли, что занимаюсь не тем. Мы с подругой переехали в двухквартирный дом, и она обратила внимание на то, что я все вечера напролет смотрю телевизор. Прямо вот патологически.
– Кажется, ты в депрессии, – озабоченно сказала она. Я ответила, что это не депрессия, а просто скука. Я не осознавала, что если мысль о том, что после ужина ты включишь телевизор – единственное, что помогает продержаться целый день, – то ты, скорее всего, и правда в депрессии.
Примерно в то же время я как-то сидела за ланчем в отличном ресторане с прекрасной дамой-агентом, которая говорила о чудесной сделке, которую она заключила, и заметила, что в моей голове все время вертятся три слова: Мне. Вообще. Плевать. Не важно, что говорила агент, эти слова крутились, как заезженная пластинка; они не исчезли, когда нам принесли счет и когда я поехала обратно в офис. Они звучали в моей голове весь следующий день и еще несколько недель, пока я наконец не признала, пару месяцев спустя, что они никуда не денутся. Мне. Вообще. Плевать.
И поскольку единственное, что меня тогда действительно заботило, – это просмотр телепередач (поскольку только погружаясь в воображаемые миры новых еженедельных эпизодов, я хоть что-то чувствовала – точнее, не испытывала неприятных ощущений, причины которых не могла понять), я стала искать работу на телевидении. Через несколько месяцев я начала работать над производством сериалов на канале NBC.
Это казалось сбывшейся мечтой. Я думала: «Я снова буду помогать рассказывать истории. Даже лучше: вместо работы над самодостаточными фильмами с тщательно продуманными концовками я буду работать над сериалами. За несколько эпизодов и сезонов я помогу зрителям узнать своих любимых персонажей, слой за слоем, – персонажей таких же несовершенных и противоречивых, как и мы сами, чьи истории так же запутанны».
Казалось, это идеальное лекарство от моей скуки. Мне понадобились годы, чтобы понять, что я решаю не ту проблему.
5 Намасте в постели
ПРИМЕЧАНИЕ К ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ, ДЖУЛИЯ:
33 года, профессор в университете. Обратилась за помощью, чтобы справиться с известием об онкологическом диагнозе, полученном после возвращения из свадебного путешествия.
– Это пижамный топ? – спрашивает Джулия, входя в мой кабинет. После инцидента с Бойфрендом прошла уже половина рабочего дня – следующей стоит встреча с Джоном (и его идиотами), так что я почти продержалась.
Я вопросительно смотрю на нее.
– Я про вашу футболку, – говорит она, садясь на кушетку.
Я мысленно возвращаюсь к утру, вспоминая серый свитер, который я собиралась надеть, а затем мое сердце провалилось в пятки: в голове всплыло изображение свитера, лежащего на кровати рядом с серым пижамным топом, который я сняла перед тем, как пойти в душ, все еще ошеломленная после расставания.
В один из своих набегов на Costco Бойфренд прихватил для меня кипу пижам, украшенных надписями вроде «Я, блин, настоящий луч солнца» или «Еще одна фраза на занудском, и я захраплю» (совсем не тот месседж, который психотерапевт хочет донести до пациента). Я пытаюсь вспомнить, в какой из них я была прошлой ночью.
Набравшись храбрости, я опускаю взгляд. Надпись на топе гласит: «Намасте[2] в постели». Джулия смотрит на меня, ожидая ответа.
Когда я не знаю, что сказать в кабинете – что случается с психотерапевтами куда чаще, чем осознают пациенты, – я могу не говорить ничего, пока не придет лучшее понимание момента, или все же попытаться ответить; но что бы я ни выбрала, я должна сказать правду. Так что хоть мне и хочется сказать, что я занимаюсь йогой или что мой топ – просто обычная футболка, это все ложь. Джулия занимается йогой в рамках программы Mindful Cancer, и если она начнет упоминать различные позы, то мне придется врать дальше и делать вид, что я понимаю, о чем речь, или признаться, что я солгала.
Я помню, как во время моего обучения один из моих коллег-интернов сказал пациентке, что его не будет в клинике в течение трех недель, и она спросила, куда он собирается.
– Я еду на Гавайи, – честно сказал интерн.
– В отпуск? – спросила пациентка.
– Да, – ответил он, хотя на самом деле там должна была пройти его свадьба, за которой следовало двухнедельное свадебное путешествие по островам.
– Долгий отпуск, – заметила пациентка.
Интерн, решив, что новости о свадьбе – это уже личное, вместо уточнений сосредоточился на этом комментарии. Что для нее означает пропуск трех недель психотерапии? На что похожи ее чувства из-за его отсутствия? Все это привело к плодотворным обсуждениям, но в воздухе повис непрямой вопрос: Раз сейчас не лето и не праздники, зачем вам трехнедельный отпуск? Конечно же, когда интерн вернулся к работе, пациентка заметила обручальное кольцо и почувствовала себя обманутой: «Почему вы просто не сказали мне правду?»
В ретроспективе он уже предпочел бы сказать. Ну и что с того, если его пациентка узнает, что он женится? Психотерапевты женятся, а пациенты на это реагируют. Это просто факт, с которым можно работать. А вот утерянное доверие вернуть трудно.
Фрейд утверждал: «Врач должен быть непроницаем для пациента и, как зеркало, отражать лишь то, что ему показывают». В наши дни, однако, большинство психотерапевтов используют в своей работе некую форму так называемого «самораскрытия», будь то проявление личных реакций во время сессии или признание, что они смотрят те же шоу, названия которых всплывают в речи пациента. (Лучше признать, что вы смотрите «Холостяка», чем прикидываться незнающим и ошибиться, назвав по имени человека, о котором пациент еще не упоминал.)
При этом дилемма касательно того, чем можно делиться, становится неизбежной. Одна моя коллега рассказала пациентке, у ребенка которой диагностировали синдром Туретта[3], что у ее сына такое же заболевание – и это укрепило их отношения. Другой мой коллега работал с человеком, чей отец покончил жизнь самоубийством, но не признался пациенту, что его собственный отец тоже совершил суицид. В каждой ситуации есть расчет, субъективная лакмусовая бумажка, которую мы используем для оценки ценности самораскрытия: будет ли эта информация полезной для пациента?
Будучи уместным самораскрытие может сократить некоторую дистанцию при общении с пациентами, которым кажется, что никто не сталкивался с тем же опытом, и это может поспособствовать их откровенности. Но если оно не к месту и исключительно потворствует желаниям терапевта, пациент будет чувствовать себя некомфортно и начнет закрываться – или просто сбежит.
– Да, – говорю я Джулии. – Это пижамный топ. Кажется, я надела его по ошибке.
Мне интересно, что она ответит. Если спросит о причине, я скажу правду (не углубляясь в детали): утром я была слегка рассеянной.
– О, – протягивает она. Потом ее рот кривится, словно она вот-вот заплачет, но вместо этого она начинает смеяться.
– Простите, я не над вами смеюсь. «Намасте в постели». Будто про меня!
Она рассказывает мне о женщине из программы Mindful Cancer, которая утверждает, что если Джулия не отнесется к йоге со всей серьезностью – вместе со знаменитыми розовыми ленточками[4] и оптимизмом, – то рак убьет ее. И не важно, что онколог Джулии уже сообщил ей, что рак ее убьет. Эта женщина продолжает настаивать, что его можно вылечить йогой.
Джулия презирает ее.
– Я представила, что прихожу на йогу в этом топе и…
Теперь она неудержимо хохочет, пытаясь сдержаться, но не выдерживает и снова громко смеется. Я не видела, чтобы Джулия хоть раз смеялась – с тех пор, как она узнала, что умирает. Должно быть, именно такой она была в то время, которое называет «до р. э.» или «до раковой эры», – счастливой, здоровой, влюбленной в своего будущего мужа. Ее смех звучит как песня; он так заразителен, что я тоже начинаю смеяться.
Мы вместе сидим и хохочем: она – над лицемерной женщиной, я – над своей ошибкой. Над тем, как нас предают наши рассудки и тела.
Джулия нащупала свою раковую опухоль, занимаясь сексом с мужем на пляже Таити. Но она и не заподозрила, что это рак. Ее грудь казалась мягкой, а позже, в душе, мягкий участок странно изменился. Но у нее часто появлялись подобные участки на груди, и ее гинеколог всегда говорил, что это железы, которые меняют размер в определенные дни месяца. Так что она подумала, что, возможно, беременна. Они с Мэттом, ее новоиспеченным супругом, были вместе уже три года, и оба говорили о желании завести ребенка после свадьбы. За несколько месяцев до этого события они перестали предохраняться.
Это был весьма удачный момент для рождения малыша. Джулия только получила должность в штате университета и после нескольких лет напряженного труда могла наконец немного передохнуть. Теперь у нее было больше времени на хобби: марафонский бег, скалолазание и выпечку нелепых тортиков для племянника. На замужество и родительство тоже, само собой.
Когда Джулия вернулась из свадебного путешествия, она пописала на тест-полоску и показала ее Мэтту, который подхватил ее на руки и протанцевал с ней по всей комнате. Они решили, что песня, которая в тот момент звучала по радио – «Walking on Sunshine» – теперь будет песней их малыша. Взволнованные, они поехали к акушеру на первый пренатальный осмотр, и когда доктор нащупал «железу», которую Джулия заметила во время медового месяца, его улыбка медленно погасла.
– Возможно, ничего особенного, – сказал он. – Но давайте проверим.
Оказалось, это вовсе не «ничего особенного». Молодая, едва вышедшая замуж, беременная, не имеющая случаев рака в семье, Джулия оказалась жертвой случайности Вселенной. Пока она пыталась понять, как одновременно начать лечение и остаться беременной, у нее случился выкидыш.
Тогда Джулия и оказалась в моем офисе.
Это было странное назначение, учитывая, что я не специализировалась на работе с раковыми пациентами. Но именно недостаток опыта стал той причиной, по которой Джулия хотела работать со мной. Она сказала своему врачу, что не хочет психотерапевта «из раковой команды». Она хотела чувствовать себя нормальной, быть среди людей, живущих обычной жизнью. А поскольку врачи казались уверенными в том, что после операции и химиотерапии с ней все будет в порядке, она решила сосредоточиться на том, чтобы пройти курс лечения и вновь почувствовать себя новобрачной. (Что она должна писать, рассылая открытки с благодарностями за подарки? «Спасибо за эту прекрасную вазу… Возьму ее в постель, чтобы было куда блевать».)
Лечение было тяжелым, но Джулии стало лучше. На следующий день после того, как врачи объявили, что она победила опухоль, они с Мэттом, а также самыми близкими друзьями и родственниками, отправились на прогулку на воздушном шаре. Шла первая неделя лета; они стояли, держась за руки, и любовались закатом высоко над землей. Джулия больше не чувствовала себя обманутой, как это было во время лечения, скорее удачливой. Да, она хлебнула горя. Но весь этот ад остался за спиной, а будущее лежало впереди. Через полгода ей предстояло пройти последнее сканирование, которое дало бы «отмашку» на беременность. Той ночью ей приснилась она сама – женщина за шестьдесят, держащая на руках своего первого внука.
Джулия была в хорошем настроении. Наша работа закончилась.
Я не встречалась с Джулией в промежуток времени между полетом на воздушном шаре и сканированием. Но мне начали звонить другие раковые пациенты, которых направил ее онколог. Ничто так не отнимает чувство контроля, как болезнь, даже если в реальности мы контролируем все куда меньше, чем нам кажется. Люди не хотят думать об этом, но вы можете все делать правильно – и в жизни, и в предписаниях врачей, – и все равно вытащить короткую спичку. И когда это происходит, все, что вы можете проконтролировать, – это способ реакции на нее, ваш способ, а не мнение окружающих, которые наперебой говорят вам что делать. Я позволила Джулии пойти своим путем – я была настолько неопытной, что не имела четкого представления о том, как этот путь вообще должен выглядеть, – и, кажется, это помогло.
– Не знаю, что вы с ней сделали, – сказал онколог Джулии, – но она вроде осталась довольна результатом.
Я знала, что не сделала ничего гениального в работе с ней. По большей части я просто старалась не коробиться от ее непосредственности. Но эта непосредственность заходила так далеко, потому что мы тогда даже не думали о смерти. Вместо этого мы обсуждали плюсы и минусы платков и париков, секс и вид тела после операции. И я помогала ей продумать, что делать с браком, родителями, работой – так же, как делаю это с другими пациентами.
Затем в один из дней я проверяла сообщения на автоответчике и услышала голос Джулии. Она хотела встретиться как можно скорее.
На следующее утро она пришла; ее лицо было пепельного цвета. Сканирование, которое должно было показать чистый снимок, выявило редкую форму рака, отличного от исходной. И он убивал ее. Это могло занять год или пять, при удачном стечении обстоятельств – десять лет. Конечно, они с врачами собирались рассмотреть все возможные варианты экспериментального лечения – но это все, что оставалось делать.
– Вы будете со мной? До моей смерти? – спросила Джулия, и хотя инстинктивно я хотела сделать то же, что и все люди, когда кто-то приносит им весть о смерти, то есть вообще отрицать ее («О нет, давай не будем об этом думать. Это экспериментальное лечение может помочь!»), я должна была напомнить себе, что моя задача – помочь Джулии, а не утешить себя.
К тому же в тот момент, когда она задала этот вопрос, я была в ступоре, все еще переваривая новости. Я не была уверена, что подхожу для этого. Что, если я скажу или сделаю что-то не то? Обижу ли я ее, если мои чувства – дискомфорт, страх, печаль – проявятся в мимике или языке тела? У нее всего одна возможность сделать все так, как ей хочется. Что, если я подведу ее?
Она, должно быть, заметила мое сомнение.
– Пожалуйста, – сказала она. – Я знаю, что это не прогулка в парке, но я не могу общаться со всеми этими раковыми специалистами. Они будто в секте. Называют всех «смелыми», но разве у нас есть выбор? И вообще, мне так страшно, я все еще съеживаюсь при виде иголок, прямо как в детстве, когда мне делали уколы… Я не смелая, и я не воин, сражающийся в битве. Я обычный профессор в колледже. – Она подалась вперед на кушетке. – У них там аффирмации на стенах. Ну пожалуйста!
Глядя на Джулию, я не могла сказать «нет». Более того – я не хотела это делать.
И тогда природа нашей совместной работы изменилась: я должна была помочь ей примириться со смертью.
В этот раз моя неопытность могла иметь значение.
6 В поисках Уэнделла
– Может, ты хочешь с кем-то поговорить об этом, – предлагает Джен через две недели после нашего с Бойфрендом расставания. Она позвонила узнать, как мои дела, пока я на работе. – Тебе нужно найти место, где ты не будешь психотерапевтом, – добавляет она. – Нужно пойти туда, где ты сможешь капитально расклеиться.
Я смотрюсь в зеркало, висящее около двери в моем кабинете, которое я использую, чтобы убедиться, что помада не отпечаталась на зубах, когда ко мне вот-вот зайдет пациент, а я только что перекусила во время короткого перерыва между сессиями. Я выгляжу нормально, но чувствую себя ошеломленной и дезориентированной. С пациентами я веду себя безупречно (видеть их – настоящее облегчение, аж пятьдесят минут передышки от собственной жизни), но между сеансами я схожу с ума. По правде говоря, с течением времени я чувствую себя хуже, а не лучше.
Я перестала спать. Я не могу сосредоточиться. С тех пор как мы с Бойфрендом расстались, я умудрилась забыть кредитку в магазине Target, уехала с заправки, не закрыв крышку бензобака, и свалилась со ступеньки в гараже, сильно разбив колено. Моя грудь болит, как будто сердце раздавили на мелкие кусочки, хотя я знаю, что это не так, потому что сейчас оно работает еще усерднее, быстро бьется в режиме 24/7 – верный признак тревожности. Меня мучают мысли о душевном состоянии Бойфренда: мне кажется, он спокоен и не испытывает никаких мук совести, а я по ночам лежу на полу своей спальни и скучаю по нему. Затем я начинаю думать о том, скучаю ли я по нему вообще: разве я знала его по-настоящему? Я скучаю по нему – или по некоему образу его?
Так что, когда Джен сказала, что мне нужен психотерапевт, я знала, что она права. Мне нужен кто-то, кто поможет мне пройти через этот кризис.
Найти психотерапевта – сложная задача. Это не то же самое, что, скажем, поиски хорошего врача общей практики или стоматолога, потому что почти все их ищут. А вот психотерапевт? Учтите, что:
1. Если вы попросите кого-то порекомендовать вам психотерапевта и окажется, что человек не пользуется его услугами, он или она могут быть оскорблены, что вы вообще предположили подобное. Примерно по той же причине, если вы попросите кого-то порекомендовать психотерапевта, а этот человек регулярно видится с ним, он или она могут расстроиться из-за того, что это настолько очевидный факт. Возникает вопрос: «У нее столько знакомых, почему она решила спросить меня?»
2. Когда вы наводите справки, существует определенный риск, что собеседник поинтересуется причинами. «Что случилось? – может спросить он. – Проблемы в семье? Ты в депрессии?» Даже если люди не задают вопросы вслух, каждый раз при виде вас они могут мысленно задумываться над этим. «Что не так? Проблемы в семье? Ты в депрессии?»
3. Если психотерапевта советует ваш друг, могут всплыть неожиданные «побочные эффекты» касательно того, что вы говорите в кабинете. Если, например, ваш друг перескажет психотерапевту не самый лестный случай с вашим участием, а вы представите другую версию того же события (или вообще опустите его), то специалист может увидеть вас с того ракурса, демонстрацию которого вы не выбирали. И вы не будете знать, что известно о вас психотерапевту, потому что он не вправе распространяться о чем-то, сказанном на сессиях другого человека.
Несмотря на эти оговорки, сарафанное радио часто становится весьма эффективным способом найти психотерапевта. Как бы вы ни поступили, возможно, вам придется встретиться с несколькими людьми, прежде чем вы найдете того самого. Все потому, что сойтись с психотерапевтом – совсем не то же самое, что сойтись с другими врачами (как сказал один мой коллега, «это не то же, что выбор хорошего кардиолога, который видит вас пару раз в году и так никогда и не узнает о ваших самых больших уязвимостях»). Многочисленные исследования показывают, что самый важный фактор, способствующий успеху лечения, – это ваши отношения с психотерапевтом, ваше «чувство, что вас чувствуют». Это куда важнее, чем его образование, вид терапии и аспект проблемы.
Но у меня возникают весьма уникальные ограничения в поисках специалиста. Чтобы избежать этической проблемы «двойственных взаимоотношений», я не могу работать с людьми из своего круга общения – даже с родителями одноклассников моего сына, с сестрой моего коллеги, с подругой мамы или с соседом. Отношения, возникающие в кабинете психотерапевта, должны быть самостоятельными, отдельными и обособленными. Эти правила не действуют на практиков иного направления: вы можете играть в теннис или состоять в одном книжном клубе со своим хирургом, дерматологом или хиропрактиком – но не с психотерапевтом.
Это радикально сужает мои перспективы. Я дружу, направляю пациентов, езжу на конференции или еще как-то взаимодействую со множеством психотерапевтов в нашем городе. В конце концов, мои друзья-психотерапевты вроде Джен тоже знакомы со множеством специалистов, как и я. Даже если Джен посоветует мне одного из своих коллег, которого я не знаю, будет что-то неловкое в том, что она дружит с моим психотерапевтом – это слишком близко. А если поспрашивать коллег? Тут дело вот в чем: я не хочу, чтобы они знали, что я ищу для себя специалиста. Не будут ли они колебаться – сознательно или нет, – направляя ко мне пациентов?
Так что хоть я и окружена психотерапевтами, мое затруднительное положение пробуждает в памяти строки Кольриджа: «Вода, вода, кругом вода, // Но нет ни капли для питья»[5].
Но к концу дня у меня появляется идея.
Моя коллега по имени Каролина работает не в моем офисе, даже не в моем здании. Нас сложно назвать друзьями, хотя на профессиональные темы мы вполне дружески общаемся. Иногда мы делимся пациентами: я работаю с парой, а она – с кем-то из них индивидуально, или наоборот. Я доверяю любой рекомендации, которую она даст.
Я звоню ей без десяти час; она берет трубку.
– Привет, как дела? – спрашивает она.
Я говорю, что все отлично. «Просто отлично», – повторяю я с энтузиазмом в голосе. Я не упоминаю о том, что почти не сплю, не ем и чувствую себя так, словно вот-вот упаду в обморок. Я интересуюсь, как у нее дела, а затем перехожу к делу.
– Мне нужна твоя рекомендация, – говорю я. – Для друга.
Я быстро объясняю, что «друг» ищет психотерапевта-мужчину, чтобы Каролина не уточнила, почему я не направила его к ней.
Даже в телефонном разговоре я практически слышу, как у нее в голове крутятся шестеренки. Примерно три четверти практикующих психотерапевтов (в противовес исследовательской работе, психологическому тестированию или руководящим должностям в медицине) – женщины, поэтому приходится напрячь мозг, чтобы найти мужчину. Я добавляю, что в моем офисном здании есть один такой кандидат, и он один из самых талантливых специалистов среди тех, кого я знаю, но моему другу это не подходит, потому что он чувствует себя неуютно, приходят на терапию в мой офис с общей приемной.
– Хм, – задумчиво протягивает Каролина. – Дай-ка подумать. Пациент – мужчина?
– Да, слегка за сорок, – говорю я. – Высокофункциональный.
Высокофункциональный – это принятое среди психотерапевтов кодовое слово для обозначения «хорошего пациента», такого, с которым приятно работать – для балансировки тех пациентов, с кем мы не меньше хотим работать, но которые не столь высокофункциональны. Это те, кто может строить отношения, брать на себя ответственность и рефлексировать. Они не звонят каждый день в перерывах между сессиями, описывая срочные проблемы. Исследования показывают (и здравый смысл настаивает на том же), что большинство психотерапевтов предпочитает работать с открытыми и ответственными пациентами, которые способны выражать свои мысли словами; такие пациенты идут на поправку куда быстрее. Я добавляю слово «высокофункциональный» потому, что это расширяет круг психотерапевтов, которые могут заинтересоваться подобным случаем – и да, я настаиваю на том, что я относительно высокофункциональна (по крайней мере, была таковой до недавнего времени).
– Думаю, ему будет комфортнее с мужчиной, у которого есть жена и дети, – продолжаю я.
У этого параметра тоже есть свои причины. Я понимаю, что это несправедливое предположение, но я боюсь, что женщина-психотерапевт может априори склоняться к сопереживанию после разрыва, а мужчина, никогда не бывший женатым и не имеющий детей, не поймет нюансов ситуации, касающихся ребенка. Короче, я хочу убедиться, что объективный профессионал мужского пола, имеющий опыт семейной жизни и родительства – прямо как Бойфренд, – будет так же потрясен поведением Бойфренда, как и я, потому что тогда я буду знать, что мои реакции нормальны и что я, в конце концов, не схожу с ума.
Да, я ищу объективности – но только потому, что убеждена в том, что она будет в мою пользу.
Я слышу, как Каролина стучит по клавиатуре. Щелк, щелк, щелк.
– Как насчет… нет, этого вычеркиваем, он слишком хорошо о себе думает, – говорит она о каком-то безымянном психотерапевте. И снова возвращается к клавиатуре.
Щелк, щелк, щелк.
– У меня есть один коллега, с которым мы когда-то были в одной консультационной группе, – начинает она. – Но не знаю. Он крутой. Очень квалифицированный. Он всегда может сказать что-то, что буквально откроет тебе глаза. Он просто…
Каролина медлит.
– Просто что?
– Он вечно такой счастливый. Это выглядит… неестественно. Ну типа… да какого черта ты все время такой радостный? Но некоторым пациентам это нравится. Думаешь, твой друг с ним сработается?
– Точно нет, – говорю я. Я тоже подозрительно отношусь к хронически счастливым людям.
Далее, Каролина называет хорошего специалиста, которого я относительно неплохо знаю, поэтому говорю ей, что он не будет работать с моим другом из-за конфликта – это принятое среди психотерапевтов сокращение для фразы «они пересекались, больше я ничего не могу сказать».
Она снова стучит по клавиатуре – щелк, щелк, щелк. Потом останавливается.
– Слушай, есть психолог по имени Уэнделл Бронсон, – говорит Каролина. – Мы не общались несколько лет, но учились вместе. Он умный. Женат, и дети есть. Ему под пятьдесят или вроде того, и в профессии он не первый день. Хочешь, скину его контакты?
Я говорю, что хочу. То есть «мой друг» хочет. Мы обмениваемся любезностями и завершаем разговор.
В данный момент я знаю об Уэнделле только то, что рассказала Каролина, плюс то, что через улицу от его офиса есть двухчасовая бесплатная парковка. Я знаю, что там можно оставить машину, потому что когда через минуту Каролина присылает мне сообщение с номером телефона и адресом, я понимаю, что делаю эпиляцию бикини в салоне на той же улице (не то чтобы мне в обозримом будущем понадобилась эта услуга, думаю я, и это вызывает новый поток слез).
Я беру себя в руки на срок, достаточный для звонка Уэнделлу, – и, конечно же, слышу сообщение автоответчика. Психотерапевты редко отвечают на звонок офисного телефона, чтобы пациенты не чувствовали себя отвергнутыми, так что на разговоры остается всего несколько минут между сеансами. Коллеги обычно связываются через мобильный телефон или пейджер.
Я слушаю стандартную запись. («Здравствуйте, вы позвонили в офис Уэнделла Бронсона. Я отвечаю в рабочие часы с понедельника по пятницу. Если у вас что-то срочное, пожалуйста, наберите…») После гудка я оставляю краткое сообщение с точной информацией, которую хочет получить специалист: имя, одно предложение с причиной звонка и номер телефона для обратной связи. Я держусь хорошо – пока не добавляю, что я тоже психотерапевт, думая, что это поможет мне встретиться с ним поскорее. Но мой голос срывается, когда я выдавливаю из себя само слово «психотерапевт». Сгорая от стыда, я делаю вид, что закашлялась, и бросаю трубку.
Когда Уэнделл перезванивает мне час спустя, я стараюсь говорить как можно более собранно, объясняя, что мне нужно лишь немного «антикризисной помощи», всего несколько недель, чтобы «переварить» неожиданный разрыв, а затем со мной все будет хорошо. Я уже проходила психотерапию раньше, говорю я, поэтому приду «мозговправленная». Он не смеется над моей шуткой, и я почти убеждаюсь в том, что у него нет чувства юмора – но это не важно: для оказания помощи в кризис не нужно чувство юмора.
В конце концов, все это только для того, чтобы вернуть меня в привычную колею.
За весь разговор Уэнделл произносит около пяти слов. И я использую термин «слова» в широком смысле – это больше похоже на несколько «угу», а затем он предлагает встретиться на следующее утро, в девять часов. Я соглашаюсь, и разговор завершается.
Уэнделл был немногословен, но наша беседа дарит мне моментальное чувство облегчения. Я знаю, что это обычный эффект плацебо: пациент часто чувствует надежду перед первой встречей, еще даже не ступив в кабинет психотерапевта. Я не отличаюсь от других. Завтра, думаю я, мне помогут с этим. Да, я в расстроенных чувствах, потому что все произошло слишком неожиданно, но скоро я приду в себя (в смысле, Уэнделл подтвердит, что Бойфренд социопат). Когда я буду вспоминать о прошлом, это расставание будет бликом на радаре моей жизни. Ошибкой, из которой я извлеку урок, такой ошибкой, которые мой сын называет «блистательный упс».
Тем вечером, перед тем как лечь спать, я собираю вещи Бойфренда – его одежду, гигиенические принадлежности, теннисную ракетку, книги и гаджеты – и упаковываю их в коробку, чтобы вернуть ему. Я достаю пижамы Costco из ящика и нахожу стикер с игривой подписью, который Бойфренд приклеил к одной из них. Интересно, когда он это писал, он уже знал, что уйдет?
На консультационном разборе, на котором я была за неделю до расставания, коллега привел в пример пациентку, которая узнала, что ее муж ведет двойную жизнь. У него не просто несколько лет были какие-то интрижки на стороне – нет, другая женщина забеременела от него и вот-вот должна была родить. Когда жена узнала об этом (он вообще собирался ей это рассказать?), она перестала понимать, что ей дальше делать с их совместной жизнью. Были ли ее воспоминания настоящими? Взять, например, их романтический отпуск: была ли ее версия поездки точной, или же это был какой-то вымысел, учитывая, что в то же время у него были и внебрачные отношения? Она чувствовала себя так, словно ее ограбили – не только в браке, но и в воспоминаниях. По аналогии с этой ситуацией, когда Бойфренд клеил стикер к моей пижаме – и когда вообще покупал мне пижамы, – он уже тайно планировал свою свободную, бездетную жизнь? Я хмурюсь и думаю: «Лжец».
Я уношу коробку в машину и ставлю ее на переднее сиденье, чтобы не забыть о ней. Может быть, я даже завезу ее прямо с утра, по дороге на встречу с Уэнделлом.
Жду не дождусь, когда он скажет мне, какой Бойфренд социопат.
7 Начало познания
Я стою в дверях кабинета Уэнделла, пытаясь решить, где мне сесть. Я видела множество кабинетов людей моей профессии – супервизоров во время обучения, коллег, которых я посещала, – но такого, как у Уэнделла, не видела ни разу.
Да, на стенах привычно висят дипломы, на полках стоят книги по психотерапии, а любой намек на личную жизнь (вроде семейных фотографий) отсутствует – на столе только одинокий ноутбук. Но вместо стандартно стоящего кресла психотерапевта в центре комнаты и сидений у стен (во время интернатуры нас учат садиться поближе к двери – на случай, если «обстановка начнет накаляться» и нам понадобится отходной путь), в кабинете Уэнделла углом стоят два длинных дивана, а между ними – небольшой столик. Никакого кресла.
Я в замешательстве.
Вот схема моего кабинета:
А вот схема кабинета Уэнделла:
Уэнделл – очень высокий и худой мужчина с залысинами и сутулой осанкой, характерной для нашей профессии – стоит и ждет, когда я сяду. Я обдумываю все варианты: предполагаю, вряд ли мы усядемся бок о бок на одном диване, но какой из них он обычно предпочитает? Тот, что у окна (чтобы иметь возможность ускользнуть)? Или тот, что у стены? В итоге я выбираю место А, у окна, после чего он закрывает дверь, пересекает комнату и расслабляется на месте С.
Обычно, когда я принимаю нового пациента, я начинаю разговор с какой-нибудь снимающей напряжение фразы вроде «Расскажите, что привело вас сюда».
Уэнделл же молчит. Он просто смотрит на меня, и я вижу вопросительные нотки в его зеленых глазах. Он одет в кардиган, брюки цвета хаки и лоферы – как будто приехал прямиком из кастинг-компании, набирающей психотерапевтов.
– Здравствуйте, – говорю я.
– Здравствуйте, – отвечает он. И ждет.
Проходит примерно минута – на деле это гораздо дольше, чем кажется, – и я пытаюсь собраться с мыслями, чтобы четко изложить ситуацию с Бойфрендом. Правда заключается в том, что каждый день с момента расставания был хуже, чем тот вечер сам по себе, потому что сейчас в моей жизни открылась огромная зияющая дыра. Последние два года мы с Бойфрендом постоянно были вместе, каждый вечер желая друг другу спокойной ночи. А теперь – как у него дела? Каким был его день? Презентация на работе прошла успешно? Думал ли он обо мне? Или он рад наконец избавиться от этого груза и отправиться на поиски кого-то бездетного? Я чувствовала отсутствие Бойфренда каждой клеткой своего тела, так что к тому времени, как я оказалась в кабинете Уэнделла, превратилась в настоящую развалину – но я не хочу, чтобы его первое впечатление обо мне было именно таким.
Или, если быть честной, второе или даже сотое.
Любопытный парадокс психотерапевтического процесса: чтобы выполнить свою работу, специалисты стараются увидеть пациентов такими, какие они есть, что означает приметить их уязвимые места, шаблоны поведения и проблемы. Пациенты, конечно же, хотят, чтобы им помогли – а еще они хотят понравиться. Другими словами, они хотят спрятать свои уязвимые места, шаблоны поведения и проблемы. Это не значит, что психотерапевты не уделяют внимания сильным сторонам пациента, не пытаются работать с ними – мы пытаемся. Но пока мы пытаемся понять, что именно не так, пациенты фокусируются на поддержании иллюзии того, что все отлично, – чтобы избежать стыда, чтобы казаться более цельными, чем они есть на самом деле. Обе стороны заботятся о благополучии пациента, но часто действуют в разных направлениях, служа общей цели.
Я начинаю рассказывать Уэнделлу историю Бойфренда с максимальным спокойствием, но мое чувство собственного достоинства почти сразу же растворяется, и я начинаю рыдать. Я пересказываю всю историю, реплика за репликой, и когда заканчиваю, мои руки закрывают лицо, тело трясется, а я думаю о том, что вчера сказала мне Джен: «Тебе нужно найти место, где ты не будешь психотерапевтом».
Сейчас я определенно не психотерапевт. Я аргументирую, почему Бойфренд виноват во всем: если бы он не был таким избегающим (диагноз Джен), я бы не была так ошарашена его поступком. И добавляю, что он, должно быть, социопат (снова цитирую Джен; именно по этой причине нельзя быть психотерапевтом у своих друзей), потому что я и понятия не имела, что он так думает – он отличный актер! Даже если у него не диагностирована социопатия, у него явно не все дома, потому что ну кто будет столько времени держать подобное в себе? И вообще, я знаю, какой должна быть нормальная коммуникация – я же вижу так много пар в своей практике, а кроме того…
Я поднимаю взгляд – и мне кажется, будто Уэнделл подавляет улыбку (я как будто вижу это облачко мыслей: «Эта чокнутая – психотерапевт… консультирующий пары?»), но не уверена, потому что вижу его не очень четко. Это как смотреть в лобовое стекло машины без дворников во время ливня. Странно, но я чувствую облегчение оттого, что могу так сильно плакать перед другим человеком, даже если это незнакомец, который почти ничего не говорит.
После нескольких сочувствующих хмыков Уэнделл спрашивает:
– Это ваша обычная реакция на разрыв отношений?
В его голосе звучит доброта, но я знаю, о чем он. Он пытается определить нечто под названием «стиль привязанности». Он формируется в раннем детстве и основывается на наших взаимоотношениях с людьми, которые о нас заботятся. Эти стили важны, поскольку они проявляются и во взрослых отношениях, влияя на то, каких партнеров выбирает человек (стабильных или менее стабильных), как он ведет себя во время отношений (требовательно, отстраненно или переменчиво) и как его отношения обычно заканчиваются (на дружеской ноте, с грустью или с огромным скандалом). Хорошая новость заключается в том, что дезадаптивные стили привязанности можно изменить во взрослой жизни – правда, для этого понадобится много часов работы с психотерапевтом.
– Нет, не обычная, – убежденно говорю я, вытирая слезы рукавом. Я рассказываю, что у меня были длительные отношения и раньше, и они тоже заканчивались – но не так. И единственная причина, по которой я так реагирую, – это то, что я впервые испытала подобный шок, выбивший меня из колеи. И разве Бойфренд не совершил нечто непонятное, и странное, и… НЕЭТИЧНОЕ?
Я уверена, что этот специалист – женатый и с детьми – собирается сказать что-то ободряющее: о том, как больно получить такой удар, но в долгосрочной перспективе я должна быть рада, что так случилось, потому что я фактически увернулась от пули, летящей не только в меня, но и в моего сына. Я откидываюсь назад, делаю вдох и жду этого «бальзама на душу».
Но Уэнделл никак не реагирует. Конечно, я и не жду, что он назовет Бойфренда скотиной, как Элисон. Психотерапевт должен выражаться более нейтрально, например: «Звучит так, будто он испытывал много эмоций, которыми не делился с вами». Однако Уэнделл не говорит вообще ничего.
Слезы снова начинают капать мне на брюки, когда краем глаза я вижу нечто летящее в мою сторону. Оно выглядит как футбольный мяч, и я думаю, что все это галлюцинации (неудивительно, если учесть тот факт, что с момента расставания я и часа не поспала спокойно), но потом признаю в этом предмете коричневую коробку салфеток – одну из тех, что стояли на столике между диванами. Я инстинктивно вскидываю руки, чтобы ее поймать, но промахиваюсь. Коробка приземляется на груду подушек рядом со мной, и я беру несколько салфеток, чтобы высморкаться. Эта коробка будто сокращает расстояние между мной и Уэнделлом, как если бы он только что бросил мне спасательный круг. За годы работы я подавала пациентам коробки с салфетками бесчисленное количество раз, но уже и забыла, насколько заботливым может казаться этот простой жест.
Фраза, которую я впервые услышала во время учебы, всплывает в моей голове: «Исцеляющее действие, не исцеляющее слово».
Я достаю еще больше салфеток и вытираю слезы. Уэнделл смотрит на меня выжидая.
Я продолжаю говорить о Бойфренде и его избегающем поведении, обрисовывая дополнительные факты из его прошлого, включая то, как закончился его брак: та ситуация не слишком отличалась от нашего расставания с учетом шока, который испытали его жена и дети. Я рассказываю Уэнделлу все, что может проиллюстрировать его избегание, не сознавая, что невольно иллюстрирую свое избегание его избегания – о котором я, вероятно, знала достаточно.
Уэнделл слегка наклоняет голову, на его лице появляется вопросительная улыбка.
– Любопытно, правда, что вы знали такие факты из его биографии и все равно потрясены случившимся.
– Но это и есть потрясение, – говорю я. – Он никогда ничего не говорил о том, что не хочет жить с ребенком в доме! Я вам больше скажу: совсем недавно он узнавал в отделе кадров, можно ли включить моего ребенка в его соцпакет после нашей свадьбы!
Я снова прохожусь по всей хронологии, добавляя еще больше деталей, иллюстрирующих мой рассказ, потом замечаю, что лицо Уэнделла начинает затуманиваться.
– Я знаю, что повторяюсь, – говорю я. – Но поймите: я ожидала, что мы будем вместе до конца жизни. А теперь все пропало. Половина моей жизни закончена, и я понятия не имею, что будет дальше. Что, если Бойфренд был последним человеком, которого я любила? Что, если это конец всего?
– Конец всего? – оживляется Уэнделл.
– Да, конец всего, – подтверждаю я.
Он ждет продолжения, но вместо этого я снова начинаю плакать. Не дико рыдать, как на прошлой неделе, а как-то более спокойно и глубоко.
Более тихо.
– Я знаю, что вы чувствуете, будто вас застали врасплох, – говорит Уэнделл. – Но мне интересно кое-что другое из того, что вы сказали. «Половина жизни закончена». Может быть, вы оплакиваете не только разрыв, хотя я понимаю, что этот опыт кажется разрушительным…
Он делает паузу, а когда начинает говорить снова, его голос становится мягче.
– Я хочу знать, возможно ли, что вы горюете о чем-то большем, чем потеря возлюбленного.
Он многозначительно смотрит на меня, как будто только что сказал что-то невероятно важное и глубокое, но мне вдруг хочется ударить его.
Какая невероятная чушь, думаю я. Ну серьезно? У меня все было хорошо – более чем хорошо, просто отлично, пока не произошло вот это. У меня есть ребенок, которого я безумно люблю. У меня есть работа, которой я по-настоящему наслаждаюсь. У меня есть поддерживающая меня семья и потрясающие друзья, о которых забочусь я и которые заботятся обо мне. Я чувствую благодарность за эту жизнь… ладно, иногда. Я уж точно пытаюсь быть благодарной. Но сейчас я раздавлена. Я плачу́ психотерапевту за то, чтобы он помог мне справиться с болезненным разрывом, и это все, что он может мне сказать?
Горюете о чем-то большем, ну зашибись.
Перед тем как сказать это, я замечаю, что Уэнделл смотрит на меня так, как раньше не смотрел никто. Его глаза словно магниты, и каждый раз, когда я отворачиваюсь, они снова находят меня. Его лицо напряженное, но одновременно мягкое – этакое сочетание мудрого старика и плюшевой игрушки, и оно словно говорит: «В этой комнате я увижу тебя; ты попытаешься спрятаться, но я все равно увижу тебя, и ничего страшного не случится».
Но я здесь не за этим. Как я и говорила Уэнделлу, назначая встречу, мне просто нужно немного антикризисной помощи.
– Я здесь лишь для того, чтобы справиться с разрывом, правда – говорю я. – Я чувствую себя так, будто меня закинули в блендер, а выбраться не получается. Поэтому я здесь – чтобы найти выход.
– Хорошо, – говорит Уэнделл, любезно отступая. – Тогда помогите мне чуть лучше понять ваши отношения.
Он пытается установить то, что называется «психотерапевтическим союзом» – доверие, которое нужно выстроить, прежде чем начать работу. На первых сессиях для пациента всегда важнее почувствовать себя услышанным и понятым, чем прийти к какому-то инсайту и начать меняться.
Я с облегчением возвращаюсь к разговору о Бойфренде, пересказывая все заново.
Но он знает.
Он знает то, что знают все психотерапевты: презентация проблемы – событие, которое приводит пациента, – чаще всего является лишь одним аспектом более глобальной проблемы, если вообще не отвлекающим маневром. Он знает, что большинство людей блистательно находит способ отсеять те вещи, которые они не хотят обсуждать, переключая чужое внимание или защищаясь, чтобы держать тревожащие чувства на расстоянии. Он знает: подавление эмоций делает их еще сильнее, но прежде чем разрушить защиту – даже если эта защита означает одержимость другим человеком и игнорирование очевидного, – психотерапевт должен найти ей замену, чтобы человек не остался голым, уязвимым. Подобные защитные механизмы служат благим целям. Они защищают людей от травм… до тех пор, пока в них не перестают нуждаться.
В подобном эллипсе и крутятся психотерапевты.
И крохотная часть меня, сидящей на диване и сжимающей коробку с салфетками, тоже это знает. При всем моем желании услышать, что мое негодование объективно, глубоко внутри я знаю, что вся та чушь, которую несет Уэнделл, – именно то, за что я ему плачу́. Потому что если бы я просто хотела жаловаться на Бойфренда, то делала бы это бесплатно в кругу семьи или среди друзей (по крайней мере, пока их терпение не иссякнет). Я знаю, что люди часто придумывают ложные истории, чтобы на миг почувствовать себя лучше, даже если потом им будет еще хуже. И это значит, что иногда им нужен кто-то еще, кто сможет прочитать все между строк.
Но я знаю еще кое-что: Бойфренд – чертов самовлюбленный социопат.
Я где-то посередине между знанием и незнанием.
– На сегодня это все, что мы можем сделать, – говорит Уэнделл, и, проследив за его взглядом, я в первый раз замечаю, что за моей спиной, на подоконнике, стоят часы. Он поднимает руки и дважды громко хлопает себя по ногам – жест, который я вскоре начну распознавать как его фирменное прощание. Потом он встает и провожает меня до двери.
Он просит дать ему знать, если я захочу прийти снова в следующую среду. Я думаю о грядущей неделе, дыре, в которой раньше был Бойфренд, и возможности, как назвала это Джен, «капитально расклеиться».
– Запишите меня, – говорю я.
Я иду по улице к месту, где раньше оставляла машину, приезжая на эпиляцию бикини, и чувствую одновременно облегчение и тошноту. Один мой наставник однажды сравнил психотерапию с обычным лечением тела. Оно может быть трудным и болезненным, ваше общее состояние может ухудшаться, а затем резко улучшиться, но если непрерывно следовать указаниям врачей и делать все от вас зависящее, однажды происходит переломный момент, и жизнь становится намного лучше.
Я проверяю телефон.
Сообщение от Элисон: «Не забывай, он отстой».
Письмо от пациентки, которая хочет перенести сессию.
Голосовое от мамы, спрашивающей, все ли у меня в порядке.
Ни слова от Бойфренда. Я все еще надеюсь, что он позвонит. Я не понимаю, как у него все может быть хорошо, когда я так страдаю. По крайней мере он казался спокойным, когда мы согласовывали возврат его вещей. Или он уже отгрустил свое несколько месяцев назад, зная, что отношения подходят к концу? Если да, как он вообще мог говорить что-то о совместном будущем? Как он мог писать мне «Я тебя люблю» буквально за пару часов до того, что стало нашим последним разговором, начавшимся с выбора фильма на выходные? (Интересно, сходил ли он в кино?)
Я снова начинаю пережевывать это, пока еду до офиса. К тому моменту, как я заезжаю на подземную парковку, я думаю о том, что потеряла не просто два года жизни из-за Бойфренда – теперь мне придется разбираться с последствиями, посещая психотерапию, а у меня нет времени на нее, потому что мне за сорок, половина жизни пройдена и… Господи, вот опять! Половина жизни закончена. Я никогда не говорила это – ни мысленно, ни кому-то еще. Почему эта фраза вдруг всплыла?
Вы горюете о чем-то большем, сказал Уэнделл.
Но я забываю обо всем этом, как только захожу в лифт у себя на работе.
– Ну все, заявляю официально, – говорит Джон, скидывая ботинки и скрещивая ноги на диване. – Меня окружают идиоты.
Его телефон вибрирует. Когда он тянется за ним, я поднимаю брови. В ответ Джон демонстративно закатывает глаза.
Это наша четвертая сессия, и у меня начинают складываться первые впечатления. Мне кажется, что – несмотря на всех людей в его окружении – Джон до невозможности обособлен, причем намеренно. Что-то в его жизни заставило его думать, что сближение может оказаться опасным – настолько, что он делает все возможное, чтобы предотвратить его. И это работает: он оскорбляет меня, надолго уводит разговор в другое русло, меняет темы и перебивает всякий раз, когда я пытаюсь заговорить. Но пока я не найду способ пробить эту стену, у нас нет шансов сдвинуться с места.
Один из этих защитных механизмов – мобильный телефон.
На прошлой неделе, когда Джон начал отвечать на сообщение прямо во время сессии, я обратила его внимание на то, что в такие моменты чувствую себя лишней. Это работа «в моменте»: вместо того чтобы сосредоточиться на историях пациента из внешнего мира, я подмечаю, что происходит в кабинете. Готова поспорить: все то, что пациент проворачивает на сессии у психотерапевта, он проделывает и с остальными людьми, и я хотела, чтобы Джон начал понимать, какое впечатление он оставляет о себе. Я знала, что рискую надавить слишком сильно и слишком рано, но я помнила весьма важную деталь о его предыдущем опыте психотерапии: она продлилась три сессии, как раз столько, сколько наша на данный момент. Я не знала, сколько нам еще осталось.
Я предполагала, что Джон ушел от прошлого психотерапевта по одной из двух причин: либо она не ткнула его носом в ту чушь, которую он нес (что заставляет пациентов чувствовать себя небезопасно – как дети, чьи родители не считают их достаточно ответственными), либо и впрямь ткнула, но слишком рано и совершила ту же ошибку, которую вот-вот должна была совершить я. Но я хотела рискнуть. Я хотела, чтобы Джо чувствовал себя комфортно на наших встречах, но не настолько комфортно, чтобы остаться без моей помощи.
Кроме того, я не хотела попасть в ловушку, которую буддисты называют «состраданием идиота» – подходящая фраза, учитывая мировоззрение Джона. Сострадание идиота – это когда вы стараетесь не раскачивать лодку и разделять чувства человека, даже когда лодку нужно раскачать, а ваше сострадание приносит больше вреда, чем ваша честность. Люди поступают так с подростками, супругами, наркоманами, даже с собой. Его противоположность – сострадание мудрого, которое означает не только заботу о человеке, но и проговаривание суровой правды, когда она необходима.
– Знаете, Джон, – сказала я неделю назад, когда он начал набирать сообщение. – Мне любопытно, отреагируете ли вы, если я скажу, что чувствую себя лишней, когда вы так поступаете?
Он поднял указательный палец вверх (как бы говоря: «Погодите!»), но продолжил печатать. Закончив, он посмотрел на меня.
– Прошу прощения, о чем я там говорил?
Обожаю. Не «О чем вы говорили», а «О чем я говорил».
– Ну… – начала я, но телефон пикнул, и вот он снова уткнулся в экран.
– Видите, вот об этом я и говорю, – проворчал он. – Никому ничего нельзя доверить, если хочешь, чтобы все было сделано как надо. Секундочку.
Судя по уведомлениям, он параллельно вел несколько разговоров. Я задумалась, а не разыгрываем ли мы сцену с участием его жены.
Марго: Удели мне внимание.
Джон: Кому, тебе?
Это жутко раздражало. И как мне надо было справляться с этим чувством? Я могла сидеть и ждать (и становиться еще более раздраженной), а могла сделать что-то еще.
Я встала, подошла к столу, порылась среди папок, взяла свой смартфон, вернулась в кресло и начала печатать.
Это я, ваш психотерапевт. Я тут, рядом.
Телефон Джона пиликнул. Я смотрела на него, изумленно читающего мое сообщение.
– Господи! Теперь и вы мне пишете?
Я улыбнулась.
– Я хотела привлечь ваше внимание.
– Я весь внимание, – сказал он, продолжая печатать.
Я не думаю, что вы «весь внимание».
Я чувствую, что меня игнорируют, и я слегка обижена.
Джон театрально вздохнул, а затем продолжил что-то писать.
И я не думаю, что смогу вам помочь, пока мы оба не уделим друг другу все возможное внимание. Так что если вы все-таки хотите поработать вместе, то я попрошу вас не использовать здесь телефон.
– Что? – спросил Джон, глядя на меня. – Вы запрещаете мне пользоваться телефоном? Как в самолете? Вы не можете так поступить. Это моя сессия.
Я пожала плечами.
– Я не хочу терять ваше время.
Я не сказала Джону, что наши сессии на самом деле не являются лишь его собственностью. Любой сеанс психотерапии принадлежит обоим: и пациенту, и психотерапевту; это взаимодействие между ними. Психоаналитик по имени Гарри Стек Салливан в начале ХХ века разработал теорию психиатрии, основанную на межличностных взаимоотношениях. Отклонившись от позиции Фрейда, согласно которой ментальные расстройства являются интрапсихическими (то есть «внутри сознания»), Салливан полагал, что наши проблемы интеракциональны (связаны с социумом). Он даже заявил: «Признак высококлассного специалиста – это когда и дома, и во время приема это один и тот же человек». Мы не можем научить пациентов завязывать отношения с окружающими, если сами с ними не связаны.
Телефон Джона снова пиликнул, но в этот раз сообщение было не от меня. Он задумчиво посмотрел на меня, затем на телефон. Я ждала, пока внутри него шла настоящая борьба. Я была почти готова к тому, что он встанет и уйдет; но еще я знала, что если бы он не хотел быть здесь, то и не пришел бы. Не знаю, сознавал ли он это, но и для него в этом была выгода. Я с огромной долей вероятности была единственным человеком в его жизни, готовым его выслушать.
– Да пожалуйста! – пробурчал он, бросая телефон на кресло в другом конце комнаты. – Вот, я убрал чертов телефон.
Затем он сменил тему. Я ожидала гнева, но на секунду мне показалось, будто его глаза увлажнились. Это грусть? Или отражение солнечного луча? Я обдумала несколько вариантов, но до конца сеанса оставалась всего минута – это время, традиционно отведенное для того, чтобы помочь людям собраться, а не раскрыться. Я решила придержать это до более подходящего момента.
Как шахтер, заметивший искорку золота, я подозревала, что что-то нащупала.
Сегодня – с огромной неохотой – Джон тормозит на полпути, оставляя вибрирующий телефон в покое, и продолжает свое официальное заявление о том, что он окружен идиотами.
– Даже Рози ведет себя как идиотка, – говорит он. Я удивлена, что он говорит так о своей четырехлетней дочери. – Я говорил ей не подходить к моему ноутбуку, а что она делает? Она прыгает на кровать – и это не страшно, страшно то, что она прыгает на ноутбук, лежащий на кровати. Идиотка! А когда я завопил «не-е-ет!», она написала прямо в кровать. Матрас на выброс. Она не писалась со времен младенчества.
Эта история меня тревожит. Существует миф, что психотерапевт должен быть нейтрален, но разве это возможно? Мы же люди, а не роботы. На самом деле вместо нейтральности мы, психотерапевты, стараемся отмечать все ненейтральные чувства, предубеждения и мнения, чтобы сделать шаг назад и подумать над ними. Мы не подавляем, а используем наши чувства – они оказываются весьма полезными в работе. И от этой истории с Рози у меня волосы встают дыбом. Многие взрослые кричат на своих детей в не самые удачные моменты родительства, но отношение Джона к дочери меня удивляет. Прорабатывая эмпатию с парами, я часто говорю: «Прежде чем что-то сказать, спросите себя, каково это будет для собеседника?» Мысленно я делаю заметку: надо будет как-нибудь поделиться этим с Джоном.
– Звучит неприятно, – говорю я. – Вы не думаете, что могли напугать ее? Громкий голос может быть довольно страшным.
– Да нет, я на нее постоянно кричу, – добавляет он. – Чем громче, тем лучше. Только так она и слушает.
– Только так? – переспрашиваю я.
– Ну… когда она была помладше, я выходил из дома и бегал с ней по кругу, чтобы она выпустила пар. Иногда ей просто надо побыть на улице. Но позже она стала настоящей занозой в заднице. Даже как-то попыталась меня укусить.
– Она хотела поиграть, но… ох, вам это понравится.
Я знаю, что он сейчас скажет.
– Я переписывался с кем-то, так что ей нужно было немножко подождать, но она просто взбесилась. Марго не было в городе, так что Рози развлекалась с Санькой и…
– Напомните, кто у нас Санька?
– Не Санька, а сань-ка. Ну, знаете, собачья нянька.
Я тупо смотрю на него.
– Догситтер. Собачья нянька. Санька.
– Так Рози – это ваша собака, – протягиваю я.
– А вы как думали, о ком я тут распинаюсь?
– Я думала, вашу дочь зовут…
– Руби, – говорит он. – Мою младшую зовут Руби. Разве не было очевидно, что я говорил о собаке?
Он вздыхает и качает головой, словно я величайшая идиотка в царстве идиотов.
Он никогда раньше не говорил о собаке. Тот факт, что я помню первую букву имени его дочери, которое было произнесено один раз за прошедшие две сессии, кажется мне победой. Но меня поражает другое: Джон показал мне более мягкую сторону, таким я его еще не видела.
– Вы и правда ее любите, – говорю я.
– Конечно, люблю. Она моя дочь.
– Нет, я о Рози. Вы искренне о ней заботитесь.
Я пытаюсь как-то коснуться его, задеть что-то важное, чтобы подвести его ближе к эмоциям. Я знаю, что они есть, просто они атрофировались, как бездействующие мышцы. Он отмахивается.
– Она собака.
– Какой породы?
Его лицо проясняется.
– Помесь. Она из приюта, была в жутком состоянии, когда мы ее взяли, – все из-за тех идиотов, которые должны были о ней заботиться. Но сейчас она… Я покажу фото, если вы разрешите воспользоваться этим чертовым телефоном.
Я киваю, и он проматывает галерею фотографий, улыбаясь сам себе.
– Ищу хороший снимок, – говорит он. – Чтобы вы увидели, какая она на самом деле милашка.
С каждой фотографией он сияет все больше, и я снова вижу его идеальные зубы.
– Вот она, – с гордостью восклицает он, протягивая телефон.
Я смотрю на фотографию. Я люблю собак, но Рози – помоги ей Господь! – одна из некрасивейших собак, что мне доводилось видеть. У нее отвисшие щеки, асимметричные глаза, многочисленные залысины, а хвоста и вовсе нет. Джон все еще сияет от восторга.
– Я вижу, как сильно вы ее любите, – говорю я, возвращая телефон.
– Я не люблю ее. Это всего лишь дурацкая собака.
Он говорит, как пятиклассник, не желающий признаваться в том, что втюрился в одноклассницу. Тили-тили тесто…
– Ох, – мягко говорю я. – Но когда вы упоминаете ее, я слышу огромную любовь.
– Может, хватит уже?
Он звучит раздраженно, но в его глазах я вижу боль. Я мысленно возвращаюсь к нашей предыдущей сессии: все, что касается любви и заботы, болезненно для него. Другого пациента я вполне могла бы спросить, что так вывело его из себя. Но я знаю, что Джон уйдет от темы, начав спор о том, правда ли, что он любит свою собаку. Вместо этого я говорю:
– Большинство людей искренне заботится о своих питомцах. – Я понижаю голос, так что ему почти что приходится податься вперед, чтобы услышать меня. Нейрофизиологи выяснили, что у людей есть мозговые клетки, именуемые зеркальными нейронами, которые вынуждают их подражать другим, так что когда мы захвачены эмоциями, тихий голос помогает успокоить нервную систему и остаться в настоящем. – Любовь это или что-то еще, название не играет особой роли.
– Это нелепый разговор, – говорит Джон.
Он смотрит в пол, но я вижу, что полностью завладела его вниманием.
– Вы сегодня не без причины вспомнили Рози. Она важна для вас, а сейчас ее поведение вас беспокоит – потому что вам не все равно.
– Люди важны для меня, – говорит Джон. – Моя жена, мои дети. Люди.
Он смотрит на телефон, который снова начинает вибрировать, но я не слежу за его взглядом. Я остаюсь с ним, стараюсь удержать его, чтобы он не замкнулся в себе в ответ на нежелательные чувства и не онемел. Люди часто принимают онемение за ничто – но это не отсутствие чувств, это реакция на слишком большое их количество.
Джон отрывается от телефона и снова смотрит на меня.
– Знаете, что мне нравится в Рози? – говорит он. – Она единственная, кто ничего у меня не просит. Единственная, кто, так или иначе, не разочаровался во мне – по крайней мере, не разочаровывалась до того дня, когда укусила меня. Кому бы это не понравилось?
Он громко смеется, словно мы в баре и он только что произнес уморительную остроту. Я пытаюсь поговорить о разочарованиях – кто разочаровался в нем и почему? Но он говорит, что это всего лишь шутка, разве я не понимаю шуток? И несмотря на то что мы так никуда и не сдвинулись в этот день, мы оба знаем, что он сказал мне: под этой внешней крутизной у него есть сердце и способность любить.
Начнем с того, что он восхищается этой отвратительной собакой.
9 Снимки самих себя
Все пациенты, приходящие к психотерапевту, презентуют своего рода снимки самих себя – специалист отталкивается от них. Чаще всего люди находятся если не в худшем своем состоянии, то уж точно не в лучшем. Они могут быть в отчаянии или в глухой обороне, в растерянности или в тотальном хаосе. Обычно у них очень плохое настроение.
Так что они садятся на кушетку и выжидательно смотрят, надеясь найти хоть немного понимания и, в итоге (но лучше всего – немедленно) способ излечиться. Но у психотерапевтов нет никакого быстродействующего лекарства, потому что все эти люди для нас – абсолютные незнакомцы. Нам нужно время, чтобы узнать их надежды и мечты, чувства и поведенческие паттерны, изучить их – порой гораздо глубже, чем они сами себя знают. Если тому, что их беспокоит, понадобилось время от рождения до дня появления в офисе психотерапевта (или если проблема назревала в течение многих месяцев), для получения желанного облегчения может понадобиться больше парочки пятидесятиминутных сессий – в этом есть смысл.
Но когда люди уже дошли до ручки, они хотят, чтобы психотерапевты что-то делали. Пациенты хотят нашего терпения, но сами едва ли им располагают. Их требования могут быть явными или безмолвными, и – особенно вначале – они могут усиленно давить на специалиста.
Почему мы выбираем профессию, которая требует, чтобы мы встречались с несчастными, подавленными, резкими, не отдающими себе отчета людьми и общались с ними наедине в кабинете, один за другим? Ответ таков: потому что психотерапевты знают, что поначалу каждый пациент – всего лишь снимок, на котором человек застигнут в конкретный момент. Это как фото, снятое с неудачного ракурса, на котором у вас невероятно кислая мина. Но ведь есть и снимки, на которых вы буквально сияете – когда открываете подарок или смеетесь вместе с возлюбленным. На обоих вы предстаете в определенный кусочек времени, и ни один из них не описывает вас полностью.
Поэтому психотерапевты слушают, предлагают, подталкивают, ведут, а иногда и уговаривают пациентов принести другие снимки, чтобы привнести изменения в восприятие внешнего и внутреннего мира. Мы сортируем снимки, и вскоре становится очевидным, что эти абстрактные изображения вращаются вокруг общей темы, которая, возможно, даже не всплывала в поле зрения людей, когда они решили прийти.
Некоторые снимки настораживают, и их проблески напоминают мне, что у каждого из нас есть темная сторона. Другие размыты. Люди не всегда отчетливо помнят события и разговоры, но весьма точно сознают, какие чувства вызвал тот или иной опыт. Психотерапевты должны уметь интерпретировать эти размытые снимки, зная, что пациенты должны быть в какой-то степени нечеткими. Эти первые снимки помогают замаскировать болезненные чувства, пытающиеся вторгаться на мирную внутреннюю территорию. Со временем они узнают, что они не на войне, что верный путь – это перемирие с самим собой.
Вот почему, когда люди впервые приходят, мы визуализируем их в будущем. И делаем это не только в первый день, но и во время каждой сессии: этот образ помогает не терять надежды, пока пациенты еще никак не соберутся, и информирует их о течении процесса лечения.
Я однажды слышала, как комментатор Дэвид Брукс говорил о творчестве как о способности ухватить сущность одной вещи и сущность совсем иной вещи, а затем смешать их, чтобы создать нечто совершенно новое. Именно этим занимаются психотерапевты. Мы берем сущность первоначального снимка и сущность воображаемого, а затем соединяем их, создавая новый.
Я держу это в голове всякий раз, когда встречаю нового пациента.
Надеюсь, Уэнделл делает так же, потому что на наших первых сессиях мои снимки… ну, не очень лестные.
10 Будущее – еще и настоящее
Сегодня я приехала раньше назначенного времени, так что сижу в приемной Уэнделла и смотрю по сторонам. Оказывается, его приемная такая же необычная, как и кабинет. Вместо строгой, профессиональной обстановки и традиционных картин – обрамленный постер с какой-то абстракцией; эстетика а-ля «бабушкин интерьер». Здесь даже пахнет затхло, для полного соответствия. В углу стоят два потертых стула с высокими спинками, обитыми старой парчовой тканью в «турецкий огурец», столь же потертый коврик лежит поверх огромного бежевого ковра, тянущегося от стены до стены, и располагается комод, который венчает запятнанная кружевная скатерть с салфетками – салфетками! – и ваза с искусственными цветами. На полу между креслами стоит генератор белого шума, а перед ним, вместо кофейного столика, – нечто, что, по всей видимости, было тумбочкой в гостиной, которая сейчас поцарапана, ободрана и завалена кучей журналов. Бумажная складная ширма скрывает эту зону отдыха от пути, ведущего в офис Уэнделла и из него, так что пациенты сохраняют некоторую конфиденциальность, но через отверстия между шарнирами все просто замечательно видно.
Я знаю, что пришла сюда не ради декора, но невольно задаюсь вопросом: может ли человек с настолько плохим вкусом мне помочь? Может, это отражение его суждений? (Одна знакомая рассказывала мне, что была до глубины души расстроена криво висящими фотографиями в кабинете своего психотерапевта; почему бы ей просто не поправить эти проклятые штуковины?)
Минут пять я смотрю на обложки журналов – Time, Parents, Vanity Fair, – а потом дверь в кабинет открывается и оттуда выходит женщина. Она проскальзывает за ширмой, но за ту секунду, что я ее вижу, я замечаю, что она красива, хорошо одета – и в слезах. Потом в приемной появляется Уэнделл.
– Вернусь через минуту, – говорит он и уходит в холл, скорее всего, чтобы посетить туалет.
Ожидая его возвращения, я думаю, из-за чего могла плакать та красивая женщина.
Когда Уэнделл подходит обратно, он жестом предлагает мне пройти в кабинет. Больше никакой заминки у двери: я иду прямо к месту А у окна, он – к месту С у столика, и я перехожу сразу к делу.
– Бла-бла-бла, – начинаю я. – И представляете, Бойфренд сказал: «Бла-бла-бла-бла-бла», а я ответила: «Ну, бла-бла-бла?»
По крайней мере, я уверена, что для Уэнделла все звучит именно так. Все это продолжается на протяжении какого-то времени. В этот раз я принесла несколько страниц с заметками – пронумерованных, снабженных комментариями, разложенных в хронологическом порядке. Примерно так же я организовывала интервью – еще когда была журналистом, до того как стала психотерапевтом.
Я признаюсь Уэнделлу, что сдалась и позвонила Бойфренду и что он не ответил, перенаправив звонок на автоответчик. Униженная, я целый день ждала, что он перезвонит, зная, что меньше всего на свете хочется разговаривать с человеком, с которым ты только что расстался, но который все еще хочет, чтобы вы были вместе.
– Вы, наверное, спросите, чего я хотела добиться, позвонив ему, – говорю я, предупреждая следующий вопрос.
Уэнделл поднимает правую бровь – только одну, замечаю я и любопытствую, как ему это удается, – но я продолжаю еще до того, как он успевает ответить. Мне хотелось услышать, что Бойфренд скучает и признает, что все это одна большая ошибка. Но, кроме этой «маловероятной возможности» (эта фраза предназначена для Уэнделла, чтобы он знал, что я сознаю свои мотивы – хотя я на самом деле верила, что Бойфренд может сказать мне, что он передумал), я хотела понять, как мы пришли к этому. Если бы я смогла получить ответ на этот вопрос, я перестала бы все время думать о расставании, до тошноты гоняя мысли по бесконечному кругу замешательства. Вот почему, говорю я Уэнделлу, я подвергла Бойфренда многочасовому допросу – то есть разговору, – в котором пыталась разгадать тайну Чертовщины, Которая Привела к Этому Внезапному Разрыву.
– И тогда он сказал: «Наличие ребенка ограничивает и раздражает», – продолжаю я, зачитывая дословные цитаты. – «У нас никогда не будет достаточного количества времени наедине друг с другом. И я понял, что не важно, насколько ребенок классный, – я никогда не захочу жить с любыми детьми, кроме своих». Тогда я сказала: «Почему ты скрывал все это от меня?» А он сказал: «Потому что мне нужно было самому понять это, прежде чем что-либо сказать». И тогда я сказала: «Но разве ты не думал, что нам стоит это обсудить?» И он сказал: «А что тут обсуждать? Здесь всего две переменные. Либо я могу жить с ребенком, либо нет – и только я могу понять это». И в тот момент, когда у меня уже чуть было мозг не взорвался, он сказал: «Я правда люблю тебя, но любовь не побеждает все».
– Две переменные! – восклицаю я, подбрасывая бумаги в воздух. Я поставила звездочку рядом с этой фразой в своих заметках. – Две! Переменные! Если все настолько переменно, зачем вообще втягивать себя в такую ситуацию?
Я невыносима и знаю это, но не могу остановиться.
В течение следующих нескольких недель я прихожу в офис Уэнделла и сообщаю подробности своих однотипных разговоров с Бойфрендом (признаюсь, их было еще несколько), в то время как Уэнделл пытается вставить что-то полезное (что он не уверен в пользе этой затеи; что это все похоже на мазохизм; что я рассказываю одну и ту же историю, надеясь на иной результат). Уэнделл говорит, что я хочу, чтобы Бойфренд объяснился – и он на самом деле объясняется, – но после этого я начинаю все сначала, потому что он произносит совсем не то, что я хочу услышать. Уэнделл считает, что раз я делала такие подробные заметки во время наших телефонных разговоров, то, вероятно, не имела возможности слушать Бойфренда. А если моя цель – попытаться понять его точку зрения, это будет проблематично, когда фактически я пытаюсь доказать свою точку зрения вместо серьезного взаимодействия. И, добавляет он, я делаю то же самое с ним во время наших сессий.
Я соглашаюсь и снова начинаю поливать грязью Бойфренда.
На одной сессии я с мучительной детальностью описываю, как собирала вещи Бойфренда, чтобы вернуть. На другой постоянно спрашиваю, кто сошел с ума – он или я? (Уэнделл говорит, что никто, и это приводит меня в бешенство.) Еще одна посвящена анализу того, что за человек мог вообще сказать: «Я хочу жениться на тебе, но не на тебе с ребенком». Для этого я подготовила инфографику по гендерным различиям. Мужчина может сказать что-то вроде «я не хочу смотреть на Лего» или «я никогда не полюблю чужого ребенка» – и спокойно жить дальше. Женщину распнут за подобные фразы.
Я также приправляю наши сессии докладами о том, что обнаруживаю во время своих ежедневных блужданий в интернете: что Бойфренд уже наверняка встречается с другой женщиной (основано на сложных, придуманных мной историях, завязанных на лайках в социальных сетях), что его жизнь без меня проходит чудесно (судя по твитам из командировки), что он совершенно не переживает о нашем разрыве (потому что постит фотографии салатов из ресторанов – как он вообще может есть?). Я убеждена, что Бойфренд быстро перешел на новый этап жизни без каких-либо травм и потрясений. Это рефрен, который я признаю из историй разводящихся пар, с которыми работала, когда один человек страдает, а другой кажется совершенно спокойным, даже счастливым и готовым двигаться дальше.
Я говорю Уэнделлу, что, как и эти пациенты, хочу видеть признаки шрамов, оставшихся после меня. Я хочу знать, в конце концов, что я хоть что-то значила.
– Значила ли я хоть что-нибудь? – спрашиваю я снова и снова.
Я продолжаю в том же духе, выставляя напоказ свое безумство, пока в один прекрасный момент Уэнделл не пинает меня.
Однажды утром, пока я снова бухчу что-то про Бойфренда, Уэнделл встает с дивана, подходит ко мне и слегка пинает мою ступню своей длинной ногой. Затем, улыбаясь, возвращается на свое место.
– Ой! – рефлекторно реагирую я, хотя больно не было. Я ошарашена. – Что это было?
– Ну, вы выглядите так, будто упиваетесь страданиями, так что я подумал, что могу помочь вам пострадать еще.
– Есть разница между болью и страданием, – говорит Уэнделл. – Вы чувствуете боль – все время от времени ее чувствуют, – но вам не обязательно столько страдать. Вы не выбираете боль, вы выбираете страдания.
Он продолжает объяснять, что все мое упорство, все бесконечные размышления и спекуляции о жизни Бойфренда добавляют боли и заставляют меня страдать. Поэтому, предполагает он, если я так сильно цепляюсь за страдание, я должна что-то из него извлекать. Это явно служит какой-то моей цели.
Я думаю о том, почему с таким остервенением слежу за Бойфрендом в сети – несмотря на то, как плохо себя чувствую из-за этого. Может, это способ оставаться с ним на связи, даже если она односторонняя? Может быть. Это способ притупить чувства, чтобы не думать о реальности произошедшего? Возможно. Или способ избежать того, чему я должна уделять внимание, но не хочу?
Ранее Уэнделл обратил внимание, что я держалась на расстоянии от Бойфренда – игнорируя подсказки, которые сделали бы его откровение менее шокирующим, – потому что, если бы я спросила о них, Бойфренд мог сказать что-то, что я не хотела слышать. Я говорила себе: нет ничего плохого в том, что его раздражают дети в общественных местах; что он с радостью занимается бытовыми делами вместо того, чтобы посмотреть, как мой сын играет в баскетбол; что он говорил, будто его бывшую жену гораздо больше, чем его самого, занимал вопрос зачатия, когда у них были проблемы; что его брат и невестка останавливались в гостинице, приезжая в гости, потому что Бойфренд не хотел суматохи в доме, вызванной тремя их детьми. Ни он, ни я никогда не обсуждали напрямую свое отношение к детям. Я сама сделала вывод: он отец, он любит детей.
Мы с Уэнделлом обсудили тот факт, что я притворялась, будто не замечаю некоторых моментов из истории Бойфренда, фраз и сигналов тела, чтобы не услышать звоночек в голове, который давно бы уже трезвонил, обрати я на них внимание. А теперь Уэнделл спрашивает, не сохраняю ли я ту же дистанцию с ним, закопавшись в свои заметки и усевшись так далеко от него. Это тоже помогает защитить себя?
Я снова изучаю схему расположения диванов.
– Разве большинство людей садится не сюда? – спрашиваю я со своего сиденья у окна. Я уверена, что никто не садится на диван рядом с ним, так что место D отпадает. А место В, наискосок от него, – кто сядет так близко к психотерапевту? Опять же, никто.
– Некоторые садятся, – говорит Уэнделл.
– Правда? Куда?
– Куда-то сюда, – Уэнделл проводит рукой между мной и местом В.
Внезапно расстояние между нами кажется огромным, но я все еще не могу поверить, что люди садятся так близко к Уэнделлу.
– То есть некоторые приходят в ваш кабинет в первый раз, оглядывают комнату и плюхаются прямо здесь, даже несмотря на то, что вы сидите в паре сантиметров?
– Да, именно так, – просто говорит Уэнделл.
Я думаю о коробке с салфетками, которую он подбросил мне: она стояла на столике около места В, потому что – доходит до меня – большинство людей обычно садятся там.
– Ох, – говорю я. – Мне пересесть?
Уэнделл пожимает плечами.
– На ваше усмотрение.
Я поднимаюсь и пересаживаюсь. Мне приходится сдвинуть ноги чуть в сторону, чтобы не касаться его. Я замечаю намек на седину в корнях его темных волос. Обручальное кольцо на пальце. Я вспоминаю, как просила у Каролины порекомендовать мне – моему «другу» – женатого мужчину-специалиста, но теперь, когда я здесь, это не имеет значения. Он не встал на мою сторону и не объявил Бойфренда социопатом.
Я поправляю подушки и стараюсь устроиться поудобнее. Ощущается странно. Я заглядываю в свои заметки, но сейчас мне не хочется их читать. Я чувствую себя беззащитной, и мне хочется бежать.
– Я не могу здесь сидеть, – говорю я.
Уэнделл спрашивает почему, и я отвечаю, что не знаю.
– Незнание – это неплохо для начала, – говорит он и это звучит как откровение. Я трачу столько времени, пытаясь понять происходящее, гоняясь за ответом, но ведь можно и не знать.
Мы оба молчим какое-то время, потом я встаю и двигаюсь подальше, примерно на середину между местами А и В. И снова могу дышать.
Я думаю о фразе писательницы Фланнери О’Коннор: «Истина не меняется в зависимости от нашей способности ее переварить». От чего я защищаюсь? Что не хочу показывать Уэнделлу?
Все это время я говорила Уэнделлу, что не желаю Бойфренду зла (например, чтобы его следующая девушка застала его врасплох) – я просто хочу вернуть наши отношения. Я с честным лицом говорила, что не хочу мести, что не ненавижу Бойфренда, что я не зла, лишь растеряна.
Уэнделл слушал и отвечал, что он на это не купится. Очевидно, я хотела возмездия, я ненавидела Бойфренда, я была в бешенстве.
– Ваши чувства не обязаны совпадать с вашим видением того, какими они должны быть, – объяснял он. – Они будут, несмотря ни на что, так что вы можете с тем же успехом радоваться им, потому что они содержат важные подсказки.
Сколько раз я говорила нечто подобное своим пациентам? Но сейчас я чувствую себя так, словно слышу это в первый раз. Не суди свои чувства, обращай на них внимание. Используй их как карту. Не бойся правды.
Мои друзья, моя семья – все они, как и я, не могли признать возможность того, что Бойфренд был просто обычным парнем, запутавшимся в противоречиях, а не лжецом и эгоистом. Они также не думали, что даже если Бойфренд сказал себе, что не может жить с ребенком, есть вероятность, что он не мог жить и со мной. Может быть, подсознательно, я слишком сильно напоминала ему родителей, или бывшую жену, или женщину, которую он упоминал лишь однажды – которая разбила ему сердце, когда он еще был в аспирантуре. «Я решил, что никогда не допущу чего-то подобного снова», – сказал он в начале наших отношений. Я попросила его рассказать какие-то детали, но он не захотел продолжать, а я, вступив в сговор с его избеганием, не стала настаивать.
Уэнделл, однако, просил меня рассмотреть то, как мы избегали друг друга, прячась за романтикой, шутками и планами на будущее. И теперь мне больно, и я сама накручиваю себя на страдания – а мой психотерапевт в буквальном смысле пытается впинать в меня здравый смысл.
Он меняет положение ног – с правой поверх левой на левую поверх правой; некоторые психотерапевты делают так, когда ноги начинают уставать. Сегодня его полосатые носки сочетаются с полосами на кардигане, как будто они продавались комплектом. Он указывает подбородком на бумаги в моих руках.
– Не думаю, что вы найдете ответы в этих заметках.
Вы горюете о чем-то большем: эта фраза всплывает у меня в голове подобно песне, от слов которой невозможно избавиться.
– Но если я не буду говорить о разрыве, мне нечего будет сказать, – настаиваю я.
Уэнделл качает головой.
– Вы найдете много всего важного.
Я слышу его и одновременно не слышу. Всякий раз, когда Уэнделл подразумевает, что дело не просто в Бойфренде, я отталкиваю его, так что подозреваю, что он прав. То, от чего мы активнее всего защищаемся, чаще всего является как раз тем, к чему стоит внимательнее присмотреться.
– Может быть, – говорю я. Но мне неймется. – Кажется, нужно перестать пересказывать вам слова Бойфренда. Но еще кое-что? Это последнее, правда.
Он вздыхает и делает паузу, колеблясь, словно хочет сказать что-то, но не делает этого. Затем соглашается. Он достаточно на меня надавил, и он знает об этом. Разговоры о Бойфренде – мой наркотик; Уэнделл лишил меня этого на слишком долгую минуту, и сейчас мне нужна еще одна доза.
Я начинаю рыться в листах, но не могу вспомнить, где остановилась. Я просматриваю заметки, чтобы понять, какой из цитат я собиралась поделиться на сей раз, но там так много сносок и заметок, и вдобавок я чувствую на себе взгляд Уэнделла. Интересно, что бы я подумала, если бы кто-то вроде меня сидел в моем кабинете. Хотя, вообще-то, я знаю. Я бы думала о заламинированной фразе, которую мой офисный приятель разместил среди рабочих файлов: «Мы постоянно делаем выбор: избегать боли или терпеть и, следовательно, изменять ее».
Я откладываю свои заметки.
– Ладно, – говорю я Уэнделлу. – Что вы хотели сказать?
Он объясняет, что моя боль ощущается так, словно она не в настоящем, а одновременно в прошлом и в будущем. Психотерапевты много говорят о том, как прошлое передает информацию в настоящее – как наши истории влияют на образ мыслей, чувства и поведение, как в какой-то момент мы должны забыть о несбыточной мечте создать лучшее прошлое. Если не принять идею того, что прошлое не изменить – как бы мы ни пытались заставить своих родителей, братьев и сестер или партнеров исправить случившееся годами ранее, – оно будет держать нас на коротком поводке. Изменить свое отношение к прошлому – база психотерапии. Но мы гораздо меньше говорим о том, как наше отношение к будущему влияет на настоящее. Оно может быть такой же мощной преградой на пути перемен, как и отношение к прошлому.
На самом деле я потеряла больше, чем просто свои нынешние отношения. Я потеряла свои отношения в будущем. Нам свойственно думать, что будущее случится когда-то потом, но мысленно мы проецируем его каждый день. Когда в настоящем все рушится, вслед за ним в пыль превращается и будущее, построенное на его реалиях. А отсутствие будущего – благодатная почва для любых сюжетных поворотов. Но если тратить свое настоящее на восстановление прошлого или попытки контролировать будущее, мы останемся привязанными к одному месту, пребывая в вечном сожалении. Выслеживая Бойфренда через интернет, я смотрела, как развивается его будущее, а сама в это время застыла в прошлом. Но если я живу настоящим, я должна принять утрату своего будущего.
Могу ли я перетерпеть боль – или все-таки хочу страдать?
– Итак, – говорю я Уэнделлу, – полагаю, я должна перестать допрашивать Бойфренда и следить за ним.
Он снисходительно улыбается – как улыбнулся бы курильщице, которая заявила, что немедленно бросает, но не осознает, насколько амбициозно это звучит.
– Или хотя бы попытаться, – говорю я, отступая. – Проводить меньше времени в его будущем, больше в своем настоящем.
Уэнделл кивает, затем дважды хлопает себя по ногам и встает. Сессия закончена, но я хочу остаться.
Мне кажется, мы только начали.
11 Прощай, Голливуд
В первую неделю работы на NBC меня назначили на два телесериала, которые вот-вот должны были выйти: медицинскую драму «Скорая помощь» и ситком «Друзья». Эти сериалы катапультировали канал на первое место и обеспечили тотальное доминирование вечернего эфира в четверг на годы вперед.
Выход был запланирован на осень, а цикл работы разворачивался куда быстрее, чем в мире кино. За нескольких месяцев были наняты актеры и команда, выстроены декорации, и работа началась. Я находилась в том самом кабинете, где Дженнифер Энистон и Кортни Кокс прослушивались на главные роли в «Друзьях». Я вклинилась, когда решался вопрос о смерти героини Джулианны Маргулис в конце первого эпизода «Скорой помощи», и я была на съемочной площадке с Джорджем Клуни до того, как кто-либо узнал, насколько известным его сделает этот сериал.
Воодушевленная новой работой, я стала меньше смотреть телевизор дома. У меня появились истории, которыми я была увлечена, и коллеги, которые были в той же степени увлечены ими, и я снова чувствовала связь со своей работой.
Однажды сценаристы «Скорой помощи» позвонили в местное отделение неотложки с медицинским вопросом, и случилось так, что на звонок ответил врач по имени Джо. Это было похоже на кисмет[6]: помимо медицинского образования, у него также была степень магистра в области кинопроизводства.
Когда сценаристы узнали, каким бэкграундом обладал Джо, они начали регулярно с ним советоваться. Вскоре его наняли техническим консультантом: он должен был оценивать тщательно срежиссированные травматичные сцены, обучать актеров корректному произношению медицинских терминов и максимально достоверному отображению разнообразных процедур (выпустить воздух из шприца, протереть кожу спиртом перед внутривенной инъекцией, держать шею пациента в определенном положении при введении дыхательной трубки). Конечно, иногда мы намеренно забывали о хирургических масках: все хотели видеть лицо Джорджа Клуни.
На съемках Джо был примером компетентности и хладнокровия – тех самых качеств, которые помогали ему в условиях работы в настоящем отделении скорой помощи. Во время перерывов он иногда рассказывал о своих пациентах, и я не хотела упустить ни единой детали. Какие сюжеты, думала я. Однажды я спросила Джо, можно ли мне как-нибудь навестить его во время смены. «Чтобы узнать побольше». И он оформил мне пропуск в свое отделение, где я ходила за ним по пятам в позаимствованной мешковатой форме.
– Пьяные водители и подстреленные бандиты не поступят раньше наступления темноты, – объяснил он, когда я пришла в субботний полдень, а вокруг не происходило почти ничего. Но вскоре мы уже носились из палаты в палату, от пациента к пациенту, и я старалась правильно записывать в карты имена и диагнозы. За час я успела увидеть, как Джо делает люмбальную пункцию, рассматривает изнутри матку беременной женщины и держит за руку тридцатидевятилетнюю мать близнецов, только что узнавшую, что ее мигрень – на самом деле опухоль мозга.
– Нет, понимаете, мне просто нужны еще таблетки от мигрени, – таким был ее единственный ответ, отрицание, которое вскоре превратилось в поток слез. Ее муж извинился и выбежал в туалет, но его вырвало по дороге. На секунду я представила эту драму в телевизоре – укоренившийся инстинкт, когда работаешь с таким количеством историй, – но я чувствовала, что поиск нового материала для сериала не был единственной причиной, по которой я пришла сюда. И Джо тоже это чувствовал. Неделя сменяла другую, а я все возвращалась в отделение.
– Кажется, ты больше интересуешься тем, что мы здесь делаем, чем своей непосредственной работой, – сказал Джо как-то вечером. Прошло уже несколько месяцев с моего первого посещения; мы вместе смотрели на рентгеновский снимок, и он показывал мне место перелома. Потом, будто вспомнив что-то давно обдуманное, он добавил: – Знаешь, ты ведь все еще можешь пойти в медицинский институт.
– Медицинский институт? – переспросила я и посмотрела на него так, словно он рехнулся. Мне было двадцать восемь, а моей специализацией в колледже были языки. Правда, в старших классах я участвовала в математических и естественно-научных олимпиадах, но за пределами школы меня всегда тянуло к словам и историям. Сейчас я занимала отличную должность в NBC и чувствовала себя невероятно удачливой, потому что ее получила.
Несмотря на это, я все время убегала со съемок в отделение неотложной помощи – не только к Джо, но и к другим докторам, которые позволяли мне тенью следовать за ними. Я знала, что мое пребывание здесь от исследования перешло в разряд хобби – и что с того? Разве не у всех есть свои хобби? Ну ладно, возможно, то, что я проводила вечера в неотложке, стало моим эквивалентом навязчивого ежевечернего просмотра телевизора во время работы в киноиндустрии. Но снова – что с того? Конечно, я не собиралась все бросить и начать с нуля в медицинском институте. Кроме того, мне не было скучно на работе в NBC. Я просто чувствовала, будто что-то настоящее, важное и значительное происходит в отделении – что-то, что не может случиться в аналогичных условиях на телевидении. И мое хобби заполняло эти пустоты – собственно, для того и нужны хобби.
Но иногда я стояла в отделении и, делая короткий перерыв, сознавала, что ощущаю себя здесь как дома. И все сильнее интересовалась, не это ли почувствовал Джо.
Вскоре мое хобби привело меня из отделения скорой помощи в нейрохирургию. Пациентом, на которого меня пригласили взглянуть, оказался мужчина средних лет с опухолью гипофиза, которая была, скорее всего, доброкачественной, но ее нужно было удалить, чтобы она не давила на черепно-мозговые нервы. В спецодежде, маске и кроссовках – для удобства – я стояла над мистером Санчесом, заглядывая внутрь его черепа. Распилив кость (используя для этого инструмент, похожий на тот, что вы можете купить в хозяйственном магазине), хирург и его команда методически, слой за слоем, раздвигали ткани, пока не достигли мозга.
Он был передо мной, похожий на картинки, которые я рассматривала в книге накануне ночью, но когда я стояла там, и мой собственный мозг был в нескольких дюймах от мозга мистера Санчеса, я чувствовала благоговейный трепет. Все, что делает человека самим собой – его личность, воспоминания, опыт, его привязанности и отвращения, любовь и потери, знания и способности, – хранится в этом полуторакилограммовом органе. Можно потерять ногу или почку, но все еще остаться собой. Но если теряется часть мозга – в буквальном смысле, теряется рассудок! – то кто вы тогда?
У меня мелькнула извращенная мысль: «Я залезла человеку в голову!» Голливуд постоянно пытался проникнуть людям в мозг с помощью маркетинговых исследований и рекламы, но я в самом деле была там, в черепе этого человека. Мне было любопытно, достигали ли эти лозунги, которыми канал бомбардировал зрителей, своей цели: Телевидение, которое вы должны смотреть![7]
Когда на заднем плане тихо заиграла классическая музыка, а два нейрохирурга принялись ковырять опухоль, аккуратно складывая кусочки на металлический поднос, я подумала об оживленных голливудских декорациях со всей своей суматохой и командами. «Давайте, народ! Поехали!» – и вот актера несут по коридору на носилках, красная жидкость заливает его одежду, но потом кто-то слишком рано сворачивает за угол. «Черт! – кричит режиссер. – Господи, люди, давайте в этот раз сделаем все правильно!» Дюжие мужчины с камерами и освещением носятся вокруг, восстанавливая сцену. Я вижу, как продюсер глотает таблетку – Тайленол, Ксанакс или Прозак?[8] – и запивает ее водой с газом. «У меня случится сердечный приступ, если мы не доснимем сегодня эту сцену, – вздыхает он. – Клянусь, я сдохну».
В операционной с мистером Санчесом никто не кричал, никто не чувствовал подступления сердечного приступа. Даже сам мистер Санчес с распиленной головой казался менее нервничающим, чем люди на съемочной площадке. Пока хирургическая команда работала, слова «пожалуйста» и «спасибо» добавлялись к каждой просьбе, и если бы не струйка крови, непрерывно капающая из головы мужчины в мешок около моей ноги, я могла бы решить, что это все сон. И в какой-то степени так оно и было. Ситуация казалась одновременно более реальной, чем все, что я когда-либо видела, и в то же время – какой-то параллельной вселенной, ужасно далекой от всего, что я считала своей реальной жизнью в Голливуде, месте, которое я не собирался покидать.
Но через несколько месяцев все изменилось.
В очередное воскресенье я иду за доктором по больнице. Мы подходим к шторке, и он говорит: «Сорок пять лет, осложнения диабета». Затем раздвигает ее, и я вижу женщину, лежащую на столе под простыней. И тут мне в ноздри ударяет запах – настолько отвратительный, что я боюсь упасть в обморок. Я не могу опознать этот запах, потому что никогда в жизни не нюхала ничего столь тошнотворного. Она обкакалась? Ее стошнило?
Я не вижу никаких признаков ни того ни другого, но запах становится настолько сильным, что я чувствую, как обед, съеденный час назад, поднимается обратно к горлу, и я с усилием сглатываю. Я надеюсь, она не видит, как я побледнела, и не чувствует тошноту, охватившую мои внутренности. Может быть, это из соседней палаты. Может быть, если я отойду на другую сторону комнаты, будет не так сильно пахнуть. Я сосредоточиваюсь на лице женщины: слезящиеся глаза, красные щеки, челка на потном лбу. Врач задает ей вопросы, а я не могу понять, как она может дышать. Все это время я пыталась задержать дыхание, но в какой-то момент мне приходится сделать вдох.
Ладно, говорю я себе. Пора.
Я делаю глоток воздуха, и запах охватывает мое тело. Опираясь на стену, я смотрю, как доктор приподнимает простыню, прикрывающую ноги женщины. Вот только у нее нет нижней части ног. Диабет вызвал тяжелейшее воспаление, и все, что осталось – это две культи выше колен. На одной из них развилась гангрена, и я не могу решить, что хуже: вид этой инфицированной культи, черной и заплесневевшей, как сгнивший плод, или исходящий от нее запах.
Места мало, и я перемещаюсь ближе к голове женщины – так далеко от гангрены, насколько это возможно. И тогда случается нечто экстраординарное. Женщина берет меня за руку и улыбается, словно говоря: «Я знаю, на это трудно смотреть, но не переживай из-за этого». Хотя это я должна держать ее за руку, ведь это у нее нет ног, зато есть жуткая инфекция, но она успокаивает меня. И хотя это может стать отличной сюжетной линией в «Скорой помощи», в эту миллисекунду я понимаю, что недолго еще буду работать над этим сериалом.
Я иду в медицинский институт.
Может быть, это импульсивный повод для смены карьеры – факт, что прекрасная незнакомка с почерневшей культей подержала меня за руку, пока я пыталась не блевануть, – но что-то происходит внутри меня, что-то, что я еще не испытывала ни на одной из своих работ в Голливуде. Я по-прежнему люблю телевидение, но есть что-то такое в настоящих историях, которые я пережила, что соблазняет меня и делает воображаемые образы менее значимыми. «Друзья» – история о сплоченности, но она фальшивая. «Скорая помощь» – о жизни и смерти, но это фикция. Вместо того чтобы переносить истории в свой мир на телевидении, я хочу, чтобы реальная жизнь – реальные люди – были моим миром.
В тот день, когда я еду домой из больницы, я не знаю, как или когда это может случиться, какое направление в медицинском институте я выберу, если вообще выберу. Я не знаю, сколько занятий мне еще придется пройти, чтобы соответствовать требованиям и подготовиться к экзаменам, и где искать эти курсы, потому что колледж я закончила шесть лет назад.
Но я принимаю решение: каким-то образом это должно стать реальностью, а я не могу этого достичь, пока работаю по шестьдесят часов в неделю на Телевидении, Которое Вы Должны Смотреть.
12 Добро пожаловать в Голландию
После того как Джулия узнала, что умирает, ее лучшая подруга Дара, желая как-то помочь, отправила ей известное эссе «Добро пожаловать в Голландию», написанное Эмили Перл Кингсли – матерью ребенка с синдромом Дауна. Оно посвящено тому, как справиться с тем фактом, что вся ваша жизнь вдруг переворачивается с ног на голову.
Когда вы ждете ребенка, вы как будто планируете чудесный отпуск – в Италии. Покупаете кипу путеводителей и строите великолепные планы. Колизей. «Давид» Микеланджело. Гондолы в Венеции. Может быть, даже учите парочку расхожих фраз на итальянском. Это очень захватывающе.
После месяцев волнительного ожидания этот день наконец наступает. Вы пакуете чемоданы и уезжаете. Несколько часов спустя самолет садится. Входит стюардесса и говорит: «Добро пожаловать в Голландию!»
«В Голландию?!? – спрашиваете вы. – Какую еще Голландию? Я собиралась в Италию! Я должна быть в Италии. Я всю жизнь мечтала об Италии».
Но план полетов изменился. Самолет приземлился в Голландии, и вам придется остаться тут.
Важно то, что вас не просто завезли в ужасное, мерзкое, грязное место, полное смерти и болезней. Это просто другое место.
Так что придется выйти и купить новые путеводители. И выучить новый язык. И встретить новых людей, которых вы бы иначе не встретили.
Это просто другое место. Ритм жизни здесь медленнее, чем в Италии, тут менее шумно, чем в Италии. Но пожив здесь какое-то время и переведя дух, вы оглядываетесь по сторонам… и начинаете замечать, что в Голландии есть ветряные мельницы. В Голландии есть тюльпаны. В Голландии есть картины Рембрандта.
Но все ваши знакомые ездят в Италию… и все они хвастаются, как там чудесно. И до конца своей жизни вы будете говорить: «Да, туда я и должна была поехать. Это я и планировала».
И эта боль никогда, никогда, никогда не пройдет… потому что потеря такой мечты – это очень значительная потеря. Но если вы проведете остаток жизни, оплакивая тот факт, что вы не попали в Италию, вы никогда не насладитесь всем тем особенным и прекрасным, что есть… в Голландии[9].
Это эссе привело Джулию в ярость. В ее раке уж точно не было ничего милого или особенного. Но Дара, сын которой страдал от тяжелой формы аутизма, сказала, что Джулия просто не просекла фишку. Она согласилась, что прогноз Джулии ужасен и несправедлив и что он полностью отменяет все, что должно было произойти в ее судьбе. Но она не хотела, чтобы Джулия провела остаток жизни – возможно, еще целых десять лет, – упуская все то, что она может иметь, будучи живой. Семья. Работа. Все это есть в ее собственной версии Голландии.
На что Джулия подумала: «Черт бы тебя побрал».
И, кроме этого: «Ты права».
Потому что Дара это знала. Я уже слышала о ней от Джулии – как слышу обо всех близких друзьях моих пациентов. От Джулии я знала, что когда Дара начинала терять рассудок – из-за бесконечно повторяющегося поведения сына, его истерик, его неспособности вести беседу или самостоятельно есть в четыре года, его потребности в еженедельной психотерапии, которая захватила ее жизнь, но при этом, казалось, не помогала, – она в отчаянии звонила Джулии.
– Стыдно признаться, – сказала Джулия, объяснив, почему она так рассердилась на Дару, – но когда я увидела, через что она проходит со своим сыном, моим самым большим кошмаром стало оказаться в такой же ситуации. Я очень ее люблю, но чувствую, что вся надежда на ту жизнь, о которой она мечтала, умерла.
– Примерно как вы себя сейчас и ощущаете, – сказала я.
Джулия кивнула.
Она рассказала мне, что Дара довольно долго говорила, что не подписывалась на это, и перечисляла все необратимые изменения, пришедшие в ее жизнь. Им с мужем уже не светят постоянные обнимашки, общий автомобиль и возможность спокойно почитать друг другу перед сном. Их ребенок уже не вырастет в независимого взрослого. По словам Джулии, Дара смотрела на мужа и думала, что он прекрасный отец, но не могла отделаться от мысли, что он был бы еще более замечательным отцом ребенку, с которым мог бы полноценно взаимодействовать. Она не могла избавиться от грусти, накатывающей в моменты, когда она позволяла себе думать обо всех тех вещах, которые они никогда не переживут со своим ребенком.
Дара чувствовала себя эгоистичной и ощущала вину за эту грусть, потому что больше всего на свете желала, чтобы жизнь ее сына была легче – для его же блага, чтобы он мог жить полноценной жизнью, включающей в себя друзей, партнеров и интересную работу. Она чувствовала себя окутанной болью и завистью одновременно, когда видела других мам, играющих со своими малышами в парке, потому что знала, что в такой ситуации ее сын, скорее всего, потеряет контроль над собой и их попросят уйти. Что ее сына по-прежнему будут избегать, когда он вырастет, да и ее тоже. Взгляды других мам, с обычными детьми и обычными проблемами, только закрепляли это чувство изоляции.
Дара часто звонила Джулии в тот год, и каждый звонок был безнадежнее предыдущего. Выжатые материально, эмоционально и физически, они с мужем решили не заводить еще одного ребенка: откуда брать время и ресурсы на него; и что, если у него также будет аутизм? Она и так не работала, потому что надо было ухаживать за сыном, а ее муж пропадал на двух работах. И она не знала, как все это выдержать, пока однажды не прочла «Добро пожаловать в Голландию» и не осознала: можно не просто смириться с этой чуждой страной, но и найти в ней радость. Приятные события по-прежнему могут происходить, если она им это позволит.
В Голландии Дара нашла друзей, которые понимали, что происходит в ее семье. Нашла способ общаться с сыном, радоваться ему и любить его таким, какой он есть, не фокусируясь на том, кем он не был. Она перестала зацикливаться на том, что делала во время беременности и чего не знала о тунце, сое и химикатах в косметике, которые могли навредить развивающемуся плоду. Она нашла сыну сиделку, чтобы успевать также заботиться о себе, работать на частичной занятости и время от времени полноценно отдыхать. Они с мужем снова вспомнили друг о друге, своих отношениях и браке, прошедшем испытания, которые они не выбирали. Вместо того чтобы все путешествие просидеть в комнате отеля, они решили выйти наружу и изучить страну.
Теперь Дара предлагала Джулии сделать то же самое: взглянуть на тюльпаны и на картины Рембрандта. И когда гнев Джулии по поводу «Добро пожаловать в Голландию» утих, она задумалась: всегда найдется кто-то, чья жизнь кажется более или менее завидной. Хотела бы Джулия сейчас поменяться местами с Дарой? Первая инстинктивная реакция: да, и секунды бы не думала. Вторая – может и нет. Она прокручивала в голове разные сценарии. Если бы можно было прожить десять лет со здоровым ребенком, решилась бы она променять их на более долгую жизнь с ребенком, страдающим тяжелыми нарушениями развития? Она чувствовала себя ужасно из-за этих мыслей, но и не думать об этом не могла.
– Как думаете, я плохой человек? – спрашивала она. Я уверяла ее, что каждый, кто приходит на психотерапию, переживает, что его мысли или чувства могут быть не слишком «нормальными» или «хорошими». И при этом именно честность по отношению к себе помогает привнести смысл в жизнь, со всеми ее нюансами и сложностями. Подавите эти мысли – и вы наверняка начнете поступать «плохо». Признайте их – и вы начнете расти.
Джулия начала понимать, что все мы в той или иной степени находимся в Голландии, потому что большинство людей проживает совсем не ту жизнь, какой она была в их планах. Даже если вам повезло оказаться в Италии, вы можете столкнуться с отменой рейсов и ужасной погодой. Или ваш партнер вдруг скончается от внезапного сердечного приступа – прямо в душе, через десять минут после отличного секса в роскошном номере отеля в Риме, куда вы поехали отмечать годовщину свадьбы, как это случилось с одной моей знакомой.
Так что Джулия собиралась в Голландию. Она не знала, как долго продлится ее путешествие, но у нее была бронь на ближайшие десять лет, и она могла при необходимости изменить детали.
В то же время мы работали, пытаясь определить, чем она хочет там заниматься.
У Джулии было только одно условие:
– Пообещайте, что вы скажете мне, если я начну делать что-то безумное! Ну то есть… раз уж я умру раньше, чем мне представлялось, я же не должна быть слишком… разумной, верно? Так что если я перейду все границы, вы мне об этом скажете?
Я согласилась. Джулия всю свою жизнь была сознательной и ответственной, делала все по инструкции, и я не могла даже представить, каким будет ее «переход границ». Я решила, что если что-то и произойдет, то это будет эквивалентно поведению студента-отличника, для которого самое безумное безумие – это перебрать пива на вечеринке.
Но я забыла, что люди вытворяют все самое интересное, когда к их голове приставлен метафорический пистолет.
– Bucket list. Забавный термин, правда?[10] – сказала Джулия на одной из сессий, когда мы пытались визуализировать ее Голландию. Мне пришлось согласиться. Что мы хотим сделать до того, как отправимся на тот свет?
Часто люди задумываются о подобных списках, когда умирает кто-то близкий. Именно это случилось с Кэнди Чанг, художницей, которая в 2009 году превратила стену здания в Новом Орлеане в арт-пространство под названием «Перед тем как я умру». Через несколько дней стена была полностью исписана. Люди писали: Перед тем как я умру, я хочу пересечь линию перемены дат. Перед тем как я умру, я хочу спеть для миллионов людей. Перед тем как я умру, я хочу стать самим собой. Вскоре идея разнеслась на тысячи подобных стен по всему миру: Перед тем как я умру, я хочу наладить отношения с сестрой. Быть хорошим отцом. Прыгнуть с парашютом. Изменить чью-то жизнь.
Я не знаю, сделали ли эти люди все, что хотели, но, основываясь на том, что я вижу у себя в кабинете, у многих случаются моменты прозрения, после чего они что-то ищут в недрах своей души, пополняют списки – а потом игнорируют их. Люди склонны мечтать, ничего не делая, пока смерть остается чем-то теоретическим.
Мы думаем, что составление списков помогает отогнать сожаление; на самом деле они помогают сдержать саму смерть. В конце концов, чем они длиннее, тем больше времени, как нам кажется, остается на их выполнение. Сокращение списка оставляет крошечную вмятину на наших системах отрицания, заставляя признать отрезвляющую истину: у жизни стопроцентный уровень смертности. Каждый из нас умрет, и большинство не имеет ни малейшего представления о том, как или когда это случится. По факту, с каждой прошедшей секундой мы становимся на шаг ближе к своей неизбежной смерти. Как говорят, никто из нас не выберется отсюда живым.
Готова поспорить, сейчас вы рады, что я не ваш психотерапевт. Кто захочет размышлять о подобном? Куда легче быть смертным прокрастинатором! Многие из нас воспринимают близких людей и значимые вещи как нечто само собой разумеющееся, чтобы узнать дату дедлайна и понять, что все это время они не занимались главным проектом: своей жизнью.
Теперь Джулия оплакивает все то, что ей придется оставить вне своего списка. В отличие от пожилых людей, которые горюют о том, что оставляют после себя, Джулия страдает из-за всего того, что ей уже не светит, – из-за всех тех вех и «первых разов», которые обычно маячат где-то впереди у тридцатилетних. У Джулии был, как она выражалась «четкий последний срок» («последний» здесь выходит на первый план, говорила она), срок настолько неумолимый, что большая часть ее ожиданий никогда не сбудется.
Однажды Джулия сказала мне, что начала замечать, как часто люди в повседневных разговорах говорят о будущем. Я собираюсь похудеть. Я собираюсь начать заниматься. Мы собираемся в отпуск в этом году. Через три года я получу это повышение. Я коплю, чтобы купить дом. Мы хотим родить второго ребенка через пару лет. Я поеду на следующую встречу выпускников через пять лет.
Они планируют.
Джулии, не знающей, сколько ей еще осталось, было трудно планировать будущее. Что вы делаете, когда разница между годом и десятью огромна?
Потом случилось чудо. Экспериментальное лечение Джулии уменьшило ее опухоли: за несколько недель они почти полностью исчезли. Ее врач был настроен оптимистично – может быть, она протянет дольше, чем они думали. Может быть, эти лекарства сработают не только сейчас и не на пару лет, а на долгий срок. Было очень много «может быть». Так много, что они с Мэттом начали потихоньку становиться людьми, которые что-то планируют.
Когда Джулия составляла свой список, они с мужем говорили о ребенке. Стоит ли рожать, если Джулия может не дожить до момента, когда ее ребенок пойдет в среднюю школу – или даже в начальную, если все будет совсем плохо? Готов ли Мэтт к этому? А ребенок? Насколько честно со стороны Джулии становиться матерью в подобных обстоятельствах? Или самым правильным актом материнства со стороны Джулии будет решение не становиться матерью, даже если это окажется самой большой жертвой, которую она когда-либо приносила?
Джулия и Мэтт решили, что должны жить своей жизнью, даже перед лицом подобной неопределенности. Если они что-то и усвоили, так это то, что жизнь по своей сути является неопределенностью. Что, если Джулия будет настороже и они забудут о ребенке, потому что будут ждать рецидива рака – а его никогда не случится? Мэтт уверял Джулию, что он будет преданным отцом – вне зависимости от того, что случится с ее здоровьем. Он всегда будет рядом с их малышом.
Так они и решили. Взгляд в глаза смерти заставил их жить более полной жизнью – не в будущем, с длинным списком целей, а прямо сейчас.
Список Джулии был недлинным: они собирались родить ребенка.
И не имело значения, где они окажутся: в Италии, в Голландии или где-то еще. Они собирались запрыгнуть в самолет и проверить, куда он их забросит.
13 Как дети справляются с горем
Вскоре после разрыва я рассказала Заку, моему восьмилетнему сыну, о случившемся. Мы обедали, и я постаралась не усложнять: сказала, что Бойфренд и я приняли совместное решение (поэтическая вольность) больше не быть вместе.
Его лицо вытянулось. Он выглядел одновременно удивленным и растерянным. (Добро пожаловать в клуб, подумала я.)
– Почему? – спросил он. Я ответила, что перед свадьбой люди должны убедиться, что из них получится хорошая пара – не только на определенный момент, но и на всю оставшуюся жизнь, и несмотря на то, что мы с Бойфрендом любили друг друга, мы оба осознали (еще одна поэтическая вольность), что это не про нас и что нам обоим лучше поискать другого человека.
По сути, это было правдой – минус некоторые детали, плюс парочка измененных местоимений.
– Почему? – снова спросил Зак. – Почему из вас не получится хорошая пара?
Его лицо сморщилось. У меня что-то кольнуло в сердце.
– Ну, – протянула я, – помнишь, как ты дружил с Эшером, а потом он увлекся футболом, а ты – баскетболом?
Он кивнул.
– Вы по-прежнему друзья, но теперь вы проводите больше времени с людьми, чьи интересы схожи с вашими.
– То есть вам нравятся разные вещи?
– Да, – сказала я. Мне нравятся дети, а он Детоненавистник.
– Например?
Я вздохнула.
– Например, я хочу больше времени проводить дома, а он хочет больше путешествовать.
Ребенок и свобода взаимоисключающи. Если бы у королевы были яйца…
– Почему бы вам не договориться? Почему нельзя иногда оставаться дома, а иногда путешествовать?
Я обдумала это.
– Наверное, можно. Но это похоже на… Помнишь, как-то раз вам с Соней надо было нарисовать плакат, и она хотела добавить на него розовых бабочек, а ты – имперских штурмовиков. В итоге вы сошлись на желтых драконах – и это, конечно, было классно, но это совсем не то, что вы оба хотели. А потом ты работал с Тео, и хотя у вас были различные идеи, они оказались достаточно похожими, так что вы пошли на компромисс – но все вышло удобнее, чем с Соней.
Он смотрел в стол.
– Все должны договариваться, чтобы поладить, – сказала я. – Но если тебе приходится постоянно уступать, брак может оказаться слишком трудным. Если один из нас хочет больше путешествовать, а другой хочет больше времени проводить дома, мы оба будем сильно недовольны. Понимаешь?
– Да, – сказал он.
Мы посидели вместе еще минуту, а потом он вдруг поднял глаза и выпалил:
– А банан умирает, когда мы его едим?
– Что? – переспросила я, сбитая с толку этим нелогичным продолжением.
– Ты же знаешь, что коров убивают ради мяса, и поэтому вегетарианцы не едят мясо?
– Так что, – продолжил он, – если мы срываем банан с дерева, его мы тоже убиваем?
– Думаю, это как с волосами, – сказала я. – Волосы выпадают с головы, когда умирают, и на их месте растут новые волосы. Новые бананы растут там, где были старые.
Зак наклонился вперед на стуле.
– Но мы срываем бананы до того, как они падают, пока они еще живые. Что, если бы кто-то ВЫРЫВАЛ У ТЕБЯ ВОЛОСЫ до того, как они выпали? Так разве мы не убиваем бананы? И разве дереву не больно, когда мы их срываем?
Ох. Так Зак справлялся с новостями. Теперь он был деревом. Или бананом. В любом случае ему было больно.
– Не знаю, – сказала я. – Может быть, мы не собираемся причинять вред дереву или банану, но есть вероятность, что иногда это все равно происходит, хотя на самом деле мы этого не хотим.
Он помолчал немного. Потом спросил:
– А я еще увижусь с ним?
Я сказала ему, что едва ли.
– И мы больше не поиграем в «Гобблет»?
«Гобблет» – настольная игра, которая когда-то принадлежала детям Бойфренда, и он иногда играл в нее с Заком.
Я ответила, что нет – по крайней мере, не с Бойфрендом. Но если захочется, я поиграю вместо него.
– Может быть, – тихо сказал он. – Но он очень хорошо в нее играл.
– Он очень хорошо в нее играл, – согласилась я. – Я знаю, что это серьезные перемены, – добавила я и замолчала, потому что не могла сказать ничего, что помогло бы ему в этот момент. Ему было грустно. Я знала, что в течение следующих дней и даже месяцев мы много будем говорить, чтобы ему было проще пройти через это (плюс жизни с матерью-психотерапевтом заключается в том, что ничто не спускается на тормозах; минус – в том, что это все равно не помогает). А пока новостям придется немного помариноваться.
– Ладно, – пробурчал Зак. Потом он встал из-за стола, прошел к вазе с фруктами, взял банан, почистил его и с несколько зловещим видом вонзил в него зубы.
– Ням-ням, – проурчал он со странно радостным выражением лица. Убивал ли он свой банан? Он уничтожил его за три больших укуса и пошел в свою комнату.
Через пять минут он вернулся, неся в руках «Гобблет».
– Давай отдадим ее на благотворительность, – сказал он, оставляя коробку у двери. Потом он подошел и обнял меня. – Мне она все равно больше не нравится.
14 Гарольд и Мод
В медицинском институте моего покойника звали Гарольд. Точнее, мы с одногруппниками так назвали его, после того как параллельная группа остановилась на имени Мод для своего трупа. Мы изучали анатомию – традиционный для первого года обучения курс препарирования, и каждая из групп студентов в Стэнфорде работала с телом щедрого человека, завещавшего себя науке.
Профессор дал нам две инструкции перед тем, как мы зашли в лабораторию. Первое: представьте, что эти тела принадлежали вашим бабушкам или дедушкам, и проявите соответствующее уважение. («Разве нормальные люди режут на куски своих бабушек?» – поинтересовался один испуганный студент.) Второе: отслеживайте любые эмоции, возникающие во время того, что должно было оказаться весьма напряженным процессом.
Нам не дали никакой информации о наших покойниках – ни имен, ни возраста, ни истории болезни, ни причин смерти. Имена не разглашали в целях конфиденциальности, а остальное – чтобы мы разгадывали эту тайну сами: не «кто убийца» а «какой мотив преступления». Почему этот человек умер? Он курил? Любил красное мясо? Страдал от диабета?
За семестр я выяснила, что Гарольд перенес замену тазобедренного сустава (улика: металлические скобы), имел недостаточность митрального клапана (улика: увеличение левой стороны сердца) и страдал запорами, вероятно из-за постоянного лежания на больничной койке (улика: скопившиеся в толстой кишке фекальные массы). У него были бледно-голубые глаза, ровные желтоватые зубы, шапка седых волос и мускулистые пальцы строителя, пианиста или хирурга. Позже я узнала, что он умер от пневмонии в девяносто два – и это удивило всех, включая нашего профессора, который заявил: «У него были органы шестидесятилетнего».
У Мод же, напротив, все легкие были в опухолях, и ее ярко-розовые ногти резко контрастировали с пятнами никотина на пальцах – свидетельствами ее вредной привычки. Она была полной противоположностью Гарольда: ее тело состарилось преждевременно, а органы выглядели так, будто принадлежали кому-то гораздо старше ее лет. Однажды Банда Мод (так мы называли ту лабораторную группу) вырезала ее сердце. Одна из студенток бережно вынула его и передала другой для исследования, но оно выскользнуло из перчаток, тяжело упало на пол и развалилось на части. Мы все ахнули – разбитое сердце. Как легко, подумала я, разбить чье-то сердце, даже когда ты очень стараешься этого не допустить.
Нам велели отслеживать свои эмоции, но гораздо проще было отключать их, когда мы снимали скальп с трупа и пилой вскрывали его череп, словно дыню. («Очередной день с Black+Decker[11]», – сказал профессор, поприветствовав нас во второе утро подобных экспериментов. Неделю спустя мы делали «бережное препарирование» уха – с использованием медицинского долота и молоточка, а не пилы.)
Каждое лабораторное занятие начиналось с расстегивания молнии на мешке с трупом, и мы замирали в минуте молчания, чтобы почтить тех людей, которые позволили нам разбирать их тела на части. Мы шли от шеи вниз, оставляя их головы прикрытыми в знак уважения, а когда переходили к лицам, то закрывали их глаза – опять же, в знак уважения, но также для того, чтобы они казались нам менее людьми, менее настоящими.
Курс препарирования показал нам, что жизнь – хрупкая штука, и мы делали все возможное, чтобы дистанцироваться от этого факта, поднимая настроение дурацкими мнемоническими стишками. К примеру, про черепные нервы (обонятельный, зрительный, глазодвигательный, блоковый, тройничный, отводящий, лицевой, преддверно-улитковый, языкоглоточный, блуждающий, добавочный, подъязычный): «Онегин Знал, Где Была Татьяна, Он Летел Пулей, Язык Болтался До Пояса». Препарируя голову и шею, класс выкрикивал это хором. Потом мы брались за книги и готовились к следующим лабораторным.
Тяжелая работа окупилась. Наша группа с блеском сдала все зачеты, но я не уверена, что кто-то из нас уделял внимание своим эмоциям.
Когда начались экзамены, мы совершили свой первый «обход». «Обход» – это когда вы ходите по комнате, наполненной фрагментами кожи, костей и внутренностей, словно исследуя место чудовищной авиакатастрофы. Разница лишь в том, что ваша задача – идентифицировать не жертву, а часть тела. Вместо «Думаю, это Джон Смит» вы пытаетесь определить, частью чего является кусок плоти, лежащий на столе, – руки или ноги. А потом говорите: «Я думаю, это длинный лучевой разгибатель запястья». Но даже это был не самый чернушный наш опыт.
В день, когда мы препарировали пенис Гарольда – холодный, плотный, безжизненный, – параллельная группа тоже наблюдала за этим, поскольку у Мод были женские половые органы. Кейт, моя напарница по лабораторным, была невероятно педантична, когда дело касалось препарирования (ее сосредоточенность, как любил говорить наш профессор, была «острой, как лезвие ножа»), но в тот раз ее отвлекли крики Банды Мод. Чем глубже она уходила, тем громче они кричали.
– Кажется, меня сейчас стошнит!
Подошли еще одногруппники, и несколько студентов-юношей начали кружиться, прикрывая промежность учебниками в пластиковых обложках.
– Нашлись тут королевы драмы, – пробормотала Кейт. Она собиралась стать хирургом и не терпела брезгливости. Снова фокусируясь на работе, Кейт воспользовалась зондом, чтобы найти семенной канатик, затем снова взяла в руки скальпель и сделала вертикальный разрез вдоль всего пениса. Тот распался на две половинки, как хот-дог.
– Все, с меня хватит, я пошел отсюда, – объявил один из парней, после чего он и несколько его друзей выбежали из помещения.
В день окончания курса прошла церемония, на которой мы отдавали дань уважения людям, которые позволили нам учиться на своих телах. Каждый зачитывал личное благодарственное письмо; вокруг играла музыка и звучали благословения, а мы надеялись, что хотя тела их разобраны на части, души остались нетронутыми, а потому они смогут принять нашу благодарность. Мы много говорили об уязвимости наших покойников, вскрытых и тщательно исследованных, образцы тканей которых миллиметр за миллиметром рассматривались под микроскопом. Но по-настоящему уязвимыми были мы, особенно из-за нежелания это признать. Мы были первокурсниками, задававшимися вопросом, можно ли как-то выключить эмоции; молодыми люди, увидевшими смерть так близко; студентами, не знающими, что делать со слезами, которые порой проливались в самые неподходящие моменты.
Нам велели отслеживать свои эмоции, но мы не особенно понимали, что чувствовали и что с этими чувствами нужно было делать. Кто-то начал посещать занятия по медитации на базе института. Некоторые занялись спортом. Другие закопались в учебники. Один из студентов Банды Мод начал курить, тайком бегая на перекуры и отказываясь верить в то, что его телом в итоге так же завладеют опухоли. Я стала волонтером одной образовательной программы и читала детсадовцам – какими здоровыми они выглядели! какими живыми! какими цельными были их тела! – а в свободное время я начала писать. Я писала о своем опыте и интересовалась переживаниями других людей, а потом стала писать об этом для журналов и газет.
Как-то раз я написала о занятиях по теме «Отношения доктора и пациента», где нас учили взаимодействовать с людьми, которых мы в итоге будем лечить. Для экзамена каждый студент заснял на видео процесс сбора анамнеза, и мой профессор прокомментировал, что я была единственной, кто спросил свою пациентку о том, как она себя чувствует. «Это должен быть ваш первый вопрос», – сказал он всему потоку.
Стэнфорд подчеркивал необходимость относиться к пациентам как к людям, а не как к очередным клиническим случаям; но в то же время, по словам наших профессоров, это становилось все труднее из-за изменений в системе здравоохранения. На смену долговременным личным отношениям и содержательным встречам пришел новомодный принцип «регулируемого медицинского обслуживания» – с приемами по 15 минут, конвейерным лечением и ограниченным выбором того, что доктор может сделать для своего пациента. После окончания курса анатомии я много думала о своей будущей специальности: осталась ли хоть одна, в которой сохранились обрывки прежней модели семейного доктора? Или мне суждено не знать имен большинства своих пациентов, не говоря уже о каких-то личных сведениях?
Я наблюдала за врачами разных специальностей, исключив тех, кто меньше всего взаимодействовал с пациентами. (Неотложная помощь: захватывающе, но вы вряд ли снова увидите своих пациентов. Радиология: вы видите картинки, а не людей. Анестезиология: ваши пациенты спят. Хирургия: та же история.) Я склонялась к терапевтической медицине и педиатрии, но врачи, за которыми я следила, предупреждали, что и эти направления становятся все менее личными – чтобы оставаться на плаву, они должны были ежедневно впихивать в расписание человек тридцать. Некоторые даже сказали, что выбрали бы другую сферу деятельности, начиная карьеру сейчас.
– Зачем становиться врачом, если ты можешь писать? – спросил один профессор, прочитав что-то из того, что я написала для журнала.
На NBC я работала с историями, но хотела настоящей жизни. Теперь, найдя настоящую жизнь, я спрашивала себя, неужели в современной медицине больше нет места историям. Я выяснила, что мне нравилось: погружение в жизни других людей. И чем больше я писала как журналист, тем больше я это делала.
Однажды я обсуждала свою дилемму с профессором, и она предложила заниматься и тем и этим – журналистикой и медициной. По ее словам, если у меня есть возможность заработать дополнительные деньги писательством, я могу принимать меньше пациентов и работать с ними так, как врачи делали раньше. Но мне все равно придется разбираться со страховыми компаниями и их грудами документов, которые не оставят времени на заботу о пациентах. Как мы дошли до этого, думала я. Писать, чтобы зарабатывать на жизнь, будучи врачом? Разве раньше было не наоборот?
Я все равно обдумала ее идею. Однако на тот момент мне было тридцать три года, впереди ждали еще два года мединститута, минимум три года ординатуры, может, и аспирантура – а я знала, что хочу завести семью. Чем больше я вплотную наблюдала за влиянием «регулируемого медицинского обслуживания», тем меньше представляла себя идущей на риск, завершающей обучение и пытающейся жонглировать подобной практикой и своим писательством. Кроме того, я не была уверена, что смогу делать и то и другое – по крайней мере, не слишком хорошо, – да еще и оставить время на личную жизнь. К концу семестра я почувствовала, что должна сделать выбор: журналистика или медицина.
Я выбрала журналистику – и опубликовала несколько книг и написала сотни материалов для журналов и газет. Наконец-то, думала я, я нашла свое призвание.
А что касается другой части моей жизни – семьи, – здесь тоже все должно было встать на свои места. Бросив мединститут, я была абсолютно в этом уверена.
15 Без майонеза
– Серьезно? Вас, мозгоправов, только это и волнует?
Джон сидит на моем диване босой и со скрещенными ногами. Он пришел в шлепанцах, потому что его мастер по педикюру сегодня была в студии. Я подмечаю, что его ногти на ногах так же идеальны, как и его зубы.
Я только что спросила что-то о его детстве, и он не в восторге.
– Сколько раз еще нужно повторить? У меня было прекрасное детство, – продолжает он. – Мои родители были святыми людьми. Святыми!
Каждый раз, когда я слышу о «святых родителях», я становлюсь подозрительной. Не то чтобы я целенаправленно искала проблемы, просто таких не существует. Большинство из нас постепенно становится «достаточно хорошими родителями», что Дональд Винникотт, влиятельный британский педиатр и детский психоаналитик, считает подходящим для воспитания хорошо адаптированного ребенка.
Тем не менее поэт Филип Ларкин выразился лучше всех: «Родители засрут мозги // Тебе, из самых лучших чувств»[12].
Только когда я сама стала мамой, я смогла до конца понять две критически важные вещи о психотерапии:
1. Цель расспросов о родителях заключается не в том, чтобы вместе с пациентом обвинять, осуждать или критиковать их. Дело вообще не в родителях. Речь идет исключительно о том, чтобы понять, как ранние переживания пациентов повлияли на то, какими взрослыми они стали, отделить прошлое от настоящего (и не носить психологическую одежду, которая уже давно мала).
2. Большинство родителей делает для своих детей все возможное, но это «все» колеблется от пятерки с минусом до двойки с плюсом. Редкий родитель в глубине души не хочет, чтобы его или ее ребенок жил хорошо. Это не значит, что люди не могут испытывать эмоции, связанные с любыми недостатками своих родителей (или проблемами психики). Им просто надо понять, что с этим делать.
Что я знаю о Джоне: ему сорок лет, двенадцать из которых он женат, у него две дочери – десяти и четырех лет – и собака. Он сценарист и продюсер нескольких популярных телесериалов, и когда я узнала, каких именно, то даже не удивилась: он получил «Эмми» именно потому, что его персонажи так блестяще порочны и бесчувственны. Он жалуется, что его жена в депрессии (но, как говорят, «прежде чем диагностировать у человека депрессию, убедитесь, что он не окружен мудаками»), дети его не уважают, коллеги тратят его время впустую, и все требуют от него слишком многого.
Его отец и два старших брата живут на Среднем Западе, где Джон вырос; он единственный переехал. Его мать умерла, когда ему было шесть, а братьям – двенадцать и четырнадцать лет. Она преподавала театральное искусство и выходила из школы после репетиции, когда увидела одного из своих учеников на пути мчащейся машины. Она подбежала и оттолкнула ребенка, но была сбита сама и погибла на месте. Джон рассказал мне об этом без каких-либо эмоций, будто пересказывал сюжет одного из своих шоу. Его отец, профессор английского, мечтающий стать писателем, заботился о мальчиках в одиночку, пока три года спустя не женился на овдовевшей бездетной соседке. Описывая мачеху, Джон сказал, что она «ни о чем, но я ничего против нее не имею».
Джон много чего мог сказать о различных идиотах в своей жизни, но родителей по большей части не упоминал. Когда я проходила практику, мой куратор говорил, что единственный способ получить представление о прошлом столь активно защищающихся пациентов – задавать им вопросы. «Не раздумывая, какие три прилагательных приходят на ум при мыслях о вашей маме (или папе)?» Эти незаготовленные ответы всегда давали мне (и моим пациентам) полезные инсайты об их отношениях с родителями.
Но с Джоном это не прокатывает. «Святость, святость и святость – вот три слова о них обоих!» – отвечает он, используя существительные вместо прилагательных, хоть и работает со словом. (Позже я узнаю, что его отец, «возможно», злоупотреблял алкоголем после смерти жены и, «возможно», до сих пор злоупотребляет; что старший брат Джона сказал однажды, будто их мать «может быть, страдала» от «легкой версии биполярного расстройства». Но, говорит Джон, брат просто «любил преувеличивать».)
Причина моего интереса к детству Джона кроется в его нарциссизме. Его самолюбие, защитные реакции, оскорбительное поведение по отношению к другим, потребность доминировать в разговоре и чувство собственного достоинства – короче, то, что делает его мудаком, – все это подпадает под диагностические критерии нарциссического расстройства личности. Я заметила это еще на первой сессии, и хотя некоторые психотерапевты могли отказаться от работы с Джоном (нарциссы – не самые хорошие кандидаты для интроспективной, ориентированной на понимание своего внутреннего состояния терапии из-за нежелания четко видеть себя и других), я осталась в игре.
Я не хотела потерять личность за этим диагнозом.
Да, Джон сравнил меня с проституткой, вел себя так, будто был единственным человеком в кабинете, и считал себя лучше всех остальных. Но насколько он в реальности отличался от других людей, под всей этой мишурой?
Термин «расстройство личности» пробуждает все виды ассоциаций – не только у психотерапевтов, для которых подобные пациенты становятся настоящей головной болью, но и в поп-культуре. Даже в «Википедии» есть страничка, категоризирующая киногероев и отображенные ими расстройства личности.
В последней версии «Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам», библии клиницистов, перечислены десять типов расстройств личности (РЛ), разбитых на три группы, или кластера:
Кластер А (эксцентричный): параноидное РЛ, шизоидное РЛ, шизотипичное РЛ
Кластер В (неустойчивый): антисоциальное РЛ, пограничное РЛ, истерическое РЛ, нарциссическое РЛ
Кластер С (тревожный): избегающее РЛ, зависимое РЛ, обсессивно-компульсивное РЛ
В амбулаторной практике мы в основном видим пациентов кластера В. Недоверчивые люди (параноики), одиночки (шизоиды) или чудаки (шизотипы), как правило, не ищут психотерапии, так что кластер А идет мимо. Сторонящиеся связей люди (избегающие), неспособные функционировать как взрослые (зависимые) и жесткие трудоголики (обсессивно-компульсивные) также нечасто ищут помощь, так что и кластер С обходит нас стороной. Антисоциальные ребята кластера В – тоже редкие пациенты. Но вот люди, которые испытывают проблемы в отношениях и либо сами сверхэмоциональны (истероиды и пограничники), либо состоят в браке с подобным человеком (нарциссы), приходят к нам. (Пограничные типы чаще образовывают пару с нарциссами, а потом часто появляются на семейной психотерапии.)
До совсем недавнего времени большинство врачей, занимающихся ментальным здоровьем, полагало, что личностные расстройства неизлечимы, потому что – в отличие от расстройств настроения, таких как депрессия или тревожность, – состоят из давно существующих, всепроникающих паттернов поведения, которые очень близки к тому, чтобы быть частью личности. Другими словами, личностные расстройства эго-синтонны: поведение как будто синхронизируется с представлением человека о самом себе, и в результате люди с подобными расстройствами верят, что окружающие создают проблемы в их жизни. Расстройства настроения, в свою очередь, эго-дистонны: люди страдают от них и считают их мучительными. Им не нравится быть в депрессии, испытывать тревожность или включать и выключать свет по десять раз перед выходом из дома. Они понимают, что с ними что-то не так.
Расстройства личности же лежат вне осознания. Люди-«пограничники» до смерти боятся быть отвергнутыми, но если для одних это означает легкую тревожность, когда партнер не сразу отвечает на сообщение, другие делают выбор в пользу жестоких, проблемных отношений, лишь бы не быть в одиночестве. Или возьмем нарцисса. Кто не знает человека, идеального по целому ряду критериев: он амбициозный, харизматичный, остроумный, но опасно эгоцентричный?
Самое важное: иметь признаки расстройства личности – не значит соответствовать всем критериям официального диагноза. Время от времени – в суматошный или просто плохой день, когда нервы на пределе, – кто угодно проявляет в себе черты того или иного расстройства личности, потому что каждое из них кроется в корнях вполне адекватной человеческой потребности в самосохранении, принятии и безопасности. (Если вы думаете, что к вам это не относится, спросите супруга или лучшего друга.) Другими словами, я не только все время стараюсь увидеть всего человека за его «снимком», но еще и пытаюсь разглядеть эмоции и внутреннюю борьбу за пятизначным кодом заболевания, который я вношу в форму для страховой компании. Если я уделяю этому коду слишком много внимания, то начинаю рассматривать через эту призму каждый аспект психотерапии, что противоречит налаживанию нормальных отношений с уникальной личностью, сидящей напротив. Джон может быть нарциссом, но он также просто… Джон. Который может быть заносчивым и, говоря немедицинскими терминами, чертовски невыносимым.
Но при этом.
Диагноз может быть полезным. Например, я знаю, что требовательные, придирчивые и злые люди склонны страдать от сильного одиночества. Я знаю, что люди, которые ведут себя таким образом, одновременно хотят быть на виду и боятся этого. Я думаю, что для Джона уязвимость – это что-то жалкое и постыдное, и полагаю, что он как-то уловил сигнал, что не нужно показывать свою «слабость», в шесть лет, когда умерла его мать. Если он проводит какое-то время наедине со своими эмоциями, они, скорее всего, обескураживают его, поэтому он защищается от окружающих злостью, насмешкой или критиканством. Вот почему пациенты вроде Джона особенно сложные: они мастера доводить вас до кондрашки – исключительно ради того, чтобы защитить себя.
Моя работа – помочь нам обоим понять, от каких чувств он прячется. Он прячется за стенами крепости и рвами, но я знаю, что какая-то его часть зовет на помощь из башни, в надежде на спасение, – правда, я еще не поняла, от чего. И я буду использовать свои знания о диагнозе, не ограничиваясь им, чтобы помочь Джону увидеть, что его способ взаимодействия с миром может создавать больше проблем, чем так называемые «идиоты» вокруг.
– Огонек загорелся.
Мы с Джоном обсуждаем его раздражение, связанное с моими вопросами о его детстве, когда он говорит, что зеленая лампочка на стене около двери, соединенная с кнопкой в комнате ожидания, засветилась. Я смотрю на огонек, потом на часы. Прошло всего пять минут от часа, так что я вычисляю, что мой следующий пациент пришел неожиданно рано.
– Загорелся, – подтверждаю я, пытаясь понять, пытается ли Джон просто сменить тему, или он испытывает какие-то эмоции по поводу того, что он не единственный мой пациент. Многие тайно мечтают стать единственным пациентом у своего психотерапевта. Или хотя бы любимым – самым забавным, занимательным и, главное, избранным.
– Можете открыть? – говорит Джон, кивая подбородком на огонек. – Это мой обед.
Я не очень понимаю, о чем он.
– Ваш обед?
– Там парень из доставки еды. Вы запретили пользоваться телефоном, так что я сказал просто нажать на кнопку. Я не успел пообедать, а сейчас есть свободный час – в смысле, пятьдесят минут. Мне надо поесть.
Я в шоке. Люди обычно не едят во время психотерапии, но даже если едят, то говорят что-то соответствующее вроде «Ничего, если я сегодня поем здесь?». И берут еду с собой. Даже мой пациент с гипогликемией принес еду в кабинет лишь однажды – и только для того, чтобы не впасть в кому.
– Не переживайте, – говорит Джон, замечая неверие на моем лице. – Вы можете тоже взять что-нибудь, если хотите.
Потом он встает, проходит к двери и забирает обед у курьера из приемной.
Когда Джон возвращается, он раскрывает пакет, кладет салфетку на колени, разворачивает сэндвич, откусывает кусочек и выплевывает его.
– Господи, ну я же просил без майонеза! Вы гляньте! – Он разворачивает сэндвич, чтобы продемонстрировать мне майонез, и его свободная рука тянется к сотовому – вероятно, чтобы перезвонить насчет заказа. Но я бросаю на него взгляд, напоминающий о правиле «никаких-мобильных-телефонов».
Его лицо становится ярко-красным, и я думаю, наорет ли он еще и на меня. Вместо этого он взрывается воплем:
– Я? – спрашиваю я его.
– Я помню, как вы назвали своего предыдущего психотерапевта «славным, но идиотом». Я тоже славная идиотка?
– Нет, вовсе нет, – говорит он, и я радуюсь, что он способен признать, что хоть кто-то в его жизни не идиот.
– Спасибо, – отвечаю я.
– За то, что сказали, что я не идиотка.
– Я не это имел в виду, – отвечает он. – Я имел в виду, что нет, вы не славная. Вы не даете мне воспользоваться телефоном, чтобы позвонить идиоту, который положил майонез в мой сэндвич.
– То есть я злая и идиотка.
Он ухмыляется: от этого его глаза сияют, а на щеках появляются ямочки. На секунду я понимаю, почему некоторые люди считают его очаровательным.
– Ну, вы точно не добрая. Насчет идиотки я пока не знаю.
Он шутит, и я улыбаюсь в ответ.
– Фух, – говорю я. – Ну, вы хотя бы планируете узнать меня. Я это ценю.
Он начинает ерзать, чувствуя себя неловко из-за моей попытки вовлечь его в беседу. Он так отчаянно пытается избежать этого намека на человеческий контакт, что начинает жевать свой сэндвич с майонезом и отводит взгляд. Но он не вступает в бой, и я это принимаю. Я чувствую, как открылся крохотный проем.
– Мне жаль, что у вас сложилось впечатление, будто я злая, – говорю я. – Поэтому вы сделали ту ремарку про пятьдесят минут?
Выпад про любовницу – что я больше похожа на девочку по вызову – был ощутимее, но я думаю, что он акцентировал внимание на этом по той же причине, что и большинство людей: он хотел бы оставаться дольше, но не знает, как сказать об этом прямо. Признание своей привязанности заставляет чувствовать себя слишком уязвимым.
– Нет, я рад, что это пятьдесят минут! – говорит он. – Господь ведает, если бы я остался на час, вы бы начали расспрашивать про мое детство.
– Я просто хочу получше вас узнать, – говорю я.
– А чего тут знать? Я постоянно на измене и плохо сплю. Я разрываюсь между тремя сериалами, моя жена вечно жалуется, моя десятилетняя дочь ведет себя как подросток, младшая скучает по няне, которая поступила в аспирантуру, гребаная собака выкрутасничает, и я окружен идиотами, которые делают мою жизнь еще сложнее, чем она должна бы быть. И, честно говоря, я задолбался!
– Это много, – говорю я. – Вам со многим приходится справляться.
Джон ничего не говорит. Он жует свою еду и смотрит в одну точку на полу.
– Правда, черт возьми, – говорит он наконец. – Что такого сложного в том, чтобы понять два слова? Без. Майонеза. И все!
– Знаете, насчет идиотов, – говорю я. – Я думала об этом. Что, если эти люди, выводящие вас из себя, на самом деле не пытаются это сделать? Что, если они не идиоты, а разумные, образованные люди, которые просто делают все возможное в один конкретный день?
Джон медленно поднимает глаза, словно обдумывает это.
– И, – добавляю я мягко, думая о том, что если он так беспощаден к другим, с собой он, наверное, обходится раза в три жестче, – что если вы тоже?
Джон начинает что-то говорить, потом останавливается. Он снова смотрит на свои шлепанцы, берет салфетку и делает вид, что вытирает крошки с губ. Но я все равно это вижу: этот быстрый маневр, когда он поднимает салфетку к глазам.
– Чертов сэндвич, – говорит он, бросая салфетку в пакет вместе с остатком обеда, и кидает все это в мусорную корзину под моим столом. Вжух. Отличный бросок.
Он смотрит на часы.
– Слушайте, это какой-то дурдом. Я умираю от голода, это мой единственный перерыв на еду, а я даже не могу позвонить и заказать нормальный обед. И вы называете это психотерапией?
Мне хочется сказать, что да, это и есть психотерапия – лицом к лицу, без телефонов и сэндвичей, два человека сидят рядом и общаются. Но я знаю, что Джон саркастически опровергнет мои слова. Я думаю о том, через что проходит Марго, и задаюсь вопросом, что должно быть такого в ее личной психологической истории, чтобы она выбрала Джона.
– Предлагаю сделку, – говорит Джон. – Я рассказываю вам что-нибудь о своем детстве, а вы разрешаете мне заказать обед. Для нас обоих. Давайте побудем цивилизованными людьми и побеседуем за чертовым китайским салатом, договорились?
Он выжидательно смотрит на меня.
Обычно я так не делаю, но психотерапия – не самое обычное дело. Нам нужны профессиональные границы, но если они слишком широки, как океан, или слишком сжаты, подобно аквариуму, возникнут проблемы. Океанариум – вот что нам нужно. Должно быть пространство для спонтанности – вот почему пинок Уэнделла оказался эффективным. И если Джону сейчас, для комфортного разговора со мной, нужна дистанция между нами в виде еды, пусть будет так.
Я говорю ему, что он может заказать еду, но не обязан говорить о своем детстве. Это не услуга за услугу. Он игнорирует меня и звонит в ресторан, чтобы сделать заказ, – в процессе, конечно же, выйдя из себя.
– Да, никакой заправки. Не закуски, заправки! – кричит он в телефон, поставленный на громкую связь. – За-прав-ки! – Он громко вздыхает, закатывая глаза.
– Еще заправки? – уточняет человек из ресторана на ломаном английском, и Джон апоплексически краснеет, пытаясь объяснить, что никакой заправки не нужно. Проблемой становится все: у них в наличии только диетическая Пепси, а не Кола; заказ принесут через двадцать минут, а не пятнадцать. Я наблюдаю, испуганная и ошеломленная. Очень трудно, наверное, быть Джоном, думаю я. Когда они заканчивают, Джон говорит что-то по-китайски, но парень не понимает. Джон не понимает, почему тот парень не понимает «родной язык», и тот объясняет, что говорит на кантонском.
Они прощаются, и Джон скептически смотрит на меня.
– Они что, не пользуются мандаринским наречием?
– Если вы знаете китайский, почему бы не воспользоваться этим, чтобы заказать еду? – спрашиваю я.
Джон бросает на меня испепеляющий взгляд.
– Потому что я говорю по-английски.
Джон ворчит до тех пор, пока не приносят еду, но когда мы распаковываем салаты, он слегка приподнимает забрало. Я уже пообедала, но съедаю немного за компанию: есть что-то объединяющее в совместной трапезе. Я слушаю парочку историй о его отце, и старших братьях, и том, что Джон считает очень странным, что хоть он практически не помнит свою маму, она начала ему сниться несколько лет назад. Он видит разные версии одного и того же сна, как в фильме «День сурка», и это не прекращается. А ему бы этого хотелось. Даже во сне, говорит он, он встревожен. Ему просто хочется покоя.
Я спрашиваю про сон, но он говорит, что этот рассказ его расстроит, а он платит не за то, чтобы расстраиваться. Разве он не сказал только то, что хочет покоя? Разве психотерапевтов не обучают «навыкам слушания?» Я хочу обсудить то, что он только что сказал, – пошатнуть его предубеждение, что психотерапия не может быть дискомфортной и что он может найти покой, ни разу не испытав неприятных ощущений. Но на это нужно время, а у нас осталась всего пара минут.
Я спрашиваю, когда он чувствует покой.
– Во время прогулок с собакой, – говорит он. – Пока Рози не начала выделываться. Это было очень умиротворяюще.
Я думаю о том, почему он не хочет рассказать о своем сне в этом кабинете. Может быть, потому, что мой офис для него – некое святилище вдали от работы, жены, детей, собаки, вездесущих идиотов и призрака его мамы, являющегося во сне?
– Скажите, Джон, – пробую уточнить я. – А сейчас вы чувствуете себя спокойно?
Он бросает палочки для еды в пакет, куда только что сложил остатки салата.
– Конечно, нет, – говорит он, нетерпеливо закатывая глаза.
– Ох, – говорю я, закругляясь. Но Джон еще не закончил. Наше время истекло, и он встает, собираясь уходить.
– Вы шутите? – продолжает он, подходя к двери. – Здесь? Спокойствие?
Он уже не закатывает глаза, а улыбается – и это не снисходительная ухмылка, а секрет, которым он делится со мной. Это приятная улыбка, сияющая – но вовсе не из-за этих ослепительных зубов.
– Я так и думала, – говорю я.
16 Полный набор
Спойлер: после того как я бросила медицинский, жизнь не встала на свои места.
Тремя годами позже, когда мне было почти тридцать семь, я рассталась с человеком, с которым мы два года встречались. Это было печально, но мы остались друзьями, и все произошло не так внезапно, как позже случилось с Бойфрендом. Но все же это было самое неподходящее время для человека, который мечтал о ребенке.
Я всегда абсолютно точно, совершенно непоколебимо знала, что хочу стать матерью. Став взрослой, я проводила все свободное время волонтером в разных детских программах и была уверена, что когда-нибудь у меня будет и свой ребенок. Теперь же, когда на горизонте маячило сорокалетие, я безумно хотела завести ребенка, но не настолько, чтобы выскочить замуж за первого встречного. Это была весьма странная развилка – отчаявшаяся, но придирчивая.
Тогда моя подруга предложила сделать все в обратном порядке: сперва ребенок, затем партнер. Тем же вечером она прислала мне несколько ссылок на сайты банков спермы. Я никогда не слышала о таких вещах и поначалу не понимала, что думаю на этот счет, но, взвесив все за и против, решила попробовать.
Так что мне просто нужно было выбрать донора.
Разумеется, я хотела найти донора с отличным медицинским бэкграундом, но на этих сайтах можно было рассмотреть и другие качества, причем не только базовые вроде цвета волос и роста. Кого выбрать: игрока в лакросс или литератора? Качка или тромбониста? Экстраверта или интроверта?
Я удивилась, что эти профили во многом были похожи на странички сайтов знакомств – за исключением того, что большая часть кандидатов еще училась в колледже и предоставляла свои экзаменационные оценки. Было еще несколько ключевых различий, главным из которых оказались комментарии так называемых «лаборанток». Это были женщины (по крайней мере, все казались женского пола), которые работали в банке спермы и встречали доноров, когда те приходили «на реализацию». Затем лаборантки записывали «впечатления персонала» и добавляли их к профилям доноров, но все они были абсолютно разномастными. Комментарии варьировались от «У него шикарные бицепсы!» до «Склонен к прокрастинации, но в конечном итоге делает свое дело». (Я настороженно отношусь к любому студенту, чья прокрастинация распространяется на мастурбацию.)
Я сильно полагалась на эти впечатления персонала, потому что чем больше профилей я просматривала, тем сильнее понимала, что хочу почувствовать некую связь с донором, который будет иметь отношение к моему ребенку. Я хотела, чтобы он мне понравился, что бы это ни значило, хотела почувствовать, что если бы мы сидели за семейным столом, то я бы радовалась его компании. Но когда я читала комментарии и прослушивала записи интервью с донорами («Расскажите самый смешной случай из жизни», «Как бы вы описали свою личность?» и, безумное, «Как вы представляете себе романтичное первое свидание?»), все ощущалось слишком больнично, безлично.
Потом как-то раз я позвонила в банк спермы с вопросом по поводу медицинской истории донора, и меня переключили на лаборантку по имени Кэтлин. После того как Кэтлин посмотрела записи, я начала болтать с ней и узнала, что она как раз и встречала этого конкретного донора. Я ничего не могла с собой поделать.
– Он симпатичный? – спросила я, стараясь, чтобы мой голос звучал нейтрально. Я не знала, можно ли вообще такое спрашивать.
– Ну… – Кэтлин говорила медленно, с сильным нью-йоркским акцентом. – Не сказала бы, что он непривлекательный. Но второй раз в метро я бы на него не взглянула.
После этого Кэтлин стала моим «сперм-портье», предлагая доноров и отвечая на вопросы. Я доверяла ей, потому что пока некоторые лаборантки нахваливали всех доноров – они же все-таки пытались продать сперму, – Кэтлин была честна до предела. Ее стандарты были высоки, и мои тоже, что стало проблемой, потому что никто не соответствовал нашим критериям.
Справедливости ради, казалось разумным предположить, что мой будущий ребенок хотел бы, чтобы я была придирчивой. И было несколько факторов, которые важно было учесть. Когда я находила донора, который, казалось, подходил, появлялись другие проблемы – например, его семейный анамнез не слишком хорошо сочетался с моим (рак груди до шестидесяти лет, болезни почек). Или я натыкалась на донора с идеальным здоровьем, но он вдруг оказывался двухметровым датчанином со скандинавскими чертами лица: подобный облик бросается в глаза и, возможно, заставит моего ребенка почувствовать себя неловко в семье невысоких темноволосых евреев-ашкенази. Другие доноры, казалось, тоже отличались отличным здоровьем, интеллектом, подходящей внешностью, но что-то заставляло меня пометить их красным флажком, как в случае с донором, который написал, что его любимый цвет черный, любимая книга – «Лолита», а любимый фильм – «Заводной Апельсин». Я пыталась представить, как мой ребенок изучает этот профиль и смотрит на меня, как бы говоря: «И ты выбрала этого?» Та же реакция у меня была на доноров, которые не могли писать без ошибок или правильно расставлять запятые.
Этот процесс занял три изматывающих месяца, в течение которых я начала было терять надежду на здорового донора, о котором могла бы с гордостью рассказать ребенку.
А потом – наконец-то! – нашла его.
Как-то вечером я вернулась домой поздно и обнаружила на автоответчике сообщение от Кэтлин. Она предложила мне оценить донора, которого описала как «молодого Джорджа Клуни». Она добавила, что ей особенно нравится то, что он всегда дружелюбен и приходит в банк для сдачи в хорошем настроении. Я закатила глаза. В конце концов, если ты двадцатилетний парень, который сейчас будет смотреть порно и получать оргазм (еще и получит деньги за это), почему бы тебе не быть в хорошем настроении? Но Кэйтлин прямо-таки сходила с ума по нему: у него отличное здоровье, приятная внешность, острый ум и харизматичная личность.
– Это прямо-таки полный набор, – уверенно сказала она.
Кэтлин никогда еще не говорила так восторженно, поэтому я залогинилась на сайте, чтобы взглянуть. Я кликнула на его профиль, изучила состояние здоровья, прочитала эссе, прослушала аудиоинтервью и внезапно поняла: примерно так же, как люди влюбляются с первого взгляда, я нашла Того Самого. Все в нем – его симпатии и антипатии, его чувство юмора, его интересы и ценности – ощущалось как что-то семейное. Воодушевленная, но уставшая, я решила немного поспать и уладить все детали утром. Так совпало, что следующий день был днем моего рождения, и мне всю ночь снились яркие сны о моем ребенке – казалось, восемь часов подряд. В первый раз я представила себе настоящего малыша от двух конкретных людей вместо некой расплывчатой идеи ребенка с прочерками в половине генеалогического древа.
Утром я выпрыгнула из постели, а в моей голове звучала песня «Child of Mine». С днем рождения меня! Я мечтала о ребенке последние несколько лет и, найдя донора, чувствовала себя так хорошо, что, казалось, это был лучший подарок. Направляясь к компьютеру, я улыбалась своей удаче – я действительно собиралась это сделать. Я набрала URL банка спермы, нашла донора и перечитала все снова. Я была так же уверена, как и накануне вечером, что он был Тем Самым – а это единственное, что будет иметь смысл для моего ребенка, когда он или она спросят, почему из всех возможных доноров я выбрала этого парня.
Я поместила донора в свою онлайн-корзину – прямо как книгу на Amazon – перепроверила заказ и кликнула на «Купить». У меня будет ребенок, думала я. Момент казался одновременно сюрреалистичным и грандиозным.
Пока заказ обрабатывался, я планировала свои следующие шаги: записаться на оплодотворение, купить витамины для беременных, составить список всего необходимого для ребенка, подготовить комнату. Размышляя, я заметила, что заказ слишком долго обрабатывается. Индикатор загрузки на моем экране, известный как «вращающееся колесо смерти», казалось, крутился необычно долго. Я подождала, подождала еще и, наконец, нажала кнопку «назад» на случай, если компьютер решил сломаться. Но ничего не произошло. Наконец, вращающееся колесо смерти исчезло и выскочило сообщение: «Нет в наличии».
Нет в наличии? Я решила, что это какой-то компьютерный глюк – может быть, из-за того, что я нажала «назад», – и торопливо набрала банк спермы, чтобы поговорить с Кэтлин. Ее не было на месте, и меня переключили на девушку из службы поддержки по имени Барб.
Барб определила что это не глюк. Я выбрала очень популярного донора, сказала она, а затем начала объяснять, что их быстро разбирают – и несмотря на то, что компания старается «заполнить склад» быстрее, существует шестимесячный карантин, чтобы протестировать донорский материал и убедиться, что все в порядке. Даже если товар доступен к продаже, сказала она, иногда все равно приходится ждать, потому что многие делают предзаказ. Пока Барб говорила, я думала о звонке Кэтлин. Сейчас мне казалось, что она могла предложить этого донора нескольким женщинам. Возможно, многие женщины связывались с Кэтлин благодаря ее честной оценке спермы.
Барб записала меня в лист ожидания («Не глупите и не теряйте время, выжидая», – сказала она зловеще), после чего я положила трубку и беспомощно замерла. После месяцев бесплодных поисков я нашла своего донора, и мой будущий ребенок наконец стал казаться реальностью, чем-то большим, чем идея в моей голове. Но сейчас, в свой день рождения, я должна была отпустить его. Я вернулась туда, откуда начала.
Я сгорбилась над ноутбуком, уставившись в одну точку, и сидела так довольно долго, пока не заметила в углу стола визитную карточку, которую взяла неделю назад на нетворкинг-встрече. Она была от двадцатисемилетнего режиссера по имени Алекс. Я говорила с Алексом около пяти минут, но он был добрый, умный и казался здоровым. Абсолютно иррационально, в классической манере отчаявшихся людей, я подумала, что, возможно, смогу найти своего донора в реальном мире, без банков спермы. Алекс подходил под профиль донора, которого я искала. Почему бы не спросить, вдруг он согласится? В конце концов, худшее, что он может сделать – отказать.
Я тщательно продумала тему письма («Необычный вопрос») и сам текст оставила довольно размытым («Привет, помнишь меня с той встречи?»). Потом я пригласила его выпить кофе, чтобы задать свой «необычный вопрос». Алекс ответил, недоумевая, почему я не могу спросить все по почте. Я ответила, что предпочла бы обсудить детали лично. Он написал: «Конечно». И вот мы уже собирались встретиться за чашкой кофе в воскресенье днем.
Я, мягко говоря, нервничала, когда приехала в кафе под названием «Урт». После того как я отправила то импульсивное письмо, я поняла, что Алекс может мне отказать, а потом разболтать все десятку друзей, так ославив меня, что я никогда больше не смогу ходить на подобные встречи. Я подумывала сдать назад, но хотела ребенка так сильно, что чувствовала, будто должна попробовать, просто на всякий случай. Ответ на незаданный вопрос всегда «нет», повторяла я себе раз за разом.
Алекс тепло встретил меня, и мы разговорились – так легко, что отлично провели время. На самом деле, примерно через час я почти забыла, зачем мы встретились, но Алекс наклонился к столу, посмотрел мне в глаза и спросил игриво, точно на свидании: «Так что за необычный вопрос?»
Мое лицо моментально вспыхнуло, ладони вспотели, и я сделала то, что любой нормальный человек сделал бы при таких обстоятельствах, – замолчала. Серьезность и безрассудство того, что я собиралась сделать, лишили меня дара речи.
Алекс ждал, и я начала выговаривать слова, размахивая руками и используя бессвязные аналогии, чтобы изложить свою просьбу. Я говорила что-то вроде «У меня нет нужных ингредиентов для рецепта» или «Это как отдать почку, но без удаления органа». После того как я сказала слово «орган», я разволновалась еще сильнее и попыталась изменить направление. «Это как сдать кровь, – сказала я, – только вместо иголок секс». После этого я заставила себя заткнуться. Алекс таращился на меня со странным выражением на лице, и я подумала, что хуже уже точно не будет.
Но стало. Потому что вскоре до меня дошло, что Алекс совершенно не понял, о чем я пыталась попросить.
– Послушай, – выдавила я. – Мне тридцать семь лет, и я хочу ребенка. У меня не вышло с банком спермы, и я хотела спросить, не согласишься ли ты…
На этот раз до Алекса явно дошло, потому что все его тело замерло; даже его пряный чай латте остановился на полпути. Я никогда не видела человека, сидящего так неподвижно, со времен пациента в кататоническом ступоре в мединституте. Наконец губы Алекса шевельнулись и произнесли одно слово: «Вау».
Потом, медленно, появились еще слова.
– Такого я точно не ожидал.
– Знаю, – сказала я. Я чувствовала себя ужасно из-за того, что поставила его в такое неловкое положение, что вообще начала этот разговор, и уже хотела сказать об этом, когда, к моему изумлению, Алекс добавил:
– Но я бы об этом поговорил.
Теперь была моя очередь замереть, а потом выдавить: «Вау».
Следующие несколько часов пролетели быстро: мы с Алексом обсуждали все на свете, от историй из детства до сокровенных желаний. Казалось, вопрос о сперме разбил все эмоциональные преграды – от первого секса с человеком тоже порой возникает такой эффект. Когда мы собрались расходиться, Алекс сказал, что ему надо подумать; я согласилась, и он ответил, что будет на связи. Однако я была уверена, что после того как он действительно подумает, я никогда о нем больше не услышу.
Но тем же вечером имя Алекса появилось в моих входящих письмах. Я кликнула на письмо, ожидая прочитать вежливый отказ. Вместо этого он написал: «В целом согласен, но надо обсудить детали». Так что мы назначили новую встречу.
В следующие несколько месяцев мы виделись в «Урте» так часто, что я стала называть кафе «мой спермоофис», а мои подруги начали называть его просто «Спурт». В «Спурте» мы говорили обо всем, от образцов семени и медицинской истории до контрактов и контактов с ребенком. В конце концов мы подошли к главному, когда обсуждали передачу материала: провести процедуру у врача или заняться сексом, чтобы увеличить шансы на зачатие?
Он выбрал секс.
Если честно, я не возражала. Еще честнее? Я была в восторге от такого развития событий! Все-таки когда я представляла свое будущее материнство, в нем было не так много шансов на секс с роскошным мужчиной двадцати семи лет вроде Алекса с его рельефным прессом и острыми скулами.
Параллельно я начала навязчиво мониторить свой менструальный цикл. Однажды в «Спурте» я намекнула Алексу, что скоро у меня овуляция, так что если мы собираемся попробовать в этом месяце, то у него ровно неделя на решение. В других обстоятельствах это выглядело бы как огромное давление на парня, но тогда казалось завершенной сделкой, и у меня было не так много времени, чтобы тратить его впустую. Мы уже изучили все возможные аспекты этого плана: юридический, эмоциональный, этический, практический. К тому моменту у нас уже появились свои шутки и прозвища друг для друга, и мы оба думали, каким благословением будет этот малыш. За неделю до этого он даже спросил меня, словно речь шла о бизнесе, обращалась ли я к кому-то еще или сделала ему эксклюзивное предложение. У меня было мимолетное желание начать торги, чтобы закрепить позиции («Пит нарезает круги, и Гэри тоже проявляет интерес, так что тебе лучше приехать ко мне в пятницу – большой ажиотаж!»). Но я хотела, чтобы наши отношения основывались на полной честности, да и вообще – я была уверена, что Алекс скажет мне «да».
На следующий день после того, как я назвала крайний срок, мы решили прогуляться по пляжу и в последний раз обсудить финальные детали контракта. Пока мы шли вдоль берега, вдруг начало моросить. Мы посмотрели друг на друга: может быть, стоит вернуться? Но затем морось превратилась в настоящий шторм. Мы оба были легко одеты, и Алекс снял повязанную вокруг пояса куртку и накинул мне на плечи; и когда мы стояли друг перед другом на пляже, промокшие от ливня, он официально дал мне зеленый свет. После всех переговоров, всех попыток узнать друг друга получше, всех вопросов о том, что будет означать для нас ребенок, мы были готовы.
– Пойдем, сделаем тебе ребенка, – сказал он. И вот мы шли, смеясь и обнимаясь, я в куртке до колен и в объятиях мужчины, который был готов поделиться своей спермой. И я думала о том, что не могу дождаться того дня, когда смогу рассказать своему ребенку эту историю.
Когда мы вернулись в машину, Алекс дал мне свою выверенную копию контракта на подпись.
А потом исчез.
Следующие три дня я ни слова от него не слышала. Кажется, это недолго, но когда вам хорошенько за тридцать, приближается овуляция, а ваш единственный вариант завести ребенка стопорится, три дня кажутся вечностью. Я пыталась не зацикливаться на этом (стресс плохо влияет на беременность), но когда Алекс наконец объявился и написал «Нам надо поговорить», я осела на пол. Как любой взрослый человек на планете, я точно знала, что это означает: меня собираются бросить.
На следующее утро, сидя за нашим любимым столиком в «Спурте», Алекс смотрел в сторону и повторял распространенные клише, которые говорят при расставании: «Дело не в тебе, дело во мне», «В жизни все так нестабильно, что я не готов что-то обещать, поэтому для твоего же блага я не хочу морочить тебе голову» и мое любимое «Надеюсь, мы останемся друзьями».
– Ладно, в море есть и другие рыбы, – сказала я, защищаясь плохим каламбуром. Я надеялась поднять Алексу настроение и доказать, что рациональная часть меня понимает, почему он не может стать донором. Но внутри я была выпотрошена, потому что это был уже второй ребенок, которого я так ясно себе представляла и которого я никогда не смогу подержать на руках. Подруга, у которой в то же время случился второй выкидыш, сказала, что чувствует себя аналогично. Я вернулась домой и решила сделать перерыв в поисках донора, потому что потрясение было слишком сильным. Как и подруга с выкидышем, я максимально старалась избегать младенцев. Даже реклама подгузников заставляла меня искать пульт и переключать канал.
Через несколько месяцев я поняла, что должна снова взяться за дело и начать новые поиски. Но едва я собралась залогиниться, раздался нежданный звонок.
Это была Кэтлин, моя лаборантка из банка спермы.
– Лори, хорошие новости! – воскликнула она со своим ярким акцентом. – Кто-то вернул пробирку с ребенком Клуни.
Ребенок Клуни… тот парень. Который «полный набор».
– Вернул? – переспросила я. Я испытывала очень смешанные чувства по поводу возвращенного семени. Мне казалось, это как в супермаркетах: нельзя вернуть предметы личной гигиены, даже с чеком. Но Кэтлин заверила меня, что пробирка не покидала хранилище и с «продуктом» все в порядке. Просто женщина забеременела другим путем, и ей больше не требовалась донорская сперма. Если я хотела ее получить, нужно было покупать прямо сейчас.
– У Клуни есть лист ожидания… – начала она, но не успела закончить предложение: я уже согласилась.
Позже той осенью я ужинала в компании близких после своего baby shower – «предрожденной вечеринки», когда мама заметила, что настоящий Джордж Клуни сидит за столиком неподалеку. Все присутствующие знали о словах Кэтлин про «молодого Клуни», так что мои друзья и семья по очереди указывали на мой увеличившийся живот, а затем поворачивались к знаменитому актеру.
Он выглядел заматеревшим в сравнении с тем молодым актером, что играл в «Скорой помощи». Я тоже чувствовала себя куда более взрослой, чем во время работы исполнительным продюсером на NBC. Столько всего произошло в наших жизнях. Он вот-вот должен был взять «Оскар». Я вот-вот должна была родить ребенка.
Неделю спустя «ребенок Клуни» получил новое имя: Закари Джулиан. ЗД. Он – это любовь, и радость, и чудо, и волшебство. Он, как сказала бы Кэтлин, «полный набор».
Прыжок вперед на восемь лет – своего рода дежавю. Когда Бойфренд сказал: «Я не могу жить с ребенком под одной крышей еще десять лет», я словно перенеслась в тот день в «Урт», когда Алекс сказал, что все-таки не может быть моим донором. Я помню, как была разбита, но помню и звонок Кэтлин, воскресивший то, что казалось останками моей мечты.
Ситуация казалась достаточно схожей – ошеломляющий поворот, разрушенные планы, – чтобы за болью от заявления Бойфренда во мне теплилась надежда, что все снова встанет на свои места.
Но в этот раз что-то ощущается совсем иначе.
17 Без памяти и без желания
В середине двадцатого века британский психоаналитик Уилфред Бион заявил, что психотерапевты должны слушать своих пациентов «без памяти и без желания». По его мнению, специалисты склонны субъективно интерпретировать воспоминания, со временем трансформируя их, в то время как их желания могут противоречить желаниям пациентов. Вместе они могут создать искаженные образы (или «сформулированные идеи»), привносимые психотерапевтами в лечение. Бион хотел, чтобы клиницисты начинали каждый сеанс с выслушивания пациента в моменте (а не под влиянием памяти) и рассматривали различные результаты (а не оставались под влиянием желания).
Когда я только начала практиковать, я училась у сторонника учения Биона и бросала себе вызов: начинать каждую сессию «без памяти, без желания». Мне нравилась идея не отвлекаться на предвзятые мнения и идеи. В ней чувствовался привкус дзена, схожий с буддистскими представлениями отказа от привязанностей. На практике же это казалось больше похожим на подражание Г.М. – известному пациенту невролога Оливера Сакса. Повреждение мозга приговорило его к жизни «в моменте» без способности вспомнить даже недавнее прошлое или осмыслить будущее. Поскольку мои лобные доли были нетронутыми, я не могла погрузить себя в подобную амнезию.
Конечно, я знала, что концепт Биона был более сложным и что есть смысл в оставлении всех отвлекающих аспектов памяти и желания за дверью. Но сейчас я вспомнила про него, потому что еду на сессию к Уэнделлу и думаю, что со стороны пациента – с моей стороны – принцип «без памяти (о Бойфренде), без желания (в отношении Бойфренда)» был бы даром Божьим.
Сейчас утро среды, и я сижу на кушетке Уэнделла – все еще между позициями А и В, – едва пристроив подушки за спиной.
Я планирую начать с того, что накануне случилось на работе: я была на общей кухне и заметила экземпляр журнала под названием «Развод» на самом верху стопки материалов для чтения, предназначенных для комнаты ожидания. Я представила себе людей, которые выписывают этот журнал: как они приходят домой в конце дня и находят среди счетов и каталогов этот журнал с ярко-желтыми буквами на обложке, гласящими «РАЗВОД». Потом я представила, как они заходят в свои пустые дома, включают свет, разогревают замороженную еду или заказывают что-то, садятся поесть и листают журнал с мыслью: «Как моя жизнь дошла до такого?» Мне казалось, что люди после развода занимаются чем угодно, кроме чтения этого журнала, и что большинство подписчиков наверняка больше похожи на меня, начинающую все заново и пытающуюся найти в этом смысл.
Конечно, я так и не вышла за Бойфренда, так что это не было разводом. Но мы собирались пожениться, что, казалось мне, поместило меня в ту же категорию. Я даже думала, что наше расставание могло быть хуже развода в одном конкретном аспекте. Когда грядет развод, все уже само по себе плохо, и именно это ведет к разрыву. Если вы собираетесь оплакивать потерю, разве не лучше иметь арсенал неприятных воспоминаний – каменное молчание, скандалы и крики, жуткое разочарование, – чтобы приглушить хорошие? Разве не труднее отпустить отношения, наполненные счастливыми воспоминаниями?
Мне казалось, что ответ «да».
Так что я сидела за столом, ела йогурт и скользила взглядом по заголовкам («Лечим неприятие», «Управляем негативными мыслями», «Создаем новую себя!»), когда мой телефон пикнул, оповещая о входящем письме. Оно не было, как я все еще (зря) надеялась, от Бойфренда. Тема гласила: «Приготовься к лучшему вечеру в своей жизни». Спам, подумала я, но если нет, то кто я такая, чтобы отказываться от лучшего вечера в своей жизни в своем нынешнем ужасном состоянии?
Я кликнула на письмо и увидела, что это напоминание о заказанных билетах на концерт; я купила их несколько месяцев назад в качестве сюрприза к приближающемуся дню рождения Бойфренда. Мы оба любили эту группу, их музыка была чем-то вроде саундтрека к нашим отношениям. На первом свидании мы выяснили, что у нас одна и та же самая-самая любимая песня. Я даже представить не могла, что пойду на этот концерт с кем-то, кроме Бойфренда, особенно в его день рождения. Стоит ли мне идти? С кем? И не буду ли я думать о нем в день его рождения? Что вызывало вопрос, а будет ли он думать обо мне? И если нет – значила ли я что-нибудь для него? Я снова посмотрела на заголовок в «Разводе»: «Управляем негативными мыслями».
Мне было трудно управлять негативными мыслями, потому что вне офиса Уэнделла для них не было отдушины. Расставания относятся к категории «тихих» потерь, менее значимых для других людей. У вас был выкидыш, но вы не потеряли ребенка. Вы расстались с молодым человеком, но не потеряли супруга. Так что друзья полагают, что вы оправитесь относительно быстро, и вещи вроде этих билетов на концерт становятся почти что желанным внешним признанием вашей потери – не только человека, но и времени, и компании, и привычного распорядка, шуточек и намеков, понятных только двоим, и общих воспоминаний, которые вам теперь предстоит хранить в одиночку.
Я планирую рассказать все это Уэнделлу и располагаюсь поудобнее на кушетке, но вместо этого начинают ручьем литься слезы.
Сквозь пелену я вижу летящую в меня коробку с салфетками. И снова промахиваюсь. (И думаю: мало того, что меня бросили, я еще и теряю координацию.)
Я одновременно удивлена и пристыжена этим всплеском эмоций – мы еще даже не поздоровались, – и каждый раз, когда я пытаюсь это сказать, звучит только скомканное «прошу прощения», а затем я снова теряю контроль над собой. Примерно пять минут наша сессия выглядит так: Слезы. Попытка остановиться. Сказать: «Прошу прощения». Слезы. Попытка остановиться. Сказать: «Прошу прощения». Слезы. Попытка остановиться. Сказать: «Господи, мне очень стыдно».
Уэнделл спрашивает, за что я извиняюсь.
– Посмотрите на меня! – я указываю на себя и громко сморкаюсь в салфетку.
Уэнделл пожимает плечами, словно говоря: «Ну и что?»
А потом я даже не прерываюсь на извинения. Попытка остановиться. Слезы. Попытка остановиться. Слезы. Попытка остановиться.
Это продолжается еще несколько минут.
Пока я плачу, я думаю о том, как утром после расставания, после бессонной ночи, я встала с постели и начала свой день как обычно.
Я вспоминаю, как закинула Зака в школу и сказала: «Люблю тебя»; он выпрыгнул из машины, огляделся вокруг, чтобы убедиться, что никто не услышит, и тоже сказал: «Люблю тебя» – а потом убежал к своим друзьям.
Я думаю о том, как по пути на работу я снова и снова прокручивала в голове фразу Джен: «Пока я не уверена, что это конец истории».
Я думаю о том, как, поднимаясь в офис на лифте, я даже посмеялась над древним каламбуром «ОтклоНил – это не река в Египте»[13] – и все равно отклонила существующую реальность[14]. Может быть, он передумает, думала я. Может быть, это все одно большое недоразумение.
Конечно, это не оказалось недоразумением, потому что вот я рыдаю перед Уэнделлом и говорю ему, насколько я убогая, раз все еще остаюсь такой развалиной.
– Давайте договоримся, – говорит Уэнделл. – Договоримся, что вы будете добры к себе, пока вы здесь. Можете ругать себя как угодно – но только за пределами этой комнаты, хорошо?
Быть доброй к себе. Такое не приходило мне в голову.
– Но это всего лишь расставание, – говорю я, немедленно забывая о доброте к себе.
– Или я могу принести пару боксерских перчаток, чтобы вы могли лупить себя на протяжении всей сессии. Так будет проще? – Уэнделл улыбается, и я чувствую, как начинаю потихоньку дышать, растворяясь в доброте. Я ловлю себя на мысли, которая часто приходит мне в голову, когда я вижу своих пациентов, занимающихся самобичеванием: «Сейчас ты не лучший человек, чтобы говорить с тобой о тебе». Есть разница, говорю я им, между обвинениями себя и принятием ответственности, что является выводом из фразы Джека Корнфилда: «Второе качество зрелой духовности – доброта. Оно базируется на фундаментальной идее принятия себя». Во время психотерапии мы стремимся к самосостраданию (Человек ли я?), а не к самооценке (Я хороший или плохой?).
– Может, не перчатки, – говорю я. – Просто мне было лучше, а сейчас я снова не могу перестать плакать. Я чувствую себя так, будто откатилась назад, будто снова вернулась в ту первую неделю после расставания.
Уэнделл качает головой.
– Позвольте кое-что спросить, – говорит он, и, полагая, что вопрос будет о моих отношениях, я вытираю глаза и жду. – Вы в своей практике работали с кем-нибудь, кто проходил через стадию горя?
Его вопрос моментально приводит меня в чувство.
Я работала с людьми, столкнувшимися со всеми видами горя: потерей ребенка, потерей родителя, потерей супруга, потерей брата, потерей брака, потерей собаки, потерей работы, потерей идентичности, потерей мечты, потерей части тела, потерей юности. Я работала с людьми, чьи лица морщились, чьи глаза превращались в щели, чьи открытые рты будто подражали «Крику» Мунка. Я работала с пациентами, которые описывали свое горе как «чудовищное» и «непереносимое»; одна пациентка, цитируя что-то услышанное, сказала, что чувствует себя «попеременно онемевшей и испытывающей мучительную боль».
Я также видела горе издалека: однажды, еще в мединституте, я несла образцы крови в отделение скорой помощи и услышала звук такой поразительный, что едва не выронила пробирки. Это был настоящий вой, больше животный, чем человеческий, и такой пронзительный, что мне потребовалась минута, чтобы найти его источник. В коридоре стояла женщина, чей трехлетний ребенок утонул, выбежав через заднюю дверь и упав в бассейн за те две минуты, что она была на втором этаже и меняла младшему подгузник. Пока я слушала этот плач, приехал ее муж и узнал новости, и его потрясение вырвалось в крик, зазвучавший в унисон с ревом жены. Тогда я в первый раз услышала эту особую музыку скорби и муки, но с тех пор слышала ее бессчетное количество раз.
Горе – что неудивительно – похоже на депрессию, и поэтому в наших диагностических руководствах вплоть до недавних пор существовал термин «исключение в случае тяжелой утраты». Если человек испытывал симптомы депрессии в первые два месяца после потери, это было следствие утраты. Но если симптомы продолжались более двух месяцев, в диагноз выносилась депрессия. Исключение в случае тяжелой утраты больше не существует, отчасти по причине временного промежутка: люди всерьез должны перестать горевать через два месяца? И не имеют права проходить этот этап полгода, год или, в той или иной форме, всю жизнь?
Кроме того, потери, как правило, многослойны. Есть актуальная потеря (в моем случае – Бойфренд) и глубинная потеря (что из этого следует). Вот почему для многих людей боль от развода лишь частично основана на потере другого человека; часто в ее основе лежит то, что влекут за собой перемены: неудача, отвержение, предательство, неизвестность и другая жизненная история вместо ожидаемой. Если развод происходит ближе к середине жизни, потеря может включать осознание ограниченной степени интимности, до которой можно узнать человека и быть узнанным самому. Как-то раз я читала мемуары разведенной женщины, встретившей нового любовника после того, как ее многолетний брак подошел к концу: «Я никогда не встречусь глазами с Дэвидом в родильной палате, – писала она. – Я никогда не познакомлюсь с его матерью».
И вот почему вопрос Уэнделла так важен. Предложив мне вспомнить, каково работать с горюющим человеком, он показывает мне, что может сделать для меня сейчас. Он не может восстановить мои разрушенные отношения. Он не может изменить факты. Но он может помочь, потому что знает: все мы стремимся понять себя и быть понятыми. Когда ко мне на терапию приходят пары, самая частая жалоба – это не «Ты меня не любишь», а «Ты меня не понимаешь». (Одна женщина сказала мужу: «Знаешь, какие три слова еще романтичнее, чем “Я тебя люблю”?» Он предположил: «Может, “Ты выглядишь потрясающе”?» – «Нет, – сказала ему жена. – “Я тебя понимаю”».)
Снова текут слезы, и я думаю о том, каково Уэнделлу быть сейчас со мной. Все, что мы, психотерапевты, делаем, говорим или чувствуем, находясь рядом с пациентами, опосредовано нашими историями: все, что я когда-либо испытывала, повлияет на любую конкретную сессию в любой конкретный момент. Только что полученное сообщение, разговор с другом, взаимодействие с клиентским сервисом в попытках разрешить ошибку в счете, погода, режим сна, мысли перед первой сессией этого дня, воспоминания об истории пациента – все это повлияет на мое поведение. Та, кем я была до встречи с Бойфрендом, отличается от той, кто я сейчас. Та, кем я была, пока мой сын был младенцем, отличается от той, кто я сейчас на сессиях, включая эту. А Уэнделл ведет себя со мной так по причине всего произошедшего с ним и приведшего его жизнь к этой точке. Может быть, мои слезы напоминают ему о горе, которое он испытал, и ему тоже больно. Он такая же тайна для меня, как я для него, но все же мы объединяем силы, чтобы распутать историю того, как я здесь оказалась.
Задача Уэнделла – помочь мне отредактировать свою историю. Этим занимаются все психотерапевты: что из материала не нужно? Второстепенные персонажи важны или отвлекают? Сюжет развивается, или протагонист ходит кругами? Сюжетные точки раскрывают тему?
Техники, которые мы используем, немного напоминают операции на мозге, при которых пациент остается в сознании. Пока хирурги работают, они спрашивают у пациента: «Чувствуете это? Можете произнести эти слова? Можете повторить это предложение?» Они постоянно калибруют, насколько близко подступают к чувствительным отделам мозга, и если приближаются к какому-то из них, то отступают, чтобы не навредить. Психотерапевты копаются в разуме, а не в мозге, и мы можем по тончайшему жесту или выражению лица определить, задет ли нерв. Но, в отличие от нейрохирургов, мы приближаемся к чувствительной области и деликатно нажимаем на нее, даже если это заставляет пациента испытывать дискомфорт.
Так мы добираемся до глубин истории, и часто в основе лежит какая-то форма горя. Но в промежутке развивается множество сюжетных поворотов.
Пациентка по имени Саманта пришла ко мне на психотерапию, когда ей было слегка за двадцать, чтобы понять историю смерти обожаемого ею отца. Когда она была ребенком, ей говорили, что он погиб, катаясь на лодке, но она выросла и начала подозревать, что он совершил самоубийство. Суицид всегда оставляет живых наедине с неразрешенной загадкой. Почему? Что можно было сделать, чтобы предотвратить это?
Одновременно с этим Саманта всегда выискивала проблемы в отношениях – проблемы, которые неизбежно давали ей повод уйти. Не желая, чтобы ее бойфренды становились той загадкой, какой был ее отец, она невольно воссоздавала историю отвержения – только в ее версии именно она была отвергающим лицом. Она хотела контроля, но в итоге оставалась одна. В ходе психотерапии она узнала, что тайна, которую она пыталась раскрыть, была чем-то большим, чем вопрос о возможном самоубийстве отца. Это была еще загадка на тему того, кем был ее отец, когда был жив, и кем она стала в результате.
Люди хотят понимать и быть понятыми, но для большинства из нас самая большая проблема заключается в том, что мы не знаем, в чем наша проблема. Мы наступаем на одни и те же грабли. Почему я делаю эту конкретную вещь, которая гарантированно сделает меня несчастным, снова и снова?
Я плачу и плачу, удивляясь, что вообще могу так долго плакать. Я удивляюсь, что все еще не обезвожена донельзя. Но слезы все еще льются. И вот Уэнделл хлопает себя по ногам, давая понять, что сессия окончена. Я делаю вдох и замечаю, что чувствую себя на удивление спокойно. Спокойно прореветься в офисе Уэнделла – все равно что завернуться в одеяло, теплое и безопасное, и отстраниться от всего, что происходит снаружи. Я снова вспоминаю цитату Джека Корнфилда, ту часть про принятие себя, но по-прежнему начинаю мысленное ворчание: Ты что, платишь кому-то, чтобы он сорок пять минут подряд смотрел, как ты плачешь?
И да, и нет.
Мы с Уэнделлом побеседовали, не сказав ни слова вслух. Он наблюдал за тем, как я горюю, и не пытался сделать ситуацию более удобной, прерывая или анализируя происходящее. Он позволил мне рассказать историю именно тем способом, который был мне необходим сегодня.
Когда я вытираю слезы и встаю, чтобы уйти, то думаю, что всегда, когда Уэнделл пытается узнать о других аспектах моей жизни – что еще происходило, когда мы с Бойфрендом встречались, какой была моя жизнь до него, – я даю короткий ответ (семья, друзья, работа; да не о чем там говорить, ребята!), снова возвращаясь к теме Бойфренда. Но сейчас, бросая салфетки в мусорную корзину, я понимаю, что моя история не совсем полная.
Я не обманывала Уэнделла в прямом смысле этого слова. Но и не все рассказывала.
Скажем так, я опустила некоторые детали.
Часть вторая
Честность лечит лучше сочувствия, которое может утешить, но часто прячет суть.
18 По пятницам в четыре
Мы в офисе моей коллеги Максин – вокруг кресла с изогнутыми ножками, состаренное дерево, винтажные ткани и мягкие кремовые тона. Сегодня моя очередь представить кейс в консультационной группе, и я хочу поговорить о пациентке, которой, кажется, не могу помочь.
Дело в ней? Или во мне? Это я и хочу понять.
Бекке тридцать лет, и она пришла ко мне год назад из-за проблем в личной жизни. Она неплохо справлялась на работе, но ее задевало, что коллеги избегали ее, никогда не приглашая на ланч или в бар. Кроме того, она только что прошла через череду кратких отношений с мужчинами, которые поначалу казались восхищенными, но через пару месяцев бросали ее.
Дело в ней? Или в них? Это она и хотела понять на психотерапии.
Я не в первый раз упоминаю Бекку на встрече нашей группы, которая собирается по пятницам в четыре. Хотя это и не обязательно, консультационные группы являются неотъемлемой частью жизни многих психотерапевтов. Работая в одиночку, мы упускаем вклад других, будь то похвала действий или обратная связь касательно того, что можно улучшить. Здесь мы изучаем не только своих пациентов, но и себя в связке с пациентом.
На встрече Андреа может мне сказать: «Ты говоришь об этом пациенте, как о родном брате. Поэтому ты так и реагируешь». Я могу помочь Иану справиться с эмоциями по отношению к пациентке, которая начинает каждую сессию со своего гороскоп-прогноза («Я ненавижу эту горо-ересь», – говорит он). Консультационная группа – это система (несовершенная, но весьма ценная) сдержек и противовесов, помогающая нам убедиться, что мы сохраняем объективность, концентрируемся на важном и не упускаем ничего очевидного в ходе работы.
Но признаюсь, параллельно мы еще и болтаем о всякой ерунде – часто за едой и вином.
– У меня все та же дилемма, – говорю я группе: это Максин, Андреа, Клэр и Иан, единственный мужчина. У всех есть слепые пятна, добавляю я, но что примечательно в Бекке – так это то, что она, кажется, совсем не интересуется собой.
Члены группы кивают. Многие люди начинают психотерапию, интересуясь больше другими, чем собой. «Почему мой муж так поступает?» Но в любом разговоре мы сеем семена любопытства, потому что психотерапия не может помочь людям, которые не волнуют сами себя. Иногда я могу даже сказать что-то вроде: «Любопытно, почему вы больше интересны мне, чем сами себе» – и посмотреть, как пациент на это отреагирует. Большинство людей начинает любопытствовать о причинах моего вопроса. Но не Бекка.
Я перевожу дух и продолжаю:
– Она неудовлетворена моей работой, никакого прогресса нет. Но вместо того чтобы поискать другого специалиста, она приходит каждую неделю – как будто показать, что она права, а я нет.
Максин, которая практикует уже тридцать лет и является матриархом нашей группы, медленно покачивает бокал с вином.
– Почему ты продолжаешь с ней работать?
Я обдумываю это, отрезая ломтик сыра от куска на подносе. На самом деле все идеи, предложенные группой за последние пару месяцев, потерпели крах. Если, например, я спрашивала Бекку, почему она плачет, она тут же отбивала вопрос обратно: «Именно за этим я к вам хожу – если бы я знала, что происходит, меня бы тут не было». Если я говорила о нашем взаимодействии – о ее разочаровании во мне, ее ощущении, будто я ничего не понимаю, ее мыслях о моей бесполезности, – она уводила разговор в сторону, говоря, что такое случается только со мной, ни с кем более. Когда я пыталась сфокусироваться на нас – чувствует ли она, что ее обвиняют или критикуют? – она впадала в ярость. Когда я пыталась поговорить об этой ярости, она замолкала. Когда я спрашивала, не может ли молчание быть ее способом неприятия меня из страха, что мои слова ее ранят, она снова говорила, что я ее не понимаю. Если я спрашивала, почему она продолжает ходить к человеку, который ее не понимает, она говорила, что я отвергаю ее и тоже хочу, чтобы она ушла – как и бойфренды или коллеги. Когда я пыталась помочь ей задуматься, почему эти люди избегают ее, она говорила, что мужчины боятся обязательств, а коллеги просто снобы.
Обычно то, что происходит между пациентом и психотерапевтом, так же выглядит во взаимодействии пациента и людей в реальном мире, и в безопасном пространстве кабинета пациент может начать понимать, в чем причина. (А если «танец» пациента и психотерапевта не работает в жизни, чаще всего это потому, что у первого нет близких отношений – именно по этой причине. Очень удобно иметь нормальные отношения – на поверхностном уровне.) Казалось, что Бекка отыгрывает со мной и со всеми остальными свою версию взаимоотношений с родителями, но она и это не желала обсуждать.
Конечно, случается такое, что контакт между психотерапевтом и пациентом не налаживается, когда на пути встает контрперенос специалиста. Признак один: негативные эмоции по отношению к пациенту.
Я говорю группе, что Бекка действительно раздражает меня. Но это потому, что она напоминает мне кого-то из моего прошлого, или потому, что с ней действительно трудно взаимодействовать?
Психотерапевты используют в работе с пациентом три источника информации: что он говорит, что он делает и как мы себя чувствуем в процессе. Иногда у человека как будто на лбу написано: «Я НАПОМИНАЮ ТВОЮ МАТУШКУ!» Но, как кураторы говорили нам раз за разом во время учебы: «То, что вы чувствуете как принимающая сторона, реально – пользуйтесь этим». Наши впечатления важны, потому что мы наверняка наблюдаем что-то очень похожее на то, с чем сталкивается любой другой человек в жизни пациента.
Это знание помогло мне начать сопереживать Бекке, увидеть, насколько глубоки ее страдания. Покойный репортер Алекс Тизон считал, что у каждого человека есть своя эпичная история, «где-то в путанице бремени и желаний субъекта». Но я никак не могла пробраться к истории Бекки. Я чувствовала себя невероятно уставшей после наших сессий – не из-за умственных усилий, а от скуки. Я запасалась шоколадом и делала серию прыжков перед ее визитом, чтобы взбодриться. Я даже перенесла ее сессии с вечера на утро, чтобы она приходила первой. Но все равно: как только она садилась, меня накрывало скукой, и я не могла с этим справиться.
– Ей нужно заставить тебя почувствовать себя некомпетентной, чтобы самоутвердиться, – говорит мне Клэр, востребованный психоаналитик. – Если у тебя ничего не получится, она сможет не чувствовать себя такой неудачницей.
Может быть, Клэр права. Самые трудные пациенты – не такие как Джон, который меняется, но не осознает это. Самые трудные пациенты – вроде Бекки, которая продолжает ходить, но не меняется.
Недавно Бекка начала встречаться с очередным парнем, Уэйдом, и на прошлой неделе она рассказала мне, что у них произошла ссора. Уэйд заметил, что Бекка постоянно жалуется на своих друзей. «Если они так тебя раздражают, – спросил он, – зачем ты продолжаешь с ними дружить?»
Бекка «не могла поверить», что он так сказал. Он что, не понял, что она просто спускает пар? Что хочет выговориться, а не быть заткнутой?
Параллель была очевидной. Я спросила Бекку, не пытается ли она спускать пар в моем офисе и не видит ли, как и в случае с друзьями, некую ценность в наших отношениях, даже когда порой чувствует себя разочарованной. Но Бекка сказала, что я снова ничего не поняла. Она пришла, чтобы поговорить о Уэйде. Она не видела, что сама заткнула Уэйда – так же, как и меня, что в итоге заставило ее саму замкнуться в себе. Она не хотела увидеть свои поступки, которые мешали людям дать ей то, что она хочет. Бекка пришла ко мне, чтобы какие-то аспекты ее жизни изменились, но она казалась не слишком готовой к переменам. И так же, как и у Бекки, у меня были свои ограничения. Все известные мне психотерапевты сталкивались с этим.
Максин снова спрашивает, почему я до сих пор работаю с Беккой. Она отмечает, что я испробовала все, что знала из курса обучения и из профессионального опыта, что советовали специалисты в нашей консультационной группе, но у Бекки не наблюдается никакого прогресса.
– Я не хочу, чтобы она чувствовала себя брошенной, – говорю я.
– Она уже чувствует себя брошенной, – говорит Максин. – Причем всеми, включая тебя.
– Да, – говорю я. – Но я боюсь, что если откажусь от нее, то это укрепит ее веру в то, что ей никто не может помочь.
Андреа поднимает брови.
– Что? – спрашиваю я.
– Ты не должна доказывать Бекке свою компетентность, – говорит она.
– Это я знаю. Меня Бекка беспокоит.
Иан громко кашляет, потом делает вид, что его тошнит. Вся группа хохочет.
– Хорошо, может быть, ты права, – я кладу сыр на крекер. – Это как с одной моей пациенткой, которая встречается с козлом, но не уходит, потому что где-то внутри хочет доказать ему, что она заслуживает лучшего обращения. Ей это никогда не удастся, но она все равно пытается.
– Тебе надо сдаться, – говорит Андреа.
– Я никогда раньше не отказывалась от пациентов, – говорю я.
– Отказы ужасны, – говорит Клэр, кладя в рот несколько виноградин. – Но с нашей стороны было бы халатностью этого не делать.
Произнесенное хором «угу» заполняет комнату.
Иан смотрит, качая головой.
– Вы меня сейчас разорвете за то, что я скажу, – Иан в нашей группе известен своими обобщенными тезисами о мужчинах и женщинах, – но вот в чем штука. Женщины терпят больше всякого дерьма, чем мужчины. Если девушка плохо обращается с парнем, он разворачивается и уходит. Если пациенту не помогает то, что я могу ему предложить, и я уверен, что сделал все возможное, но ничего не работает, мы расходимся.
Мы одариваем его привычными взглядами свысока: женщины так же хорошо умеют отпускать, как и мужчины. Но мы также знаем, что в сказанном может быть доля правды.
– За отказы, – говорит Максин, поднимая бокал. Мы чокаемся, но совсем нерадостно.
Когда пациент возлагает на тебя надежды, а ты подводишь его, это душераздирающе. В подобных случаях с тобой навсегда останется вопрос: Если бы я сделал что-то иначе, если бы я вовремя нашел ключик, мог бы я помочь? Ответ, который ты даешь себе: Возможно. Не важно, что говорит моя консультационная группа: я не смогла помочь Бекке и чувствую, что подвела ее.
Терапия – это тяжелый труд, причем не только для психотерапевта. Потому что ответственность за изменения лежит непосредственно на пациенте.
Если вы ждете, что вас час будут сочувственно гладить по головке, вы пришли не туда. Ваши специалисты будут участливыми, но их поддержка относится к вашему росту, а не к вашим неодобрительным высказываниям о партнере. (Наша роль заключается в том, чтобы понять вашу точку зрения, но одобрять ее не обязательно.) Вы станете одновременно ответственным и уязвимым. Вместо того чтобы подвести человека к самой сути проблемы, мы побуждаем его дойти до этого самостоятельно, потому что самыми мощными инсайтами – теми, к которым люди относятся серьезнее всего, – становятся те, к которым пациент постепенно подбирается сам. В психотерапевтическом контракте подразумевается готовность пациента терпеть дискомфорт, потому что в эффективно текущем процессе это неизбежно.
Или, как Максин сказала в одну из пятниц, «я не занимаюсь “ты-сможешь-детка”-терапией».
В это, может быть, трудно поверить, но психотерапия лучше всего работает, когда люди начинают идти на поправку – когда они чувствуют себя менее подавленно и тревожно, или кризис проходит. Теперь они не столь реактивны, больше находятся «в моменте», больше отдаются работе. К несчастью, иногда люди уходят как раз в тот момент, когда симптомы проходят, не сознавая (или зная слишком хорошо), что работа только начинается и что теперь нужно трудиться еще усерднее.
Однажды ближе к концу своей сессии с Уэнделлом я сказала ему, что иногда – в дни, когда я ухожу еще сильнее расстроенной, покинутой, сдерживающей столько всего, что не успела сказать, и чувствующей столько боли, – я ненавижу психотерапию.
– Большинство вещей, которые стоит делать, трудны, – ответил он. Он не бахвалился, а сказал это таким тоном и с таким выражением лица, что я подумала, что он опирается на личный опыт. Он добавил, что каждый хочет уходить с сессии радостным и облегченным, но я уж точно должна понимать, что психотерапия не всегда работает так. Если мне хочется моментально почувствовать себя лучше, сказал он, можно съесть кусок торта или испытать оргазм. Но он не работает в сфере быстрой доставки удовлетворений.
И добавил, что я тоже.
Но я-то была пациентом. Что делает психотерапию настоящим вызовом, так это то, что она заставляет людей взглянуть на себя со стороны, которую они обычно предпочитают игнорировать. Психотерапевт поднесет вам зеркало с максимальным сочувствием, но именно пациент решает, вглядеться в отражение, рассмотреть все детали со словами: «Ого, как интересно! И что теперь?» – или отвернуться.
Я следую совету моей консультационной группы и перестаю работать с Беккой. Впоследствии я чувствую себя одновременно разочарованной и освобожденной. Когда я рассказываю об этом Уэнделлу, он говорит, что точно знает, каково мне с ней пришлось.
– У вас есть пациенты вроде нее? – спрашиваю я.
– Да, – говорит он и широко улыбается, удерживая взгляд на мне.
Проходит минута, и только потом до меня доходит: он имеет в виду меня. М-да уж. Он тоже прыгает и накачивается кофеином перед нашими сессиями? Часто пациенты спрашивают, не вгоняют ли они нас в тоску своими непримечательными жизнями, но они совсем не скучные. Скучные пациенты – это те, кто не хочет рассказывать о своей жизни, вежливо улыбается всю сессию или постоянно рассказывает одну и ту же бессмысленную и повторяющуюся историю, заставляя чесать голову в раздумьях: Зачем он мне это говорит? Какое значение это имеет для него? Категорически скучные люди предпочитают держать вас на расстоянии.
Именно это я проделываю с Уэнделлом, рассказывая бессмыслицу о Бойфренде: он не может приблизиться ко мне, потому что я его не подпускаю. А теперь он говорит мне: я поступаю с ним так, как мы с Бойфрендом поступали друг с другом – и в этом не сильно отличаюсь от Бекки.
– Воспринимайте это как своего рода приглашение, – говорит Уэнделл, и я думаю о том, как много моих приглашений отвергла Бекка. Я не хочу так вести себя с Уэнделлом.
Я не смогла помочь Бекке, но, может быть, она сможет помочь мне.
19 Что нам снится
Однажды двадцатичетырехлетняя женщина, с которой я работала несколько месяцев, пришла и пересказала мне сон, который приснился ей накануне.
– Я хожу по торговому центру, – начала Холли, – и натыкаюсь на Лизу, которая ужасно относилась ко мне в старшей школе. Она не дразнила меня в лицо, как некоторые другие девочки. Она просто полностью меня игнорировала! В этом вроде нет ничего такого, но даже когда мы пересекались вне школы, она делала вид, что совершенно меня не знает. Что было дико, потому что мы учились в одной школе три года, и у нас были общие уроки. К тому же она жила в квартале от меня, так что мы часто сталкивались – ну, знаете, по-соседски, – и мне приходилось притворяться, что я ее не вижу. Потому что когда я улыбалась, или махала рукой, или хоть как-то давала понять, что узнаю ее, она морщила лоб и смотрела так, будто пыталась меня признать, но не могла. А потом она говорила таким фальшиво-милым голосом: «Прошу прощения, а мы знакомы?», или «Мы раньше встречались?», или, если мне везло, «Мне очень неловко, но как тебя зовут?».
Голос Холли сорвался на секунду, но она продолжила:
– В общем, во сне я в торговом центре, и Лиза тоже там. Я уже не в школе и выгляжу иначе: постройнела, похорошела, волосы красиво лежат. Я копаюсь в вешалках с одеждой, когда Лиза подходит, чтобы тоже что-то рассмотреть, а потом заводит со мной какой-то бессмысленный разговор об одежде, как с незнакомкой. Сначала я жутко злюсь, ну то есть – класс, она по-прежнему делает вид, будто меня не знает. А потом до меня доходит, что на этот раз она действительно меня не узнала, потому что я очень хорошо выгляжу.
Холли устраивается на кушетке, укрываясь пледом. В прошлом мы обсудили, что она использует его, чтобы прикрыть свое тело, спрятать его размеры.
– Так что я включаю дурочку, и мы начинаем болтать об одежде и работе, и пока я говорю, я замечаю, что на ее лице появляется узнавание. Как будто она пытается связать то, что видит, с моим обликом в выпускном классе – ну, знаете, прыщавая, жирная, лохматая. Я вижу, как ее мозг сопоставляет детали, а потом она говорит: «Боже мой! Холли! Мы же учились вместе!»
Холли рассмеялась. Она высокая и выглядит сногсшибательно: у нее длинные каштановые волосы, глаза цвета тропического океана – и по-прежнему добрых пятнадцать кило лишнего веса.
– И тогда, – продолжила она, – я морщу лоб и говорю тем же фальшиво-слащавым голоском, каким она обращалась ко мне: «Прошу прощения, а мы знакомы?» А она говорит: «Конечно, я Лиза! Мы вместе ходили на геометрию, историю и французский язык – помнишь миссис Хайятт?» И я отвечаю: «Да, я помню миссис Хайятт, но, простите, вас не помню. Вы тоже у нее учились?» И она кричит: «Холли! Мы жили рядом! И встречались в кино, и кафе, и как-то раз в примерочной Victoria’s Secret…»
Холли снова засмеялась.
– То есть она дает понять, что узнавала меня все те разы. Но я говорю: «Ох ты, как странно, я вас не помню, но приятно было познакомиться». А потом у меня звонит телефон, и это тот парень, с которым она встречалась в старших классах, – он просит поторопиться, чтобы мы не опоздали в кино. Поэтому я одариваю ее той же снисходительной улыбкой, которую видела всякий раз у нее на лице, и ухожу, оставив ее в тех же чувствах, в каких была сама, учась в школе. А потом до меня доходит, что звонящий телефон – это мой будильник, и все это было лишь сном.
Позже Холли назовет его «поэтически-справедливым сном», но для меня это была популярная тема, всплывающая на психотерапии, причем не только во сне – тема отчуждения. Это страх, что нас бросят, проигнорируют, будут избегать, а в конечном итоге мы останемся нелюбимыми и одинокими.
Карл Юнг придумал термин «коллективное бессознательное», чтобы обозначить ту часть разума, которая хранит генетическую память – или опыт, оказавшийся общим для всего человечества. В то время как Фрейд интерпретировал сновидения на объектном уровне, рассуждая, как их содержание связано со сновидцем в реальной жизни (набор персонажей, конкретные ситуации), в юнгианской психологии они рассматриваются на субъектном уровне, то есть под микроскоп попадает их связь с общими темами в нашем коллективном бессознательном.
Неудивительно, что нам часто снятся наши страхи. У нас их огромное множество.
Чего мы боимся?
Мы боимся боли. Мы боимся унижения. Боимся неудачи и боимся успеха. Мы боимся остаться в одиночестве и боимся привязаться к кому-то. Мы боимся прислушаться к своему сердцу. Мы боимся быть несчастными – и слишком счастливыми (в таких снах нас неизбежно карают за наше счастье). Мы боимся, что родители нас не примут, и боимся сами принять самих себя. Мы боимся болезней и удачи. Мы боимся своей зависти и того, что на нас свалится слишком многое. Мы боимся надеяться на что-то, чего можем никогда не достигнуть. Мы боимся перемен и боимся их отсутствия. Мы боимся, что что-то случится с нашими детьми, с работой. Мы боимся невозможности все контролировать и собственной власти. Мы боимся того, как мало проживем и как долго будем мертвы. (Мы боимся, что после смерти наши жизни не будут иметь значения.) Мы боимся нести ответственность за свои жизни.
Иногда нужно время, чтобы признать свои страхи, особенно наедине с собой.
Я заметила, что сны могут предшествовать самопознанию – быть своего рода пред-исповедью. Что-то внутри выходит на поверхность, но не полностью. Пациентке снится, что она лежит в кровати, обнимаясь с соседкой по комнате; поначалу она думает, что это символизирует их крепкую дружбу, но потом понимает, что ее привлекают женщины. Другому мужчине снится один и тот же сон – о том, что его остановили за превышение скорости на трассе; видя его целый год, он признает, что десятилетиями мошенничал с налогами – ставя себя выше правил, – и это может вскрыться.
Я работаю с Уэнделлом уже в течение нескольких месяцев, когда сон пациентки о ее однокласснице просачивается в мой. Я в торговом центре, перебираю вешалки с платьями, когда рядом появляется Бойфренд. Выясняется, что он покупает своей новой подруге подарок на день рождения.
– Ого, и сколько ей исполняется? – спрашиваю я во сне.
– Пятьдесят, – отвечает он. Сначала я испытываю мелочное облегчение: ей не банальные двадцать пять, она даже старше меня. В этом есть смысл. Бойфренд не хотел, чтобы в доме были дети, и она достаточно стара, чтобы ее отпрыски уже учились в колледже. Мы с Бойфрендом мило беседуем – по-дружески, невинно, – пока я случайно не ловлю свое отражение в зеркале магазина. И оттуда на меня смотрит пожилая леди – ей хорошо за семьдесят, может быть, даже восемьдесят. Получается, что пятидесятилетняя пассия Бойфренда в действительности на десятки лет моложе меня.
– Ты уже написала книгу? – спрашивает Бойфренд.
– Какую книгу? – говорю я, разглядывая в зеркале свои губы, сморщенные, как чернослив.
– Книгу о своей смерти, – буднично отвечает он.
А после этого я слышу звонок будильника. Весь день, слушая истории снов своих пациентов, я не могу перестать думать о своем. Он преследует меня.
Он преследует меня, потому что это моя пред-исповедь.
20 Первая исповедь
Позволю себе на минутку уйти в оборону: понимаете, когда я говорила Уэнделлу, что вплоть до момента расставания все было хорошо, я говорила абсолютную правду. Или, если быть точной, мое понимание правды. То, что я хотела назвать правдой.
А теперь выключаем оборону: я лгала.
Я не рассказала Уэнделлу, что должна писать книгу – и что процесс движется не слишком хорошо. Под «не слишком хорошо» я подразумеваю, что даже не начала ее писать. Это бы не было проблемой, если бы я не была связана контрактом: по закону я должна либо все-таки закончить книгу, либо вернуть аванс, которого на моем банковском счете уже не было. Но даже если бы я вернула деньги, проблема никуда не девалась, потому что я не только психотерапевт, но и писатель – это не просто то, что я делаю, это то, кто я есть. Если я не могу писать, важная часть меня растворяется. И если я не сдам эту книгу, мой агент скажет, что у меня больше не появится шанс написать другую.
Не то чтобы я совсем потеряла способность писать. Все то время, что я должна была работать над книгой, я строчила удивительно остроумные и кокетливые письма Бойфренду, постоянно говоря друзьям, родственникам и даже самому Бойфренду, что занята написанием книги. Я как будто стала игроманом, который каждое утро надевает костюм, целует жену на прощание, а потом отправляется в казино вместо офиса.
Я намеревалась рассказать Уэнделлу об этой ситуации, но была настолько сосредоточена на последствиях расставания, что возможности не было.
Разумеется, это очередная ложь.
Я не говорила Уэнделлу о книге-которая-никак-не-пишется, потому что всякий раз при мыслях о ней на меня накатывала паника, ужас, сожаление и стыд. Как только эта ситуация всплывала в моей голове (то есть всегда; как писал Фицджеральд, «в подлинных потемках души всегда три часа утра, изо дня в день»), мой желудок сжимался, и я ощущала себя парализованной. Затем я начала обдумывать каждое плохое решение, принятое на разных развилках судьбы, потому что была убеждена: я оказалась в такой ситуации из-за одного из самых плохих решений в своей жизни.
Вы, должно быть, думаете: «Серьезно? Тебе повезло получить контракт на книгу, а теперь ты ее не пишешь? Бедняжка! Попробуй проработать по двенадцать часов в день на фабрике!» Я понимаю, как это выглядит. Ну то есть… кем я себя возомнила? Элизабет Гилберт в начале «Ешь, молись, люби», когда она плачет на полу в ванной, обдумывая уход от любящего ее мужа? Гретхен Рубин в «Проекте Счастье», у которой есть любящий, красивый муж, здоровые дочери и столько денег, сколько большинству людей и не снилось, но которую все еще гложет чувство, что чего-то не хватает?
Кстати, вспомнила: я упустила важную деталь о книге-которая-никак-не-пишется. Тема? Счастье. Нет, я уловила иронию: книга о счастье сделала меня несчастной.
Мне вообще не стоило браться за книгу о счастье, и не только потому, что – если верить теории Уэнделла об оплакивании чего-то большего – я была подавлена. Когда я приняла решение написать ее, я только начинала частную практику и написала статью для Atlantic, заголовок которой вынесли на обложку: «Как подсадить ребенка на психотерапию: почему наша одержимость счастьем детей может обречь их на несчастную взрослую жизнь». За сто один год существования журнала ни один материал на тот момент не вызвал такой шквал ответных писем в редакцию. Я говорила о ней на национальном телевидении и на радио, мировые СМИ пытались назначить интервью, и я вдруг стала «экспертом по родительству».
Буквально в следующее мгновение издательства захотели книжную версию «Как подсадить ребенка на психотерапию». Под «захотели» я имею в виду, что за нее предлагали – не знаю, как еще выразиться, – ошеломляющую сумму. Это были такие деньги, о которых мать-одиночка вроде меня могла только мечтать, деньги, которые обеспечили бы нашей семье возможность вздохнуть свободно – на долгое время. За этой книгой последовали бы выступления (что мне нравилось) в школах по всей стране и стабильный поток пациентов (что было кстати, поскольку я только начинала). По статье даже подумывали снять сериал (который, возможно, и сделали бы, если бы прилагалась книга-бестселлер).
Но получив возможность написать книжную версию своей статьи – книгу, которая потенциально меняла ландшафт моего профессионального и финансового будущего, я сказала, проявив поразительную непредусмотрительность: «Спасибо большое, вы очень добры. но… я лучше откажусь».
Меня не хватил удар. Я просто сказала нет.
Я так поступила, потому что в этом было что-то неправильное. Мне казалось, что миру не нужна очередная книга о родителях-«вертолетчиках»[15]. Дюжины умных, вдумчиво написанных книг уже изучили этот вопрос со всех ракурсов. В конце концов, еще двести лет назад философ Иоганн Вольфганг фон Гете сформулировал емкий вывод: «Слишком многие родители усложняют жизнь своим детям, фанатично стараясь облегчить ее». Или не так давно – в 2003, если точнее, – в одной из первых современных книг о гиперопеке под названием «Worried All the Time» («Все время волнуясь») говорилось о том же: «Главные правила хорошего родителя – умеренность, эмпатия и адаптация темперамента к ребенку – просты и не требуют улучшения под влиянием новейших научных исследований».
Я сама мать, и родительская тревожность не обошла меня стороной. На самом деле я написала ту статью в надежде, что она окажется в той же степени полезной для родителей, что и сессия у психотерапевта. Но если я сделаю из этого книгу, запрыгну на подножку коммерческого поезда и присоединюсь к рядам интернет-гуру, я стану частью проблемы. Я верила, что родителям не нужна еще одна книга о том, что пора выдохнуть и сделать паузу. Им нужна сама пауза в потоке книг о родительстве. (Позже New Yorker выпустил юмореску о размножении родительских манифестов, гласившую, что «выход еще одной книги в такой момент – это просто жестоко».)
И уподобившись Писцу Бартлби из одноименного рассказа (с похожим трагичным результатом), я сказала: «Пожалуй, откажусь». Следующие несколько лет я провела, наблюдая, как все новые и новые книги о гиперопеке выходят на рынок, и самобичуясь. Ответственным ли поступком с моей стороны был отказ от такого рода денег? Я только закончила неоплачиваемую стажировку, мне нужно было выплачивать кредит за учебу, я была единственным добытчиком в семье – почему я не могла быстро написать книгу о родительстве, получить свои профессиональные и финансовые блага и жить припеваючи? В конце концов, разве многие могут позволить себе роскошь работать только над тем, что для них важно?
Сожаление, которое я чувствовала из-за ненаписанной книги, подкреплялось тем фактом, что я продолжала каждую неделю получать письма от читателей и отвечать на вопросы о статье «Как подсадить ребенка на психотерапию». Один за другим люди спрашивали, будет ли книга. Нет, хотелось ответить мне, потому что я сваляла дурака.
Я в самом деле чувствовала себя полной идиоткой, потому что, решив не продаваться и не наживаться на всеобщем родительском помешательстве, вместо этого я согласилась писать ввергающую-меня-в-ужас-и-депрессию книгу про счастье. Чтобы свести концы с концами, начиная свою практику, я должна была написать ее, и в то время мне казалось, что оказываю услугу читателям. Вместо того чтобы показать, как мы, родители, слишком усердно пытаемся сделать детей счастливыми, я собиралась сделать акцент на том, как мы слишком усердно пытаемся сделать счастливыми себя. Эта идея казалась мне ближе.
Но когда я садилась писать, я чувствовала себя столь же оторванной от темы, как и от проблемы родителя-«вертолетчика». Исследования не отражали – и не могли отразить – нюансы того, что я видела в кабинете психотерапии. Ученые даже придумали сложное математическое уравнение, чтобы предсказать счастье. Формула основана на тезисе, что человек счастлив не тогда, когда дела идут хорошо, а когда они идут лучше, чем ожидалось. Она выглядит как-то так:
Что сводится к более простой формуле: счастье = реальность – ожидания. По всей видимости, можно сделать человека счастливым, сообщив ему плохую новость, а потом сказав, что это неправда (что лично меня только разозлило бы).
Тем не менее я знала, как свести воедино некоторые интересные исследования, но чувствовала, будто лишь поверхностно затрону все то важное, о чем хочу рассказать, но не смогу раскрыть суть. И в моей новой карьере, и в целом в жизни поверхностность меня не устраивала. Нельзя стать психотерапевтом и не измениться в какой-то степени, не стать – даже не заметив того – ориентированным на суть.
Я говорила себе, что это не важно. Просто напиши книгу и покончи с этим. Я уже прошляпила книгу о родительстве; не могу же я и с этой книгой сесть в лужу. И все же дни шли, а я не могла заставить себя ее писать. Точно так же, как не смогла заставить себя написать первую книгу. Да как так опять вышло?
В аспирантуре мы периодически наблюдали за сеансами психотерапии через односторонние зеркала, и иногда, когда я садилась писать книгу счастья, я думала о тридцатипятилетнем пациенте, которого видела там. Он пришел на психотерапию, потому что очень любил свою жену и считал ее привлекательной, но не мог перестать изменять ей. Ни он, ни жена не понимали, как его поведение может идти вразрез с тем, чего он, по его мнению, хотел: доверия, стабильности, близости. На сессии он объяснял, что ненавидит то потрясение, через которое измены заставляют пройти его жену и их брак, и знает, что он не такой муж и отец, каким хотел бы быть. Он говорил о том, как отчаянно хочет прекратить измены и как вообще не понимает, почему продолжает это делать.
Психотерапевт объяснил, что часто разные части нас самих хотят разных вещей, и если мы заглушаем ту часть, которую считаем неприемлемой, то она найдет иные способы высказаться. Он попросил мужчину пересесть на стул в другом конце комнаты и посмотреть, что случится, если не отторгать, а выслушать ту часть его личности, которая выбирала измены.
Поначалу бедняга растерялся, но постепенно он начал давать право голоса скрытой стороне себя – той части, которая подталкивала ответственного, любящего мужа к саморазрушению. Он разрывался между этими двумя аспектами себя точно так же, как я разрывалась между желанием обеспечить семью и мечтой сделать что-то значимое – что-то, что тронет мою душу и, я надеялась, многие другие души.
Бойфренд появился как раз вовремя, чтобы отвлечь меня от этой внутренней битвы. А когда он ушел, я занималась интернет-слежкой вместо написания книги. Многое из нашего деструктивного поведения берет начало в эмоциональной дыре – в пустоте, которая жаждет чего угодно, что заполнит ее. Но сейчас, когда Уэнделл и я обсудили конец интернет-слежки за Бойфрендом, я почувствовала ответственность. У меня не было уважительных причин не сидеть и не писать эту сочащуюся страданиями книгу о счастье.
И пора было рассказать Уэнделлу правду о том, как я влипла.
21 Психотерапия в надетом презервативе
– Привет, это я, – слышу я, проверяя сообщения на автоответчике в перерыве между сессиями. Мой желудок сжимается: это Бойфренд. Мы три месяца не разговаривали, и его голос телепортирует меня назад во времени, словно песня из прошлого. Но когда сообщение продолжается, я понимаю, что это не Бойфренд, потому что Бойфренд 1) не будет звонить мне на рабочий телефон и 2) не работает на ТВ.
«Я» – это Джон (у них с Бойфрендом пугающе похожие голоса, глубокие и низкие), и мне впервые звонит пациент, который решил не представляться. Он ведет себя так, словно он мой единственный пациент, не говоря уже о единственном «я» в моей жизни. Даже пациенты, находящиеся на грани суицида, называют свои имена. Еще ни разу мне не звонили со словами: «Привет, это я. Вы говорили, что нужно позвонить, если мне захочется себя убить».
Джон говорит, что не сможет сегодня прийти на сессию, потому что застрял в студии, так что он свяжется со мной по Скайпу. Он оставляет свой юзернейм и заканчивает: «Поговорим в три».
Я отмечаю, что он не спросил, могу ли я поговорить с ним в скайпе и в первую очередь консультирую ли я по Скайпу вообще. Он просто уверен, что все так и пройдет, потому что так работает все в его мире. Я работаю с пациентами по Скайпу при некоторых обстоятельствах, но думаю, что в случае с Джоном это плохая идея. Слишком многое из того, что я делаю, чтобы помочь ему, зависит от нашего личного взаимодействия. Можно что угодно говорить о чудесах современных технологий, но взаимодействие через экран – это, как однажды выразился мой коллега, «словно проводить сеанс психотерапии в надетом презервативе».
Дело не только в словах, которые произносят люди, и не во вешних подсказках, которые психотерапевт замечает: качающаяся нога, дернувшееся лицо, дрожащая нижняя губа, сузившиеся от гнева глаза. Помимо слышания и видения, есть нечто менее очевидное, но столь же важное – энергия в помещении, совместное нахождение. Вы теряете это необъяснимое третье измерение, если не находитесь рядом физически.
(Ну и глюки – это тоже проблема. Однажды я проводила скайп-сессию с пациенткой, которая временно находилась в Азии, и как раз в тот момент, когда она истерически разрыдалась, звук исчез. Я лишь видела ее двигающийся рот, а она не знала, что я не слышу, что она говорит. Прежде чем я смогла объяснить это, соединение окончательно прервалось. Понадобилось десять минут, чтобы восстановить связь, и не только момент прошел – отведенное на сессию время также закончилось.)
Я быстро пишу Джону, предлагая перенести встречу, но он отвечает сообщением, которое выглядит как современная телеграмма: «Нмг ждать. Срочно. Плиз». Меня удивляет эта вариация слова «пожалуйста» и еще больше – признание в том, что ему требуется срочная помощь; в том, что он нуждается во мне, а не обращается как с расходным материалом. Так что я соглашаюсь на скайп в три.
Должно быть, думаю я, что-то стряслось.
В три часа я нажимаю на кнопку вызова в приложении, ожидая увидеть Джона за рабочим столом. Вместо этого я вижу знакомый дом: это одна из основных локаций сериала, который мы с Бойфрендом в обнимку смотрели на моем диване. На фоне двигают камеры и освещение, и я вижу интерьер спальни, которая миллион раз мелькала на экране моего телевизора. В кадре появляется лицо Джона.
– Погодите секунду, – так он приветствует меня и исчезает, а я смотрю на его ноги. Сегодня он надел модные кроссовки «в шашечку» и, кажется, он собирается пройтись – вместе со мной. Вероятно, он ищет уединения. Вместе с обувью я вижу толстые провода на полу и слышу суматоху на заднем плане. Потом лицо Джона возвращается.
– О’кей, – говорит он. – Я готов.
Теперь за ним стена, и он начинает быстро шептать:
– Это все Марго и ее психотерапевт-идиот. Не знаю, как этот человек получил лицензию, но он делает все только хуже. Она должна была лечить депрессию, но теперь еще больше злится на меня: я, видите ли, вечно недоступен, я не слушаю, я отдаляюсь от нее, я избегаю ее, я забыл что-то из списка дел. Я уже говорил, что она создала нам общий гугл-календарь, чтобы убедиться, что я не забуду важные вещи? – свободной рукой Джон изображает в воздухе кавычки, говоря слово «важные». – Теперь я еще сильнее задерган, потому что мой календарь полон событий Марго, а у меня и без того плотный график!
Джон обсуждал это со мной и раньше, так что я не понимаю, что такого срочного случилось сегодня. Изначально он сам отправил Марго на психотерапию («Чтобы она могла жаловаться ему»), но как только она начала ходить на сессии, Джон стал часто рассказывать, что этот «психотерапевт-идиот промывает мозги» его жене и «пихает ей в голову безумные идеи». По моим ощущениям, психотерапевт помогал Марго яснее понять, с чем она готова мириться, а с чем нет, и что такое исследование назрело давно. В том смысле, что быть замужем за Джоном наверняка непросто.
Однако я понимала и Джона, потому что его реакция была обычной. Когда один человек в семье начинает меняться – даже если эти изменения здоровы и позитивны, – нет ничего странного в том, что остальные члены этой системы делают все возможное, чтобы сохранить статус-кво и вернуться к привычному состоянию. Например, когда зависимый человек бросает пить, члены его семьи часто бессознательно саботируют выздоровление, потому что иначе кому-то придется взять на себя роль проблемной личности. А кому хочется такую роль? Иногда люди даже сопротивляются позитивным изменениям в жизни друзей: «Зачем ты так часто ходишь в спортзал?», «Задержись еще – тебе совершенно не нужно так много сна», «Для чего ты рвешь жилы ради этого повышения? Ты совсем перестал развлекаться!»
Если жена Джона справится со своей депрессией, как Джон сможет сохранить свою роль единственного разумного человека в паре? Если она попытается стать ближе, как ему сохранять комфортную дистанцию, на которой они были все эти годы? Я не удивлена, что Джон отрицательно реагирует на психотерапию Марго. Ее психотерапевт, судя по всему, отлично справляется.
– В общем, – продолжает Джон, – прошлой ночью Марго позвала меня спать, и я сказал, что буду через минуту, потому что мне нужно ответить на несколько писем. Обычно через две минуты она начинает стоять над душой: «Почему ты не идешь спать? Почему ты все время работаешь?» Но вчера ничего такого не было. И я удивился. Я подумал, Господи, наконец-то ее терапия начала работать, и она поняла, что не загонит меня в кровать своим нытьем раньше времени. Я дописал пару писем, а когда пришел в спальню, Марго спала. А этим утром, когда мы проснулись, она сказала: «Я рада, что ты закончил свою работу, но я скучала. Я очень по тебе скучаю. Я просто хочу, чтобы ты знал, как мне тебя не хватает».
Джон смотрит влево, и теперь я слышу то, что слышит он: где-то рядом обсуждают освещение. Без единого предупреждения я снова смотрю, как кроссовки Джона движутся по полу. Когда я вновь вижу его лицо, стены за ним нет, а далеко на фоне смеется звезда сериала, болтая со своим заклятым киношным врагом и возлюбленной, которую он поносит в каждом эпизоде. (Я уверена, именно Джон написал этого героя.)
Я люблю этих актеров, так что сейчас кошусь на всех троих через экран, словно одна из тех людей за ограждениями на премии «Оскар», которые пытаются хотя бы мельком увидеть знаменитость. Вот только здесь нет красной ковровой дорожки, и я смотрю, как они пьют воду из бутылок и обмениваются новостями в перерыве между сценами. Я думаю, что папарацци полжизни бы отдали за эту сцену, и требуется немалая сила воли, чтобы целиком сосредоточиться на Джоне.
– Так вот, – шепчет он, – я знал, что тут что-то нечисто. Я думал, что она вечером все поняла, но, конечно же, с чего началось утро? С жалоб. Так что я сказал: «Ты по мне скучаешь? Что за попытки вызвать во мне чувство вины?» Понимаете, я же дома. Каждый вечер. Я на сто процентов верный, никогда ей не изменял и не собираюсь. Я отлично зарабатываю. Я заботливый отец. Я даже за собакой ухаживаю, потому что Марго сказала, что ее бесит ходить по округе с мешком какашек. А когда я не дома, я работаю. Я же не в Мексику уехал развлекаться. Так что я сказал ей, что могу уволиться, и она будет меньше скучать, потому что я буду болтаться по дому без дела, или могу продолжать работать, чтобы у нас была крыша над головой.
Он кричит кому-то за кадром, что придет через минуту, и продолжает:
– И знаете, что она сделала, когда я это сказал? Она сказала, прямо как Опра, – и он идеально копирует интонации телеведущей, – «Я знаю, что ты многое для нас делаешь, и ценю это, но мне не хватает тебя, даже когда ты дома».
Я пытаюсь вклиниться, но Джона уже понесло. Я никогда не видела его настолько возмущенным.
– На секунду я расслабился, потому что на этой стадии она уже обычно начинает орать, но потом до меня дошло. Это вообще не похоже на Марго. Как будто она что-то замышляет! Потом она сказала: «Мне очень нужно, чтобы ты это услышал». И я сказал: «Я все услышал, о’кей? Я не глухой. Я постараюсь ложиться пораньше, но сперва мне нужно закончить работу». И она сделала такое грустное лицо, будто вот-вот расплачется, а меня просто убивает, когда это происходит, потому что я не хочу огорчать ее. Последнее, чего я хочу, – это расстраивать ее. Но перед тем как я успел что-то сказать, она добавила: «Мне нужно, чтобы ты услышал, как мне тебя не хватает, потому что если ты это не слышишь, то я не знаю, сколько еще смогу говорить тебе об этом». А я спросил: «Мы теперь друг другу угрожаем?» – а она ответила: «Это не угроза, это правда».
Глаза Джона становятся размером с блюдца, а свободная рука зависает в воздухе, словно спрашивая: «Как вам такое, а?»
– Не думаю, что она на самом деле это сделает, – продолжает он, – но я в диком шоке, потому что никто из нас раньше не грозился уйти. Когда мы поженились, то договорились: не важно, насколько мы злимся, мы не будем угрожать друг другу разводом, и ни разу за двенадцать лет мы так не делали.
Он смотрит куда-то вправо. «Ладно, Томми, дай взглянуть…»
Джон перестает говорить, а я снова разглядываю его кроссовки. Когда он заканчивает свои дела с Томми, то снова куда-то идет. Через минуту, когда его лицо возвращается в кадр, он уже снова стоит напротив какой-то стены.
– Джон, – говорю я, – давайте-ка вернемся на шаг назад. Во-первых, я вижу, что вы расстроены словами Марго…
– Словами Марго? Да это не ее слова! Это ее психотерапевт-идиот действует как чревовещатель! Она в восторге от этого парня. Она постоянно цитирует его, как какого-то гребаного гуру. Он наверняка подливает что-то в кулер в приемной, и женщины по всему городу разводятся с мужьями, потому что пьют это дерьмо! Я разузнал о нем побольше, просто чтобы посмотреть, что он собой представляет, и, конечно же, какая-то полоумная ассоциация психотерапевтов выдала ему лицензию. Уэнделл Бронсон, чертов доктор наук.
Уэнделл Бронсон?
Марго ходит к моему Уэнделлу? «Психотерапевт-идиот» – это Уэнделл? У меня мозг взрывается. Интересно, на какое место Марго решила сесть в их первую встречу? Подавал ли Уэнделл ей коробку с салфетками – или она сидела достаточно близко к столику, чтобы взять их самостоятельно? Может, мы как-то встречались на входе или выходе – как насчет той красивой плачущей женщины в приемной? Интересно, упоминала ли она мое имя у Уэнделла? «Джон ходит к отвратительной специалистке, Лори Готтлиб, которая говорит…» Но потом я вспоминаю, что Джон держит в секрете от Марго свои походы на психотерапию – я «девочка по вызову», которой он платит наличными, – и прямо сейчас я невероятно рада такому раскладу. Я не знаю, что делать с этой информацией, так что делаю выбор в пользу того, что психотерапевты научены делать при смешанной реакции на какое-то событие, которое требует времени на обдумывание. Я ничего не делаю – в этот момент. Я разберусь с этим потом.
– Давайте на секунду вернемся к Марго, – говорю я не только Джону, но и себе. – Я думаю, то, что она сказала, очень мило. Она, должно быть, и правда любит вас.
– Чего? Она грозится уйти от меня!
– Давайте посмотрим на это с другой стороны, – отвечаю я. – Мы с вами уже обсуждали разницу между критикой и жалобами: первая содержит осуждение, а вторая – просьбу. Но жалоба может также быть невысказанным комплиментом. Я знаю, что то, что говорит Марго, часто выглядит как череда глупых жалоб. И так оно и есть – но это мило, потому что внутри каждой из них есть негласный комплимент. Это не лучшая форма выражения, но она говорит, что любит вас. Она хочет чаще быть с вами. Она скучает по вам. Она просит вас быть ближе. И сейчас она говорит, что желание быть с вами и не получать взаимности настолько ранит, что она не сможет этого вынести, потому что очень любит вас. – Я делаю паузу, чтобы он успел переварить эту часть сказанного. – Это и правда комплимент.
Я всегда работаю с Джоном над определением того, что он чувствует в данный момент, потому что это регулирует его поведение. Когда мы знаем, какие чувства испытываем, то можем выбрать, что хотим с ними делать. Но если мы подавляем их сразу после появления, то часто сворачиваем не туда, снова теряясь в пучине хаоса.
Мужчинам здесь сложнее, потому что они редко приучены постигать свой внутренний мир: для них говорить о чувствах менее социально приемлемо. Женщины испытывают культурное давление в адрес своей внешности, мужчины же чувствуют аналогичное давление в адрес своего эмоционального облика. Женщины доверяют все сокровенное друзьям или родственникам, а когда мужчины рассказывают о своих эмоциях мне на психотерапии, я почти всегда являюсь первым человеком, который это слышит. Как и дамы, которые являются моими пациентками, мужчины бывают несчастливы в браке, страдают от низкой самооценки, переживают кризис идентичности или недостаток успешности, копят в себе проблемы с родителями и детские переживания, хотят любви и понимания – и все эти темы сложно осмысленно обсудить со своими друзьями мужского пола. Неудивительно, что уровень разного рода зависимостей и самоубийств среди мужчин средних лет продолжает расти. Многим из них кажется, что им просто не к кому с этим обратиться.
Так что я даю Джону время, чтобы он разобрался в своих чувствах насчет «угроз» Марго и более мягкого сообщения, которое может крыться за ними. Я еще ни разу не видела, чтобы он оставался наедине со своими чувствами так надолго, и я впечатлена, что он на это способен.
Глаза Джона скользят вниз и в сторону, что обычно случается, когда что-то сказанное мной задевает уязвимые струны в его душе, и я рада. Нельзя эмоционально вырасти, не раскрывшись и не став уязвимым. Похоже, он все еще пытается осознать, что впервые его влияние на Марго отозвалось.
Наконец Джон снова смотрит на меня:
– Слушайте, прошу прощения, мне пришлось отключить звук. Тут шли съемки. Я все пропустил. Что вы сказали?
Невероятно, мать его! Я в буквальном смысле разговаривала сама с собой. Неудивительно, что Марго хочет уйти! Мне надо было послушать себя и заставить Джона перенести сессию, но я повелась на его «срочно, плиз».
– Джон, – говорю я, – я, правда, хочу вам помочь, но, мне кажется, все это слишком важно, чтобы говорить по Скайпу. Давайте перенесем на то время, когда вы сможете прийти, чтобы нас не отвле…
– Нет-нет, – перебивает он. – Это не может ждать. Я просто должен был рассказать вам предысторию, прежде чем вы с ним поговорите.
– С этим психотерапевтом-идиотом! Очевидно, что он слышал только половину истории, причем не очень точно изложенную. Но вы меня знаете. Вы можете поручиться за меня. Вы можете обрисовать тому парню некоторые перспективы прежде, чем Марго окончательно рехнется.
Я прокручиваю этот сценарий в голове: Джон хочет, чтобы я позвонила своему психотерапевту и обсудила с ним тот факт, что мой пациент не в восторге от психотерапии, которой мой психотерапевт занимается с женой моего пациента.
Даже если бы Уэнделл не был моим психотерапевтом, я бы не стала этого делать. Иногда я звоню другим специалистам, чтобы обсудить пациента, если, скажем, я работаю с парой, а коллега работает с кем-то одним из этой пары, и появляется неотложный повод обменяться информацией (кто-то размышляет о самоубийстве или потенциальном насилии; или мы работаем над чем-то в одних условиях, но было бы полезно поработать в других; или мы хотим получить более полное представление о ситуации). Но в этих редких случаях стороны подписывают соответствующие соглашения. Уэнделл или не Уэнделл – я не могу позвонить психотерапевту жены своего пациента не по клинически важной причине и без подписанных на то согласий от обоих.
– Позвольте вас кое о чем спросить, – говорю я Джону.
– Вы скучаете по Марго?
– Скучаю ли я по ней?
– Вы не собираетесь звонить психотерапевту Марго, так ведь?
– Нет, а вы не собираетесь рассказывать мне, как на самом деле относитесь к ней, так ведь?
Мне кажется, что между Джоном и Марго похоронено много любви, потому что я знаю точно: любовь часто похожа на множество вещей, которые не выглядят как любовь.
Джон улыбается, и я вижу, как кто-то – видимо, Томми – входит в кадр со сценарием в руках. Меня разворачивают к земле так быстро, что голова начинает кружиться, словно на быстром спуске американских горок. Уставившись на кроссовки Джона, я слышу пространные рассуждения о том, должен ли герой – мой любимый герой! – быть полным мудаком в одной сцене, или он начнет осознавать, что он мудак (любопытно, что Джон выбирает осознание). Затем Томми благодарит его и уходит. К моему изумлению, Джон выглядит максимально приятным человеком: он извиняется перед Томми за отсутствие и объясняет, что занят «улаживанием конфликта с сетью вещания» (отлично, я теперь «сеть»). Может быть, он все-таки вежлив с коллегами.
А может быть нет. Он ждет, пока Томми уйдет, потом снова поднимает меня лицом вверх и одними губами произносит «идиот!», указывая взглядом в сторону сотрудника.
– Я просто не понимаю, как ее психотерапевт, мужчина, может не учесть обе стороны, – продолжает он. – Даже вы учитываете обе!
Даже я? Я улыбаюсь.
– Вы только что сделали мне комплимент?
– Без обид. Я просто имел в виду… ну, знаете…
Я знаю, но я хочу, чтобы он это сказал. Он по-своему начал привязываться ко мне, и я хочу, чтобы он побыл в мире своих эмоций чуть дольше. Но Джон возвращается к тираде о том, что психотерапевт вешает Марго лапшу на уши и что Уэнделл шарлатан, потому что его сессии длятся всего сорок пять минут, а не обычные пятьдесят. (Кстати говоря, это напрягает и меня.) Мне приходит в голову, что Джон говорит об Уэнделле так, как муж мог бы говорить о человеке, в которого влюблена его жена. Я думаю, он ревнует и чувствует себя покинутым из-за того, что происходит между ними в кабинете. (Я тоже ревную! Смеется ли Уэнделл над шутками Марго? Нравится ли она ему больше?) Я хочу вернуть Джона к моменту, когда он почти вышел на контакт со мной.
– Рада, что вы чувствуете, будто я вас понимаю, – говорю я. На секунду Джон выглядит похожим на оленя, мечущегося в свете фар, но потом продолжает:
– Все, что я хочу знать, – это что делать с Марго.
– Она уже вам сказала, – говорю я. – Ей вас не хватает. Из опыта общения с вами я знаю, как мастерски вы отталкиваете людей, которым вы небезразличны. Я не ухожу, но Марго говорит, что может это сделать. Так что, возможно, вам стоит попытаться вести себя с ней иначе. Может быть, вы дадите ей понять, что тоже скучаете без нее. – Я делаю паузу. – Потому что я могу ошибаться, но мне кажется, что вам и правда ее не хватает.
Он пожимает плечами, и в этот раз, когда он смотрит вниз, я знаю, что звук не отключен.
– Я скучаю по тому, как у нас все было раньше, – говорит он.
Его голос звучит грустно, а не злобно. Злость – это выход для большинства людей, потому что она направлена вовне: злобно обвиняя других, можно прикидываться тем еще святошей. Но часто это лишь верхушка айсберга, и если вы заглянете под поверхность, то увидите скрытые чувства, о которых не знали или которые не хотели демонстрировать: страх, беспомощность, зависть, одиночество, неуверенность. И если вы сможете вынести эти чувства достаточно долго, чтобы понять их и услышать то, что они вам говорят, вы не только сможете более продуктивно управляться с гневом, но и перестанете постоянно злиться.
Конечно, гнев имеет и другую функцию: он отталкивает людей и держит их на расстоянии. Интересно, Джон заставляет людей злиться на себя, чтобы они не замечали его печаль?
Я начинаю говорить, но кто-то выкрикивает имя Джона, пугая его. Телефон выскальзывает из руки и летит вниз, но как только я думаю, что сейчас мое лицо врежется в пол, Джон ловит мобильный, возвращаясь в камеру.
– Черт, надо идти, – говорит он. Потом, переведя дыхание, добавляет: – Долбаные дебилы.
И экран гаснет.
Судя по всему, наша сессия окончена.
Чтобы скоротать время до прихода следующего пациента, я иду на кухню перекусить. Двое моих коллег уже сидят там. Хиллари заваривает чай. Майк ест сэндвич.
– Гипотетически, – говорю я, – что бы вы сделали, если бы жена вашего пациента посещала вашего психотерапевта, а ваш пациент думал, что этот психотерапевт – идиот?
Они смотрят на меня с поднятыми бровями. Гипотетическое на этой кухне никогда не бывает гипотетическим.
– Я бы сменила психотерапевта, – говорит Хиллари.
– Я бы оставил психотерапевта и поменялся с ним пациентами, – говорит Майк.
Оба смеются.
– Нет, серьезно, – продолжаю я. – Что бы вы сделали? Все еще хуже: он хочет, чтобы я поговорила со своим психотерапевтом о его жене. Жена пока не знает, что он вообще ходит на терапию, так что пока обсуждать нечего, но что, если однажды он ей расскажет и потом захочет, чтобы я обсудила со своим психотерапевтом его жену, а та согласится? Должна ли я сказать, что это мой психотерапевт?
– Обязательно, – говорит Хиллари.
– Не обязательно, – одновременно с ней говорит Майк.
– Вот именно, – говорю я. – Непонятно, что тут делать. А знаете почему? Потому что такое НИКОГДА НЕ СЛУЧАЕТСЯ! Ну когда было хоть что-то подобное?
Хиллари наливает мне чай.
– Однажды ко мне поодиночке ходили два человека, которые только что расстались, – говорит Майк. – У них после развода были разные фамилии и разные адреса, поэтому я не знал, что они были женаты, пока на второй сессии с каждым из них не понял, что слышу одну и ту же историю с разных точек зрения. Их общий друг, мой бывший пациент, дал обоим мои координаты. Мне пришлось отказаться от работы с обоими.
– Допустим, – говорю я. – Но у меня тут не два пациента с конфликтом интересов. Тут замешан мой психотерапевт. Какова вероятность подобного?
Я замечаю, что Хиллари смотрит в сторону.
– Что такое? – спрашиваю я.
Майк смотрит на нее. Она краснеет.
– Выкладывай, – говорит он.
Хиллари вздыхает.
– Ладно. Лет двадцать назад, когда я только начинала, я работала с молодым человеком в депрессии. Мне казалось, что он идет на поправку, но потом лечение будто застопорилось. Я решила, что он не готов двигаться дальше, но на самом деле мне просто не хватало опыта, я была слишком «зеленой», чтобы понять разницу. Короче, он ушел, а где-то через год я наткнулась на него у моего психотерапевта.
Майк ухмыляется:
– Твой пациент ушел к твоему психотерапевту?
Хиллари кивает:
– Самое забавное, что во время психотерапии я говорила о том, как застряла с одним пациентом и какой беспомощной себя ощущала, когда он ушел. Я уверена, что пациент рассказывал моему врачу о своем бездарном бывшем психотерапевте и в какой-то момент назвал меня по имени. Мой психотерапевт наверняка смекнула, что к чему.
Я обдумываю это применительно к ситуации с Уэнделлом.
– Но она никогда ничего не рассказывала тебе?
– Никогда, – говорит Хиллари. – Так что однажды я сама подняла эту тему. Но, конечно, она не могла сказать, что работает с этим парнем, так что мы поддерживали разговор о том, как я справляюсь со своей неуверенностью в роли молодого специалиста. Пффф. Что я чувствовала? Да мне было плевать. Я просто умирала от желания узнать, как продвигается их работа и что она делает иначе, чтобы все сработало.
– Ты никогда не узнаешь, – говорю я.
Хиллари кивает:
– Я никогда не узнаю.
– Мы как сейфы, – говорит Майк. – В нас не прорваться.
Хиллари поворачивается ко мне:
– Так что, ты расскажешь об этом своему психотерапевту?
Оба пожимают плечами. Майк смотрит на часы и выбрасывает мусор в корзину. Мы с Хиллари допиваем чай. Наступает время следующих сессий. На кухонной панели поочередно загораются зеленые лампочки, и мы выходим, чтобы забрать своих пациентов из приемной.
– Хммм, – говорит Уэнделл, когда я выкладываю историю о своей книге во время сессии. Мне понадобилось время, чтобы набраться смелости и все ему рассказать.
Две недели я садилась на место В, планируя признание, но когда мы сидим лицом к лицу, наискосок друг от друга, что-то меня останавливает. Я говорю об учительнице своего сына (забеременела), здоровье отца (плохое), шоколаде (уход темы в сторону, признаю), появляющихся на лбу морщинах (не уход в сторону, внезапно) и смысле жизни (моей). Уэнделл пытается вывести меня на разговор, но я так быстро меняю предмет беседы, что ему за мной не угнаться. Или я так думаю.
Уэнделл вдруг беспричинно зевает. Это фальшивый зевок, стратегический – широкий, эффектный, всепоглощающий. Это зевок, говорящий: «Пока ты не расскажешь мне, что у тебя на уме, ты так и будешь торчать на одном месте». Потом он откидывается назад и изучает меня.
– Я должна вам кое-что сказать, – говорю я.
Он смотрит на меня. Да быть того не может.
И я выкладываю всю историю одним махом.
– Хммм, – снова говорит он. – То есть вы не хотите писать эту книгу.
– А если ее не сдать, будут серьезные финансовые и профессиональные последствия?
– Именно. – Я пожимаю плечами, показывая, как облажалась. – Если бы я просто написала ту книгу для родителей, – говорю я, – я бы сейчас не была в такой ситуации.
Это мотив, который я мысленно повторяю каждый день – иногда каждый час – последние несколько лет.
Уэнделл снова пожимает плечами, улыбается и ждет. Привычная рутина.
– Знаю, – вздыхаю я. – Я сделала колоссальную, неисправимую ошибку.
Паника снова подступает.
– Я не об этом думаю, – говорит он.
– А о чем тогда?
Он начинает напевать:
– Половина жизни закончена, оуууу, еееее. Полжизни мимо прошло…
Я закатываю глаза, но он продолжает. Звучит как блюз, и я пытаюсь вспомнить мотив. Этта Джеймс? Би Би Кинг?
– Назад бы вернуться и все изменить. Все правильно сделать сейчас…
А потом я понимаю, что это не какая-то известная песня. Это Уэнделл Бронсон, импровизирующий поэт. Стихи ужасны, но меня поражает его сильный, глубокий голос.
Песня продолжается, и он всерьез увлечен ей. Притопывает ногами. Щелкает пальцами. Если бы мы встретились где-то на улице, я бы решила, что это какой-то фрик в кардигане, но здесь меня поражает его уверенность, его спонтанность и желание быть самим собой. Ему абсолютно все равно, что он может показаться непрофессиональным или глупым. Мне и в голову не придет так вести себя перед пациентами.
– Полжизни мимо про-о-о-ошло. – Это финал, и он заканчивает жестом «джазовые руки»[16].
Затем он перестает петь и серьезно смотрит на меня. Мне хочется сказать ему, что он начинает раздражать, что он упрощает проблему, которая реально безмерно тревожит меня. Но я не успеваю это сказать: грусть накатывает словно из ниоткуда. Его мотивчик звучит у меня в голове.
– Похоже на стихотворение поэтессы Мэри Оливер, – говорю я Уэнделлу. – «Как ты поступишь со своей единственной дикой и драгоценной жизнью?»[17] Мне казалось, я знала, чего хочу, но все изменилось. Я собиралась быть с Бойфрендом. Я собиралась писать то, что для меня важно. Я никогда не думала…
– …что окажусь в такой ситуации. – Уэнделл смотрит на меня. Ну вот, опять. Мы как давно женатая пара, все заканчиваем фразы друг за другом.
Но потом Уэнделл замолкает, и это не похоже на то намеренное молчание, к которому я привыкла. Я думаю, что, возможно, Уэнделл в тупике; я тоже иногда захожу в тупик, когда мои пациенты стопорятся, и я вместе с ними. Он и зевал, и пел, и пытался сфокусировать мое внимание на главном, и задавал важные вопросы. Но я снова в своей привычной среде – оплакиваю потери.
– Я думаю о том, что вам нужно в такой ситуации, – говорит он. – Как, вы считаете, я могу вам помочь?
Этот вопрос поражает меня. Я не понимаю, он пытается заручиться моей помощью как коллега или спрашивает меня как пациентку. Но я в любом случае не могу дать ответ. Чего я на самом деле хочу от психотерапии?
– Я не знаю, – говорю я, и как только я произношу эти слова, мне становится страшно. Может быть, Уэнделл не может мне помочь. Может быть, никто не может. Может быть, я просто должна научиться жить с последствиями выбора, который раз за разом делаю.
– Думаю, я могу помочь – говорит он, – но не так, как вы это себе представляете. Я не могу вернуть Бойфренда, не могу дать вам шанс начать все сначала. А теперь вы, оказывается, влипли в эту историю с книгой и хотите, чтобы я спас вас и от этого тоже. Но это не в моих силах.
Я фыркаю от того, насколько все это нелепо.
– Я не хочу, чтобы вы меня спасали, – говорю я. – Я глава семьи, а не дева в беде.
Он смотрит мне в глаза. Я отвожу взгляд.
– Никто вас не спасет, – тихо говорит он.
– Но я и не хочу, чтобы меня спасали! – настаиваю я, в то время как часть меня удивляется: правда? Разве не все в глубине души этого хотят? Я думаю о том, что люди приходят на психотерапию, ожидая улучшения, – но что такое это самое «улучшение»?
На холодильнике в моем офисе висит прилепленный кем-то магнит, на котором написано: «ПОКОЙ. ЭТО НЕ ЗНАЧИТ ОКАЗАТЬСЯ В МЕСТЕ, ГДЕ НЕТ ШУМА, БЕД ИЛИ ТЯЖЕЛОЙ РАБОТЫ. ЭТО ЗНАЧИТ БЫТЬ В ЭПИЦЕНТРЕ ВСЕГО ЭТОГО И ВСЕ РАВНО ОСТАВАТЬСЯ УМИРОТВОРЕННЫМ В СЕРДЦЕ СВОЕМ». Мы помогаем пациентам найти покой, но, скорее, другого плана, чем тот, которого они сами ждут. Как сказал покойный психотерапевт Джон Уикленд: «До успешной терапии одна и та же дерьмовая вещь случается снова и снова. После успешной психотерапии случается одна дерьмовая вещь за другой дерьмовой вещью».
Я знаю, что психотерапия не растворит в воздухе все мои проблемы, не предотвратит развитие новых и не поможет мне всегда быть в просветленном состоянии. Психотерапевты не проводят операции по пересадке личности, они лишь сглаживают острые края. Пациент может стать менее раздражительным или осуждающим, более открытым и способным подпускать людей ближе. Другими словами, психотерапия – это о том, чтобы понять, кто ты есть. Но часть познания себя – не знать себя, забыть ограничивающие, загоняющие в ловушку истории, которые ты рассказываешь себе о себе. Все это – чтобы жить своей жизнью, а не мысленной историей.
Но как помочь людям сделать это – другой вопрос.
Я мысленно прокручиваю в голове свои проблемы. Должна написать книгу, чтобы иметь крышу над головой. Отвергла возможность написать книгу, которая могла бы обеспечить крышу над головой на долгие годы. Не могу написать глупую книгу на глупую тему, которая делает меня несчастной. Должна заставить себя написать глупую несчастную книгу о счастье. Пытаюсь заставить себя написать глупое несчастное счастье, но обнаруживаю себя в Фейсбуке, завидующей всем тем людям, которые умудряются справляться со всем дерьмом в своей жизни.
Я помню цитату Эйнштейна: «Ни одну проблему нельзя решить на том же уровне сознания, на котором она возникла». Мне всегда казалось, что в этом есть смысл, но, как и многие из нас, я думаю, что способна найти выход из всего, обдумывая то, как я нашла вход.
– Я просто не понимаю, где здесь выход, – говорю я. – И я не только о книге. Я имею в виду все, что произошло.
Уэнделл откидывается назад, выпрямляет и снова скрещивает ноги, потом закрывает глаза – кажется, он так делает, когда пытается собраться с мыслями.
Когда он снова открывает глаза, мы какое-то время сидим молча – два психотерапевта, которым комфортно быть вместе в долгой тишине. Я откидываюсь назад и упиваюсь этим чувством, думая о том, как бы мне хотелось, чтобы каждый мог делать так в повседневной жизни – просто сидеть с кем-то без телефонов, ноутбуков, телевидения или дурацкой болтовни. Просто присутствовать. Подобное сидение одновременно расслабляет меня и заряжает энергией.
Наконец Уэнделл заговаривает.
– Мне вспоминается, – начинает он, – один известный мультик. Герой там вроде как узник, и он трясет прутья в отчаянной попытке выбраться – но справа и слева от него нет решетки.
Он делает паузу, позволяя образу всплыть в моей голове.
– Ему надо всего лишь обойти вокруг. Но он все равно отчаянно трясет решетку. И большинство людей именно такие. Мы чувствуем себя запертыми, загнанными в эти эмоциональные клетки, но всегда есть выход – если мы хотим его видеть.
Он позволяет этим последним словам повиснуть между нами. Если мы хотим его видеть. Он делает жест в сторону воображаемой тюремной камеры, предлагая и мне увидеть ее.
Я отворачиваюсь, но чувствую на себе взгляд Уэнделла.
Я вздыхаю. Ладно.
Я закрываю глаза, делаю вдох и начинаю представлять тюрьму: крошечную клетку с серо-бежевыми стенами. Я представляю металлические решетки – толстые, серые, ржавые. Я представляю себя в оранжевом комбинезоне, разъяренно трясущую эти решетки, молящую о свободе. Я представляю себе жизнь в этой маленькой камере, где нет ничего, кроме запаха мочи и мрачной перспективы ограниченного будущего. Я представляю крик. «Выпустите меня отсюда! Спасите меня!» Я представляю, как лихорадочно смотрю направо, потом налево, а потом делаю это снова… Все мое тело отзывается – я чувствую себя гораздо легче, словно с плеч спал вес в несколько тонн, когда меня настигает осознание: ты и есть свой собственный тюремщик.
Я открываю глаза и смотрю на Уэнделла. Он поднимает правую бровь, словно говоря: «Я знаю, что ты увидела. Я видел, как ты видела».
«Смотрите дальше», – шепчет он.
Я снова закрываю глаза. Сейчас я обхожу решетки и иду к выходу – поначалу нерешительно, но по мере приближения к нему постепенно начинаю бежать. Снаружи я чувствую землю под ногами, ветерок на коже, греющие лучи солнца. Я свободна! Я бегу так быстро, как только могу, а через некоторое время замедляюсь и смотрю, что у меня за спиной. Никаких стражников и погони. Мне кажется, что там и не было никаких стражников. Ну конечно!
Большинство людей приходит на психотерапию, чувствуя себя загнанными – пойманными в плен мыслей, поведения, брака, работы, страхов или прошлого. Иногда мы сами заключаем себя в тюрьму нарративом о самобичевании. Можно верить в одно из двух, основываясь на имеющихся свидетельствах (я достоин любви? я не достоин любви?), и мы часто выбираем то, что заставляет нас чувствовать себя плохо. Почему наше радио вечно крутит станции с помехами (станция «все-люди-лучше-меня», станция «я-не-доверяю-людям», станция «мне-ничего-не-поможет»), а мы не поворачиваем колесико-переключатель влево или вправо? Сменить радиостанцию. Обойти решетку. Кто останавливает нас, кроме нас самих?
Всегда есть выход – если мы хотим его видеть. Подумать только, мультик разъяснил мне смысл жизни.
Я открываю глаза и улыбаюсь, и Уэнделл улыбается в ответ. Это заговорщицкая улыбка, он словно говорит: «Не дай себя обмануть. Может показаться, что это потрясающий прорыв, но это лишь начало». Я отлично знаю, какие задачи ждут впереди, и Уэнделл знает, что я знаю, потому что мы знаем кое-что еще: свобода влечет за собой ответственность, а глубоко внутри большинство из нас находит ее пугающей.
Может быть, безопаснее оставаться в тюрьме? Я снова представляю решетки без боковых стен. Часть меня хочет остаться, другая – уйти. Я выбираю уйти. Но обойти решетку в своем сознании – не то же самое, что провернуть такой трюк в настоящей жизни.
«Инсайт – утешительный приз для психотерапевта» – мой любимый афоризм в этом ремесле, означающий, что можно уловить все инсайты мира, но если ты не меняешь свое место в нем, то инсайты – и вся психотерапия – бесполезны. Они позволяют спросить себя: «То, что со мной происходит, приходит извне, или я сам поступаю так с собой?» Ответы дают варианты выбора, и только вы решаете, какому из них следовать.
– Вы готовы начать говорить о битве, которую ведете? – спрашивает Уэнделл.
– Вы имеете в виду с Бойфрендом? – начинаю я. – Или с собой?..
– Нет, я о вашей битве со смертью, – говорит Уэнделл.
На секунду я сбита с толку, а потом вспоминаю сон о встрече с Бойфрендом в торговом центре. «Ты уже написала книгу? – Какую книгу? – Книгу о своей смерти».
О. Боже. Мой.
Обычно психотерапевты идут на несколько шагов впереди своих пациентов – не потому, что мы умнее или мудрее, просто у нас есть преимущество видеть жизнь снаружи. Я могу сказать пациенту, который купил помолвочное кольцо, но никак не может найти подходящее время и сделать предложение своей девушке: «Я не думаю, что вы уверены в своем желании жениться на ней». А он ответит: «Что? Конечно, хочу! В эти выходные все сделаю!» А потом он возвращается домой и не делает предложение, потому что погода испортилась, а он хотел сделать это на пляже. Мы можем неделями вести один и тот же диалог, пока однажды он не придет и не скажет: «Может быть, я не хочу жениться на ней». Многие люди, которые говорят, что «это не про них», через неделю, или месяц, или год обнаруживают, что говорят: «Ну вообще-то да, это про меня».
Я подозреваю, что Уэнделл приберегал этот вопрос, ожидая подходящего момента. Психотерапевты всегда ищут баланс между формированием доверительного союза и ведением настоящей работы, чтобы пациент не продолжил страдать. С самого начала мы движемся и медленно, и быстро, замедляя содержательную часть, ускоряя закрепление отношений, стратегически сажая семена по пути. С природой точно так же: если вы посадите семена слишком рано, они не прорастут. Если посадите слишком поздно, они могут взойти, но вы пропустите самую плодородную пору. Если вы посадите их точно в срок, они вберут все питательные вещества и будут расти. Наша работа – замысловатый танец поддержки и конфронтаций.
Уэнделл спрашивает о моей битве со смертью в правильный момент – но по большему количеству причин, чем он может знать теоретически.
23 Trader Joe’s
В субботу утром в супермаркете Trader Joe’s очень много народа, и я оглядываю очереди, пытаясь понять, какая из них короче, пока мой сын устремляется к витринам с шоколадными батончиками. Несмотря на хаос, кассиры кажутся невозмутимыми. Молодой человек, чьи руки покрыты татуировками, звонит в колокольчик, а упаковщица в леггинсах складывает покупки покупателей, пританцовывая и дурачась под дребезжащую музыку. В соседнем проходе хипстер с ирокезом требует проверить цену, а в конце ряда симпатичная блондинка на кассе жонглирует апельсинами, чтобы развлечь малыша, который безудержно рыдает в коляске.
Только через минуту до меня доходит, что жонглирующая кассирша – это моя пациентка Джулия. Я еще не видела ее новый парик, хотя она упоминала о нем на психотерапии. «Не слишком безумно?» – спрашивала она меня, напоминая об обещании сказать ей, когда она перейдет черту. Тот же вопрос она задала перед тем, как ответить на объявление о поисках певицы в местную группу, поехать на игровое шоу и записаться в буддистский ретрит, где нужно молчать несколько недель. Все это было до того, как магическое лекарство сотворило свою магию с ее опухолями.
Мне нравилось наблюдать за тем, как она выбирается из своей скорлупы. Ей всегда казалось, что получение должности в университете даст ей свободу, но теперь она пробовала на вкус совершенно иные, неожиданные виды свободы.
– Это еще не слишком за гранью? – спрашивала она время от времени, рассказывая об очередной идее. Ей не терпелось свернуть с намеченного курса, но не настолько далеко, чтобы заблудиться. До сих пор ничего из того, что она предлагала, не удивляло меня.
Потом наконец у Джулии появилась мысль, которая застала меня врасплох. Она сказала, что в какой-то день – в одну из тех недель, когда она была уверена, что скоро умрет, – она стояла в очереди в Trader Joe’s и внезапно поняла, что ее гипнотизирует работа кассиров. Они казались настолько собой в своем взаимодействии с покупателями и друг с другом; они обсуждали всякие будничные темы, которые на самом деле были значимы в повседневной жизни: еда, транспорт, погода. Как отличалась эта работа от ее собственной, которую она любила, но которая постоянно давила на нее необходимостью выдавать новые публикации и позиционировать себя в выгодном ключе. Не имея возможности строить планы на далекое будущее, она представила себе, как занимается делом, у которого постоянно есть ощутимый результат: ты пакуешь покупки, подбадриваешь покупателя, расставляешь товары. К концу дня ты делаешь что-то конкретное и полезное.
Джулия решила, что если у нее останется, скажем, один год жизни, то она подаст заявление на вакансию кассира выходного дня в Trader Joe’s. Она знала, что идеализирует эту работу. Но она все равно хотела испытать это чувство общности и осмысленности, хотела быть малой частью жизни множества людей – даже если это всего лишь тот краткий момент, когда они заезжают за покупками.
– Может быть, Trader Joe’s отлично впишется в мою Голландию, – сказала она мне.
Я чувствовала какое-то внутреннее сопротивление и провела минуту в попытках понять, почему. Это могло быть как-то связано с дилеммой, с которой я столкнулась в лечении Джулии. Если бы у нее не было рака, я бы попыталась помочь ей увидеть ту внутреннюю часть своей личности, которая была так долго подавлена. Казалось, она только начала приподнимать крышку для тех аспектов себя, которым давно уже нечем дышать.
Но есть ли смысл заниматься психотерапией с умирающей девушкой, или стоит просто предложить ей поддержку? Должна ли я обращаться с Джулией как с любым здоровым пациентом и ставить более амбициозные цели? Или я должна просто предоставить ей комфорт, не создавая дополнительных сложностей? Мне было интересно, задалась бы Джулия когда-нибудь вопросами о риске, безопасности и скрытой за тревожностью части ее идентичности, если бы не столкнулась с ужасом неминуемой смерти? А теперь, когда это произошло, насколько далеко мы хотим зайти?
Со всеми этими вопросами мы сталкиваемся в более мягком варианте. Как много мы хотим знать? Что такое «слишком много»? И как выглядит это «слишком много», когда ты умираешь?
Фантазия о Trader Joe’s, казалось, представляла своего рода бегство – так ребенок говорит, что уедет в Диснейленд, – и мне было любопытно, как эта мысль соотносится с предраковой личностью Джулии. Но больше всего меня волновало, сможет ли она физически вынести эту работу. Экспериментальное лечение очень утомляло ее. Ей нужен был отдых.
Ее муж, сказала он, подумал, что она сошла с ума. «Тебе осталось жить всего ничего, а ты мечтаешь о том, чтобы работать в Trader Joe’s?» – спрашивал он. «Почему бы и нет? Что бы ты делал, если бы тебе остался год жизни или около того?» – возражала Джулия. «Я бы работал меньше, – сказал он, – а не больше».
Когда Джулия рассказала мне о реакции Мэтта, мне пришло в голову, что мы оба не поддержали ее, хотя оба хотели, чтобы она была счастлива. Конечно, существовали и некоторые практические сомнения, но не было ли наше волнение вызвано тем, что мы оба странным образом завидовали Джулии и ее решению исполнить мечту, какой бы странной она ни была? Психотерапевты говорят пациентам: следуй за своей завистью – она покажет, чего ты хочешь. Неужели мы, наблюдая, как расцветает Джулия, обнаружили, что у нас не хватает духу следовать за собственными эквивалентами работы в Trader Joe’s, и захотели, чтобы Джулия оставалась такой же – мечтающей, но не делающей, ограниченной тюремными решетками в открытой камере?
Или, может быть, такой была только я.
«Кроме того, – сказал Мэтт в беседе с Джулией, – разве ты не хочешь провести это время вместе?» Джулия сказала, что, конечно же, хочет. Но еще она хочет работать в Trader Joe’s, и это стало своего рода навязчивой идеей. Она написала в супермаркет и в тот день, когда узнала, что опухоль отступила, получила предложение работать утренним кассиром по субботам.
Сидя в моем кабинете, Джулия достала телефон и включила оба голосовых сообщения: одно – от онколога, второе – от менеджера в Trader Joe’s. Она сияла так, словно не просто выиграла в казино, а сорвала самый большой куш из всех возможных.
– Я согласилась, – сказала она, когда сообщение от Trader Joe’s прервалось. Она объяснила, что никто не знает, вернется ли опухоль, а она не хочет просто добавлять вещи в свой прижизненный список – она хочет их еще и вычеркивать.
– Его нужно сокращать, – сказала она. – Иначе какой в нем смысл?
И вот я стою в супермаркете и не знаю, в какую очередь встать. Конечно, я знала, что Джулия вышла на работу в Trader Joe’s, но я и понятия не имела, что именно в этот.
Она еще не видит меня, и я не могу удержаться и наблюдаю за ней издалека. Она звонит в колокольчик, чтобы подошел упаковщик, дает ребенку наклейки, вместе с покупателем смеется над чем-то, чего я не слышу. Она словно Королева Кассиров, человек-вечеринка, к которой все хотят быть причастны. Кажется, люди ее знают – и это неудивительно: она невероятно ловко справляется, и очередь движется быстро. Я чувствую, как мои глаза увлажняются, а в следующее мгновение слышу, как мой сын зовет: «Мам, давай сюда!» – и пристраивается в очередь к кассе Джулии.
Я теряюсь. В конце концов, Джулия может почувствовать себя неловко, пробивая товары своего психотерапевта. Честно говоря, я тоже могу почувствовать себя неловко. Она так мало обо мне знает, что даже содержимое моей тележки кажется слишком откровенным. Но главное: я думаю о том, как Джулия рассказала о печали, которую испытывает, глядя на детей своих друзей, пока они с мужем сами пытаются стать родителями. Будет ли она чувствовать то же самое, увидев моего сына?
– Иди сюда, – отвечаю я, жестом предлагая Заку перейти в другую очередь.
– Но эта короче! – кричит он. И, конечно же, она короче, потому что Джулия делает свою работу чертовски великолепно; и именно в этот момент Джулия смотрит на моего сына и прослеживает его взгляд в мою сторону.
Спалилась.
Я улыбаюсь. Она улыбается. Я все еще стою в другой очереди, но Джулия говорит: «Леди, послушайте мальчика. Эта очередь короче!» – и я перехожу к Заку в очередь к ней.
Я стараюсь не пялиться на нее, пока мы ждем, но ничего не могу с собой поделать. Я смотрю на настоящую версию видения, которое она описывала на своей психотерапевтической сессии: ее мечта в прямом смысле сбылась. Когда мы с Заком подходим к кассе, Джулия перекидывается с нами шутками, как и с другими покупателями.
– Joe’s O’s, – говорит она моему сыну. – Отличный завтрак.
– Это маме, – отвечает он. – Без обид, но мне больше нравятся хлопья Cheerios.
Джулия оглядывается, чтобы убедиться, что никто не подслушивает, подмигивает ему и шепчет:
– Никому не говори, но мне тоже.
Остаток времени они проводят, обсуждая достоинства различных шоколадных батончиков, которые выбрал мой сын. Мы прощаемся и забираем тележку с покупками; Зак на ходу рассматривает наклейки, полученные от Джулии.
– Мне нравится эта девушка, – говорит он.
– Мне тоже, – говорю я.
Только через полчаса, распаковывая сумки на кухне, я замечаю какую-то надпись на чеке.
Это слова «Я беременна!».
24 Привет, семейство!
ПРИМЕЧАНИЕ К ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ: РИТА
Пациентка – разведенная женщина, которая жалуется на депрессию. Выражает сожаление по поводу плохо прожитой жизни и того, что считает «серией плохих выборов». Говорит, что если ее жизнь не улучшится за год, то она планирует «покончить с этим».
– Я хочу вам кое-что показать, – говорит Рита.
Мы стоим между приемной и моим кабинетом, и она передает мне свой мобильный телефон. Рита никогда раньше так не делала и уж точно не начинала говорить со мной до того, как мы устраивались в офисе за закрытой дверью, так что я удивлена. Она жестом показывает, на что я должна взглянуть.
На экране открыт профиль человека из приложения для знакомств под названием Bumble. Рита начала пользоваться им не так давно, потому что в отличие от приложений вроде Tinder, больше ориентированных на разовые встречи ради секса («Отвратительно!» – сказала она), в Bumble только женщина может написать мужчине первой. Вот так совпадение: моя подруга Джен только что увидела статью об этом приложении и переслала ее мне с комментарием: «До времен, когда ты снова будешь готова ходить на свидания». Я ответила: «“Когда” еще не наступило».
Я перевожу взгляд с телефона на Риту.
– И? – спрашивает она, пока мы проходим в офис.
– Что «и»? – уточняю я, возвращая ей телефон. Не совсем понимаю, что она хочет узнать.
– Что «и»? – недоверчиво передразнивает она. – Ему восемьдесят два! Я сама не девочка, но увольте! Я знаю, как восьмидесятилетние выглядят голыми, и после этого мне неделю снились кошмары. Простите, но семьдесят пять – это мой лимит. И не пытайтесь меня переубедить!
Рите, я забыла упомянуть, шестьдесят девять лет.
Несколько недель назад, после месяцев подбадривания и поддержки, Рита решила опробовать приложение для знакомств. В конце концов, в повседневной жизни ей попадалось не так много одиноких пожилых мужчин; еще меньше среди них было тех, кто подходил под ее требования: умный, добрый, обеспеченный («Мне не нужен человек, который ищет и сиделку, и копилку») и в хорошей физической форме («Кто-то, у кого еще может своевременно возникнуть эрекция»). Наличие волос опционально, зубы обязательны.
Перед восьмидесятилетним кандидатом был один джентльмен ее возраста, который оказался не слишком джентльменом. Они сходили поужинать, и в вечер накануне того, что должно было стать их вторым свиданием, Рита отправила ему рецепт и фото блюда, которое он хотел попробовать. «Ммм, – ответил он. – Выглядит вкусно». Рита собиралась ответить, но затем всплыло еще одно «Ммм», за которым последовало «Ты меня убиваешь», потом – «Если ты не остановишься, я не устою», а еще через минуту – «Извини, я писал дочери о больной спине».
– Больная спина, да глаза б мои не видели этого извращенца! – восклицала Рита. – Он делал непонятно что непонятно с кем, и он однозначно говорил не о том блюде из семги!
Второго свидания не было; свиданий вообще не было, пока она не встретила восьмидесятилетнего.
Рита пришла ко мне в начале весны. Во время нашего первого сеанса она была так подавлена, что, пока она рассказывала свою историю, мне казалось, что она читает некролог. Последняя строчка уже написана, и ее жизнь, как она считала, была трагедией. Трижды разведенная мать четырех проблемных людей (все из-за того, что она плохая мать, объяснила она), не имеющая внуков и живущая одна, вышедшая на пенсию с нелюбимой работы, Рита не видела причин просыпаться утром.
Ее список ошибок был длинным: выбирала не тех мужей, не смогла поставить потребности детей выше своих собственных (в том числе не защитила их от отца-алкоголика), не использовала свои таланты в карьерных вопросах, не пыталась завести друзей, когда была моложе. Она закостенела в своем отрицании, пока это работало. Но вот недавно подход перестал быть столь действенным. Даже рисование – единственное занятие, которое приносило ей радость и которое ей всегда удавалось, – перестало ее интересовать.
Приближался ее семидесятый день рождения, и она заключила с собой пари, что сделает свою жизнь лучше или вообще перестанет жить.
– Думаю, мне уже нельзя помочь, – подытожила она. – Но я хочу попытаться в последний раз, чтобы знать наверняка.
Никакого давления, подумала я. Суицидальные мысли – частое явление при депрессии, но большинство пациентов реагирует на лечение и никогда не действует сообразно этим безнадежным импульсам. Однако как только люди начинают чувствовать себя лучше, риск самоубийства возрастает. Это тот промежуток времени, когда они уже не подавлены настолько, что прием пищи или одевание кажется подвигом, но они все еще испытывают достаточно боли, чтобы мечтать покончить с ней – это опасная смесь остаточного дистресса и вновь приобретенной энергии. Как только депрессия проходит и суицидальные мысли затихают, открывается новое окно. Именно тогда человек может сделать что-то, что значительно улучшит его жизнь на долгое время.
Всякий раз, когда речь заходит о самоубийстве – когда либо пациент, либо психотерапевт поднимает эту тему (ее обсуждение, вопреки переживаниям многих, не «подкидывает» идею в голову человека), – специалист должен оценить ситуацию. Есть ли у пациента конкретный план? Есть ли способы воплотить его в жизнь (наличие оружия в доме, отъезд супруга)? Были ли ранее попытки? Есть ли общеизвестные факторы риска (недостаток социальной поддержки или мужской пол: мужчины совершают самоубийства в три раза чаще женщин)? Часто люди говорят о самоубийстве не потому, что хотят умереть, а потому что хотят, чтобы боль прекратилась. Если есть способ это сделать, пациенты чаще всего охотно готовы жить дальше. Мы настолько полно оцениваем все факторы, насколько это возможно, и если немедленной опасности нет, то мы пристально мониторим состояние человека и работаем с ним. Если же, однако, человек настроен на самоубийство, существует череда шагов, направленных на его предотвращение.
Рита сказала, что сделает это, но четко дала понять, что будет ждать год и не сделает ничего до юбилея. Она хотела перемен, а не смерти; внутри она уже чувствовала себя мертвой. Так что прямо сейчас суицид не стоял в списке первоочередных проблем.
Что меня на самом деле заботило, так это возраст Риты.
Мне стыдно в этом признаться, но поначалу я переживала, что втайне согласна с мрачными прогнозами Риты. Может быть, ей в самом деле нельзя помочь – или, по крайней мере, нельзя помочь в том, чего она хочет. Предполагается, что психотерапевт – это контейнер для надежды, за которую пациент в депрессии не в силах удержаться, а я не видела здесь особенной надежды. Обычно я вижу возможности, потому что у людей есть что-то, что держит их на плаву: работа, которая вытаскивает их из постели (даже если они не любят эту конкретную деятельность), социальные связи или друзья (пусть один-два, но с ними можно поговорить) или родственные (не всегда стабильные, но они есть). Дети, домашний питомец или религия тоже могут спасти от самоубийства.
Но главное, люди в депрессии, с которыми я работала раньше, были моложе. Податливее. В конкретный момент жизнь могла казаться им мрачной, но у них было время, чтобы изменить положение вещей и создать новую реальность.
Рита скорее походила на персонажа нравоучительной сказки: пожилой человек, совершенно одинокий, лишенный целей и полный сожалений. По ее признанию, ее никто никогда по-настоящему не любил. Единственный и поздний ребенок холодных родителей, она обращалась с собственными детьми так плохо, что ни один из них не разговаривал с ней; у нее не было ни друзей, ни родственников, ни связей с обществом. Ее отец умер много десятилетий назад, а мать скончалась в девяносто лет, долгие годы страдая от болезни Альцгеймера.
Она посмотрела мне в глаза и бросила вызов. Может ли, спросила она, что-то измениться в таком возрасте?
Примерно за год до этого мне позвонил очень уважаемый психиатр, которому было далеко за семьдесят. Он спросил, не смогу ли я поработать с его пациенткой, женщиной лет тридцати, которая собиралась заморозить свои яйцеклетки, находясь в поисках партнера. Он полагал, что этой женщине будет полезна моя консультация, потому что, по его словам, он был недостаточно знаком с тем, как обстоят дела со свиданиями и деторождением у современных тридцатилетних. Теперь я поняла, что он чувствовал. Я не была уверена, что до конца разбираюсь в том, как протекает старение у современных пожилых людей.
Во время учебы мы говорили об уникальных вызовах, с которыми сталкиваются пенсионеры, и все равно этой возрастной группе уделяют очень мало внимания, когда речь идет о душевном здоровье. Для некоторых терапия – это иностранный концепт, вроде DVD-плееров; кроме того, это поколение выросло с уверенностью в том, что они могут «справиться с этим» (чем бы ни было «это») самостоятельно. Другие, живя на пенсию и незначительные сбережения и обращаясь в бесплатные клиники, не чувствуют себя комфортно, когда с ними работают двадцатилетние психотерапевты-интерны. Такие пациенты довольно быстро забрасывают терапию. Некоторые пожилые люди полагают, что их чувства – это нормальная часть старения, и не осознают, что психотерапия может помочь. В результате большинство специалистов видит лишь относительно небольшое число пожилых пациентов в своем кабинете.
При этом жизнь на пенсии занимает значительно большую часть жизни, чем раньше. В отличие от предыдущих поколений шестидесятилетних, их ровесники в XXI веке часто находятся на пике своих знаний, навыков и опыта, но их все еще вытесняют из профессии более молодые сотрудники. Средняя продолжительность жизни в Соединенных Штатах сейчас составляет около восьмидесяти лет, и довольно часто люди живут более девяноста – так что будет с личностью шестидесятилетнего за оставшиеся декады жизни? Со старением приходят и потери: здоровья, рассудка, семьи, друзей, работы и цели.
Но Рита, понимала я, не столкнулась с потерями из-за старения. Скорее так: по мере того как она старела, она начинала осознавать потери, случавшиеся на протяжении всей ее жизни. И вот она ждала второго шанса – шанса, на реализацию которого выделила лишь год. С ее точки зрения, она потеряла уже столько всего, что больше ничего не осталось.
С этой частью я тоже была согласна – по большей части. Оставались еще здоровье и красота. Высокая и стройная, с большими зелеными глазами, высокими скулами и лишь парой седых прядей в натурально-рыжих волосах, Рита словно выиграла в генетическую лотерею: у нее было сложение сорокалетней. (Приходя в ужас от перспективы прожить столько же, сколько ее мать, и постепенно расходуя свои пенсионные накопления, она отказывалась платить за «современный налог на красоту» – эвфемизм для ботокса.) Она каждое утро ходила в спортзал, «просто чтобы была причина подняться с постели». Ее лечащий врач, направивший ее ко мне, говорил, что она «одна из самых здоровых людей, что я видел».
Но по всем другим параметрам Рита казалась мертвой, безжизненной. Даже ее движения были вялыми, она подходила к дивану, словно в замедленной съемке – это признак депрессии, известный как психомоторная ретардация. (Эта замедленная координация работы мозга и тела также объясняет, почему я никак не могла поймать коробку с салфетками в кабинете Уэнделла.)
Часто в самом начале работы с пациентом я прошу его рассказать о прошедших двадцати четырех часах как можно детальнее. Так я получаю представление о текущем положении дел: об уровне вовлеченности в жизнь, чувстве принадлежности к какой-то группе, количестве людей в их жизни, чувстве ответственности и возможных стрессовых факторах, характере отношений и привычном распорядке дня. Это показывает, что большинство из нас даже не задумывается о том, как мы обычно проводим время и что делаем весь день, пока не решит вспомнить его час за часом и произнести все вслух.
Вот как проходили дни Риты: рано встать («Менопауза разрушила мой сон»), съездить в спортзал. Вернуться домой, позавтракать под передачу «Доброе утро, Америка». Порисовать или вздремнуть. Пообедать за чтением газеты. Порисовать или вздремнуть. Разогреть что-то из полуфабрикатов («Зачем стараться и готовить на одного человека?»), посидеть на крыльце («Мне нравится смотреть на малышей и щенков, которых люди выгуливают на закате»), посмотреть «всякий шлак» по телевизору, лечь спать.
Казалось, Рита почти не контактирует с другими людьми. В течение многих дней она могла вообще ни с кем не заговорить. Но больше всего в ее жизни меня поразило не то, насколько она одинока, а то, что почти все, что она говорила или делала, рисовало в моей голове образ смерти. Как писал Эндрю Соломон в своей книге «Демон полуденный»: «Противоположность депрессии – не счастье, а жизненные силы».
Жизненные силы. Да, депрессия у Риты была всю жизнь, и ей трудно пришлось, но я не согласна, что нашим фокусом должно быть ее прошлое. Даже если бы она не поставила себе дедлайн на семидесятилетие, был другой конечный срок, которого никому не избежать: мы все смертны. Как и с Джулией, я гадала, как проводить наши сеансы психотерапии. Может, ей просто нужен был кто-то, с кем можно поговорить, облегчить боль и одиночество? Или же она хотела понять собственную роль в их появлении? Был еще вопрос, с которым я сражалась в офисе Уэнделла: что принять и что изменить в собственной жизни. Но я была на двадцать лет моложе Риты. Не поздно ли было для нее меняться – можно ли с этим вообще «опоздать»? И какой эмоциональный дискомфорт она готова перенести, чтобы понять это? Я думала о том, что сожаление может сработать одним из двух способов: приковать к прошлому или послужить движителем перемен.
Рита сказала, что хочет наладить свою жизнь к семидесяти. Я решила, что вместо копания в прошедших семи десятилетиях нам нужно начать с попытки привнести в ее жизнь немного жизненных сил – сейчас.
– Дружеские отношения? – говорит Рита после того, как я сообщаю, что не буду пытаться отговорить ее от дружеских отношений с мужчинами младше семидесяти пяти. – Дорогуша, не будьте так наивны. Я хочу большего, я же не мертва пока что. Даже я знаю, как заказать кое-что личное на дом через интернет.
Мне требуется минута, чтобы понять, что к чему. Она покупает вибраторы? Отлично!
– Знаете, – добавляет Рита, – сколько времени прошло с тех пор, как ко мне прикасались?
Она начинает описывать свое разочарование от свиданий – и в этом отношении она, по крайней мере, не одинока. Самый частый мотив, который я слышу от одиноких женщин всех возрастов: свидания отстой.
Но и брак для нее был ненамного лучше. Рита встретила мужчину, который стал ее мужем номер один, в двадцать лет, когда ей не терпелось сбежать из опостылевшего дома. Она каждый день ездила в колледж и уже не «умирала от скуки и молчания», а попадала в «мир, полный интересных идей и людей». Но ей также приходилось работать, и, сидя в офисе агентства недвижимости, печатая после занятий отупляющие письма, она оставалась без столь желанной социальной жизни.
На одном из семинаров по английскому появился Ричард, очаровательный старшекурсник-интеллектуал, с которым она вела глубокомысленные разговоры, который вскружил ей голову и увлек в жизнь, о которой она так мечтала. Но пару лет спустя родился их первый ребенок. Тогда Ричард начал больше работать и больше пить; вскоре Рите стало так же скучно и одиноко, как в родительском доме. После четверых детей, бесконечных скандалов и слишком большого количества попоек, во время которых Ричард бил ее и детей, Рита хотела уйти.
Но как? Что она могла сделать? Она не доучилась в колледже, так как она могла обеспечить себя и детей? С Ричардом дети были сыты, одеты, учились в хороших школах и заводили друзей. Что она одна могла им предложить? Рита во многом сама чувствовала себя беспомощным ребенком. Вскоре пить стал не только Ричард.
Только после одного особенно жуткого инцидента Рита набралась смелости уйти, но к тому времени дети были уже подростками, а от семьи остались одни руины.
Через пять лет она вышла за мужа номер два. Эдвард был противоположностью Ричарда: добрый и заботливый вдовец, недавно потерявший жену. Разведясь в тридцать девять лет, Рита вернулась к однообразной секретарской работе (это был ее единственный профессиональный навык, несмотря на острый ум и талант художника). Эдвард был клиентом страхового агентства, где она работала. Они поженились через полгода после знакомства, но Эдвард все еще оплакивал смерть первой жены, а Рита ревновала. Они постоянно ссорились. Брак продлился два года, после чего Эдвард заявил, что с него хватит. Муж номер три ушел к Рите от жены, а через пять лет ушел от Риты к кому-то еще.
Каждый раз Рита была потрясена, оставаясь в одиночестве, но ее история меня не удивила. Мы женимся на наших незавершенных делах.
На следующие десять лет она зареклась с кем-либо встречаться. Да и не то чтобы на ее пути попадалось много мужчин, учитывая, что она либо отсиживалась в своей квартире, либо ходила на аэробику. Потом случилось недавнее потрясение при виде восьмидесятилетнего тела – такого увядшего и обвисшего в сравнении с телом ее последнего мужа, которому в момент развода было всего пятьдесят пять. Рита встретила Мистера Вялого, как она его называла, через приложение, и «поскольку я хотела, чтобы до меня хоть кто-то дотронулся», как она сказала, «я решила, что можно попробовать». Он выглядел моложе своих лет, объяснила она («где-то на семьдесят»), и был довольно красив – в одежде, конечно.
После секса, рассказывала она, он захотел пообниматься, но она сбежала в ванную, где обнаружила «целую аптеку», включая таблетки Виагры. Сочтя эту сцену «отвратительной» (Рита вообще считала многие вещи отвратительными), она подождала, пока кавалер заснет («Его храп звучал так же отвратительно, как его оргазм»), и вызвала такси до дома.
– Больше никогда, – говорит она сейчас.
Я пытаюсь представить себе секс с восьмидесятилетним мужчиной и задаюсь вопросом, не отталкивают ли большинство пожилых людей тела их партнеров. Или это потрясение только для тех, кто никогда раньше не видел подобного? На самом ли деле люди, которые живут вместе пятьдесят лет, не замечают ничего такого, потому что постепенно привыкают к изменениям?
Я вспоминаю, как читала новостную заметку, в которой пару, прожившую вместе более шестидесяти лет, просили поделиться советами счастливого брака. После традиционных словечек о коммуникации и взаимных уступках муж добавил, что они до сих пор занимаются оральным сексом. Естественно, эта история распространилась со скоростью лесного пожара, и большая часть комментаторов выказывала отвращение. Учитывая подсознательные реакции общества на стареющие тела, неудивительно, что к пожилым людям не слишком часто прикасаются.
Но это глубинная человеческая потребность. Доказано, что прикосновения важны для хорошего самочувствия на протяжении всей жизни. Они снижают артериальное давление и уровень стресса, поднимают настроение и улучшают иммунитет. Младенцы могут умереть от недостатка касаний, и взрослые тоже (люди, к которым постоянно прикасаются, живут дольше). Есть даже специальный термин для такого состояния – тактильный голод.
Рита говорит мне, что ходит на педикюр не потому, что ей важно, чтобы ногти на ее ногах были покрыты лаком («Кто их вообще увидит?»), а потому, что единственное человеческое существо, которое к ней прикасается, – это женщина по имени Конни. Конни уже многие годы делает ей педикюр и все еще бегло не говорит по-английски. Но массаж стоп в ее исполнении, если верить Рите, «просто райский».
После третьего развода Рита не знала, как жить, когда к ней никто не прикасался даже раз в неделю. Она стала «дерганой». Потом прошел месяц; потом годы превратились в десятилетие. Ей не нравится тратить деньги на педикюр, которого никто не видит, но есть ли у нее выбор? Эта процедура необходима, потому что иначе Рита сойдет с ума без человеческого контакта.
– Это как проституция: плачу за то, чтобы до меня дотронулись, – говорит она.
Как Джон поступает в отношении меня, думаю я. Я «девочка по вызову» для его эмоций.
– Дело в том, – говорит Рита про восьмидесятилетнего, – что я думала, что будет приятно снова ощутить прикосновения мужчины. Но я, пожалуй, все-таки останусь со своим педикюром.
Я говорю ей, что выбор не должен ограничиваться Конни и восьмидесятилетним, но Рита пронзает меня взглядом, и я знаю, о чем она думает.
– Я не знаю, кого вы встретите, – признаю я. – Но, может быть, вас коснется – физически и эмоционально – кто-то, кто вам небезразличен и кому небезразличны вы. Может быть, к вам будут прикасаться совершенно иным образом, тем, что удовлетворит вас больше, чем все другие отношения, в которых вы были.
Я ожидаю услышать цоканье языком, что для Риты является аналогом закатывания глаз, но она молчит, а ее зеленые глаза наполняются слезами.
– Расскажу вам одну историю, – говорит она, выуживая помятый, использованный бумажный платочек из недр сумочки, хотя коробка чистых салфеток стоит на столе прямо рядом с ней. – В квартире напротив моей живет семья, – начинает она. – Они переехали около года назад. Недавно в городе, копят на дом. Двое маленьких детей. Муж работает из дома и играет с детьми во дворе, сажает их на плечи, катает и гоняет с ними мяч. Делает все то, чего у меня никогда не было.
Она лезет в сумочку за новым платком, не находит его и промокает глаза тем, в который только что сморкалась. Я никак не могу понять, почему она не берет чистую салфетку из коробки, стоящей в паре сантиметров от нее.
– И каждый день, – продолжает она, – примерно в пять мать приходит домой с работы. И каждый день случается одно и то же.
Рита задыхается. Останавливается. Снова сморкается и промокает глаза. Мне хочется крикнуть, чтобы она взяла чертовы салфетки. Эта полная боли женщина, с которой никто не разговаривает и к которой никто не прикасается, не позволяет себе даже взять чистый платок. Рита сжимает в руке то, что осталось от пропитанного соплями комка бумаги, вытирает глаза и делает вдох.
– Каждый день, – продолжает она, – мать достает ключи, открывает дверь и кричит: «Привет, семейство!» Так она с ними здоровается. «Привет, семейство!»
Ее голос срывается, и еще минуту она пытается взять себя в руки. Дети, рассказывает Рита, бегут, визжа от радости, а муж долго и страстно целует. Рита говорит, что видит все это через глазок, который расширила в своих шпионских целях. («Не судите меня», – добавляет она.)
– И знаете, что я делаю? – спрашивает она. – Я знаю, что это жутко мелочно, но я просто закипаю от злости. – Теперь она рыдает. – У меня никогда не было никакого «Привет, семейство»!
Я пытаюсь представить себе, какую семью Рита сейчас может создать – возможно, с новым партнером или при воссоединении со своими взрослыми детьми. Но я обдумываю также другие ее возможности: что она может сделать со своей любовью к искусству, как она может найти новых друзей. Я думаю об отвержении, которое она пережила, будучи ребенком, и травме, которую она нанесла собственным детям. Они наверняка чувствуют себя настолько обманутыми и обиженными, что никто из них не видит, что у них на самом деле есть, какую жизнь они по-прежнему могут создать. И что на какое-то время я тоже ее не видела – для Риты.
Я подхожу к коробке с салфетками, даю ее Рите, затем сажусь рядом с ней на кушетку.
– Спасибо, – говорит она. – Откуда они взялись?
– Они все это время тут лежали, – говорю я.
Но вместо того чтобы взять чистую салфетку, она продолжает вытирать лицо насквозь сопливым комком.
В машине по дороге домой я звоню Джен. Я знаю, что она тоже, скорее всего, едет домой.
Когда она берет трубку, я говорю:
– Пожалуйста, скажи мне, что я не буду ходить на свидания на пенсии.
Она смеется.
– Не знаю. Я, может быть, буду. Люди обычно чувствуют себя одиноко, когда их супруг умирает. И тогда они начинают ходить на свидания. – Я слышу гудки клаксонов, потом она продолжает: – А еще есть много разведенных людей…
– Хочешь сказать, у тебя проблемы в браке?
– Он опять пердит?
Это их постоянная шутка. Джен предупредила мужа, что будет ночевать в другой комнате, если он не перестанет употреблять в пищу молочные продукты, но он любит молочку (несмотря на непереносимость лактозы), а Джен любит его, так что никогда не уходит.
Я подъезжаю к гаражу и говорю Джен, что мне пора. Я паркуюсь и открываю дверь в дом, где за моим сыном присматривает его бебиситтер, Цезарь. Технически Цезарь работает на меня, но на деле он скорее как старший брат моему сыну и как второй сын для меня. Мы хорошо знакомы с его родителями, братьями и многочисленными кузенами, и я видела, как он взрослеет и превращается в студента колледжа, кем сейчас и является, заботящегося о моем сыне, пока тот тоже взрослеет.
Я открываю дверь и кричу:
– Привет, семейство!
Зак откликается из своей комнаты:
– Привет, мам!
Цезарь вынимает наушник и кричит из кухни, где готовит ужин:
Никто не бежит восторженно, чтобы поприветствовать меня, никто не визжит от восторга, но я не чувствую себя обделенной, как Рита, – как раз наоборот. Я иду в спальню, чтобы переодеться в спортивный костюм, а когда возвращаюсь, мы все начинаем говорить одновременно, рассказывая, как прошел день, поддразнивая и перебивая друг друга, ставя на стол тарелки и разливая напитки. Мальчики в шутку препираются за накрытым столом и торопятся получить порцию побольше. Привет, семейство.
Однажды я сказала Уэнделлу, что у меня отвратительно получается принимать решения, что часто то, чего, как мне кажется, я хочу, оборачивается тем, что я и представить себе не могла. Но есть два серьезных исключения, и оба оказались лучшими решениями в моей жизни. В обоих случаях мне было под сорок.
Первое – это решение завести ребенка.
Второе – это решение стать психотерапевтом.
В год, когда родился Зак, я начала неадекватно вести себя с курьером компании UPS.
Я не о том, что пыталась его соблазнить (трудно быть соблазнительной с пятнами молока на футболке). Я о том, что когда он завозил очередную посылку – что случалось часто, учитывая, что я закупала разные вещи для младенца, – я пыталась вовлечь его в разговор просто потому, что мне не хватало компании взрослых людей. Я заводила бессмысленную беседу о погоде, новостях, даже весе посылки («Ух ты, кто бы знал, что подгузники такие тяжелые! У вас есть дети?»), в то время как курьер фальшиво улыбался и кивал, не слишком скрытно отступая от меня к безопасному пространству кабины грузовика.
В то время я работала из дома как писатель, что означало следующее: целый день я в одиночестве сидела за компьютером в пижаме, прерываясь на кормление, смену подгузника, укачивание или еще какое-либо взаимодействие с очаровательным, но требовательным пятикилограммовым человеком, который вопил, словно банши[18]. В целом я водилась, как сама говорила в особенно тяжелые моменты, с «желудочно-кишечным трактом и легкими». До рождения ребенка я наслаждалась свободой работы вне офиса. Но теперь мне каждый день хотелось прилично одеться и оказаться в компании образованных взрослых.
Именно в этот катастрофический период полной изоляции и резкого падения эстрогена я начала задаваться вопросом, не совершила ли я ошибку, бросив медицинский. Журналистика меня вполне устраивала: я освещала сотни тем для десятков публикаций, и все они вращались вокруг общей, завораживающей меня темы – человеческой психики. Я не хотела прекращать писать, но сейчас, воняя младенческой отрыжкой, я снова задумалась о возможностях двойной карьеры. Я полагала, что если бы стала психиатром, то могла бы взаимодействовать с людьми и делать что-то значимое, помогая им стать счастливее, а также успевала бы писать и проводить время с семьей.
Я размышляла над этой идеей несколько недель, пока одним весенним утром не позвонила своему бывшему декану в Стэнфорде и не изложила ей свой план. Известная исследовательница, когда-то она была «мамой» всего института – теплой, мудрой, понимающей. Во время учебы я возглавляла ее книжный клуб и хорошо ее знала. Я была уверена, что объясню ей ход своих мыслей, и она поддержит мой план.
Вместо этого она спросила:
– Зачем тебе это?
И еще добавила:
– К тому же психиатры не делают людей счастливыми!
Я сразу вспомнила старую остроту: «Психиатры не делают людей счастливыми – это делают рецепты». Внезапно отрезвленная, я поняла, что она имела в виду. Она говорила не о том, что не ценит труд психиатров; она говорила о том, что сегодня психиатрия все больше занимается нюансами фармакологии и нейротрансмиттерами, а не личными историями людей. И она знала, что я это знаю.
Затем она спросила, действительно ли я собираюсь пройти трехлетнюю ординатуру с младенцем на руках? Хочу ли я проводить время с сыном, пока он не пойдет в садик? Помню ли я тот разговор с ней, еще во времена студенчества, когда я говорила, что хочу налаживать более значимые отношения с пациентами, чем предусматривает современная система здравоохранения?
Потом – как раз в тот момент, когда я представила, как она качает головой на другом конце провода, когда я захотела повернуть время вспять, чтобы этот разговор никогда не случился, – она сказала нечто, что изменило мою жизнь:
– Тебе нужно получить степень по клинической психологии.
Следуя этому пути, сказала она, я могла бы работать с людьми именно так, как всегда хотела: прием длится пятьдесят минут вместо пятнадцати, а работа более глубокая и долгосрочная.
Я вся покрылась мурашками. Люди обычно употребляют это выражение в переносном смысле, но я правда вся покрылась гусиной кожей. Я была потрясена тем, как точно это звучало, как будто весь мой жизненный план наконец сложился. В журналистике, думала я, можно рассказывать истории, но нельзя их менять. В качестве психотерапевта я смогу помочь людям вносить изменения в их истории. А такая двойная карьера и вовсе казалась идеальным сочетанием.
– Работа психотерапевта – это смесь познания и творчества, – продолжала декан. – Это настоящее искусство. Что может быть лучшей комбинацией для твоих талантов и интересов?
Вскоре после этого разговора я уже сидела в одном кабинете с выпускниками колледжей и сдавала вступительные экзамены. Я прошла на местную программу обучения и в течение нескольких следующих лет работала над получением степени. И я продолжала писать, слушать истории и делиться ими, а пока я училась помогать людям меняться, моя жизнь тоже изменилась.
За это время мой сын научился ходить и говорить, а курьер из UPS вместо подгузников стал приносить Лего. «Супер, “Тысячелетний сокол”! – говорила я. – А вы любите “Звездные войны”?»
Прямо перед получением степени я рассказала курьеру эту новость.
Впервые он не сбежал от меня к грузовику. Вместо этого он подался вперед и обнял меня.
– Поздравляю! – сказал он, его руки обвивали мою спину. – Ничего себе, вы проделали все это с ребенком на руках? Я так горжусь вами!
Я стояла, потрясенная и взволнованная, обнимая курьера. Когда мы наконец отступили друг от друга, он сказал, что у него тоже есть новости: он больше не будет ездить по моему маршруту. Как и я, он решил вернуться к учебе. Чтобы сэкономить на аренде жилья, он переезжал к своей семье, живущей в нескольких часах пути от меня. Он планировал стать разнорабочим.
– Поздравляю вас! – сказала я, обнимая его. – Я тоже вами горжусь!
Наверное, мы выглядели странно (я представляла, как соседи шепчутся: «Это ж какая должна быть посылка!»), но мы стояли так, как мне показалось, довольно долго, радуясь тому, как далеко мы продвинулись.
– Кстати, я Сэм, – сказал он, когда мы закончили обниматься.
– Кстати, я Лори, – ответила я. До того он всегда называл меня «Мэм».
– Я знаю, – он указал подбородком на посылку с моим именем на ярлыке.
Мы засмеялись.
– Что ж, Сэм, буду держать за тебя кулачки, – сказала я.
– Спасибо, – ответил он. – Мне это понадобится.
Я покачала головой:
– Мне кажется, у тебя все будет отлично, но я все равно буду.
Потом Сэм в последний раз попросил меня расписаться на бланке и, показав мне большой палец с водительского сиденья, укатил на большом коричневом грузовике.
Пару лет спустя я получила от Сэма визитную карточку. «Я сохранил ваш адрес, – писал он на открытке, приложенной к визитке. – Если у вас есть друзья, которым пригодились бы мои услуги, я буду очень признателен, если вы передадите им мои контакты». Я как раз проходила практику и отложила карточку в стол, точно зная, когда воспользуюсь ей.
Книжные шкафы в моем офисе?
Это Сэм делал.
26 Неловкие встречи
Как-то раз, когда мы только начали встречаться, мы с Бойфрендом стояли в очереди за замороженным йогуртом, и подошла одна из моих пациенток.
– Ого, здравствуйте! – сказала Кейша, вставая за нами. – Так странно наткнуться на вас здесь. – Она повернулась направо. – Это Люк.
Люк, симпатичный парень лет тридцати, улыбнулся и пожал мне руку. Мы никогда не встречались, но я точно знала, кто он. Я знала, что Люк – молодой человек Кейши, который недавно изменил ей, а она поняла это, потому что у него начались проблемы с эрекцией. Каждый раз, когда он изменял, происходило одно и то же. («Его совесть, – сказала она однажды, – живет в его члене»).
Еще я знала, что Кейша хотела расстаться с ним. Она начала понимать, почему ее изначально тянуло к нему, и теперь собиралась быть более осмотрительной в выборе партнера, который заслуживал ее доверия. На нашей последней сессии она сказала, что планирует объявить о расставании в выходные. Мы встретились в субботу. Она передумала, задумалась я, или же решила распрощаться с ним в воскресенье, чтобы рабочий понедельник помог ей не сбиться с курса? Она говорила мне, что хотела сказать все Люку в общественном месте, чтобы он не устраивал сцен и не умолял остаться: такое уже дважды случалось, когда она пыталась завести разговор дома. Она не хотела снова уступить лишь потому, что он говорит все возможное, чтобы заставить ее передумать.
В очереди за йогуртом Бойфренд стоял рядом со мной и ждал, что его представят. Я еще не объясняла ему, что когда встречаю пациентов вне офиса, чтобы сохранить их конфиденциальность, я не признаю их, если они не реагируют первыми. Будет неловко, например, если я поздороваюсь с пациенткой, а ее спутник спросит, кто я, и поставит ее в неловкое положение, вынуждая уходить от ответа или объяснять все как есть. Что, если я поздороваюсь с пациентом, который идет по делам с коллегой, начальником или находится на первом свидании?
Даже если пациенты здороваются со мной первые, я не представляю их своим спутникам. Это тоже может нарушить конфиденциальность – либо мне придется врать, когда меня спросят, откуда мы знаем друг друга.
Так что Бойфренд смотрел на меня, а Люк смотрел на Бойфренда, а Кейша таращилась на мою руку, сжатую рукой Бойфренда.
Бойфренд не знал, что мы уже как-то сталкивались с одним моим пациентом. За пару дней до этого муж из пары, приходившей ко мне на терапию, встретился нам на улице. Не останавливаясь, он поздоровался, я поздоровалась в ответ, и мы продолжили идти в противоположном направлении.
– Кто это был? – спросил потом Бойфренд.
– Да так, знакомый с работы, – осторожно сказала я. И плевать, что о его сексуальных фантазиях я знала больше, чем о фантазиях Бойфренда.
В очереди тем субботним вечером я улыбнулась Кейше и Люку и повернулась лицом к кассе. Очередь была длинной, и Бойфренд понял намек, заводя бессмысленный разговор о вкусах йогурта. Я же пыталась расслышать голос Люка, который взволнованно обсуждал с Кейшей планы на отпуск. Он пытался уточнить даты, Кейша увиливала; Люк спросил, нельзя ли поехать в следующем месяце, а Кейша поинтересовалась, нельзя ли поговорить об этом позже, и сменила тему.
Мне было жаль их обоих.
Когда мы с Бойфрендом купили йогурты, я подвела его к столику у выхода и села спиной к заполненному залу, чтобы и у Кейши, и у меня было личное пространство.
Через несколько минут Люк пролетел мимо нашего столика и выскочил за дверь, Кейша последовала за ним. Сквозь стеклянные стены мы видели извиняющиеся жесты девушки, а потом Люк сел в машину и уехал, едва не сбив ее.
Бойфренд смекнул, что к чему: «Понятно, откуда ты ее знаешь». Он пошутил, что встречаться с психотерапевтом – словно встречаться с агентом ЦРУ.
Я засмеялась и сказала, что работа психотерапевта иногда похожа на интрижку со всеми пациентами одновременно, прошлыми и настоящими. Мы всегда притворяемся, что не знаем людей, которых знаем наиболее близко.
Но часто именно психотерапевт чувствует себя максимально некомфортно при пересечении миров. В конце концов, мы видим настоящие жизни своих пациентов. Они не видят наши. Вне офиса мы как селебрити последней величины: почти никто нас не знает, но для тех немногих знающих впечатление важно.
Есть несколько вещей, которые вы не можете делать на людях, будучи психотерапевтом: плакаться подруге в ресторане, спорить с супругом, нетерпеливо жать на кнопку лифта, словно это помпа с морфином. Если вы застряли в пробке по дороге на работу, нельзя сигналить медленно едущей машине, преградившей вам путь на парковку, потому что пациенты могут это увидеть (или потому что водитель, которому вы сигналите, может оказаться вашим пациентом).
Если вы уважаемый детский психолог, как одна моя коллега, вам явно не захочется оказаться в кондитерской со своей четырехлетней дочерью, ноющей из-за того, что ей не купили еще одно пирожное, кульминацией чего становится вопль «ТЫ ХУДШАЯ МАМА В МИРЕ!», и свидетелями этого оказываются ваш шестилетний пациент и его мать, пораженные ужасом. Не захочется вам и, как однажды случилось со мной, столкнуться с бывшей пациенткой в отделе нижнего белья сразу после громкого объявления консультантки рядом с вашей примерочной: «Могу порадовать вас, мэм, я нашла самый большой пуш-ап бюстгальтер на ваш 75А!»
Когда вы забегаете в туалет между сессиями, лучше не занимать кабинку рядом с вашим следующим пациентом, особенно если кому-то из вас приспичит сделать свое зловонное дело. А если вы заходите в аптеку на улице рядом с офисом, нежелательно, чтобы вас видели при покупке презервативов, тампонов, средств от запора, подгузников для взрослых, кремов от молочницы и геморроя, лекарств от ЗППП или психических расстройств.
Однажды, чувствуя себя простывшей и слабой, я зашла в такую аптеку напротив работы, чтобы купить выписанное лекарство. Фармацевт протянул мне то, что должно было быть антибиотиком, но, посмотрев на упаковку, я обнаружила, что это антидепрессант. За несколько недель до этого ревматолог выписала мне антидепрессант офф-лейбл[19] – от фибромиалгии, которой, как она думала, объяснялась моя затяжная усталость. Но потом мы решили, что из-за возможных побочных эффектов его прием стоит отложить. Я не забрала лекарство, а ревматолог отменила рецепт; тем не менее он по какой-то причине остался в системе, и каждый раз, когда я приходила в аптеку, фармацевт приносил мне антидепрессант, громко проговаривая название, пока я молилась, чтобы за спиной не стоял кто-то из моих пациентов.
Часто, когда пациенты видят нашу человеческую сторону, они уходят от нас.
Вскоре после того как Джон начал меня посещать, я столкнулась с ним на баскетболе: играли «Лейкерс». Был перерыв, и мы с сыном стояли в очереди, чтобы купить ему майку.
– Господи Иисусе, – услышала я чье-то бормотание, повернулась на голос и увидела Джона, стоявшего перед нами в соседней очереди. Он был с еще одним мужчиной и двумя девочками лет десяти – как раз столько было старшей дочери Джона. Вечер папы и дочки. Джон жаловался другу на пару, стоявшую перед ними: они слишком долго совершали покупку, потому что постоянно забывали, каких размеров уже нет в наличии.
– Ради всего святого! – обратился Джон к ним, и его громкий голос привлек внимание всех вокруг. – Черные майки Коби[20] остались только в размере S, а это явно не ваш, а белые майки Коби есть только детских размеров, и он тоже вам явно не подойдет. Зато он отлично подойдет этим девочкам, пришедшим на игру, которая начнется через… – Он выразительно посмотрел на часы. – Четыре минуты.
– Остынь, приятель, – сказал мужчина из этой пары Джону.
– Остынь? – переспросил Джон. – Может, это ты слишком остыл? Может, тебе стоит подумать о том, что перерыв длится пятнадцать минут, а за тобой огромная толпа. Смотри-ка, двадцать человек, пятнадцать минут, меньше минуты на человека – черт, может, не стоит настолько остывать?
Он улыбнулся мужчине своей сверкающей улыбкой, а потом заметил, что я смотрю на него. Он застыл, пораженный внезапно увиденной любовницей/девочкой по вызову/психотерапевтом, стоящей рядом. Той, кого он не хотел представлять жене, или другу, или дочери.
Мы оба отвернулись, игнорируя друг друга.
Но когда мы с сыном сделали покупку и побежали, держась за руки, к своим местам, я заметила, что Джон наблюдал за нами издалека с непроницаемым выражением лица.
Иногда, когда я встречаю пациентов вне офиса, особенно когда это случается в первый раз, я спрашиваю потом на сессии, что они чувствовали в тот момент. Некоторые психотерапевты ждут, что пациенты сами об этом заговорят, но порой, не упоминая, мы добавляем вопросу веса, так что признание встречи становится облегчением. Так что на следующей сессии с Джоном я спросила его, каково было увидеть меня на игре «Лейкерс».
– Что за идиотский вопрос? – спросил Джон. Он громко выдохнул, и с воздухом вырвался стон. – Знаете, сколько людей было на той игре?
– Очень много, – сказала я, – но иногда странно видеть своего психотерапевта вне офиса. Или видеть его детей.
Я вспомнила выражение лица Джона, наблюдавшего за нами с Заком. В глубине души я думала, каково ему было видеть мать, держащую за руку сына, учитывая, что он сам потерял мать, будучи ребенком.
– Знаете, каково было встретить своего психотерапевта и ее ребенка? – спросил Джон. – Весьма печально.
Я удивилась, что Джон решил поделиться своей реакцией.
– Почему так?
– Ваш сын забрал последнюю футболку Коби в размере, который подошел бы моей дочери.
– Да, так что это было весьма печально.
Я ждала, не скажет ли он чего-то еще, когда перестанет шутить. Мы оба немного помолчали. Потом Джон начал считать:
– Раз Миссисипи, два Миссисипи, три Миссисипи… – Он бросил на меня раздраженный взгляд. – Долго мы еще будем сидеть молча?
Я понимала его фрустрацию. В кино молчание психотерапевта стало клише, но только в тишине люди могут по-настоящему услышать себя. Разговор удерживает людей в области рассудка и в безопасном отдалении от эмоций. Молчать – это словно опорожнять мусорную корзину. Когда вы перестаете выбрасывать мусор в пустоту – слова, слова, еще слова, – что-то важное выходит на поверхность. А когда вы молчите вместе с кем-то, это настоящая золотая жила для мыслей и чувств, о существовании которых пациент может даже не знать. Неудивительно, что я провела целую сессию у Уэнделла, не сказав практически ни слова и просто заливаясь слезами. Даже величайшая радость порой лучше всего выражается в молчании – например, когда пациент приходит после получения с трудом заработанного повышения или помолвки и не может подобрать слова, чтобы выразить весь спектр своих чувств. Так что мы просто вместе сидим в тишине сияя.
– Я готова выслушать все, что вы скажете, – сказала я Джону.
– Отлично, – сказал он. – Тогда у меня к вам вопрос.
– Каково вам было встретить меня?
Никто еще не спрашивал меня об этом. Я обдумала свою реакцию и то, как стоит донести ее до Джона. Я чувствовала раздражение из-за его манеры общения с той парой в начале очереди и вину – за то, что молча на него глазела. Я тоже хотела вернуться на стадион до начала периода. Еще я вспомнила, что, заняв свое место, посмотрела вниз и увидела Джона и его компанию в первом ряду. Я видела, как его дочь показывает ему что-то в телефоне, как они вместе смотрят, он обнимает ее, и они все смеются и смеются – и я была так этим тронута, что не могла отвести глаз. Я хотела поделиться этим с ним.
– Ну, – начала я, – это было…
– Боже, я пошутил! – перебил Джон. – Разумеется, мне плевать, каково вам было. Вот к чему я. Это же была игра «Лейкерс»! Мы пришли туда посмотреть на «Лейкерс»!
– Что «ладно»?
– Ладно, вам плевать.
– Чертовски верно, плевать.
Я снова увидела то выражение на его лице, которое заметила, когда он смотрел на нас с Заком. Как я ни пыталась в тот день вовлечь Джона в разговор – помогая ему остановиться и обратить внимания на свои чувства, проговаривая его опыт «в моменте» и делясь своими переживаниями, – он оставался закрытым.
Так было до тех пор, пока он, уходя, не повернулся ко мне и не сказал:
– Милый парнишка, кстати. Ваш сын. То, как он держал вас за руку. Мальчики не всегда так делают.
Я ждала подколки. Вместо этого он посмотрел мне прямо в глаза и сказал, почти печально:
– Радуйтесь, пока это длится.
Радуйтесь, пока это длится.
Я задумалась, не говорит ли он о своей дочери? Может быть, она стала слишком взрослой, чтобы позволить Джону держать ее за руку на людях. Но еще он сказал: «Мальчики не всегда так делают». Что он знает о мальчиках, будучи отцом двух дочерей?
Я решила, что это о нем и его матери. Я приберегла это до того момента, когда он будет готов поговорить о ней.
27 Мать Уэнделла
Когда Уэнделл был маленьким, каждый август он и его четверо братьев и сестер садились в семейный фургон и ехали с родителями из пригорода на Среднем Западе в домик у озера – провести время с другими родственниками. У них было около двадцати двоюродных братьев и сестер, и дети бродили настоящей стаей, уходя утром, возвращаясь к обеду (который они жадно ели, сидя на пледах, расстеленных в поле) и снова исчезая до ужина.
Иногда кузены катались на велосипедах, но Уэнделл, самый младший из всех, боялся ездить с ними. Когда родители и старшие братья предлагали научить его, он изображал безразличие, но все знали, что местная история о мальчике постарше, который упал с велосипеда, ударился головой и оглох, прочно осела в мыслях Уэнделла.
К счастью, в этой компании велосипеды не имели большого значения. Даже когда кто-то хотел покататься, в домике всегда оставалось достаточное количество детей, чтобы можно было вместе плавать в озере, карабкаться по деревьям и играть в войнушку.
Как-то летом, как раз после того, как ему исполнилось тринадцать, Уэнделл потерялся. Дети вернулись к обеду и уже начали делить арбуз, когда кто-то заметил, что мальчика нет. Они обыскали весь дом – пусто. Потом разделились, чтобы прочесать окрестности у леса, у озера, вблизи соседнего городка. Но Уэнделла нигде не нашли.
Спустя четыре страшных для всей семьи часа Уэнделл вернулся – на велосипеде. Оказалось, что симпатичная девочка, которую он встретил на озере, предложила ему покататься вместе, так что он пошел в ближайший магазин и объяснил ситуацию. Хозяин посмотрел на этого воодушевленного тощего подростка и все понял. Он закрыл магазин, отвел Уэнделла на заброшенный участок и научил его кататься. Потом он бесплатно одолжил ему велосипед на целый день.
И вот он уже подъезжал к домику. Его родители плакали от облегчения.
Уэнделл и девочка с озера катались вместе каждый день до конца каникул; разъехавшись, они переписывались еще несколько месяцев. Но однажды мальчик получил от нее письмо, где она говорила, что ей очень жаль, но в школе у нее появился новый парень, и она больше не будет писать. Мама Уэнделла нашла разорванную страницу, когда выносила мусор.
Уэнделл делал вид, что ему все равно.
«Тот год стал экспресс-курсом по тому, как управлять велосипедом и любить, – позже заметила его мать. – Ты рискуешь, терпишь неудачу, возвращаешься в седло и начинаешь все сначала».
Уэнделл в самом деле вернулся. И со временем он перестал делать вид, что ему все равно. После окончания колледжа и работы в семейном бизнесе он больше не мог притворяться, что его интерес к психологии – просто хобби. Так что он все бросил и получил докторскую степень по психологии. Теперь уже его отцу пришлось делать вид, что ему все равно. И, подобно Уэнделлу, в конце концов его отец «вернулся в седло» и принял решение своего сына.
По крайней мере, так рассказывает эту историю мать Уэнделла.
Конечно, рассказывает не мне. Я знаю все это благодаря интернету.
Хотела бы я сказать, что случайно наткнулась на эту информацию. Что для отправки чека мне нужен был адрес Уэнделла, я вбила в поисковик его имя, и – ого, ничего себе, что там вылезло – прямо на первой странице увидела интервью с его матерью. Но единственная правда из всего этого – что я вбила его имя в поисковик.
Слегка утешает то, что я не единственная, кто гуглит своего психотерапевта.
Джулия однажды рассказывала об одном из сотрудников своего университета в таком тоне, словно мы уже ранее обсуждали, что обе знаем его (на самом деле нет – но я как-то писала о нем). Рита однажды упомянула тот факт, что мы обе выросли в Лос-Анджелесе, хотя я никогда не говорила ей, где росла. Джон закончил одну из своих тирад про идиотов, посвященную коллеге – недавнему выпускнику Стэнфорда, фразой: «Гарвард Запада, черт возьми». Потом, смущенно глянув на меня, добавил: «Ничего личного». Он явно знал, что я закончила Стэнфорд. И еще я знаю, что он гуглил Уэнделла, пытаясь разузнать побольше о психотерапевте жены, потому что однажды он пожаловался, что у Уэнделла нет сайта или фото, что моментально сделало Джона подозрительным. «Что этот идиот пытается спрятать? – говорил он. – Ах да, я и забыл: свою некомпетентность».
Так что да, пациенты гуглят своих психотерапевтов, но это меня не извиняет. На самом деле мне и в голову не приходило погуглить Уэнделла, пока он не предположил, что, следя за интернет-жизнью Бойфренда, я держусь за будущее, которое уже не случится. Я наблюдаю за тем, как развивается его будущее, а сама остаюсь запертой в прошлом. Я должна принять, что его будущее и мое, как и его настоящее и мое, теперь разделены, и из общего у нас осталась лишь история.
Сидя за ноутбуком, я вспомнила, что Уэнделл очень ясно дал это понять. Потом я подумала о том, что почти ничего не знаю о нем, кроме того, что он учился с Каролиной – коллегой, которая дала мне его координаты. Я не знала ни где он получил степень, ни на чем он специализируется – никакой информации, которую люди стараются собрать, прежде чем записаться к психотерапевту. Мне так нужна была помощь, что я ухватилась за рекомендацию Каролины «для друга» без всяких вопросов.
Если что-то не работает, попробуй другое: этому принципу учат психотерапевтов на тренингах – на случай, если работа с пациентом застопорится. То же самое мы предлагаем пациентам: зачем делать одну и ту же бесполезную вещь снова и снова? Если слежка за Бойфрендом – тупиковый путь, как предположил Уэнделл, я должна делать что-то другое. Но что? Я попробовала закрыть глаза и подышать – эта техника сбивает навязчивое поведение. И это сработало – в каком-то смысле. Открыв глаза, я не начала гуглить Бойфренда.
Я набрала имя Уэнделла.
Джон был прав: Уэнделл был онлайн-невидимкой. Ни сайта. Ни профиля в LinkedIn. Ни упоминания в списке Psychology Today, ни странички в Фейсбуке или Твиттере. Единственная ссылка содержала адрес его офиса и номер телефона. Для практикующего специалиста моего поколения Уэнделл был необычайно старомоден.
Я снова пробежалась по результатам поиска. В списке было несколько Уэнделлов Бронсонов, но ни один из них не был моим психотерапевтом. Я пролистала дальше и через пару страниц нашла Уэнделла на Yelp – сервисе для поиска специалистов разных сфер. Там был один отзыв. Я кликнула.
Автора отзыва звали Анджела Л.; пять лет подряд она становилась «элитным пользователем» – что неудивительно. Она оставляла фидбэк о ресторанах, химчистках, сервисах хранения вещей, парках для выгула собак, стоматологах (меняя их со скоростью света), гинекологах, маникюрных салонах, кровельщиках, флористах, магазинах одежды, компаниях по борьбе с вредителями, перевозчиках, аптеках, продавцах машин, татуировщиках, адвокатах и даже юристах, специализирующихся на уголовных делах (речь шла о «сфальсифицированном обвинении» в нарушении правил парковки, которое каким-то образом переквалифицировалось в уголовно наказуемое деяние).
Но больше всего поражало не количество отзывов Анджелы Л., а то, насколько агрессивно-отрицательными были почти все они.
Или: «ДЕБИЛЫ!»
Казалось, Анджела Л. была недовольна вообще всем. Тем, как ей обрезали кутикулу. Тем, как с ней поговорил администратор. Даже в отпуске ничто не соответствовало ее ожиданиям. Она оставляла отзывы, находясь в сервисе проката машин, на стойке регистрации в отеле, в своем номере, кажется, во всех местах, где ела и пила во время поездки, даже на пляже (где она однажды наступила на камень, которого не должно было быть в шелковисто-белом песке, и, по ее словам, повредила ногу). Без вариантов: все, с кем она сталкивалась, были ленивы, некомпетентны или глупы.
Она напомнила мне Джона. А потом мне пришло в голову, что, может быть, Анджела Л. – это Марго! Потому что единственным человеком в мире, который не вывел Анджелу из себя и не обращался с ней некорректно, был Уэнделл.
Он стал первым человеком, заслужившим ее отметку в пять звезд.
«Я была у многих психотерапевтов – вот так сюрприз, – но в этот раз я узнала гораздо больше, чем ожидала», – писала она. И далее рассказывала о сострадании и мудрости Уэнделла, добавляя, что он помог ей понять, как поведение влияет на ее брак. Благодаря Уэнделлу, заканчивала она, спустя год после расставания она смогла вернуть мужа. (Так что это была не Марго.)
Отзыв оставили год назад. Листая последующие замечания, я заметила тенденцию. Постепенно столбик отзывов с одной или двумя звездами превратился в трех-, а затем и четырехзвездочные похвалы. Анджела Л. стала меньше злиться на весь мир, меньше винить других в своих несчастьях. Она стала менее агрессивной по отношению к людям, которые ее обслуживали, реже подмечала признаки пренебрежения, чаще задумывалась о себе (признавая в одном обзоре, что ей обычно трудно угодить). Количество отзывов тоже уменьшилось, ее желание оставлять их стало не таким навязчивым. Она приближалась к «эмоциональной трезвости» – способности регулировать чувства без самолечения, в какой бы форме оно ни проявлялось: различные вещества, защитные механизмы, отношения с другими людьми или интернет.
Хвала Уэнделлу, подумала я. Эмоциональный рост Анджелы Л. можно было отследить по мере прогрессирования ее отзывов в Yelp.
Но пока я восхищалась умениями Уэнделла, я наткнулась на еще один однозвездочный отзыв Анджелы Л. – на автобусную службу при отеле, что понизило ранее оставленную ей оценку в четыре звезды. Анджелу Л. взбесило то, что в автобусе играла громкая музыка, а водитель отказывался ее выключить. Разве допустимо «нападать» на пассажиров таким образом? Тремя параграфами ниже, периодически добавляя КАПСЛОК и восклицательные знаки, Анджела Л. заканчивала отзыв: «Я часто пользовалась услугами этой компании, но больше никогда. Наши отношения закончены!!!»
Ее драматический разрыв с этой службой казался ожидаемым после всех тех куда более уравновешенных отзывов. Как и многие люди, она, возможно, оступилась, пожалела об этом, осознала, что достигла дна, и решила, что умеренности недостаточно: нужно было немедленно покинуть Yelp. Так она и сделала: это был последний отзыв Анджелы Л., оставленный полгода назад.
Но я не была готова бросить свою онлайн-слежку. Полчаса спустя мой курсор завис над интервью с матерью Уэнделла. Психотерапевт, которого я знала, казался одновременно эмоционально стабильным и незаурядным, жестким и деликатным, уверенным и неловким. Кто его воспитал? Я чувствовала себя так, будто нашла – фигурально выражаясь – настоящий клад.
Конечно же, я кликнула.
Вопросы и ответы, которые разрослись в десятистраничную семейную историю, оказались статьей в блоге организации, уже полвека документировавшей ход жизни значимых семей, живших в городе Мидвестерн.
Оба родителя Уэнделла, как я узнала, росли в бедности. Его бабушка по материнской линии умерла при родах, так что его мать жила в маленькой квартирке с теткой по отцу, чья семья заменила ей родную. Отец Уэнделла был человеком, который «сделал себя сам», первым в семье, кто смог поступить в колледж. В университете штата он встретил мать Уэнделла – первую женщину в своей семье, получившую высшее образование. После свадьбы они открыли свой бизнес, она родила пятерых детей, и к тому времени, когда Уэнделл стал подростком, семья была неприлично богата – что и дало один из поводов взять интервью, которое я читала. Родители Уэнделла отдавали большую часть денег на благотворительность.
К моменту, когда я узнала имена братьев и сестер Уэнделла, их супругов и детей, я стала такой же неуравновешенной, как Анджела Л. Я изучила всю его семью: чем они зарабатывают на жизнь, в каких городах бывают, сколько лет детям, кто уже в разводе. Найти все это было не слишком просто: моя миссия включала множество перекрестных ссылок и кучу убитого времени.
Надо признать, что я знала какие-то вещи от Уэнделле из комментариев, стратегически брошенных им во время наших сессий. После одного из моих воплей о том, что ситуация с Бойфрендом несправедлива, Уэнделл посмотрел на меня и мягко ответил: «Вы говорите, как мой десятилетний ребенок. Что заставляет вас думать, что жизнь должна быть справедливой?»
Я приняла это к сведению, но еще и подумала: «Ого, у него ребенок примерно того же возраста, что и мой». Когда он подбрасывал эти кусочки информации, они казались редкими подарками.
Но тем вечером в интернете я раз за разом находила еще одну зацепку, еще одну ссылку. Он познакомился со своей женой через общего друга; его семья жила в доме, построенном в испанском стиле, и с момента покупки он, согласно данным агентства по недвижимости, удвоился в цене; его недавний перенос нашей встречи оказался связан с тем, что он выступал на конференции.
Когда я, наконец, выключила ноутбук, уже близилось утро, а я чувствовала себя виноватой, опустошенной и измотанной.
Интернет может быть спасением и зависимостью – способом заблокировать боль (спасение) и одновременно создать ее (зависимость). Когда кибернаркотик выветривается из организма, ты чувствуешь себя хуже, не лучше. Пациенты думают, что хотят знать больше о психотерапевтах, но часто, раскопав что-то, они жалеют об этом, потому что это знание потенциально подрывает отношения, заставляя людей фильтровать – сознательно или нет – то, что они говорят на сессии.
Я знала: то, что я сделала, деструктивно. И также я знала, что не скажу об этом Уэнделлу. Когда мой пациент случайно давал понять, что знает обо мне больше, чем я ему рассказывала, и я спрашивала об этом, я понимала, почему возникала та короткая заминка, пока человек решал, рассказать правду или нет. Трудно признаться, что следишь за своим психотерапевтом. Я чувствовала стыд – из-за влезания в личную жизнь Уэнделла, из-за потерянного вечера – и поклялась (возможно, как Анджела Л.) никогда больше так не делать.
Однако сделанного не вернуть. Отправляясь на прием к Уэнделлу в следующую среду, я чувствовала давление своего нового знания. Я не могла перестать думать о том, что отступлюсь – как и мои пациенты. Это был лишь вопрос времени.
28 Зависимая
ПРИМЕЧАНИЕ К ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ: ШАРЛОТТА
Пациентка двадцати пяти лет жалуется на «тревожность», хотя ничего значительного в недавнее время не происходило. Говорит, что ей «скучно» на работе. Рассказывает о проблемах с родителями и активной личной жизни, но значимых романтических отношений не имела. Признается, что каждый вечер выпивает «пару бокалов вина», чтобы расслабиться.
– Вы меня убьете, – говорит Шарлотта, неторопливо входя и медленно устраиваясь в огромном кресле по диагонали справа от меня. Она кладет подушку на колени, затем набрасывает на нее одеяло. Она никогда не сидела на кушетке, даже на первой сессии; это кресло – ее трон. Как обычно, она поочередно выкладывает вещи из сумки, доставая все самое необходимое на ближайшие пятьдесят минут. На левый подлокотник она кладет телефон и шагомер, на правый – бутылку с водой и солнечные очки.
Сегодня на ней румяна и помада, и я знаю, что это значит: она снова флиртовала с парнем в приемной.
Около наших кабинетов есть большая приемная, где ждут пациенты. Можно выйти более приватным путем – через выход к внутреннему коридору, который ведет в холл здания. Пациенты обычно держатся особняком в приемной – но не Шарлотта.
«Чувак» – так Шарлотта называет объект своего интереса (ни одна из нас не знает его имени) – пациент моего коллеги Майка, и они с Шарлоттой приходят на сессию к одному времени. Если верить ей, когда он впервые пришел на прием, они сразу друг друга приметили, украдкой переглядываясь поверх телефонов. Так продолжалось несколько недель, и после сессий, которые заканчивались в одно и то же время, они выходили через внутреннюю дверь, только чтобы снова перекинуться взглядами в лифте и разойтись.
В конце концов, в один из дней Шарлотта пришла с новостями.
– Чувак заговорил со мной! – прошептала она, словно тот парень мог услышать ее сквозь стены.
– Что он сказал? – спросила я.
– Он спросил: «А в чем твоя проблема?»
Отличное начало, подумала я, впечатленная, несмотря на всю его примитивность.
– А теперь объясняю, почему вы меня убьете, – сказала она и сделала глубокий вдох. Я уже слышала этот мотив. Когда Шарлотта слишком много выпивала на предыдущей неделе, она начинала сессию с фразы «Вы меня убьете». Когда она проводила ночь с парнем и потом жалела об этом (что случалось часто), она начинала с «Вы меня убьете». Я должна была убить ее даже тогда, когда она отложила выбор программы в аспирантуру и пропустила срок подачи заявок. Мы уже говорили о том, что под этой проекцией скрывается глубокое чувство стыда.
– Ну ладно, не убьете, – уступила она. – Но черт. Я не знала, что сказать, поэтому просто застыла. Я проигнорировала его и притворилась, будто пишу сообщение. Боже, я себя ненавижу.
Я представила себе Чувака, в тот же момент сидящего в кабинете Майка через пару дверей от нас и излагающего тот же инцидент: «Я наконец-то заговорил с той девушкой в приемной, и она меня отвергла. Черт! Звучало очень по-идиотски. Боже, я себя ненавижу».
Однако на следующей неделе флирт продолжился. Когда Чувак вошел в приемную, сказала Шарлотта, она начала с того, на чем они остановились на прошлой неделе.
– Хочешь знать, в чем моя проблема? – спросила его девушка. – Я цепенею, когда незнакомые люди в приемных задают мне вопросы.
Чувака это развеселило, и они оба смеялись, когда я открыла дверь, чтобы поприветствовать Шарлотту.
Увидев меня, Чувак покраснел. Вина? Мне стало интересно.
По пути в мой кабинет мы с Шарлоттой встретили Майка, который шел за своим пациентом. Майк и я встретились взглядами и поспешно отвернулись. Да, Чувак определенно рассказал ему о Шарлотте.
К следующей неделе флирт в приемной был в самом разгаре. Шарлотта сказала, что спросила Чувака, как его зовут. Он ответил:
– Не могу тебе сказать.
– Почему? – спросила она.
– Все, что здесь происходит, конфиденциально, – сказал он.
– Хорошо, Конфиденциальный, – отреагировала она. – Меня зовут Шарлотта. Я собираюсь поговорить о тебе со своим психотерапевтом.
– Надеюсь, что получишь что-то стоящее за свои деньги, – сказал он с сексуальной ухмылкой на лице.
Я видела Чувака несколько раз, и Шарлотта права: у него потрясающая улыбка. Хотя я ничего о нем не знала, что-то во мне подозревало неладное. Зная ее историю отношений с мужчинами, я чувствовала, что все закончится плохо. И две недели спустя Шарлотта пришла с самыми свежими новостями: Чувак привел на сессию женщину.
Ну конечно, подумала я. Занят. Как раз тип Шарлотты. На самом деле, она использовала то же самое выражение каждый раз, когда упоминала Чувака. «Он точно мой тип».
Под типом большинство людей подразумевает чувство влечения – тип внешности, тип личности, который их заводит. Но на самом деле тип складывается из ощущения чего-то знакомого. Не секрет, что люди, которые росли с агрессивными родителями, часто выбирают партнеров-абюзеров; те, чьи родители были алкоголиками, часто привязываются к выпивающим партнерам; те, чьи родители были замкнутыми или придирчивыми, сочетаются браком с такими же замкнутыми или придирчивыми супругами.
Почему люди так с собой поступают? Потому что влечение, которое они испытывают, чувствуя что-то похожее на «дом», с трудом позволяет им отделить свои взрослые желания от детского опыта. Их жутковатым образом тянет к партнерам с характеристиками родителя, который каким-то образом вредил им. В начале отношений эти признаки будут едва заметны, но у нашего подсознания есть чуткий радар, неподвластный разуму. Это не значит, что люди хотят, чтобы им опять вредили. Они хотят справиться с ситуацией, в которой чувствовали себя беспомощно, будучи детьми. Фрейд называл это «навязчивым повторением». Подсознание думает: «Может быть, в этот раз я смогу все переиграть и залечить старую рану, вступив в контакт с кем-то знакомым – но неизвестным». Единственная проблема в следующем: выбор знакомых партнеров гарантированно ведет к противоположному результату – раны снова начинают кровоточить, а люди чувствуют себя еще более неадекватными и непривлекательными.
Мы этого совершенно не сознаем. Шарлотта, например, говорила, что ищет надежного партнера, способного на близость, но каждый раз, когда она встречала кого-то «ее типа», наступал полнейший хаос и разочарование. И наоборот: после недавнего свидания с парнем, который, казалось, обладал многими качествами, которые она хотела видеть в партнере, она пришла на сессию и доложила: «Все очень плохо, вообще никакой химии». Для ее подсознания его эмоциональная стабильность была слишком чуждой.
Психотерапевт Терри Реал описал наше повторяющееся поведение как «интернализованную семью, из которой мы произошли; наш репертуар родственных тем». Людям нет нужды рассказывать свои истории словами, потому что они всегда разыгрывают их для вас. Часто они проецируют негативные ожидания на психотерапевта, но если специалист им не соответствует, то этот «корректирующий эмоциональный опыт» со значимой и доброжелательной личностью меняет пациентов: оказывается, что мир не такой, как их семья. Если Шарлотта проработает со мной свои сложные чувства по отношению к родителям, она внезапно обнаружит, что ее привлекает другой тип, дающий незнакомый опыт, который она ищет в сочувствующем, надежном и зрелом партнере. Но пока каждый раз, когда она встречает свободного парня, который может ответить ей взаимностью, ее подсознание отвергает его стабильность как «неинтересное». Быть любимой для нее по-прежнему тревожно, а не радостно или спокойно.
И все идет своим чередом. Такой же парень, другое имя, такой же исход.
– Вы видели ее? – спрашивает Шарлотта о женщине, которая пришла на психотерапию с Чуваком. – Это наверняка его подружка.
Я мельком видела их: они сидели на соседних стульях, но никак не взаимодействовали. Как и Чувак, девушка была высокой, с густыми темными волосами. Я подумала, что она могла быть ему и сестрой, пришедшей с ним на семейную психотерапию. Но Шарлотта, наверное, была права: больше похоже на девушку.
А сейчас, на сегодняшней сессии – через два месяца после того, как подружка Чувака появилась в приемной, – Шарлотта снова говорит, что я ее убью. Я перебираю в уме возможные варианты; первый из них – она переспала с Чуваком, зная о девушке. Я представляю, как та дама и Чувак сидят в приемной вместе с Шарлоттой, и девушка понятия не имеет, что у этих двоих что-то было. Как девушка постепенно прозревает и бросает Чувака, давая свободу Шарлотте и ему. Как Шарлотта делает в отношениях то же, что и всегда (избегает близости), а Чувак делает что-то свое (это одному Майку известно), и все это заканчивается фееричным разрывом.
Но я ошибаюсь. Сегодня Шарлотта думает, что я ее убью, потому что накануне вечером, когда она выходила с работы на свою первую встречу к Анонимным Алкоголикам, коллеги пригласили ее выпить – и она согласилась, потому что решила, что это отличная возможность наладить неформальные отношения. Потом она говорит, без намека на иронию, что выпила слишком много, потому что была расстроена тем, что не пошла на встречу АА.
– Боже, – говорит она. – Я себя ненавижу.
Однажды куратор сказал мне, что каждый психотерапевт когда-нибудь встречает пациента, который похож на него как две капли воды. Когда Шарлотта вошла в мой кабинет, я знала, что она такой пациент – почти. Она была близнецом меня двадцатилетней.
Это не значит, что мы похожи внешне или одинаково негативно мыслим или ведем себя. Шарлотта пришла ко мне через три года после окончания колледжа, и со стороны все выглядело хорошо: у нее были друзья и отличная работа в сфере финансов, она сама оплачивала счета. На деле же она не была уверена насчет дальнейшего продвижения по карьерному пути, конфликтовала с родителями и чувствовала себя потерянной. Я не перебарщивала с алкоголем и не спала с незнакомыми людьми, но я тоже прожила это десятилетие, словно слепая.
Может казаться логичным, что если вы идентифицируете себя с пациенткой, то работа движется легче, потому что вы интуитивно ее понимаете. Но во многих смыслах подобная идентификация лишь усложняет задачу. Я должна быть максимально бдительной на наших сессиях, чтобы быть уверенной, что вижу в Шарлотте отдельную личность, а не младшую версию себя, в которую можно вернуться и все исправить. Мне сложнее, чем с другими пациентами, удержаться от соблазна вклиниться и подвести ее к сути, когда она ерзает в кресле, рассказывает несвязную историю и заканчивает требованием, закамуфлированным под вопрос: «Разве мой менеджер поступает разумно?» или «Можете поверить, что моя соседка это сказала?»
Однако в свои двадцать пять Шарлотта испытывает боль, а не сожаление. У нее, в отличие от меня, не было кризиса среднего возраста. Она, в отличие от Риты, не навредила своим детям и не вышла замуж за абьюзера. Время на ее стороне, если использовать его с умом.
Шарлотта не считала себя зависимой, когда впервые пришла с жалобами на депрессию и тревожность. Она пила, по ее настойчивым убеждениям, «пару бокалов вина» каждый вечер, чтобы «расслабиться». (Я немедленно воспользовалась стандартным психотерапевтическим подсчетом, срабатывающим всякий раз, когда кто-то защищается, говоря об алкоголе или наркотиках в своей жизни: о каком бы количестве ни шла речь, удвой его.)
В итоге я узнала, что Шарлотта каждый вечер выпивает примерно три четверти бутылки вина, перед которой иногда еще идет коктейль (или два). Она говорила, что никогда не выпивает днем («кроме выходных, – добавляла она, – потому что хештег бранч») и редко появляется пьяной на людях, выработав за многие годы устойчивость к алкоголю, но иногда ей трудно вспомнить происходившие события и детали на следующий день после употребления спиртного.
Она не видела ничего необычного в своих «дружеских пьянках»; куда больше ее волновала ее «настоящая» зависимость, изводящая ее все сильнее с каждой неделей терапии: я. По ее словам, будь у нее возможность, она бы ходила на психотерапию каждый день.
Каждую неделю, когда я говорю, что наше время вышло, Шарлотта драматично вздыхает и удивленно восклицает: «Правда? Вы серьезно?» Потом она медленно, пока я встаю и открываю дверь, по очереди собирает разложенные вещи: солнечные очки, телефон, бутылку с водой, резинку для волос – часто забывая что-то, за чем ей придется вернуться.
– Видите, – говорит она, когда я предполагаю, что «забытые» вещи – это ее способ не уходить с сессии. – Я зависима от психотерапии.
Она предпочитает использовать общий термин «психотерапия» вместо более личного «вы».
Но как бы ей ни хотелось оставаться, психотерапия – идеальная установка для кого-то вроде Шарлотты, человека, который жаждет человеческого контакта, но также избегает его. Наши отношения – идеальная комбинации близости и дистанции: она может стать ближе ко мне, но не слишком, потому что через час, нравится ей это или нет, она уходит домой. В течение недели происходит то же самое: она может открыться, но не слишком, присылая мне по почте прочитанные статьи, или пару строчек о случившемся между сессиями («Мама звонила и орала как чокнутая, но я не сорвалась в ответ»), или фото разных вещей, которые она сочла занятными (номерной знак с надписью 4EVJUNG[21] – не снятый, я надеюсь, когда она находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения).
Когда я пытаюсь поговорить об этом во время сессии, Шарлотта отмахивается. «Да я просто подумала, что это забавно», – сказала она о номерном знаке. Когда она прислала статью об эпидемии одиночества в своей возрастной группе, я спросила, как это отзывается в ней. «Никак, честно говоря, – ответила она с озадаченным выражением лица. – Я просто подумала, что это представляет культурный интерес».
Конечно, пациенты вспоминают о своих психотерапевтах между сессиями, но для Шарлотты это означало не столько стабильную связь, сколько потерю контроля. Что, если она слишком полагается на меня?
Чтобы справиться с этим страхом, она уже дважды бросала психотерапию и возвращалась, не в силах держаться подальше от того, что называла своим «исправлением». Оба раза она уходила без предупреждения.
В первый раз она объявила на сессии, что ей «нужно все бросить, и единственный способ это сделать – уйти быстро». Потом она в прямом смысле вскочила и выбежала из кабинета. (Я знала, что что-то не так, когда она не разложила содержимое своей сумочки по подлокотникам и оставила плед на кресле.) Два месяца спустя она спросила, можно ли ей вернуться «на одну сессию», чтобы обсудить проблемы с кузиной, но когда она пришла, стало ясно, что ее депрессия вернулась, так что Шарлотта осталась на три месяца. Как только ей стало получше и появились некоторые положительные изменения, за час до одной из сессий она прислала мне на почту письмо с объяснениями, что ей раз и навсегда нужно завязать.
В смысле, с психотерапией. Пить она продолжила.
Потом однажды вечером Шарлотта ехала домой с чьего-то дня рождения и врезалась в столб. Она позвонила мне на следующее утро, после того как полиция зафиксировала ее вождение в нетрезвом виде.
– Я вообще ничего не видела, – сказала она мне, появившись в кабинете в гипсе. – И я не только о столбе.
Ее машина восстановлению не подлежала, но сама она магическим образом отделалась сломанной рукой.
– Может быть, – впервые заметила она, – у меня проблемы с алкоголем, а не с психотерапевтом.
Но она по-прежнему выпивала год спустя, когда встретила Чувака.
29 Насильник
Настало время очередной сессии с Джоном, и зеленая лампочка в моем кабинете загорается. Я прохожу к приемной, но, открыв дверь, вижу, что кресло, в котором обычно сидит Джон, пустует – там стоит лишь пакет с едой навынос. С минуту я думаю, что он ушел в туалет в другом конце холла, но ключ для посетителей висит на своем месте. Я размышляю, опоздает ли Джон – в конце концов, кажется, это его еда, – или он решил не приходить из-за случившегося неделей ранее.
Та сессия началась без особых происшествий. Как обычно, курьер из китайского ресторана привез наши салаты с курицей, и, пожаловавшись на заправку («слишком жирная») и палочки для еды («слишком хлипкие»), Джон перешел к делу.
– Я тут подумал о слове «психотерапевт», – начал Джон и взял немного салата. – Знаете, если разбить его на два…
Я понимала, к чему он клонит. «Терапевт» пишется так же, как «насильник»[22]. Это общеизвестная шутка, и я улыбнулась.
– Интересно, это вы так пытаетесь сказать, что порой вам трудно здесь находиться?
Я определенно испытывала подобное с Уэнделлом, особенно когда его взгляд останавливался на мне, и спрятаться от него было некуда. Психотерапевты слышат секреты и фантазии людей, истории их стыда и неудач, вторгаясь в пространство, которое обычно держат в секрете. Потом – бум – час заканчивается. Как-то так.
На самом ли деле мы эмоциональные насильники?
– Трудно здесь находиться? – переспросил Джон. – Не-е-е. Вы бываете занозой в заднице, но это не худшее место в мире.
– Так вы думаете, я заноза в заднице? – Мне потребовались некоторые усилия, чтобы не сделать акцент на «я» в этой фразе.
– Конечно, – сказал Джон. – Вы задаете слишком много чертовых вопросов.
– Ах вот как. Например?
– Например, сейчас.
Я кивнула.
– Я понимаю, почему это может раздражать вас.
Джон просиял.
– Понимаете?
– Понимаю. Я думаю, вы предпочли бы держать меня на расстоянии, когда я пытаюсь узнать вас получше.
– И сно-о-ова за старое, – протянул Джон, выразительно закатив глаза. Минимум раз за сессию повторяется один и тот же шаблон: я пытаюсь наладить контакт, он пытается увернуться. Он может сопротивляться и не признавать это сейчас, но я рада его сопротивлению, потому что это ключ к сути проблемы. Оно сигнализирует, на что психотерапевту нужно обратить внимание. Во время обучения, когда мы, интерны, чувствовали разочарование из-за постоянно сопротивляющихся пациентов, наши кураторы советовали: «Сопротивление – друг психотерапевта. Не сражайтесь с ним – следуйте за ним». Иными словами, попробуйте разобраться, почему оно вообще здесь.
Я же заинтересовалась второй частью сказанного Джоном.
– Только чтобы быть еще более надоедливой, – продолжила я, – я задам вам еще один вопрос. Вы сказали, что это не худшее место в мире. А какое худшее?
– Вы не знаете?
Я пожала плечами. Глаза Джона вылезли из орбит.
– Серьезно?
Я кивнула.
– Да ладно, вы знаете, – сказал он. – Попробуйте угадать.
Я не хотела ввязываться в перебранку с Джоном, поэтому сделала попытку.
– На работе, когда вам кажется, что никто вас там не понимает? Дома с Марго, когда вы чувствуете, что разочаровываете ее?
Джон издал звук, сигнализирующий неверный ответ в игровых шоу.
– Неправильно! – Он взял немного салата, прожевал, потом поднял палочки для еды в воздух, чтобы подчеркнуть свои слова. – Как вы помните, или, может, не помните, я пришел сюда, потому что у меня были проблемы со сном.
Я отметила это «может, не помните».
– Я помню, – сказала я.
Он громко вздохнул, словно пытаясь призвать к себе все терпение Ганди.
– Итак, Шерлок, если сон для меня проблема, где, как вы думаете, мне сейчас трудно находиться?
Здесь, хочется ответить мне. У тебя проблемы с нахождением здесь. Но мы поговорим об этом в более подходящее время.
– В кровати, – сказала я.
Я ждала подробностей, но он вернулся к салату. Мы сидели рядом, пока он ел и крыл свои палочки на все лады.
– Вы не собираетесь ничего сказать?
– Я бы хотела услышать больше, – сказала я. – О чем вы думаете, когда пытаетесь уснуть?
– Господи Иисусе! У вас сегодня что-то с памятью? О чем, как вы думаете, я думаю – обо всем, что пересказываю вам каждую неделю! Работа, дети, Марго…
Джон начинает рассказывать, как накануне они поссорились с Марго насчет того, стоит ли дарить старшей дочери на одиннадцатилетие мобильный телефон. Марго хотела быть уверенной в ее безопасности, потому что Грейс планировала начать ходить домой из школы в компании друзей; Джон думал, что Марго слишком ее опекает.
– Всего два квартала! – по словам Джона, то же самое он говорил Марго. – Кроме того, если кто-то решит ее украсть, Грейс не скажет: «Ой, простите меня, мистер Похититель, позвольте прервать вас на секунду и достать из рюкзака телефон, чтобы позвонить маме». И если похититель не полный идиот – что может быть, не спорю, но, скорее всего, он просто больной ублюдок, – первое, что он сделает, уведя с собой чьего-то ребенка, это заглянет в рюкзак, чтобы найти телефон и выбросить или сломать его, чтобы нельзя было отследить его местонахождение! Так в чем смысл телефона?
Лицо Джона покраснело. Он был на взводе.
После нашего разговора по скайпу – на следующий день после того, как Марго намекнула, что может уйти, – напряжение между ними уменьшилось. Джон сказал, что он пытался больше слушать. Он пытался пораньше приходить домой с работы. Но на самом деле мне казалось, что он просто «ублажает ее», тогда как все, чего она на самом деле хотела, было тем же, из-за чего мы с Джоном постоянно бодались друг с другом – его истинное присутствие.
Джон запихал остатки обеда в пакет и бросил его через всю комнату, где тот с глухим стуком приземлился в мусорное ведро.
– И вот почему я не могу заснуть, – продолжил он. – Потому что одиннадцатилетней девочке не нужен мобильный телефон, но знаете? Она его в любом случае получит, потому что если я стукну кулаком по столу, то Марго надуется и снова скажет мне в этой своей пассивно-агрессивной манере, что она хочет уйти. А знаете почему? Из-за ее ПСИХОТЕРАПЕВТА-ИДИОТА!
Я попыталась представить, как Уэнделл выслушивает эту историю в изложении Марго: «Мы говорили о том, чтобы купить Грейс мобильный телефон и Джон просто взбесился». Я нарисовала себе Уэнделла на месте С, одетого в брюки цвета хаки и кардиган, слегка склонившего голову и смотрящего на Марго. Я представила, как он задает ей вопросы о том, не любопытно ли ей, почему Джон так сильно реагирует. Видимо, к концу сессии у Марго будет несколько иной взгляд на мотивы Джона; я также пришла к выводу, что действия Бойфренда были далеко не социопатичны.
– И знаете, что еще она расскажет своему психотерапевту-идиоту? – продолжает Джон. – Что ее чертов муж не может заняться с ней чертовым сексом, потому что когда я лег в постель одновременно с ней вместо того, чтобы отвечать на письма – кстати, еще одна вещь, которую я делаю, чтобы она была счастлива – я был в таком бешенстве, что не захотел с ней спать. Она попыталась приласкаться, но я сказал, что устал и плохо себя чувствую. Как пятидесятилетняя домохозяйка, у которой голова болит! Господи Иисусе!
– Иногда наше эмоциональное состояние и правда может влиять на тело, – говорю я, пытаясь нормализовать ситуацию для Джона.
– Можем мы держать мой пенис подальше от этого? Не в этом суть моей истории.
Секс всплывает почти с каждым пациентом, равно как и любовь. Раньше я спрашивала Джона об их с Марго сексуальной жизни, учитывая трудности в их отношениях. Есть распространенное мнение, что секс между людьми зависит от их отношений, что хорошие отношения равны хорошему сексу и наоборот. Но это не всегда правда. Довольно часто встречаются люди, которых связывают сверхпроблемные отношения и фантастический секс, и есть люди, глубоко любящие друг друга, чей постельный опыт оказывается не столь удачным.
Джон сказал мне, что их сексуальная жизнь «нормальная». Когда я спросила, что это значит, он ответил, что его привлекает Марго и радует секс с ней, но поскольку они ложатся в разное время, это происходит реже, чем раньше. Часто он противоречил сам себе. Как-то он сказал, что пытался инициировать секс, но Марго не хотела этого; в другой раз оказалось, что она часто пытается быть инициатором, но только «если я в течение дня делаю то, что она хочет». Однажды он сказал, что они обсуждают свои сексуальные желания и потребности; в другой раз заметил: «Мы занимаемся сексом друг с другом больше десяти лет. О чем там вообще говорить? Мы знаем, чего хочет другой». Сейчас у меня появилось ощущение, что у Джона проблемы с эрекцией, и он чувствует себя униженным.
– Суть истории в том, – продолжил Джон, – что в нашем доме двойные стандарты. Если Марго слишком устала для секса этой ночью, я ее не трогаю. Я не зажимаю ее на следующее утро в углу с зубной щеткой во рту и не говорю: «Жаль, что ты плохо себя чувствовал прошлой ночью. Может, у нас найдется время сегодня вечером».
В его речи снова появились нотки Опры. Затем Джон посмотрел на потолок и покачал головой.
– Мужчины так не говорят. Они не препарируют каждую мелочь и не думают, что это может означать. – Он изображает в воздухе кавычки, произнося «означать».
– Как будто расковыривать болячку, вместо того чтобы оставить ее в покое.
– Именно! – кивнул Джон. – А теперь я плохой, если не она принимает все решения! Если у меня есть мнение, я не обращаю внимания – снова кавычки в воздухе – что нужно Марго. А потом в разговор влезает Грейс и говорит, что я веду себя неразумно и что у всех есть телефоны, так что девочки побеждают, два – один! Она на самом деле сказала это: «Девочки побеждают».
Он опустил руки, закончив с изобилием кавычек.
– И тогда я понял, что сводит меня с ума и мешает заснуть: в доме слишком много эстрогена, и никто не понимает мою точку зрения! Руби на следующий год идет в начальную школу, но уже ведет себя как Грейс. А Гейб становится еще эмоциональнее, как подросток. Я в меньшинстве в своем собственном доме, и каждую минуту всем от меня что-то надо, и никто не понимает, что мне тоже может понадобиться что-то – например, мир, покой и периодическое понимание того, что вообще происходит!
Джон выпрямился.
– Вы сказали: «Гейб становится еще эмоциональнее». Вы имели в виду Грейс? – Я быстро роюсь в памяти: его четырехлетнюю дочь зовут Руби, его старшую дочь – Грейс. Разве он не сказал только что, что Грейс хотела телефон на день рождения? Или я не так поняла? Или ее зовут Габриэлла? Габби сокращается до Гейб, так же как девочек по имени Шарлотта сейчас часто зовут Чарли. Я уже один раз перепутала Руби и Рози, их собаку, но я была совершенно уверена, что помню имя Грейс верно.
– Я так сказал? – Он, казалось, занервничал, но быстро пришел в себя. – Я имел в виду Грейс. Очевидно, я просто не выспался. Как вам и говорил.
– Но вам знаком Гейб?
Что-то в реакции Джона заставило меня подозревать, что дело не просто в бессоннице. Мне интересно, не является ли Гейб кем-то очень значимым в его жизни. Один из братьев, друг детства? Отец?
– Это идиотский разговор, – сказал Джон, глядя в сторону. – Я имел в виду Грейс. Иногда сигара – это просто сигара, доктор Фрейд.
Мы оба помолчали.
– Кто такой Гейб? – мягко спросила я.
Джон долго не отвечал. Его лицо быстро сменило целую серию выражений, как в таймлапсе, запечатляющем бурю. Это было что-то новое: обычно у него было всего два режима – злой и шутливый. Затем он опустил взгляд на свою обувь – те же кроссовки, которые я видела во время звонка по скайпу – и переключился в самый безопасный режим, нейтральный.
– Гейб – мой сын, – сказал он так тихо, что я едва его услышала. – Как вам такой поворот, Шерлок?
Потом он схватил телефон, вышел в дверь и захлопнул ее за собой.
И вот прошла неделя, я стою в пустой приемной и не знаю, какие выводы сделать из того факта, что наш обед прибыл, а Джон – нет. Он не контактировал со мной после того откровения, но я думала о нем. Фраза «Гейб – мой сын» всплывала у меня в голове в совершенно неподходящие моменты, особенно перед сном.
Это походило на классический пример проективной идентификации. В проекции пациент приписывает свои убеждения другому человеку, в проективной идентификации же он переправляет их на другого. Например, мужчина может злиться на босса, а затем прийти домой и сказать жене: «Ты, кажется, злишься». Это проекция, потому что супруга не злится. В проективной идентификации мужчина, злящийся на босса, возвращается домой и изливает свой гнев на супругу, на самом деле заставляя ее злиться. Это как перекинуть кому-то горячую картофелину. Человек не чувствует свою злость с того момента, как она поселяется внутри другого.
Я обсудила сессию Джона в своей консультационной группе. Прямо как он лежал в постели без сна с метафорически циркулирующими вокруг мыслями, так и я теперь делала то же самое – и раз уж я забрала всю его тревожность, он, наверное, спал крепким сном младенца.
У меня голова шла кругом. Что делать с этой бомбой, которую сбросил на меня Джон перед уходом? У него есть сын? Это пережиток молодости? Он ведет двойную жизнь? А Марго знает? Мне вспомнилась сессия после игры «Лейкерс», когда он прокомментировал то, как мы держались за руки с сыном. Радуйтесь, пока это длится.
То, что сделал Джон (по крайней мере, в той части, когда ушел) – не редкость. Такое случается, особенно при парной терапии, что пациент внезапно уходит, если сталкивается с резко нахлынувшими чувствами. Иногда человеку помогает звонок от психотерапевта, особенно если причина, по которой он сбежал, связана с чувством недопонимания или травмы. Однако порой лучше оставить пациента наедине со своими чувствами, дать сориентироваться в них, а потом проработать на следующей сессии.
Моя консультационная группа считала, что если Джон уже чувствует, будто окружающие загнали его в угол, то мой звонок может оказаться лишним. Все единогласно сказали: отступи. Не дави на него. Подожди, пока он вернется.
Только сегодня его здесь нет.
Я подхватываю неподписанный пакет от службы доставки и заглядываю внутрь, чтобы убедиться, что это наше. Внутри лежат два китайских салата с курицей и газировка Джона. Он забыл отменить заказ или использовал еду, чтобы пообщаться со мной, сделав свое отсутствие заметным? Временами, когда люди не приходят, они делают это, чтобы наказать психотерапевта и передать сообщение: «Вы меня расстроили». А иногда за этим стоит попытка избежать не специалиста, а самих себя, избежать встречи со своим стыдом, болью или правдой, которую, они знают, надо рассказать. Посещения – это тоже коммуникация: люди приходят вовремя или опаздывают, отменяют встречу за час или вовсе не появляются.
Я захожу на кухню, кладу пакет с едой в холодильник и планирую использовать следующий час, чтобы привести в порядок истории болезни. Когда я возвращаюсь к своему столу, то вижу, что на автоответчике есть записи.
Первое сообщение от Джона.
«Привет, это я, – раздался его голос. – Черт, я совершенно забыл отменить встречу и вспомнил, только когда мой телефон пиликнул, напоминая. Обычно мой ассистент согласовывает такие вещи, но поскольку всем этим мозговправлением я занимаюсь сам… короче, сегодня я не приду. На работе все на ушах стоят, и я не могу вырваться. Извините».
Я думаю, что Джону нужно немного побыть одному, и он вернется на следующей неделе. Наверное, он до последнего размышлял, прийти или нет, поэтому и не позвонил заранее – по той же причине заказ с едой появился здесь без него.
Но потом включается следующая запись.
«Привет, это снова я. Ну-у, в общем, я не то чтобы забыл позвонить… – Долгая пауза, такая долгая, что я думаю, будто Джон повесил трубку. Я тянусь стереть запись, но голос вдруг продолжает: – Я собирался вам сказать, эм, я не приду больше на психотерапию, но не переживайте, это не потому, что вы идиотка. Я понял, что если я не сплю, то надо принять снотворное. Очевидно. Я так и сделал – и проблема решена. С химией жизнь лучше[23], ха-ха. И, хм, по поводу всех тех стрессов и прочего бреда, о котором мы говорили… знаете, я думаю, что это просто обычная жизнь, и если я буду высыпаться, то меня меньше будет все это раздражать. Идиоты всегда будут идиотами, и от этого нет таблетки, правда? А если бы и была, нам бы пришлось накормить лекарством половину города!»
Он смеется над своей шуткой, и это тот же смех, какой звучал после его фразы о том, что я буду кем-то вроде его любовницы. Его смех – его убежище.
«Короче, – продолжает он, – прошу прощения, что поздно уведомил. И я знаю, что должен заплатить за сегодня – не волнуйтесь, это не проблема».
Он снова смеется, потом вешает трубку.
Я смотрю на телефон. Это все? Ни «спасибо», ни даже «до свидания» в конце, просто… дело сделано? Я ожидала, что нечто подобное может случиться после первых нескольких сессий, но сейчас, когда мы виделись уже около шести месяцев, меня поражает его внезапное отбытие. Казалось, Джон по-своему привязался ко мне. Или, может быть, это я привязалась к нему. Я начала ощущать настоящую симпатию к Джону, увидев вспышки человечности за этим несносным фасадом.
Я думаю о Джоне и его сыне Гейбе, мальчике или взрослом мужчине, который может знать, а может и не знать своего отца. Интересно, не хочет ли Джон как-то подсознательно оставить меня с грузом этой тайны. Огромное «Выкуси!» за то, что не помогла ему почувствовать себя лучше достаточно быстро. Получай, Шерлок! Ну и идиотка.
Я хочу, чтобы Джон знал, что я все еще здесь; хочу как-то связаться с ним, чтобы он – и я – могли справиться с тем, что принесли на психотерапию. Чтобы он знал: здесь безопасно говорить о Гейбе, какой бы сложной ни была ситуация. Но при этом я хочу уважать его личное пространство.
Я не хочу быть насильником.
В идеале это все надо сказать ему лично. В бланке информированного согласия, который пациенты получают перед началом психотерапии, прописаны мои рекомендации, среди которых – участие, по крайней мере, в двух завершающих сессиях. Я сразу проговариваю с новыми пациентами, что если их что-то расстраивает во время лечения, они не должны действовать импульсивно, дабы избавиться от дискомфорта. Даже если им кажется, что лучше прервать сессии, решение должно быть обдумано, чтобы они могли остаться с ощущением, что сделали взвешенный выбор.
Пока я делаю отметки в картах пациентов, я вспоминаю кое-что из сказанного Джоном в тот день, когда он проговорился о Гейбе. «В доме слишком много эстрогена, и никто не понимает мою точку зрения… Я в меньшинстве… Каждую минуту всем от меня что-то надо, и никто не понимает, что мне тоже может понадобиться что-то – например, мир, покой и периодическое понимание того, что вообще происходит».
Ситуация приобретает смысл: Гейб может обнулить какую-то часть эстрогена. Может быть, Джон считает, что Гейб понимает его – или мог бы понимать, если бы он был в жизни Джона.
Я откладываю ручку и набираю номер Джона. После сигнала автоответчика я начинаю говорить: «Здравствуйте, Джон. Это Лори. Я получила ваше сообщение, спасибо, что дали знать о себе. Я только что положила обед в холодильник и размышляю о прошлой неделе, когда вы сказали, что никто не понимает, что вам тоже что-то нужно. Я думаю, что вы правы по части “нужности”, но я не уверена, что никто этого не понимает. Каждому что-то нужно, зачастую это даже целое множество вещей. Я бы хотела узнать, что нужно именно вам. Вы упомянули, что хотите мира и тишины, и их поиски могут включать Гейба, а могут и нет, но мы не будем говорить о нем, если вы не захотите. Я здесь, если вы передумаете и решите, что хотите прийти на следующей неделе и продолжить наш разговор, даже если это будет последний раз. Мои двери открыты для вас. До свидания».
Я делаю отметку в карте Джона и закрываю ее, но, наклоняясь к картотеке, решаю не переносить ее в секцию «Работа завершена». Я вспоминаю, как в медицинском институте нам, студентам, было трудно принять, что кто-то умер и мы больше ничего не можем сделать, кроме как стать человеком, который «объявляет», или произносит слова «время смерти». Я смотрю на часы – 3:17.
Дадим ему еще неделю, думаю я. Я пока не готова ничего объявлять.
30 По часам
В последний год аспирантуры я должна была пройти клиническую подготовку. Подготовка – это пробная версия трех тысяч часов практики, которая пройдет позже, и она необходима для получения лицензии. К этому моменту я завершила все работы по курсу, поучаствовала в учебных ролевых симуляциях и посвятила бесчисленное количество часов просмотру записей сессий, которые вели известные психотерапевты. Я также сидела за односторонним зеркалом и наблюдала за реальной работой наших самых квалифицированных профессоров.
Теперь пришла пора войти в комнату к своим собственным пациентам. Как и большинство стажеров, я должна была делать это под наблюдением в общественной клинике; медиков готовят так же, в больницах при институте.
В первый же день мой куратор передает стопку папок и поясняет, что моим первым пациентом будет человек, чьи данные записаны в верхней карте. Там содержалась лишь основная информация: имя, дата рождения, адрес, номер телефона. Пациентка по имени Мишель, тридцатилетняя женщина, оставившая номер бойфренда в качестве контактного лица для экстренной связи, должна появиться в течение часа.
Если вам кажется странным, что клиника допускает меня, человека, который провел ровно ноль психотерапевтических сессий, до лечения реальных людей, то спешу сообщить: именно так специалистов и обучают – на практике. В мединституте студенты тоже учатся по методу «вижу, делаю, обучаю». Иными словами, вы наблюдаете за врачом, скажем, пальпирующим живот, следующий живот вы пальпируете самостоятельно, а затем учите еще одного студента выполнять эту процедуру. Вуаля! Вы доказали свою компетентность в области пальпации животов.
Психотерапия, однако, ощущалась иначе. Для меня выполнение конкретных задач с четкими шагами вроде пальпации или установки капельницы казалось менее нервозатратным, чем попытка разобраться, как применить множество абстрактных психологических теорий, которые я изучала на протяжении последних нескольких лет, к сотням возможных сценариев, которые может презентовать всего один пациент.
Но пока я иду в приемную, чтобы встретить Мишель, я не слишком волнуюсь. Эта первая пятидесятиминутная сессия – введение, то есть я буду лишь заполнять историю болезни и устанавливать первичный контакт. Мне нужно собрать информацию с помощью специального опросника, а затем принести ответы куратору, чтобы вместе с ней обсудить план лечения. Я годы работала в журналистике, задавая наводящие вопросы и устанавливая приемлемый уровень общения с людьми, которых не знала.
Насколько трудным, думаю я, это может быть?
Мишель высокая и очень худая. Ее одежда помята, волосы растрепаны, кожа бледная. Когда мы садимся, я начинаю беседу, спрашивая, что привело ее. Она отвечает, что ей трудно делать хоть что-то, кроме как плакать – и затем она, словно по команде, заливается слезами.
И под этими слезами я подразумеваю такой вой, который можно услышать, если сказать кому-то, что его самый любимый человек на свете только что умер. Нет никакого «разогрева», никаких влажных глаз, всхлипываний и постепенного роста напряжения. Это цунами в четыре балла. Все ее тело содрогается, сопли текут из носа, из горла вырывается хрип, и, честно говоря, я вообще не понимаю, как она дышит.
От сессии прошло уже 30 секунд. На симуляциях все было совсем не так.
Пока вы не останетесь в тихой комнате наедине с рыдающим незнакомцем, вы не узнаете на самом деле, как это одновременно тревожно и интимно. Причем ситуация усложняется: я не владею контекстом происходящего, потому что еще не добралась до истории. Я ничего не знаю об очень расстроенной девушке, сидящей в полутора метрах от меня.
Я не знаю, что делать и даже куда смотреть. Если я посмотрю прямо на нее, будет ли она чувствовать себя неловко? Если я посмотрю в сторону, покажется ли ей, что ее игнорируют? Может, мне стоит сказать что-то, чтобы вовлечь ее в разговор, или же стоит подождать, пока она закончит плакать? Мне так неловко, что я боюсь, как бы случайно не вырвался нервный смешок. Я стараюсь сосредоточиться, думая о своем списке вопросов, и я знаю, что должна спросить, как давно она так себя чувствует («история текущего состояния»), как сильно это проявляется, не случилось ли что-то, что вызвало этот взрыв («предшествовавшее событие»).
Но я не делаю ничего. Я хочу, чтобы мой куратор была со мной в комнате прямо сейчас. Я чувствую себя абсолютно бесполезной.
Цунами продолжается, нет никаких признаков улучшения. Я все жду, думая, что сейчас Мишель выпустит пар и сможет продолжить разговор; мой сын в младенчестве так же делал после истерики. Но плач продолжается. И продолжается. В конце концов я решаю что-нибудь сказать, но едва слова срываются с губ, я понимаю, что только что произнесла величайшую глупость за всю историю мировой психотерапии.
Я говорю следующее:
– Да, кажется, вы в депрессии, понятно.
Мне моментально становится жаль ее. Я словно капитан Очевидность: эта бедная, подавленная тридцатилетняя женщина испытывает ужасную боль, и она явно пришла сюда не для того, чтобы стажерка в первый же день изрекала банальности. Пока я пытаюсь понять, как исправить свой ляп, я одновременно задаюсь вопросом, не попросит ли она направление к другому психотерапевту. Вряд ли ей захочется, чтобы кто-то вроде меня отвечал за ее здоровье.
Но вместо этого Мишель перестает плакать – так же быстро, как и начала. Она вытирает слезы носовым платком и делает долгий, глубокий вдох. А потом, почти улыбаясь, говорит:
– Ага. Я в гребаной депрессии.
Она выглядит почти легкомысленно, произнося это вслух. В первый раз, говорит она, кто-то назвал ее состояние словом «депрессия».
Выясняется, что она весьма успешный архитектор, чья команда спроектировала несколько известных и статусных зданий. По ее словам, она всегда была довольно меланхоличной, но никто на самом деле не знал, насколько, потому что она обычно довольно общительна и занята. Однако около года назад все изменилось. Уровень энергии снизился, аппетит ухудшился. Даже встать с кровати по утрам было настоящим вызовом. Она плохо спала. Она разлюбила бойфренда, с которым жила, но не была уверена – это из-за подавленности, или же он и правда не был подходящим человеком. В последние несколько месяцев она втайне плакала в ванной каждую ночь, убедившись, что не разбудит спящего молодого человека. Она никогда не рыдала перед кем-то так, как сейчас – передо мной.
Она еще немного плачет и говорит сквозь слезы:
– Это похоже на… эмоциональную йогу.
Что привело ее сюда, продолжает она, так это то, что в работу начинает просачиваться небрежность, и ее босс это заметил. Она не может сконцентрироваться, потому что все ее внимание занято тем, чтобы не заплакать. Она уже гуглила симптомы депрессии, и каждый пришлось пометить галочкой. Она никогда раньше не была у психотерапевта, но знает, что ей нужна помощь. Никто, говорит она, глядя мне в глаза, ни ее друзья, ни ее бойфренд, ни ее семья не знает, насколько ей плохо. Никто, кроме меня.
Меня. Стажерки, которая никогда раньше не вела психотерапию.
(Если вам когда-нибудь понадобятся подтверждения того, что люди выставляют в интернете улучшенную версию своей жизни, станьте психотерапевтом и погуглите своих пациентов. Позже, когда я, обеспокоенная, гуглила Мишель – я быстро научилась никогда этого не делать, всегда позволяя пациентам быть единственными рассказчиками своих историй, – всплывали страницы, подтверждающие ее головокружительный успех. Я видела изображения, на которых она получает престижную награду, с улыбкой стоя рядом с красивым молодым человеком, выглядя круто и уверенно, находясь в гармонии с миром в журнальной фотоподборке. В интернете она не имела никакого сходства с человеком, который сидел напротив меня в той комнате.)
Теперь я говорю с Мишель о ее депрессии, выясняю, не планирует ли она самоубийство, пытаюсь понять, насколько она функциональна, кто ее поддерживает, что она делает, чтобы справиться. Я помню, что должна принести историю болезни куратору – клинике нужны записи, – но каждый раз, когда я задаю вопрос, Мишель переходит к чему-то, что уводит нас в сторону. Я аккуратно направляю ее, но это неизбежно заводит нас куда-то еще, и я очень озабочена тем, что не продвигаюсь с историей.
Я решаю просто послушать немного, но не могу полностью заблокировать собственные мысли. А другие стажеры знают, как все сделать в первый раз? Можно ли вылететь отсюда в первый же день? И, когда Мишель снова начинает плакать, могу ли я сказать или сделать что-то, что поможет ей хоть немного перед тем, как она уйдет… Так, сколько времени осталось?
Я смотрю на часы, стоящие на столе рядом с кушеткой. Прошло десять минут.
Нет, думаю я. Определенно мы здесь куда дольше десяти минут. Кажется, что прошло двадцать, или тридцать, или… Понятия не имею. Правда, всего десять? Теперь Мишель детально рассказывает, как именно она гробит свою жизнь. Я снова слушаю, потом начинаю коситься на часы – все еще десять минут.
Тогда до меня и доходит, что стрелки не двигаются. Наверное, сдохла батарейка. Мой телефон в другой комнате; наверное, у Мишель в сумочке есть свой, но я не могу спросить ее прямо посреди рассказа, который сейчас час.
Просто отлично.
Что теперь? Я должна самодовольно сказать, что наше время истекло, даже если я понятия не имею, сколько минут прошло – двадцать, тридцать или пятьдесят? Что, если я прерву работу слишком рано или слишком поздно? После нее ко мне придет следующий пациент. Вдруг он уже сидит в приемной, гадая, не забыла ли я о встрече?
Паникуя, я перестаю внимательно слушать, о чем говорит Мишель. Потом я слышу:
– Уже все? Быстрее, чем я ожидала.
– Хммм? – переспрашиваю я.
Мишель указывает куда-то над моей головой, и я поворачиваюсь, чтобы посмотреть. На стене прямо за мной висят часы, так что пациенты тоже могут следить за временем.
Ох. Я и понятия не имела. Надеюсь, она даже не подозревает, что я и понятия не имела. Я знаю лишь, что сейчас мое сердце бьется с невероятной силой, и хотя сессия пролетела быстро для Мишель, мне она казалась вечностью. Понадобится практика, прежде чем я начну инстинктивно чувствовать ритм каждой сессии, знать, что у каждого часа свое течение времени (с наивысшей интенсивностью в средней трети), и понимать, что пациенту нужно от трех до пяти или десяти минут, чтобы собраться. Все зависит от хрупкости человека, предмета беседы, контекста. Понадобятся годы, прежде чем я пойму, что нужно и не нужно делать, когда и как работать с доступным временем, чтобы получить максимальную отдачу.
Я провожаю Мишель, пристыженная тем, что волновалась и отвлекалась, не собрала историю болезни и вынуждена предстать перед куратором с пустыми руками. На протяжении всей учебы мы, студенты, ждали того Великого Дня, когда лишимся своей психотерапевтической невинности, и мой, думаю я, оказался скорее разочаровывающим, чем захватывающим.
Но меня ждало облегчение: когда мы после обеда обсуждаем сессию с куратором, она говорит, что, несмотря на мою неуклюжесть, я все сделала правильно. Я была с Мишель, пока она так страдала, что для многих людей становится необычным и мощным опытом. В следующий раз не надо будет так переживать и пытаться сделать что-то, чтобы остановить ее. Я буду там, чтобы слушать, пока она будет рассказывать о своей депрессии, лежащей неподъемным грузом. Говоря языком психотерапии, я «встретила пациентку там, где она была» – и к черту сбор истории болезни.
Годы спустя, когда я провела тысячи первых сессий, а сбор информации стал моей второй натурой, я буду использовать другой параметр, чтобы определить, как все прошло. Чувствует ли пациент, что его поняли? Меня всегда восхищало, что кто-то может зайти в кабинет чужаком, а через пятьдесят минут выйти с чувством, что его понимают, но это происходит почти каждый раз. А когда не происходит, пациент не возвращается. И поскольку Мишель вернулась, что-то пошло как надо.
Что касается бардака с часами, куратор не выбирает слов: «Не дури головы пациентам»
Она дает мне немного времени на осмысление этих слов, а потом начинает объяснять, что если я не знаю чего-то, то должна так и сказать: «Я не знаю». Если меня беспокоит время, я должна сказать Мишель, что мне нужно на секунду выйти из комнаты за работающими часами, чтобы я не отвлекалась. Если я и должна чему-то научиться во время своей подготовки, подчеркнула куратор, так это тому, что я не смогу никому помочь, пока не буду собой в кабинете. Я переживала о состоянии Мишель, я хотела помочь, я сделала все, что могла, чтобы внимательно выслушать. Все это – ключевые ингредиенты для начала отношений.
Я благодарю и направляюсь к двери.
– Но, – добавляет куратор, – обязательно доделай историю за следующие две недели.
За несколько следующих сессий я собираю все необходимые данные для приемной формы клиники, но мне очевидно, что это лишь форма. Требуется некоторое время, чтобы услышать историю человека, а человеку требуется время, чтобы рассказать ее. И, подобно большинству историй – включая мою, – она скачет от одного к другому, прежде чем вы понимаете, в чем, собственно, заключается сюжет.
Часть третья
Душа, пройдя через ночь, хранит след не только мрака, но и след Млечного Пути.
31 Моя «блуждающая матка»
У меня есть секрет.
С моим телом не все в порядке. Может быть, я умираю. Может, в этом нет ничего такого – в таком случае нет причин раскрывать тайну.
Вопрос о моей болезни встал пару лет назад, за несколько недель до того, как я встретила Бойфренда. Или, по крайней мере, я так думала. В летние каникулы мы с сыном лениво проводили неделю на Гавайях вместе с моими родителями. Но в ночь перед возвращением домой словно из ниоткуда появилась болезненная, агрессивная сыпь, поглотившая все мое тело. Всю обратную дорогу в самолете я сидела, накачанная антигистаминными, с ног до головы перемазанная кремом с кортизоном, и чесалась так яростно, что, когда мы приземлились, мои ногти были в крови. Через несколько дней сыпь прошла; мой врач сделал несколько тестовых анализов и списал все на рандомную аллергическую реакцию. Но сыпь казалась зловещим знаком, предвестником того, что должно было произойти.
Что-то, казалось, притаилось внутри меня, атакуя мое тело в течение следующих нескольких месяцев, пока я смотрела в другую сторону (в то время – прямо в глаза Бойфренда). Да, я чувствовала себя усталой и слабой; были и другие тревожные симптомы, но пока мое состояние ухудшалось, я убедила себя, что это те самые возрастные изменения, которые настигают человека после сорока лет. Мой доктор сделал еще несколько анализов и выявил некоторые маркеры аутоиммунного заболевания, но ни один из них не был связан с конкретной болезнью, например волчанкой. Он направил меня к ревматологу, а она заподозрила у меня фибромиалгию – состояние, которое нельзя диагностировать конкретным тестом. Идея была такой: пролечить симптомы и посмотреть, не улучшится ли мое состояние. Именно тогда выписанный офф-лейбл антидепрессант появился в записях аптеки напротив моего офиса. Вскоре я начала частенько заходить туда, выкупая кортизоновые кремы от странной сыпи, антибиотики от необъяснимых инфекций и антиаритмические препараты от нарушений сердечного ритма. Но мои врачи никак не могли понять, что не так, и я считала это хорошим признаком: если бы у меня была опасная болезнь, доктора бы ее уже обнаружили. Я твердила себе: отсутствие новостей – хорошая новость.
Как и с делающей-меня-несчастной книгой о счастье, я разбиралась с этим сама, оставляя проблемы со здоровьем при себе, как и проблемы с писательством. Не то чтобы я намеренно скрывала свое состояние от близких друзей и родственников. По большей части я скрывала его от самой себя. Как врач, который подозревает у себя рак, но откладывает обследование, я обнаружила, что гораздо удобнее просто не обращать внимания. Даже когда у меня не было сил на физические упражнения и я беспричинно скинула почти пять килограммов (и чувствовала себя вялой и тяжелой, хотя стала весить меньше), я убеждала себя, что это явно что-то доброкачественное – вроде менопаузы. (И не важно, что у меня еще не было менопаузы.)
Когда я разрешала себе подумать об этом, то лезла в интернет и выясняла, что умираю практически от всего, чтобы потом вспомнить, как в медицинском институте мы все страдали от «болезни третьего курса»[24]. Это реально существующий, задокументированный феномен, когда студенты-медики находят у себя симптомы каждой болезни, которую изучают. В день, когда мы проходили лимфатическую систему, мы разделились и прощупывали лимфатические узлы друг у друга. Одна студентка положила руки на мою шею и воскликнула: «Ничего себе!»
«Что такое?» – спросила я. Она состроила гримасу: «Похоже на лимфому».
Я подняла руки и ощупала свою шею. Она была права, это лимфома! Несколько других одногруппников провели тот же тест и согласились: я была обречена. Нужно обязательно проверить количество белых кровяных клеток. Нужно сделать биопсию!
Следующим утром на занятии профессор прощупал мою шею. Лимфоузлы были увеличены, но в пределах нормы. У меня не было лимфомы, у меня был «синдром третьекурсника».
Так что я решила, что наступил такой же случай и ничего серьезного не происходит. Но в глубине души я понимала, что для женщины, занимавшейся бегом, ненормально в сорок лет вдруг оказаться неспособной бегать и ежедневно чувствовать себя больной и слабой. Я просыпалась от покалываний в теле, мои пальцы становились красными и толстыми, как сосиски, а губы распухали как от пчелиных укусов. Мой врач провел еще больше анализов, некоторые из которых показали ненормальные (или, как он выразился, «своеобразные») результаты. Он отправил меня на МРТ, УЗИ и биопсию, где кое-что тоже оказалось «своеобразным». Он направил меня к врачам с более узкой специализацией, чтобы интерпретировать все мои анализы, результаты обследований, признаки и симптомы, и я встретилась с таким количеством этих специалистов, что начала называть свою одиссею «Загадочным Медицинским Квестом».
Он и в самом деле был загадочным. Один врач предположил, что у меня редкая форма рака (основываясь на тестах, но сканирование не подтвердило это); другой решил, что это какой-то вирус (начавшийся сыпью); третий счел, что у меня метаболическое расстройство (в моих глазах появился налет, источник которого никто не мог определить); еще один сделал вывод, что у меня рассеянный склероз (томограмма мозга показала пятна, нехарактерные для этой болезни, но она могла проявляться нетипично). В разное время я думала, что у меня проблемы с щитовидной железой, склеродермия или, да, лимфома (опять эти увеличенные лимфоузлы – может быть, все началось еще тогда, в институте, не проявляясь до сей поры?).
Но все тесты давали отрицательные результаты.
Примерно через год – когда у меня уже начал проявляться легкий тремор челюсти и рук – один доктор (невролог, который носил зеленые ковбойские сапоги и говорил с характерным итальянским акцентом) решил, что он разобрался с моим состоянием. Когда мы впервые встретились, он вошел в кабинет, залогинился в больничную компьютерную сеть, пролистал длинный список специалистов, у которых я уже была («Так, вы, я смотрю, проконсультировались уже со всеми в этом городе, да?» – сказал он так небрежно, будто я с ними всеми переспала), и – пропустив осмотр – мгновенно выдал диагноз. Он решил, что у меня современная версия фрейдовской женской истерии, известная как «конверсионное расстройство».
Это состояние, при котором тревожность личности «конвертируется» в неврологическую симптоматику: паралич, проблемы с равновесием, недержание мочи, слепота, глухота, тремор или судороги. Симптомы часто носят временный характер и, как правило, связаны (иногда символически) с психологическим стрессовым фактором. Например, увидев что-то травматичное (например, измену супруга или ужасное убийство), пациент может ослепнуть. После стрессового падения у пациента может случиться паралич ног, даже если нет никаких признаков повреждения нервов. Или мужчина, который понимает, что агрессия по отношению к жене неприемлема, чувствует онемение руки, которой он в своих мыслях ее ударил.
Люди с конверсионным расстройством не притворяются – иначе бы оно называлось «симулятивным расстройством». Людям с симулятивным расстройством нужно, чтобы все думали, будто они больны, поэтому они намеренно идут на многое, чтобы притвориться таковыми. При конверсионном расстройстве пациент на самом деле испытывает все симптомы – им просто нет адекватного медицинского объяснения. Они кажутся обусловленными эмоциональным стрессом, который пациент совершенно не осознает.
Я не думала, что у меня конверсионное расстройство. Но, с другой стороны, если оно обусловлено неосознаваемым процессом, откуда мне было знать наверняка?
У конверсионных расстройств долгая история, их задокументировали уже четыре тысячи лет назад в Древнем Египте. Как и большинство эмоциональных состояний, их намного чаще приписывали женщинам. Предполагалось даже, что симптомы обусловлены движением матки вверх или вниз – синдромом, который позже приобрел название «блуждающей матки».
Лечение? Женщины должны были положить вкусно пахнущие ароматические соли или специи около части тела, противоположной направлению, в котором, предположительно, «блуждала» матка. Это «лечение» должно было заманить ее обратно, на свое положенное место.
В пятом веке до нашей эры, однако, Гиппократ заметил, что благовония не слишком-то помогают от этой болезни, которую он назвал «истерия» – от греческого слова hystera, или «матка». Согласно его методике, истерических женщин следовало лечить не ароматными солями и специями, а упражнениями, массажами и горячими ваннами. Так продолжалось до начала тринадцатого века, когда вдруг появился новый вывод – о наличии связи между женщинами и дьяволом.
Новое лечение? Экзорцизм.
Наконец, в конце 1600-х годов истерию признали имеющей отношение к мозгу, а не к дьяволу или матке. Сегодня до сих пор ведутся споры относительно симптомов, которым нет функционального объяснения. Текущая МКБ-10[25] относит конверсионные расстройства к диссоциативным (и включает слово «истерический» в подтипах), тогда как DSM-5[26] классифицирует их как «психические расстройства с преобладанием соматических симптомов».
Что интересно, конверсионные расстройства чаще встречаются в культурах со строгими правилами и ограниченным пространством для выражения своих эмоций. Но в целом последние пятьдесят лет этот диагноз ставят гораздо реже – и возможных причин на то две. Во-первых, врачи больше не путают симптомы сифилиса[27] с конверсионным расстройством; во-вторых, «истеричные» женщины, страдавшие от конверсионного расстройства в прошлом, реагировали так на ограничения гендерных ролей, которые с тех пор сильно изменились.
Тем не менее невролог в ковбойских сапогах просмотрел список специалистов, которых я посетила, посмотрел на меня и улыбнулся так, как люди улыбаются наивным детям или бредящим взрослым.
«Вы слишком много переживаете», – сказал он своим итальянским акцентом. Затем он заявил, что я наверняка подвержена стрессу (будучи работающей матерью-одиночкой и все такое), и мне нужен всего лишь массаж и хороший сон по ночам. После того как он диагностировал у меня конверсионное расстройство (по его словам – тревожность), он выписал мелатонин и посоветовал мне взять недельный абонемент в спа. Он сказал, что хоть я и выгляжу «как пациент с болезнью Паркинсона», с большими мешками под глазами и тремором, у меня нет Паркинсона: это недостаток сна, который может стать причиной похожих симптомов. Когда я стала объяснять, что усталость заставляет меня спать слишком много, а не слишком мало (и выталкивать Бойфренда из постели, чтобы он посмотрел на Лего моего сына), доктор Ковбой улыбнулся. «Ох, но это не хороший сон».
Мой лечащий врач был уверен, что у меня нет конверсионного расстройства – не только потому, что симптомы были хроническими и прогрессивно ухудшались, но и потому, что каждый специалист, который меня консультировал, обнаруживал какие-то изменения (отек легкого, увеличенный уровень чего-нибудь в крови, увеличенные миндалины, тот самый осадок на глазах, пятна на томограммах мозга и все та же жесточайшая сыпь). Они просто не понимали, как собрать все это воедино. Возможно, говорили некоторые специалисты, мои симптомы связаны с моей ДНК, с дефектом в каком-то из генов. Они хотели провести генетическое секвенирование (изучить последовательность нуклеотидов в молекуле ДНК), чтобы посмотреть, что там можно обнаружить, но страховка это не покрывала – хотя врачи отсылали несколько запросов, – потому что, согласно логике страховой компании, если у меня и было еще-не-открытое генетическое заболевание, для него не нашлось бы известного специалистам метода лечения.
Я по-прежнему болела.
Окружающий мир полагал, что я относительно хорошо себя чувствую: я мало рассказывала о своем Загадочном Медицинском Квесте всем, включая Бойфренда. Если это и звучит странно, у меня были на то причины. Прежде всего, даже если бы я рассказывала людям, что происходит, я не знала, как это объяснить. Я не могла сказать: «У меня такая-то болезнь». Даже людям с депрессией, заболеванием, которое имеет название, часто трудно объяснить свое состояние другим, потому что его симптомы выглядят размыто и неуловимо для того, кто их не испытывал. Тебе грустно? Не унывай!
Мои симптомы были такими же неясными, как и эмоциональные страдания людей в депрессии для посторонних. Я представляла, как люди выслушивают меня и задаются вопросом, как можно быть настолько больной и не иметь никаких ответов. Неужели можно сбить с толку такое количество врачей одновременно?
Иными словами, я знала, что могу столкнуться с заверениями, будто все симптомы живут исключительно у меня в голове, еще до того, как Доктор в Ковбойских Сапогах сказал именно это. На самом деле после консультации с ним «тревожность» добавили в мой перечень симптомов – слово, которое каждый следующий доктор видел прямо на первой странице медицинской карты. И даже если технически это было правдой – я действительно тревожилась из-за своей несчастно-счастливой книги и своего пошатнувшегося здоровья (и пока еще не начала тревожиться из-за разрыва отношений), – мне казалось, что нет способа избежать этого ярлыка как причины всех симптомов, нет способа переубедить людей.
Я держала все это при себе, потому что не хотела, чтобы меня считали женщиной с «блуждающей маткой».
Было и еще кое-что. На одном из первых свиданий, когда мы с Бойфрендом были в разгаре конфетно-букетного периода и часами разговаривали обо всем и обо всех, он упомянул, что до меня он ходил на несколько свиданий с одной женщиной. Она и правда ему нравилась, но когда он узнал, что у нее проблемы с суставами, затрудняющие для нее долгие пешие прогулки, он перестал с ней видеться. Я спросила его о причинах. Это не было какое-то острое заболевание, оно больше походило на заурядный артрит – а мы были уже немолоды, в конце концов. Кроме того, Бойфренд сам не слишком часто гулял или ходил в пешие походы.
– Я не хочу вынужденно заботиться о ней, если однажды она на самом деле заболеет, – сказал он за десертом. – Если бы мы были женаты двадцать лет и потом она заболела, это одно. Но зачем связываться с тем, кто уже болен?
– Но любой из нас может заболеть, – сказала я. В то время я еще не думала, что попадаю в эту категорию. Я думала, что чем бы ни было мое состояние, оно временно (вроде какого-то бага) или излечимо (дисбаланс гормонов щитовидной железы). Позже, когда начался мой Загадочный Медицинский Квест, отрицание перешло в разряд магического мышления: пока у меня нет диагноза, я могу не говорить Бойфренду о масштабах проблем – неопределенно долго, может даже никогда, если вдруг в итоге окажется, что у меня нет ничего особенного. Он знал (иногда), что я прохожу обследования и не всегда хорошо себя чувствую, но я объясняла свою усталость так же, как Доктор в Ковбойских Сапогах: я занятая работающая мама. Или шутила насчет старости. Я не хотела испытывать его любовь, давая ему понять, что могу заболеть или сойти с ума, веря, что я справлюсь.
К тому же я была так напугана происходящим, что продолжала надеяться на то, что мои симптомы просто исчезнут. Я думала: мы с Бойфрендом планируем совместное будущее, нужно сосредоточиться на этом. Что стало еще одной причиной, по которой я игнорировала любые намеки на то, что мы не так уж хорошо друг другу подходим. Если бы это будущее исчезло, я оставалась с ненаписанной книгой и подводящим меня телом.
Но это будущее и правда исчезло.
Так что интересно: Бойфренд оставил меня, потому что я была больна – или решил, что я параноидно верю в свою болезнь? Или он ушел потому, что я была нечестной с ним, как и он со мной, о том, кто я и что хочу видеть в партнере? Оказывается, мы не так уж отличались друг от друга. В надежде наладить отношения с человеком, который ему действительно нравился, он откладывал свою исповедь по тем же причинам, что и я: чтобы мы могли и дальше быть вместе, даже если на самом деле не могли. Если Бойфренд не хотел жить в одном доме с ребенком еще десять лет, если ему нужна была свобода, он, конечно же, не захотел бы заботиться обо мне, если бы однажды мне это понадобилось. И я знала об этом с того разговора за ужином – как и он знал, что у меня есть ребенок.
И теперь я делаю то же самое – откладываю – с Уэнделлом. Потому что правда имеет свою цену: необходимость посмотреть в лицо реальности. Моя пациентка Джулия сказала как-то, что всегда хотела бы иметь возможность заморозить время в те дни между обследованием и получением результатов. До того звонка, объяснила она, еще можно было говорить себе, что все в порядке, но правда изменила все.
Цена моей правды – не то, что Уэнделл меня бросит, как это сделал Бойфренд. Это значит, что мне придется встретиться со своей таинственной болезнью – вместо того, чтобы притворяться, будто ее не существует.
32 Экстренная сессия
– Вы как Златовласка[28], – сказала я Рите через месяц после ее ультиматума о суициде. Несмотря на бурное прошлое, я сосредоточилась на ее настоящем. Важно разрушить депрессивное состояние действиями, создать социальные связи и найти каждодневные цели, вескую причину вставать с постели по утрам. Размышляя над целями Риты, я пыталась помочь ей найти способы жить лучше уже сейчас, но почти каждое мое предложение оказывалось неудачным.
Первым делом Рита отвергла отличного психиатра, которого я ей посоветовала, чтобы она могла получить медикаментозную поддержку. Она навела о нем справки, обратила внимание, что ему за семьдесят, и объявила его «слишком старым, чтобы знать новейшие лекарства» (и не важно, что он преподавал психофармакологию студентам-медикам). Так что я направила ее к психиатру помоложе, но та, как решила Рита, «слишком молода, чтобы понять». Тогда я направила ее к специалисту средних лет, и у нее наконец-то не нашлось возражений («Очень привлекательный парень», – заметила Рита). Но лекарства сделали ее слишком сонной. Психиатр поменял назначение, но новые таблетки сделали ее тревожной и ухудшили бессонницу. Рита решила завязать с лекарствами.
Между делом Рита сообщила мне, что в совете дома, в котором она проживала, появилось вакантное место, и я предложила ей присоединиться и получше узнать соседей. («Нет, спасибо, – сказала она. – Интересные жильцы слишком заняты для этого».)
Я поломала голову и предложила ей стать волонтером – может быть, в музее или в какой-то еще области, связанной с искусством, потому что ее страстью были рисование и история искусства, – но она нашла доводы, позволившие ей отклонить это предложение. Мы обсуждали, что она может попытаться наладить контакт со своими взрослыми детьми, которые к тому времени вычеркнули ее из своей жизни, но она считала, что не перенесет еще одну неудачную попытку. («Я уже в глубокой депрессии».) И я предложила приложения для знакомств, что привело к тому, что она назвала «бригадой восьмидесятилетних».
Все это время я считала более срочным тот острый уровень боли, с которой она жила и сейчас, и задолго до меня, чем ее фантазии о самоубийстве в день рождения. Отчасти это было обусловлено обстоятельствами. У нее было одинокое детство, агрессивный муж, трудный средний возраст и определенные помехи в виде паттернов поведения с людьми. Но другая часть, как я почувствовала, узнав Риту получше, заключалась в чем-то ином, и я хотела противостоять ей в этом. Я пришла к заключению, что даже если Рита сможет избавиться от своей боли, то она не позволит себе быть счастливой. Что-то тянет ее назад.
А потом она позвонила мне и попросила в экстренном порядке назначить сессию.
У Риты, как оказалось, тоже был секрет. Не так давно в ее жизни был мужчина – а теперь она была в кризисе.
Майрон, говорит мне Рита, приехавшая на свою экстренную сессию вся взволнованная и непривычно растрепанная, – это «бывший друг». На время их дружбы, которая закончилась шесть месяцев назад, он был ее единственным другом. Да, были женщины, с которыми она здоровалась в спортзале, но они моложе, и им было неинтересно дружить со «старухой». Она чувствовала себя – как и большую часть жизни – чужой. Невидимой.
Майрон, однако, обратил внимание на Риту. В начале прошлого года, когда ему было шестьдесят пять, он переехал с Восточного побережья и въехал в жилой комплекс Риты. За три года до этого его жена, с которой они прожили вместе сорок лет, умерла, а его взрослые дети, которые жили в Лос-Анджелесе, убедили его переехать на запад.
Они встретились у почтовых ящиков в подъезде. Он просматривал флаеры, приглашающие на локальные мероприятия (мусор, который Рита всегда выбрасывала прямиком в корзину), и объяснил ей, что недавно переехал, спросив, есть ли что-то интересное поблизости. Она посмотрела на флаер в его руках. Фермерский рынок близко, сказала она, всего в нескольких кварталах отсюда.
– Замечательно, – сказал Майрон. – Вы сходите со мной туда, чтобы я не заблудился?
– Я не хожу на свидания, – сказала Рита.
– Я не зову вас на свидание, – сказал он.
Рита говорит, что чуть не умерла от смущения. Ну конечно, подумала она в тот момент. Майрон не мог счесть ее привлекательной – точно не в растянутых спортивных штанах и дырявой футболке. Ее волосы были жирными, это была немытая голова человека в депрессии; ее лицо сочилось грустью. Если его и могло что-то привлечь, решила она, то это ее почта: брошюра из музея современного искусства, экземпляр New Yorker, журнал о бридже. Очевидно, у них были схожие интересы. Майрон пытался прижиться в городе, а Рита на вид была примерно его возраста. Может быть, сказал он, Рита могла бы познакомить его с кем-то, помочь ему наладить социальную жизнь. (Едва ли он знал, что Рита была отшельницей без друзей.)
На фермерском рынке они говорили о старых фильмах, картинах Риты, семье Майрона и бридже. Следующие месяцы они многое делали вместе: гуляли, ходили в музеи и на лекции, изучали новые рестораны. Но в основном – готовили ужин и смотрели фильмы на диване в квартире Майрона, болтая друг с другом. Когда Майрону понадобился новый костюм на церемонию крещения его внучки, они пошли в торговый центр, и Рита, с ее острым взглядом художницы, нашла идеальный наряд. Иногда, если она была в магазине без него, она могла купить Майрону рубашку – просто потому что знала, что она будет хорошо на нем сидеть. Она также помогла ему обустроить жилье. Взамен Майрон повесил картины Риты на стены в ее квартире с использованием устойчивой к землетрясениям конструкции, а также стал ее техническим специалистом на случай, когда что-то случалось с ее компьютером или когда она не могла поймать сигнал вайфая.
Они не встречались, но проводили много времени вместе. И хотя поначалу Рита считала, что Майрон просто «нормально выглядит» (ей было трудно считать мужчин старше пятидесяти привлекательными), однажды, когда он показывал ей фото своих внуков, что-то в ней зашевелилось. Поначалу она подумала, что завидует его близким отношениям с семьей, но не могла отрицать, что было что-то еще. Это чувство всплывало все сильнее и сильнее, хотя она старалась не думать об этом. В конце концов, с их первой унизительной встречи у почтовых ящиков она знала, что ее отношения с Майроном были платоническими.
Но все равно. Прошло шесть месяцев, и они вели себя так, будто встречались. Так что она решила обсудить это с Майроном. Она просто должна была это сделать, потому что не могла сидеть рядом с ним на диване с бокалом вина в руке и оставаться спокойной, как статуя, когда он нечаянно проводил рукой по ее колену, опуская свой бокал на кофейный столик. (Нечаянно ли, думала она про себя.) Кроме того, рассуждала Рита, это она первая сказала, что не ходит на свидания, когда Майрон впервые заговорил к ней. Может быть, он сказал это только для того, чтобы сохранить лицо?
Риту злил тот факт, что ей было почти семьдесят, а она все еще детально обдумывала свои контакты с мужчиной с той же навязчивостью, что в колледже. Ей не нравилось чувствовать себя влюбленной девушкой – глупой, беспомощной и запутавшейся. Ей не нравилось перебирать наряды, снимая один, заменяя его другим, забрасывая кровать свидетельствами своей неуверенности. Ей хотелось избавиться от своих чувств и просто наслаждаться дружбой, но она боялась, что не сможет справиться с нарастающим внутри напряжением – что она может просто растечься в присутствии Майрона, если так и будет продолжаться. Ей придется собраться с духом, чтобы что-то сказать.
Скоро. Очень скоро.
Но потом Майрон встретил другую. В Tinder, из всех возможных мест! («Отвратительно!») Женщина, к раздражению Риты, была моложе – ей было около пятидесяти. Мэнди, или Брэнди, или Сэнди, или Кэнди – или еще какое-то похожее безвкусное имя, заканчивающееся на – Y, которое, как считала Рита, эта фифа будет писать через – IE. Мэнди. Брэнди. Сэнди. Рита никак не могла запомнить. Она лишь знала, что Майрон исчез и оставил огромный кратер в ее жизни.
Тогда-то Рита и решила встретиться с психотерапевтом и покончить со всем этим, если ничего не улучшится к ее семидесятому дню рождения.
Рита смотрит на меня так, будто это конец истории. Мне кажется интересным тот факт, что хотя Майрон был настоящим толчком для ее прихода на психотерапию, она раньше ни разу не говорила о нем. Я спрашиваю, почему она рассказывает о нем сейчас и в чем причина сегодняшней срочности.
Рита глубоко вздыхает.
– Погодите, – угрюмо говорит она. – Это еще не все.
Она начинает объяснять, что пока Майрон встречался с Этой-Как-Там-Ее, Рита все равно виделась с ним в спортклубе, где он плавал, а она занималась аэробикой – но они больше не приезжали туда вместе, потому что он ночевал у Мэнди/Брэнди/Сэнди. Они все равно встречались у почтовых ящиков днем, где Майрон пытался завести разговор, а Рита холодно его отшивала. Именно Майрон предложил Рите присоединиться к совету дома, и именно его приглашение она грубо отклонила. Однажды, когда она отправлялась на психотерапию, они с Майроном встретились в лифте, и он сделал комплимент ее внешнему виду (она всегда «приводила себя в порядок» к нашим сессиям, поскольку это был ее единственный выход в свет каждую неделю).
«Прекрасно выглядишь сегодня», – сказал он. На что Рита коротко ответила: «Спасибо» – а потом уставилась прямо, не отводя взгляд, на всю оставшуюся дорогу вниз. Вечером она никогда не выходила из своей квартиры, даже чтобы вынести вонючий мусор, чтобы не столкнуться с Мэнди/Брэнди/Сэнди и Майроном, что уже случалось несколько раз, когда они держались за руки, смеялись или, еще хуже, целовались («Отвратительно!»).
«Любовь – это боль, – говорила Рита, рассказывая мне о своих неудачных замужествах и повторив то же самое после встречи с восьмидесятилетним. – Зачем беспокоиться?»
Но это было до того, как Майрон расстался с Мэнди/Брэнди/Сэнди; до того, как он загнал Риту в угол на стоянке спорткомплекса, когда она уже несколько недель переводила его звонки на автоответчик и не отвечала на его СМС. («Можем поговорить?» – Рита нажимала «удалить».) До того как Майрон – который, как она заметила, столкнувшись с ним лицом к лицу на залитой солнцем стоянке, «выглядел немного постаревшим», – сказал ей все те вещи, которые так давно хотел сказать и которых не понимал, пока встречался с Рэнди. (Так вот как ее звали!)
Майрон понял, что скучал по Рите. Сильно. Он хотел рассказывать ей все – все время, каждый день, – как хотел рассказывать все своей жене Мирне, пока они были женаты. Рита заставляла его смеяться и задумываться, и когда дети присылали ему фотографии внуков, он хотел показывать их Рите. Ничего подобного ему не хотелось делать с Рэнди. Ему нравился острый ум Риты и ее столь же острый язык, ее креативность и доброта. И то, что она покупала его любимый сыр, оказываясь в магазине.
Ему нравилась ее суетность, ее лукавые замечания и мудрые советы. Он восхищался ее гортанным смехом, ее глазами, зелеными на солнце и карими в помещении, ее яркими рыжими волосами и ее ценностями. Ему нравилось, что, начиная разговор на одну тему, они могли перейти на две или три другие, прежде чем вернуться к началу или даже забыть об изначальном направлении беседы. Ее картины и скульптуры заставляли его сердце трепетать. Она была ему интересна, он хотел знать больше о ее детях, ее семье, ее жизни, о ней. Он хотел, чтобы она чувствовала себя комфортно, рассказывая ему все это, и задавался вопросом, почему она раскрывала так мало деталей о своем прошлом.
И да, он думал, что она прекрасна. Абсолютно потрясающая. Но не будет ли она так любезна перестать носить футболки, похожие на тряпки?
Майрон и Рита стояли на парковке спортклуба; Майрон восстанавливал дыхание, излив всю свою душу, а у Риты кружилась голова, ей было трудно стоять на ногах – и она злилась.
«Мне неинтересно избавлять тебя от одиночества, – сказала она. – Только потому, что ты порвал с профурсеткой Как-Там-Ее-Зовут. Только потому, что ты скучаешь по жене и не можешь быть один».
«Ты думаешь, причина в этом?» – спросил Майрон.
«Конечно, – надменно сказала Рита. – Да».
А потом он ее поцеловал. Пронзительным, мягким, настойчивым, достойным кино поцелуем, который, казалось, длился целую вечность. Он закончился, когда Рита ударила Майрона по щеке и убежала в машину, откуда потом позвонила мне и попросила в экстренном порядке провести сессию.
– Это потрясающе! – говорю я, когда Рита заканчивает свой рассказ. Я совсем не ожидала такого поворота, и я правда потрясена. Но Рита фыркает, и я понимаю, что за деревьями она не видит леса.
– То, что он сказал, просто прекрасно, – говорю я. – А этот поцелуй…
Я вижу проблеск улыбки, но потом она подавляет ее, и лицо становится жестким, холодным.
– Ну, все это хорошо и замечательно, – говорит она. – Но я больше никогда не буду разговаривать с Майроном. – Она открывает сумочку, достает скомканную салфетку и решительно добавляет: – С любовью покончено.
Я вспоминаю, как она заявляла раньше: «Любовь – это боль». Ситуация с Майроном так встрепенула ее, потому что ее сердце было словно во льду на протяжении десятилетий и вдруг начало таять с появлением Майрона в ее жизни, и тогда она вкусила надежду – но потеряла ее. Я вдруг понимаю: когда Рита впервые пришла на консультацию, она была в отчаянии не только потому, что ей исполнялось семьдесят, как она сама заявила. Исчезновение Майрона заставило ее подумать о том же, о чем думала и я на первой встрече с Уэнделлом: был ли мужчина, только что бросивший меня, «конечной остановкой», или последним шансом на любовь? Рита тоже горевала о чем-то большем.
Но теперь поцелуй создал для Риты еще один кризис – возможности. И он может оказаться куда непереносимее, чем боль.
Шарлотта опаздывает на сегодняшнюю встречу, потому что кто-то врезался в ее машину, когда она выезжала с парковки. С ней все нормально, говорит она, это небольшое ДТП, но из-за него горячий кофе, стоявший в подлокотнике, пролился на ноутбук, в котором хранилась презентация для завтрашней встречи – а резервной копии нет.
– Думаете, надо рассказать в компании, что случилось, или переделать все за ночь? – спрашивает она. – Я хочу, чтобы все прошло хорошо, но не хочу выглядеть растяпой.
На прошлой неделе, занимаясь в спортзале, она случайно уронила гантель на палец ноги. Синяк выглядит хуже, и ей все еще больно. «Думаете, стоит сделать рентген?» – спрашивает она. Еще до этого ее любимый профессор из колледжа скончался в результате несчастного случая («Думаете, мне надо слетать на похороны, даже если мой босс взбесится?»), а еще раньше у нее украли кошелек, и теперь она целыми днями занималась тем, что пыталась снизить ущерб от кражи личных данных («Может, мне теперь стоит держать водительские права в бардачке?»).
Шарлотта думает, что ее настигла волна «плохой кармы». Каждую неделю возникает какой-то новый кризис (штраф за нарушение ПДД, проблемы с арендой жилья), и хотя поначалу мне было ее жаль и я пыталась помочь ей справиться, постепенно я стала замечать, что мы вообще перестали заниматься психотерапией. Да и разве мы могли? Уделяя внимание одной внешней катастрофе за другой, Шарлотта отвлекала себя от настоящего жизненного кризиса – внутреннего. Иногда «драма», какой бы неприятной она ни была, может быть формой самолечения, способом успокоиться, избежать внутренних потрясений.
Она ждет от меня совета насчет презентации, но уже знает, что я не даю конкретных советов. Одной из вещей, удививших меня как психотерапевта, было то, как часто люди хотят, чтобы им говорили, что делать. Как будто у меня был правильный ответ – или как будто для любого выбора, который люди делают в повседневной жизни, вообще существуют правильные и неправильные ответы. Рядом с папками на моем столе приклеено слово «ultracrepidarianism», что означает «привычка высказывать мнение и давать советы в вопросах, лежащих вне уровня компетенции». Это напоминание мне самой: как психотерапевт, я могу понять людей и помочь им разобраться, чего именно они хотят, но я не могу сделать за них выбор.
Когда я только начинала, иногда мне хотелось дать дружеский (как я полагала) совет. Но потом я поняла, что люди терпеть не могут, когда им говорят, что делать. Да, нередко они сами об этом просят – настойчиво, неумолимо, – но затем их первоначальное облегчение сменяется негодованием. Это происходит, даже если все идет гладко, потому что в конечном счете люди хотят иметь власть над своей жизнью; поэтому дети проводят все детство, умоляя разрешить им принимать собственные решения. (А потом они вырастают и умоляют забрать эту свободу.)
Иногда пациенты полагают, что у психотерапевтов на все есть ответы, мы просто их не разглашаем – якобы это наша тайна. Но мы не собираемся пытать людей. Мы не решаемся давать ответы не только потому, что пациенты на самом деле не хотят их слышать, но и потому, что они часто неверно истолковывают сказанное (оставляя нас с мыслями вроде «я никогда не предлагала вам рассказать это своей матери!»). Что важнее, мы хотим поддержать их независимость.
Но когда я прихожу в кабинете Уэнделла, я забываю это, да и вообще все то, что узнала о советах за эти годы: что информация, которую пациент выдает вам, определенным образом искажается; что представление информации со временем меняется, становясь менее искаженным; что дилемма может быть вообще в чем-то другом, пока скрытом; что пациент иногда давит на вас, чтобы вы поддержали определенный выбор, и это проявляется четче по мере развития ваших отношений; что пациент хочет, чтобы решения принимали другие, чтобы не брать на себя ответственность, если что-то пойдет не так.
Вот некоторые вопросы из тех, что я задавала Уэнделлу: «Нормально ли, что холодильник сломался через десять лет работы? Стоит его поменять или же заплатить за ремонт?» (Уэнделл: «Вы в самом деле пришли сюда, чтобы спросить то, что могли бы узнать у Сири?») «Какую школу выбрать для сына: эту или другую?» (Уэнделл: «Думаю, будет полезнее, если вы поймете, почему вам так трудно принять это решение».) Однажды он сказал: «Я знаю, что сделал бы я. Я не знаю, что делать вам». И вместо того чтобы понять смысл фразы, я ответила: «Хорошо, тогда просто скажите мне, что бы вы сделали?»
За моими вопросами лежало предположение, что Уэнделл – более компетентное человеческое существо, чем я. Иногда я задавалась вопросом, кто я такая, чтобы принимать такие важные решения в своей жизни? Я действительно подхожу для этого?
Каждый в той или иной степени ведет эту внутреннюю борьбу. Ребенок или взрослый? Безопасность или свобода? Но вне зависимости от того, к чему из этого склоняются люди, каждое решение, которое они принимают, основано на двух вещах: страхе и любви. Психотерапия пытается научить вас отличать одно от другого.
Шарлотта однажды рассказала мне, как увидела по телевизору рекламу, которая заставила ее заплакать.
– Она была про машину, – сказала она, потом сухо добавила: – Не могу вспомнить, какую именно, поэтому ясно, что реклама была не очень эффективной.
В рекламе, продолжила она, действие происходит ночью, и за рулем сидит собака. Она ведет машину по пригороду, а потом камера показывает салон, фокусируясь на заднем сиденье, где в детском кресле лает щенок. Мама-Собака продолжает вести машину, поглядывая в зеркало заднего вида, пока ровная дорога не усыпляет Щенка. Мама-Собака, наконец, подъезжает к дому, с любовью глядя на своего спящего Щенка, но едва она выключает двигатель, он просыпается и снова начинает лаять. С покорным выражением мордочки Мама-Собака снова заводит машину и начинает движение. Мы понимаем, что она будет ездить по окрестностям еще довольно долго.
К концу рассказа Шарлотта всхлипывала, что для нее необычно. Шарлотта обычно показывает мало эмоций – если вообще это делает. Ее лицо – маска, ее слова – отвлекающий маневр. Не то чтобы она скрывает свои чувства, она просто не может до них добраться. Для такого рода эмоциональной слепоты есть специальное слово – «алекситимия». Она не знает, что чувствует, либо не находит подходящих слов, которые могли бы выразить эмоции. О похвале босса она расскажет абсолютно ровным тоном, и я буду копать… и копать… и еще копать, пока, наконец, не доберусь до нотки гордости. Акт сексуального насилия в колледже (она была пьяна, очнулась на вечеринке в незнакомой спальне, голая, в постели) будет описан тем же ровным тоном. Пересказ хаотичного разговора с мамой будет звучать так, словно она читает клятву верности флагу США.
Иногда люди не могут идентифицировать свои чувства, потому что их разубеждали в них в детстве. Ребенок говорит: «Я разозлился». Родители отвечают: «В самом деле? Из-за такой ерунды? Ты такой чувствительный!» Или ребенок говорит: «Мне очень грустно». Родители отвечают: «Не грусти. Смотри, вот воздушный шарик!» Или ребенок говорит: «Мне страшно»; родители отвечают: «Не о чем беспокоиться. Не веди себя, как маленький». Но нельзя запечатать свои чувства на всю жизнь. Они неизбежно вырвутся на свободу, когда мы меньше всего будем к этому готовы – например, при просмотре рекламы.
– Не знаю, почему мне стало так грустно, – сказала Шарлотта о рекламе машины.
Наблюдая за тем, как она плачет, я поняла не только ее боль, но и причину, по которой она постоянно пыталась переложить на меня любые решения. У Шарлотты не было Мамы-Собаки на водительском сиденье. С мамой, погруженной в депрессию и спящей между запойными ночными вечеринками; с папой, часто отсутствовавшим в городе из-за «дел»; с двумя родителями, которые самозабвенно ругались, перемежая речь длинными цепочками нецензурщины, порой так громко, что жаловались соседи, Шарлотта была вынуждена повзрослеть раньше времени – как несовершеннолетний водитель, едущий по жизни без прав. Ей редко удавалось увидеть, что ее родители ведут себя как взрослые, как родители ее друзей.
Я представляла ее ребенком. Во сколько надо выйти в школу? Что делать с подругой, которая сказала кое-что неприятное? Как мне поступить, если я нашла наркотики в ящике папиного стола? Что делать, если сейчас полночь, а моей мамы нет дома? Как подать заявление в колледж? Ей пришлось стать родителем не только для самой себя, но и для младшего брата.
Детям, однако, не нравится быть слишком компетентными. Так что неудивительно, что сейчас Шарлотта хочет, чтобы я стала для нее мамой. Я могу быть «нормальным» родителем, который безопасно и с любовью ведет машину, а она может узнать, каково это, когда о тебе заботятся – опыт, которого у нее до сих пор не было. Но Шарлотта уверена: для того чтобы передать мне бразды компетентности, она должна предстать беспомощной, позволить мне увидеть только проблемы – или, как Уэнделл сказал насчет моего аналогичного поведения, «пленить меня своим убожеством». Пациенты часто ведут себя таким образом, чтобы убедиться, что психотерапевт не забудет об их страданиях, если они упомянут что-то позитивное. В жизни Шарлотты происходит и хорошее, но я редко об этом слышу, а если и слышу, то через много месяцев после случившегося.
Я думаю об этой динамике «соблазнения убожеством» между Шарлоттой и мной, а также между юной Шарлоттой и ее родителями. Не важно, что делала Шарлотта: напивалась, приходила домой поздно, вела беспорядочную сексуальную жизнь – это не вызывало желаемого эффекта. Это пошло не так. То пошло не так. Обрати на меня внимание. Ты вообще меня слышишь?
Сейчас, после вопросов о ноутбуке и пролитом кофе, Шарлотта спрашивает, что ей делать с Чуваком из приемной. Она не видела его несколько недель, потом он пришел с подружкой, а сегодня он снова один. Несколько минут назад, в приемной, он позвал ее на свидание. Или, по крайней мере, она думает, что это свидание. Он предложил ей «потусоваться» сегодня вечером. Она согласилась.
Я смотрю на Шарлотту. Почему, черт возьми, ты решила, что это хорошая мысль?
Ладно, я не говорю это вслух. Но иногда, причем не только с Шарлоттой, я слышу что-то, что говорит пациент – какое-то саморазрушающее направление действий, которое он выбирает или собирается выбрать (например, рассказать работодателю, как он себя чувствует в коллективе, после предложения «будь самой собой»), – и мне приходится подавлять желание воскликнуть: «Нет! Не делай этого!»
Но и быть свидетелем крушения поезда я тоже не могу.
Мы с Шарлоттой говорили о предвидении результатов ее решений, но я знаю, что это больше, чем просто интеллектуальный процесс. Навязчивое повторение – это грозный зверь. У Шарлотты стабильность и сопутствующая ей радость не вызывают доверия – они заставляют ее чувствовать себя тошнотворно-тревожно. Когда вы ребенок, и ваш отец любит вас и играет с вами, а потом исчезает на какое-то время, затем возвращается и ведет себя, как ни в чем не бывало – и это повторяется, – вы узнаете, что радость непостоянна. Когда ваша мать выходит из депрессии, внезапно начинает интересоваться вашими делами и ведет себя так, как и мамы других детей, вы не осмеливаетесь чувствовать радость, потому что по опыту знаете, что все это пройдет. И так оно и происходит. Каждый раз. Лучше не ожидать ничего слишком стабильного. Лучше «потусоваться» с парнем из приемной, у которого по-прежнему есть девушка – или нет, но и когда она была, он флиртовал.
– Я не знаю, что там с его девушкой, – продолжает Шарлотта. – Думаете, это плохая идея?
– А что вы чувствуете по этому поводу?
– Я не знаю. – Шарлотта пожимает плечами. – Взволнована? Напугана?
– Напугана чем?
– Не знаю. Что я не понравлюсь ему за пределами приемной, или что я просто замена его девушки. Или что он чокнутый, потому что у него изначально были проблемы с девушкой. Иначе зачем бы они вместе приходили на психотерапию?
Шарлотта начинает ерзать, играя солнцезащитными очками на подлокотнике кресла.
– Или, – продолжает она, – что, если он все еще с той девушкой, и это не свидание, а просто дружеская встреча – а я этого не понимаю, и потом мне снова придется видеть его в приемной каждую неделю?
Я говорю Шарлотте, что то, как она говорит о Чуваке, напоминает мне ее описание своего состояния при взаимодействии с родителями – не только в детстве, но и сейчас, когда она выросла. Все ли пройдет хорошо? Будут ли они вести себя прилично? Начнем ли мы ссориться? Появится ли отец или отменит все в последнюю минуту? Будет ли мама вести себя нормально на людях? Будет ли весело? Или они снова меня опозорят?
– Да, – говорит Шарлотта. – Я не пойду.
Но я знаю, что пойдет.
Когда наша сессия подходит к концу, Шарлотта повторяет свой ритуал (не верит, что час прошел, медленно собирает вещи, потягивается). Она идет к двери, но останавливается в проеме: она часто так делает, чтобы спросить меня о чем-то или сказать то, что должна была сказать во время сессии. Как и Джон, она склонна к тому, что мы называем «откровением у дверной ручки».
– Кстати… – начинает она небрежно, хотя у меня есть ощущение, что что бы ни последовало, это явно не будет экспромтом. Нередко пациенты всю сессию говорят обо всем подряд, только чтобы приберечь самое важное на последние десять секунд («Думаю, я бисексуал», «Моя биологическая мать нашла меня в Фейсбуке»). Люди поступают так по множеству причин: они смущены; они не хотят, чтобы у вас была возможность прокомментировать; они хотят, чтобы вы были так же взбудоражены, как они. (Специальная доставка! Вот все мои неурядицы, поживите с этим неделю, ладно?) Или это желание: помните обо мне.
В этот раз, однако, ничего не происходит. Шарлотта просто стоит. Мне интересно, думает ли она о чем-то, что действительно трудно рассказать: о своем пьянстве или надежде на звонок отца на следующей неделе, в честь дня рождения.
Вместо этого она выпаливает:
– Где вы купили этот топ?
Звучит как простой вопрос. Водитель Uber, бариста в Starbucks и незнакомка на улице уже задавали мне тот же вопрос о моем новом и одном из самых любимых топов, и каждый раз я отвечала без малейшего колебания: «В Anthropologie, на распродаже!», гордясь своим хорошим вкусом и удачей. Но с Шарлоттой что-то меня останавливает. Не то чтобы я боялась, что она начнет одеваться так же, как я (что уже сделала одна из моих пациенток). Просто нутро подсказывает, почему она спрашивает: она хочет купить такой же и надеть его на свидание с Чуваком – свидание, на которое она предположительно не собирается.
Тем не менее я отвечаю:
– Anthropologie.
– Милый, – говорит она, улыбаясь. – Увидимся на следующей неделе.
И она уходит, но не раньше, чем я на долю секунды встречаюсь с ней взглядом, и она отворачивается.
Мы обе знаем, что произойдет.
34 Просто будьте
Примерно на середине обучения я как-то разговорилась со своим парикмахером о психотерапии.
– Почему вы хотите быть психотерапевтом? – спросил Кори, почесывая нос. Он говорил, что часто чувствует себя психотерапевтом, весь день выслушивая проблемы клиентов. – Слишком много личной информации, – продолжил он. – Я стригу их волосы. Зачем они рассказывают мне все это?
– Неужели действительно рассказывают настолько личные вещи?
– Некоторые – еще как. Не знаю, как вы это делаете. Это настолько… – Он поднял в воздух ножницы, подыскивая нужное слово. – Истощающе.
Он вернулся к стрижке. Я смотрела, как он подрезает мне челку.
– Что вы им говорите? – спросила я. Мне пришло в голову, что когда люди делились с ним своими секретами, они, вероятно, смотрели в зеркало, как и мы сейчас, разговаривая словно с отражениями друг друга. Может быть, так легче.
– Что я говорю, когда выслушиваю все их проблемы? – переспросил он.
– Именно. Вы пытаетесь дать им совет, вставить свои пять копеек?
– Ничего подобного, – сказал он.
– А что тогда?
– «Просто будьте».
– Я говорю им: «Просто будьте».
– Это вы им говорите? – засмеялась я и представила, как говорю это в собственном кабинете. У вас проблемы? Просто будьте.
– Вам стоит попробовать это со своими пациентами, – сказал он, улыбаясь в ответ. – Это может им помочь.
– А вашим клиентам помогает? – спросила я.
Кори кивнул.
– Что-то вроде того. Я стригу их, и они возвращаются, но на следующий раз говорят, что хотят чего-то другого. «Почему? – спрашиваю я. – Что-то было не так в прошлый раз?» Нет, говорят они, все было отлично. Просто они хотят чего-то другого. Я делаю им точно такую же стрижку, но они думают, что это другая. И она им нравится.
Я подождала, пока он скажет что-то еще, но он, кажется, был занят моими секущимися концами. Я смотрела, как мои волосы падают на пол.
– Хорошо, – сказала я. – Но как это поможет разрешить их проблемы?
Кори перестал стричь и посмотрел на меня в зеркало.
– Может быть, все, на что они жалуются, на самом деле не является проблемой. Может быть, все и так хорошо. Может быть, даже просто прекрасно – как их стрижка. Может быть, они были бы счастливее, если бы не пытались изменить что-то. А просто были.
Я обдумала это. Конечно, отчасти все сказанное было правдой. Иногда людям нужно принять себя и других такими, какие они есть. Но иногда, чтобы чувствовать себя лучше, вам нужно зеркало, поставленное перед вами, но не такое, что делает вас симпатичнее, как то, в которое я смотрелась в парикмахерской.
– Вы когда-нибудь ходили на психотерапию? – спросила я Кори.
– Черт возьми, нет! – Он энергично замотал головой. – Это не мое.
Несмотря на то что Кори не слишком нравилось говорить о личном, за те годы, что я бывала у него, он рассказал о себе довольно много: как обжигался в отношениях; как долго семья не могла принять его, когда он признался им, что он гей; как его отец всю жизнь скрывал свою ориентацию, заводя романы с мужчинами, но до сих пор не совершил каминг-аут. Еще я знала, что Кори сделал множество косметических операций, но до сих пор был недоволен своей внешностью, так что собирался снова лечь под нож. Даже когда мы разговаривали, он разглядывал себя в зеркале и утверждался в своем желании.
– Что вы делаете, когда вам грустно или одиноко? – спросила я.
– Tinder, – сказал он, словно это было что-то само собой разумеющееся.
– И ночные встречи?
Он улыбнулся. Ну конечно.
– А потом вы больше не встречаетесь с этими парнями?
– Обычно нет.
– И вам становится лучше?
– В смысле, до тех пор, пока вы снова не почувствуете себя одиноко или грустно и не вернетесь в приложение, чтобы снова это исправить?
– Именно. – Он сменил ножницы на фен. – В любом случае, разве здесь есть разница с людьми, которые каждую неделю приходят на психотерапию, чтобы что-то исправить?
Разница была. И была слишком во многом. Психотерапевты не просто обеспечивают недельное улучшение. Однажды я слышала, как один журналист сказал, что взять хорошее интервью – все равно что постричь кого-то: выглядит легко, пока не берешь ножницы в руки. То же самое, как я постепенно узнавала, было верно и для психотерапии. Но я не хотела ничего пропагандировать. Психотерапия, в конце концов, не для каждого.
– Вы правы, – сказала я Кори. – Есть множество способов просто быть.
Он включил фен.
– У вас есть ваша психотерапия, – сказал он, а потом указал подбородком на свой телефон. – А у меня есть моя.
35 Вы бы лучше…
Джулия перечисляет части тела, решая, какие из них оставить.
– Толстая кишка? Матка? – спрашивает она, и ее брови поднимаются, будто она шутит. – И еще вот, вы не поверите. Влагалище. Так что все сводится к тому, хочу ли я оставаться способной срать, иметь детей или заниматься сексом.
Я чувствую, как в горле образуется ком. Джулия выглядит совсем не так, как несколько месяцев назад в Trader Joe’s; даже не так, как она выглядела всего несколько недель назад, когда врачи сказали, что, чтобы сохранить ей жизнь, им нужно отрезать от нее что-то еще. Она держалась молодцом при первой атаке рака и рецидиве, и смертном приговоре, который закончился отсрочкой казни, и беременности, которая дала ей надежду. Но после такого количества сюрпризов с нее хватит, она измучена вконец. Ее кожа выглядит тонкой и испещренной морщинами, ее глаза налиты кровью. Теперь мы иногда плачем вместе, и она обнимает меня, когда уходит.
Никто в Trader Joe’s не знает, что она больна: пока есть такая возможность, она хочет, чтобы все так и оставалось. Она хочет, чтобы к ней относились в первую очередь как к человеку, а не как к больной раком, что звучит похоже на мысли нас, психотерапевтов, о своих пациентах: мы хотим узнать их до того, как узнаем об их проблемах.
– Это похоже на игру «Вы бы лучше?», в которую мы играли в детстве, приходя друг к другу с ночевкой, – говорит она. – Вы бы лучше умерли в авиакатастрофе или в пожаре? Вы бы лучше ослепли или оглохли? Вы бы лучше сами по себе плохо пахли или же нюхали что-то плохо пахнущее – до конца своей жизни? Один раз, когда была моя очередь отвечать, я сказала: «Ничего из этого». И все сказали: «Нет, ты должна выбрать что-то одно». И я сказала: «Хорошо, я выбираю ничего». И это просто вынесло всем мозг – простой концепт того, что при наличии двух отвратительных альтернатив ничего тоже может быть выбором.
В школьном альбоме под ее именем было написано: «Я выбираю ничего».
Она использовала ту же логику и во взрослой жизни. Когда ее спросили, что она выберет: престижную аспирантуру с минимальным финансированием или куда менее интересную, но полностью оплачиваемую должность, все полагали, что она должна выбрать что-то одно. Но вопреки всем советам она отказалась от обоих вариантов. Это сослужило ей хорошую службу: вскоре она получила еще более хорошее предложение насчет аспирантуры в лучшем месте – в том же городе, где жила ее сестра, и там Джулия встретила своего мужа.
Но когда она заболела, ничего перестало быть выбором: вы бы лучше остались без груди, но живой, или сохранили грудь и умерли? Она выбрала жизнь. Были и еще решения, подобные этому, когда ответы были сложны и неочевидны; каждый раз Джулия принимала их спокойно. Но сейчас, в этом конкретном раунде «Вы бы лучше?», в этой рулетке частей тела, она не знала, как сделать выбор. В конце концов, она все еще переживала шок после недавнего выкидыша.
Ее беременность продлилась восемь недель, и в тот же период ее младшая сестра Никки забеременела вторым ребенком. Не желая рассказывать свои новости до конца первого триместра, сестры хранили секреты друг друга, радостно отмечая дни в общем онлайн-календаре, рассчитанном на двенадцать недель. Метки Джулии были голубыми, потому что она думала, что носит мальчика; она даже дала ему прозвище «ММ» – Милый Мальчик. Никки вносила пометки желтым цветом (прозвище: Малыш Y), тем же цветом, каким хотела покрасить стены в детской: как и во время первой беременности, она хотела, чтобы пол ребенка стал сюрпризом.
А в конце восьмой недели у Джулии началось кровотечение. У ее сестры едва началась шестая неделя. Когда Джулия ехала в больницу, ей пришло сообщение от Никки. Там был снимок с ультразвука с подписью: «Смотри-ка, у меня бьется сердце! Как мой кузен ММ? Целую, Малыш Y».
У кузена Малыша Y дела шли не так хорошо. Кузен Малыша Y уже был нежизнеспособен.
По крайней мере, у меня нет рака, думала Джулия, покидая слишком хорошо знакомую больницу. В этот раз у нее была «нормальная» проблема для женщины ее возраста. У множества женщин на первых неделях срока случаются выкидыши, объяснила ее акушерка. Тело Джулии прошло через многое.
– Такое просто случается, – сказала врач.
И в первый раз в жизни Джулию, которая всегда жила в мире рациональных объяснений, удовлетворил этот ответ. В конце концов, каждый раз, когда у врачей находилась причина для чего-то, она оказывалась разочаровывающей. Судьба, невезение, вероятность – все это казалось долгожданной отсрочкой при мрачном диагнозе. Теперь, когда ее компьютер ломался или когда протекала труба на кухне, она говорила: «Такое просто случается».
Эта фраза веселила ее. Она решила, что это работает в обе стороны. Ведь как часто хорошие вещи так же неожиданно случались в жизни? Как раз на днях, по ее словам, какой-то случайный человек вошел в Trader Joe’s с бездомной женщиной, которая сидела на парковке, и сказал Джулии: «Видите вон ту женщину? Я сказал ей взять себе еды. Когда она подойдет к кассе, позовите меня, я заплачу». Рассказывая эту историю Мэтту после работы, Джулия покачала головой и сказала: «Такое просто случается».
И правда, вскоре Джулия снова забеременела. На этот раз Малыш Y ждал младшего кузена. Такое просто случается.
Чтобы не сглазить, Джулия не дала ребенку прозвище. Она пела ему, и разговаривала с ним, и хранила свой секрет, как невидимый бриллиант. Знали только муж Джулии, ее сестра и я. Даже ее мама еще не знала. («Она не умеет держать добрые вести при себе», – сказала Джулия, смеясь.) Так что именно мне она рассказывала о развитии эмбриона, именно мне она описывала воздушный шарик в форме сердца, который Мэтт подарил ей после первого ультразвукового исследования, показавшего сердцебиение, и именно мне через неделю после этого Джулия позвонила, чтобы сообщить об очередном выкидыше. Тесты показали, что матка Джулии оказалась «негостеприимной» из-за фибромы, которую следовало удалить. И снова, проблема казалась такой обычной – и устранимой.
– По крайней мере, у меня нет рака, – сказала Джулия. Это стало еще одним рефреном у них с Мэттом. Не важно, что происходили все те же ежедневные неприятности, большие и маленькие, на которые люди обычно жалуются. Пока у Джулии не было рака, с миром все было в порядке. Ей нужна была небольшая операция по удалению фибромы, и потом она могла снова забеременеть.
– Еще одна операция? – спросил Мэтт.
Он беспокоился, что телу Джулии и без того досталось. Может быть, предлагал он, им стоит усыновить ребенка или воспользоваться услугами суррогатной матери. Мэтт был так же не склонен к риску, как и Джулия: это было их точкой соприкосновения при первой встрече. С учетом случившихся выкидышей, не было ли это более безопасно? Кроме того, если бы они приняли решение найти суррогатную мать, они уже были знакомы с идеальной кандидатурой.
Когда ее везли в больницу после недавнего выкидыша, Джулия позвонила Эмме, коллеге по Trader Joe’s, чтобы спросить, не сможет ли та выйти вместо нее на смену. Джулия не знала, что Эмма только что подписала контракт с агентством суррогатного материнства, чтобы заплатить за колледж. Эмма была двадцатидевятилетней замужней матерью, которая хотела получить образование, и ей нравилась сама идея – помочь семьям реализовать мечту о детях и вместе с этим реализовать собственные мечты о колледже. Когда Джулия поведала Эмме о своих проблемах с маткой, Эмма немедленно вызвалась помочь. Именно Джулия вдохновила ее вернуться к учебе и даже помогла с поступлением. Они работали бок о бок несколько месяцев, и Джулии никогда не приходило в голову, что Эмма может выносить ее ребенка. Но если раньше она постоянно задавалась вопросом «Почему?», в этот раз она спрашивала себя: «Почему бы и нет?»
Так что Джулия и Мэтт сошлись на новом плане, как делали уже много раз со времен своей свадьбы. Она удаляет фиброму и пробует забеременеть еще раз. Если это не сработает, они обратятся к Эмме. Если и это не сработает, они попробуют стать родителями через процедуру усыновления.
– По крайней мере, у меня нет рака, – сказала Джулия в моем кабинете, закончив рассказ о неудачах с беременностью и новых планах. Но когда она готовилась к удалению фибромы, врачи Джулии обнаружили, что это не единственная проблема. Ее рак вернулся и начал распространяться по организму. Они больше ничего не могли сделать. Не было больше никаких волшебных лекарств. При желании Джулии они могли сделать все возможное, чтобы максимально продлить ее жизнь, но на этом пути ей придется от многого отказаться.
Ей придется решать, с чем она будет дальше жить – или без чего – и как долго.
Когда врачи рассказали последние новости, Джулия и Мэтт, сидящие рядом в виниловых креслах, залились смехом. Они смеялись над серьезным гинекологом, а на следующий день – над серьезным онкологом. К концу недели они посмеялись еще и над гастроэнтерологом, урологом и двумя хирургами, к которым обратились за сторонним заключением.
Они хихикали, еще не увидев врача. Когда медсестры, сопровождающие их на обследования, риторически спрашивали: «Как вы сегодня?», Джулия беспечно отвечала: «Я умираю. А как у вас дела?» Медсестры никогда не знали, что сказать.
Джулия и Мэтт считали это уморительно смешным.
Они смеялись и тогда, когда врач предложил удалить те части тела, где рак может расти наиболее агрессивно.
– Ну, от матки нам уже никакой пользы, – небрежно сказал Мэтт, сидя с Джулией в кабинете врача. – Лично я голосую за сохранение влагалища и удаление толстого кишечника, но решение по влагалищу и кишечнику за ней.
– «Решение по влагалищу и кишечнику за ней», – хихикнула Джулия. – Он такой милый, правда?
На другом приеме Джулия сказала:
– Я не знаю, док. В чем смысл оставлять влагалище, если мы удалим толстый кишечник и привяжем мешочек с какашками к моему телу? Не слишком похоже на афродизиак.
Тогда Мэтт и Джулия тоже смеялись.
Хирург объяснил, что можно восстановить влагалище из другой ткани, и Джулия снова рассмеялась.
– Кастомизированная вагина! – сказала она Мэтту. – Как тебе такое?
Они смеялись и смеялись, и смеялись.
А потом заплакали. И плакали так же сильно, как смеялись.
Когда Джулия рассказала мне это, я вспомнила, как расхохоталась, когда Бойфренд заявил, что не хочет жить с ребенком еще десять лет. Я вспомнила пациентку, которая истерически смеялась, когда ее горячо любимая мать умерла; вспомнила пациента, который смеялся, когда узнал, что у жены рассеянный склероз. Потом я вспомнила, как рыдала в кабинете Уэнделла на протяжении целой сессии – как и мои пациенты, как и Джулия несколько недель назад.
Это горе: вы плачете, вы смеетесь, повторяете снова.
– Я склоняюсь к тому, чтобы сохранить влагалище, но удалить кишечник, – говорит Джулия сегодня, пожимая плечами, как будто мы ведем абсолютно нормальный диалог. – Ну то есть… у меня уже искусственная грудь, С искусственной вагиной я не слишком буду отличаться от куклы Барби.
Она уже прикидывает, чего можно лишиться, чтобы при этом не перестать быть собой. Что представляет собой жизнь, даже когда вы живы? Я думаю о том, как редко люди обсуждают все эти еще не рассматриваемые «вы бы лучше» со своими пожилыми родителями. Это отличный мысленный эксперимент, пока вы еще не на той стадии. На что вы не готовы пойти? На отсутствие способности двигаться? На помутнение рассудка? И до какой степени – в обоих случаях? И станет ли это для вас решающим моментом, случись оно на самом деле?
Вот камень преткновения Джулии: она лучше умрет, чем не сможет есть обычную еду или чем позволит раку достичь ее мозга и лишить ее способности связно мыслить. Раньше она думала, что лучше умереть, чем выводить какашки из дыры в животе, но сейчас ее лишь беспокоит мешок для колостомы.
– Мэтта это оттолкнет, да?
Когда я впервые увидела колостому в медицинском институте, я удивилась, насколько ненавязчиво она выглядит. Существует даже целая серия модных мешочков, украшенных цветами, бабочками, сердечками и всякой бижутерией. Дизайнер окрестил их «Другой Секрет Виктории[29]».
– А его вы спрашивали? – говорю я.
– Да, но он боится ранить мои чувства. Я хочу знать. Думаете, его это оттолкнет?
– Не думаю, что оттолкнет, – говорю я, понимая, что тоже щажу ее чувства. – Но ему, возможно, придется привыкнуть к этому.
– Ему придется ко многому привыкнуть, – говорит она.
Она рассказывает мне о том, как пару дней назад они поссорились. Мэтт смотрел телевизор, а Джулия хотела поговорить. Мэтт угукал, делая вид, что слушает, и Джулия расстроилась. «Посмотри, что я нашла в интернете, может быть, мы спросим врачей…» – начала она, и Мэтт сказал: «Не сегодня, я посмотрю завтра». Джулия заметила, что это важно, поскольку у них не так много времени, а Мэтт посмотрел на нее с яростью, чего никогда раньше не делал.
«Мы можем хоть один вечер побыть без рака!» – закричал Мэтт. В первый раз за все это время Джулия услышала от него не что-то доброе и ободряющее и, застигнутая врасплох, огрызнулась. «У меня нет возможности получить вечер без рака! – сказала она. – Знаешь, что бы я отдала за такой вечер?»
Она ушла в спальню и закрыла дверь, а через минуту Мэтт пришел извиняться. «Я очень переживаю, – сказал он. – Все это очень тяжело для меня. Но это не то же самое, через что тебе приходится пройти, так что прости меня. Я был бесчувственным. Покажи, что ты там нашла». Но его слова потрясли ее. Она знала, что не только лишь ее жизнь изменилась. Жизнь Мэтта тоже – а она не обращала внимания.
– Я не стала ему ничего показывать, – говорит Джулия. – Я была такой эгоисткой. Он должен получать вечер без рака. Он не подписывался на такое, когда женился на мне.
Я пристально смотрю на нее.
– Ну конечно, «в болезни и здравии», «в горе и в радости» и все такое. Но это как отметить галочкой «ОК» в лицензионном соглашении, когда ты загружаешь приложение или расписываешься за кредитную карту. Ты не думаешь, что все это применимо к тебе. А даже если и думаешь, то не ожидаешь, что это случится сразу после медового месяца, до того как вы вообще поймете, что женаты.
Я рада, что Джулия думает о том, как ее рак влияет на Мэтта. Она не любила говорить об этом, меняя тему всякий раз, когда я упоминала, что и для него все это трудно. Джулия качала головой. «Да, он замечательный, – говорила она. – Он такой надежный, так поддерживает меня. В любом случае…»
Если Джулия и представляла, как больно Мэтту, она не была готова столкнуться с этим лицом к лицу. Но что-то изменилось после этого взрыва, заставив ее осознать напряжение: они вместе в этом несчастливом путешествии, но при этом и сами по себе.
Сейчас Джулия плачет.
– Он по-прежнему хочет забрать свои слова назад, но они уже сказаны, висят между нами. Я понимаю, почему он хочет вечер без рака. – Она делает паузу. – Готова поспорить, он хочет, чтобы я уже просто умерла.
Готова поспорить, иногда это правда так, думаю я на секунду. В браке и без того достаточно сложно постоянно идти на компромисс, сочетать свои потребности и желания с потребностями и желаниями другого. Но здесь весы накренились, дисбаланс наблюдается постоянно. Но я знаю и то, что в реальности все куда сложнее. Я думаю, что Мэтт чувствует себя так, словно время поймало его в ловушку. Он едва женатый, молодой, желающий жить нормальной жизнью и завести ребенка, но он знает: все, что есть у них с Джулией, лишь временно. Его будущее – быть вдовцом; отцом он станет лишь после сорока, а не в тридцать. Он наверняка надеется, что вся эта ситуация не будет тянуться еще лет пять, когда большую часть своей жизни он, будучи в расцвете сил, проведет в больнице, заботясь о своей молодой жене, чье тело постоянно режут на куски. В то же время, мне кажется, его до глубины души пронзает этот опыт, который в какой-то степени заставляет его ощущать себя «навсегда изменившимся и парадоксально живым», как назвал это один мой пациент через несколько месяцев после смерти своей тридцатилетней жены. Готова поспорить, что Мэтт – как и тот человек – не захочет вернуться в прошлое и жениться на другой женщине. Но Мэтт находится на том этапе жизни, когда все движутся вперед: тридцать лет – это тот возраст, в котором выстраивается основа будущего. Он не синхронизирован со своими сверстниками, и по-своему, в своем собственном горе, он, вероятно, чувствует себя совершенно одиноким.
Я не думаю, что Джулии стоит узнавать все эти детали, но я уверена, что их совместное времяпрепровождение будет полнее и душевнее, если Мэтт получит возможность проявлять свою человеческую сущность. И если они смогут глубже познать друг друга за то время, что у них осталось, Джулия будет всецело жить в сердце Мэтта после своей смерти.
– Как вы думаете, что Мэтт имел в виду, говоря, что хочет вечер без рака? – спрашиваю я.
Джулия вздыхает.
– Все эти визиты к врачам, выкидыши… все, без чего я бы тоже хотела провести хоть один вечер. Он хочет поговорить о своей работе, и о новом ресторанчике с тако, и… Знаете, обо всех нормальных вещах, о которых говорят люди. Все это время единственное, о чем мы думали, – это как найти для меня очередной способ выжить. Но сейчас он не может ничего планировать даже на год вперед и не может встретить кого-то еще. Для него единственный способ жить дальше – моя смерть.
Я понимаю, к чему она клонит. За их суровым испытанием кроется фундаментальная истина: как бы ни изменилась жизнь Мэтта, она в конечном итоге вернется к подобию нормальной. И это, подозреваю я, выводит Джулию из себя. Я спрашиваю, злится ли она на Мэтта, завидует ли ему.
– Да, – шепчет она, как будто делясь постыдным секретом.
Я говорю ей, что это нормально. Как можно не завидовать тому, что он будет жить?
Джулия кивает.
– Я чувствую себя виноватой за то, что заставляю его пройти через все это, и завидую тому, что у него есть будущее, – говорит она, пристраивая подушку за спиной. – А потом я чувствую себя виноватой за то, что завидую.
Я обдумываю, насколько нормально – даже в повседневных ситуациях – завидовать супругу и насколько табуированы разговоры об этом. Разве мы не должны радоваться удаче и счастью другого? Разве не это и есть любовь?
В одной паре, с которой я работала, жена получила должность своей мечты в тот же день, когда мужу пришлось лишиться своей, что каждый вечер создавало крайне неловкие ситуации за ужином. Сколько она могла рассказывать о том, как прошел ее день, чтобы непреднамеренно не испортить настроение мужу? Как ему нужно было справляться с завистью, не омрачая ее радость? Сколько благородства должно быть в людях, когда их партнеры получают что-то, чего они так же отчаянно хотят, но не могут получить?
– Мэтт пришел вчера из спортзала, – говорит Джулия, – и сказал, что отлично потренировался. А я сказала: «Круто» – но мне было безумно грустно, потому что раньше мы занимались вместе. Он всегда говорил людям, что я сильнее, у меня тело марафонской бегуньи. «Она суперзвезда, а я слабак», – говорил он, и люди, с которыми мы сдружились в спортзале, так нас и называли. И раньше после спортзала мы часто занимались сексом. И вчера, вернувшись, он подошел и поцеловал меня, а я целовала его в ответ. И у нас был секс, но я запыхалась, как никогда раньше. Но не подала виду. Мэтт пошел в душ, и когда он шел в ванную, я смотрела на его мышцы и думала: мое тело было сильнее. А потом я поняла, что не только Мэтт смотрит, как я умираю. Я тоже. Я смотрю, как сама умираю. И я так злюсь на каждого, кто будет жить. Мои родители меня переживут! Мои бабушка с дедушкой, наверное, тоже! У моей сестры будет второй ребенок. А как же я?
Она тянется к бутылке с водой. Когда Джулия восстанавливалась после первого курса лечения, врачи сказали ей, что вода помогает вымывать токсины, поэтому Джулия везде носила с собой двухлитровую бутылку. От воды уже никакой пользы, но это стало привычкой. Или молитвой.
– Трудно смотреть на тех, кто останется, – говорю я. – И понимать все это, когда ты оплакиваешь собственную жизнь.
Мы молчим какое-то время.
Наконец, она вытирает глаза, и на ее губах появляется тень улыбки.
– У меня есть идея.
Я смотрю на нее выжидающе.
– Вы скажете мне, если это окажется чем-то слишком безумным?
– Я просто думала… – начинает она. – Вместо того чтобы терять время, завидуя всем остальным, можно поставить другую цель на то время, что мне осталось. Помочь людям, которых я люблю, идти вперед.
Она ерзает на диване, взволнованная.
– Взять даже меня и Мэтта. Мы не состаримся вместе. Мы даже до средних лет вместе не доживем. И я задумываюсь: что, если моя смерть для Мэтта будет скорее как расставание, а не как конец брака? Большинству женщин в моей раковой группе, которые говорят о том, что их мужья останутся одни, шестьдесят и семьдесят лет. Та, которой сорок, уже пятнадцать лет замужем, у них с мужем двое детей. Я хочу, чтобы меня помнили как жену, а не как бывшую девушку. Я хочу вести себя как жена, а не как бывшая девушка. Так что я обдумываю: что бы сделала жена? Знаете, что все эти жены говорят об оставлении своих мужей?
Я отрицательно качаю головой.
– Они обсуждают, как сделать так, чтобы убедиться, что с их мужьями все будет хорошо, – говорит она. – Даже если я завидую его будущему, я хочу, чтобы у Мэтта все было хорошо.
Джулия смотрит на меня так, будто только что сказала что-то, что я должна понять. Но я не понимаю.
– Что сделает вас уверенной в том, что у него все будет хорошо? – спрашиваю я.
Она одаривает меня улыбкой.
– Как бы меня ни тошнило от этого, я хочу помочь ему найти новую жену.
– Вы хотите дать ему понять, что снова полюбить кого-то – это нормально, – говорю я. – Это вовсе не безумно.
Часто умирающие супруги хотят оставить своему партнеру подобное благословение – сказать, что нормально хранить одного человека в сердце и любить другого, что наша способность любить достаточно велика для двоих.
– Нет, – говорит Джулия, качая головой. – Я не хочу просто оставить ему благословение. Я хочу на самом деле найти ему жену. Я хочу, чтобы этот подарок стал частью моего наследия.
Так же, как когда Джулия впервые заговорила о Trader Joe’s, я мысленно отшатываюсь. Это кажется мазохизмом, разновидностью пытки в и без того невыносимой ситуации. Я думаю о том, как Джулия не захочет это видеть, не сможет этого вынести. Будущая жена Мэтта родит ему детей. Она будет ходить с ним в походы и лазить по горам. Она будет обниматься с ним, смеяться и заниматься страстным сексом – как когда-то Джулия. В любви есть альтруизм, но Джулия все же человек. Так же, как и Мэтт.
– Почему вы думаете, что ему захочется получить такой подарок? – спрашиваю я.
– Это безумие, я знаю, – говорит Джулия. – Но в моей раковой группе есть женщина, чья подруга сделала так. Она умирала, и муж ее лучшей подруги умирал, а она не хотела, чтобы они оставались одни, и знала, как хорошо они уживутся – они были хорошими друзьями на протяжении десятилетий. Знаете, каким было ее последнее желание? Чтобы они сходили на свидание после похорон. Одно свидание. Они так и сделали. И теперь они помолвлены.
Джулия снова плачет и просит прощения. Почти каждая женщина, с которой я работаю, извиняется за свои чувства, особенно за свои слезы. Я помню, что тоже извинялась в кабинете Уэнделла. Возможно, мужчины извиняются превентивно, сдерживая слезы.
– Так что, знаете, никаких сожалений, только грусть, – говорит Джулия, повторяя фразу, которой я поделилась с ней раньше.
– Вы будете очень скучать по Мэтту, – говорю я.
– Я скучаю, – вскрикивает она. – По всему, что с ним связано. Как он радуется мелочам, вроде латте или строчки в книге. Как он целует меня, как десять минут пытается продрать глаза, если просыпается слишком рано. Как он греет мои ноги в кровати. И как он смотрит на меня, когда мы разговариваем, как его глаза вбирают все, что я говорю, наравне с ушами. – Джулия останавливается, чтобы перевести дыхание. – И знаете, по чему я буду скучать больше всего? По его лицу. Мне будет очень не хватать его красивого лица. Это мое самое любимое лицо во всем мире.
Джулия плачет так горько, что не может произнести ни звука. Я бы хотела, чтобы Мэтт был здесь и слышал это.
– Вы говорили ему об этом? – спрашиваю я.
– Все время, – говорит Джулия. – Каждый раз, когда он берет меня за руку, я говорю: «Я буду скучать по твоим рукам». Когда он ходит по дому и свистит – он потрясающе свистит, – я говорю ему, как мне будет не хватать этого звука. И он всегда говорил: «Джулс, ты все еще здесь. Ты можешь видеть мои руки и слышать мой свист». Но сейчас… – Ее голос срывается. – Сейчас он говорит: «Я буду также сильно по тебе скучать». Я думаю, он начинает примиряться с тем фактом, что на этот раз я действительно умираю.
Джулия вытирает верхнюю губу.
– И знаете, что еще? – продолжает она. – Еще мне будет не хватать самой себя. Все те недостатки, которые я пыталась исправить? Все это просто путь к тому моменту, когда я действительно себя полюбила. Я себе нравлюсь. Я буду скучать по Мэтту, и семье, и друзьям, но еще я буду скучать по себе.
Она начинает называть все то, что хотела бы больше ценить в себе до болезни. Грудь, которую она считала недостаточно упругой, пока не пришлось с ней расстаться. Сильные ноги, которые она называла «слишком тощими», хотя они верно служили ей во время марафонов. Ее скромная манера слушать, которая, по ее собственным опасениям, могла показаться кому-то скучной. Она будет скучать по своему характерному смеху, который один мальчик в пятом классе назвал «кудахтаньем» – комментарий, который занозой застрял в ней на долгие годы, пока именно этот смех не заставил Мэтта взглянуть на нее в переполненной комнате, а затем подойти к ней и представиться.
– Я буду скучать по своей чертовой толстой кишке! – говорит она, уже смеясь. – Я недостаточно ценила ее. Мне будет не хватать возможности сесть в туалете и посрать. Кто бы мог подумать, что я буду скучать по этому?
И снова подступают слезы – уже злые.
Каждый день – очередная потеря чего-то, что она считала само собой разумеющимся, пока оно не исчезло. То же самое происходит с парами, которые принимают друг друга как данность, а затем скучают друг по другу, когда брак начинает умирать. Многие женщины говорили мне, как ненавидят менструацию, но оплакивали ее конец, достигнув менопаузы. Им не хватало ежемесячных кровотечений, как и Джулии будет не хватать возможности просто посидеть в туалете.
Потом Джулия почти шепотом добавляет:
– Мне будет не хватать жизни. Блядь, блядь, блядь, блядь, блядь! – начинает она еле слышно, но повторяя все громче, удивляя саму себя силой голоса. И смущенно смотрит на меня. – Прошу прощения, я не хотела…
– Все в порядке, – говорю я. – Согласна. Это какой-то блядский цирк.
Джулия улыбается.
– Вот я и услышала, как мой психотерапевт говорит «блядский». Я раньше никогда так не ругалась. Я не хочу, чтобы в моем некрологе было написано: «Она ругалась как сапожник».
Мне интересно, что бы она хотела видеть в своем некрологе, но наше время почти истекло, и я мысленно делаю пометку – вернуться к этому в следующий раз.
– Но кому какое дело, если это помогает. Давайте еще раз, – говорит Джулия. – Давайте вместе? У нас еще минута, верно?
Сначала я не понимаю, о чем она говорит: сделать вместе что? Но ее лицо приобретает тот же озорной вид, и у меня в голове словно раздается щелчок.
– Вы хотите, чтобы мы вместе…
Джулия кивает. Пай-девочка просит меня выкрикивать матерные слова вместе с ней, хором. Недавно Андреа из моей консультационной группы сказала, что пока нам нужно поддерживать надежду в своих пациентах, мы должны надеяться на правильные вещи. Если я больше не могу поддерживать в Джулии надежду на долгую жизнь, сказала Андреа, я должна поддерживать в ней надежду на что-то еще. «Я не могу помочь ей так, как она хочет», – сказала я. Но, сидя здесь сейчас, я думаю, что, может быть, могу – хотя бы сегодня.
– Хорошо, – говорю я. – Вы готовы?
И мы хором кричим: «БЛЯДЬ, БЛЯДЬ, БЛЯДЬ, БЛЯДЬ, БЛЯДЬ, БЛЯДЬ, БЛЯДЬ!» А когда заканчиваем, то пытаемся отдышаться, развеселившись.
Потом я провожаю ее до двери, где она, как обычно, обнимает меня на прощание.
В холле другие пациенты уходят со своих сессий: двери открываются без десяти час, как по будильнику. Мои коллеги вопросительно смотрят на меня, когда Джулия уходит. Наши голоса, должно быть, достигли коридора. Я пожимаю плечами, закрываю дверь и начинаю смеяться. В первый раз, думаю я.
Потом я чувствую, как накатывают слезы. От смеха к слезам – горе. Я буду скучать по Джулии, и мне самой трудно с этим справиться.
Иногда единственное, что остается сделать – это закричать: «Блядь!»
36 Скорость желания
Закончив практику, я начала стажироваться в некоммерческой клинике, расположенной в подвале элегантного офисного здания. Окна залитых светом кабинетов на верхних этажах выходили на горы Лос-Анджелеса с одной стороны и пляжи с другой, но внизу все было совершенно иначе. В тесных, не имеющих окон, похожих на пещеры кабинетах, обставленными древними стульями, сломанными лампами и протертыми диванами, мы, интерны, выживали за счет количества пациентов. Когда появлялся новый случай, мы все пытались взяться за него, потому что чем больше людей мы видели, тем большему учились, тем скорее завершалась наша стажировка. Между сессиями, клиническим наблюдением и курганами документов мы не обращали особого внимания на то, что живем под землей.
Сидя в комнате отдыха (представьте запах: попкорн из микроволновки и спрей от муравьев), мы могли перехватить немного еды (обед всегда съедался за рабочим столом) и пожаловаться на нехватку времени. Но, несмотря на все жалобы, наша инициация в качестве психотерапевтов будоражила – отчасти из-за того крутого поворота, который приняло наше обучение, и мудрых кураторов (которые давали советы вроде: «Если вы так много говорите, вы не можете слушать» и его другой разновидности: «У вас два уха и один рот, есть причина для такого соотношения»), отчасти потому, что эта фаза была благословенно временной.
Светом в конце растянувшегося на долгие годы тоннеля было получение лицензии, после чего, как нам казалось, мы могли качественно улучшить жизни людей, занимаясь любимой работой в более разумном объеме и с менее лихорадочным темпом. Сидя в этом подвале, заполняя карты от руки и выискивая места, где телефон хоть немного ловит сигнал, мы не понимали, что наверху шла революция – революция скорости, легкости и немедленного удовлетворения. И все, что нас учили предлагать – постепенные, но долговременные результаты, требующие тяжелой работы, – становится все более устаревшим.
Я видела намеки на эти изменения по своим пациентам в клинике, но, сосредоточенная на собственном измученном существовании, я не видела целой картины. Конечно, у этих людей есть проблемы с замедлением ритма, или с концентрацией, или с жизнью в моменте. Потому они и на психотерапии, рассуждала я.
Конечно, моя жизнь не сильно отличалась – по крайней мере, в то время. Чем раньше я заканчивала рабочие дела, тем скорее могла уделить внимание сыну; потом – чем быстрее я укладывала его спать, тем быстрее засыпала сама, чтобы утром проснуться и снова торопиться сделать все по кругу. И чем быстрее я двигалась, тем меньше замечала, потому что все становилось размытым.
Но это скоро закончится, напоминала я себе. Когда я закончу стажировку, начнется моя настоящая жизнь.
Однажды мы с другими интернами сидели в комнате отдыха и в очередной раз подсчитывали необходимое для лицензии количество отработанных часов, чтобы вычислить, сколько нам будет, когда мы ее получим. Чем больше были числа, тем хуже нам становилось. Куратор, которой было за шестьдесят, вошла и прервала нашу беседу:
– Вам будет тридцать, или сорок, или даже пятьдесят, успеете вы отработать норму или нет, – сказала она. – Какая разница, сколько лет вам будет, когда это случится? В любом случае, сегодня вам не вернуть.
Мы все замолчали. Сегодня вам не вернуть.
Какая отрезвляющая мысль. Мы знали, что куратор пытается сказать нам нечто важное. Но у нас не было времени об этом подумать.
Скорость – это про время, но, кроме этого, она также связана с выносливостью и вложенным трудом. Ход мышления такой: чем быстрее скорость, тем меньше требуется выносливости или усилий. Терпение же, с другой стороны, требует выносливости и усилий. Его определяют как «способность переносить провокации, раздражение, неудачи или боль без жалоб, потери самообладания, раздражения или тому подобного». Конечно, многое в жизни создает провокации, раздражение, неудачи и боль; в психологии терпение можно определить как способность переносить трудности достаточно долго, чтобы выбраться из них. Чувство грусти или тревоги также позволяет получать жизненно необходимую информацию о себе и своем мире.
Но когда я была в этом подвале, торопливо продираясь к получению лицензии, Американская психологическая ассоциация опубликовала статью под названием «Куда делась вся психотерапия?». В ней отмечалось, что в 2008 году психологическую помощь получило на 30 % меньше пациентов, чем за десять лет до этого, и что с 90-х годов принцип «регулируемой медицинской помощи» – та же система, о которой нас предупреждали профессора в моем медицинском институте – заметно ограничил визиты и компенсации за терапевтические беседы, но не за назначение лекарств. Далее говорилось, что только в 2005 году фармацевтические компании потратили 4,2 млрд долларов на прямую рекламу для потребителя и 7,2 млрд долларов на продвижение среди врачей – почти в два раза больше, чем на исследования и разработку.
Конечно, намного легче – и быстрее – проглотить таблетку, чем заниматься тяжелой работой, заглядывая вглубь себя. И я ничего не имею против пациентов, которые используют лекарства, чтобы чувствовать себя лучше. Как раз наоборот: я была твердо убеждена, что в определенных ситуациях медикаменты идут на благо. Но правда ли 26 % всего населения страны нуждается в них? В конце концов, проблема не в том, что психотерапия не работает. А в том, что она работает недостаточно быстро для современных пациентов, ее «потребителей».
Во всем этом есть некая ирония. Люди хотят быстрого решения своих проблем, но что, если их настроение стремительно ухудшается в первую очередь из-за торопливого ритма жизни? Они думают, что торопятся сейчас для того, чтобы наслаждаться жизнью после, но часто «после» никогда не наступает. Психоаналитик Эрих Фромм отметил это более пятидесяти лет назад: «Современный человек думает, что он теряет время, когда не действует быстро, однако он не знает, что делать с выигранным временем, кроме как убить его». Фромм был прав: люди используют выигранное время не для того, чтобы расслабиться или пообщаться с близкими и родными. Они пытаются втиснуть в него еще больше дел.
Однажды, когда мы, интерны, просили дать нам еще больше пациентов, несмотря на полную нагрузку, наш куратор покачала головой.
– Скорость света осталась в прошлом, – сказала она сухо. – Сейчас все движутся со скоростью желания.
Я и в самом деле проскочила на скорости. Не успев опомниться, я закончила стажировку, сдала экзамены и поднялась наверх – в просторный кабинет с видом на мир вокруг. После двух фальстартов (Голливуд и медицинский институт) я была готова начать карьеру, о которой так страстно мечтала, и мое старение также порождало ощущение срочности. Я выбрала окольный путь, опоздала к игре. И, хотя сейчас я могла наконец замедлиться и пожинать заслуженные плоды своего труда, я все еще торопилась – на этот раз наслаждаться работой. Я сделала рассылку писем о себе и своей практике, завела некоторые знакомства. Через полгода у меня было некоторое количество пациентов, но потом их число, кажется, стабилизировалось. Все, с кем я разговаривала, отмечали то же самое.
Я присоединилась к консультационной группе как психотерапевт-новичок. Однажды вечером, обсудив все текущие случаи, мы перешли к более общей теме разговора: это преувеличение, или же наше поколение психотерапевтов обречено? Кто-то сказал, что слышал о специалистах по развитию личного бренда специально для психотерапевтов – профессионалах, которые помогают наладить связь между культурой, нуждающейся в скорости и легкости, и тем, чему нас учили.
Мы все рассмеялись – консультанты по развитию бренда для психотерапевтов? Как нелепо. Известные психотерапевты прошлого, которыми мы восхищались, перевернулись бы в гробах! Но втайне я заинтересовалась.
Неделей позже я очнулась во время звонка одному из таких консультантов.
– Никто больше не хочет покупать психотерапию, – буднично сказала она. – Все хотят купить решение проблем.
Она предложила несколько идей, которые помогли бы мне позиционировать себя на новом рынке – даже предположила, что я могу заниматься «текстовой психотерапией», – но все это заставило меня чувствовать себя неловко.
Тем не менее она была права. За неделю до Рождества мне позвонил мужчина лет тридцати и объяснил, почему хочет записаться на сессию. Ему нужно было понять, жениться ли на своей девушке, и он надеялся, что мы можем «решить это» быстро: приближался День святого Валентина, и он знал, что должен подарить кольцо – или она уйдет. Я объяснила, что могу помочь ему разобраться, но не гарантирую сроки. Это серьезный вопрос, а я ничего не знала об этом человеке.
Мы назначили встречу, но за день до нее он позвонил и сказал, что нашел другого специалиста. Она гарантировала, что они разберутся с этим вопросом за четыре сессии, что вполне вписывалось в его дедлайн.
Другая пациентка, которая искренне хотела найти себе спутника жизни, сказала мне, что она так быстро листает профили в приложениях для знакомств, что несколько раз писала мужчинам – а они отвечали, что уже виделись с ней. Оказывалось, что они и правда встречались с этим человеком за кофе, но так быстро перебирала возможные варианты, что не успевала отслеживать их.
Оба этих пациента олицетворяли то, что мой куратор назвала «скоростью желания» – где «желание» означало «потребность». Но я также начала думать об этом несколько иначе, как если бы желание символизировало недостаток или дефицит.
Если бы в момент, когда я только начинала свою практику, меня спросили, для чего приходит большинство людей, я бы ответила, что они надеются стать менее тревожными или подавленными, хотят вступать в менее проблемные отношения. Но какими бы ни были обстоятельства, здесь, казалось, присутствовал общий элемент одиночества, страстное желание, но отсутствие сильного ощущения человеческой связи. Желание. Они редко так это выражали, но чем больше я узнавала об их жизни, тем сильнее чувствовала это – и во многом ощущала сама.
Однажды, во время долгого перерыва между пациентами, я нашла видео исследовательницы Массачусетского технологического института Шерри Теркл о таком одиночестве. В конце девяностых, сказала она, она была в доме престарелых и наблюдала, как робот утешал пожилую женщину, которая потеряла ребенка. Робот выглядел как нерпенок, покрытый мехом и с длинными ресницами, и он достаточно хорошо воспринимал речь, чтобы корректно отвечать. Женщина изливала сердце этому роботу, и казалось, что он следил за ней взглядом и слушал ее.
Теркл рассказывала: ее коллеги сочли, что этот робот-нерпенок стал огромным шагом вперед, способом облегчить жизнь людей, однако она сама чувствовала себя глубоко подавленной.
Я вздохнула, понимая ее. Всего за день до этого я в шутку сказала коллеге: «Почему бы не завести психотерапевта в iPhone?» Тогда я еще не знала, что скоро психотерапевты появятся и в смартфонах – в виде приложения, через которое можно связаться со специалистом «в любое время, в любом месте… за долю секунды, чтобы сразу почувствовать себя лучше». Я думала о таких инновациях в том же ключе, что и Теркл, рассуждающая о женщине с роботом-нерпенком.
«Почему мы перепоручаем другим те вещи, которые определяют нас, как людей?» – спрашивала Теркл в видео. Ее вопрос заставил меня задуматься: потому, что люди не выносят одиночества, или потому, что они не выносят других людей? По всей стране – в кафе с друзьями, на рабочих встречах, во время обеда в школе, в очереди супермаркета и за семейным столом – люди пишут сообщения и твиты и совершают покупки, иногда имитируя зрительный контакт, а иногда не делая и этого.
Даже в моем кабинете люди, которые заплатили за возможность прийти, заглядывают в свои вибрирующие телефоны, чтобы посмотреть, кто им пишет. (Часто это те же люди, которые потом признаются, что отвлекаются на телефон и во время секса, и сидя в туалете. Узнав об этом, я поставила бутылку антисептика для рук в своем кабинете.) Чтобы нас не отвлекали, я установила правило «никаких сотовых телефонов на время сессии», но заметила, что, уходя, пациенты хватаются за смартфоны и просматривают сообщения еще на подходе к двери. Не лучше ли было бы провести время, позволив себе на лишнюю минутку задуматься о том, что мы только что обсудили, или мысленно перестроиться, возвращаясь к внешнему миру?
Другие люди чувствовали себя одиноко, как я заметила, обычно в промежутках между чем-то: покидая психотерапевтическую сессию, ожидая зеленого сигнала светофора, стоя в очереди на кассу или поднимаясь в лифте, они доставали гаджеты и избавлялись от этого чувства. Будучи в состоянии постоянного отвлечения они, кажется, теряли способность быть с другими и быть наедине с собой.
Кабинет психотерапевта, по всей видимости, оставался единственным местом, где два человека пятьдесят минут сидят в комнате вместе, не отвлекаясь. Несмотря на завесу профессионализма, этот еженедельный ритуал «я – ты» зачастую оказывается одним из самых человечных контактов, пережитых людьми. Я была полна решимости развивать свою практику, но не была готова идти на компромисс с этим ритуалом ради того, чтобы это произошло. Может прозвучать странно, если не откровенно неудобно, но для уже посещавших меня пациентов это было огромным вознаграждением. Если мы создаем пространство и добавляем время, то узнаем те истории, которые стоят того, чтобы их ждали; те, что определяют наши жизни.
А моя история? На самом деле я не выделяла времени и пространства для нее – постепенно я была все больше занята выслушиванием чужих историй. Но под гнетом суматошной суеты психотерапевтических сессий, сборов сына в школу, приемов у врача и романтических отношений давно подавленная правда просачивалась на поверхность и давала знать о себе только тогда, когда я прибывала в офис Уэнделла. «Половина моей жизни закончена», – сказала я вдруг на нашей первой сессии, и Уэнделл вцепился именно в это. Он заметил то, что мой куратор обронила годы назад.
Сегодня вам не вернуть.
А дни летели.
37 Предельные заботы
Я захожу в офис Уэнделла, мокрая насквозь. Мне надо было лишь перебежать дорогу от парковки до здания, но внезапно начался первый зимний ливень. У меня не было ни зонтика, ни пальто, так что я натянула хлопковый блейзер на голову и побежала.
Теперь с блейзера капает, волосы начали кудрявиться, макияж потек, а мокрая одежда пиявкой липнет к телу в самых неудачных местах. Я слишком промокла, чтобы сесть, так что просто стою около кресел в приемной и думаю, как привести себя в порядок, когда дверь в кабинет Уэнделла открывается, и оттуда выходит красивая женщина, которую я уже видела раньше. Она снова вытирает слезы. Опустив голову, она проходит за бумажной ширмой, и я слышу цоканье ее каблуков, эхом отдающееся в коридоре здания.
Нет; достаточно того совпадения, что она видится с Уэнделлом, но чтобы наши еженедельные сессии следовали одна за другой? Я становлюсь параноиком. С другой стороны, как выразился писатель Филип Дик: «Удивительно, как паранойя может порой переплетаться с реальностью».
Я стою, дрожа, словно мокрый щенок, пока дверь Уэнделла не открывается снова. На этот раз – чтобы впустить меня.
Я плетусь к кушетке и сажусь на место В, пристраивая знакомые разномастные подушки за спиной, в привычной мне манере. Уэнделл тихо закрывает дверь кабинета, проходит через комнату, опускает длинное тело на привычное место и скрещивает ноги, приземлившись. Мы начинаем наш первый ритуал: бессловесное приветствие.
Но сегодня я оставляю мокрые пятна на его кушетке.
– Дать вам полотенце? – спрашивает Уэнделл.
– У вас есть полотенца?
Он улыбается, проходит к большому шкафу и передает мне оттуда пару полотенец для рук. Одним я вытираю волосы, на другое сажусь.
– Спасибо, – говорю я.
– Пожалуйста, – говорит он.
– Зачем вы храните здесь полотенца?
– Люди иногда промокают, – отвечает Уэнделл, пожимая плечами, словно полотенца – все равно что офисный степлер. Это кажется мне странным – и в то же время я чувствую себя окруженной заботой, как когда он бросил мне салфетки. Я делаю мысленную заметку: принести полотенца себе в офис.
Мы снова смотрим друг на друга, молча здороваясь.
Я не знаю, с чего начать. В последнее время меня тревожит практически все. Даже мелочи, вроде принятия не слишком значительных решений, парализуют меня. Я стала осторожной, боюсь рисковать и ошибаться, потому что я уже наделала дел и боюсь, что у меня больше не будет времени, чтобы все исправить.
Накануне вечером, когда я пыталась расслабиться в кровати с книжкой в руках, я познакомилась с персонажем, который описывал свое постоянное беспокойство как «неумолимую потребность избежать момента, который никогда не заканчивается». Все так, подумала я. Несколько последних недель каждая секунда была связана со следующей именно беспокойством. Я знала, что тревога стала центром всего из-за слов Уэнделла в конце нашей последней сессии. Мне пришлось отменить следующую встречу, чтобы пойти на школьный праздник к сыну, потом сам Уэнделл отсутствовал неделю, так что мне пришлось провести наедине с его фразой три недели. «Какая битва? – Ваша битва со смертью».
Разверзнувшиеся сегодня над моей головой небеса как раз в тему. Я делаю глубокий вдох и рассказываю Уэнделлу о своей «блуждающей матке».
До сегодняшнего дня я никогда не рассказывала эту историю от начала до конца. Если раньше она смущала меня, то сейчас, когда я говорю о ней вслух, я понимаю, насколько сильно была напугана. Поверх горя, о котором Уэнделл упоминал раньше – что половина моей жизни закончена, – лежал страх, что я, как Джулия, возможно, умираю куда раньше, чем того ожидала. Нет ничего страшнее для матери-одиночки, чем думать о том, что ее маленький ребенок остается на земле без нее. Что, если врачи упускают что-то, что можно вылечить, своевременно обнаружив? Что, если они найдут причину, но болезнь окажется неизлечимой?
Или что, если все это и правда у меня в голове? Что, если человек, который может вылечить мои физические симптомы, – не кто иной, как Уэнделл, который сидит здесь прямо сейчас?
– Вот это история, – говорит Уэнделл, когда я заканчиваю, качая головой и делая громкий выдох.
– Думаете, это история?
И ты, Брут?
– Да, – говорит Уэнделл. – Это история о чем-то пугающем, происходящем с вами в последние два года. Но это также история о чем-то еще.
Я предвижу, что скажет Уэнделл: это история об избегании. Все, что я говорила ему с момента прихода на психотерапию, было об избегании, и мы оба знаем, что избегание – это почти всегда о страхе. Я избегала сигналов о том, что у нас с Бойфрендом есть непримиримые различия. Избегала работы над книгой о счастье. Избегала разговоров о работе над книгой о счастье. Избегала мыслей о том, что мои родители стареют. Избегала факта, что мой сын взрослеет. Избегала моей таинственной болезни. Я вспоминаю фразу, услышанную во время стажировки: «Избегание – это простой способ справляться, не справляясь».
– Это история об избегании, да? – говорю я.
– Ну… в некотором роде, – отвечает Уэнделл. – Хотя я собирался сказать «неопределенность». Это еще и о неопределенности.
Конечно, думаю я. Неопределенность.
Я всегда думала о неопределенности в контексте своих пациентов. Останутся ли Джон и Марго парой? Бросит ли Шарлотта пить? Но сейчас в моей собственной жизни слишком много неопределенности. Буду ли я снова здоровой? Найду ли я подходящего партнера? Сгорит ли моя писательская карьера синим пламенем? Какой будет вторая половина моей жизни – если будет? Однажды я сказала Уэнделлу, что трудно обойти тюремную решетку, если не знаешь, куда идти. Я могу стать свободной, но каким путем?
Я вспоминаю пациентку, которая однажды заехала в свой гараж, вернувшись с работы, и наткнулась на грабителя с пистолетом. Сообщник злоумышленника, как вскоре выяснилось, находился в доме с ее детьми и няней. От ужасного исхода их спас сосед, вызвавший полицию. Пациентка сказала мне, что худшим в этом инциденте было то, что он разрушил ее напыщенное чувство безопасности, каким бы иллюзорным оно ни было.
И все же, осознавала она это или нет, она все еще держалась за ту же иллюзию.
«Вы волнуетесь, заезжая в новый гараж?» – спросила я, когда семья, слишком травмированная, чтобы жить на месте преступления, переехала в другой дом. «Конечно, нет, – сказала она, словно это был абсолютно абсурдный вопрос. – Как будто это может случиться дважды. Каковы шансы на это?»
Я рассказываю Уэнделлу эту историю, и он улыбается.
– Как вы понимаете ее ответ? – спрашивает он.
Мы с Уэнделлом редко обсуждаем мою работу, и теперь я чувствую себя неловко. Иногда мне интересно, как бы он работал с моими пациентами, что бы он сказал Рите или Джону. Психотерапия – это совершенно разный опыт с разными специалистами: двух абсолютно одинаковых просто не существует. И поскольку Уэнделл занимается этим намного дольше меня, я чувствую себя как студент перед учителем, как Люк Скайуокер перед Йодой.
– Я думаю, мы хотим, чтобы мир был рациональным, и это ее способ обрести контроль над непредсказуемостью жизни, – говорю я. – Один раз узнав правду, вы не можете перестать ее знать, но в то же время, чтобы защититься, она убедила себя, что на нее больше никогда не нападут. – Я делаю паузу. – Я прошла тест?
Уэнделл начинает открывать рот, но я знаю, что он собирается сказать: «Это не тест».
– Ну, вы об этом думали? – говорю я. – Как бы вы истолковали ее уверенность перед лицом неопределенности?
– Так же, как и вы, – говорит он. – Так же, как я понял ваши ответы.
Уэнделл перечисляет все проблемы, с которыми я к нему приходила: мое расставание, моя книга, мое здоровье, здоровье моего отца, быстрое взросление сына. На первый взгляд сторонние наблюдения, которыми я приправляла наши беседы, например: «Я слышала по радио, что примерно половины современных американцев еще не существовало в семидесятых!» Все, о чем я говорила, было омрачено неопределенностью. Сколько я проживу, что случится за это время? Насколько я могу контролировать что-то из этого? Но, говорит Уэнделл, подобно моей пациентке, я нашла собственный способ справиться. Если я угроблю свою жизнь, то смогу сконструировать собственную смерть, а не позволю ей случиться со мной. Она может быть не такой, как мне хочется, но, по крайней мере, я ее выберу. Это как отморозить уши назло бабушке, способ сказать: «Выкуси, неопределенность».
Я пытаюсь уложить в голове этот парадокс: самосаботаж как форма контроля. Если я угроблю свою жизнь, то смогу сконструировать собственную смерть, а не позволю ей случиться со мной. Если я останусь в обреченных на провал отношениях, если я загублю карьеру, если я в страхе спрячусь вместо того, чтобы разобраться, что не так с моим телом, я могу создать живую смерть – но такую, которой я буду командовать.
Ирвин Ялом, ученый и психиатр, часто говорил о психотерапии как об экзистенциальном опыте самопознания. Именно по этой причине психотерапевты адаптируют лечение к человеку, а не к проблеме. У двух моих пациентов может быть она и та же проблема – скажем, они чувствуют себя уязвимыми в отношениях, – но используемые мной подходы будут разниться. Процесс во многом своеобразен, потому что нет универсального способа помочь людям справиться с тем, что находится на самом глубоком уровне экзистенциальных страхов – или тем, что Ялом называл «предельными заботами».
Четыре предельных заботы – смерть, свобода, изоляция и бессмысленность. Смерть, конечно, инстинктивный страх, который мы часто подавляем, но это приводит к тому, что он усиливается по мере того, как мы становимся старше. Мы боимся не буквально самого умирания, а постепенного затухания, потери своей идентичности, своей молодой и более энергичной самости. Как мы защищаемся от этого страха? Иногда мы отказываемся взрослеть. Иногда занимаемся самосаботажем. Иногда мы категорически отрицаем неминуемую смерть. Но, как Ялом написал в «Экзистенциальной психотерапии», наш страх смерти помогает нам жить более полно – и менее (а не более) тревожно.
Джулия со своими «сумасшедшими» рисками – отличный пример. Я никогда не думала о собственной смерти, пока не ввязалась в Загадочный Медицинский Квест, – и даже тогда Бойфренд дал мне возможность отвлечься от страхов исчезновения, как профессиональных, так и реальных. Он также предложил мне антидот против моего страха изоляции – еще одной предельной заботы. Есть причина, по которой одиночное заключение в буквальном смысле сводит узников с ума: у них появляются галлюцинации, панические атаки, навязчивое поведение, паранойя, трудности с концентрацией внимания и суицидальные мысли. После освобождения такие люди часто страдают от социальной атрофии, которая делает их неспособными взаимодействовать с другими. (Может быть, это просто более жесткая версия того, что случается с нашим растущим желанием, нашим одиночеством, которое создается нашим активным образом жизни.)
Затем идет третья предельная забота – свобода и экзистенциальные проблемы, которые свобода накладывает на нас. На первый взгляд, кажется почти смешным, как много у меня свободы – если, как указал Уэнделл, я хочу обойти тюремную решетку. Но есть еще и другая реальность: когда люди становятся старше, они сталкиваются со все большим количеством ограничений. Им труднее менять карьеру, или переезжать в другой город, или жениться на другом человеке. Их жизнь все сильнее определена, и иногда они жаждут юношеской свободы. Но дети, связанные родительскими правилами, свободны только в одном отношении – эмоциональном. По крайней мере, какое-то время они могут смеяться, или плакать, или закатывать бездумные истерики; у них могут быть большие мечты и неотредактированные желания. Как многие люди моих лет, я не чувствую себя свободной, потому что потеряла контакт с этой эмоциональной свободой. И этим я занимаюсь здесь, на психотерапии – пытаюсь снова освободить себя эмоционально.
В каком-то смысле кризис среднего возраста может быть скорее открытием, чем закрытием; расширением, а не сужением; возрождением, а не смертью. Я помню, как Уэнделл сказал, что я хочу быть спасенной. Но Уэнделл здесь не для того, чтобы меня спасать, или решать мои проблемы, или вести меня по моей жизни, какой бы она ни была, чтобы я могла справиться с уверенностью перед лицом неопределенности, не саботируя себя по пути.
Неопределенность, начинаю понимать я, не означает потерю надежды – она означает возможность. Я не знаю, что случится дальше, и это потенциально прекрасно! Я собираюсь выяснить, как прожить жизнь, которая у меня есть: с болезнью или без, с партнером или без, несмотря на ход времени.
То есть я собираюсь более внимательно взглянуть на четвертую предельную заботу: бессмысленность.
38 Леголенд
– Знаете, почему я опоздал? – говорит Джон, как только я открываю дверь в приемную. Прошло пятнадцать минут с начала часа, и я решила, что он уже не придет. Прошел месяц, прежде чем он ответил на мое сообщение – он внезапно объявился и попросил о встрече. Может быть, подумала я, пока не увидела его, он спасовал. Но по дороге к кабинету Джон рассказывает, что, заехав на парковку здания, он сидел в машине, размышляя, стоит ли подниматься наверх. Дежурный попросил у него ключи, но Джон сказал, что ему нужна еще минута, так что дежурный велел ему проезжать к выходу. А к тому моменту, как Джон решил остаться, стоянка заполнилась. Ему пришлось искать местечко на улице и потом бежать два квартала до моего офиса.
– Разве человек не может минутку посидеть в собственной машине и собраться с мыслями? – спрашивает Джон.
Когда мы входим в кабинет, я думаю, что он постоянно чувствует себя осажденным со всех сторон. Сегодня он выглядит взъерошенным, уставшим. Вот вам и снотворное.
Джон опускается на кушетку, скидывает кроссовки, вытягивается и ложится, устроившись головой на подушках. Обычно он сидит на диване, скрестив ноги, так что такое я вижу впервые. Еще я замечаю, что сегодня нет еды.
– Ладно, вы выиграли, – начинает он со вздохом.
– Выиграла что? – спрашиваю я.
– Удовольствие находиться в моей компании, – невозмутимо откликается он.
Я поднимаю брови.
– Объяснение тайны, – продолжает он. – Я собираюсь рассказать вам историю. Так что вам повезло, вы выиграли.
– Я не знала, что мы соревнуемся, – говорю я. – Но я рада, что вы здесь.
– Бога ради, – говорит он, – давайте не будем анализировать все подряд, ладно? Давайте просто начнем, потому что если мы не начнем сейчас, то я уйду через две секунды.
Он отворачивается к спинке дивана и очень тихо говорит ткани перед своим лицом:
– В общем… мы собирались всей семьей в Леголенд.
По словам Джона, они с Марго ехали на калифорнийское побережье, чтобы отвезти детей в Леголенд, тематический парк в Карлсбаде, когда поссорились. У них была договоренность никогда не ругаться при детях – и до этого момента оба придерживались обещания.
В то время Джон отвечал за свой первый телесериал, что означало необходимость быть на связи круглосуточно, чтобы контролировать выход каждого еженедельного эпизода. Марго тоже была перегружена, заботясь о двух маленьких детях и пытаясь контактировать с клиентами – она была графическим дизайнером. Но в то время как Джон весь день общался со взрослыми, Марго либо пребывала в «Мамаленде», как она это называла, либо работала дома за компьютером.
Марго очень ждала Джона к концу дня, но за ужином он отвечал на звонки, а она смотрела на него взглядом, который он называл «взглядом смерти». Когда дел стало так много, что Джон не успевал домой к ужину, Марго попросила его выключать телефон на ночь, чтобы они могли нагнать упущенное и отдохнуть без отвлекающих факторов. Но Джон настаивал на том, что он не может быть недоступен.
«Я не для того так усердно работал все эти годы, чтобы упустить эту возможность и увидеть, как мой сериал проваливается», – говорил он ей. И действительно, начало было трудным. Рейтинги разочаровывали, но оценки критиков были высоки, так что канал согласился дать еще немного времени, чтобы набрать аудиторию. Однако отсрочка была короткой: без улучшения рейтинга сериал ждало закрытие. Джон удвоил усилия, кое-что изменил (включая «увольнение нескольких идиотов»), и шоу взлетело.
Канал получил хит. А Джон – очень злую жену.
С прорывом сериала Джон стал занят еще сильнее. Марго начала спрашивать его, помнит ли он вообще, что у него есть жена. Что уж говорить о детях, которые, услышав крик Марго «Папа здесь!», бежали к компьютеру вместо двери, потому что привыкли разговаривать с ним через экран. Младшая даже начала называть компьютер «Папа». Да, признавала Марго, Джон проводил с ними выходные, часами играя с детьми в парке, выводя их на прогулки и катая на загривке дома. Но даже тогда звонящий телефон не оставлял его в покое.
Джон не понимал, почему Марго создает из этого такую проблему. Когда он стал отцом, он удивился, насколько сильным и непосредственным было это чувство. Его связь с детьми казалась просто неистовой. Она напоминала ему о любви, которую он испытывал по отношению к своей маме до ее гибели. Это был тот вид любви, которой он не чувствовал к Марго, хотя безумно любил ее, несмотря на все разногласия. Когда он впервые увидел ее на вечеринке, она стояла на другом конце комнаты, смеясь над чем-то, что сказал какой-то придурок. Даже издалека Джону было понятно, что это смех кого-то, кто весьма вежлив, но про себя думает: «Что за идиот».
Джон влюбился по уши. Он подошел к Марго, рассмешил ее по-настоящему и через год женился на ней.
Но его любовь к жене отличалась от любви к детям. Первая была романтичной и теплой, а вторая походила на вулкан. Когда он читал им книгу «Там, где живут чудовища», и они спрашивали, почему Чудовища хотели съесть ребенка, он точно знал ответ. «Потому что они очень сильно его любили!» – говорил он, притворяясь, что сейчас проглотит их, и дети хохотали так, что едва могли дышать. Он понимал эту всепоглощающую любовь.
Так что с того, что он ответит на звонок будучи с детьми? Он проводил с ними время, они радовались ему; в конце концов, его профессиональный успех обеспечил им ту финансовую стабильность, о которой он мечтал, подрастая в семье двух учителей. Да, Джону тяжело приходилось на работе, но он любил создавать персонажей и творить целые миры, как писатель – занимаясь тем самым ремеслом, к которому стремился его отец. Будь то удача, или талант, или и то и другое, Джон исполнил и свою мечту, и мечту отца. И он не мог быть в двух местах одновременно. Сотовый телефон, сказал он Марго, – это дар.
«Дар?» – переспросила Марго. И Джон кивнул головой. Дар. Он позволял ему одновременно быть и на работе, и дома.
Марго думала, что именно в этом заключается проблема. «Я не хочу, чтобы ты был и на работе, и дома в одно и то же время. Мы не твои коллеги. Мы твоя семья». Марго не хотела, чтобы на середине фразы, или поцелуя, или чего угодно еще ее прерывали Дейв, Джек или Томми из шоу. «Я не приглашала их в дом в девять вечера», – говорила она.
Вечером перед поездкой в Леголенд Марго попросила Джона, чтобы он выключил телефон на время отпуска. Это была семейная поездка, всего на три дня.
«Пока никто не умирает, – умоляла Марго, что Джон перевел как “Пока нет ничего срочного”, – пожалуйста, не бери трубку во время этой поездки».
Чтобы избежать еще одной ссоры, Джон согласился.
Детям не терпелось попасть в Леголенд – они говорили об этом неделями. По дороге они ерзали на сиденьях, каждые пять минут спрашивая: «Долго еще?», «Мы уже на месте?»
Семья решила проехать живописной дорогой вдоль побережья, а не по шоссе. Джон и Марго развлекали детей, заставляя их считать лодки в океане и играть в игру, в которой они вместе сочиняли глупые песни: каждый человек добавлял еще более смешную строчку, чем предыдущий, пока все не начинали дружно хохотать.
Телефон Джона молчал. Накануне вечером он предупредил весь персонал сериала, чтобы ему не звонили. «Пока никто не умирает, – сказал он им, цитируя Марго, – ищите способы справиться самостоятельно». Они же не полные идиоты, уверял он себя. Все шло хорошо. Они могли справиться со всем. Три гребаных дня.
Сейчас, сочиняя глупые песни в машине, Джон поглядывал на Марго. Она смеялась так же, как на той вечеринке, где они встретились. Он не слышал, чтобы она так смеялась в последние… он не мог вспомнить, как давно. Она положила руку ему на шею, и он прижался к ней, отвечая на прикосновение, как не отвечал… и опять он не мог припомнить, как давно. Дети болтали на заднем сиденье. Его накрыло чувство покоя, и в голове всплыл образ. Он представил себе, как его мама смотрит с небес или откуда-то еще, где бы она ни была, и улыбается, глядя на то, как хорошо все сложилось у ее младшего сына, который – он всегда в это верил – был ее любимчиком. Вот он, Джон, успешный телесценарист, едет в Леголенд с женой и детьми, в машине, полной смеха и любви.
Он вспомнил, как сам сидел на заднем сиденье будучи маленьким мальчиком, зажатым меж двух старших братьев. Родители впереди, папа за рулем, а мама рядом с ним подсказывает, куда ехать. Все они придумывают строки песни и громко смеются. Он вспомнил, как старался не отставать от братьев, когда наступала его очередь добавить строчку, и как мама восхищалась его игрой слов.
«Какой одаренный!» – восклицала она каждый раз.
Джон не знал, что значит это слово. Он думал, что это такой хитрый способ сказать «любимый» – и он знал, что для мамы он был самым любимым из всех мальчиков. Не «недоразумением», как дразнили его братья, потому что он был намного младше их, а, как говорила мама, «особенным сюрпризом». Он помнил, как мама положила руку на шею отца, а теперь Марго сделала то же самое с ним. Он был настроен оптимистично: они с Марго смогут снова наладить отношения.
Потом зазвонил телефон.
Телефон лежал на панели между ним и Марго. Джон глянул на него. Марго одарила его взглядом смерти. Джон помнил, что инструктировал персонал звонить только в экстренных случаях – если кто-то умирает. Он знал, что в тот день шли съемки на локации. Что могло пойти не так?
«Не надо», – сказала Марго.
«Мне просто надо проверить, кто это», – ответил Джон.
«Черт побери», – прошипела Марго, в первый раз выругавшись при детях.
«Нет, я собирался это сказать», – прошипел Джон в ответ.
«Мы отъехали всего два часа назад, – сказала Марго, ее голос стал громче. – И ты обещал этого не делать!»
Дети замолчали, телефон тоже утих. Звонок ушел на автоответчик.
Джон вздохнул. Он попросил Марго посмотреть и сказать ему, кто звонил, но она покачала головой и отвернулась. Джон дотянулся до телефона. И они столкнулись с черным внедорожником, выехавшим прямо на них.
В детских креслах сидели пятилетняя Грейс и шестилетний Гейб. Неразлучные погодки. Любовь всей жизни Джона. Грейс выжила – вместе с Марго и Джоном. Гейб, сидевший прямо за папой как раз в точке столкновения, погиб на месте.
Позже полиция попыталась разобраться, что привело к трагедии. От двоих свидетелей из оказавшихся рядом машин помощи было не слишком много. Один сказал, что внедорожник выехал на встречную полосу, не справившись с управлением. Другой сказал, что Джон не уступил дорогу. Полиция выявила в крови водителя внедорожника слишком высокий уровень алкоголя, и его посадили в тюрьму. Причинение смерти по неосторожности. Но Джон не чувствовал себя прощенным. Он знал, что в тот миг, когда внедорожник заходил на поворот, он отвлекся на миллисекунду – или мог отвлечься, хотя глаза его смотрели на дорогу, пока он тянулся к телефону. Марго вообще не видела приближающуюся машину. Она смотрела в окно, на океан, кипя от злости на Джона и не желая смотреть на его телефон.
Грейс не могла ничего вспомнить, и единственным человеком, который, возможно, видел, что происходит, был Гейб. В последний раз, когда Джон слышал голос сына, это был пронзительный крик, одно длинное слово: «Папа-а-а-а-а-а!»
Кстати, звонивший ошибся номером.
Пока я слушаю, мое сердце рвется на части – не только за Джона, но и за всю его семью. Я сдерживаю слезы, но Джон, лежа на диване, поворачивается ко мне лицом, и я вижу, что его глаза сухие. Он кажется отстраненным, отвлеченным – таким же он был, когда рассказывал мне о смерти матери.
– Джон, – начинаю я, – это…
– Да-да, – прерывает он язвительным тоном, – это так печально. Я знаю. Так, черт возьми, печально. Именно это все и говорят, когда что-то случается. Умирает моя мама. Это так печально. Умирает мой ребенок. Это так печально. Ну естественно. Но это ничего не меняет. Они по-прежнему мертвы. Поэтому я не рассказываю никому. Поэтому я не рассказывал вам. Я не хочу слышать, как это чертовски печально. Мне не нужно это идиотское выражение печали и жалости на чужих лицах. Единственная причина, по которой я рассказываю вам, – это сон, который приснился мне недавно. Вам, мозгоправам, ведь нравятся сны? Я не мог выбросить его из головы и подумал…
Джон останавливается и садится.
– Марго слышала, как я кричал прошлой ночью. Я проснулся от крика в четыре долбаных часа утра. И я не могу опуститься до такого дерьма.
Я хочу сказать, что то, что во мне видит Джон, вовсе не является жалостью. Это сострадание, и сочувствие, и даже своего рода любовь. Но Джон не позволяет никому приблизиться к себе и не приближается сам, что оставляет его в одиночестве в и без того изолирующих обстоятельствах. Потеря любимого человека – опыт, который оставляет глубокое чувство одиночества, что-то, что можно перенести лишь каким-то своим способом. Я думаю о том, каким опустошенным и одиноким, должно быть, чувствовал себя Джон в шесть лет, когда умерла его мама, и потом снова – став отцом, чей шестилетний сын погиб. Но я не озвучиваю все это. Джон сейчас находится в состоянии, которое психотерапевты называют «переполненностью» – когда нервная система перегружена, и в таком случае остается лишь немного подождать. Мы делаем так в парной терапии: когда один человек так переполнен гневом или болью, что все, что он может сделать, – это разораться или закрыться в себе. Ему нужно несколько минут, чтобы его нервная система перезагрузилась, прежде чем он сможет что-то воспринять.
– Расскажите мне о своем сне, – говорю я.
Удивительно, но он не упирается. Я замечаю, что Джон не нападает на меня – и за сегодня он ни разу не взглянул на телефон. Он даже не достал его из кармана. Он просто сидит, поставив ноги перед собой, делает глубокий вдох и начинает.
– В общем, Гейбу шестнадцать. Ну то есть было шестнадцать – там, во сне…
– Ага, ему шестнадцать, и он сдает экзамен на водительские права. Он очень долго ждал этого дня, и вот он настал. Мы стоим рядом с машиной на парковке около участка, и Гейб выглядит так уверенно. Он уже начал бриться, и я вижу щетину и замечаю, каким взрослым он стал.
Голос Джона срывается.
– Каково это было? Увидеть его таким взрослым?
Джон улыбается.
– Я им гордился. Так гордился тем, каким он стал. Но еще было как будто бы грустно. Словно он вот-вот уедет в колледж. Достаточно ли времени я с ним провел? Был ли я хорошим отцом? Я пытался не заплакать – в смысле, во сне – и не знал, это были слезы гордости или сожаления… Кто вообще, черт возьми, знает. Короче…
Джон смотрит в сторону, как будто пытается не заплакать сейчас.
– В общем, мы разговариваем о том, что он собирается делать после экзамена. Он хочет встретиться с друзьями, а я все говорю ему, чтобы он никогда не садился за руль, если сам выпил, или если вести планируют выпившие приятели. И он говорит: «Я знаю, пап. Я не идиот». Как подростки говорят, знаете? А потом я говорю ему, чтобы он никогда не писал сообщения за рулем.
Джон смеется – очень горький смешок.
– Сон в руку, да, Шерлок?
Я не улыбаюсь. Я жду, пока он продолжит.
– И вот, – продолжает он, – подходит экзаменатор. Мы с Гейбом показываем друг другу большие пальцы – как когда я привозил его в детский сад, перед тем как он шел в группу. Такое быстрое «у тебя все получится». Но что-то в экзаменаторе заставляет меня нервничать.
– В смысле? – спрашиваю я.
– У меня просто плохое предчувствие. Тревожное. Я ей не доверяю. Как будто Гейб у нее на карандаше, и он не сдаст экзамен. В общем, я смотрю, как они трогаются. Гейб выезжает на дорогу, все в порядке. Так что я понемногу расслабляюсь, и тут звонит Марго. Она говорит, что звонит моя мама, и спрашивает, можно ли ей взять трубку. Во сне моя мама все еще жива, и я не понимаю, почему Марго вообще задает такой вопрос, почему она может просто ответить на чертов звонок. Что за хрень – взять ли ей трубку? А она говорит: «Помнишь, мы договаривались – не брать трубку, пока никто не умирает?» И я вдруг думаю, что если Марго возьмет трубку, то, значит, моя мама умирает. Она умрет. Но если Марго не возьмет трубку, никто не умирает. Моя мама не умирает.
Так что я говорю: «Да, ты права. Что угодно делай, только не бери трубку. Пусть звонит».
Мы прощаемся, и я жду Гейба около участка. Смотрю на часы и не понимаю, где они. Они должны были вернуться через двадцать минут. Проходит тридцать минут. Сорок. Потом возвращается экзаменатор, но Гейба с ней нет. Она подходит ко мне, и я знаю.
«Мне очень жаль, – говорит она. – Случилась авария. Человек с мобильным телефоном». И тут я вижу, что экзаменатор – моя мама. Она говорит мне, что Гейб умер. И поэтому она звонила Марго снова и снова, потому что кто-то умирал – это был Гейб. Какой-то идиот с мобильным телефоном убил его, когда он сдавал экзамен по вождению!
И я говорю: «Кто это? Вы позвонили в полицию? Я его убью!» А мама просто смотрит на меня. И я понимаю, что тот человек – это я. Я убил Гейба.
Джон останавливается передохнуть и продолжает рассказ.
После смерти Гейба, говорит он, они с Марго ожесточенно винили друг друга. В отделении скорой помощи Марго набросилась на Джона: «Дар? Ты сказал, что телефон – это дар? Гейб был даром, ты, гребаный ублюдок!» Позже, когда отчет токсикологов показал, что водитель был пьян, Марго извинилась перед Джоном, но он знал, что в глубине души она все еще винит его. Он знал, потому что в глубине души Джон винил ее. Какая-то его часть чувствовала, что она несет ответственность, что если бы она не была так упряма и посмотрела, кто звонит, то рука Джона осталась бы на руле и отреагировала бы быстрее, уворачиваясь от пьяного водителя.
Ужасно то, говорит он, что никто никогда не узнает, кто на самом деле ответственен. Водитель мог врезаться в них в любом случае – или они могли бы избежать столкновения, если бы не отвлеклись на ссору.
Именно незнание мучает Джона.
Я думаю о том, как именно незнание мучает всех нас. Незнание, почему ушел твой бойфренд. Незнание, что не так с твоим телом. Незнание, мог ли ты спасти своего сына. В определенный момент мы все должны примириться с незнанием и невозможностью познания.
– И в этот момент, – говорит Джон, возвращаясь к разговору о сне, – я проснулся с криком. И знаете, что я кричал? Я вопил: «Папа-а-а-а-а-а!» – последнее слово Гейба. А Марго услышала это и испугалась. Она убежала в ванную и заплакала.
– А вы? – говорю я.
– Плакали?
Джон качает головой.
– Почему нет?
Джон вздыхает, как будто ответ очевиден.
– Потому что у Марго в ванной была настоящая истерика. Что мне оставалось делать, тоже расклеиться?
– Я не знаю. Если бы мне приснилось что-то подобное и я бы проснулась, крича, я была бы серьезно потрясена этим. Я могла бы чувствовать все виды эмоций: ярость, вину, печаль, отчаяние. И мне бы понадобилось выпустить их, немного приоткрыть клапан. Я не знаю, что бы я сделала. Может быть, то же, что и вы, что на самом деле разумная реакция на непереносимую ситуацию – онемела бы, попыталась игнорировать свои чувства, держать их при себе. Но я думаю, что в какой-то момент я бы взорвалась.
Джон качает головой.
– Позвольте вам кое-что сказать, – говорит он, глядя мне в глаза. В его голосе слышится напряженность. – Я отец. У меня две дочери. Я не подведу их. Я не буду тряпкой и не разрушу их детство. Я не позволю им остаться с двумя родителями, которых преследует призрак сына. Они заслуживают лучшего. То, что случилось, – не их вина. Наша. И это наша ответственность – быть в здравом рассудке ради них, собраться ради них.
Я обдумываю его мысль – собраться ради детей. Ему кажется, что он подвел Гейба, и он не хочет подвести остальных. Ему кажется, что подавленная внутри боль защитит их. И я решаю рассказать ему о брате моего отца, Джеке.
До того как ему исполнилось шесть лет – возраст, в котором Джон потерял мать, и возраст, в котором умер Гейб, – мой отец считал, что он и его сестра – единственные дети у своих родителей. Но однажды он рылся на чердаке и нашел коробку с фотографиями маленького мальчика, от младенческих снимков до кадров, на которых он уже примерно школьного возраста.
Он спросил у родителей, кто это. Мальчик оказался его братом по имени Джек; он умер в пять лет от пневмонии. О нем никогда не говорили раньше. Мой отец родился через несколько лет после его смерти. Его родители полагали, что не говорить о Джеке – значит «собраться ради детей». Но их шестилетний ребенок оказался потрясен и растерян. Он хотел говорить о Джеке. Почему ему никто не сказал? Что случилось с одеждой Джека? Его игрушками? Были ли они на чердаке вместе с фотографиями? Почему родители никогда не говорили о Джеке? И если он – маленький мальчик, который впоследствии стал моим отцом, – умрет, о нем тоже забудут?
– Вы так зациклены на желании быть хорошим отцом, – говорю я Джону. – Но что, если отчасти это означает позволять себе весь спектр человеческих эмоций, настоящей жизни, даже если так порой бывает труднее? Вы можете проживать свои чувства наедине с собой, или с Марго, или здесь со мной – можно оставить их среди взрослых, – и это, возможно, позволит вам быть более живым с детьми. Может быть, есть другой способ собраться ради них. Их может сбить с толку то, что Гейба никогда не вспоминают. И если вы время от времени разрешите себе разозлиться, или поплакать, или посидеть в отчаянии, ситуация станет более выносимой – если Гейбу дадут немного воздуха в вашем доме, а не запрут на метафорическом чердаке.
Джон качает головой.
– Я не хочу быть как Марго, – говорит он. – Она плачет из-за всяких мелочей. Иногда кажется, что она вообще не перестает плакать, а я не могу так жить. Кажется, что для нее ничего не изменилось, но в какой-то момент пора принять решение жить дальше. Я принял это решение. Марго – нет.
Я представляю Марго – сидящую на кушетке у Уэнделла в обнимку с моей любимой подушкой, рассказывающую, как ей одиноко в своей боли, как она хранит ее в себе, в то время как ее муж замкнулся в своем мире. А потом думаю о том, каким одиноким, должно быть, себя чувствует Джон, наблюдающий за болью своей жены и неспособный вынести ее вида.
– Я знаю, что выглядит именно так, – говорю я наконец. – Но думаю… Не потому ли Марго так себя ведет, что выполняет двойной долг? Может быть, все это время она плакала за вас обоих.
Джон морщит лоб, потом смотрит на свои колени. Несколько слезинок падают на его черные дизайнерские джинсы – сперва медленно, потом быстро, как водопад, быстрее, чем он успевает их вытереть; наконец, он даже перестает пытаться. Это слезы, которые он держал внутри последние десять лет.
Или, может быть, больше тридцати.
Пока он плачет, меня вдруг осеняет: то, что я воспринимала как тематику своих встреч с Джоном – спор с Марго об использовании дочерью мобильного телефона, препирательства со мной насчет сообщений во время сессии, – могло иметь более глубокий смысл, чем я осознавала. Я вспоминаю комментарий Джона, с которого он начал сессию. «Вы выиграли… удовольствие находиться в моей компании». Но, возможно, он выиграл удовольствие от моей. В конце концов, он выбрал прийти сюда сегодня и рассказать мне все это.
Я также думаю о том, что существует множество путей защитить кого-то от чего-то непроизносимого. Вот один: вы отделяете нежелательные части самого себя, прячетесь за фальшивой личностью и развиваете нарциссические черты. Вы говорите: «Да, эта катастрофа случилась, но я в порядке. Ничто не может коснуться меня, потому что я особенный. Особенный сюрприз». Когда Джон был маленьким, воспоминания о восхищении матери были способом защититься от ужаса абсолютной непредсказуемости жизни. Возможно, так же он успокаивал себя, став взрослым, цепляясь за то, каким особенным он был после смерти Гейба. Потому что единственное, на что Джон может уверенно рассчитывать в этом мире, – что он особенная личность, окруженная идиотами.
Сквозь слезы Джон говорит, что это именно то, чего он не хотел, что он пришел сюда не для того, чтобы сорваться.
Но я уверяю его, что он не сорвался – он сорвал оковы.
39 Как люди меняются
Теории, включающие стадии развития, широко распространены в психологии – без сомнения, потому, что их упорядоченность, ясность и предсказуемость весьма привлекательны. Любой, кто прошел вводный курс психологии, вероятно, сталкивался с моделями стадийного развития Фрейда, Юнга, Эриксоном, Пиаже и Маслоу.
Но есть одна модель, о которой я помню почти каждую минуту любой сессии: стадии изменений. Если по задумке психотерапия ведет человека из текущего положения к желаемому, мы всегда должны задумываться: как люди вообще меняются?
В 1980-х психолог по имени Джеймс Прохазка предложил транстеоретическую модель изменений в поведении (ТТМ), основанную на исследовании, доказывающем, что люди чаще всего не могут «просто сделать это», как предлагает Nike (и список новогодних резолюций). Вместо этого они чаще всего проходят через серию следующих стадий:
Стадия 1: Предобдумывание
Стадия 2: Обдумывание
Стадия 3: Подготовка
Стадия 4: Действие
Стадия 5: Поддержание
Допустим, вы хотите что-то изменить в своей жизни: чаще заниматься спортом, расстаться с партнером, может даже впервые пойти на психотерапию. До этого момента вы находитесь на первой стадии (предобдумывание): вы даже не думаете о переменах. Некоторые психотерапевты сравнивают ее с отрицанием, имея в виду тот факт, что вы не осознаете возможных проблем. Когда Шарлотта впервые пришла ко мне, она охарактеризовала себя как человека, порой выпивающего в компании друзей. Я понимала, что она была на стадии предобдумывания, поскольку она говорила о склонности матери к самолечению алкоголем, но никак не связывала с этим свое употребление алкоголя. Когда я спрашивала ее об этом, она уходила от ответа, раздражалась («Моим ровесникам свойственно иногда собираться и выпивать!») или переходила к технике «да, но» – практике перевода стрелок с обсуждаемой проблемы на какую-то другую («Это все X; но что насчет Y?»).
Конечно, психотерапевты не могут повлиять на все. Мы не можем убедить анорексика есть. Мы не можем убедить алкоголика не пить. Мы не можем убедить людей не заниматься саморазрушением, потому что саморазрушение в данный момент времени их устраивает. Все, что мы можем – это попытаться помочь им лучше понять себя и показать, как задавать себе правильные вопросы перед тем, как случается что-то (неважно, внутри или снаружи), что приводит их к способности убедить самих себя.
Авария Шарлотты и разборки с полицией из-за вождения в нетрезвом виде привели ее на следующую стадию – обдумывание.
Обдумывание изобилует амбивалентностью. Если предобдумывание – это отрицание, то обдумывание можно сравнить с сопротивлением. Человек видит проблему, хочет поговорить о ней и даже не против (в теории) начать действовать, но не может заставить себя сделать что-либо. Так что, хотя Шарлотту и беспокоил полицейский вердикт и последовавшее за ним постановление о посещении программы для зависимых (куда она пошла с большой неохотой лишь после того, как пропустила положенный срок, который нанятому за большие деньги адвокату пришлось экстренно продлевать), она не была готова что-то менять в своих привычках.
Люди часто начинают психотерапию именно на стадии обдумывания. Женщина, состоящая в отношениях на расстоянии, говорит, что ее бойфренд откладывает переезд к ней в город; она признает, что он, возможно, не приедет – но не готова порвать с ним. Мужчина знает, что у жены есть любовник, но, когда мы говорим об этом, он ищет оправдания тому, что она не отвечает на сообщения, чтобы не пришлось с ней ссориться. На этой стадии люди прокрастинируют или занимаются самосаботажем – в качестве способа отсрочить даже позитивные изменения, – потому что им не хочется отказываться от чего-то без сведений о том, что они получат взамен. Загвоздка этой стадии в том, что перемены включают потерю старого и тревогу по поводу нового. Это беличье колесо, кажущееся окружающим диким, является частью процесса: людям нужно делать одно и то же снова и снова бесконечное количество раз, прежде чем они будут готовы измениться.
Шарлотта говорила о попытках «завязать» с выпивкой, о двух стаканах вина вечером вместо трех, об отказе от коктейля за бранчем с друзьями – при условии, что она планирует выпить за ужином (и, конечно, после ужина). Она признавала ту роль, которую алкоголь играет в ее жизни, его приглушающий тревожность эффект, но не могла найти альтернативу, чтобы справиться с эмоциями. Даже с помощью лекарств, выписанных психиатром.
Чтобы помочь ей с тревожностью, мы добавили вторую психотерапевтическую сессию на неделе. Она стала меньше пить и решила, что этого достаточно, чтобы контролировать ее проблемы с алкоголем. Но две сессии в неделю возродили другую проблему: Шарлотте снова показалось, что она зависима от меня, так что мы вернулись к прежнему графику. Когда я, улучив момент (скажем, после очередного ее упоминания о том, что она напилась на свидании), подкидывала идею о программе амбулаторного лечения, она качала головой. Ни за что.
– Эти программы заставляют полностью завязать, – говорила она. – Я хочу иметь возможность выпить за ужином. Очень странно не пить в компании, где пьют все.
– Напиваться тоже очень странно, – парировала я. А она отвечала:
– Да, но я же сбавляю обороты.
И на тот момент это было правдой – она начала сокращать потребление алкоголя и читать о зависимости в интернете. Это был переход на третью стадию – подготовка. Шарлотте было трудно признать, что всю свою жизнь она вела борьбу с родителями: «Я не изменюсь, мама и папа, пока вы не начнете обращаться со мной так, как я хочу, чтобы со мной обращались». Она вела подсознательный торг: она изменит свои привычки, только если родители изменят свои – пакт, в котором не выиграл бы никто, будь он реален. На самом деле ее отношения с родителями не могли измениться до тех пор, пока она ничего в них не привносила.
Два месяца спустя Шарлотта вплыла в мой кабинет, разложила содержимое сумочки по подлокотникам своего трона и сказала:
– Так, у меня есть вопрос.
Она спросила, не знаю ли я хорошую амбулаторную программу по лечению алкоголизма. Она перешла на четвертую стадию – действие.
На стадии действия Шарлотта прилежно уделяла три вечера в неделю программе, используя группу как замену вину. Она совсем бросила пить.
Основная цель, разумеется, – перейти к финальной стадии – поддержанию. Это значит, что человек в течение значительного периода времени придерживается изменений. Это не значит, что люди не срываются. Стресс или определенные триггеры прежнего поведения (конкретный ресторан, звонок от старого собутыльника) могут вызвать откат. Эта стадия трудна, потому что поведение, которое люди хотят изменить, встроено в саму их жизнь: люди с зависимостью (будь то зависимость от алкоголя или психотропных веществ, драмы, негатива или саморазрушительных действий) стремятся к другим зависимым. Но, находясь на стадии поддержания, человек всегда может вернуться в нужную колею с правильной поддержкой.
Без вина и водки Шарлотта стала лучше сосредоточиваться; у нее также улучшилась память, она чувствовала себя менее усталой и более мотивированной. Она подала документы в аспирантуру. Она вступила в благотворительную организацию по защите животных, что ей очень нравилось. Она впервые в жизни смогла заговорить со мной о трудных отношениях с матерью и стала взаимодействовать с ней в более спокойной манере. Она стала держаться подальше от «друзей», которые приглашали ее пропустить один стаканчик в честь дня рождения – «Ведь двадцать семь исполняется лишь раз в жизни, да?» Вместо этого она провела свой праздник с новыми друзьями, которые приготовили ее любимые блюда и произнесли множество тостов в ее честь, чокаясь чем-то из широкого ассортимента безалкогольных напитков.
Но оставалась одна зависимость, с которой она не могла справиться: Чувак.
Признаюсь: мне не нравился Чувак. Его развязность, его нечестность, то, как он изводил Шарлотту. Одну неделю он приходил с девушкой, другую – нет. В один месяц он с Шарлоттой, в следующий – нет. Я хотела, чтобы весь мой вид говорил «я вижу тебя насквозь», когда я открывала дверь приемной и видела его сидящим рядом с Шарлоттой. Я хотела защитить ее, как Мама-Собака из рекламы. Но я оставалась в стороне.
Шарлота часто шевелила большими пальцами, пересказывая последние события: «А потом я сказала… А он… А я…»
– Это была переписка? – спросила я с удивлением, когда она сделала так в первый раз. Я предположила, что выяснение статуса отношений в переписке может быть ограниченным: у вас нет возможности заглянуть человеку в глаза или взять его за руку, чтобы предложить поддержку, когда он расстроен. Она ответила:
– Нет, мы еще используем эмодзи.
Я подумала об оглушительной тишине и дергающейся ноге, которые подсказали мне о желании Бойфренда расстаться. Если бы мы тем вечером обсуждали поход в кино в переписке, возможно, он бы ждал еще несколько месяцев, прежде чем сказать. Но для Шарлотты, я знаю, все это лишь брюзжание старой перечницы: ее поколение не собирается меняться, так что меняться придется мне, чтобы идти в ногу со временем.
Сегодня глаза Шарлотты покрасневшие. Она увидела в инстаграме, что Чувак вернулся к своей предположительно бывшей девушке.
– Он продолжает говорить, что хочет измениться, но потом происходит вот это, – говорит она со вздохом. – Думаете, он когда-нибудь изменится?
Я думаю о стадиях изменений – где находится Шарлотта, где может быть Чувак – и о постоянных исчезновениях отца Шарлотты, которые теперь воспроизводит Чувак. Для нее трудно принять, что пока она сама может измениться, другие люди – нет.
– Он не изменится, правда? – говорит она.
– Он может этого не хотеть, – говорю я мягко. – Как и ваш отец.
Шарлотта сжимает губы, как будто обдумывая мысль, которая раньше никогда не приходила ей в голову. После стольких попыток заставить этих мужчин полюбить ее так, как ей бы этого хотелось, она не может изменить их, потому что они не хотят меняться. Это знакомый сценарий в психотерапии. Бойфренд пациентки не хочет бросать курить и завязывать с компьютерными играми по выходным. Ребенок пациентки не хочет лучше учиться, чтобы сдать экзамены, вместо этого занимаясь музыкой. Супруг пациентки не хочет реже ездить в командировки. Иногда изменения, которых вы хотите от другого человека, не входят в его планы – даже если этот человек говорит, что входят.
– Но… – говорит она, потом останавливается.
Я смотрю на нее, чувствуя, что внутри нее что-то переключается.
– Я пытаюсь заставить их измениться, – говорит она, словно самой себе.
Я киваю. Он не изменится, поэтому должна измениться она.
Любые отношения – это танец. Чувак исполняет свои па (сближение/отдаление), Шарлотта – свои (сближение/боль), так они и танцуют. Но если Шарлотта изменит свои движения, случится одно из двух: либо Чуваку тоже придется танцевать иначе, чтобы не оступиться и не упасть, либо он просто уйдет с танцпола и найдет кого-то еще, по чьим ногам можно потоптаться.
После четырех месяцев воздержания Шарлотта впервые выпила на День Отца – когда ее папа должен было прилететь к ней в город, но в последний момент отменил поездку. Это было три месяца назад. Ей не понравился этот танец, так что она изменила движения. С тех пор она не пила.
– Мне нужно перестать видеться с Чуваком, – говорит она сейчас.
Я улыбаюсь. Звучит знакомо.
– Нет, в этот раз я серьезно, – говорит она, но тоже улыбается. Это ее мантра на стадии подготовки. – Можно изменить расписание моих сессий? – спрашивает она. Сегодня она готова к действию.
– Конечно, – говорю я, припоминая, что предлагала это раньше: Шарлотта не хотела встречаться с Чуваком в приемной каждую неделю, но тогда она не была готова согласиться. Я предлагаю ей другое время и день, и она делает пометку в телефоне.
В конце сессии Шарлотта собирает свои многочисленные вещи, проходит к двери и, как всегда, останавливается.
– Значит, до встречи в понедельник, – шепчет она, зная, что мы одурачили Чувака, который наверняка будет гадать, почему Шарлотта не пришла в свое обычное время в четверг. Пусть гадает, думаю я.
Пока Шарлотта идет в холл, со своей сессии выходит Чувак. Я киваю, приветствуя Майка с непроницаемым лицом.
Может быть, Чувак говорил Майку о подружке, и они провели сессию, беседуя о его склонности манипулировать людьми, вводить их в заблуждение, обманывать. («О, так вот в чем его проблема», – сказала однажды Шарлотта, когда он проделал с ней это дважды.) Может быть, Чувак вовсе не говорил об этом Майку. Может быть, он не готов меняться. Или, может быть, он просто не заинтересован в переменах.
Когда я говорю об этом в своей консультационной группе, Иан отвечает кратко:
– Лори, три слова: «не твой пациент».
И я понимаю, что, как и Шарлотта, я тоже должна отпустить Чувака.
Во время запоздалой предновогодней уборки я наткнулась на свою курсовую работу, посвященную австрийскому психиатру Виктору Франклу. Просматривая заметки, я постепенно вспоминала историю его жизни.
Франкл родился в 1905 и еще в детстве начал всерьез интересоваться психологией. В старшей школе он стал активно переписываться с Фрейдом. Впоследствии он изучал медицину и читал лекции по логотерапии, находящейся на стыке психологии и философии, название которой произошло от греческого слова logos – «мысль» или «слово». Фрейд полагал, что людьми движет поиск наслаждения и избегание боли (его знаменитый «принцип удовольствия»); Франкл же считал, что людьми прежде всего движет поиск не удовольствия, а смысла жизни.
Ему было за тридцать, когда разразилась Вторая мировая война, подвергнувшая его, еврея, опасности. Ему предложили иммигрировать в Соединенные Штаты, но он отказался, чтобы не оставлять родителей; годом позже нацисты заставили жену Франкла прервать беременность. Через несколько месяцев его и других членов семьи депортировали в концентрационный лагерь, а когда через три года Франкла освободили, он узнал, что нацисты убили его жену, брата и обоих родителей.
Свобода в таких обстоятельствах могла привести к отчаянию. В конце концов, надежда на то, что ждало Франкла и других заключенных после освобождения, исчезла: люди, которые были им дороги, умерли, их родные и близкие были уничтожены. Но Франкл написал ставший экстраординарным трактат о стойкости и духовном спасении, работу, известную под названием «Человек в поисках смысла». В ней он делится своей теорией логотерапии в отношении не только ужасов концентрационных лагерей, но и более обыденных страданий.
Он писал: «Все можно забрать у человека, кроме одного: последняя свобода человека – выбирать собственное отношение к любым обстоятельствам».
И правда: Франкл снова женился, у него родилась дочь, он много публиковался и выступал по всему миру – вплоть до самой смерти в возрасте девяноста двух лет.
Перечитывая эти заметки, я думала о своих беседах с Уэнделлом. В моей рабочей тетради были выведены слова: «реагирование vs отклик = рефлексы vs выбор». Мы можем выбрать свой отклик, говорил Франкл, даже перед лицом смерти. То же было верно в отношении потери Джоном матери и сына, болезни Джулии, сожалений Риты и взросления Шарлотты. Я не могу вспомнить ни одного пациента, к которому нельзя было бы применить идеи Франкла, будь то серьезная эмоциональная травма или проблемы в отношениях с семьей. Прошло больше шестидесяти лет, и Уэнделл сказал, что у меня тоже есть выбор – что тюремная камера открыта с обеих сторон.
Мне очень нравилась следующая строчка из книги Франкла: «Между раздражителем и нашей на него реакцией всегда есть время. В это время мы можем выбрать, как отреагировать. И именно в реакции кроется наш рост, наша свобода».
Я никогда не писала Уэнделлу ни о чем, кроме изменений в нашем графике, но меня так поразила эта параллель, что я захотела поделиться с ним. Я открыла почту и написала: «Вот то, о чем мы говорили. Весь секрет, полагаю, в том, чтобы найти это неуловимое “время”».
Через несколько часов он ответил.
Это был типичный Уэнделл: теплый и искренний, но явно настаивающий на том, что психотерапия должна проходить исключительно лицом к лицу. Я вспомнила наш первый телефонный разговор, при котором он не сказал почти ничего, но оказался удивительно вовлеченным при личной встрече.
Но я все равно всю неделю крутила в голове его ответ. Я могла отправить эту цитату множеству друзей, которым она бы тоже понравилась, но все было бы иначе. Мы с Уэнделлом существовали в отдельной вселенной, где он видел меня так, как не видели даже мои близкие. Конечно, правдой был и тот факт, что мои родственники и друзья видели те грани меня, которые Уэнделл не видел никогда, но никто не мог понять подтекст моего письма так точно, как он.
В следующую среду Уэнделл упоминает письмо. Он рассказывает, что поделился цитатой с женой, которая собирается использовать ее в дискуссии, которую она будет вести. Он никогда не говорил о своей жене, хотя я знаю о ней все после того давнего приступа интернет-слежки.
– Чем занимается ваша жена? – спрашиваю я, словно не видела ее профиль в LinkedIn. Он говорит мне, что она работает в некоммерческой организации.
– Интересно, – отвечаю я, но слово «интересно» звучит неестественно высоко.
Уэнделл смотрит на меня. Я быстро меняю тему.
На какую-то секунду я думаю о том, что бы сделала сама, будь я здесь на месте психотерапевта. Иногда мне хочется сказать: «Я бы поступила иначе» – но это все равно что давать указания водителю, сидя позади него. Мне нужно быть пациенткой, что означает отказ от контроля. Может показаться, что пациент контролирует сессию, решая, о чем рассказать, задавая повестку и тему. Но психотерапевты дергают за ниточки собственными методами – тем, что мы говорим и не говорим, как отвечаем или отмалчиваемся, чему уделяем внимание и чему нет.
Позже на сессии я говорю о моем отце. Я рассказываю Уэнделлу, что он снова был в больнице из-за проблем с сердцем, и, хотя сейчас все хорошо, я боюсь потерять его. Я по-новому осознаю, насколько он хрупок, и начинаю осознавать реальность того, что он не будет жить вечно.
– Я не могу представить себе мир, в котором его нет, – говорю я. – Я не могу представить себе, что не смогу позвонить ему и услышать его голос, или попросить у него совета, или посмеяться с ним над чем-то, что нам обоим кажется смешным.
Я думаю о том, что в мире нет ничего подобного шуткам с моим отцом. Думаю о том, что он разбирается практически во всем, что он сильно любит меня, что он очень добр – не только ко мне, но ко всем. Первое, что люди говорят о моем отце – не то, как он умен или остроумен, хотя все это тоже подходит. Первое, что они говорят: «Он такой милый».
Я рассказываю Уэнделлу о случае, когда я уехала в колледж на Восточном побережье, но скучала по дому и не знала, хочу ли я там остаться. Мой отец услышал боль в моем голосе, сел в самолет и пролетел почти пять тысяч километров, чтобы посидеть вместе со мной на парковой скамье неподалеку от общежития в холодный зимний день и просто выслушать. Он провел со мной еще два дня, мне стало лучше, и он улетел домой. Я не вспоминала об этом годами.
Я также вспоминаю, что случилось в прошлые выходные, сразу после баскетбольного матча моего сына. Когда мальчики убежали праздновать победу, мой отец отвел меня в сторону и сказал, что накануне он был на похоронах своего друга. После похорон он подошел к дочери друга, которой слегка за тридцать, и сказал: «Твой отец так гордился тобой. Каждый раз, когда мы разговаривали, он говорил: “Я так горжусь Кристиной”. И рассказывал мне, как ты поживаешь».
Это было правдой, но Кристина была потрясена.
«Он никогда не говорил мне этого», – сказала она, заливаясь слезами. Мой отец был в шоке, пока вдруг не понял, что и сам не уверен: говорил ли он мне, как ко мне относится? Делал ли он это вообще – или в достаточном объеме?
– Так что, – сказал мой отец около спортзала, – я хочу знать наверняка, что я говорил тебе, как горжусь тобой. Я хочу быть уверенным, что ты это знаешь.
Он очень смущенно говорил это, явно чувствуя себя некомфортно от такого рода общения: обычно он выслушивал других, но держал свой эмоциональный мир при себе.
– Я знаю, – сказала я, потому что отец выказывал свою гордость за меня многочисленными способами, хотя я не всегда слушала его так хорошо, как стоило бы. Но в тот день я не могла не расслышать подтекст: я умру, скорее раньше, чем позже. Мы стояли там вдвоем, обнявшись и плача, пока люди, проходившие мимо, старались не глазеть, потому что мы оба знали, что это было началом прощания отца.
– Ваши глаза открываются, а его начинают закрываться, – говорит сейчас Уэнделл, и я думаю о том, какая это горькая правда. Мое пробуждение случилось вовремя.
– Я так рада, что у нас еще есть время и что оно может стать настолько осмысленным, – говорю я. – Я бы не хотела, чтобы в какой-то момент он внезапно умер, а я поняла, что уже слишком поздно, что я ждала слишком долго, чтобы по-настоящему увидеть друг друга.
Уэнделл кивает, а меня начинает подташнивать. Внезапно я вспоминаю, что отец Уэнделла очень неожиданно умер десять лет назад. Во время своих Гугл-раскопок я нашла некролог, прочитав историю его смерти в интервью матери Уэнделла. Отец Уэнделла, казалось, был совершенно здоров, когда упал без сознания за ужином. Я думаю, мои разговоры об отце могут быть болезненными для Уэнделла. Еще я переживаю, что если скажу больше, то дам понять, как много я знаю. Так что я отступаю, игнорируя тот факт, что психотерапевтов учат слышать то, что пациенты не говорят.
Через несколько недель Уэнделл говорит, что на последней паре сессий я, кажется, обсуждаю не все, что мне хочется – с тех пор, добавляет он, как я отправила ему цитату Виктора Франкла, а он упомянул свою жену. Ему хотелось бы знать (что бы мы, психотерапевты, делали без фразы «хотелось бы знать», касаясь чувствительных тем?), как комментарий о жене повлиял на меня.
– Я как-то не думала об этом, – говорю я. Это правда: я была сосредоточена на том, чтобы утаить свои интернет-раскопки.
Я смотрю на свои ноги, потом на ноги Уэнделла. Сегодня на нем носки в бело-голубую полоску. Вскинув голову, я вижу, что Уэнделл смотрит на меня, приподняв правую бровь.
И до меня доходит, на что он намекает. Он думает, что я ревную его к жене, что я хочу, чтобы он полностью принадлежал мне! Это называется «романтический перенос» – обычная реакция пациентки на своего психотерапевта. Но идея, что я втрескалась в Уэнделла, поражает меня своей смехотворностью.
Я смотрю на Уэнделла, на его бежевый кардиган, хаки и броские носки, пока его зеленые глаза смотрят на меня. На секунду я задумываюсь, каково быть его женой. На одном из найденных мной фото они с женой были на благотворительном мероприятии – рука об руку, в вечерних нарядах, Уэнделл улыбался на камеру, а жена смотрела на него с обожанием. Я помню вспыхнувшую тень зависти – не потому, что я ревновала его к жене, а потому, что у них были те отношения, о которых я тоже мечтала, просто с кем-то другим. Но чем больше я буду отрицать романтический перенос, тем меньше Уэнделл мне поверит. Леди не должна сопротивляться слишком активно.
До конца сессии осталось около двадцати минут – даже будучи пациентом я чувствую течение времени – и я знаю, что этот фасад не продержится долго. Остается сделать только одно.
– Я гуглила вас, – говорю я, глядя в сторону. – Я перестала следить за Бойфрендом, но в итоге начала искать информацию о вас. Когда вы упомянули жену, я уже о ней знала. И ваша мама… – Я делаю паузу, особенно огорченная этой частью. – Я прочла то длинное интервью с вашей мамой.
Я готовлюсь к… не знаю, к чему. Что-то плохое случится. Торнадо влетит в комнату и разрушит нашу связь каким-то непостижимым, но непоправимым образом. Я жду, что все между нами станет отдаленным, другим, изменившимся. Но вместо этого происходит нечто совершенно противоположное. Словно буря прошла сквозь комнату, но оставила не руины, а чистоту на своем пути.
Мне становится легче, как будто я скинула тяжеленный груз. Признание неловкой правды порой требует жертв (вроде необходимости столкнуться с ней), но в качестве награды вы получаете свободу. Правда освобождает нас от стыда.
Уэнделл кивает, и мы сидим в безмолвной беседе. «Прошу прощения. Я не должна была это делать. Это было вмешательство в вашу личную жизнь. – Все в порядке. Я понимаю. Любопытство вполне естественно. – Я рада за вас, за любящую семью, которая у вас есть. – Благодарю вас. Надеюсь, когда-нибудь у вас она тоже будет».
А потом та же версия беседы происходит в реальности. Мы обсуждаем мое любопытство. Почему я держала это в секрете. Каково было хранить эту тайну и одновременно так много знать о нем. Что, по моему мнению, произошло бы между нами, если бы я призналась в этом – и как я себя чувствую сейчас. И поскольку я сама психотерапевт – или потому что я его пациентка и мне просто интересно, – я спрашиваю его, каково было узнать, что я следила за ним онлайн. Хотел бы он, чтобы я чего-то не знала. Изменилось ли что-то в его отношении ко мне.
Только одно в его ответах потрясает меня: он никогда не видел то интервью со своей матерью! Он даже не знал, что оно существует в интернете. Он знал, что его мать давала интервью той организации, но он думал, что оно осталось лишь во внутренних архивах. Я спрашиваю, беспокоит ли его, что другие пациенты тоже могут наткнуться на него, и он откидывается в кресле и делает глубокий вдох. В первый раз я вижу, как он хмурит лоб.
– Не знаю, – говорит он после паузы. – Мне надо об этом подумать.
Цитата Франкла снова всплывает у меня в голове. Он берет время между раздражителем и реакцией, чтобы выбрать свободу.
Наше время истекает, так что Уэнделл привычно хлопает себя по ногам и встает. Мы идем к выходу, но в дверях я останавливаюсь.
– Сочувствую вам по поводу отца, – говорю я. В конце концов, он уже знает, что я знаю всю историю.
Уэнделл улыбается.
– Благодарю.
– Вы скучаете по нему? – спрашиваю я.
– Каждый день, – говорит он. – Не проходит и дня, чтобы я по нему не скучал.
– Не будет проходить и дня, чтобы я не скучала по своему, – говорю я.
Он кивает, и мы стоим, вместе думая о наших отцах. Когда он отступает, чтобы открыть дверь, я вижу, что его глаза слегка увлажнились.
Мне столько всего хочется у него спросить. Примирился ли он с тем, в каком состоянии остались все их дела и отношения, когда отец скончался? Я думаю о том, как сыновья и отцы могут запутаться в паутине ожиданий и жажды одобрения. Говорил ли его отец когда-нибудь, что он гордится им – не вопреки тому, что он отказался от семейного бизнеса и пошел своим путем, а именно поэтому?
Я не узнаю больше об отце Уэнделла, но в следующие недели и месяцы мы много времени проведем, обсуждая моего. И в ходе этих бесед мне станет ясно, что, подыскивая психотерапевта-мужчину, я надеялась получить объективное мнение насчет расставания, а вместо этого получила новую версию своего отца.
Потому что мой отец тоже показывает мне, каково это, когда тебя видят насквозь.
41 Целостность и Отчаяние
Рита сидит напротив меня в своих элегантных слаксах и удобной обуви, подробно рассказывая, почему ее жизнь безнадежна. Эта сессия, как и большинство ее сессий, похожа на панихиду, что еще больше все запутывает: между моментами настаивания на том, что ничего никогда не изменится, в ее жизни происходят мгновенные и глобальные перемены.
Раньше, когда они с Майроном были друзьями, еще до Рэнди, Майрон сделал Рите сайт, чтобы она могла составить онлайн-каталог своих работ. Таким образом, сказал он, она сможет привести в порядок свои шедевры и делиться ими с другими. Но Рита не думала, что ей нужен сайт. «Кто будет смотреть на это?» – спросила она.
«Я буду», – сказал Майрон. Через три недели у Риты был сайт с одним посетителем. Хорошо, двумя, если считать саму Риту, которой он, честно говоря, безумно нравился. Сайт выглядел так профессионально. Первые недели она каждый день проводила несколько часов, кликая по внутренним ссылкам, размышляя над идеями новых проектов, представляя, как покажет их. Но ее восторги испарились, когда Майрон начал встречаться с Рэнди. Кому теперь есть дело до новых выкладок? К тому же она все равно не знала, как работать с этой чертовой штуковиной.
Потом однажды днем Рита наткнулась в лобби на Майрона и Рэнди, держащихся за руки. Чтобы поднять себе настроение, она поехала в магазин за художественными принадлежностями. Занося покупки в квартиру, она столкнулась с двумя детьми, которые выскочили из ниоткуда. Упаковки кистей, акриловые краски и гуашь, холсты, коробки с полимерной глиной – все это посыпалось на пол рядом с Ритой, которую в последнюю секунду поймали сильные руки.
Руки принадлежали отцу детей, Кайлу, которого Рита много раз видела в дверной глазок, но никогда – вживую. Это был папа из квартиры «Привет, семейство!» напротив, и он спас соседку от возможного перелома бедра.
После того как Кайл потребовал от детей извиниться за то, что не смотрят, куда несутся, они вместе собрали пожитки Риты и внесли их в ее квартиру. Там, в гостиной, превращенной в художественную студию, работы Риты покрывали почти все пространство: портреты и наброски на мольбертах, керамика рядом с гончарным кругом, незаконченные рисунки углем. Дети были в восторге. А Кайл был поражен. «У вас талант, – сказал он. – Настоящий талант. Вам нужно продавать это».
Они вернулись к себе в квартиру. Вскоре после этого, когда жена Кайла по имени Анна пришла домой («Привет, семейство!»), дети уговорили маму сходить с ними в квартиру напротив, чтобы посмотреть на гостиную «леди-художницы». Рита, как обычно, стояла у глазка, и в дверь постучали до того, как она успела отойти. Она досчитала до пяти, спросила, кто там, и поздоровалась с ними с фальшивым удивлением.
Вскоре Рита учила рисованию Софию и Алису, пяти и семи лет, и часто присоединялась к их семье на, прямо скажем, семейных ужинах. Однажды Анна вернулась домой и крикнула привычное «Привет, семейство!» Софии и Алисе, которые рисовали в гостиной Риты. Дети поздоровались в ответ, а потом Алиса повернулась к Рите и спросила, почему она не ответила их маме.
«Я не семья», – безразлично сказала Рита, на что Алиса ответила: «Нет, ты семья. Ты наша калифорнийская бабушка!» Бабушки девочек жили в Чарльстоне и Портленде. Они часто приезжали, но именно Рита видела их практически каждый день.
Анна тем временем повесила одну из картин Риты над диваном в семейной гостиной. Еще Рита нарисовала две картины для детской: танцовщицу для Софии и единорога для Алисы. Девочки были в восторге. Анна пыталась заплатить Рите за работу, но та отказалась, настаивая, что это подарок. Тогда Кайл, программист, убедил Риту позволить ему настроить на ее сайте онлайн-магазин. Он разослал письма родителям одноклассников Софии и Алисы, и вскоре Рита уже принимала заказы на детские портреты. Еще одна родительница заказала керамику для столовой.
Учитывая такое развитие событий, я ожидала, что настроение Риты улучшится. Она оживала, ведя менее ограниченную жизнь. Она каждый день говорила с людьми. Она делилась своим художественным талантом с теми, кто восхищался им. Она не была той же невидимкой, какой впервые пришла ко мне. Но ее удовольствие, или радость, или что там она испытывала («Ну да, неплохо» было ее самой позитивной реакцией) по-прежнему скрывались за темной пеленой. Она озвучивала одну и ту же литанию: что если бы Майрон на самом деле имел в виду то, что сказал на парковке спортклуба, он бы приглашал на свидания Риту, а не эту отвратительную Рэнди; что как бы хорошо ни относилось к ней «Привет, семейство!», они не были ее семьей; что она так и умрет в одиночестве.
Она зациклилась на состоянии, которое психолог Эрик Эриксон назвал «отчаянием».
В середине двадцатого века Эриксон выдвинул теорию восьми стадий психологического развития личности, которые по-прежнему направляют психотерапевтов. В отличие от фрейдовских стадий психосексуального развития, которые заканчиваются в период пубертата и фокусируются на структуре «Ид», психосоциальные стадии Эриксона концентрируются на развитии личности в социальном контексте (например, как в детях развивается чувство доверия к остальным). Что более важно, стадии Эриксона тянутся на протяжении все жизни, и каждая следующая стадия включает в себя кризис, который нужно преодолеть для перехода на новый этап. Они выглядят так:
Младенчество (надежда) – доверие и недоверие.
Преддошкольный возраст (воля) – самостоятельность и нерешительность.
Дошкольный возраст (целеустремленность) – предприимчивость и чувство вины.
Школьный возраст (компетентность) – умелость и неполноценность.
Юность (верность) – идентичность и путаница ролей.
Ранняя зрелость (интимность) – близость и одиночество.
Зрелость (забота) – производительность и стагнация.
Старость (мудрость) – целостность и отчаяние.
На восьмой стадии люди возраста Риты обычно находят себя. Эриксон утверждал, что в зрелые годы мы испытываем чувство целостности, если знаем, что прожили осмысленную жизнь. Это чувство дает нам ощущение завершенности, так что мы можем спокойнее принять приближающуюся смерть. Но если у нас есть неразрешенные сожаления по поводу прошлого – если мы думаем, что сделали неправильный выбор или не достигли важных целей, – мы чувствуем себя подавленными, лишенными надежды, что ведет к отчаянию.
Мне казалось, что текущее отчаяние Риты по поводу Майрона привязано к старому отчаянию, и именно поэтому ей так трудно радоваться всему, что обогатило ее жизнь. Она привыкла смотреть на мир из состояния дефицита, и в результате радость покинула ее. Если вы долго чувствуете себя покинутым, если вы уже знаете, каково это, когда люди разочаровывают или отталкивают вас… что ж, это, может быть, и нехорошо, но, по крайней мере, вас уже не удивить – вы знаете обычаи. Однажды шагнув на незнакомую территорию (например, если вы проводите время со значимыми людьми, которые находят вас привлекательным и интересным), вы можете встревожиться и почувствовать себя дезориентированным. Ничто вдруг не выглядит знакомо. У вас нет ориентиров, нет ничего, к чему можно стремиться, и вся предсказуемость мира, в котором вы жили, исчезает. Место, откуда вы пришли, может быть неидеальным или попросту ужасным, но вы совершенно точно знаете, что там: разочарование, хаос, изоляция, критиканство.
Я говорила об этом с Ритой, о том, как столько лет своей жизни она хотела не быть невидимкой, мечтала стать заметной, и теперь это случилось – в ее отношениях с соседями, с людьми, которые покупали ее картины, в заявлении Майрона о романтическом интересе. Эти люди радовались ее обществу, восхищались ей, желали ее, замечали ее – и она все равно не могла признать, что произошло нечто позитивное.
– Вы продолжаете ждать подвоха? – спрашиваю я. Для такого иррационального страха есть специальный термин – «херофобия» (от греческого chero – «радоваться»). Если говорить в разрезе удовольствия, люди с херофобией похожи на тефлоновые сковородки: к ним ничего не прилипает (однако боль пристает к ним, как к несмазанным поверхностям). Это общая черта всех людей с травматичной историей – ждать катастрофы прямо за углом. Вместо того чтобы довериться тому доброму, что встречается на пути, они становятся сверхбдительными, все время ожидая, что что-то пойдет не так. Возможно, именно поэтому Рита все еще достает салфетки из сумочки, даже несмотря на то, что она знает: свежая коробка стоит рядом с ней на столе. Лучше не привыкать к полной коробке салфеток, или суррогатной семье за соседней дверью, или к людям, покупающим твои работы, или мужчине, о котором ты мечтаешь и который одарил тебя страстным поцелуем на парковке. Не обманывай себя, сестра! Как только тебе станет слишком комфортно – вжух! – все исчезнет. Для Риты радость – это не удовольствие, это отсутствие боли.
Рита смотрит на меня, кивая.
– Именно так, – говорит она. – Подвох всегда есть.
Он был, когда она пошла в колледж, когда вышла замуж за алкоголика, когда она получила еще два шанса на любовь, но и те пустила по ветру. Это случилось, когда ее отец умер, и она наконец – наконец! – начала общаться со своей матерью – только для того, чтобы узнать, что той диагностировали болезнь Альцгеймера, после чего Рите пришлось заботиться об этой женщине, которая уже перестала ее узнавать, двенадцать долгих лет.
Конечно, Рита не должна была перевозить мать к себе в квартиру – она сама это выбрала, потому что несчастья ее устраивали. В то время ей ни разу не пришло в голову спросить себя, должна ли она заботиться о матери, которая не заботилась о ней самой, когда она росла. Она не задавалась самым сложным из вопросов: что я должна моим родителям, и что они должны мне? Она могла найти для матери сиделку. Рита обдумывает это, пока мы говорим, но потом утверждает, что если бы ей пришлось сделать это снова, то она бы все равно сделала тот же выбор.
– Я получила то, что заслужила, – объясняет она. Она заслужила несчастья за все свои преступления: разрушенные жизни детей, недостаток сострадания к горю второго мужа, так и не устроенную собственную судьбу. Что ей кажется ужасным, так это ее недавние проблески счастья. Она чувствует себя мошенницей, выигравшей в лотерею по украденному билету. Если бы люди, которые недавно пришли в ее жизнь, узнали ее на самом деле, они преисполнились бы отвращения. Они бы убежали, сверкая пятками! Ей самой отвратительно. И даже если ей удастся провести кого-то на время, несколько месяцев или год, как она может быть счастлива, когда ее дети так несчастны – из-за нее? Это же нечестно, правда? Как человек может сотворить нечто столь ужасное и до сих пор нуждаться в любви?
Вот почему, говорит она, для нее нет надежды. Она комкает салфетку в руке. Слишком многое случилось. Слишком много ошибок сделано.
Я смотрю на Риту и замечаю, как молодо она выглядит, когда говорит мне это: ее щеки надуты, руки сложены на груди. Я представляю ее девочкой в доме, в котором она провела детство: с рыжими волосами, стянутыми повязкой, она гадает, сидя в одиночестве в комнате, в чем она провинилась, раз родители так отдалились от нее. Они злятся на меня? Я сделала что-то, что расстроило их до такой степени, что они перестали мной интересоваться? Они так долго ждали появления ребенка – может быть, она жила не так, как они надеялись?
Еще я думаю о четырех детях Риты. Об их отце – адвокате, который мог быть веселым в одну минуту и пьяным и агрессивным в следующую. Об их матери, Рите, отдаленной, ищущей оправдания для мужа, делая обещания от его имени, которые, они знали, были ложью. Каким же странным и ограничивающим было их детство. Как разъярены они, должно быть, сейчас. Как мало в них желания общаться матерью, которая несколько раз за последние годы появлялась у них на пороге, плача и умоляя восстановить отношения. Они наверняка думают: у всего, чего она хочет, только одна причина – ее благо, исключительно ее благо. Мне кажется, что дети Риты не хотят с ней разговаривать потому, что они не могут дать ей той единственной вещи, которой она, по всей видимости, хочет, даже если никогда не просила об этом прямо: прощения.
Мы с Ритой говорили о том, почему она не защитила своих детей, почему она позволяла мужу бить их, почему она проводила время за чтением, или рисованием, или игрой в теннис, а не за общением с ними. И когда мы развеяли те оправдания, которые она сочиняла годами, мы докопались до того, о чем она и не подозревала: Рита завидовала своим детям.
Это не было чем-то необычным. Возьмите любую мать, которая выросла в семье, где постоянно не хватало денег, и которая каждый раз, когда ее ребенок получает новую пару обуви или новую игрушку, увещевает: «Посмотри, как тебе повезло». Подарок, обернутый критикой. Возьмите отца, который вместе с сыном едет с сыном на экскурсию по перспективному колледжу, в который сам не смог поступить, хотя очень мечтал, и на протяжении всего тура отпускает нелестные замечания об учебной программе и общежитиях – не только смущая сына, но и, возможно, снижая его шансы на поступление.
Почему родители так себя ведут? Часто они завидуют детству своих детей: их возможностям, их финансовой или эмоциональной стабильности, тому факту, что у них впереди целая жизнь – отрезок времени, который для родителей уже остался в прошлом. Они стремятся дать детям все то, чего не имели сами, но иногда, даже не осознавая этого, начинают злиться на них за такое везение.
Рита завидовала тому, что у ее детей были братья и сестры, был уютный дом с бассейном, что они могли бывать в музеях и путешествовать. Она завидовала тому, что у них молодые, энергичные родители. И отчасти именно ее неосознанная зависть – ее гнев из-за подобной несправедливости – не позволила ей обеспечить им счастливое детство, которого у нее не было. Зависть удержала ее от того, чтобы спасти их – так же, как она сама безумно хотела быть спасенной будучи ребенком.
Я обсуждала Риту в своей консультационной группе. Несмотря на ее мрачный, как у Иа-Иа, фасад, сказала я коллегам, она теплая и интересная. А поскольку я не была ребенком, пострадавшим от нее, я могла наслаждаться общением с Ритой так же, как наслаждалась бы общением с подругой родителей. Она мне очень нравилась. Но можно на самом деле ожидать от ее детей прощения?
Простила ли я ее, спросили члены группы. Я подумала о сыне, и мне стало плохо от мысли, что кто-то ударит его, и я позволю этому случиться.
Я не была уверена.
Прощение – коварная штука, как и извинения. Вы извиняетесь, чтобы почувствовать себя лучше или чтобы другой почувствовал себя лучше? На самом ли деле вы сожалеете о сделанном – или же просто пытаетесь задобрить другого человека, который считает, что вы должны чувствовать себя виноватым за то, что вы сами считаете оправданным? Для кого это извинение?
В психотерапии есть термин «вынужденное прощение». Иногда люди считают, что чтобы оставить травму в прошлом, они должны простить того, кто причинил ее: родителя, который их сексуально домогался, грабителя, который обчистил дом, бандита, который убил их сына. Благонамеренные люди говорят им, что, не сумев простить, они будут держать гнев в себе. Конечно, для некоторых прощение может стать освобождением: вы прощаете человека, который обидел вас, не потворствуя его действиям, и это позволяет вам двигаться дальше. Но слишком часто на людей давят, и они начинают верить, что с ними что-то не так, раз они еще не могут это сделать – что они недостаточно просветленные, или сильные, или сострадающие.
Что я говорю на это? Быть сострадательным можно и без прощения. Есть много способов двигаться дальше, и изображать определенные чувства – не один из них.
У меня был пациент по имени Дейв, чьи отношения с отцом были весьма напряженными. Отец, по словам Дейва, был просто невыносим – он оскорблял и критиковал своих сыновей, зацикливаясь на себе. Дети начали сторониться его еще в юности, а когда стали взрослыми, отдалились окончательно. Когда отец умирал, Дейву было пятьдесят лет, он был женат и растил собственных детей. И он не знал, что сказать на похоронах. Что прозвучало бы как правда? А потом он рассказал мне, что, когда отец лежал на смертном одре, он дотянулся до руки сына и неожиданно сказал: «Я бы хотел лучше обращаться с тобой. Я был козлом».
Дейв взбесился: неужели отец ожидает отпущения грехов сейчас, когда поезд ушел? Ему казалось, что исправляться надо задолго до того, как ты покинешь этот мир, а не перед самым отбытием. Нельзя автоматически получить дар прощения только лишь потому, что лежишь при смерти.
Он не мог ничего с собой поделать и сказал отцу: «Я не прощаю тебя». Он ненавидел себя за сказанное, пожалев об этом в ту же секунду. Но после всей той боли, что отец ему причинил, после всего того, что он сам сделал, чтобы обеспечить хорошую жизнь себе и своей семье, будь он проклят, если решит ублажить отца сладкой ложью. Он провел все детство во лжи. Но все равно думал, кем надо быть, чтобы сказать такое умирающему отцу.
Он начал извиняться, но отец перебил его. «Я понимаю, – сказал он. – На твоем месте я бы тоже себя не простил».
А потом, сказал мне Дейв, произошла очень странная вещь. Сидя там, держа отца за руку, он почувствовал, как что-то изменилось. Он впервые в жизни почувствовал истинное сострадание. Не прощение, но сострадание. Сострадание к печальному умирающему человеку, который наверняка тоже испытывал боль. И именно это сострадание помогло Джеку говорить искренне на похоронах отца.
Именно сострадание помогло мне помочь Рите. Я не хотела прощать ее за то, что она сделала со своими детьми. Как и отец Дейва, Рита должна сама жить с этим. Мы можем жаждать чьего-то прощения, но всему виной самоудовлетворение: мы просим прощения у других, чтобы избежать более тяжкой работы – простить самого себя.
Я подумала о том, что Уэнделл сказал мне, когда я перечисляла все свои достойные сожаления ошибки, за которые с истинным наслаждением себя наказывала: «Как долго, по-вашему, должно длиться наказание за это преступление? Год? Пять? Десять?» Многие из нас изводят себя десятилетиями, даже искренне попытавшись загладить вину. Насколько разумен такой приговор?
Это правда, что в случае Риты на жизнь ее детей сильно повлияли неудачи родителей. Они с детьми всегда будут чувствовать боль от их общего прошлого, но разве не должно быть какого-то искупления? Разве Рита заслуживает преследования день за днем, год за годом? Я хотела быть реалистом, думая о шрамах, которые они все носили, но не хотела быть надзирателем Риты.
Я не могу не думать о ее развивающихся отношениях с девочками из «привет-семейства» напротив: что, если бы она могла предложить своим детям то, что предлагает им?
Я спрашиваю Риту:
– Каким должен быть ваш приговор сейчас, когда вы приближаетесь к семидесяти, учитывая, что преступления вы совершили в двадцать и тридцать лет? Да, серьезные преступления. Но вы раскаивались десятилетиями, вы пытались что-то исправить. Не должны ли вас уже выпустить на свободу, хотя бы по УДО? Как вы думаете, какой приговор будет честным?
Рита обдумывает это.
– Пожизненное заключение, – говорит она.
– Что ж, – говорю я. – Именно это вы и получили. Но я не думаю, что присяжные, в том числе Майрон и «привет-семейство», согласились бы.
– Но люди, о которых я переживаю больше всего, мои дети, никогда меня не простят.
– Мы не знаем, что они сделают. Но если вы будете несчастной, это никак им не поможет. Ваше несчастье не изменит их положение. Вы не можете уменьшить их невзгоды, взяв их на себя. Это так не работает. Есть способы стать лучшей матерью для них, даже на этом этапе жизни. Но приговорить себя к тюремному заключению – не один из них.
Я замечаю, что привлекла внимание Риты.
– Есть только один человек в мире, которому выгодно, что вы не можете наслаждаться ничем хорошим в жизни.
Лоб Риты покрывается морщинами.
– Вы, – говорю я.
Я подчеркиваю, что ее боль может быть защитой, а депрессия – формой избегания. В безопасности своей скорлупы она не должна ничему противостоять, не должна даже выходить в мир, где ее снова могут ранить. Ее внутренний критик отлично справляется: «Я не должна предпринимать никаких действий, потому что я бесполезна». Есть и еще одна выгода в ее несчастье: она может чувствовать, что еще жива в сердце детей, если они наслаждаются ее страданиями. Хоть кто-то помнит о ней, даже в отрицательном смысле – с этой точки зрения, она не окончательно забыта.
Она смотрит на салфетку, как будто совсем иначе видит боль, которую носила в себе десятилетиями. Кажется, в первый раз Рита замечает, что кризис, в разгаре которого она находится – битва между тем, что Эрик Эриксон назвал целостностью и отчаянием.
Интересно, что она выберет?
42 Моя нешама
Я обедаю со своей коллегой Каролиной.
Мы обмениваемся новостями, в том числе и из личной практики, а потом Каролина спрашивает, помог ли рекомендованный ей Уэнделл моему другу. В качестве отступления она говорит, что наш звонок навеял воспоминания о годах, когда они с Уэнделлом вместе учились в аспирантуре. Их одногруппница была сильно в него влюблена, но без взаимности, и Уэнделл начал встречаться с другой…
Воу! Я останавливаю ее. Не могу это слышать. Рекомендация, признаюсь я, была нужна мне.
На секунду Каролина выглядит потрясенной, а потом смеется, и чай со льдом брызжет у нее из носа.
– Извини, – говорит она, вытирая лицо носовым платком. – Я думала, что отправляю к нему женатого мужчину. Я даже представить не могу тебя и Уэнделла!
Я понимаю, что она имеет в виду. Трудно представить своего знакомого пациентом другого своего знакомого, особенно если вы знаете друг друга со времен аспирантуры. Вы слишком много знаете о них обоих.
Я говорю ей, что тогда мне было слишком стыдно – после расставания, после фиаско с книгой, с учетом проблем со здоровьем. Она делится собственными трудностями с попыткой забеременеть вторым ребенком. Ближе к концу нашего обеда она рассказывает мне о трудной пациентке и говорит, что во время первой консультации даже не представляла, насколько изматывающей она будет – какой резкой, требовательной… считающей, что ей все должны.
– У меня тоже есть такой, – говорю я, думая о Джоне. – Но со временем он начал мне немного нравиться. Настолько, что я искренне переживаю за него.
– Надеюсь, с моей так тоже получится, – говорит Каролина. Потом, подумав, добавляет: – Но если нет, могу я направить ее к тебе? У тебя есть время?
По интонации я понимаю, что она шутит – по большей части. Я вспоминаю, как рассказывала в своей консультативной группе о Джоне, его ненормальном эго и постоянных подколках. Иан сострил: «Ну, если ничего не поможет, просто убедись, что направляешь его к тому, кто тебе не нравится».
– О нет, – говорю я, качая головой. – Не посылай ее ко мне.
– Тогда я порекомендую ее Уэнделлу! – говорит Каролина. И мы смеемся.
– В общем, – говорю я Уэнделлу утром следующей среды, – я обедала с Каролиной на прошлой неделе.
Он молчит, но его глаза-магниты смотрят на меня. Я начинаю рассказывать ему, что Каролина думает о своей пациентке и что иногда я думаю то же самое о своих пациентах, как и любой другой психотерапевт. Но это все равно, говорю я, беспокоит меня. Не слишком ли сурово мы судим людей? Достаточно ли в нас сочувствия?
– Я не могу понять почему, – продолжаю я, – но у меня всю неделю странное ощущение от этого разговора. Мне некомфортно, а во время обеда такого не было, и…
Уэнделл хмурится, словно пытаясь проследить ход моих мыслей.
– Я думаю о профессии, – говорю я, пытаясь прояснить мысль. – Мы не можем держать все внутри, но в то же самое время…
– У вас есть ко мне вопрос? – перебивает Уэнделл.
Я понимаю, что есть. Причем много. Рассказывает ли Уэнделл обо мне коллегам за обедом? По-прежнему ли я вызываю у него те же впечатления, что и моя пациентка Бекка у меня – перед тем, как я от нее отказалась?
Однако Уэнделл использовал единственное число – не «У вас есть ко мне вопросы?», а «У вас есть ко мне вопрос?». Он сделал так, понимаю я, потому что все они порождены одним жизненно важным вопросом, столь загруженном смыслами, что я не знаю, как произнести его вслух. Есть ли что-то, что заставляет нас чувствовать себя еще более уязвимыми, чем вопрос «Я вам нравлюсь?».
Похоже, работа психотерапевтом не дает автоматический иммунитет: я взаимодействую с Уэнделлом в том же ключе, в каком взаимодействуют со мной мои пациенты. Он порой выводит меня из равновесия. Недавно мне пришлось заплатить за отмененную по болезни встречу (хотя у меня точно такая же политика в отношении отмены сессий). Я не всегда говорю ему то, что должна, и я невольно (или вольно) искажаю его слова. Я всегда полагала, что, когда Уэнделл закрывает глаза во время нашей сессии, это значит, что ему нужно что-либо обдумать. Но сейчас я гадаю, может ли это быть чем-то большим, чем просто кнопкой перезагрузки. Может быть, он говорит себе: «Прояви сочувствие, прояви сочувствие, прояви сочувствие» – как когда-то я с Джоном.
Как и большинство пациентов, я хочу, чтобы психотерапевту была приятна моя компания, чтобы он уважал меня, но в конечном счете я хочу что-то значить для него. Чувствовать каждой клеточкой тела, что ты важен – часть той алхимии, которая возникает во время хорошей психотерапии.
Гуманистический психолог Карл Роджерс практиковал то, что он называл «клиентоцентрированной психотерапией», центральным принципом которой было безусловное позитивное отношение. Его переход от использования термина «пациент» к «клиенту» был характерен для отношения к людям, с которыми он работал. Роджерс полагал, что позитивные отношения между психотерапевтом и клиентом – необходимая часть лечения, а не только средство достижения цели, что было новаторским концептом для середины двадцатого столетия, когда он его предложил.
Но безусловное позитивное отношение необязательно означает, что психотерапевту нравится клиент. Это значит, что специалист должен относиться с теплом и без осуждения, а главное – искренне верить в способность клиента расти в поощрительной и поддерживающей среде. Это каркас для способности ценить и уважать человеческое право на самоопределение, даже если его выбор противоречит вашему. Безусловное позитивное отношение – это подход, а не чувства.
Я хочу большего, чем безусловное позитивное отношение от Уэнделла – я хочу ему нравиться. Мой вопрос, оказывается, заключается не только в том, чтобы выяснить, значу ли я что-то для Уэнделла. Он еще и о том, чтобы узнать, что он значит для меня.
– Я вам нравлюсь? – пищу я, чувствуя себя жалко и неловко. А что он вообще может сказать? Он не скажет нет. Даже если я ему не нравлюсь, он может ответить вопросом на вопрос: «А как вы думаете?», «Интересно, почему вы спрашиваете об этом сейчас?» Или он может спросить, что бы я ответила Джону, если бы он задал мне этот вопрос в самом начале. И я бы сказала ему правду о своих ощущениях – чуть меньше о своем отношении к нему, чуть больше о том, как трудно его понять, когда он все время держит меня на расстоянии.
Но Уэнделл не делает ничего из этого.
– Вы мне нравитесь, – говорит он так, что я чувствую, что он именно это и имеет в виду. Это не звучит ни банально, ни сентиментально. Это так просто – и так неожиданно воодушевляюще в своей простоте. Да, вы мне нравитесь.
– Вы мне тоже нравитесь, – говорю я, и Уэнделл улыбается.
Он говорит, что, хотя я хочу нравиться за ум или веселость, ему нравится моя нешама, что на иврите значит «дух» или «душа» (а буквально переводится как «дыхание».) Концепт понятен без разъяснений.
Я рассказываю Уэнделлу о недавней выпускнице колледжа, которая, размышляя о карьере психотерапевта, спросила, нравятся ли мне мои пациенты, потому что, в конце концов, это те, с кем психотерапевт ежедневно проводит все свое рабочее время. Я сказала, что иногда они кажутся мне немного странными, но чаще всего это происходит потому, что они путают меня с кем-то другим из прошлого, кто может не знать их так, как знаю я. Даже если так, сказала я этой молодой женщине, я искренне привязана к своим пациентам – к их уязвимостям, их храбрости, их душам. Как говорит Уэнделл, к их нешаме.
– Но в профессиональном смысле, да? – настаивала молодая женщина, и я видела, что она не до конца меня понимает, потому что пока я не начала работать с пациентами, я и сама не понимала. И когда становишься пациентом, трудно об этом помнить – но Уэнделл только что напомнил мне.
43 Чего не стоит говорить умирающему
– Так не работает! – говорит Джулия. Она рассказывает о коллеге из Trader Joe’s, у которой случился выкидыш, а другая кассирша, пытаясь ее утешить, сказала: «Все происходит по какой-то причине. Значит, этому ребенку не суждено было рождаться».
– «Все происходит по какой-то причине» – это не так работает! – повторяет Джулия. – Нет никакого высшего плана, согласно которому у тебя должен быть выкидыш, или рак, или твоему ребенку суждено погибнуть от рук какого-то психа!
Я понимаю, о чем она. Люди отпускают непрошеные комментарии по любому поводу, особенно трагичному, и Джулия размышляет над написанием книги под названием «Чего не стоит говорить умирающему: Руководство для Благонамеренных, но Бестолковых».
Согласно Джулии, таких вещей достаточно. Ты уверена, что умираешь? Ты уже проконсультировалась у другого врача? Будь сильной. Каковы твои шансы? Тебе надо меньше нервничать. Надо изменить свое отношение к этому. Ты справишься! Я знаю человека, который принимал витамин К и вылечился. Я читал о новой терапии, которая уничтожает опухоли – на мышах, но тем не менее. У тебя это точно не наследственное? (Если бы ответ был положительным, спрашивающему стало бы спокойнее: все можно объяснить генетикой!) На днях кто-то сказал Джулии: «Я знал женщину с таким же видом рака, что и у вас». «Знал?» – переспросила Джулия. «Ну да, – смущенно ответил тот. – Она, гм, умерла».
Пока Джулия перебирает список того, чего не надо говорить, я думаю о других пациентах, которые жаловались на слова людей в разные трудные времена. У тебя есть еще один ребенок. По крайней мере, он прожил долгую жизнь. Она теперь в лучшем месте. Когда ты будешь готов, ты всегда сможешь завести другую собаку. Прошел год, может быть, пора жить дальше?
Конечно, все эти комментарии призваны утешать, но это также способ говорящих защититься от неудобных чувств, которые вызывает в них что-то плохое, произошедшее с другими. Банальности вроде этих делают ужасную ситуацию более удобной для человека, который их произносит, но оставляют того, для кого они предназначены, злым и одиноким.
– Люди думают, что если они будут говорить обо мне как об умирающей, то это станет реальностью, но ведь это уже реальность, – говорит Джулия, качая головой. Мне тоже это кажется правильным, и не только в тех случаях, когда дело касается смерти. Умалчивание не делает ситуацию менее реальной – скорее более страшной. Для Джулии худшим стало молчание: люди начали избегать ее, чтобы им не приходилось вступать в разговор и говорить все эти ужасные вещи. Она бы предпочла глупости тотальному игнорированию.
– Что бы вы хотели, чтобы говорили люди? – спрашиваю я.
Джулия думает об этом.
– Они могут сказать: «Мне так жаль». Или: «Чем я могу помочь?» Или «Я чувствую себя таким беспомощным, но я переживаю за тебя».
Она меняет положение на диване. Одежда на ее истончившемся теле висит мешком.
– Они могут быть честными! – продолжает она. – Одна женщина брякнула: «Я понятия не имею, что сказать» – и мне стало намного легче! Я сказала ей, что пока не заболела, тоже не знала, что говорить в таких случаях. В университете, когда мои студенты узнали, первое, что они сказали: «Как же мы без вас!» – и это тоже хорошо, потому что это выражает то, как они ко мне относятся. Люди говорили: «Не-е-ет!» или «Я всегда не связи, звони, если захочешь поболтать или просто развеяться». Они помнили, что я – все еще я. Что я все еще их подруга, а не просто раковый пациент, и они могут поговорить со мной о своей жизни, о работе и последнем эпизоде «Игры престолов».
Одна вещь удивляет Джулию в процессе наблюдений за собственным умиранием – насколько живым стал ее мир. Все, что она воспринимала как должное, рождало ощущение откровения, как будто она снова была ребенком. Вкусы: сладость клубники, сок которой стекает по подбородку, или нежная выпечка, тающая во рту. Запахи: цветы на лужайке перед домом, духи коллеги, морские водоросли, выброшенные на берег, потное тело Мэтта в постели ночью. Звуки: струны виолончели, визг машины, смех племянника. Впечатления: танцы на дне рождения, наблюдение за людьми в кафе, покупка красивого платья, открытие писем. Все это, каким бы мирским оно ни было, бесконечно радует ее. Она стала гиперприсутствующей. Когда люди слепо верят в то, что у них есть все время этого мира, заметила она, они становятся ленивы.
Она не ожидала испытать подобное удовольствие в своем горе, и это в некотором смысле бодрит ее. Но даже пока она умирает, осознала она, жизнь продолжается: пока рак распространяется по ее телу, она по-прежнему проверяет Твиттер. Поначалу она думала, зачем терять даже десять минут из оставшегося времени на такую ерунду. А потом решила: «Почему нет? Мне нравится Твиттер!»
Она также старалась не зацикливаться на том, что теряет. «Пока я могу нормально дышать, – говорила мне Джулия. – Становится труднее, и я печалюсь. Но сейчас я дышу».
Она приводит еще примеры того, что помогает ей, когда она говорит людям, что умирает.
– Объятия – это здорово, – говорит она. – И еще «Я люблю тебя». Мое самое любимое – это простое «Я люблю тебя».
– Кто-то так говорил? – спрашиваю я.
Мэтт говорил, отвечает она. Когда они узнали, что у нее рак, его первые слова были не «Мы справимся» или «Черт!», а «Джулс, я так тебя люблю». Это все, что ей нужно было знать.
– Любовь побеждает, – говорю я, ссылаясь на историю, которую Джулия однажды мне рассказала. Когда-то ее родители переживали непростой период и расстались на пять дней – ей в то время было двенадцать. К концу недели они снова были вместе, и когда Джулия с сестрой спросили, почему, отец с нежностью посмотрел на мать и сказал: «Потому что в конце концов любовь побеждает. Всегда помните это, девочки».
Джулия кивает. Любовь побеждает.
– Если я напишу эту книгу, – говорит она, – может быть, я скажу, что лучшие ответы, которые я получала, шли от людей, которые говорили от чистого сердца и не редактировали сами себя. – Она смотрит на меня. – От вас, например.
Я пытаюсь вспомнить, что сказала, когда Джулия сообщила мне, что она умирает. В первый миг я почувствовала себя неуютно, во второй – опустошенно. Я спрашиваю Джулию, что она помнит. Она улыбается.
– Оба раза вы сказали одно и то же, и я этого никогда не забуду, потому что не ожидала такого от психотерапевта.
Я качаю головой. Не ожидала чего?
– Вы невольно произнесли таким тихим, грустным голосом: «О, Джулия…» – что было идеальным ответом, но то, что вы не сказали, значило больше. Вы прослезились, но я заметила, что вы не хотели бы, чтобы я это видела, поэтому не сказала ничего.
Картинка постепенно вырисовывается у меня в голове.
– Я рада, что вы видели мои слезы, и вы могли что-нибудь сказать. Я надеюсь, теперь будете.
– Ну, сейчас я бы сказала. После того как мы вместе написали мой некролог, думаю, я прямо открытая книга.
Несколько недель назад Джулия закончила писать свой некролог. Мы в то время вели весьма серьезные беседы, обсуждая, например, как она хотела бы умереть. С кем бы она хотела быть и где. Чего бы она хотела для утешения и спокойствия. Чего она боялась. Какие похороны планировала. Как и что она хотела сообщить людям.
Даже обнаружив скрытые стороны своей личности после постановки онкодиагноза – более спонтанные, более гибкие, – в душе она по-прежнему была человеком планирующим, и если она собиралась примириться со своей ранней смертью, ей следовало по возможности сделать это так, как она сама бы этого хотела.
Обсуждая ее некролог, мы говорили о том, что было самым важным для нее. Это профессиональные успехи, ее страсть к науке и любовь к студентам. Это субботние утра в Trader Joe’s и ощущение свободы, которое она там нашла. Это Эмма, которая, подав с помощью Джулии документы на финансовую помощь, смогла сократить число смен в супермаркете и поступить в колледж. Это были ее друзья, с которыми она бегала марафоны и с которыми виделась в книжном клубе. В начале списка был ее муж («Лучший человек в мире, с которым можно было бы прожить долгую жизнь, – сказала она, – но и лучший, с которым можно встретить смерть»), ее сестра, племянник и новорожденная племянница (Джулия была их крестной матерью). Там же были родители и бабушки с дедушками (все четверо), которые не могли понять, как в такой семье долгожителей Джулия умирает такой молодой.
– Как будто мы проводим эту терапию на стероидах, – сказала Джулия обо всем, что случилось с момента нашего знакомства. – Как будто наш с Мэттом брак тоже на стероидах. Мы все должны впихнуть так быстро, насколько это возможно.
Джулия поняла, говоря о впихивании, что если ее и злит такая короткая жизнь, то лишь потому, что та была хорошей. Вот почему после нескольких черновиков она решила сделать свой некролог простым: «Каждый день из тридцати пяти лет ее жизни, – гласил, по ее желанию, текст, – Джулию Каллахан Блу любили».
Любовь побеждает.
44 Письмо Бойфренда
Я сижу за рабочим столом и занимаюсь своей счастливой книгой, продираюсь через очередную главу. Я мотивирую себя мыслью: если я сдам эту книгу, то в следующий раз напишу что-то по-настоящему важное (чем бы оно ни было). Чем быстрее я закончу это, тем быстрее смогу вернуться на свежую почву (где бы та ни была). Я принимаю неопределенность. И я действительно пишу книгу.
Звонит моя подруга Джен, но я не беру трубку. Недавно я посвятила ее в детали своих проблем со здоровьем, и она была столь же полезной, как и Уэнделл – не в поисках диагноза, а в том, чтобы помочь мне смириться с его отсутствием. Я узнала, как быть в порядке, не будучи полностью в порядке, одновременно с этим планируя консультации со специалистами, которые могли бы отнестись к моему состоянию более серьезно. Больше никаких докторов с блуждающими матками.
Но сейчас я должна закончить эту главу – на это я выделила два часа. Я печатаю слова, и они появляются на экране, заполняя страницу за страницей. Я добиваю эту главу так же, как мой сын иногда делает домашние задания: это просто работа, которую нужно закончить. Я дохожу до последней строчки главы и награждаю себя: теперь можно проверить почту и позвонить Джен! У меня есть пятнадцать минут перерыва – а затем следующая глава. Конец уже близко, остался один финальный раздел.
Я болтаю с Джен и просматриваю письма, пока внезапно не вскрикиваю. Во входящих сообщениях имя Бойфренда выделено жирным шрифтом. Я в шоке: я не слышала о Бойфренде восемь месяцев, с тех времен, как пыталась получить ответы и носила свои многостраничные заметки в кабинет Уэнделла.
– Открывай! – откликается Джен, как только я рассказываю ей, но я просто таращусь на имя Бойфренда. У меня крутит живот, но не так, как тогда, когда я надеялась, что он передумает. Просто даже если он сейчас скажет, что на него снизошло озарение и он все-таки хочет быть вместе, я, без сомнения, отвечу нет. Нутро подсказывает мне две вещи: что я не хочу больше быть с ним и что, несмотря на это, воспоминания о произошедшем все еще ранят. Что бы он ни хотел сказать, это меня расстроит, а я не хочу сейчас на это отвлекаться. Я должна закончить книгу, которая меня не волнует, чтобы написать о чем-то, что меня на самом деле волнует. Может быть, говорю я Джен, я прочитаю письмо Бойфренда после того, как выжму из себя еще одну главу.
– Тогда перешли мне, и я прочитаю, – говорит она. – Ты не можешь заставлять меня вот так ждать!
Я улыбаюсь.
– Ладно, ради тебя я его открою.
Письмо шокирующее и предсказуемое одновременно.
Я зачитываю это Джен. Ли – это девушка, с которой мы с Бойфрендом познакомились независимо друг от друга и которую мы оба втайне считали раздражающей. Если бы мы до сих пор встречались, конечно, он бы поделился этой свежей сплетней. Но сейчас? Это настолько неуместно, настолько игнорирует все, что произошло между нами и на чем закончились наши беседы. Выглядит так, словно Бойфренд по-прежнему прячет голову в песок – а я свою уже достала.
– Это все? – спрашивает Джен. – Это все, что Детоненавистник собирался сказать?
Она замолкает, ожидая моей реакции. Я ничего не могу поделать, я потрясена. Для меня его письмо звучит ободряюще поэтично – прекрасный итог всему, что я узнала об избегании в кабинете Уэнделла. Оно даже читается как хайку: три строчки в пять, семь и пять слогов соответственно.
Знаешь, кого я
видел? Ли! Она теперь
моя коллега.
Но Джен не считает это забавным – она в ярости. Не важно, что я ей рассказывала о моей роли в расставании – что хотя Бойфренд мог бы с самого начала быть более откровенным с самим собой и со мной, я также могла бы быть более откровенной с собой и с ним насчет того, чего я хотела, что скрывала – она все еще думает, что он мудак. Я вспоминаю, как пыталась убедить Уэнделла, что Бойфренд мудак; сейчас я осознаю, что пытаюсь убедить другого человека, что это не так.
– Что это вообще значит? – спрашивает Джен о письме. – Почему бы не написать: «Как поживаешь?» Он действительно такой бесчувственный?
– Ничего не значит, – говорю я. – Оно бессмысленно.
Нет смысла анализировать его, придавать ему значение. Джен возмущена, но я с удивлением обнаруживаю, что все это меня не расстраивает. Вместо этого я чувствую себя свободной. Мой живот расслабляется.
– Надеюсь, ты не собираешься на это отвечать, – говорит Джен, но я почти хочу ответить – поблагодарить Бойфренда за то, что он расстался со мной и не стал больше отнимать у меня время. Может быть, у его письма был смысл – на худой конец то, что я получила его в этот конкретный день, имело смысл для меня.
Я говорю Джен, что пойду дальше работать над книгой, но когда мы кладем трубки, я занимаюсь не этим. И не пишу Бойфренду. Ровным счетом так же, как я не хотела бессмысленных отношений, я не хочу писать бессмысленную книгу, несмотря на то, что она на три четверти готова. Если смерть и бессмысленность – предельные заботы, то понятно, почему эта книга, на которую мне плевать, так выводила меня из себя – и почему до этого я отказалась от прибыльной книги о родительстве. Хотя тогда я еще не до конца признавала, что мое тело плохо функционирует, что-то внутри говорило, что я должна понять: мое время ограничено, так что то, как я его проведу, имеет значение. Теперь в моей голове появляется еще одна мысль: когда я умру, я не хочу оставить после себя аналог письма Бойфренда.
Какое-то время я думала, что обойти тюремную решетку – значит закончить книгу, чтобы оставить себе аванс и получить возможность написать следующую. Но письмо Бойфренда заставляет меня задуматься, не трясу ли я те же самые прутья. Уэнделл помог мне отпустить историю о том, что все для меня сложилось бы иначе, если бы я вышла замуж за Бойфренда; нет смысла и держаться за параллельную историю о том, что могла бы принести мне книга о родительстве. И то и другое – лишь фантазии. Конечно, определенные вещи были бы другими. Однако в конечном итоге я все равно буду жаждать смысла, чего-то более глубокого. Прямо как сейчас, с этой глупой книге о счастье, которую, как сказал мой агент, я должна написать по всем практическим соображениям.
Но что, если эта история тоже неправильная? Что, если я на самом деле не должна писать эту книгу, которую, по словам моего агента, должна сдать, чтобы не столкнуться с катастрофическими последствиями? На каком-то уровне мне уже некоторое время известен ответ; теперь, внезапно, я знаю его с другого ракурса. Я думаю о Шарлотте и о стадиях изменений. Я решаю, что готова к «действию».
Я возвращаю пальцы на клавиатуру, на этот раз – чтобы написать письмо редактору издательского дома: «Я хочу расторгнуть контракт».
После краткого сомнения я делаю глубокий вдох, затем нажимаю «Отправить», и оно улетает – моя правда наконец мчится через киберпространство.
45 Борода Уэнделла
В Лос-Анджелесе солнечный день, у меня хорошее настроение, и я паркую машину на улице напротив офиса Уэнделла. Мне как будто не нравится быть в хорошем настроении в дни психотерапии – о чем тогда говорить?
На самом деле я знаю. Сессии, на которые пациенты приходят, не испытывая актуальный кризис и не задавая тему обсуждения, могут быть самыми откровенными. Когда мы даем свободу своему разуму, он переносит нас в самые интересные и неожиданные места. Пока я иду с парковки к зданию, где находится кабинет Уэнделла, я слышу песню, доносящуюся из чьей-то машины: Imagine Dragons – «On Top of the World». Проходя по коридору к кабинету, я начинаю напевать ее – а когда открываю дверь в приемную, замолкаю в растерянности.
Упс – это не приемная Уэнделла. Увлекшись песней, я открыла не ту дверь! Я смеюсь над своей ошибкой.
Я выхожу и закрываю дверь, затем оглядываюсь, чтобы сориентироваться. Проверяю номер на двери, который подтверждает, что я все-таки в правильном месте. Я снова открываю дверь, но то, что я вижу, совершенно не похоже на комнату, которую я знаю. На минуту я впадаю в панику, как во сне: где я?
Приемная Уэнделла полностью изменилась. Новый цвет стен, новое напольное покрытие, новая мебель и новые картины – потрясающие черно-белые фотографии. Исчезли вещи, которые мне казались позаимствованными из дома его родителей. Исчезли вазы с мерзкими искусственными цветами – на их месте стоит керамический кувшин и чашки для воды. Единственное, что осталось на месте – машина для белого шума; она создает завесу, за которой никто не услышит сказанного по ту сторону стены. Такое чувство, будто я попала в финальную серию одного из многочисленных шоу про ремонт, где помещение становится неузнаваемым в сравнении с несчастным первоначальным состоянием. Я хочу охать и ахать, как владельцы жилищ в этих передачах. Все выглядит прекрасно – просто и незагроможденно, но при этом немного экстравагантно, как сам Уэнделл.
Мое привычное кресло тоже исчезло, так что я сажусь в одно из новых – с броскими стальными ножками и кожаной спинкой. Я не видела Уэнделла две недели и полагала, что его отсутствие в офисе означает, что он в отпуске – может быть, даже в доме детства со своей большой семьей. Я представляла всех его братьев, сестер, племянников и племянниц, о которых узнала из интернета и пыталась нарисовать в воображении Уэнделла, отдыхающего с ними, дурачащегося с детьми или расслабляющегося с пивом на озере.
Но теперь я понимаю, что в это время проходила и реновация. Мое хорошее настроение рассеивается, и я начинаю задаваться вопросом, была ли я по-настоящему довольна жизнью или же испытала в отсутствие Уэнделла «полет к здоровью». Полет к здоровью – это явление, во время которого пациент убеждает себя, что он внезапно справился со своими проблемами, потому что, сам того не понимая, он не может перенести тревожность, сопутствующую работе над ними.
Чаще всего у пациента проходит, скажем, трудная сессия, посвященная детской травме. На следующей неделе он приходит и говорит, что психотерапия больше не нужна: «Я чувствую себя превосходно! На той сессии наступил катарсис!» Полет к здоровью встречается особенно часто, когда психотерапевт или пациент уезжает, и во время этого перерыва защита человека вновь активизируется. «Я чувствовал себя так хорошо в последние несколько недель. Я не думаю, что мне и дальше нужна психотерапия». Иногда эти перемены настоящие. В других случаях пациенты внезапно уходят – но только для того, чтобы вернуться.
Полет к здоровью это или нет, но я дезориентирована. В комнате стало намного лучше, но я испытываю нечто вроде тоски по старой паршивой обстановке – точно так же я отношусь и к своим внутренним трансформациям. Уэнделл стал моим шоу о преображении, запустив процесс внутренних перемен. Несмотря на то что сейчас я чувствую себя значительно лучше – в «настоящий момент», потому что, в отличие от изменений декора, у нас нет никакого «после», пока мы не умерли, – иногда я думаю о «до» с извращенной ностальгией.
Я не хочу, чтобы оно вернулось, но я рада, что помню его.
Я слышу скрип двери в кабинете Уэнделла и его шаги по новым кленовым полам, пока он идет, чтобы встретить меня. Я поднимаю глаза – и пожалуйста, дубль два. Сперва я не узнала приемную, а теперь с трудом узнаю Уэнделла. Как будто кто-то меня разыгрывает. Сюрприз! Шутка!
За время своего двухнедельного отсутствия он отрастил бороду. Еще он сменил кардиган на удобную офисную рубашку, разношенные лоферы на модные слипоны вроде тех, что носит Джон, и выглядит совершенно другим человеком.
– Здравствуйте, – говорит он как обычно.
– Ого, – говорю я немного громче, чем планировала. – Столько перемен. – Я жестом указываю на приемную, но таращусь на его бороду. – Теперь вы и правда выглядите как психотерапевт, – добавляю я, поднимаясь и пряча свое потрясение за шуткой. На самом деле его борода совсем не похожа на те унылые бороды, что по давней традиции виднеются на лицах известных психотерапевтов. Борода Уэнделла стильная. Взлохмаченная. Дерзкая.
Он выглядит… привлекательно?
Я вспоминаю, как ранее отрицала романтический перенос. И я говорила правду – как мне казалось. Но почему сейчас мне так некомфортно? Неужели мое подсознание без моего ведома крутит страстный роман с Уэнделлом?
Я захожу в его кабинет, но задерживаюсь в дверях. Офис тоже изменился. База все та же – L-образная форма дивана, рабочий стол, большой шкаф, книжная полка, столик с салфетками – но цвет стен, ковровое покрытие, картины, кушетка и подушки изменились. Выглядит потрясающе! Ошеломительно. Великолепно. Я, разумеется, о кабинете. Кабинет выглядит шикарно.
– Вы нанимали декоратора? – спрашиваю я, и он кивает головой. Я так и думала. Если предыдущий интерьер был его рук делом, ему однозначно нужна была помощь профессионала. Но обновления идеально подходят Уэнделлу. Новому Уэнделлу. Принаряженному, но все еще скромному Уэнделлу.
Я сажусь на место В, изучаю новые подушки и пристраиваю их за спиной на новой кушетке. Я помню, как нервничала в первый раз, когда села так близко к Уэнделлу, как это место казалось слишком близким, слишком незащищенным. Сейчас я снова чувствую то же самое. Что, если я увлечена Уэнделлом?
Это не было бы чем-то необычным. В конце концов люди обнаруживают, что их влечет к коллегам, супругам друзей и разным мужчинам и женщинам, с которыми они встречаются в течение дня. Почему бы не к психотерапевтам? Особенно к психотерапевтам. В ходе терапии возникают и чувства сексуального характера – а как иначе? Легко смешать интимные переживания романтических отношений или секса с интимным опытом, в ходе которого кто-то уделяет безраздельное внимание деталям вашей жизни, принимает вас полностью, поддерживает без каких-либо условий и отлично вас знает. Некоторые пациенты даже начинают открыто флиртовать, часто не осознавая свои скрытые мотивы (вывести психотерапевта из равновесия; отвлечь его от трудной темы; вернуть себе власть, почувствовав себя беспомощным; отплатить психотерапевту единственным известным пациенту способом). Другие пациенты не флиртуют, зато яростно отрицают любое влечение, как Джон, который сказал мне, что я женщина не того типа, которую он бы выбрал в любовницы. («Без обид».)
Но Джон часто обращал внимание на мою внешность. «Теперь вы выглядите как настоящая госпожа» (когда я делала мелирование); «Стоит быть поосторожнее, некоторые могут заглянуть в декольте» (когда я надевала блузку с V-образным вырезом); «Это ваши самые убийственные туфли на после работы?» (когда я надевала каблуки). Каждый раз я пыталась обсудить его «шутки» и чувства, которые за ними лежали.
И вот теперь я сама отпускаю глупые шутки в адрес Уэнделла и нелепо улыбаюсь. Он спрашивает, является ли это реакцией на его бороду.
– Я просто еще не привыкла к ней, – говорю я. – Но вам хорошо. Оставьте так.
Или не оставляйте, думаю я. Может быть, она меня слишком привле… Отвлекает.
Он поднимает правую бровь, и я замечаю, что его глаза сегодня выглядят по-другому. Ярче? И всегда ли у него была эта ямочка? Что вообще происходит?
– Я спрашиваю потому, что то, как вы реагируете на меня, имеет отношение к тому, как вы реагируете на мужчин…
– Вы не мужчина, – перебиваю я, смеясь.
– Нет! – говорю я.
Уэнделл притворяется удивленным.
– Ну, в последний раз, когда я проверял…
– Верно, но вы знаете, что я имею в виду. Вы не мужчина-мужчина. Вы не парень. Вы психотерапевт. – Я с ужасом осознаю, что снова говорю, как Джон.
За несколько месяцев до этого я обнаружила, что мне трудно танцевать на свадьбе из-за какой-то мышечной слабости в левой ноге – всему виной моя таинственная болезнь. На сессии я рассказала Уэнделлу, как грустно мне было смотреть на то, как все остальные танцуют. Уэнделл сказал, что я все еще могу танцевать на здоровой ноге, мне просто нужен партнер.
– Ну, – сказала я, – разве не потеря партнера стала первопричиной того, что я осела здесь?
Но Уэнделл имел в виду не романтического партнера. Он сказал, что я могла бы попросить кого-нибудь – чтобы можно было опереться на другого человека, если мне нужна поддержка, в танце или в чем-то еще.
– Я не могу просто попросить кого-нибудь, – настаивала я.
– Почему нет?
Я закатила глаза.
– Вы можете попросить меня, – сказал он, пожимая плечами. – Знаете, я хороший танцор. – Он добавил, что раньше серьезно занимался танцами.
– Правда? Какими именно? – Я не знала, шутит ли он. Я попыталась представить себе неуклюжего Уэнделла танцующим – как он путается и спотыкается.
– Балетом, – сказал он без тени смущения.
– Но я могу танцевать что угодно, – продолжил он, улыбаясь моему недоверию. – Свинг, модерн. Что бы вы хотели станцевать?
– Ни за что, – сказала я. – Я не буду танцевать со своим психотерапевтом.
Меня беспокоило не то, что в его предложении было что-то непристойное. Скорее я не хотела таким образом тратить время своей сессии. У меня были вещи, о которых я хотела поговорить – например, то, как я справляюсь со своим состоянием здоровья. Но часть меня также знала, что эта интервенция может быть полезной, что танец позволяет нашему телу выразить эмоции тем способом, который иногда неподвластен словам. Когда мы танцуем, мы выражаем свои скрытые чувства, разговаривая через тело, а не через разум – и это может помочь выбраться на новый уровень осознанности. Собственно, отчасти на этом и построена танцевальная психотерапия. Это еще одна техника, которую используют некоторые психотерапевты.
Но все равно – нет.
– Я ваш психотерапевт и мужчина, – говорит мне сегодня Уэнделл, добавляя, что мы все общаемся с людьми по-разному, основываясь на разных вещах, которые в них замечаем. Оставив в стороне политкорректность, мы не слепы эмоционально к таким качествам, как внешний вид, одежда, гендер, раса, этническая принадлежность или возраст. Так работает перенос. Если бы моим психотерапевтом была женщина, говорит он, я бы реагировала на нее так, как реагирую на женщин. Если бы Уэнделл был коротышкой, я бы взаимодействовала с ним как с кем-то, кто скорее низок, чем высок. Если…
Пока он говорит, я не могу перестать таращиться на него-«нового», пытаясь составить свое мнение. Мне кажется, раньше меня не тянуло к Уэнделлу. Меня не тянуло ни к кому. Я горевала, и лишь после постепенного пробуждения я вновь начала чувствовать влечение к миру.
Иногда, когда приходит новый пациент, я спрашиваю не просто «Что привело вас сюда?», а «Что привело вас сюда сейчас?». Сейчас – это главное. Почему в этом году, этом месяце, в этот день вы решили прийти и поговорить со мной? Кажется, что расставание было моим ответом на «почему сейчас», но за ним также скрывались моя растерянность и мое горе.
«Я просто хочу перестать плакать!» – говорила я Уэнделлу раньше, когда чувствовала себя человеком-гидрантом. Но Уэнделл видел это иначе. Он разрешил мне испытывать чувства и напомнил, что, как слишком многие, я путаю «чувствовать меньше» и «чувствовать себя лучше». Однако чувства по-прежнему здесь. Они проявляются в бессознательных поступках, в неспособности сидеть спокойно, в разуме, который ищет очередной повод отвлечься, в потере аппетита или в попытках контролировать аппетит, в нетерпении или – в случае Бойфренда – в дергающейся под одеялом ноге, пока мы сидели в напряженном молчании, за которым скрывалось чувство, которое он носил при себе месяцами: чего бы он ни хотел, это была не я.
Но люди все равно пытаются подавить свои чувства. Всего неделю назад пациентка сказала мне, что не может провести и вечера, не включив телевизор; она засыпала под него и просыпалась через несколько часов. «Куда деваются мои вечера?» – спрашивала она, сидя на кушетке моего офиса. Но настоящий вопрос – куда деваются ее чувства?
Другой пациент недавно сокрушался: «Разве не было бы здорово стать одним из тех людей, которые ничего не обдумывают, которые просто плывут по течению – которые живут неосознанной жизнью?» Я, помнится, ответила, что есть разница между изучением и проживанием, и если мы отключаем чувства, просто скользя по поверхности, то не получаем покоя или радости – мы получаем мертвенность.
Так что это не значит, что я влюбилась в Уэнделла. Это значит, что я наконец воспринимаю его не просто как психотерапевта, но и как мужчину – это свидетельство того, что наша совместная работа помогла мне воссоединиться с человеческой расой. Я снова чувствую влечение. Я даже могу начать ходить на свидания – так, чтобы разведать обстановку.
Перед уходом я задаю свой вопрос из серии «почему сейчас» по поводу изменений в офисе Уэнделла, по поводу его бороды.
– Что заставило вас сделать все это? – спрашиваю я.
Борода, говорит он, стала результатом жизни вне офиса, когда бриться не было необходимости. А когда пришло время возвращаться, он решил, что она ему нравится. Про преображения офиса он отвечает просто:
– Пришло время.
– Но почему сейчас? – спрашиваю я, пытаясь сформулировать следующий вопрос поделикатнее. – Кажется, та мебель была у вас, хм… довольно долго?
Уэнделл смеется. Я плохо спрятала подтекст.
– Иногда, – говорит он, – перемены происходят просто так.
Вернувшись в приемную, я прохожу мимо новой современно выглядящей ширмы, отделяющей выход от кресел. Снаружи горячий воздух поднимается от асфальта, и пока я жду зеленого сигнала светофора, песня Imagine Dragons снова всплывает у меня в голове. «Я ждал, чтобы озариться улыбкой, да. Я сдерживал ее какое-то время». Когда загорается зеленый, я перехожу улицу и смотрю на стоянку, но сегодня я иду не прямиком к своей машине. Я иду дальше по улице, пока не останавливаюсь напротив стеклянной витрины – салона.
Я бросаю взгляд на свое отражение в окне и останавливаюсь, чтобы поправить топ – тот самый, из Anthropologie, который я выбрала для вечернего свидания, – а потом тороплюсь внутрь.
Я как раз успеваю ко времени своей записи на эпиляцию.
Часть четвертая
Хотя в поисках прекрасного мы странствуем по всему свету, мы должны иметь его в себе, иначе нам не найти его.
За минуту до встречи с Шарлоттой я получаю сообщение от мамы. «Пожалуйста, позвони». Обычно она не присылает подобных сообщений, так что я набираю ее номер. Она отвечает после первого же гудка.
– Не волнуйся, – говорит она, что всегда означает: случилось что-то нехорошее. – Но папа в больнице.
Моя рука сжимает телефон.
– С ним все хорошо, – быстро добавляет она. Люди, с которыми все хорошо, не лежат в больницах, думаю я.
– Что случилось? – спрашиваю я ее.
Мама отвечает, что они еще не знают. Она объясняет, что за обедом отец сказал, что чувствует себя нехорошо. Потом его затрясло, появились проблемы с дыханием, и сейчас он в больнице. Похоже на инфекцию, но они не знают, связано это с сердцем или с чем-то еще. «С ним все хорошо, – повторяет она. – С ним все будет хорошо». Я думаю, что она говорит это больше для себя, чем для меня. Нам обеим хочется – нужно – чтобы с отцом все было хорошо.
– Я серьезно, – говорит она. – Все хорошо. Вот, убедись.
Я слышу, как она шепчет что-то отцу, когда передает ему телефон.
– У меня все хорошо, – говорит он вместо приветствия, но я слышу, как ему тяжело дышать. Он рассказывает мне ту же историю про обед и плохое самочувствие, опуская детали про затрудненное дыхание и трясучку. Наверняка его выпишут завтра, говорит он, когда антибиотики подействуют, но когда мама забирает телефон, мы обсуждаем, нет случилось ли чего-то более серьезного. Позже, когда я приеду в больницу вечером, я увижу, что отец выглядит беременным (его живот заполнен жидкостью) и что он получает несколько разных антибиотиков внутривенно – все из-за серьезной бактериальной инфекции, распространившейся по его телу. Его госпитализируют на неделю, жидкость в легких откачают, а сердце стабилизируют.
Но прямо сейчас, положив трубку после разговора с родителями, я понимаю, что на двенадцать минут задержала сессию Шарлотты. Я пытаюсь переключиться, подходя к приемной.
Шарлотта спрыгивает со своего места, когда я открываю дверь.
– Фух! – восклицает она. – Я думала, может быть, я перепутала время, но это же мое обычное время, и потом я подумала, что перепутала день, но нет, сегодня понедельник, так что я подумала, может, чего-то не знаю, но вот и вы.
Все это выходит из нее одним предложением.
– В общем, здравствуйте, – говорит она, следуя за мной в кабинет.
Может показаться неожиданным, но, когда психотерапевты опаздывают, многие пациенты испытывают настоящее потрясение. Хотя мы стараемся избегать этого, каждый психотерапевт из тех, кого я знаю, хоть раз подводил пациента таким образом. И когда мы так делаем, это вызывает старые переживания недоверия или отверженности, заставляя пациентов чувствовать что-то в диапазоне от дискомфорта до ярости.
В кабинете я объясняю, что отвлеклась на срочный телефонный звонок, и извиняюсь за задержку.
– Все хорошо, – беспечно отвечает Шарлотта, но она как будто не в духе. Или это я, после разговора с отцом. «У меня все хорошо», – сказал он. Прямо как Шарлотта. А на самом деле? Шарлотта ерзает на стуле, накручивает на палец прядь волос, оглядывает комнату. Я пытаюсь помочь ей прийти в себя, устанавливая зрительный контакт, но ее взгляд блуждает от окна к картине на стене, потом к подушке, которую она всегда кладет на колени. Одна нога лежит на другой, и Шарлотта быстро болтает ей в воздухе.
– Расскажите, каково для вас было не знать, где я, – говорю я, вспоминая, как несколько месяцев назад я оказалась на ее месте, сидя в приемной Уэнделла и гадая, где он. Залипая в телефон, я заметила, что он опаздывает на четыре минуты, потом на восемь. Через десять минут в мою голову прокралась мысль, что он, возможно, попал в аварию и лежит в больнице.
Я размышляла, стоит ли позвонить ему или оставить сообщение. (Хотя я не знала, что сказать. «Привет, это Лори. Я сижу в вашей приемной. Вы там, по другую сторону двери, заполняете истории болезни? Перекусываете? Вы забыли обо мне? Или умираете?») И как раз в тот момент, когда я подумала, что придется искать нового психотерапевта, в немалой степени для того, чтобы пережить смерть предыдущего, дверь в кабинет Уэнделла открылась. В приемную вышла пара средних лет; мужчина поблагодарил Уэнделла, а женщина натянуто улыбнулась. Первая сессия, предположила я. Или вскрывшаяся связь на стороне. Такие сессии часто затягиваются.
Я пролетела мимо Уэнделла и заняла место перпендикулярно ему.
– Все в порядке, – сказала я, когда он извинился за задержку. – Правда, мои сессии тоже иногда затягиваются. Все в порядке.
Уэнделл посмотрел на меня, подняв правую бровь. Я вздернула брови в ответ, пытаясь сохранить достоинство. Я вся на взводе из-за того, что мой психотерапевт опоздал? Да ладно. Я начинаю смеяться, потом появляются слезы. Мы оба знаем, какое облегчение я испытала, увидев его, и как важен он стал для меня. Эти десять минут ожидания и догадок определенно не были «в порядке».
И сейчас – с натянутой улыбкой на лице, с дергающейся ногой – Шарлотта показывает, как «хорошо» ей было ждать меня.
Я спрашиваю Шарлотту, что, как она думала, случилось, пока меня не было.
– Я не переживала, – говорит она, хотя я ничего не сказала о переживаниях. Потом что-то привлекает мой взгляд в окне, растянутом на всю стену.
Примерно в метре от головы Шарлотты, описывая неимоверно быстрые круги, летают две очень подвижные пчелы. Я никогда не видела пчел за своим окном, в нескольких этажах от земли, и эти двое выглядят так, словно накачались амфетаминами. Может быть, это их брачный танец, думаю я. Но потом еще несколько пчел влетают в поле зрения, и через несколько секунд я вижу целый рой, а единственное, что отделяет их от нас – большой лист стекла. Некоторые приземляются на окно и ползают по нему.
– В общем, вы меня убьете, – начинает Шарлотта, очевидно, не подозревая о пчелах. – Но, эм… я собираюсь сделать перерыв в психотерапии.
Я отрываюсь от пчел и смотрю на нее. Сегодня это звучит неожиданно, и мне требуется некоторое время, чтобы понять, что она только что сказала – особенно потому, что в моем периферическом поле зрения слишком много движения, и я не могу не обращать на него внимания. Теперь там сотни пчел, их так много, что в кабинете темнеет: пчелы сконцентрировались в одной точке и заслоняют свет, словно туча. Откуда они взялись?
В кабинете так мало света, что и Шарлотта это замечает. Она поворачивает голову к окну, и мы сидим так, ничего не говоря, уставившись на пчел. Мне интересно, расстроит ли ее это зрелище, но вместо этого Шарлотта кажется загипнотизированной.
Мой коллега Майк когда-то работал с семьей, в которой была девочка-подросток, а ко мне в это время ходила другая пара. Каждую неделю примерно через двадцать минут от начала сессии мы слушали истерику в офисе Майка: девочка кричала на родителей и вылетала наружу, хлопая дверью; отец кричал, чтобы она вернулась; она вопила «Нет!», а потом Майк уговаривал ее вернуться, успокаивая всех. В первые несколько раз я думала, что это может вывести пару в моем кабинете из равновесия, но оказалось, что это их успокаивало. По крайней мере, это не мы, думали они.
Я ненавижу, когда меня отвлекают – это всегда рассеивает мою сосредоточенность. Точно так же я ненавижу этих пчел. Я думаю об отце, лежащем в больнице в десяти кварталах от меня. Эти пчелы – дурной знак, предзнаменование?
– Я когда-то хотела стать пчеловодом, – говорит Шарлотта, прерывая молчание, и это удивляет меня меньше, чем ее внезапное желание уйти. Ее восхищают различные вызывающие страх ситуации: банджи-джампинг, прыжки с парашютом, плавание с акулами. Когда она говорит о своей фантазии быть пчеловодом, я думаю, что метафора почти чересчур изящна: эта работа требует носки защищающей с ног до головы одежды, чтобы не быть укушенной, и позволяет повелевать созданиями, которые могут навредить, чтобы в итоге собрать все самое сладкое. Привлекательность такого рода контроля над опасностью очевидна, особенно если вы выросли с чувством, что у вас его нет.
Я так же представляю, как привлекательно сказать, что вы уходите с психотерапии, если вас вдруг забыли в приемной. Правда ли Шарлотта планировала уйти? Или это импульсивная реакция на первичный страх, который она испытала несколько минут назад? Я думаю, не начала ли она снова пить. Иногда люди бросают психотерапию потому, что она заставляет их отчитываться за свои действия, в то время как пациенты этого не хотят. Если они снова начинают пить или изменять – если они делают или не могут делать что-то, что заставляет их испытывать стыд, – они порой предпочитают спрятаться от своего психотерапевта (и самого себя). Что они забывают, так это то, что психотерапия – одно из самых безопасных мест, которое может вызвать чувство стыда. Но столкнувшись с ложью из-за оплошности или с необходимостью противостоять стыду, они могут вообще смыться. Что, конечно, не решает проблем.
– Я сделала выбор еще до того, как пришла сюда, – говорит Шарлотта. – Мне кажется, я иду на поправку. Я по-прежнему в завязке, на работе все хорошо, я не ругаюсь так сильно с мамой и не встречаюсь с Чуваком, даже заблокировала его в телефоне. – Она делает паузу. – Вы злитесь?
Злюсь ли я? Я определенно удивлена (потому что думала, что она справилась со своим страхом зависимости от меня) и разочарована, что, признаюсь я сама себе, и есть эвфемизм для «злюсь». Но под этой злостью лежит тот факт, что я беспокоюсь за нее – возможно, сильнее, чем должна бы. Я беспокоюсь, что пока она не попробует быть в здоровых отношениях, пока не найдет покоя во взаимоотношениях с отцом, она будет страдать и упустит многое из того, чего хочет. Я хочу, чтобы она справилась с этим в двадцать, а не в тридцать; я не хочу, чтобы она теряла время. Я не хочу, чтобы однажды она запаниковала: «Половина моей жизни закончена». И при этом я также не хочу препятствовать ее независимости. Подобно тому как родители растят детей, чтобы однажды их отпустить, психотерапевты работают, чтобы потерять пациента, а не сохранить его.
Тем не менее в этом ее решении что-то кажется поспешным и, возможно, маняще-опасным – как прыжок из самолета без парашюта.
Люди думают, что они ходят на психотерапию, чтобы вскрыть что-то из прошлого и справиться с этим. Но слишком многое из того, что делают психотерапевты – это работа с настоящим, куда мы привносим осознание того, что происходит в головах и сердцах людей день за днем. Их легко ранить? Они часто чувствуют вину? Они избегают зрительного контакта? Они фиксируются на кажущихся незначительными тревогах? Мы берем эти инсайты и побуждаем пациентов пользоваться сделанными из них выводами в реальном мире. Уэнделл однажды выразился об этом так: «То, что люди делают на психотерапии, похоже на бросание баскетбольного мяча в щит. Это необходимо. Но затем нужно пойти и сыграть в настоящую игру».
В тот единственный раз, когда Шарлотта была близка к настоящим отношениям, она ходила на психотерапию примерно год. Но она резко перестала встречаться с этим парнем и отказалась рассказать мне, почему. Также она объяснила, почему не хочет говорить об этом. Меня куда меньше интересовало то, что именно произошло, чем то, что это вызвало – с учетом всех вещей, которые она рассказывала о себе. То-Что-Нельзя-Обсуждать. И я задаюсь вопросом, не уходит ли она сегодня по этой самой причине.
Я вспоминаю, как она хотела удержать при себе То-Что-Нельзя-Обсуждать, сказать нет в ответ на мою просьбу. «Мне трудно говорить нет, – объяснила она, – так что я практикуюсь здесь». Я сказала ей, что вне зависимости от того, что она скажет о разрыве, я думаю, что ей так же сложно сказать да. Неспособность сказать нет по большей части говорит о жажде одобрения: люди воображают, что за отказ их не будут любить. Неспособность сказать да, в свою очередь (чему угодно: близости, новой работе, антиалкогольной программе), больше говорит о нехватке доверия к себе. Я все испорчу? Все пойдет не так? Не безопаснее ли оставаться там, где я сейчас?
Но есть подвох. Иногда то, что выглядит как отстаивание личных границ (отказ) – на самом деле отмазка, перевернутый способ избежать слова «да». Вызов для Шарлотты заключается в том, чтобы преодолеть свои страхи и сказать да – не только психотерапии, но и самой себе.
Я смотрю на пчел, вьющихся напротив стекла, и опять думаю о своем отце. О том, как однажды, когда я жаловалась на то, что одна родственница пытается внушить мне чувство вины, отец сострил: «То, что она посылает тебе это чувство, вовсе не означает, что ты должна принимать посылку». Я думаю об этом в отношении Шарлотты: я не хочу, чтобы она чувствовала себя виноватой за то, что уходит, или чувствовала, что она меня подвела. Все, что я могу сделать – дать ей знать, что я всегда здесь, поделиться своим видением ситуации и выслушать ее, освободив, чтобы она могла поступить так, как пожелает.
– Знаете, – говорю я Шарлотте, одновременно наблюдая за тем, как пчелы начинают разлетаться. – Я согласна, что ваша жизнь стала лучше и что вы много работали ради этого. Но еще мне кажется, что вам до сих пор сложно сходиться с людьми, и те обрывки вашей жизни, которые могут быть с этим связаны – ваш папа или тот разговор о парне, который вы не хотите вести – слишком болезненны для обсуждения. Но если об этом не говорить, то какая-то часть вас может поверить, что надежда все еще есть и что все может пойдет по-другому. И вы не будете одиноки в таком образе мышления. Некоторые люди надеются, что психотерапия поможет им найти способ быть услышанными теми, кто, по их мнению, неправ по отношению к ним. Что все возлюбленные или родственники просветлятся и станут людьми, о которых они мечтали все это время. Но так бывает редко. В определенный момент жизни быть взрослым – значит взять ответственность за направление собственной жизни и принять тот факт, что именно вы делаете свой выбор. Вы должны перебраться на переднее сиденье и стать Мамой-Собакой, которая ведет машину.
Шарлотта смотрит на колени, пока я говорю, но бросает быстрый взгляд на меня во время этой последней части. В комнате становится светлее, и я замечаю, что большая часть пчел улетела. Остались лишь немногие: некоторые по-прежнему сидят на стекле, другие кружатся друг за другом, готовясь улететь.
– Если вы останетесь на психотерапии, – говорю я мягко, – вы можете попрощаться с надеждой на лучшее детство, но только так вы сможете создать лучшую взрослую жизнь.
Шарлотта долго смотрит в пол, потом говорит:
Мы сидим молча. Наконец она говорит:
– Я спала с соседом.
Она говорит о парне из ее дома, который заигрывал с ней, одновременно заявляя, что не ищет ничего серьезного. Она решила, что будет встречаться только с теми мужчинами, которые хотят долговременных отношений. Она хотела перестать встречаться с копиями своего отца. Она хотела не быть похожей на мать. Она хотела говорить нет подобным вещам и да – тому, что сделает ее непохожей на родителей, но превратит в человека, которого ей еще только предстоит открыть в себе.
– Я подумала, что если я уйду с психотерапии, то смогу просто продолжить спать с ним, – говорит она.
– Вы можете делать все, что хотите, – говорю я, – не важно, ходите вы на терапию или нет.
Я наблюдаю, пока она слушает то, что уже знает. Да, она перестала пить и бросила Чувака, и стала меньше ссориться с мамой, но стадии изменений так работают, что вы не можете избавиться от всей своей брони одновременно. Вместо этого вы поочередно снимаете слой за слоем, приближаясь все ближе к тому, что труднее всего отпустить: печаль, стыд.
Она качает головой.
– Я просто не хочу проснуться через пять лет, не имея за это время никаких отношений, – говорит она. – Через пять лет мои ровесники не будут одиноки, а я буду той девчонкой, которая крутит с парнем из приемной или с соседом, а потом рассказывает об этом на вечеринке, словно это какое-то очередное приключение. Словно мне плевать.
– Крутая девчонка, – говорю я. – Та, которой не нужны чувства, которая просто плывет по течению. Но у вас есть чувства.
– Да, – говорит она. – Крутая девчонка чувствует себя как полное дерьмо. – Она никогда не признавала это раньше. Она снимает свой костюм пчеловода. – «Как полное дерьмо» – это чувство? – спрашивает она.
– Уверена, что да, – говорю я.
Наконец, вот оно. На этот раз Шарлотта не уходит. Она остается на психотерапии, пока учится водить собственную машину, прокладывая более безопасный путь в мир, глядя в обе стороны, совершая много неверных поворотов, но находя пути обратно – всегда в ту сторону, куда ей на самом деле хочется попасть.
Я сижу на стрижке и рассказываю Кори новости об отмене контракта на книгу с моим издателем. Я объясняю, что теперь потрачу несколько лет, возвращая деньги, и, возможно, больше никогда не получу нового предложения о книге, отказавшись так поздно, но я чувствую себя так, словно с моей шеи сняли альбатроса[30].
Кори кивает. Я наблюдаю за тем, как он осматривает в зеркале свои татуированные бицепсы.
– Знаете, что я делал этим утром? – говорит он.
Он расчесывает мои передние пряди, чтобы убедиться, что они ровные.
– Я смотрел документальный фильм про кенийцев, у которых нет доступа к чистой воде, – говорит он. – Они умирают, и многие из них травмированы войной и болезнями, их выкидывают из домов и деревень. Они бродят вокруг, просто пытаясь найти хоть немного воды, которую можно выпить и не умереть. Никто из них не ходит на психотерапию и не возвращает деньги издателю. – Он делает паузу. – В общем, да, этим я занимался сегодня утром.
Неловкое молчание. Мы с Кори встречаемся глазами в зеркале, а затем неуверенно начинаем смеяться.
Мы оба смеемся надо мной, а я – еще и над тем, как люди ранжируют свою боль. Я думаю о Джулии. «По крайней мере, у меня нет рака», – сказала бы она, но есть еще одна фраза, которую используют здоровые люди, чтобы минимизировать свои страдания. Я помню, как поначалу сессия Джона стояла сразу после Джулии и как я регулярно с усилием напоминала себе об одном из самых важных уроков времен своего обучения: у боли нет иерархии. Страдания нельзя ранжировать, потому что боль – это не состязание. Супруги часто забывают об этом, повышая ставки. Я весь день возилась с детьми. Моя работа тяжелее, чем твоя. Я более одинок, чем ты. Чья боль побеждает – или проигрывает?
Но боль есть боль. Я проделывала это и с собой, извиняясь перед Уэнделлом, смущенная тем, что такое большое значение придаю расставанию, не разводу; извиняясь за страдания от тревожности, вызванной вполне настоящими финансовыми и профессиональными последствиями невыполненного контракта на книгу. Все это не было такой серьезной проблемой, с какими сталкивается, например, население Кении. Я даже извинялась за рассказы о том, как беспокоюсь за свое здоровье (например, как-то раз пациент заметил мой тремор, и я не нашлась что сказать), потому что так ли тяжелы мои страдания, если у меня даже нет диагноза, а тем более диагноза, занимающего одну из первых строчек по шкале «допустимые для страдания проблемы»? У меня недиагностированное состояние. У меня нет – постучим по дереву – болезни Паркинсона. У меня нет – постучим по дереву – рака.
Но Уэнделл сказал, что, преуменьшая свои проблемы, я осуждаю себя и всех остальных, чьи проблемы ставлю ниже собственных в иерархии боли. Нельзя справиться со своей болью, преуменьшая ее, напомнил он мне. Вы справляетесь, принимая ее и размышляя, что с ней делать. Нельзя изменить то, что вы отрицаете или минимизируете. И конечно, часто то, что кажется тривиальными опасениями, является манифестацией более серьезных проблем.
– Вы все еще занимаетесь своей Tinder-терапией? – спрашиваю я Кори.
Он наносит что-то на мои волосы.
– Да, черт побери, – отвечает он.
48 Психологическая иммунная система
– Поздравляю, вы больше не моя любовница, – говорит Джон сухо, входя и занося пакет с нашим обедом.
Это такой способ попрощаться? Он решил бросить психотерапию в тот самый момент, когда мы по-настоящему начали?
Он проходит к кушетке и устраивает целое шоу из перевода телефона в беззвучный режим, затем швыряет его на стул. Потом он открывает пакет и подает мне мой китайский салат с цыпленком. Ныряет туда снова, доставая палочки для еды, и поднимает их вверх: Надо? Я киваю: Благодарю.
Он смотрит на меня выжидающе, притопывая ногой.
– И что, – говорит он, – вы не хотите знать, почему вы больше не моя любовница?
Я молча смотрю на него в ответ. Я не играю в эти игры.
– Ладно, – вздыхает он. – Я вам скажу. Вы больше не моя любовница, потому что я все рассказал Марго. Она знает, что я хожу к вам.
Он берет немного салата, жует.
– И знаете, что она сделала? – продолжает он.
Я качаю головой.
– Она взбесилась! «Почему ты держал это в тайне? Как долго это продолжается? Как ее зовут? Кто еще знает?» Как будто мы с вами спим или что-то такое! – Джон смеется, чтобы убедиться, что я понимаю, насколько идиотской он считает подобную возможность.
– Для нее это может быть чем-то похожим, – говорю я. – Марго и так чувствует себя выброшенной из вашей жизни, а теперь она узнает, что вы делитесь ею с кем-то еще. Она жаждет подобной близости с вами.
– Ага, – говорит Джон и, кажется, ненадолго погружается в свои мысли. Он берет еще немного салата, смотрит в пол, потом потирает лоб, как будто мысли истощают его. Затем поднимает взгляд.
– Мы говорили о Гейбе, – тихо произносит он. А потом он начинает рыдать – гортанным воплем, грубым и диким, который я мгновенно узнаю. Это звук, который я слышала в отделении скорой помощи, учась в мединституте, от родителей утонувшего малыша. Это песня любви в адрес сына.
Я вспоминаю еще одно отделение неотложной помощи – ту ночь, когда моему сыну был год, и его пришлось срочно везти в больницу, потому что температура его тела поднялась до 40 градусов и начались судороги. Когда парамедики прибыли в наш дом, его тело обмякло, глаза были закрыты, он не реагировал на мой голос. Сидя рядом с Джоном, я снова всем телом ощущаю ужас, вспоминая своего безжизненного сына: я на каталке с ним на груди, парамедики по бокам от нас, сюрреалистичным саундтреком звучит сирена. Я слышу, как он плачет и зовет меня, когда его пристегивают к рентгеновскому столу, обездвиживая; теперь его глаза открыты, он испуган, и весь его вид молит об объятии, пока он изо всех сил извивается, пытаясь добраться до меня. Его крики по своей интенсивности звучали очень похоже на вопль Джона. Где-то в холле больницы я увидела каталку с ребенком без сознания – или мертвым. Это могли быть мы, подумала я в тот момент. К утру это могли быть мы. Мы могли покинуть это место так же.
Но это были не мы. Я вернулась домой со своим чудесным мальчиком.
– Мне жаль, мне жаль, мне так жаль, – проговаривает Джон сквозь слезы, и я не знаю, перед кем он извиняется: перед Гейбом, или Марго, или своей матерью – или передо мной за этот взрыв.
Перед всеми, говорит он. Но больше всего ему жаль того, что он не может вспомнить. Он хотел закрыться от невыносимого – от аварии, больницы, от момента, когда узнал, что Гейб умер – но не мог. Он бы отдал все, чтобы забыть, как обнимал мертвое тело Гейба, брат Марго разнимал их, а Джон бил его, крича: «Я не брошу своего сына!» Как бы он хотел стереть воспоминания, в которых рассказывал дочери, что ее брат умер; как и те, в которых вся семья приехала на кладбище, и Марго упала на землю, не в силах идти. Но все они, к несчастью, оставались совершенно живыми, невредимыми, всплывая ночными кошмарами наяву.
Что затуманилось, говорит он, так это счастливые воспоминания. Гейб сидит в своей постели, одетый в пижаму с Бэтменом («Обними меня, папа»). Заворачивается в оберточную бумагу, едва распаковав подарки на день рождения. Уверенно входит в свой дошкольный класс, как большой мальчик, только чтобы обернуться в дверях и послать украдкой поцелуй. Звук его голоса. «Я люблю тебя до Луны и обратно». Запах его волос, когда Джон целовал его. Музыка его смеха. Живые выражения лица. Его любимая еда, или животное, или цвет. (Это был голубой или «радужный»?) Все эти воспоминания, как казалось Джону, бледнели со временем – как будто он терял детали о Гейбе, причем чем сильнее он хотел удержать их, тем быстрее они исчезали.
Все родители забывают такие мелочи, когда дети вырастают, и они тоже грустят из-за этого. Разница в том, что в их памяти стирается прошлое, но настоящее остается перед глазами. Для Джона потеря воспоминаний подводит его все ближе к потере Гейба. И поэтому по вечерам, говорит мне Джон, пока Марго злится, полагая, что он работает или смотрит порно, он прячется с ноутбуком и смотрит видео с Гейбом, думая о том, что это единственные видео сына, которые у него есть, как и воспоминания о Гейбе – единственные воспоминания, которые у него когда-либо будут. Других не появится. И если воспоминания могут размыться, видео – нет. Джон говорит, что он пересмотрел эти видео сотни раз и уже не видит разницы между ними и собственной памятью. И все равно он исступленно смотрит, «чтобы сохранить Гейба живым у себя в голове».
– Сохранить его живым у себя в голове – это ваш способ не покинуть его, – говорю я.
Джон кивает. Он говорит, что все это время представляет себе Гейба живым: как бы он выглядел, какого роста бы был, чем бы интересовался. Он по-прежнему видит соседских мальчиков, которые дружили с Гейбом в детстве, и воображает, как его сын болтает с ними в средней школе, влюбляется в девочек, в какой-то момент начинает бриться. Он также представляет, каким бы Гейб был в переходном возрасте. Когда Джон слышит, как другие родители жалуются на своих подростков, он думает о том, какой роскошью было бы иметь возможность поворчать на Гейба из-за домашних заданий, или найти травку в его комнате, или поймать его за любым из тех занятий, которые становятся для родителей сущим кошмаром. Он никогда не встретится с сыном так, как родители встречаются со своими детьми на разных этапах жизненного пути, когда они вроде как все те же люди, какими были всегда, но в то же время волнующе и печально другие.
– О чем вы с Марго говорили? – спрашиваю я.
– Когда Марго пилила меня насчет психотерапии, – говорит он, – она хотела узнать, почему. Почему я хожу. Это из-за Гейба? Говорил ли я о Гейбе? И я сказал ей, что я пошел на психотерапию не для того, чтобы поговорить о Гейбе. Я просто стрессовал. Но она не дала мне продолжить. Она не поверила. «Так ты вообще не говорил о Гейбе?» Я сказал ей, что это личное. Ну то есть… разве я не могу говорить о чем мне самому хочется на собственном сеансе психотерапии? Она что, психотерапевтическая полиция?
– Почему, как вам кажется, для нее так важно, чтобы вы говорили о Гейбе?
Он обдумывает это.
– Я помню, как после смерти Гейба Марго хотела, чтобы я говорил с ней о нем, а я просто не мог. Она не понимала, как я могу ездить на барбекю и игры «Лейкерс» и выглядеть, как нормальный человек, но первый год я был в шоке. Я словно одеревенел. Я говорил себе: «Продолжай жить, не останавливайся». Но на следующий год, когда я очнулся, я просто мечтал о смерти. Я держал лицо, но внутри как будто истекал кровью, понимаете? Я хотел быть сильным ради Марго и Грейс, я должен был поддерживать крышу над нашими головами, так что я не мог позволить себе, чтобы кто-то увидел это кровотечение.
Потом Марго захотела еще одного ребенка, и я сказал, провались оно все, о’кей. Господи Иисусе, я не был готов снова стать отцом, но Марго была непреклонна: она не хотела, чтобы Грейс росла одна. Не только мы потеряли сына. Грейс потеряла единственного брата. И дом стал другим, не таким, как когда в нем живут двое детей. Он вообще больше не казался домом, в котором есть дети. Тишина была напоминанием о том, что исчезло.
Джон сдвигается вперед, накрывает крышкой салат и бросает его через всю комнату в мусорную корзину. Вжух. Он всегда попадает.
– Но казалось, – говорит он, – что беременность пошла Марго на пользу. Она вернула ее к жизни. Но не меня. Я продолжал думать о том, что никто не заменит Гейба. И тем более что, если я убью и этого ребенка?
Джон рассказывал мне, что, впервые услышав о смерти мамы, он был уверен, что это он убил ее. Перед тем как она ушла на репетицию, он попросил ее поспешить домой, чтобы она успела уложить его спать. Она, наверное, умерла, торопясь домой на машине, думал он. Конечно, отец убедил его, что она погибла, пытаясь спасти одного из своих учеников от опасности, но Джон был уверен, что это лишь прикрытие. Так продолжалось до тех пор, пока он не увидел заголовки в местной газете (он как раз учился читать): так он узнал, что и правда не виноват в смерти матери. Но еще он знал, что она пожертвовала бы собой ради него, не моргнув и глазом, как и он сам готов был умереть за Гейба, или Грейс, или Руби. Но сделал бы он это ради Марго? Не уверен. А она ради него? Тоже не уверен.
Джон делает паузу, затем шутит, чтобы снять напряжение.
– Вау, становится трудно. Я, пожалуй, прилягу.
Он вытягивается на диване, пытается пристроить подушку под головой и издает стон разочарования. («Чем она набита, картоном»? – пожаловался он однажды.)
– Странным образом, – продолжает он, – я беспокоился, что полюблю нового ребенка слишком сильно. Как будто я предам Гейба. Я был так рад, что это не еще один мальчик. Мне казалось, я не смогу жить с маленьким мальчиком без того, чтобы он напоминал мне Гейба: что, если ему тоже понравятся пожарные машины? Все это было бы сплошным агонизирующим воспоминанием, а это нечестно по отношению к ребенку. Я так переживал, что даже вычислял дни, когда стоит заниматься сексом, чтобы с большей вероятностью зачать девочку – это было в сериале.
Я киваю. Там и правда была ответвленная сюжетная линия с парой, которая потом пропала из повествования – в третьем сезоне, кажется. Они все время занимались сексом в неправильное время, потому что то один, то другой не мог контролировать себя и ждать. Это было забавно. Я и понятия не имела, какая боль вдохновила создателей на это.
– Но суть в том, – говорит Джон, – что я не рассказал об этом Марго. Я просто занимался с ней сексом только в тот день, когда шансы на девочку были выше. А потом потел в ожидании ультразвука. Когда врач сказал, что это, скорее всего, девочка, мы с Марго одновременно спросили: «Вы уверены?» Марго хотела мальчика, потому что ей нравилось воспитывать мальчика, а девочка у нас уже была, так что поначалу она была разочарована. «Я больше никогда не буду мамой мальчика», – говорила она. Но я был в гребаном восторге! Я чувствовал, что буду лучшим отцом для девочки, учитывая все обстоятельства. А потом, когда Руби родилась, я думал, что обосрусь от счастья. Едва увидев ее, я безумно ее полюбил.
Голос Джона срывается, и он останавливается.
– Что насчет вашего горя? – спрашиваю я.
– На первых порах стало лучше – что, странным образом, заставило меня почувствовать себя хуже.
– Потому что горе связывало вас с Гейбом?
Джон выглядит удивленным.
– Неплохо, Шерлок. Да. Как будто моя боль была свидетельством любви к Гейбу, и если бы я отпустил ее, то это значило бы, что я забыл о нем. Что он был мне не так уж важен.
– Что если вы были счастливы, то вы не могли еще и грустить.
– Именно. – Он смотрит в сторону. – Я до сих пор себя чувствую именно так.
– Но что, если тут все смешалось? – говорю я. – Что, если ваша грусть – ваше горе – как раз то, что позволяет вам любить Руби с той же силой, как когда вы увидели ее в первый раз?
Я вспоминаю одну из своих давних пациенток, чей муж умер. Когда через год она снова влюбилась (любовь казалась еще слаще из-за потери мужа), она беспокоилась, что другие могут осудить ее. Так скоро? Разве ты не любила мужа последние тридцать лет? На самом деле ее родные и близкие радовались за нее. Это не их осуждение она слышала, а свое собственное. Что, если своим счастьем она предает память мужа? Ей понадобилось время, чтобы понять, что ее счастье не умаляет ее любовь к ушедшему мужу – оно чтит ее.
Джон находит забавным, что именно Марго раньше хотела говорить о Гейбе, но Джон не мог; потом, когда Джон начал иногда вспоминал сына, Марго выходила из себя. Их семью что, всегда будет преследовать эта трагедия? А их брак?
– Может, мы напоминаем друг другу о случившемся, как будто само наше присутствие – это какой-то дикий сувенир, – говорит Джон. – Нам нужно, – добавляет он, глядя на меня, – некое завершение.
Я понимаю, что Джон имеет в виду, но мне всегда казалось, что «завершение» – это своего рода иллюзия. Многие не знают, что знаменитые стадии горя, о которых писала Элизабет Кюблер-Росс (отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие), были выявлены в контексте работы со смертельно больными пациентами, учившимися принимать собственную смерть. Лишь спустя десятилетия эту модель стали использовать для описания более общего процесса горя. Одно дело – «принять» конец своей собственной жизни, как это пытается сделать Джулия. Но для тех, кто живет дальше, сама идея того, что они должны прийти к принятию, может лишь ухудшить ситуацию («Уже пора оставить это в прошлом», «Я не знаю, почему все еще порой плачу, все эти годы»). Кроме того, разве может существовать конечная точка для любви и утраты? И хотим ли мы, чтобы она была? Цена такой глубокой любви – глубокие чувства, но это также дар, дар жизни. Если мы не чувствуем, мы должны оплакивать свою смерть.
Уильям Уорден – психолог, изучающий горе – учел эти вопросы, заменив стадии скорби ее задачами. Цель четырех задач – интегрировать потерю в свою жизнь и создать постоянную связь с умершим, одновременно найдя способ жить дальше.
Но многие люди приходят на психотерапию в поисках «завершения». Помогите мне не чувствовать. В конце концов, они обнаруживают, что нельзя приглушить одну эмоцию, не приглушая другие. Вы хотите избавиться от боли? Одновременно с этим вы лишитесь радости.
– Вы оба так одиноки в вашем горе, – говорю я. – И в радости.
На наших сессиях Джон порой оставлял намеки на свою радость: две его дочери; собака по кличке Рози; написание убийственного сценария; получение первой «Эмми»; чисто мужская поездка с братьями. Иногда, говорит Джон, он не верит, что способен радоваться. После смерти Гейба он думал, что никогда не сможет жить дальше. Он был, по его собственным словам, словно призрак. Но уже через неделю он играл с Грейс и на секунду – может быть, две – почувствовал себя хорошо. Он улыбался и смеялся с ней, и этот смех изумил его. Всего за неделю до этого его сын умер. На самом ли деле этот звук исходил от него?
Я рассказала Джону о так называемой «психологической иммунной системе». Подобно тому как физиологическая иммунная система помогает телу восстановиться после атаки, мозг помогает восстановиться после психологической травмы. Серия исследований, проведенных ученым Дэниелом Гилбертом в Гарварде, показала, что после сложных жизненных событий, от ужасных (инвалидность или потеря близкого человека) до затруднительных (развод, болезнь), люди справляются лучше, чем сами того ожидают. Они думают, что никогда больше не смогут смеяться, но смеются. Они думают, что никогда больше не полюбят, но влюбляются. Они ходят в магазины, смотрят кино, занимаются сексом и танцуют на свадьбах, переедают на День благодарения и садятся на диеты с Нового года – день идет за днем. Реакция Джона на игру с Грейс не была необычной – она была нормальной.
Я делюсь с Джоном еще одним связанным концептом – это непостоянство. Иногда в своей боли люди думают, что их агония будет длиться вечно. Но чувства похожи на погодные явления: они приходят и уходят. То, что вам грустно в эту минуту, или в этот час, или в этот день, не означает, что вы будете чувствовать себя так же через десять минут, или в полдень, или на следующей неделе. Все чувства – тревога, восторг, тоска – появляются и исчезают. В день рождения Гейба, по определенным праздникам или просто во время беготни на заднем дворе Джон всегда будет чувствовать боль. Услышанная по радио песня или промелькнувшее воспоминание тоже могут повергнуть его в минутное отчаяние. Но другая песня и другое воспоминание через минуту или через час может принести радость.
В чем же общая радость Джона и Марго? Я спрашиваю его, какой была бы, по его мнению, Марго, если бы не было той автокатастрофы. На что был бы похож их брак.
– Бога ради! – говорит он. – Теперь вы думаете, что я могу переписать историю?
Он смотрит в окно, на часы, на свои скинутые кроссовки. Затем он смотрит на меня.
– На самом деле я думал об этом в последнее время, – говорит он. – Иногда я вспоминаю, что мы были молодой семьей, моя карьера шла в гору, а Марго заботилась о детях и пыталась управлять собственным бизнесом, и мы потеряли связь друг с другом, как это и происходит с людьми на этой стадии жизни. Я думаю о том, как все могло бы измениться, когда оба ребенка пошли бы в школу, а мы продвинулись по карьерной лестнице. Знаете, жизнь бы пришла в норму. Но, возможно, нет. Раньше я был так уверен, что она – та самая, а я – тот самый для нее. Но мы делаем друг друга настолько несчастными, и я даже не помню, когда это началось. Все, что я делаю, неверно с ее точки зрения. Может быть, мы бы уже развелись. Говорят, браки распадаются после смерти ребенка, но что, если мы все еще вместе из-за того, что случилось с Гейбом? Может быть, Гейб спас наш брак.
– Может быть, – говорю я. – А может быть, вы все еще вместе, потому что оба хотите снова найти ту часть себя, которая, казалось, умерла вместе с Гейбом. Может быть, вы оба верите, что можете снова найти друг друга – или впервые.
Я думаю о семье утонувшей малышки из того отделения скорой помощи. Что с ними сейчас? Появился ли у них другой ребенок? Младенец, которому меняли подгузник, когда девочка выбежала наружу и утонула, наверное, уже в колледже. Может быть, они развелись, и каждый живет сейчас с новым супругом. А может быть, они по-прежнему вместе, еще более сильные, чем раньше. Ходят в походы по живописным маршрутам недалеко от дома, к югу от Сан-Франциско, ностальгируя по прошлому, вспоминая любимую дочь.
– Забавно, – говорит Джон. – Я думаю, что мы наконец-то готовы оба поговорить о Гейбе, одновременно. И теперь, когда это так, я чувствую себя лучше. В смысле… я всегда чувствую себя дерьмово, но это нормально, если вы понимаете, о чем я. Все не так плохо, как, я думал, могло бы быть.
– Все не так плохо, как тогда, когда вы не говорили о Гейбе, – предполагаю я.
– Как я уже сказал, неплохо, Шер… – Мы обмениваемся улыбками. Он прервался на полуслове, называя меня Шерлоком, перестал использовать карикатуры, чтобы удерживать дистанцию между нами. Позволив Гейбу стать более реальным в своей жизни, Джон позволил и другим людям стать более настоящими.
Джон садится и начинает ерзать, наш сеанс подходит к концу. Пока он влезает в свои кроссовки и встает, чтобы забрать телефон, я думаю о его более раннем замечании – он сказал Марго, что пошел на психотерапию из-за стресса и часто говорил мне то же самое.
– Джон, – говорю я, – вы в самом деле думаете, что пришли сюда из-за стресса?
– Вы что, идиотка? – говорит он, подмигивая. – Я пришел сюда поговорить о Марго и Гейбе. Боже, неужели и вы иногда тупите?
Когда он уходит, у двери не остается пачки наличных для «девочки по вызову».
– Пришлите мне счет, – говорит он. – Больше никаких пряток. Теперь все по-честному.
49 Консультация против психотерапии
– Вы здесь за консультацией или за психотерапией? – спрашивает Уэнделл на сегодняшней сессии, когда я говорю, что у меня есть профессиональный вопрос. Он знает, что я пойму разницу: до этого он уже дважды предлагал свое методическое руководство. Я хочу услышать совет (консультация) или понять себя (психотерапия)?
В первый раз, когда я задала Уэнделлу подобный вопрос, я говорила, как разочаровываюсь в людях, которые предпочитают быстрые исправления продолжительной работе на психотерапии. Как относительно малоопытный специалист, я поинтересовалась у более зрелого, как он справлялся с этим. Одно дело слышать, что говорят бывалые коллеги; время от времени я не могла справиться с любопытством насчет того, как Уэнделл относится к разочарованиям профессии.
Я сомневалась, что он ответит на мой вопрос прямо – он бы скорее посочувствовал моему затруднительному положению. На самом деле я знала, что ставлю его в позицию классической «уловки-22»[31], в которой психотерапевты часто оказываются: я хочу сочувствия, но если ты дашь мне его, я почувствую злость и безысходность, потому что сочувствие само по себе не сможет решить мою абсолютно реальную проблему, а тогда какой в тебе толк? Я думала, что он, возможно, даже скажет что-то об этой «уловке-22» (потому что лучший способ обезвредить эмоциональную мину – это взорвать ее).
Вместо этого он посмотрел на меня и спросил:
– Вы бы предпочли практический совет?
Мне показалось, что я его не расслышала. Практический совет? Это розыгрыш? Мой психотерапевт решил дать мне конкретный практический совет?
Я придвинулась поближе.
– Мой отец был бизнесменом, – начал Уэнделл негромко. В то время мой припадок интернет-слежки еще не вскрылся, так что я кивнула, обозначая, что эта информация была новой. Он рассказал мне, что когда только открыл свою практику, его отец предложил провести акцию для потенциальных пациентов: они могут прийти на одну сессию, и если они решат после этого не продолжать работу с Уэнделлом, то сессия будет бесплатной. Поскольку многие люди нервничают, начиная ходить на психотерапию, эта сессия давала им возможность без всякого риска увидеть, что терапия из себя представляет и как Уэнделл может помочь.
Я попыталась представить себе Уэнделла, ведущего этот разговор с отцом – то удовольствие, которое, возможно, получил тот, предлагая профессиональный совет своему более мягкому сыну. Его идея не была новой для мира бизнеса, но психотерапевты нечасто воспринимают свое ремесло в таком ключе. При этом мы и правда как будто ведем малый бизнес, и отец Уэнделла, должно быть, понял, что хотя его сын и оставил семейную компанию, в конце концов он все-таки стал бизнесменом. Возможно, он очень обрадовался такой связи с сыном. Возможно, это много значило и для Уэнделла; вот почему он решил поделиться мудростью с другими психотерапевтами – вроде меня.
Как бы то ни было, его отец был умен. Когда я попробовала применить эту идею на практике, мой рабочий график заполнился.
Но вторая его консультация – о ней я не просто просила, я настаивала – оказалась провалом. Я страдала из-за книги о счастье и агитировала Уэнделла, чтобы тот сказал мне, как поступить. Я давила на него так сильно и так часто, что в итоге Уэнделл (который, конечно же, не имел никакого представления о печатном бизнесе) сдался под конец одной из сессий.
– Я не знаю, что еще вам сказать, – ответил он на мой восемьдесят седьмой вопрос по этой теме. – Видимо, нужно просто найти способ написать эту книгу, чтобы в следующий раз вы могли написать то, что хотите.
Потом он вытянул ноги и поднялся, сигнализируя, что наше время вышло.
Иногда психотерапевт намеренно «прописывает проблему» или симптом, который пациент хочет разрешить. Молодому человеку, который откладывает поиски работы, могут сказать, что ему не стоит искать работу; женщине, которая отказывается от секса с мужем, могут предложить не инициировать секс в течение месяца. Эта стратегия, при которой психотерапевт инструктирует человека не делать то, чего тот и так не делает, называется парадоксальной интервенцией. Ввиду сопутствующих этических дилемм психотерапевт должен отлично понимать, как и когда использовать парадоксальные указания. Но основная идея заключается в том, что если пациент верит, будто поведение или симптом находится вне его контроля, то добровольное совершение этого действия (когда есть выбор, делать или не делать), ставит эту уверенность под вопрос. Когда пациенты понимают, что они сами выбирают поведение, они могут разобраться в первопричине вторичных целей – неосознанных выгод, которые оно несет (избегание, протест, крик о помощи).
Но Уэнделл сделал не это. Он просто отреагировал на мои бесконечные жалобы. Если я приходила расстроенной, потому что мой агент снова утверждал, что у меня один выход – написать эту книгу или никогда больше не получить другой контракт, Уэнделл спрашивал, почему я не получила еще одно мнение – или не нашла другого агента. Я объясняла, что не могу искать других агентов, потому что мне нечего предложить им, кроме той неразберихи, в которой я нахожусь. Разные версии этого разговора повторялись с определенной периодичностью, пока я не решила за нас обоих, что есть только один путь – продолжать писать. Так я и продиралась сквозь главы, обвиняя теперь в своем затруднительном положении не только себя, но и Уэнделла. Конечно, я этого не осознавала, но моя обида всплыла через неделю после того, как я написала редактору, что не буду заканчивать книгу. Я всю сессию была словно на иголках и не могла поделиться с ним этим значимым событием.
– Вы злитесь на меня? – спросил Уэнделл, подмечая мой настрой, и меня словно осенило. Да! Я просто в ярости, сказала я ему. Знаете – я разорвала контракт на книгу, и плевать на финансы и последствия! Я обошла тюремную решетку! Учитывая мое непонятное состояние здоровья и вызванную им изнуряющую усталость, я хотела убедиться, что осмысленно проживаю отведенное мне «хорошее» время. Джулия как-то сказала, что наконец поняла смысл фразы «жить взаймы»: наши жизни буквально даны нам в долг. Не важно, что мы думаем в юности, ни у кого из нас нет всего времени мира. Подобно Джулии, я сказала Уэнделлу, что начала разбирать свою жизнь по кусочкам, вместо того чтобы идти по ней, как во сне; и кто он такой после этого, если советует мне собраться и дописать книгу? Все психотерапевты ошибаются, но, когда это случилось с Уэнделлом, я иррационально почувствовала себя преданной.
Когда я закончила говорить, он задумчиво посмотрел на меня. Он не стал защищаться, хотя мог бы. Он просто извинился. Он не смог, сказал он, понять что-то важное, происходящее между нами. Пытаясь объяснить ему, что я чувствую себя загнанной в угол, я заставила его чувствовать себя точно так же: загнанным, попавшим в ловушку. И в своей фрустрации, как и я в своей, он выбрал самый простой путь: да, ты облажалась – напиши эту чертову книгу.
– Сегодня мне нужно проконсультироваться насчет пациента, – говорю я.
Я рассказываю Уэнделлу, что у меня есть пациент, чья жена ходит к нему, Уэнделлу. И каждый раз, когда я прихожу сюда, я думаю, не та ли это женщина, которую я вижу выходящей из кабинета. Я знаю, что он не имеет права рассказывать мне что-либо о пациентке, но все же интересуюсь, не упоминала ли она имя психотерапевта своего мужа – мое имя – в его присутствии? И как нам справляться с таким совпадением? В качестве пациента я могу говорить что угодно о любом аспекте своей жизни, но я не хочу омрачать ее терапию знаниями о ее муже.
– Вы по этому поводу хотели проконсультироваться? – спрашивает Уэнделл.
Я киваю. Учитывая предыдущее фиаско, полагаю, он будет крайне осторожен с ответом.
– Что из сказанного мной будет полезно для вас? – спрашивает он.
Я думаю об этом. Он не может ответить на мой вопрос о том, не Марго ли это выходит из его кабинета перед моей сессией. Он даже не может подтвердить, что знает, о ком мы говорим. Он не может сказать мне, известен ли ему тот факт, что я работаю с мужем его пациентки. Он не может сказать, что Марго говорила и чего не говорила обо мне. И я знаю, что если бы разговор зашел о Джоне, Уэнделл повел бы себя как профессионал, и мы бы обсудили этот вопрос в контексте меня самой. Возможно, мне нужно узнать, правильно ли я сделала, рассказав ему об этой ситуации.
– Вы когда-нибудь задавались вопросом, хороший ли я психотерапевт? – спрашиваю я вместо этого. – Учитывая все, что вы здесь видели?
Я вспоминаю свое предыдущее «Я вам нравлюсь?», но в этот раз мой вопрос о другом. Тогда я подразумевала «Любите ли вы меня, как ребенка, любите ли мою нешаму?» Теперь я спрашиваю: «Вы воспринимаете меня как компетентного взрослого человека?» Разумеется, Уэнделл никогда не видел, как я веду сессии, никогда не курировал мою работу. Как он может выразить свое мнение? Я начинаю говорить это, но Уэнделл меня останавливает.
– Я знаю, что вы хороший психотерапевт, – говорит он.
Сначала я не понимаю. Он знает, что я хороший психотерапевт? На основании че… Ох! Значит, Марго думает, что их с Джоном дела налаживаются.
Уэнделл улыбается. Я улыбаюсь. Мы оба знаем, что он не может мне ничего сказать.
– У меня еще один вопрос, – говорю я. – Как нам минимизировать неловкость в такой ситуации?
– Возможно, вы только что это сделали, – говорит он.
И он прав. В парной терапии психотерапевты говорят о разнице между уединенностью (личное пространство, которое нужно любому человеку, находящемуся в здоровых отношениях) и скрытностью (которая проистекает из стыда и, как правило, губительна). Карл Юнг называл секреты «психическим ядом» – и после всех тайн, что я хранила от Уэнделла, хорошо, что эта последняя теперь разглашена.
Я больше не прошу консультаций, потому что правда заключается в том, что Уэнделл давал мне советы с самого первого дня; в том смысле, что психотерапия – это профессия, которой ты обучаешься на практике, работая не только психотерапевтом, но и пациентом. Это двойное ученичество, отсюда и идет поговорка, что психотерапевты могут провести своих пациентов не дальше, чем проходят сами. (Вокруг этой идеи ведется много споров: как и мои коллеги, я видела, как мои пациенты достигали высот, о которых я могу лишь мечтать. Но тем не менее неудивительно, что по мере того, как я исцелялась сама, я становилась все более искусной в ремесле исцеления других.)
Я пользуюсь уроками Уэнделла и на практическом уровне – прямо в своем кабинете.
– Мне вспоминается один мультик об узнике, который трясет прутья решетки… – сказала я как-то Джону, пытаясь помочь ему увидеть, что «идиот», о котором он говорил в тот день, не был его тюремщиком.
Когда я перешла к сути (клетка открыта со всех сторон), Джон на секунду улыбнулся, что я поначалу приняла за одобрение, но затем он отбил подачу.
– Да сколько можно, – сказал он, закатывая глаза. – Неужели другие пациенты правда ведутся на это?
Но он был исключением. Эта интервенция отлично срабатывала со всеми остальными.
Тем не менее самый важный навык, которому я научилась у Уэнделла – следовать своей стратегии, одновременно с этим привнося личностный подход. Пну ли я пациента, чтобы что-то доказать? Скорее всего, нет. Буду ли я петь? Вряд ли. Но я, возможно, не материлась бы хором с Джулией, если бы не видела, как Уэнделл до предела остается собой во время наших сессий. Психотерапевты-интерны учатся работать по книгам, осваивая базу так же, как нотную грамоту для игры на пианино. В обоих случаях, если вы знаете основу, вы можете совершенствоваться. Правила Уэнделла заключаются не в том, что их нет. Правила есть, и нас учат следовать им не без причины. Но он показал мне, что, когда правила обходят с обдуманным намерением, это расширяет определение эффективной психотерапии.
Мы с Уэнделлом больше не говорим о Джоне или Марго, но через несколько недель, когда я сижу в кресле приемной, дверь в офис отворяется, и я слышу мужской голос.
– Значит, в то же время в следующую среду?
– Да, буду вас ждать, – отвечает Уэнделл, потом дверь скрипит, закрываясь.
За ширмой проскальзывает парень в костюме. Интересно, думаю я. Может быть, женщина, что была передо мной, перестала ходить на психотерапию. Может быть, это была Марго, и Уэнделл организовал перестановку, чтобы обеспечить мою конфиденциальность на случай, если Марго в конечном итоге сложит два и два. Однако я не спрашиваю, потому что это больше не имеет значения.
Уэнделл был прав: неловкость исчезла. Тайна раскрыта, психический яд испарился.
Я получила консультацию – или же это была психотерапия? – в которой нуждалась.
50 Смертьзилла
До сессии Джулии десять минут, и я уплетаю соленые крендельки на кухне нашего офиса. Я не знаю, когда будет наша последняя сессия. Если Джулия опаздывает, я подозреваю худшее. Должна ли я узнавать, как у нее дела, между сессиями, или дать ей возможность позвонить самой в случае необходимости (зная, что ей сложно просить о помощи)? Должны ли личные границы психотерапевтов быть другими – более свободными – при работе с неизлечимо больными пациентами?
Когда я впервые увидела Джулию в Trader Joe’s, я не хотела вставать к ней в очередь, но после того случая, если мы были в магазине одновременно, Джулия махала мне, и я с радостью переходила к ней. Если со мной был сын, он отбивал «пять» в знак приветствия и получал лишний лист с наклейками. Когда Джулия перестала там появляться, он это заметил.
– Где Джулия? – спрашивал он, высматривая ее среди кассиров, пока мы продвигались в очереди. Не то чтобы я не говорила с ним о смерти – моя близкая подруга детства умерла от рака несколько лет назад, и мне пришлось рассказать Заку правду о ее болезни. Но из-за вопросов конфиденциальности я не могла рассказать ничего о Джулии. Один вопрос мог повлечь за собой другие – вплоть до границ, которые я не могла пересечь.
– Может быть, она теперь работает в другие дни, – сказала я, словно была знакома с ней только по Trader Joe’s. – Или нашла другую работу.
– Она бы не искала другую работу, – сказал Зак. – Она любила эту.
Меня поразил его ответ: даже ребенок это заметил.
Когда Джулия перестала работать в магазине, мы начали вставать в очередь Эммы – женщины, которая предложила Джулии выносить ее ребенка. Эмма тоже давала сыну лишние наклейки.
Но сидя в офисе, ожидая появления Джулии, я задавалась тем же самым вопросом, что и Зак: «Где Джулия?»
Слово, которое мы используем для окончания психотерапии – терминация[32]. Оно всегда казалось мне резко звучащим в отношении того, что в идеале было теплым, сладко-горьким и вдохновляющим опытом, почти как школьный выпускной. Обычно, когда психотерапия подходит к концу, работа переходит в финальную стадию – прощание. На этих сессиях мы с пациентом подытоживаем произошедшие изменения, обсуждая «процесс и прогресс». Что оказалось полезным? Что нет? Что пациент узнал о себе – сильные стороны, проблемы, внутренние стратегии и нарративы? Какие копинг-стратегии и более здоровые способы существования он будет практиковать после завершения сессий? Под всем этим, конечно же, лежит один вопрос: как нам попрощаться?
В повседневной жизни у многих из нас нет опыта осмысленных прощаний, иногда и прощаний вообще. Процесс терминации позволяет кому-то, кто провел значительное количество времени, прорабатывая жизненно важную проблему, сделать больше, чем просто уйти с фразой: «Ну ладно, спасибо, пока!» Исследования показывают, что люди помнят свой опыт, основываясь на том, как он закончился, и терминация – влиятельная фаза в психотерапии, потому что она предлагает опыт позитивного окончания того, что казалось вечностью негативных, нерешенных или пустых финалов.
Однако мы с Джулией готовились к терминации другого рода. Мы обе знали, что ее психотерапия не закончится, пока она не умрет; я обещала ей это. И наши встречи становились все более и более молчаливыми – не потому, что мы избегали разговоров, а потому, что именно так сессии проходили в атмосфере честности. Наше молчание насыщенно, наши эмоции вихрем крутятся в воздухе. Но молчание также символизирует ухудшающееся состояние Джулии. У нее и без того мало энергии, а разговор ее отнимает. Как ни странно, внешне Джулия выглядит здоровой, просто очень худой, поэтому так многие с трудом верят, что она умирает. Иногда и я тоже. И в какой-то мере у нашего молчания есть еще одна цель: оно дает нам иллюзию остановки времени. На пятьдесят счастливых минут нам обеим дарована передышка от внешнего мира. Джулия говорила мне, что чувствует себя в безопасности в моем кабинете, где не нужно переживать за людей, которые переживают за нее, где можно вспомнить о своих собственных чувствах.
– Но я тоже испытываю определенные чувства по отношению к вам, – сказала я в тот день, когда она упомянула об этом.
Она задумалась на секунду и просто сказала:
– Вы хотели бы знать, какие именно? – спросила я.
Джулия улыбнулась.
– Это я тоже знаю.
А потом мы снова замолчали. Конечно, в перерывах между тишиной мы разговариваем. Недавно она сказала, что задумалась о путешествиях во времени. Она слушала радиопередачу об этом и поделилась цитатой, которая ей понравилась, в которое прошлое было определено как «обширная энциклопедия бедствий, которые все еще можно исправить». Она запомнила это, сказала Джулия, потому что засмеялась после этой фразы. А потом заплакала. Потому что она не проживет настолько долго, чтобы составить эту энциклопедию бедствий, которую другие люди пополняют к преклонному возрасту: отношения, которые они хотели бы наладить, карьерные пути, которые они хотели бы выбрать, ошибки, которых они хотели бы не допустить.
Вместо этого Джулия путешествовала в прошлое, чтобы заново прожить те моменты, которыми она наслаждалась. Детские праздники в честь дня рождения, каникулы с бабушкой и дедушкой, первая любовь, первая публикация, первый разговор с Мэттом, который продлился до рассвета и все еще не закончился. Но даже если бы она была здоровой, сказала она, она бы не хотела оказаться в будущем. К чему знать сюжет фильма, услышать спойлеры?
– Будущее – это надежда, – сказала Джулия. – Но разве есть место надежде, когда ты уже знаешь, что случится? Ради чего тогда ты живешь? К чему ты стремишься?
Я сразу подумала о разнице между Джулией и Ритой – между юностью и старостью, поменявшимися местами. Джулия, молодая девушка, не имела будущего, но была вполне довольна своим прошлым. Рита, пожилая женщина, имела будущее, но ее прошлое тяготило ее.
В тот день Джулия в первый раз уснула на сессии. Она задремала на несколько минут, а когда проснулась и поняла, что случилось, то от смущения пошутила, что я, должно быть, путешествовала во времени, желая быть где-то в другом месте, пока она спала.
Я покачала головой. Я вспомнила, как слушала по радио, видимо, ту же самую передачу и обдумывала наблюдение, сделанное в конце этого отрывка – о том, что все мы путешествуем во времени в будущее с одной и той же скоростью: шестьдесят минут в час.
– Значит, мы сестры по временным путешествиям, – сказала Джулия.
– Так и есть, – сказала я. – Даже когда вы отдыхаете.
В другой раз Джулия прервала наше молчание, чтобы рассказать мне, что Мэтт назвал ее Смертьзиллой: якобы она помешалась, планируя свои поминки, подобно тому как некоторые невесты становятся Брайдзиллами – девушками, которые достают всех вокруг разговорами и планами своей свадьбы. Она даже наняла профессионального координатора, чтобы тот помог ей реализовать ее видение похорон («В конце концов, это мой день!»). Несмотря на первоначальный дискомфорт, Мэтт также полностью в это включился.
– Мы вместе планировали свадьбу, а теперь вместе планируем похороны, – сказала Джулия, и это стало, по ее словам, одним из самых интимных переживаний в их жизни, полным глубокой любви, сильной боли и черного юмора. Когда я спросила, каким бы она хотела видеть этот день, сначала она сказала: «Вообще, я предпочла бы не быть мертвой». Но поскольку эта идея провалилась, она не хотела, чтобы все было «слащаво» и «пышно». Ей нравилась идея «празднования жизни», что, по словам координатора, было весьма в моде, но ей не нравился смысл этой задумки.
– Бога ради, это же похороны! – сказала она. – Все люди в моей раковой группе говорят: «Я хочу, чтобы люди праздновали! Не хочу, чтобы люди грустили на моих похоронах». А я такая: «А какого хрена? Ты умер!»
– Вы хотите коснуться жизни людей, чтобы они были тронуты вашей смертью, – сказала я. – Чтобы эти люди помнили вас, хранили в памяти.
Джулия сказала, что хотела бы, чтобы люди помнили о ней подобно тому, как она вспоминает обо мне в перерывах между сессиями.
– Иногда я веду машину и начинаю паниковать по какому-то поводу, но потом словно слышу ваш голос, – объяснила она. – Я вспоминаю что-то из того, что вы сказали.
Я думаю о том, что проделываю то же с Уэнделлом – я пропускаю через себя цепочки его вопросов, его переформулирование ситуаций, его голос. Это настолько универсальное переживание, что готовность к терминации определяется отчасти по тому, всплывает ли в голове пациента голос психотерапевта, применяемый в конкретных ситуациях и, по сути, устраняющий необходимость в терапии. «Мне стало грустно, – может сказать пациент ближе к концу психотерапии, – но потом я вспомнил, то вы говорили в прошлом месяце». Мысленно я веду полноценные беседы с Уэнделлом, и Джулия делает то же самое со мной.
– Может прозвучать безумно, – говорила Джулия, – но я знаю, что буду слышать ваш голос и после смерти. Что я буду слышать его, где бы ни была.
Джулия также рассказала мне, что начала думать о загробной жизни – концепции, в которую она до конца не верила, но которую приняла «на всякий случай». Будет ли она там одна? В страхе? Все, кого она любила, еще живы: ее муж, ее родители, бабушки и дедушки, сестра, племянник и племянница. Кто составит ей компанию? А потом она поняла две вещи. Во-первых, ее не родившиеся из-за выкидышей дети тоже могут быть там, где бы это «там» ни было. Во-вторых, она поверила, что будет слышать – в каком-то несознаваемом духовном смысле – голоса тех, кого любила.
– Я бы никогда не произнесла этого, если бы не умирала, – сказала она смущенно, – но вы тоже в списке моих любимых людей. Я знаю, что вы мой психотерапевт, так что надеюсь, вы не подумаете, что это жутко. Но когда я говорю людям, что люблю своего психотерапевта, я правда имею в виду, что люблю своего психотерапевта.
За годы работы я испытывала любовь по отношению ко многим своим пациентам, но никогда не использовала эти слова с кем-то из них. Во время обучения нам говорили быть осторожнее со словами, чтобы избежать недопонимания. Есть множество способов донести до пациентов, как мы заботимся он них, не вторгаясь на опасную территорию. Сказать «Я вас люблю» – не один из них. Но Джулия сказала, что она любит меня, и я не собиралась соблюдать профессиональные приличия и увиливать от ответа.
– Я тоже вас люблю, Джулия, – сказала я ей в тот день. Она улыбнулась, потом закрыла глаза и снова задремала.
Теперь, стоя на кухне в ожидании Джулии, я думаю о том разговоре. И я знаю, что тоже буду слышать ее голос после того, как она уйдет, особенно в определенные моменты: совершая покупки в Trader Joe’s или разбирая вещи после стирки и натыкаясь на пижаму «Намасте в постели». Я храню эту футболку не для того, чтобы помнить Бойфренда, а чтобы помнить Джулию.
Я все еще ем крендельки, когда загорается зеленый огонек. Я запихиваю в рот еще один, споласкиваю руки и облегченно вздыхаю.
Джулия сегодня рано. Она жива.
51 Дорогой Майрон
Рита приносит метровую черную папку с нейлоновыми ручками. Она начала преподавать искусство в местном университете – том самом, из которого должна была выпуститься, если бы не бросила его, выйдя замуж. Сегодня она захватила свои работы, чтобы показать их студентам.
В папке лежат наброски картин, которые она продает на своем веб-сайте; эта серия основана на ее собственной жизни. Образы визуально комичны и даже мультяшны, но их тематика – сожаление, уничижение, время, секс восьмидесятилетних – хранит в себе мрачность и глубину. Она показывала мне их и раньше, но теперь достает из папки еще кое-что. Желтый блокнот.
Она не разговаривала с Майроном со времен того поцелуя, что произошло два месяца назад. На самом деле она избегала его, посещая другие занятия в спортзале, не отвечая на стук в дверь (теперь она использует глазок исключительно по назначению, а не подсматривает за «привет-семейством»), включая режим невидимки в окрестностях дома. Ей понадобилось немало времени, чтобы написать письмо, четко выверяя каждую строчку. Она говорит мне, что уже не понимает, есть ли смысл в ее словах: она в очередной раз прочитала его утром перед сессией и вообще не уверена, что должна его отправлять.
– Можно прочитать его вам, прежде чем я выставлю себя полной дурой? – спрашивает она.
– Конечно, – говорю я, и она кладет блокнот на колени.
Мне виден ее почерк – не конкретные буквы, но очертания. Чувствуется рука художника, думаю я. Великолепное письмо, идеально выведенные завитушки. Она минуту собирается с духом: делает вдох и выдох, почти начинает, снова делает вдох и выдох. Наконец, она приступает.
– «Дорогой Майрон», – читает она со страницы, потом смотрит на меня. – Это не слишком формально? Не слишком интимно? Думаете, стоило начать со «Здравствуй»? Или просто с более нейтрального «Майрон»?
– Я думаю, что если вы будете слишком переживать из-за мелочей, то можете упустить общую картину, – говорю я, и Рита корчит рожицу. Она знает, что я говорю о большем, чем просто о приветствии.
– Ладно, – говорит она, снова глядя в разлинованный блокнот. Тем не менее она берет ручку, вычеркивает слово «дорогой», делает вдох и начинает снова.
– «Майрон, – читает она. – Прошу прощения за свое непростительное поведение на парковке. Это было совершенно неуместно, и я приношу свои извинения. Я определенно задолжала объяснение – и ты его заслуживаешь. Так что сейчас я все объясню, и после этого, я уверена, между нами все будет кончено».
Должно быть, я издала какой-то звук – невольное «ммм» – потому что Рита поднимает глаза и спрашивает:
– Что? Чересчур?
– Я подумала о тюремном заключении, – говорю я. – Видимо, вы полагаете, будто Майрон придерживается той же системы наказаний.
Рита думает об этом, что-то вычеркивает, затем читает дальше.
– «Если честно, Майрон, – продолжает она, – поначалу я не знала, почему влепила тебе пощечину. Мне казалось, дело в том, что я злилась из-за того, что ты встречался с той женщиной, которая, если говорить начистоту, недостойна тебя. Что более важно – я не могла понять, почему мы вели себя, как пара, месяцами. Почему ты позволил мне неверно понять ситуацию, только чтобы избавиться от меня. Я знаю, что ты объяснился. Ты боялся романтических отношений со мной, потому что если бы дела пошли плохо, то наша дружба была бы утеряна. Ты боялся, что в случае неудачи мы будем чувствовать себя неловко, живя в одном доме – как будто не было неловко видеть тебя с женщиной, чье ржание я слышала через два этажа даже с включенным телевизором».
Рита смотрит на меня, вопросительно поднимает брови, и я качаю головой. Она что-то вычеркивает.
– «Но сейчас, Майрон, – продолжает Рита, – ты говоришь, что готов рискнуть. Ты говоришь, что я стою этого риска. И когда ты сказал это на парковке, я должна была бежать, потому что – веришь ты или нет – мне жаль тебя. Мне жаль тебя, потому что ты понятия не имеешь, какой риск берешь на себя, увлекаясь мной. Будет нечестно позволить тебе сделать это, не рассказав, кто я на самом деле».
По щеке Риты скатывается слеза, потом еще одна, и женщина лезет в боковой карман своей папки, куда она засунула несколько бумажных платков. Как всегда, коробка с салфетками стоит на расстоянии вытянутой руки от нее, и меня по-прежнему сводит с ума, что она не может просто взять их. Пару минут она плачет, затем заталкивает использованные салфетки в карман папки и снова смотрит в блокнот.
– «Ты думаешь, будто знаешь все о моем прошлом, – читает она. – Мои браки, имена и возраст моих детей, города, в которых они живут; знаешь тот факт, что я нечасто их вижу. Что ж, «нечасто» – не совсем точное слово. Стоило бы сказать, что я вообще с ними не вижусь. Почему? Потому что они ненавидят меня».
Голос Риты срывается, но она берет себя в руки и продолжает:
– «Ты не знаешь, Майрон (как не знали также мой второй и третий мужья), что их отец, мой первый муж по имени Ричард, пил. Когда он был пьян, он причинял нашим детям – моим детям – боль: иногда словами, иногда руками. Он мог обидеть их так, что я не могу даже описать это словами в этом письме. Поначалу я кричала, чтобы он прекратил, умоляла; он кричал на меня в ответ, и если он был очень пьян, то бил и меня тоже. Я не хотела, чтобы дети это видели, так что замолкала. Знаешь, что я делала вместо этого? Я уходила в другую комнату. Ты читаешь это, Майрон? Мой муж бил моих детей, а я уходила в другую комнату! И я думала о своем муже: «Ты ломаешь их навсегда, ломаешь так, что нельзя будет ничего исправить». И я знала, что тоже ломаю их, плакала и не делала ничего».
Рита так рыдает, что больше не может говорить. Она закрывает лицо ладонями, а когда успокаивается, расстегивает карман папки, достает промокшие салфетки, вытирает ими лицо, облизывает палец и переворачивает страницу блокнота.
– «Ты спросишь, почему я не вызвала полицию. Почему я не ушла и не забрала детей с собой. Тогда я говорила себе, что невозможно выжить, позаботиться о детях и получить достойную работу, не окончив колледж. Каждый день я просматривала объявления с вакансиями в газете и думала: «Я могу быть официанткой, секретарем или библиотекарем, но смогу ли я выкроить время на работу? Кто заберет детей из школы? Приготовит им обед?» Я никогда не звонила по указанным номерам, потому что правда в том – и ты должен услышать меня, Майрон – правда в том, что я не хотела даже поинтересоваться. Это так: я не хотела».
Рита смотрит на меня, как бы говоря: «Видите? Видите, какое я чудовище?» Эта часть стала откровением и для меня. Она поднимает палец – сигнал, чтобы я подождала, пока она соберется – а потом продолжает читать:
– «Я чувствовала себя так одиноко, будучи ребенком (и это не оправдание, лишь объяснение), что мысль остаться матерью-одиночкой с четырьмя детьми и работать по восемь часов каждый день на бесперспективной работе… я не могла ее вынести. Я видела, что происходит с другими разведенными женщинами, как их подвергают остракизму, словно они прокаженные, и думала: «Нет, спасибо». Я представляла, что вокруг не будет взрослых людей, с которыми я могла бы поговорить, и боялась потерять свое единственное спасение. У меня бы не было ни времени, ни ресурсов, чтобы писать картины – и я боялась, что в подобных обстоятельствах у меня возникнет искушение покончить с собой. Я оправдывала свое бездействие доводом, что депрессивная мать все же лучше, чем мертвая мать. Но есть еще одна правда, Майрон: я не хотела потерять Ричарда».
У Риты вырывается мрачный смешок, следом – слезы. Она вытирает глаза грязными салфетками.
– «Ричард… да, я ненавидела, но и любила его – точнее, ту его версию, которая не пила. Он был гениален, остроумен; как бы странно это ни звучало, я знала, что буду скучать по его компании. Кроме того, я волновалась за детей, которым бы пришлось остаться наедине с Ричардом, с учетом его пьянства и его характера. Так что я бы добивалась того, чтобы они остались со мной – а поскольку он работал целыми днями, часто задерживаясь на ужинах вне дома, он бы согласился. И сама мысль о том, что он так легко отделается, была мне отвратительна».
Рита снова облизывает палец, чтобы перевернуть страницу, но листы слипаются, и ей удается отделить одну страницу от остальных не с первой попытки.
– «Однажды, в приступе смелости, я сказала ему, что ухожу. Это была правда, Майрон, а не пустая угроза. Я решила, что с меня хватит. Я сказала ему, и Ричард посмотрел на меня, поначалу удивившись, как мне кажется. Но потом на его лице появилась улыбка – самая злобная улыбка из всех, что я видела, и он медленно, четко сказал голосом, который я могу описать разве что как рычание: «Если ты уйдешь, ты не получишь ничего. Дети не получат ничего. Так что милости прошу, Рита. Уходи!» А потом он рассмеялся, и в его смехе было столько яда, и я четко поняла, что это была глупая затея. Я поняла, что останусь. Но чтобы остаться, чтобы жить так, я врала себе самыми разными способами. Я говорила себе, что это прекратится. Что Ричард перестанет пить. И иногда так и было – по крайней мере, на какое-то время. Но потом я находила его тайники, бутылки, выглядывающие из-за книг по юриспруденции на полках, завернутые в одеяла на шкафах детей. И мы возвращались в ад.
Я представляю, о чем ты сейчас думаешь. Что я ищу оправдания. Что я изображаю из себя жертву. Это правда. Но еще я много думала о том, как человек может быть одним или другим – в одно и то же время. Я думала о том, как сильно любила своих детей, несмотря на то, что позволяла с ними делать; как Ричард, думаю, тоже их любил. Я думала о том, как он может издеваться над нами – и одновременно любить нас, смеяться и помогать детям с домашними заданиями, тренировать их перед играми Младшей Лиги и давать им мудрые советы во время ссор с друзьями. Я думала о том, как Ричард говорил, что изменится, как он хотел измениться и как не менялся – по крайней мере, ненадолго. Как, несмотря на это, ничего из того, что он говорил, не было ложью.
Когда я, наконец, ушла, Ричард плакал. Я никогда раньше не видела его слез. Он умолял меня остаться. Но я видела, что мои дети – уже подростки или почти подростки – обратились к наркотикам и самовредительству, желая умереть, как и я. Мой сын чуть не умер от передозировки – и что-то щелкнуло во мне; я сказала: «Хватит». Ничто – ни бедность, ни отказ от рисования, ни страх остаться одной до конца жизни – ничто не смогло остановить меня от того, чтобы забрать детей и уехать. На следующее утро после того, как я сказала Ричарду, что ухожу, я сняла деньги с нашего банковского счета, устроилась на работу и сняла двухкомнатную квартиру (одна комната для меня и дочери, другая – для мальчиков). И мы уехали.
Но было слишком поздно. Дети были в раздрае. Они ненавидели меня и, что странно, хотели вернуться к Ричарду. Когда мы ушли, Ричард стал вести себя лучше, чем когда бы то ни было, и поддерживал их финансово. Он мог появиться в колледже дочери и накормить ее и ее друзей дорогим обедом. И вскоре дети стали вспоминать его иначе – особенно младшие, которые скучали по играм с ним. Младшие умоляли остаться с ним. А я чувствовала себя виноватой за то, что ушла. Я сомневалась. Было ли это правильным решением?»
Рита останавливается.
– Погодите, – говорит она мне, – я потеряла нужное место.
Она переворачивает несколько страниц, потом находит и продолжает.
– «И так, Майрон, – читает она, – в конце концов дети полностью вычеркнули меня из своей жизни. После моего второго развода они говорили, что совершенно меня не уважают. Они поддерживали связь с Ричардом, и он посылал им деньги, но когда он умер, его вторая жена каким-то образом получила все его деньги – и дети разозлились. Они были просто в ярости! Внезапно они более четко вспомнили, что он делал с ним, но они злились не только на него. Они по-прежнему злились на меня – за то, что я это допустила. Они перестали со мной общаться, и я слышала о них только тогда, когда они были в беде. Моя дочь была в абьюзивных отношениях, и ей нужны были деньги, чтобы уйти, но она не рассказала мне никаких подробностей. «Просто пришли мне денег», сказала она, и я так и сделала. Я отправила ей деньги, чтобы она могла снять квартиру и купить еды. Конечно же, она не ушла; насколько я знаю, она все еще с тем же мужчиной. Потом моему сыну нужны были деньги на реабилитационный центр, но он не позволил мне навестить его».
Рита бросает взгляд на часы.
– Я заканчиваю, – говорит она.
– «Я лгала и о других вещах, Майрон. Я сказала, что не могу быть твоим партнером по бриджу, потому что плохо играю, но на самом деле я отличный игрок. Я отклонила твое предложение, потому что мне показалось, что в какой-то момент это поставит меня в ситуацию, когда придется рассказать все это. Что если мы поедем на турнир в город, где живет кто-то из моих детей, и ты спросишь меня, почему мы не идем к ним в гости, то мне придется что-то придумывать: говорить, что они в отъезде, или болеют, или еще что-нибудь. Но это бы не срабатывало раз за разом. Ты бы начал что-то подозревать, рано или поздно, я уверена, сложил бы два и два и понял, что что-то пошло не так. Понял, что женщина, с которой ты встречаешься – не та, за кого себя выдает».
Голос Риты дрожит, а затем срывается, когда она пытается прочесть последние предложения.
– «Вот какая я, Майрон, – читает она так тихо, что я едва слышу ее. – Вот та женщина, которую ты целовал на парковке спортклуба».
Рита смотрит на письмо, а я поражаюсь, насколько четко она изложила все противоречия своей истории. Когда она в первый раз пришла ко мне, то упомянула, что я напоминаю ей дочь, по которой она очень скучает. Ее дочь, сказала она, как-то упоминала, что хочет стать психологом, даже была волонтером в одном центре, но потом сбилась с пути, сметенная нестабильными отношениями.
Я не сказала Рите, что в какой-то мере она напоминала мне мою мать. Не то чтобы взрослые годы моей матери хоть как-то напоминали жизнь Риты. Мои родители жили в долгом, стабильном и наполненном любовью браке, а мой отец был добрейшим из мужей. Общим было то, что и у Риты, и у моей мамы было трудное, одинокое детство. Отец моей матери умер, когда ей было всего девять лет; ее мать, в свою очередь, делала все возможное, чтобы поднять их с сестрой, но моя мама страдала. И ее страдания повлияли на то, как она общалась с собственными детьми.
Так что, как и дети Риты, я прошла через тот период, когда совсем не общалась с матерью. И хотя это уже давно прошло, когда я сижу с Ритой и слушаю ее историю, мне хочется плакать – не от своей боли, а от боли своей матери. За все время, что я размышляла о наших отношениях сквозь года, я никогда не понимала ее жизнь так ясно, как сейчас. Я думаю, что каждому взрослому должна быть дана возможность услышать родителей – не собственных: полностью открытых, уязвимых, чтобы они изложили свою версию событий. Потому что, узнав подобное, вы не сможете поделать ничего, кроме как прийти к новому пониманию жизни своих родителей, какой бы ни была ситуация.
Когда Рита читала письмо, я не просто слушала ее слова – я еще и наблюдала за языком ее тела, видя, как она временами сжималась; как ее руки иногда начинали дрожать, губы сжимались, ноги тряслись, а голос срывался; как она покачивалась, делая паузу. Я смотрю на ее тело – и сейчас, каким бы грустным оно ни казалось, оно выглядит если не успокоившимся, то в одном из своих самых расслабленных состояний. Она откидывается на диване, приходит в себя после напряженного чтения.
А потом случается нечто потрясающее.
Она тянется к коробке с салфетками с моей стороны стола и берет одну. Чистую, свежую салфетку! Она разворачивает ее, сморкается, потом берет еще одну и снова сморкается. Я еле сдерживаюсь, чтобы не разразиться аплодисментами.
– И как вы думаете, – говорит она, – мне надо отправить это?
Я представляю, как Майрон читает письмо Риты. Интересно, как он отреагирует, будучи отцом и дедом, человеком, женатым на Мирне, которая, скорее всего, была совершенно другой матерью для их счастливо выросших детей? Примет ли он Риту такой, какая она есть, полностью? Или это будет чересчур – информация, с которой он не сможет справиться?
– Рита, – говорю я. – Это решение, принять которое можете только вы. Но мне любопытно: это письмо для Майрона или для ваших детей?
Рита замолкает на секунду, глядя в потолок. Потом снова смотрит на меня, кивает, но ничего не говорит, потому что мы обе знаем ответ: оба варианта верны.
– В общем, – говорю я Уэнделлу. – Мы вернулись домой после ужина с друзьями, и я отправила Зака в душ. Но он хотел играть, и я сказала нет, потому что на следующий день нужно идти в школу. И тогда он вдруг разошелся и завизжал: «Ты такая злая! Самая злая в мире!» – что совсем на него не похоже, но этот гнев вскипел и внутри меня. Так что я сказала что-то мелочное, вроде: «Правда? Что ж, тогда в следующий раз я не буду звать тебя и твоих друзей на ужин, раз я такая плохая». Как будто мне пять лет! Он сказал: «Ну и ладно!» Хлопнул дверью – он никогда раньше не хлопал дверью – и пошел в душ, а я включила компьютер, собираясь разобрать почту, но вместо этого завела мысленный разговор о том, правда ли я злая. Как я могла так ответить? В конце концов, я же взрослая… А потом я вдруг вспомнила расстроивший меня утром разговор с матерью, и пазл сошелся. Я злюсь не на Зака. Я злюсь на свою маму. Это классический перенос.
Уэнделл улыбается, словно говоря: «Перенос – та еще сволочь, да?»
У всех нас есть защитные механизмы, чтобы справляться с тревогой, разочарованием или неприемлемыми импульсами. Примечательно в них то, что мы не распознаем их в конкретную минуту. Знакомый пример – отрицание: курильщик может цепляться за убеждение, что его одышка вызвана погодой, а не сигаретами. Другой человек может применить рационализацию (оправдывая что-то постыдное): потеряв работу, он скажет, что никогда в действительности не отдавал ей приоритет в своей жизни. При формировании реакции неприемлемые чувства или импульсы выражаются противоположно: человек, которому не нравятся соседи, может попытаться с ними подружиться, а верующий христианин, которого привлекают мужчины, может разразиться гомофобными ругательствами.
Некоторые защитные механизмы считаются примитивными, другие – зрелыми. К последним относится сублимация, когда человек превращает потенциально вредоносные импульсы во что-то менее вредоносное (агрессивный человек начинает заниматься боксом) или даже конструктивное (человек, страстно желающий резать людей, становится хирургом, спасающим жизни).
Перенос (переключение эмоции на одного человека, на более безопасную альтернативу) считается невротической защитой – ни примитивной, ни зрелой. Женщина, на которую наорал начальник, но которая не может разораться в ответ, чтобы не быть уволенной, приходит домой и орет на собаку. Женщина, которая злится на мать после телефонного разговора, может перенести эту злость на сына.
Я говорю Уэнделлу, что когда пришла извиниться перед сыном, то обнаружила, что и он перенес свою злость на меня: какие-то дети на перемене выгнали Зака и его друзей с баскетбольной площадки. Когда учитель, присматривающий за двором, сказал, что играть могут все, мальчики не отдали Заку и его друзьям мяч и говорили «плохие» слова. Зак безумно разозлился на этих мальчиков, но куда безопаснее было сердиться на маму, которая отправила его в душ.
– Ирония происходящего, – продолжаю я, – в том, что мы оба выпустили пар не на ту цель.
Время от времени мы с Уэнделлом обсуждали отношения детей и родителей: то, какими люди становятся в зрелом возрасте, когда перестают винить во всем отцов и матерей и берут на себя всю ответственность за собственную жизнь. Уэнделл называет это «сменой караула». Если в молодости люди часто приходят на психотерапию, чтобы понять, почему родители не ведут себя так, как их детям бы того хотелось, то позже они хотят разобраться, как работать с тем, что есть. Поэтому и мой вопрос о матери перешел из разряда «Почему она не может измениться?» к «Почему я не могу?» Как так сложилось, спрашиваю я Уэнделла, что даже в мои сорок с лишним меня может настолько вывести из себя разговор с матерью?
Я не жду ответа. Уэнделлу нет нужды говорить мне, что люди регрессируют: вы можете удивиться, насколько далеко продвинулись, только чтобы обнаружить сразу после, что откатились назад, к старым ролям.
– Это как с яйцами, – говорю я, и он кивает, понимая. Я как-то пересказала ему историю из своего офиса: Майк, мой коллега, однажды сказал, что, когда мы чувствуем себя хрупкими, мы как сырые яйца – если нас бросить, мы разобьемся и забрызгаем все вокруг. Но если развивать осознанность, то мы станем как вареные яйца – может, и треснем, но не разлетимся по всему полу. За годы общения с матерью я превратилась в вареное яйцо, но сырое иногда возвращается.
Я говорю Уэнделлу, что тем же вечером моя мама извинилась, и мы разобрались с проблемой. Но перед этим я попала в старую ловушку: она хочет, чтобы я сделала что-то так, как хочет она, а я хочу делать так, как хочется мне. Возможно, Зак воспринимает меня так же, будто я пытаюсь контролировать его, заставляя делать что-то так, как хочу я – все во имя любви, из лучших побуждений. Как бы громко я ни утверждала, что значительно отличаюсь от своей матери, бывают моменты, когда я жутко на нее похожа.
Рассказывая Уэнделлу о телефонном разговоре, я не утруждаюсь повторить, что сказала моя мама или что сказала я, потому что знаю: суть не в этом. Он не обозначит меня как жертву, а мою мать – как агрессора. Годы назад я бы разобрала все наши па-де-де, надеясь услышать поддержку собеседника: «Видишь? Разве с ней не трудно?» Сейчас его незамутненный подход больше мне подходит.
Сегодня я говорю Уэнделлу, что начала записывать голосовые сообщения от мамы на компьютер – теплые и милые, которые сама захочу переслушать и которые, возможно, захочет послушать мой сын, чтобы услышать голос бабушки, когда он будет моего возраста. Или еще позже, когда нас обеих не станет. Я также говорю, что замечаю: мое родительское нытье больше не для Зака, а для меня самой; это способ отвлечься от осознания, что однажды он покинет меня, от грусти, хотя я и хочу, чтобы он проделал ту здоровую работу по «сепарации и индивидуализации».
Я пытаюсь представить Зака подростком. Я помню, как моя мама пыталась справиться со мной в подростковом возрасте и считала меня такой же отдалившейся, каким я в один прекрасный момент могу ощутить Зака. Кажется, совсем недавно он ходил в садик, мои родители были здоровы, и я была здорова, а соседские дети забегали поиграть каждый вечер после ужина. И моей единственной мыслью после ужина было ощущение, что дела пойдут легче, что у меня появится больше свободы и больше сна. Я никогда не думала о том, что могу потерять.
Кто мог знать, что телефонный разговор с моей матерью может вытащить все это на поверхность – что лежащее в глубине недовольство вовсе не о том, чтобы она ушла, а о том, чтобы она осталась навсегда?
Я думаю также о других словах Уэнделла: «Природа жизни – меняться, природа человека – сопротивляться изменениям». Так он перефразировал что-то из прочитанного ранее, что отозвалось в нем как в личности и как в психотерапевте, сказал он, потому что это была именно та тема, которая звучала в проблемах почти каждого человека. За день до того как он это сказал, мой окулист сообщил, что у меня развивается пресбиопия, с которой сталкивается большинство людей за сорок. С возрастом люди становятся дальнозоркими: они должны отдалять от глаз все, что читают или рассматривают, чтобы четче видеть. Возможно, в этом возрасте проявляется и эмоциональная пресбиопия, когда люди делают шаг назад, чтобы увидеть всю картину: как страшно им потерять то, что они имеют, даже если продолжают жаловаться на это.
– А моя мать! – восклицает Джулия в моем офисе в тот же день, пересказывая свой разговор с мамой. – Для нее все это так тяжело. Она говорила, что ее работа, как родителя, заключается в том, чтобы убедиться, что ее дети будут в безопасности, когда она покинет эту планету. Но теперь она пытается убедиться, что ее безопасно покину я.
Джулия говорит мне, что, когда она училась в колледже, они с мамой воевали из-за бойфренда Джулии. Матери казалось, что Джулия потеряла свою природную жизнерадостность и что причиной тому было поведение бойфренда: он отменял планы в последнюю минуту, заставлял Джулию редактировать его работы, требовал, чтобы она проводила праздники с ним, а не со своей семьей. Мама предложила ей зайти в консультационный центр кампуса и обсудить все это с нейтральной стороной, и Джулия взорвалась.
«С нашими отношениями все в порядке! – кричала Джулия. – Если я и пойду на консультацию, то только для того, чтобы поговорить о тебе, не о нем!» Она не пошла в консультационный центр, хотя сейчас сожалела об этом. Через несколько месяцев парень бросил ее. А мама любила ее достаточно, чтобы не сказать: «Я же говорила!» Вместо этого, когда рыдающая Джулия позвонила, ее мама сидела у телефона и просто слушала.
– Теперь, – говорит Джулия, – моей маме придется пойти к психотерапевту, чтобы поговорить обо мне.
Недавно один из моих анализов вернулся с положительным маркером на синдром Шегрена – аутоиммунное заболевание, распространенное среди женщин старше сорока. Несмотря на это, мои врачи не были уверены, что у меня именно эта болезнь: у меня не проявлялись его основные симптомы. «Возможно, нетипичное течение», – объяснил один из врачей, а затем предположил, что у меня может быть синдром Шегрена и что-то еще, что доктора и анализы до сих пор не выявили. Синдром Шегрена, оказывается, трудно диагностировать, и никто не знает, что его вызывает: генетические факторы, окружающая среда, бактерии, вирусы или какое-то сочетание этих факторов.
«У нас нет всех ответов», – сказал этот врач. И хотя перспектива по-прежнему не знать, что со мной, пугала меня, комментарий другого врача ужаснул меня еще больше: «Что бы это ни было, оно рано или поздно проявится». В ту неделю я снова поделилась с Уэнделлом своим величайшим страхом – оставить Зака без матери. Уэнделл сказал, что у меня есть два варианта: стать Заку матерью, которая постоянно переживает, что оставляет его без себя, или стать матерью, чье ненадежное состояние здоровья заставляет ее острее осознавать важность проведенного вместе времени.
– Что пугает вас меньше? – риторически спросил он.
Его вопрос заставил меня вспомнить о Джулии и о том, как поначалу я колебалась, когда она спросила, буду ли я работать с ней до ее смерти. Дело было не в моей неопытности. Как я поняла позже, дело было в том, что Джулия заставляет меня осознать собственную смертность – а я не была к этому готова. Даже согласившись на ее просьбу, я держала себя в безопасной зоне, никогда не сравнивая свою смертность с ее ситуацией. В конце концов, никто не ставил такой же временной лимит на мою жизнь. Но Джулия научилась жить с тем, кем она была и что у нее было – по сути, это то, что я помогла ей сделать и что нужно сделать всем нам. В нашей жизни слишком много всего, что так и остается неизвестным. Я должна смириться с тем, что не знаю, что уготовано для меня в будущем, должна разобраться со своим беспокойством и сосредоточиться на том, чтобы жить сейчас. Это не просто совет, который я дала Джулии. Настало время принять свое собственное лекарство.
– Чем больше вы принимаете свою уязвимость, – сказал Уэнделл, – тем меньше вы будете бояться.
Мы не так смотрим на жизнь в молодости. Наши более молодые версии рассуждают в категориях начала, середины и своего рода заключения. Но где-то по дороге – возможно, в той самой середине – мы осознаем, что каждый живет с вещами, которые может никогда не разрешить. Что середина должна быть этим заключением, и наша задача – придать ей смысл. И хотя кажется, что время неумолимо ускользает и его нельзя удержать, верно еще кое-что: моя болезнь сместила мой фокус. Вот почему я не могу написать не ту книгу. Вот почему я снова хожу на свидания. Вот почему я впитываю в себя контакты с матерью и смотрю на нее с великодушием, которого так долго не могла достичь. И вот почему Уэнделл помогает мне исследовать то материнское отношение, с которым я когда-нибудь оставлю Зака. Теперь я держу в уме, что ни один из нас не может любить и быть любимым без вероятных потерь, но есть разница между знанием и страхом.
Пока Джулия представляет свою мать на приеме у психотерапевта, я гадаю, что Зак может сказать своему терапевту обо мне, когда вырастет.
А потом я думаю: «Надеюсь, он найдет своего Уэнделла».
53 Объятие
Я лежу на диване своей гостиной рядом с Элисон – моей подругой по колледжу, которая живет в городке на Среднем Западе. Мы переключаем каналы, и на одном из них идет сериал Джона. Она и понятия не имеет, что Джон – мой пациент. Я листаю дальше, пытаясь найти что-то легкое и незамысловатое.
– Стой! – говорит Элисон. – Верни обратно!
Оказывается, ей нравится этот сериал.
Я переключаю. Я давно не смотрела его, так что пытаюсь быстро войти в курс дела. Некоторые персонажи изменились; их связывают другие взаимоотношения. Я одним глазом смотрю, другим начинаю дремать, довольная тем, что так спокойно провожу время рядом с давней подругой.
– Она такая классная, да? – говорит Элисон.
– Кто? – сонно спрашиваю я.
– Героиня-психотерапевт.
Я открываю глаза. Главный герой сидит в офисе психотерапевта. Специалистка – миниатюрная брюнетка в очках; в типичной Голливудской манере она потрясает интеллектом. Может быть, такую женщину Джон взял бы в любовницы, думаю я. Главный герой встает и собирается уходить. Он выглядит озабоченным. Она провожает его до двери.
– Вы выглядите так, будто вам не помешает объятие, – говорит главный герой своему психотерапевту.
Женщина на долю секунды выглядит удивленной, но потом становится невозмутимой.
– Вы хотите сказать, что с удовольствием бы обнялись? – спрашивает она.
– Нет, – говорит он.
Звучит музыка, а потом он резко подается вперед и обнимает ее. В этом действии нет сексуального подтекста, но объятие весьма крепкое. Камера показывает лицо героя: его глаза закрыты, но одна слеза предательски скатывается. Он кладет голову ей на плечо и, кажется, успокаивается. Потом камера переключается на лицо психотерапевта: ее глаза широко открыты, вытаращены, словно она хочет уйти. Очень похоже на те сцены в романтических комедиях: двое персонажей, наконец, переспали, и один человек кажется погруженным в полное блаженство, а второй выглядит совершенно напуганным.
– Думаю, нам обоим стало лучше, – говорит главный герой, разжимая руки и разворачиваясь, чтобы уйти. Он выходит, и сцена заканчивается выражением лица психотерапевта: «Что за хрень только что случилась?»
Это забавный момент, и Элисон смеется, но я так же растеряна, как и психотерапевт в шоу. Что это такое? Джон признает свою привязанность ко мне? Или смеется над собой, над тем, как он проецирует свои потребности на других? Эпизоды сериалов пишутся на месяцы вперед. Знал ли он тогда, каким несносным порой бывает? Знает ли сейчас?
– Сейчас в таком количестве сериалов фигурируют психотерапевты, – говорит Элисон. Она начинает перечислять своих любимчиков: Дженнифер Мелфи из «Клана Сопрано», Тобиас Функе из «Замедленного развития», Найлз Крейн из «Фрейзера», даже Мервин Монро из «Симпсонов».
– Ты смотрела сериал «Пациенты»? – спрашиваю я. – Персонаж Гэбриела Бирна?
– О да, мне очень понравилось, – говорит она. – Но вот эта более реалистична.
– Думаешь? – говорю я, гадая, по чьему подобию создан этот персонаж, по моему или по «славному идиоту», к которому Джон ходил до меня. Сценарий пишет около дюжины авторов, каждый из которых занимается своим эпизодом, поэтому вполне возможно, что эта героиня прописана вообще другим человеком.
Я досматриваю до титров, однако точно знаю, что увижу в них. Этот эпизод написал Джон.
– Я смотрела ваш сериал на прошлой неделе, – говорю я Джону на нашей следующей сессии.
Джон качает головой, перемешивает салат палочками, берет немного, жует.
– Чертов канал, – говорит он, продолжая жевать. – Они заставили меня это сделать.
– Они сказали, что всем нравятся психотерапевты.
Я пожимаю плечами. Ну ладно.
– Они как стадо баранов, – продолжает Джон. – В одном шоу появляется психотерапевт, и теперь каждому сериалу тоже нужен свой.
– Но ведь это ваш сериал, – замечаю я. – Разве вы не могли отказаться?
Джон думает об этом.
– Мог, – говорит он. – Но я не хотел быть мудаком.
Я улыбаюсь. Он не хотел быть мудаком.
– А теперь, – продолжает Джон, – из-за рейтингов я никогда не отвяжусь от нее.
– Вы с ней теперь надолго, – говорю я. – И все из-за рейтингов.
– Чертов канал, – повторяет он и берет еще кусочек салата, проклиная палочки для еды. – Но все будет в порядке, – говорит он. – Она мне вроде как даже нравится. У нас есть парочка отличных идей на следующий сезон.
Он вытирает рот салфеткой, сначала левый уголок рта, потом правый. Я наблюдаю за ним.
– Что? – спрашивает он.
Я поднимаю брови.
– Ох, ну нет! – говорит он, протестуя. – Я знаю, о чем вы думаете. Вы думаете, что есть некая связь, – он изображает в воздухе кавычки, – между психотерапевтом и вами. Это вымысел, ясно?
– Целиком? – уточняю я.
– Ну конечно! Это же история, это сериал. Господи, да если бы я взял хоть один диалог отсюда, наши рейтинги были бы уже в болоте. Так что нет, очевидно, она не вы.
– Меня больше заинтересовали эмоции, чем диалог, – говорю я. – Может быть, в них есть доля правды.
– Это сериал, – повторяет он.
Я смотрю на Джона.
– Я серьезно. Эта героиня имеет с вами общего не больше, чем главный герой со мной. Конечно, кроме того, что он отлично выглядит. – Он смеется над своей шуткой. По крайней мере, я думаю, что это шутка.
Мы сидим молча, пока Джон рассматривает комнату: картины на стене, пол, свои руки. Я вспоминаю его «раз Миссисипи, два Миссисипи…» – еще с тех времен, когда он не выносил ожидания. Через пару минут он начинает говорить.
– Я хочу кое-что вам показать, – говорит он, потом саркастично добавляет: – Могу я получить разрешение воспользоваться телефоном?
Я киваю. Он берет телефон, листает что-то, потом разворачивает экраном ко мне.
– Вот моя семья.
На экране фото красивой блондинки и двух девочек, которых, кажется, безумно веселит то, что они показывают «рожки» за маминой головой. Марго, Грейс и Руби (выходит, пациентка Уэнделла, которая раньше приходила передо мной, – не Марго). Рядом с Руби сидит Рози – уродливая собака, которую так любит Джон, с розовым бантом на пятнистой мохнатой голове. Я так много о них слышала, что фотография завораживает. Я не могу отвести от них взгляд.
– Иногда я забываю, как мне повезло, – тихо говорит он.
– У вас прекрасная семья, – говорю я и добавляю, как тронута тем, что он поделился со мной этой фотографией. Я собираюсь вернуть телефон, но Джон меня останавливает.
– Погодите, – говорит он. – Это мои девочки. А вот мой мальчик.
Меня словно ударяют под дых. Он собирается показать мне Гейба. Будучи мамой мальчика я не знаю, смогу ли смотреть без слез.
Джон листает дальше, и вот он. Гейб. Он такой милый, что мое сердце рвется на части. У него густые, волнистые волосы Джона и ярко-голубые глаза Марго. Он сидит на коленях у Джона во время игры «Доджерс»: в руках у него бейсбольный мяч, на щеке горчица, а на лице такое выражение, словно он выиграл Мировую серию. Джон говорит мне, что им только что удалось поймать прилетевший с поля мяч, и Гейб был просто в экстазе.
«Я самый везучий человек во всем мире», – сказал Гейб в тот день. Джон рассказывает мне, что мальчик повторил то же самое, вернувшись домой и показав мяч Марго и Грейс. А потом еще раз, обнимаясь с Джоном перед сном. «Самый везучий человек во всем мире, во всей галактике и даже еще дальше!»
– Он и был самым везучим в тот день, – говорю я и чувствую, как мои глаза наполняются слезами.
– Бога ради, не плачьте при мне, – говорит Джон, отворачиваясь. – Вот только этого мне не хватало. Плачущего психотерапевта.
– Почему бы не плакать, если грустно? – многозначительно говорю я.
Джон забирает свой телефон и что-то печатает.
– Раз уж вы разрешаете мне использовать телефон, – говорит он, – есть кое-что еще, что я хочу вам показать.
Теперь, когда я видела его жену, дочерей, собаку и погибшего сына, мне интересно, чем еще он хочет поделиться.
– Вот, – говорит он, протягивая руку ко мне. Я беру телефон и узнаю страницу сайта New York Times. На ней – рецензия на новый сезон сериала Джона.
– Прочитайте последний параграф, – говорит он.
Я проматываю до конца, где критик поэтично высказывается о направлении, которое приняло шоу. Главный герой, пишет автор, начал проявлять проблески своей глубинной человечности, не теряя остроты характера, и это делает его более интересным. Отблески его сочувствия – восхитительный сюжетный поворот. Если раньше зрителей приковывало его извращенное отсутствие уважения к другим, утверждает критик, то теперь мы не можем оторваться от того, как он пытается согласовать это с тем, что спрятано глубоко внутри. Рецензия заканчивается вопросом: «Что еще мы обнаружим, если он продолжит раскрываться?»
Я отрываюсь от телефона и улыбаюсь Джону.
– Я согласна, – говорю я. – Особенно с вопросом, поставленным в конце.
– Симпатичная рецензия, да? – говорит он.
– Да, и не только.
– Нет-нет, не начинайте делать вид, будто мы снова говорим обо мне. Это главный герой.
– Хорошо, – говорю я.
– Отлично, – говорит он. – Давайте на этом и остановимся.
Я ловлю взгляд Джона.
– Почему вы решили мне это показать?
Он смотрит на меня, как на идиотку.
– Потому что это отличная рецензия! Это же New York Times, черт возьми!
– Но почему именно этот параграф?
– Потому что это означает, что мы далеко пойдем. Раз этот сезон так хорошо принимают, канал не сможет не дать нам новую сделку.
Я думаю о том, как трудно Джону чувствовать себя уязвимым. Какой стыд и зависимость он испытывает в такие моменты. Как пугающе выглядит эта связь.
– Ладно, – говорю я. – Не терпится увидеть, как герой, – я изображаю в воздухе кавычки, как это делает Джон, – будет развиваться в следующем сезоне. Думаю, в будущем многое возможно.
Тело Джона отвечает за него: он краснеет. Пойманный, он краснеет еще сильнее.
– Спасибо, – говорит он.
Я улыбаюсь и встречаюсь с ним взглядом; он смотрит мне в глаза добрых двадцать секунд, прежде чем снова отворачивается. Глядя в пол, он шепчет:
– Спасибо за… ну, в общем. – Он ищет верное слово. – За все.
Мои глаза снова наполняются слезами.
– Всегда пожалуйста, – говорю я.
– Ладно, – говорит Джон, прочищая горло и укладывая свои напедикюренные ноги на диван. – Раз уж мы закончили с прелюдиями, о чем нам теперь разговаривать?
54 Не испорти все
Есть две основных категории людей, которые настолько подавлены, что обдумывают самоубийство. Первые думают: у меня была отличная жизнь, и если я смогу справиться с этим жутким кризисом (со смертью любимого человека или затяжной безработицей), мне будет к чему стремиться. Но что, если я не смогу? Вторые думают так: моя жизнь бесплодна, и мне не к чему стремиться.
Рита – из второй категории.
Конечно, история, с которой пациент приходит на психотерапию, может быть не той же самой историей, с которой он живет. То, что было включено в рассказ вначале, может оказаться уже вычеркнутым; то, что осталось в стороне, становится центральной сюжетной линией. Некоторые главные герои становятся второстепенными, некоторые второстепенные персонажи занимают основные позиции. Собственная роль пациента тоже может измениться: от массовки до протагониста, от жертвы к герою.
Через несколько дней после своего семидесятилетия Рита приходит на очередную сессию. Никакого самоубийства. Она приносит мне подарок.
– Это на мой день рождения, но для вас, – говорит она.
Подарок красиво обернут, и она просит меня открыть его при ней. Коробка тяжелая, и я пытаюсь угадать, что внутри. Бутылочки моего любимого чая, который она приметила в моем офисе? Большая книга? Набор гротескных чашек, которые она начала продавать на своем сайте? (Я очень надеюсь на последнее.)
Я разрываю слои оберточной бумаги: на ощупь это что-то керамическое (кружки!), но, вынув этот предмет, я смотрю на Риту и улыбаюсь. Это салфетница, исписанная словами «Рита говорит: “Не испорти все!”». Дизайн одновременно дерзкий и непритязательный – как и сама Рита. Я разворачиваю предмет и замечаю ее фирменный логотип: ИП «Надежда умирает последней».
Я начинаю благодарить ее, но она меня перебивает.
– Это отсылка к нашему разговору о том, почему я не беру салфетки, – говорит Рита, словно я не понимаю. – Раньше я думала: да что не так с этим психотерапевтом, которая то и дело твердит о том, какими салфетками я пользуюсь? Я не понимала этого, пока одна из девочек, – она имеет в виду девочек из «привет-семейства», – не увидела, как я достаю платочек из сумки, и не сказала: «Фу-у-у! Мама говорит, никогда нельзя использовать грязные салфетки!» И я подумала: а ведь мой психотерапевт тоже. Каждому нужна свежая пачка салфеток. Так почему бы не добавить шикарный футляр?
Она произносит слово «шикарный» с иронией в голосе.
То, что Рита сегодня пришла на сессию, не означает, что ее психотерапия заканчивается, а я не измеряю успешность наших встреч тем, что она еще жива. В конце концов, что, если Рита решила не совершать суицид на свой юбилей, но все еще находится в тяжелой депрессии? Сегодня мы празднуем не столько ее физическое присутствие, сколько продолжающееся эмоциональное возрождение – риск, который она взяла на себя, чтобы начать двигаться от окостенения к открытости, от самобичевания к чему-то вроде самопринятия.
Так что у нас сегодня много поводов для праздника, но терапия Риты продолжится, потому что от старых привычек трудно избавиться. Потому что боль утихает, но не исчезает. Потому что разорванные отношения (с собой и со своими детьми) требуют чуткого, осознанного восстановления, а новые для развития нуждаются в поддержке и самосознании. Если Рита хочет быть с Майроном, ей нужно лучше понимать себя и свои проекции, свои страхи, ревность, боль и разочарование, чтобы этот новый брак – четвертый по счету – стал последним. И первой прекрасной историей любви.
Майрон, оказывается, не отвечал на письмо Риты целую неделю. Она переписала от руки свое послание и засунула его в почтовый ящик. Поначалу Рита мучительно обдумывала, что могло произойти. Зрение было уже не таким хорошим, как раньше, а артрит мешал просунуть письмо в слегка проржавевшую щель. Могла ли она случайно положить письмо не туда – например, в ящик «привет-семейства»? Это было бы ужасно! Она не могла избавиться от этой мысли всю неделю, накручивая себя, пока от Майрона не пришло сообщение.
Рита зачитала мне его, сидя в кабинете: «Рита, спасибо, что поделилась этим со мной. Я бы хотел поговорить с тобой, но мне многое надо переварить, так что нужно еще немного времени. Скоро буду на связи. М».
– «Многое переварить!» – воскликнула Рита. – Знаю я, что он там переваривает! То, какое я чудовище, как он рад, что уберег себя! Теперь, когда он знает правду, он переваривает, как бы так вернуть все сказанное в тот момент, когда он терзал меня на парковке!
Я отметила, как она оскорблена тем, что восприняла как избегание Майрона, и как быстро романтический поцелуй превратился в терзание.
– Это одно из возможных объяснений, – сказала я. – Но есть и другое: вы так старательно и так долго прятались от него, что ему нужно время, чтобы принять эту новую часть картинки. Он поцеловал вас на парковке, раскрыл свое сердце, и вы после этого начали его избегать. А теперь он получает это письмо. Здесь многое нужно переварить.
Рита покачала головой.
– Видите, – начала она, словно не услышала ни слова из того, что я сказала, – именно поэтому мне лучше держаться на расстоянии.
Я сказала Рите то же, что говорю всем, кто боится обжечься в отношениях – то есть всем, у кого бьется сердце. Я объяснила ей, что даже в лучших из всех возможных отношений иногда бывает больно. И не важно, насколько сильна ваша любовь, вы порой будете ранить своего партнера – не потому, что хотите, а потому, что вы человек. Вы можете непреднамеренно ранить супруга, родителей, детей, лучшего друга (а они вас), потому что если вы подписываетесь на близкие отношения, то раны – это часть сделки.
Но, продолжила я, самое лучшее в близких, наполненных любовью отношениях – то, что в них есть место исцелению. В терминах психотерапии это «разрыв и восстановление», и если ваши родители признавали свои ошибки, брали за них ответственность и учили вас тому же, то тогда разрывы не будут казаться такими катастрофическими во взрослом возрасте. Если же ваши детские травмы не сопровождались полным любви восстановлением, вам понадобится некоторая практика, чтобы справляться с разрывами, чтобы перестать думать, что любой конфликт – это конец отношений, чтобы поверить в то, что, даже если отношения не сложатся, вы переживете это. Вы сможете исцелиться и вступить в другие отношения, полные своих собственных разрывов и восстановлений. Подобное раскрытие звучит не идеально, но если вы хотите близких отношений, другого пути нет.
Тем не менее Рита звонила мне каждый день, чтобы рассказать, что Майрон все еще не ответил. «Радиомолчание, – говорила она моему автоответчику, потому саркастично добавляла: – Он, должно быть, все еще переваривает».
Я убеждала ее держаться за все хорошее в жизни, несмотря на тревогу из-за Майрона, не поддаваться отчаянию из-за возможной боли, не уподобляться человеку на диете, который срывается однажды, говорит, что бросает, и всю оставшуюся неделю переедает, заставляя себя чувствовать в десять раз хуже. Я просила ее оставлять мне голосовые сообщения с рассказом о том, чем она занималась каждый день, и Рита исправно сообщала мне: она обедала с «привет-семейством», составляла учебный план для лекций, водила «девчонок» – своих названых внучек – в музей на урок рисования, работала над заказами со своего сайта. Но неизменно заканчивала едкой фразой в адрес Майрона.
Втайне, конечно, я тоже надеялась, что Майрон поведет себя достойно, причем чем скорее, тем лучше. Рита совершила невиданное для себя действие, открывшись ему, и я не хотела, чтобы этот опыт подтвердил ее глубоко укоренившееся убеждение в том, что ее нельзя любить. Но дни шли, Рита все больше злилась на Майрона – и я тоже.
На следующей сессии я с облегчением узнала, что у них состоялся разговор. Майрон действительно был ошеломлен всем, что Рита поведала – и тем фактом, что она так много скрывала. Кем была эта женщина, к которой его так сильно тянуло? Это тот же добрый и заботливый человек, который бежал в страхе, когда муж избивал их детей? Могла ли эта женщина, обожающая детей из «привет-семейства», быть той же самой, которая пренебрегала своими собственными? Это та же веселая, артистичная и очень умная женщина, что проводит свои дни в плену депрессии? И если да, то что это значило? Как это повлияет на Майрона, а также на его детей и внуков? В конце концов, он понимал, что с кем бы он ни встречался, этот «кто-то» станет частью его дружной семьи.
За неделю «переваривания», сказал Майрон Рите, он советовался с Мирной – своей покойной женой, чьи комментарии всегда ценил. Он по-прежнему разговаривал с ней, и сейчас она сказала ему не быть таким осуждающим – быть осторожным, но не замкнутым. В конце концов, разве ей не повезло родиться в семье любящих родителей и найти чудесного мужа? Кто знает, что бы она сделала при других обстоятельствах? Еще он позвонил брату, и тот спросил: «Ты рассказал ей об отце?» Под этим подразумевалось «Ты рассказал ей о тяжелой депрессии отца после смерти мамы? Ты рассказал ей, как боялся, что то же случится с тобой после смерти Мирны?»
Наконец, он позвонил своему лучшему другу, который внимательно выслушал историю Майрона и сказал: «Приятель, ты только и делаешь, что говоришь об этой женщине. У кого в наши годы за плечами нет багажа, достаточного, чтобы уронить самолет? Думаешь, у тебя все в порядке? Ты каждый день разговариваешь с мертвой женой, а твоя тетя, о которой никто и не вспоминает, лежит в психушке. Ты завидный жених, но кем ты себя возомнил, Прекрасным Принцем?»
Что еще важнее, Майрон поговорил сам с собой. Его внутренний голос сказал: «Рискни. Может быть, наше прошлое не определяет, а информирует нас. Может быть, все, что она пережила, и делает ее такой интересной – и такой заботливой – сейчас».
– Никто никогда не называл меня заботливой, – расплакавшись, сказала мне Рита, пересказывая разговор с Майроном. – Меня всегда называли эгоистичной и требовательной.
– Но с Майроном вы не такая, – сказала я.
Рита подумала об этом.
– Нет, – медленно сказала она. – Не такая.
Разговор с Ритой напомнил мне, что в семьдесят лет сердце такое же хрупкое, как в семнадцать. Уязвимость, одиночество, страсть – все это остается в силе. Влюбленность никогда не стареет. Не важно, насколько вы измучены, сколько страданий причинила вам любовь, новая любовь всегда заставляет вас чувствовать надежду и жизнь, как в тот самый первый раз. Может быть, теперь вы будете более подкованы – у вас больше опыта, вы мудрее, вы знаете, что у вас осталось меньше времени, – но сердце все еще екает, когда вы слышите голос любимого человека или видите его имя, определяющееся при звонке на экране телефона. У любви в более зрелом возрасте есть свои преимущества: она особенно великодушная, щедрая, чувственная – и крайне необходимая.
Рита рассказала мне, что после того разговора они с Майроном отправились в постель, и она насладилась тем, что назвала «восьмичасовым оргазмом» – именно тем, чего страстно желал ее тактильный голод. «Мы уснули в объятиях друг друга, – сказала Рита, – и это было так же восхитительно, как и те несколько оргазмов, что случились до того». В последовавшие месяцы Рита и Майрон стали партнерами – в жизни и в бридже, выиграв свой первый турнир на выезде. Она по-прежнему ходит на педикюр, не только ради массажа стоп, но и потому, что теперь кто-то еще видит ее ноги.
Нельзя сказать, что Рита больше не страдает: иногда, немного. Перемены в ее жизни добавили столь необходимых красок в будни, но она по-прежнему испытывает то, что называет «уколами»: грусть, когда видит Майрона с его детьми, тревогу, которая приходит с новизной бытия в доверительных отношениях после нескольких нестабильных.
Рита не раз была на грани того, чтобы указать Майрону на какой-то додуманный ей негатив или саботировать отношения, как будто она могла наказать себя за счастье или вернуться в знакомую безопасность одиночества. Но каждый раз она старалась все обдумать, и лишь потом действовать; она вспоминала наши разговоры и говорила себе, словно читая с салфетницы: «Не испорти все, девочка». Я рассказывала ей, как много отношений видела разрушенными только потому, что один человек так боялся быть брошенным, что сам делал все возможное, чтобы оттолкнуть другого. Она начала понимать, что самосаботаж настолько коварен потому, что он помогает решить одну проблему (снижает страх одиночества), создавая другую (вынуждает партнера уйти).
Глядя на Риту на этом этапе ее жизни, я вспоминала кое-что из прочитанного ранее – уже не помню, где именно: «Каждая улыбка, каждая счастливая минута, что встречается мне на пути, кажется в десять раз лучше, чем до того, как я познал эту грусть».
В первый раз за сорок лет, говорит мне Рита после того, как я открыла подарок, она отпраздновала день рождения. Не так, как ожидала. Она думала, что тихо отметит его с Майроном, но когда они пришли в ресторан, то обнаружили людей, ждущих ее – сюрприз!
– Не стоит проворачивать такое с семидесятилетними, – продолжает Рита, вспоминая. – У меня чуть сердце не остановилось.
В толпе хлопали и смеялись члены «привет-семейства»: Анна, Кайл, София и Алиса (девочки подарили ей рисунки); сын и дочь Майрона, а также их дети (которые тоже становятся названными внуками); студенты потока, на котором она преподавала (один студент сказал ей: «Если хочешь интересного разговора – побеседуй с пожилым человеком»). Еще там были приятели из совета дома (когда Рита, наконец, согласилась в него вступить, то сразу организовала замену проржавевших ящиков) и друзья из компании по бриджу, которые появились у них с Майроном не так давно. Почти двадцать человек пришли поздравить женщину, у которой за год до этого не было ни одного друга.
Но самый большой сюрприз произошел на следующее утро, когда Рита получила электронное письмо от дочери. Написав то длинное послание Майрону, она отправила тщательно продуманные письма каждому из своих детей, на которые, как обычно, не получила ответа. Но в тот день Рита получила письмо от Робин, которое читает мне на этой сессии.
Мама, да, ты права: я не простила тебя, и я рада, что ты меня об этом не просишь. Если честно, я почти стерла твое письмо, не читая, потому что думала, что там обычный бред. А потом, не знаю почему (может быть, потому что мы так долго не общались?), я подумала, что стоит открыть его, просто чтобы убедиться, что там не сказано, будто ты при смерти. Но я не ожидала ничего подобного. Я до сих пор думаю: это правда моя мама?
В любом случае, я показала твое письмо своему психотерапевту (да, теперь я хожу на психотерапию, и нет, я еще не ушла от Роджера) и сказала ей: «Я не хочу, чтобы все так обернулось». Я не хочу застрять в абьюзивных отношениях и искать оправдания, чтобы не уходить; думая, что уже слишком поздно, что я не могу начать все с начала, что угодно из того, что я говорю себе, когда Роджер пытается привязать меня к себе. Я сказала своему психотерапевту, что если ты, наконец, смогла найти здоровые отношения, то и я смогу – и я не хочу ждать своего семидесятилетия. Заметила, с какого адреса я пишу это письмо? Это моя секретная почта, она для поиска работы.
Рита недолго плачет, потом продолжает читать.
Знаешь, что забавно, мама? Когда я прочитала на сессии твое письмо, психотерапевт спросила, остались ли у меня хоть какие-то положительные воспоминания из детства – и я не могла вспомнить ничего. Но потом мне начали сниться сны. Мне приснилось, что я собиралась пойти на балет; а, проснувшись, поняла, что во сне я была балериной, а ты – учителем. Я вспомнила то время, когда мне было восемь или девять и ты водила меня в балетный класс, куда я очень хотела, но потом они сказали, что я недостаточно подготовлена, и я плакала, а ты обняла меня и сказала: «Ладно, я тебя научу». И мы пошли в пустой зал и изображали балет, казалось, несколько часов. Я помню, как смеялась, и танцевала, и хотела, чтобы каждая минута длилась вечно. А потом были другие сны – сны, которые возвращали хорошие воспоминания из детства; воспоминания, о которых я даже не знала.
Думаю, я хочу сказать, что не готова разговаривать или хоть как-то восстанавливать отношения прямо сейчас. Может быть, и никогда. Но я хочу, чтобы ты знала: я помню тебя с лучшей стороны, чего едва ли достаточно, но это уже что-то. Если тебе интересно, нас всех потрясли твои письма. Мы обсуждали их и согласились, что, даже если никогда не восстановим отношения с тобой, мы должны взять себя в руки: как я уже сказала, если ты смогла, то и мы сможем. Мой психотерапевт говорила, что, возможно, я не хочу приводить свою жизнь в порядок, потому что тогда ты победишь. Я не понимала, что она имеет в виду, но теперь, думаю, понимаю. Или начинаю понимать.
В общем, с днем рождения.
P. S. Симпатичный сайт.
Рита поднимает взгляд от письма. Она не уверена, что оно значит. Ей хотелось бы, чтобы и сыновья ответили, потому что глубоко переживает из-за каждого ребенка. Из-за Робин, которая так и не ушла от Роджера. Из-за мальчиков: один борется с зависимостью, другой дважды развелся с «противной, осуждающей женщиной, которая затащила его в брак фальшивой беременностью», а третий из-за проблем с обучаемостью так и не окончил колледж, за что отец его и бранил. Рита говорит, что пыталась помочь им, но они не пожелали говорить с ней; кроме того, что она может сделать для них сейчас? Она помогала им финансово, когда ее об этом просили, но это единственный тип контакта, на который они шли.
– Я переживаю за них, – говорит она. – Я все время переживаю.
– Может быть, – говорю я, – вместо этого вы полюбите их. Все, что вы можете – это найти способ полюбить их. Вот то, что им нужно от вас, а не вам от них, прямо сейчас.
Я думаю о том, каково ее детям было получить письмо от матери. Рита хотела рассказать им о своих отношениях с девочками «привет-семейства», чтобы показать им, что она изменилась, позволить им увидеть ее любящую материнскую сторону, с которой она была бы рада познакомить и их тоже. Но я посоветовала ей отложить эту идею. Мне казалось, они пока не готовы простить ее, как один из моих пациентов: его отец ушел из семьи, женился на более молодой женщине и завел с ней детей. С ним отец был вечно всем недоволен и не проявлял никаких эмоций, но дети в семье номер два получили Лучшего Папу Года: он тренировал их футбольные команды, посещал их фортепианные концерты, участвовал в школьных мероприятиях, брал с собой в отпуск, знал имена всех друзей. Мой пациент чувствовал себя аутсайдером, незваным гостем в той семье – и он был, как многие люди с похожими историями, глубоко ранен, видя, как его папа становится отцом мечты, но не ему, а другим детям.
– Это прорыв, – сказала я Рите по поводу письма.
В конце концов, двое сыновей связались с Ритой и познакомились с Майроном. Впервые в жизни у них завязались отношения с надежным, любящим человеком с авторитетом отца. Младший, однако, все еще скован своим гневом. Все ее дети держатся на расстоянии и испытывают злость, но это нормально – по крайней мере, сейчас Рита способна услышать их, не отгораживаясь и не прячась за слезами. Робин сняла квартирку-студию и работает администратором в центре психического здоровья. Рита убеждала ее переехать поближе к ней и к Майрону, чтобы составить компанию, пока она восстанавливается после жизни с Роджером, но Робин не хочет бросать своего психотерапевта (или, как подозревает Рита, Роджера) – пока что.
Это не идеальная семья, даже пока не функциональная, но это семья. Рита упивается своим пробуждением, но все еще считается с болью, которую не может исправить.
И хотя ее дни наконец-то полны дел, она все еще находит время, чтобы добавлять новые вещи на свой сайт. Первый предмет – приветственная табличка из тех, что люди вешают на входные двери. На ней крупно написаны два слова, окруженные схематичными изображениями людей, каждый из которых выглядит весьма взбалмошно. На знаке написано «Привет, семейство!».
Второй – плакат, сделанный для дочери Майрона, учительницы, которая увидела эту фразу на стикере над столом Риты и спросила, не может ли та сделать более художественную версию для ее кабинета, чтобы научить детей жизнестойкости. На ней написано «Неудачи – часть человеческого бытия».
– Я, наверное, где-то это прочитала, – говорит она мне. – Но не смогла найти, чья цитата.
На самом деле я сказала ей это на нашей первой сессии, но ничего такого не вижу в том, что она не помнит. Ирвин Ялом, психиатр, писал, что «намного лучше [для пациента добиться прогресса, но] забыть, о чем мы говорили, чем наоборот (что является более популярным выбором) – помнить в точности, что было сказано, но не меняться».
Третье, что добавила Рита, – небольшой принт, изображающий двух абстрактных седоволосых людей, чьи тела переплетены в движении и окружены мультяшными репликами: «Ох… спина!», «Помедленнее… сердце!» Изящным каллиграфическим почерком она вывела вокруг тел: «Старики по-прежнему трахаются».
На сегодня это ее бестселлер.
55 Это мой вечер, а вы плачьте, если хотите[33]
Компьютер оповещает о новом письме во входящих, и мои пальцы застывают над клавиатурой. Тема: «Вечеринка… приходить в черном». Отправитель – Мэтт, муж Джулии, и я не решаю не открывать сообщение, пока не закончу работу с сегодняшними пациентами. Я не хочу открывать приглашение на похороны Джулии перед началом сессии.
Я снова думаю об иерархии боли. Когда я только начала видеться с Джулией, мне казалось, что будет трудно после разговоров о ее снимках и опухолях слышать что-то вроде «Думаю, няня у меня подворовывает» или «Почему я всегда должна инициировать секс?»
Меня беспокоило то, что мысленно я могла отвечать на все: «Думаешь, у тебя проблемы?»
Но вышло так, что работа с Джулией сделала меня более отзывчивой. Проблемы других пациентов тоже имели значение: предательство человека, которому они доверили присматривать за ребенком; чувство стыда и пустоты из-за того, что супруг их отверг. За этими деталями скрывались те же самые жизненно важные вопросы, с которыми Джулии пришлось столкнуться лицом к лицу. Как чувствовать себя в безопасности в таком ненадежном мире? Как сойтись с другим человеком? Работа с Джулией вызвала во мне еще большее чувство ответственности перед другими пациентами. Каждый час важен для любого из нас, и я хочу быть полностью присутствующей в каждый из часов психотерапевтической сессии, который провожу.
После ухода последнего пациента я медленно заполняю бумаги, оттягивая время, прежде чем открыть письмо. Приглашение включает в себя заметку от Джулии: она хотела бы, чтобы люди пришли на «безутешно-рыдательную прощальную вечеринку» и выразила надежду, что все ее одинокие друзья смогут воспользоваться случаем, «потому что если вы знакомитесь на похоронах, то всегда будете помнить, как важно ценить любовь и жизнь и забывать о мелочах». В нем также есть ссылка на некролог, который Джулия написала в моем кабинете.
Я передаю свои соболезнования Мэтту и минуту спустя получаю письмо, которое, пишет он, Джулия оставила для меня.
«Поскольку я мертва, сразу перейду к делу, – говорится в нем. – Вы сказали, что придете на мою прощальную вечеринку. Я узнаю, если вас там не будет. Не забывайте быть буфером между моей сестрой и тетей Айлин, которая всегда… Ну, вы знаете эту историю. Вы знаете все мои истории».
Мэтт дописал постскриптум: «Пожалуйста, приходите».
Конечно, я хочу прийти, и я обдумала все потенциальные осложнения перед тем, как дала Джулии это обещание. Не каждый психотерапевт сделал бы тот же выбор. Некоторые беспокоятся, что таким образом могут перейти черту – оказаться более вовлеченным, чем обычно. И хотя это в каком-то смысле верно, кажется странным, что в профессии, посвященной природе человека, от психотерапевта ожидают отделения его человечности в момент смерти пациента. Это не относится к другим профессионалам: к адвокату, хиропрактику, онкологу Джулии. Никто и глазом не моргнет, если они придут на похороны. Однако от психотерапевта ждут сохранения дистанции. Но что, если его присутствие утешит родственников пациента? И что, если это утешит самого психотерапевта?
Чаще всего психотерапевты переживают смерть своих пациентов в одиночестве. С кем я могу поговорить о Джулии, кроме коллег в консультационной группе и Уэнделла? И даже из них никто не знал ее так, как знала я или как знали ее родные и близкие (которым дана возможность погоревать вместе). Психотерапевта оставляют скорбеть в одиночестве.
Даже на похоронах нужно помнить о вопросах конфиденциальности. Наша обязанность защищать тайны пациентов не прекращается с их смертью. Женщина, чей муж совершил самоубийство, например, может позвонить его психотерапевту с вопросами, но врач не может нарушить этот кодекс. Все файлы, все контакты защищены. Аналогичным образом, если я присутствую на похоронах и кто-то спрашивает, кем я прихожусь покойной, я не могу сказать, что я была ее психотерапевтом. Эти проблемы чаще возникают в случае неожиданной смерти – суицид, передозировка, сердечный приступ, автомобильная авария – чем в такой ситуации, как у Джулии. В конце концов, будучи психотерапевтами мы многое обсуждаем с пациентами – как обсудили с Джулией ее желание, чтобы я присутствовала на ее похоронах.
– Вы обещали, что останетесь со мной до конца, – сказала она с кривой усмешкой примерно за месяц до смерти. – Вы не можете бросить меня на моих собственных похоронах, правда ведь?
В последние недели жизни Джулии мы говорили о том, как она хочет попрощаться с семьей и друзьями. Что вы хотите оставить им? Что вы хотите, чтобы они оставили вам?
Я имела в виду не переворачивающие судьбы беседы на смертном одре – это, по большей части, фантазии. Люди могут искать покоя и ясности, понимания и исцеления, но последние дни умирающих – это часто варево из лекарств, страха, замешательства, слабости. Вот почему особенно важно быть такими, какими мы хотим, уже сейчас, становиться более открытыми, пока способны на это. Многое останется в подвешенном состоянии, если ждать слишком долго. У меня был пациент, который после нескольких лет нерешительности наконец связался со своим биологическим отцом, желавшим поддерживать отношения, только чтобы узнать, что тот скончался за неделю до того.
Мы также придаем неуместное значение этим последним моментам, позволяя им вытеснить все, что было до. Я работала с пациентом, чья жена потеряла сознание и умерла на середине разговора, в ходе которого он защищался, не желая нести белье в прачечную. «Она умерла, злясь на меня, думая, что я придурок», – говорил он. На самом деле у них был крепкий брак, и они искренне любили друг друга. Но из-за того, что именно в споре были сказаны последние слова, которыми им удалось обменяться, он приобрел значение, которого иначе не имел бы.
Ближе к концу Джулия все чаще засыпала во время наших сессий, и если раньше казалось, что всякий раз, когда она приходит ко мне, время останавливается, то теперь это словно было генеральной репетицией ее смерти: она «примеряла», каково будет в тишине без страха остаться одной.
– «Почти» – всегда самое сложное, да? – сказала она однажды. – Почти получить что-то. Почти завести ребенка. Почти получить чистый снимок. Почти избавиться от рака.
Я подумала, какое огромное количество людей не пытается получить что-то, чего они действительно хотят, потому что куда больнее приблизиться к цели, но не достигнуть ее, чем вообще не воспользоваться возможностью.
Во время этих расточительно тихих сессий Джулия сказала, что хочет умереть дома, и в последние недели я приходила к ней. Она окружила кровать фотографиями всех, кого она любила, играла в Scrabble, пересматривала «Холостяка», слушала свою любимую музыку и принимала посетителей.
Но в какой-то момент и это стало даваться ей тяжело. Джулия сказала своей семье: «Я хочу жить, но не хочу жить так» – и они поняли, когда она перестала есть. Она уже все равно не воспринимала большую часть пищи. Когда она решила, что жизнь, которая в ней еще теплилась, недостойна поддержания, тело последовало этому, и она ушла за несколько дней.
У нас не произошло проникновенного «гранд-финала», как Джулия называла нашу последнюю сессию. Ее последние слова, обращенные ко мне, были о стейке. «Боже, я бы все отдала за стейк! – сказала она, голос ее был слаб и едва слышен. – Надеюсь, там, где я окажусь, будет стейк». А потом она заснула. Это было окончание, не слишком непохожее на наши сессии, где беседа продолжалась даже после «наше время истекло». В лучших прощаниях всегда остается ощущение того, что еще есть, что сказать.
Я поражена – хотя не должна быть – толпой на похоронах Джулии. Пришли сотни людей из разных составляющих ее жизни: друзья детства, друзья по летним лагерям, друзья по марафонским тренировкам, друзья по книжному клубу, друзья по колледжу, друзья по аспирантуре, друзья по работе и коллеги (и из университета, и из Trader Joe’s), ее родители, бабушки и дедушки с обеих сторон, родители Мэтта, братья и сестры обоих. Я знаю, кто они, потому что все эти люди встают и говорят о Джулии, рассказывают, кем она была и что значила для них.
Подходит очередь Мэтта, и все замолкают; сидя в последнем ряду, я опускаю взгляд на свой чай со льдом и салфетку в руках. На ней написано «Это мой вечер, а вы плачьте, если хотите». Ранее я заметила большой баннер: «Я по-прежнему выбираю ничего».
Мэтту требуется пара минут, чтобы собраться и начать говорить. Он начинает с истории о том, что Джулия написала для него книгу и озаглавила ее «Кратчайший длиннейший роман: Эпичная история любви и утраты». На этом месте он теряет самообладание, но потом берет себя в руки и продолжает.
Он объясняет, что был очень удивлен, обнаружив ближе к концу истории – их истории – главу, в которой Джулия выразила надежду на то, что в жизни Мэтта всегда будет любовь. Она призвала его быть честным и добрым по отношению к тем, кого назвала «горевыми подругами» – к девушкам, с которыми он будет встречаться в процессе исцеления. «Не вводи их в заблуждение, – писала она. – Может быть, вы сможете что-то дать друг другу». Далее шло очаровательное и забавное описание профиля для сайта знакомств, которое Мэтт мог использовать, чтобы найти себе подружку; затем тон повествования стал более серьезным. Джулия написала до боли прекрасное любовное письмо в виде еще одного описания профиля – с его помощью Мэтт мог бы найти человека, с которым свяжет свою жизнь. Она писала о его причудах, его преданности, их бурной сексуальной жизни, невероятной семье, в которую она вошла (и в которую, предположительно, войдет эта новая женщина), и о том, каким удивительным отцом он будет. Она знала это, писала Джулия, потому что они успели побыть родителями – пускай лишь для того, кто в матке, и лишь на несколько месяцев.
Люди в толпе одновременно плачут и смеются, когда Мэтт заканчивает читать. «У каждого должна быть хотя бы одна эпичная история любви, – заключила Джулия. – Наша была именно такой для меня. Если нам повезет, у нас их будет две. Я желаю тебе еще одну эпичную любовь».
Мы все думаем, что Мэтт на этом закончит, но он говорит, что считает справедливым, чтобы Джулия тоже нашла любовь, где бы она ни оказалась. Так что он подготовил ее профиль для сайта знакомств в раю.
Раздается несколько смешков, хотя поначалу они звучат неуверенно. Не слишком ли это нездорово? Но нет, именно этого Джулия и хотела, думаю я. Это и неловко, и смешно, и грустно, и вскоре все прекращают рыдать и заливаются смехом. «Она терпеть не может грибы, – написал Мэтт ее небесному кавалеру, – не угощай ее ничем с грибами. И если там есть Trader Joe’s, а она говорит, что хочет там работать, поддержи ее. Заодно получишь неплохую скидку».
Далее он говорит о том, как Джулия протестовала против смерти множеством способом, но в первую очередь – тем, что Мэтт назвал «творением добра» для других. Он не перечисляет ее действия, но я и так знаю – и все испытавшие ее доброту на себе, так или иначе, говорят об этом.
Я рада, что пришла, рада, что выполнила свое обещание и увидела ту сторону ее личности, которую никогда не смогу узнать о любом из своих пациентов: то, как их жизнь выглядит за пределами кабинета психотерапевта. Работая наедине, мы видим глубину, но не обширность, словно слова без иллюстраций. Будучи абсолютным инсайдером, знающим мысли и чувства Джулии, я посторонняя здесь, среди всех этих людей, которых я не знаю, но которые знали Джулию. Психотерапевтов учат, что даже если мы окажемся на похоронах пациента, то мы должны оставаться в стороне, избегать взаимодействия. Я так и делаю, но как раз в тот момент, когда я собираюсь уйти, дружелюбная парочка заводит со мной беседу. Они говорят, что Джулия ответственна за их союз: она свела их на «свидании вслепую» за пять лет до этого. Я улыбаюсь и пытаюсь попрощаться, но женщина спрашивает: «А откуда вы знали Джулию?»
«Она была моей подругой», – говорю я рефлекторно, помня о конфиденциальности. Но едва я произношу эту фразу, я понимаю, что это правда.
– Вы будете думать обо мне? – спрашивала Джулия, отбывая на свои множественные операции, и я всегда отвечала, что буду. Эта уверенность успокаивала ее, помогала оставаться сосредоточенной в хаосе беспокойства по поводу того, что она ложится под нож.
Позже, однако, когда стало ясно, что Джулия умрет, этот вопрос приобрел еще один смысл. Будет ли часть меня жить в вас?
Джулия незадолго до смерти сказала Мэтту, что чувствует себя ужасно, умирая у него на руках, и на следующий день он написал ей записку со стихами из мюзикла «Таинственный сад». В нем призрак жены спрашивает скорбящего мужа, может ли он простить ее, может ли сохранить ее в своем сердце и «полюбить меня снова, когда мы разлучены». Мэтт подписал: «Да». И добавил, что он верит не в то, что люди исчезают, а в то, что в нас есть что-то вечное, и эта часть живет дальше.
Подходя к машине, я слышу вопрос Джулии. Вы будете думать обо мне?
После стольких лет я все еще думаю о ней.
Чаще всего я вспоминаю ее в моменты тишины.
56 Счастье – это «иногда»
– Честно, без уверток. Вы думаете, я мудак? – спрашивает Джон, поставив пакет с нашим обедом. Сегодня он привел на сессию свою собаку Рози («санька» заболела, а Марго в отъезде), и теперь она сидит на коленях у Джона, обнюхивая контейнеры с едой. Взгляд Джона устремлен на меня, и глаза-бусинки Рози тоже, словно они оба ждут ответа.
Вопрос застает меня врасплох. Если я скажу «да», то рискую сделать Джону больно, а это последнее, чего мне хочется. Если я скажу «нет», то, возможно, стану потворствовать еще более мудацкому поведению – вместо того, чтобы поспособствовать его просветлению. Предпоследнее, чего мне хочется, это потворствовать ему. Можно спросить в обратную сторону: «А вы как думаете, вы мудак?» Но меня интересует другое: почему он спрашивает – и почему сейчас?
Джон сбрасывает обувь, но не скрещивает ноги на диване, а подается вперед, уперев локти в колени. Рози спрыгивает, усаживается на полу и смотрит на Джона. Он гладит ее и мурлычет: «Ты ж моя маленькая принцесса».
– Вы не поверите, – говорит он, снова глядя на меня, – но пару дней назад я сделал, хм, неудачное замечание Марго. Она сказала, что ее психотерапевт посоветовал нам семейного специалиста, а я сказал, что хочу услышать рекомендацию от вас, потому что мне нет нужды доверить суждению ее психотерапевта-идиота. И едва эти слова вылетели у меня изо рта, я понял, что стоит выбирать выражения, но было уже поздно, и Марго просто взорвалась. «Мой психотерапевт-идиот? – кричала она. – Мой?» Она сказала, что если мой психотерапевт не видит, какой я мудак, то это я хожу к идиоту. Я извинился за то, что назвал ее психотерапевта идиотом, она извинилась за то, что назвала меня мудаком, потом мы оба засмеялись – и я не могу вспомнить, когда мы в последний раз оба так смеялись. Мы просто не могли остановиться! Девочки услышали нас, прибежали и смотрели на нас, как на пару чокнутых. «Что смешного?» – спрашивали они, а мы не могли им объяснить. Мне кажется, мы даже сами не знали, что смешного.
Тогда девочки тоже засмеялись – и мы все смеялись над тем, что не можем перестать смеяться. Руби легла на пол и начала кататься, потом к ней присоединилась Грейс, потом мы с Марго посмотрели друг на друга, тоже легли на пол и уже все четверо катались по полу и хохотали. А потом Рози прибежала посмотреть, что за шум, и когда она увидела нас всех на полу, то просто застыла в дверях. Она стояла и качала головой, словно говоря: «Ну вы, люди, и чокнутые». А потом она убежала. И тогда мы стали смеяться над Рози, и пока я катался по полу с женой и детьми, а собака лаяла на нас из другой комнаты, я словно наблюдал за этой сценой сверху и проживал ее одновременно, и я подумал, что люблю свою чертову семью.
Он задумывается на секунду, а потом продолжает.
– Я давно не чувствовал себя настолько счастливым, – говорит он. – И знаете что? Мы с Марго провели по-настоящему чудесную ночь. Как будто напряжение, которое обычно было между нами, вдруг исчезло. – Джон улыбается воспоминаниям. – Но потом… не знаю, что случилось. Я теперь сплю гораздо лучше, но в ту ночь я несколько часов не мог уснуть, думая о словах Марго. Я не мог выбросить это из головы. Потому что я знаю, что вы не считаете меня мудаком. В смысле, я, очевидно, вам нравлюсь. Так что потом я подумал: стоп, а если Марго права? Что, если я мудак, но вы не видите этого? Тогда вы на самом деле психотерапевт-идиот. Так в чем дело: я мудак? Или вы идиотка?
Вот это ловушка, думаю я. Либо я называю его мудаком, либо объявляю себя идиоткой. Я вспоминаю Джулию и фразу, которую друзья написали в ее альбоме: «Я выбираю ничего».
– Возможно, есть третий вариант, – предполагаю я.
– Я хочу правду, – твердо говорит он. Куратор однажды заметил, что в психотерапии изменения часто происходят «постепенно, затем внезапно», и это может быть верно в случае Джона. Я представляю себе, как Джон ерзает и ворочается в постели, не может заснуть. Карточный домик, который он построил, уверяя себя, что все вокруг идиоты, рушится, и теперь он стоит среди руин. Я мудак. Я не лучше, чем все остальные, не особенный. Моя мама была неправа.
Но и это неправда. Это коллапс нарциссической защиты в виде гиперкоррекции. Джон начал с убеждения «я хороший, ты плохой», а теперь перевернул его с ног на голову: «ты хороший, я плохой». Ни то ни другое неверно.
– В моем понимании, – говорю я честно, – правда не в том, что я идиотка или что вы мудак, а в том, что иногда вы ведете себя так с целью самозащиты.
Я наблюдаю за реакцией Джона. Он вздыхает и, кажется, собирается съерничать, но потом осекается. С минуту он молчит, глядя на заснувшую Рози.
– Да, – говорит он. – Я и правда веду себя как мудак. – Потом он улыбается и добавляет: – Иногда.
Недавно мы с Джоном говорили о красоте слова «иногда»: оно помогает найти равновесие, держит нас в комфортной середине, не позволяет болтаться в разных концах спектра, держась за жизнь. Оно помогает избежать тирании черно-белого мышления. Джон говорил, что когда он испытывал давление брака и карьеры, то думал раньше, что наступит момент, в котором он снова будет счастлив; когда умер Гейб, он решил, что никогда не будет счастлив снова. Теперь, говорит он, ему стало ясно, что суть – не во всяких «или/или», «да/нет», «всегда/никогда».
– Может быть, счастье – это «иногда», – говорит он, откидываясь назад на диване. Эта мысль приносит ему облегчение. – Думаю, хуже не будет, если сходить на пару сессий к этому семейному психотерапевту, – добавляет Джон, ссылаясь на предложение Уэнделла.
Марго и Джон посетили несколько сессий у одного из таких специалистов после смерти Гейба. Но они оба были так злы и так пристыжены, виня одновременно и себя, и друг друга, что даже когда психотерапевт привел полицейский доклад о пьяном водителе в качестве фактора, спровоцировавшего аварию, Джон потерял интерес к тому, что называл «бессмысленным вскрытием». Если Марго нужна была психотерапия, он был только за, но сам не видел смысла продолжать собственную пытку на час каждую неделю.
А сейчас, объясняет он, он согласился на семейную психотерапию, потому что и так многое потерял: маму, сына, может быть, даже себя. И он хочет бороться за Марго, пока не стало слишком поздно.
Поэтому недавно они с Марго начали – нерешительно, деликатно – говорить о Гейбе и о многих других вещах. Они постепенно узнают, кто они есть в этот момент жизни и какой для них будет дальнейшая жизнь. Каким бы ни был результат, рассуждает Джон, возможно, парная психотерапия сможет помочь.
– Но если этот парень идиот… – начинает Джон, но я его останавливаю.
– Если вы рассуждаете в таком ключе, – говорю я, – то я предлагаю вам остаться здесь до тех пор, пока у вас не появится больше информации. Если психотерапевт хорош, процесс может оказаться для вас дискомфортным, и мы сможем обсудить ваши чувства здесь. Давайте попробуем разобраться вместе, прежде чем вы примете решение.
Я думаю о том времени, когда сомневалась в Уэнделле, когда я переносила свой дискомфорт на него. Я вспоминаю, как гадала, не обкурился ли он, впервые заговорив со мной о моем горе. Я вспоминаю, как в один момент считала его банальным, а в другой – скептически относилась к его словам.
Может быть, нам всем необходимо сомневаться, протестовать и задавать вопросы, прежде чем отпускать что-либо.
Джон рассказывает мне, что в ту ночь, когда он не мог заснуть, он начал думать о своем детстве. Когда он был маленьким, говорит он, он мечтал стать врачом, но у его семьи не было денег, чтобы отправить его в медицинский институт.
– А я и понятия не имела, – говорю я. – Каким именно врачом?
Джон смотрит на меня, как будто ответ очевиден.
– Психиатром, – говорит он.
Джон – психиатр! Я пытаюсь представить его, работающего с пациентами. «Ваша свекровь сказала что? Ну и идиотка!»
– Почему именно психиатром?
Джон закатывает глаза.
– Потому что я был ребенком, чья мать умерла. Очевидно, я хотел спасти ее, или себя, или вроде того. – Он делает паузу. – А еще потому что я был слишком ленив, чтобы стать хирургом.
Я восхищена его самоанализом, хотя он по-прежнему прикрывает свою уязвимость шуткой.
Но Джон продолжает. Он подал документы в медицинский институт, уповая на финансовую помощь. Он знал, что окончит институт с огромными долгами, но считал, что с зарплатой врача сможет их выплатить. Он хорошо учился в колледже, особенно ему давалась биология, но поскольку ему приходилось работать по двадцать часов в неделю, чтобы оплатить учебу, его оценки были не так высоки, как могли бы быть. И конечно, не так высоки, как у его подготовленных одногруппников – отличников, которые зубрили ночами напролет и получали высшие баллы.
Тем не менее он прошел собеседование в нескольких институтах. Но члены комиссии все равно отпускали «двусмысленные шутки» о том, насколько великолепно его экзаменационное эссе, и пытались манипулировать его ожиданиями, учитывая хороший, но не выдающийся средний балл. «Вам нужно быть писателем!» – сказали несколько интервьюеров, как бы в шутку, но как бы и нет. Джон был в бешенстве. Разве они не поняли по его документам, что он работал, одновременно добирая необходимые баллы для поступления? Разве это не доказывает его преданность делу? Его рабочую этику? Его способность справляться с трудностями? Разве они не поняли, что россыпь четверок и одна идиотская тройка – показатели вовсе не его способностей, а того факта, что у него никогда не было времени полноценно учиться, особенно оставаться после занятий, когда лабораторные затягивались?
В конце концов Джон поступил в медицинский, но финансовая помощь оказалась меньше, чем он рассчитывал. И поскольку он знал, что не сможет работать во время учебы в институте так же, как в колледже, он отклонил предложение и уселся перед телевизором, размышляя о своем будущем. Его отец – учитель, как и покойная мать – предложил Джону преподавать естественные науки, но Джон не мог выбросить из головы известную поговорку: «Те, кто не может делать, учат». Джон мог делать (он знал, что справился бы с программой института), ему просто нужны были деньги. А потом, пока он сидел перед телевизором и проклинал свое незавидное положение, ему пришла в голову идея.
Он подумал: «Черт, я же могу писать эту ересь».
Недолго думая, Джон купил учебник по написанию сценариев, настрочил эпизод, отправил его агенту, чье имя нашел в справочнике, и был принят в штат сценаристов одного сериала. Сериал, по его словам, был «полным бредом», но план был таков: писать три года, заработать нормальные деньги и снова поступить в медицинский. Однако через год его позвали в команду куда более перспективного сериала, а еще через год наняли на один из самых популярных проектов канала. К тому моменту, когда он накопил достаточно денег, чтобы подать документы в медицинский институт, на полке в его квартире-студии стояла «Эмми». И он решил не поступать заново. Что, если на этот раз он не попадет ни в один из институтов? Кроме того, он хотел зарабатывать деньги – безумные суммы, которые он поднимал в Голливуде, – чтобы его будущие дети не сталкивались с подобным выбором. Теперь, говорит он, у него столько денег, что его дочери могут отучиться в медицинском несколько раз.
Джон вытягивает руки, переставляет ноги. Рози открывает глаза, вздыхает и снова закрывает их. Он продолжает, рассказывая, что помнит, как стоял на сцене во время награждения со всей командой сериала и думал: «Ха! Вот вам, кретины! Можете взять свои письма с отказами и засунуть их себе в задницы! Я получил гребаную “Эмми”!»
Каждый год, по мере того как шоу зарабатывало все новые награды, Джон испытывал извращенное чувство удовлетворения. Он думал обо всех тех людях, которые не верили в то, что он достаточно хорош, но вот и он – с кабинетом, полным «Эмми», банковским счетом, полным денег, пенсионным портфелем. В его голове крутилась мысль: «Ничего из этого они не могут у меня отобрать».
Я думаю о том, как «они» отобрали у него мать.
– Кто «они»? – спрашиваю я Джона.
– Чертовы экзаменаторы в медицинских институтах, – говорит он. Ясно, что его успех был порожден не только страстью, но и желанием мести. И я спрашиваю у него, кто «они» сейчас. У большинства из нас «они» есть среди зрителей, даже если никто на самом деле не наблюдает за нами, по крайней мере, не так, как нам кажется. Люди, которые наблюдают за нами – которые на самом деле видят нас – не беспокоятся о фальшивой личности, о том шоу, которое мы показываем. Кто эти люди для Джона?
– Ой, да ладно, – говорит он. – Всех заботит то шоу, которое мы показываем.
– Думаете, меня заботит?
Джон вздыхает.
– Вы мой психотерапевт.
Я пожимаю плечами. И что?
Джон расслабляется на кушетке.
– Когда я катался по полу со своей семьей, – говорит он, – меня посетила максимально странная мысль. Я подумал, что мне хотелось бы, чтобы вы нас увидели. Чтобы вы увидели меня в эту конкретную минуту, потому что я чувствовал себя как совершенно другой человек, которого вы не слишком знаете. Потому что здесь, знаете, у нас сплошной тлен и уныние. Но по пути сюда сегодня я подумал: возможно, она знает. Возможно, у вас есть что-то вроде психотерапевтического шестого чувства, и вы видите людей насквозь. Потому что – и я не уверен, это из-за ваших надоедливых вопросов или садистских молчаний – мне кажется, вы меня понимаете. И я не хочу, чтобы вы сейчас собой чересчур возгордились, но мне кажется, вы составили более полную картину моей настоящей человеческой сущности, чем кто-либо еще в моей жизни.
Я в таком шоке, что не могу произнести ни слова. Мне хочется сказать Джону, как я тронута – не только его чувствами, но и его готовностью рассказать мне о них. Мне хочется сказать ему, что, кажется, я никогда не забуду эту минуту, но до того, как мой голос возвращается, Джон восклицает:
– Бога ради, не начинайте, мать вашу, снова рыдать передо мной!
Я хихикаю, и Джон тоже. А потом я говорю ему то, что не смогла сказать минуту назад, сидя с комом в горле. Теперь у Джона глаза на мокром месте. Я вспоминаю одну из предыдущих сессий, когда Джон сказал, что Марго всегда плачет, и я предположила, что она плачет за них обоих. Может быть, вы позволите Марго плакать, предложила я тогда, а заодно и себе тоже. Джон не был готов к тому, чтобы Марго увидела его плачущим. Момент был не тот. Но учитывая, что я видела его слезы, я возлагала большие надежды на их семейную психотерапию.
Джон вытирает слезы.
– Видите? – говорит он. – Моя гребаная человеческая сущность.
– Она великолепна, – говорю я.
Мы так и не открыли пакет из китайского ресторана. Нам больше не нужна еда между нами.
Несколько недель спустя я лежу дома на диване и рыдаю, как ребенок. Я смотрю сериал Джона, и социопатический персонаж, который становится все мягче, разговаривает с братом – человеком, о существовании которого мы не знали вплоть до пары последних эпизодов. Герой и его брат, по всей видимости, не общаются, и из флешбэков зритель узнает причину: брат винит социопатического персонажа в смерти его сына.
Это душераздирающая сцена, и я думаю о детской мечте Джона стать психиатром, а также о том, как его способность уловить боль превратила его в такого сильного автора. Это дар боли после смерти матери или после смерти Гейба? Или это наследие тех отношений, что были у них с Джоном при жизни?
Успех и потери. Потери и успех. Что первично?
На нашей следующей сессии Джон расскажет мне, что он смотрел этот эпизод с Марго и что они обсудили его с семейным психотерапевтом, который пока что выглядит «не полным идиотом». Он расскажет мне, что, когда эпизод начался, они с Марго сидели каждый сам по себе, на разных концах дивана. Но когда на экране замелькали флешбэки, что-то подтолкуло его – был ли это инстинкт, любовь или все вместе – подвинуться вправо к ней. Их ноги соприкоснулись, и он обвил ее ноги своими, пока они оба всхлипывали над этой сценой. Когда он будет рассказывать мне об этом, я буду вспоминать, как далеко от Уэнделла я села в нашу самую первую встречу и как много времени мне понадобилось, чтобы наконец почувствовать себя достаточно комфортно и подвинуться ближе. Джон добавит, что я была права – что и правда нет ничего плохого в том, чтобы плакать вместе с Марго, и что они не утонули в потоке слез, а благополучно выплыли на берег.
Когда он будет это говорить, я представлю себя, Джона, Марго и множество зрителей по всему миру, лежащих на своих диванах, раскрывшихся благодаря его словам. И я подумаю, как Джон сделал так, что все мы не видим в слезах ничего плохого.
57 Уэнделл
– Я назову вас Уэнделлом, – говорю я своему психотерапевту, чье настоящее имя, должна признаться, на самом деле не Уэнделл.
Я только что сделала объявление: я снова начала писать что-то вроде книги, и он – мой психотерапевт, ныне носящий имя «Уэнделл» – играет в ней важную роль.
Я объясняю, что не планировала такого. Но за неделю до этого меня словно гравитацией притянуло к рабочему столу: я включила ноутбук, открыла новый документ и несколько часов писала, как будто во мне прорвало плотину. Я снова чувствовала себя собой, но по-другому – более свободной, более расслабленной, более живой; я испытывала то, что психолог Михай Чиксентмихайи называет «потоком». Только начав зевать, я оторвалась от компьютера, увидела, который час, и поползла в кровать. Я устала, но в каком-то энергетическом смысле, и была готова отдыхать после подобного пробуждения.
На следующее утро я проснулась более свежей, а вечером таинственная сила снова притянула меня к ноутбуку. Я вспомнила о плане Джона стать психиатром. Для многих людей погружение в бездну своих мыслей и чувств подобно прогулке по темному переулку: они не хотят идти в одиночку. Люди приходят на психотерапию, чтобы кто-то был с ними в этот момент, и по схожим причинам они смотрят сериал Джона: он заставляет их чувствовать себя менее одинокими, позволяет увидеть версию себя, продирающуюся сквозь жизненные перипетии на экране. Может быть, в этом плане он и стал психиатром для многих – и, может быть, его смелость в описании собственных потерь вдохновила меня рассказать о своих.
Всю неделю я писала о своем расставании, своем психотерапевте, своей смертности, нашем страхе взять на себя ответственность за собственную жизнь и необходимости сделать это, чтобы исцелиться. Я писала об устаревших историях и ложных нарративах, о том, как прошлое и будущее могут вплетаться в настоящее, иногда полностью затмевая его. Я писала о рисках и отпущении, о том, как трудно обойти решетку, даже когда свобода не прямо перед нами, а в буквальном смысле внутри нас, в наших умах. Я писала о том, что вне зависимости от внешних обстоятельств мы можем выбрать, как прожить свою жизнь, и что, невзирая на наши потери, происшествия и возраст, как выразилась Рита, надежда умирает последней. Я писала о том, что иногда у нас есть ключ к лучшей жизни, но нужен кто-то, кто покажет, где найти эту чертову штуковину. Я писала о том, что для меня таким человеком стал Уэнделл и что для других таким человеком иногда становилась я.
– Уэнделл… – проговаривает Уэнделл, примеряя на себя имя.
– Потому что я прихожу сюда по средам[34], – говорю я. – Можно озаглавить «Среды с Уэнделлом». Аллитерация звучит очень мелодично, да? Но моя книга слишком личная для публикации. Она просто для меня. Это так потрясающе – снова писать.
– В этом есть смысл, – говорит он, ссылаясь на наши прошлые беседы. Это правда: я не могла писать книгу о счастье, потому что на самом деле искала не счастье. Я искала смыслы, из которых вырастает самореализация – и да, иногда и счастье. И я так долго не могла заставить себя расторгнуть контракт на книгу, потому что, если бы я это сделала, мне бы пришлось избавиться от своего костыля страданий на тему «надо было написать книгу о родительстве», который защищал меня от изучения чего-то еще. Даже избавившись от обязательств по контракту, я несколько недель держалась за сожаления и фантазии о том, насколько легче была бы моя жизнь, если бы я написала ту книгу о родительстве, сулившую большую прибыль. Подобно Рите, я сопротивлялась свету и триумфу, проводя больше времени в мыслях о том, как оплошала, чем о том, как освободила себя.
Но я тоже получила второй шанс. Уэнделл однажды заметил, что мы говорим сами с собой больше, чем с любым другим человеком за всю свою жизнь, но наши слова не всегда добры, верны, ободряющи – или хотя бы уважительны. Большую часть того, что мы говорим сами себе, мы бы никогда не сказали людям, которых любим или которые нам небезразличны, вроде друзей и детей. На психотерапии мы учимся уделять пристальное внимание этим голосам в голове, чтобы научиться лучше – с большей добротой, честностью и поддержкой – общаться с самими собой.
Так что сегодня, когда Уэнделл говорит о смысле, я знаю, что под «этим» он также подразумевает нас, время, которое мы провели вместе. Люди часто думают, что приходят на психотерапию за объяснением – почему ушел Бойфренд или почему они впали в депрессию – но на деле они приходят туда за опытом, за чем-то уникальным, что возникает между двумя людьми примерно на час каждую неделю. Смысл этого опыт помог мне найти смыслы в других вещах.
Пройдет несколько месяцев, прежде чем я в шутку обдумаю мысль превратить свои ночные посиделки за ноутбуком в настоящую книгу, прежде чем я решу использовать собственный опыт для того, чтобы помочь и другим найти смысл жизни. И как только я наскребу достаточно храбрости, чтобы показать себя в таком свете, вот, во что все превратится – в книгу, которую вы сейчас читаете.
– Уэнделл, – повторяет он, словно пробуя имя на вкус. – Мне нравится.
Но нужно рассказать еще одну историю.
Задуматься о прощании с Уэнделлом меня заставил не наш совместный танец за месяц до этого, но именно он подтвердил, что я готова.
– Под какую музыку вы хотите станцевать? – спросил Уэнделл, когда я наконец набралась смелости, чтобы вернуться к его предложению. Я проглотила автоматически всплывший ответ, который выскочил, пока я рассказывала Уэнделлу, что чувствовала, будто тело предало меня на свадьбе, когда нога потеряла свою силу.
– Танцевать? – сказала я тогда. – Вы с ума сошли? Я бы никогда не стала делать такого с пациентом.
Уэнделл пожал плечами.
– Я никогда не говорю «никогда».
У психотерапевтов действуют странные табу насчет физического контакта и прикосновений. Я говорю «странные», потому что в профессии, сосредоточенной на связях между людьми, мы склонны использовать жестко дистанцированный клинический подход. Естественно, я не говорю о сексуальных прикосновениях. Но во время учебы нам четко говорили: никогда не прикасайтесь к пациентам, это может смутить их. (А еще вас могут засудить.)
И все же я знаю опытных психотерапевтов, для которых касания – рутина: пожать руку, обнять, сжать плечо, похлопать по руке. Я нечасто практикую физические контакты с пациентами, но если ситуация того требует и я считаю, что это пойдет пациенту на пользу, то я так и сделаю. Я помогала Рите надеть пальто, целовала Джулию в щеку на прощание и обнимала Шарлотту, поздравляя с поступлением в аспирантуру.
Когда Джон, наконец, смог более четко поговорить о сцене в его сериале, где главный герой обнимает своего психотерапевта, в конце той сессии он остановился у двери и спросил, может ли обнять меня на прощание. Это было так не похоже на Джона – не только в уязвимости желания, но и в том, что он просил, а не требовал – что я сразу согласилась. (Когда на следующей сессии я упомянула об этом, спросив: «Что на вас нашло?», Джон отшутился. «Ничего не нашло, – сказал он, смеясь. – Это как обнять мать». Но я услышала больше, чем оскорбление. «Каково было снова обнять вашу мать?» – осторожно спросила я, и это объятие стало поворотным моментом в нашей совместной работе.)
Это нормально – время от времени касаться пациентов не только в метафорическом смысле.
Но танцы? К тому времени я уже поняла, что Уэнделл придерживается нетрадиционных методов работы, но по-прежнему гадала: он что, совсем чокнутый? И стану ли я чокнутой, если соглашусь? Меня не смущала перспектива прикосновения: я сомневалась, что мы будем танцевать вальс или фокстрот. Меня больше волновала идея запустить в кабинет психотерапии нечто отличное от нашего обычного орудия труда – слов.
– Может быть, «Let It Be»? – предложила я. Не так давно я наигрывала эту мелодию на пианино, и она всплыла в моей голове до того, как я сообразила, что это не совсем танцевальная песня. Я хотела было предложить поменять ее на что-то из репертуара Принса или Бейонсе, но Уэнделл встал, достал iPhone из тумбочки, и через несколько секунд комнату наполнили культовые первые ноты.
Как только музыка заиграла, часть меня захотела отказаться, но другая часть знала, что я слишком часто принимаю свой страх за запрещающий сигнал светофора. Стоп! Может быть, стоило переключить красный свет на желтый, сигнализирующий, что пора притормозить и подумать: стоит остановиться или можно двигаться? Может быть, это пойдет мне на пользу. Может быть, нет. Но пора отмахнуться от страха, посмотреть в обе стороны и обдумать все варианты.
Я встала и попыталась двигаться под музыку, но мне было слишком неловко.
– Это безумие, – сказала я Уэнделлу. – Я танцую со своим психотерапевтом под балладу – а я даже не знаю, как танцевать под балладу!
Пока Пол Маккартни пел про «час беды», я неловко стояла у дивана, говоря Уэнделлу, что нужно что-то более клубное, танцевальное, что-то вроде…
– Слова, слова, слова, – перебил Уэнделл с другого конца комнаты, покачиваясь под мелодию.
Когда начался припев – Let it be, let it be, let it be, let it be – Уэнделл затряс головой, как подросток на рок-концерте, утрируя для комического эффекта, приглашая меня перестать разговаривать с мозгом и проявить эмоции своим телом.
Я затрясла головой – не могу. Но Уэнделл продолжил. Песня продолжилась тихим, пронзительным вторым куплетом о людях, чьи сердца разбиты, а он все еще скакал, как будто наслаждался этим больше всего на свете, поглядывая на меня, как будто говоря, что теперь дело за мной. Я стояла, словно мои ноги вросли в землю, и смотрела, пытаясь выбросить все из головы и просто… просто позволить этому случиться. Я подумала о своем парикмахере Кори и его философии «просто будьте». Высокая, тощая фигура Уэнделла теперь перемещалась по комнате, и задний двор, видимый через окно, был для него декорациями. Картина вышла сюрреалистичная.
Но когда снова начался припев, я просто не смогла удержаться. Я тоже начала вальсировать по комнате, поначалу смеясь над собой, наматывая круги; Уэнделл улыбнулся и пошел вразнос. Его танцевальный бэкграунд был очевиден – или, может быть, дело было не столько в его умениях, сколько в самоощущении. Он не пытался исполнить что-то изящное, он просто чувствовал себя полностью в своем теле. Я по-прежнему не могла опираться всем телом на левую ногу, но он был прав: нужно было все равно выходить на танцпол.
Теперь мы оба танцевали и пели – о свете, который сияет в пасмурную ночь, – выкрикивая строки во всю мощь легких, будто в караоке-баре.
На одной из сессий, когда мы говорили о рассадке, Уэнделл предложил поменяться: чтобы я заняла место С, а он – место В. Буду ли я чувствовать себя так же неловко, сидя там, где обычно сидел он? Другими словами, в чем проблема: в его физической близости или в недостатке контроля – в том, что я оказалась на месте пациента вместо кресла психотерапевта?
Мы встали, поменялись местами, и произошло нечто абсолютно странное. Я почувствовала себя спокойно, защищенно, безмятежно, хотя нога Уэнделла стояла на полу в паре сантиметров от моей. Но едва мы продолжили сессию, мой дискомфорт вернулся. Я захотела обратно на прежнее место, на кушетку. Я почувствовала себя менее свободно на месте Уэнделла, чем на своем собственном. Так что мы пересели обратно. Получалось, что я, как и большинство людей, хотела контролировать ситуацию, но в то же время и отпустить ее. Каждому нужны обе роли: крепко держаться и отпускать. До прихода к Уэнделлу я держалась слишком крепко, а, оказавшись здесь, отпустила слишком много всего. Теперь мне нужно было найти баланс. Продолжая эксперимент, мы наблюдали за колебаниями моих эмоций, пересаживаясь туда-сюда еще дважды в течение сессии, ведя и следуя, следуя и ведя.
– Видите, мы как будто танцуем, – сказал Уэнделл после очередного пересаживания.
Я многозначительно посмотрела на него: не надо снова про танцы. Точно так же я однажды сказала ему: не надо снова этой чуши про горевание.
Но сейчас мы с Уэнделлом и наши нешамы громко пели и танцевали вместе в той самой комнате, где я расклеивалась в своем отчаянии.
И найдется ответ:
Да будет так.
Песня закончилась раньше, чем я ожидала, прямо как наши сессии. Но вместо того чтобы почувствовать, что мне нужно больше времени, я нашла некое удовлетворение в том, что наше время вышло.
За пару месяцев до этого я сказала Уэнделлу, что обдумываю, каково будет перестать ходить на психотерапию. Столько всего изменилось за год, и я чувствовала себя не только более подготовленной к жизни со всеми ее задачами и неопределенностями, но и более спокойной внутри. Уэнделл улыбнулся – это была та улыбка, которую я порой наблюдала и которая, казалось, значила «я рад за вас» – потом спросил, не поговорить ли нам о терминации.
Я заколебалась. Еще нет.
Тем не менее мы договорились вернуться к этой теме, когда я буду готова.
И сейчас, когда Уэнделл убрал свой iPhone обратно в стол и вернулся на свое место на кушетке, момент казался подходящим. Есть такое библейское изречение, которое примерно переводится как «Сначала ты делаешь, потом понимаешь». Иногда нужно совершить прыжок веры и испытать что-то, прежде чем значение действия станет очевидным. Перенос слов в действие, его свобода пробудили во мне желание перенести это действие за пределы кабинета психотерапии – в мою жизнь.
Я была готова уйти – пока что.
58 Пауза в разговоре
Самое необыкновенное в психотерапии – то, что она строится вокруг окончания. Она начинается со знания, что время, проведенное вместе, конечно и что успешный исход – это когда пациенты достигают своих целей и уходят. Цели у каждого человека свои, и большинство психотерапевтов обсуждают с пациентами, какими могут быть их цели. Больше не плакать по ночам? Улучшить отношения? Стать добрее к себе? Конечная точка зависит от пациента.
В лучшем случае конец выглядит естественно. Можно сделать еще многое, но многое уже сделано, достаточно. Пациент чувствует себя хорошо: он более устойчив, более гибок, более способен справляться с повседневной жизнью. Мы помогли ему услышать вопросы, которыми он задавался, но даже не знал об этом. Кто я? Чего я хочу? Каков мой путь?
Но глупо отрицать, что психотерапия также заключается в формировании глубокой привязанности к людям и последующем прощании.
Иногда психотерапевты слышат продолжение истории, если пациенты возвращаются на другом этапе своей жизни. В других случаях нам остается лишь гадать. Как у них дела? Все ли хорошо у Остина, который развелся с женой и совершил каминг-аут, когда ему было под сорок? Жив ли муж Джанет с болезнью Альцгеймера? Стефани сохранила свой брак? Столько историй остается без завершения; о стольких людях я думаю, но никогда больше не увижу их.
– Вы будете помнить обо мне? – спрашивала Джулия, но этот вопрос не уникален в ее ситуации.
А сегодня я прощаюсь с Уэнделлом. Мы говорили об этом прощании со времен нашего танца, когда назначили дату последней сессии, но сейчас, когда она настала, я не знаю, как поблагодарить его. Когда я была интерном, меня учили, что, когда пациенты благодарят нас, полезно напомнить им, что они проделали большую работу.
«Это все вы, – чаще всего говорит психотерапевт. – Я просто направлял вас». И в каком-то смысле это правда. Именно они взяли телефон, записались не сессию и каждую неделю прорабатывали какие-то вещи; никто не мог бы сделать это за них.
Но нас также учили кое-чему еще, что нельзя понять до конца, пока не проведешь несколько тысяч часов психотерапии: мы растем, находя связь с другими. Каждому нужно услышать, как чей-то голос говорит: «Я в тебя верю. Я вижу возможности, которых ты пока не видишь. Что-то непривычное, так или иначе, случится». В психотерапии мы говорим: «Давайте отредактируем вашу историю».
В самом начале, когда я рассказывала о Бойфренде, услышав мою позицию «я невиновна, это он козел», Уэнделл сказал: «Вы хотите, чтобы я согласился с вами». Я сказала, что хочу не этого (хотя на самом деле хотела), а того, чтобы он с чуткостью отнесся к испытанному мной потрясению, а потом продолжала рассказывать, как именно ему надо было это сделать. В этот момент он сказал, что я пытаюсь контролировать психотерапию и что мои попытки перевернуть ситуацию по своему усмотрению могли сыграть свою роль в том, что я была ослеплена Бойфрендом. Уэнделл не хотел проводить психотерапию так, как я этого хотела. Бойфренд не хотел жить со мной так, как я этого хотела. Бойфренд пытался ко мне приспособиться, пока, в конце концов, больше уже не мог. Уэнделл, как объяснил он, не стал терять мое время; он не хотел, как и Бойфренд, через два года сказать: «Извините, я не могу это сделать».
Я помню, как Уэнделл за это одновременно и понравился, и не понравился мне. Похоже на то, как когда у кого-то наконец хватает духу сказать тебе, что у тебя проблемы, и ты чувствуешь одновременно и желание защититься, и облегчение от слов этого человека. Это тонкое искусство. Мы с Уэнделлом работали над моим горем, а также над моим «самозаточением». И мы сделали это вместе – не я одна. Психотерапия работает только при совместных усилиях.
«Никто вас не спасет», – говорил Уэнделл. Он не спас меня, но помог мне самой спасти себя.
Так что, когда я выражаю свою признательность Уэнделлу, он не отмахивается от комплимента с шаблонной скромностью.
– Всегда рад помочь, – говорит он.
Незадолго до этого Джон заметил, что хороший телесериал оставляет у зрителей такое чувство, словно дни между еженедельными эпизодами – просто пауза в истории. Точно так же, сказал он, он начал понимать, что каждая из наших сессий была не законченным разговором, а непрерывным; время между сессиями было просто паузой, а не завершением. Я делюсь этим с Уэнделлом в последние минуты нашей финальной сессии.
– Давайте расценивать это как паузу в разговоре, – говорю я. – Как и каждую неделю, просто подольше.
Я говорю ему, что в какой-то момент могу вернуться, потому что это правда: люди уходят и приходят на разных этапах своей жизни. И когда они это делают, психотерапевт все еще сидит в том же кресле, храня их общую историю.
– Мы можем считать это паузой, – отвечает Уэнделл, потом добавляет то, что обычно труднее всего сказать: – Даже если мы больше не встретимся.
Я улыбаюсь, точно зная, что он имеет в виду. Отношения на самом деле не заканчиваются, даже если вы больше никогда не встретитесь. Каждый человек, с которым вы были близки, живет где-то внутри вас. Ваша старая любовь, ваши родители, друзья, люди живые и мертвые (символически или буквально) – все они пробуждают воспоминания, осознанные и нет. Часто они показывают, как вы относитесь к себе и другим. Иногда вы ведете с ними разговоры у себя в голове, иногда они разговаривают с вами во снах.
За недели перед последней сессией мне несколько раз снились сны о том, как ухожу. В одном из них я встречаю Уэнделла на конференции. Он стоит с кем-то, кого я не знаю, и я не уверена, что он меня видит. Я чувствую расстояние между нами и всем, что когда-то было между нами. А потом он оглядывается. Я киваю. Он кивает. На его лице тень улыбки, которую вижу только я.
В другом сне я навещаю подругу в ее офисе (кто эта подруга, неясно). Когда я делаю шаг из лифта на ее этаже, я вижу, как Уэнделл выходит из кабинета. Возможно, он приходил, чтобы встретиться с коллегами по консультационной группе. Или, может быть, только что побывал на собственной психотерапевтической сессии. Я восхищена: психотерапевт Уэнделла! Один из этих психотерапевтов – его? Может быть, это моя подруга? В любом случае, он не стесняется этого. «Здравствуйте», – тепло говорит он, выходя. «Здравствуйте», – отвечаю я, проходя вперед.
Интересно, что означали эти сны? Я всегда теряюсь, если, как психотерапевт, не могу понять собственный сон. Я рассказываю о них Уэнделлу. Он тоже не знает, в чем их смысл. Мы обдумываем различные теории – два психотерапевта анализируют сон одного из них. Мы говорим о том, как я себя чувствовала во время сна, как я себя чувствовала, когда проснулась. Мы обсуждаем, как я чувствую себя сейчас: я одновременно встревожена и возбуждена от предчувствия того, что ждет меня дальше. Мы проговариваем вопросы о нем, обо мне, о нас, оставшиеся без ответа. Мы говорим о том, как трудно порой попрощаться с тем, к кому привязался.
– Ладно, – говорю я сейчас в кабинете Уэнделла. – Пауза.
У нас остается около минуты, и я пытаюсь впитать в себя этот момент, запомнить его. Уэнделла – он сидит, скрестив свои невероятно длинные ноги, в стильной рубашке и брюках цвета хаки, в модных голубых ботинках и в носках в квадратик. Выражение его лица – заинтересованное, участливое, присутствующее. Его бороду с вкраплениями седины. Стол с салфетками между нами. Шкаф, книжные полки и рабочий стол, на котором всегда лежит ноутбук – и ничего больше.
Уэнделл дважды хлопает себя по ногам, встает, но не говорит у двери свое обычное «Увидимся на следующей неделе».
– До свидания, – говорю я.
– До свидания, – говорит он и протягивает мне руку.
Когда я отпускаю ее, я разворачиваюсь и иду через приемную с модными креслами, черно-белыми фотографиями и гудящей машиной для белого шума, затем спускаюсь в коридор к выходу из здания. Когда я подхожу к двери, с улицы заходит женщина. Одной рукой она держит телефон у уха, другой толкает дверь, открывая ее.
– Мне нужно идти. Я перезвоню через час? – говорит она в трубку. Я оглядываюсь и смотрю, как она идет через холл. Ну конечно – она открывает дверь в офис Уэнделла. Интересно, как давно она ходит к нему? Они когда-нибудь танцевали?
Я думаю о нашем разговоре, гадая, как долго продлится пауза.
Оказавшись снаружи, я ускоряю шаг, подходя к своей машине. В офисе меня ждут пациенты – люди вроде меня, изо всех сил пытающиеся не мешать самим себе. Светофор на перекрестке вот-вот загорится зеленым, и я бегу, чтобы успеть, но чувствую тепло на коже и останавливаюсь у обочины – подставляя лицо солнцу, впитывая его, поднимая взгляд на мир.
На самом деле у меня еще много времени.
Благодарности
Есть причина, по которой я на весьма раннем этапе работы спрашиваю пациента, насколько его жизнь наполнена людьми. Возможно, я сказала это уже миллион раз, но скажу в миллион первый: мы растем вместе с другими. Оказывается, с книгами аналогичная ситуация. Я очень благодарна следующим людям:
В первую очередь моим пациентам. Они – причина, по которой я занимаюсь тем, чем занимаюсь, и мое восхищение ими бесконечно. Каждую неделю они работают усерднее олимпийских спортсменов, и быть причастной к этому процессу – огромная честь. Я надеюсь, что отдала должное их историям и почтила их жизнь на этих страницах. Они многому учат меня.
Уэнделлу – спасибо, что увидел мою нешаму, даже (и особенно) тогда, когда мне самой это не удавалось. Сказать, что мне повезло оказаться в вашем офисе – ничего не сказать.
У терапии много определений; это однозначно мастерство, которое оттачивается с годами. Мне посчастливилось учиться у лучших. Гарольд Янг, Астрид Шварц, Лоррейн Роуз, Лори Карни и Ричард Данн помогали мне с самого начала. Лори Грейпс была мудрым наставником и великодушной помощницей, всегда готовой оперативно проконсультировать в перерыве между сессиями. Моя консультационная группа обеспечила атмосферу максимальной поддержки для проведения тяжелой работы по изучению как себя, так и моих пациентов.
Написание этой книги в принципе стало возможным благодаря Гейл Росс, передавшей меня в надежные руки Лорен Вейн. Это был удачный союз по множеству причин, одной из которых стало то, что она находится в родстве с психотерапевтом – так что она сразу поняла, что я хотела выразить на этих страницах. Ее комментарий о «беседах» стал тем самым глотком вдохновения, благодаря которому все сошлось. Бесчисленными путями она вела этот проект с энтузиазмом, о котором авторы могут только мечтать. Брюс Николс и Эллен Арчер были воодушевлены с самого начала; они направляли и поддерживали эту книгу буквально на каждом этапе пути. Пилар Гарсия-Браун стала моей закулисной волшебницей; хотела бы я быть хоть наполовину такой способной и такой эффективной при достижении своих целей, как она! Когда дело дошло до работы с остальными членами команды издательства HMH, я едва поверила, что такое количество талантов собралось под одной крышей. Я выражаю огромную благодарность Лори Глейзер, Мэр Горман, Тарин Редер, Лейле Меглио, Лиз Андерсон, Ханне Харлоу, Лизе Гловер, Дебби Энгель и Лорен Айзенберг. Их ум и креативность поражают меня. Марта Кеннеди (спасибо за великолепный дизайн обложки) и Артур Маунт (спасибо за иллюстрации офисов) сделали книгу красивой как внутри, так и снаружи.
Доктор Трейси Рой стала не просто требовательным редактором, спасшим меня (и моих читателей) от бесчисленных грамматических катастроф. Оказалось, что в наших жизнях случались схожие переживания, и ее уморительные комментарии превратили нашу работу в настоящее наслаждение (говорю за себя; то, как я обращаюсь с местоимениями, едва не отправило ее обратно к пациентам в отделение скорой помощи). Дара Кей помогала ориентироваться в лабиринтах международной бюрократии при работе над зарубежными изданиями; здесь, в Лос-Анджелесе, экспертная поддержка Оливии Блоштейн и Мишель Вайнер в CAA была словно вишенка на торте.
Когда Скотт Стоссель впервые рассказал мне об Элис Труакс, он использовал слово «легендарная» – и он был прав. Ее разборчивость, наставничество и мудрость оказались поистине легендарными. Она видела параллели между моей жизнью и жизнью моих пациентов, которые не видела даже я; она отвечала на электронные письма в любое время ночи; подобно отличному психотерапевту, она задавала проницательные вопросы, вынуждала меня копать глубже и раскрываться более полно, чем я планировала. Короче, следы Элис – по всей книге.
Еще когда мой черновик занимал неприличные 600 страниц, небольшая армия очень честных и очень великодушных людей предложила мне высказать свое мнение по теме. Каждый из них помог значительно улучшить книгу, и если бы у меня была возможность даровать хорошую карму на всю оставшуюся жизнь, то я бы непременно одарила их: Келли Ауэрбах, Каролина Карлсон, Аманда Фортини, Сара Хепола, Дэвид Хохман, Джудит Ньюман, Бретт Пейзел, Кейт Филлипс, Дэвид Ренсин, Бетани Солтман, Кайл Смит и Майвен Трэджисер.
Анат Барон, Эми Блум, Тэффи Бродессер-Акнер, Меган Даум, Рейчел Кодер-Нейлбафф, Барри Нейлбафф, Пегги Оренштейн, Фейт Сали, Джоэл Стейн и Хизер Турджен – все они оказывали моральную и практическую поддержку и/или предлагали свои идеи насчет названия («Под кушеткой пыль: Под моей кушеткой? Или вашей?»). У Тэффи также случались приступы правды – именно в те моменты, когда я нуждалась в этом больше всего. Сообразительный Джим Левайн вдохновил меня в ключевой момент, и его поддержка имела огромное значение. Эмили Перл Кингсли дала свое благословение, когда я попросила разрешения напечатать ее прекрасное эссе «Добро пожаловать в Голландию» на этих страницах. Каролина Бронштейн слушала… и слушала… и слушала.
При написании книги должно пройти много времени, прежде чем вы сможете наладить контакт со своими читателями. Но когда вы работаете над еженедельной колонкой, ваши читатели оказываются совсем рядом. Большое спасибо поклонникам «Дорогого психотерапевта», а также Джеффри Голдбергу, Скотту Стосселу, Кейт Джулиан, Адриенне ЛаФранс и Бекке Розен из Atlantic за предоставленную мне возможность и доверие вести откровенные разговоры с теми смелыми людьми, которые пишут со всей возможной искренностью. Спасибо Джо Пинскеру, редактору мечты во всех смыслах: он сделал так, что в том, что я пишу, есть смысл; весь текст звучит намного лучше. Всегда приятно работать со всеми вами.
Больше всего я благодарна своей семье. Уэнделлу приходилось видеться со мной всего раз в неделю; вы же взаимодействовали со мной постоянно. Ваша любовь, поддержка и понимание – мое все. Отдельное спасибо моему «полному набору», Заку, добавившему немного магии в наши жизни, советующему, о чем писать в колонке и как назвать эту книгу. Нелегко иметь маму-психотерапевта, нелегко иметь маму-писательницу. Тебе выпала двойная доза, ЗД, и ты на удивление достойно справляешься с этим. Ты придаешь смысл слову «смысл», и, как всегда, я люблю тебя «бесконечно по шкале бесконечности».
Примечания
Американский актер, двукратный номинант на премию «Оскар» (за роли в фильмах «Мир по Гарпу» и «Язык нежности»), лауреат премий «Золотой глобус», «Эмми», «Тони». – Прим. ред.
На английском фраза звучит как Namast’ay in Bed (вместо корректного Namaste), создавая игру слов: окончание слова созвучно с глаголом stay, а stay in bed можно перевести как «останься в кровати». – Прим. ред.
Врожденное генетическое заболевание нервной системы, выражающееся в бесконтрольных двигательных и звуковых тиках. – Прим. пер.
Символ всемирной кампании по борьбе с раком груди. – Прим. ред.
С. Т. Кольридж, «Поэма о старом моряке». – Прим. пер.
Неизбежность, предопределенность (в исламе). – Прим. пер.
Слоган NBC, используемый каналом для продвижения своих шоу в прайм-тайм; в оригинале звучит как Must See TV. – Прим. ред.
Одни из самых продаваемых в Америке лекарств: обезболивающее, успокоительное и антидепрессант соответственно. – Прим. ред.
Это эссе, а также другие, посвященные радостям и трудностям материнства, вы можете найти в книге «Куриный бульон для души. 101 история для мам» (М.: Бомбора, 2019). – Прим. ред.
Список того, что нужно успеть сделать за свою жизнь; название обыгрывает идиому kick the bucket – эквивалент русского «откинуться» или «сыграть в ящик», а дословно она переводится как «пнуть ведро». – Прим. ред.
Американская компания, производящая различные электроинструменты: дрели, шуруповерты и многое другое. – Прим. пер.
Филип Ларкин. «И еще одна заповедь». – Прим. пер.
В оригинале – непереводимая игра слов: Denial (отрицание) – The Nile (Нил). – Прим. ред.
В оригинале – «Возвращаюсь к отрицанию». – Прим. ред.
В оригинале helicopter parenting – подразумеваются родители, постоянно следящие за своими детьми с помощью всех доступных современных средств, как бы «висящие над ними». – Прим. пер.
Жест, при котором человек поднимает ладони вверх и крутит ими в воздухе. – Прим. ред.
Мэри Оливер, «Летний день». – Прим. пер.
В кельтском фольклоре – женщина-дух, чье появление и пронзительные вопли предвещают скорую смерть. – Прим. ред.
Назначение лекарственных препаратов по показаниям, не прописанным в инструкции или не утвержденным государственными регуляторами. – Прим. пер.
Коби Брайант – легендарный баскетболист, в течение двадцати сезонов выступавший в НБА за «Лос-Анджелес Лейкерс». – Прим. ред.
Надпись можно прочитать как forever young, или «вечно молодой». – Прим. пер.
Игра слов основана на английском варианте написания: therapist (психотерапевт) можно разбить на артикль the и существительное rapist – насильник. – Прим. пер.
Отсылка к названию дебютного альбома группы Fatboy Slim «Better Living Through Chemistry» и одноименному фильму (в русском переводе известен как «Любовь по рецепту и без»). – Прим. пер.
В отечественной традиции феномен носит такое название, потому что студенты-медики изучают методы обследования больных и основные симптомы различных заболеваний на третьем курсе института. – Прим. пер.
Международная классификация болезней десятого пересмотра, полный реестр возможных диагнозов и состояний. – Прим. пер.
Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам пятого издания; разрабатывается и публикуется Американской психиатрической ассоциацией. – Прим. пер.
Скорее всего, речь идет о проявлениях нейросифилиса. Поскольку у женщин первичные симптомы сифилиса часто возникают на шейке матки или в глубине влагалища, до появления иммунологических методов диагностики он часто оставался невыявленным. – Прим. пер.
Сюжет английской сказки про Златовласку в России известен как «Три медведя» в изложении Толстого. Главная героиня – маленькая девочка, которая, попав в чужой дом, постоянно «капризничает»: еда то слишком холодная, то слишком горячая, стулья очень высокие или очень низкие, постель слишком жесткая или слишком мягкая. – Прим. пер.
Victoria’s Secret – всемирно известная марка женского нижнего белья. – Прим. ред.
Отсылка к «Поэме о старом моряке» С. Т. Кольриджа, героя которой прокляли, привязав на шею труп альбатроса. Его невозможно было снять, пока проклятье не рассеялось. – Прим. пер.
«Уловка-22» (англ. Catch-22) – дилемма или логический парадокс, в котором нет итогового решения из-за ряда взаимоисключающих правил и процедур. Термин был введен американским писателем Джозефом Хеллером в одноименном романе в середине ХХ века. – Прим. пер.
С англ. “termination”.
Перефразированная строчка из песни 1963 года американской певицы Лесли Гор «It’s My Party». В оригинале текст звучит как «It’s my party, and I’ll cry if I want to» – «Это мой вечер, и я буду плакать, если захочу». – Прим. ред.
Игра слов: Wendell (Уэнделл) и Wednesday (среда) звучат схожим образом. – Прим. пер.

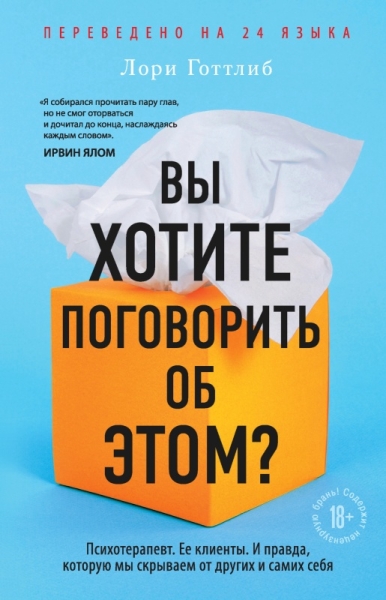

![Молотов. Наше дело правое [Книга 1]](http://4etalka.ru/images/articles/657695/primary-large.jpg)
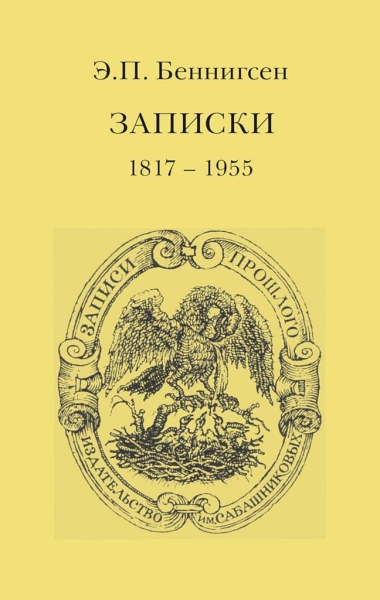

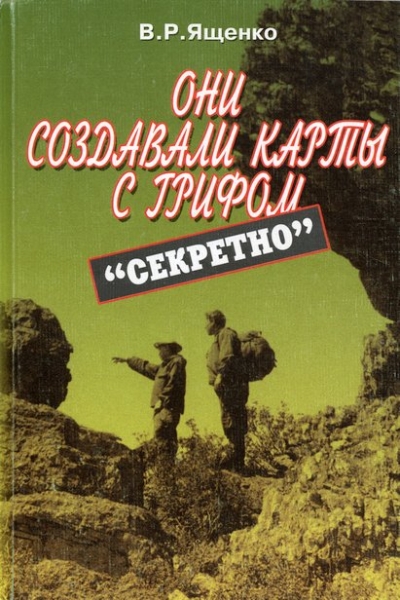
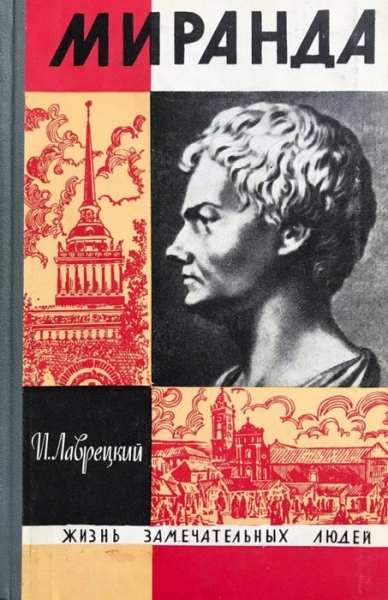
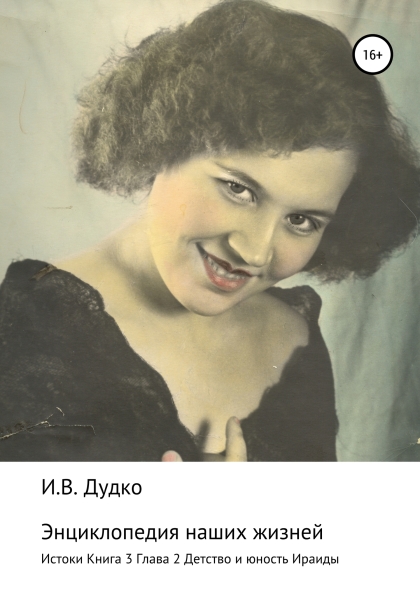



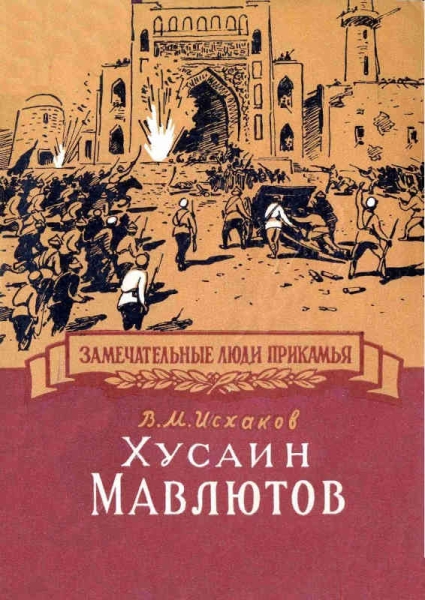

Комментарии к книге «Вы хотите поговорить об этом? Психотерапевт. Ее клиенты. И правда, которую мы скрываем от других и самих себя», Лори Готтлиб
Всего 0 комментариев