Мемуары госпожи Ремюза
МЕМУАРЫ ГОСПОЖИ РЕМЮЗА
(1802–1808 гг.),
изданные с предисловием и примечаниями ее внуком Полем Ремюза.
Перевод с 24-го французского издания О.И.Рудченко
© «Захаров», 2011
Предисловие внука
Отец оставил мне мемуары моей бабушки, придворной дамы императрицы Жозефины, и поручил их напечатать. Он приписывал этому труду необыкновенное значение для истории первых лет текущего века. Постоянно мечтал он их напечатать, и постоянно ему мешали занятия, обязанности или сомнения. Но истинной причиной, почему пришлось отложить момент, когда публика могла бы познакомиться с этими драгоценными воспоминаниями об эпохе, еще такой близкой и так плохо известной, было именно то, что эта эпоха еще так близка к нам и значительное количество лиц еще живы. Хотя автора нельзя обвинить в сколько-нибудь систематическом недоброжелательстве, но мы встречаем абсолютную свободу мнений обо всем и обо всех. Мы обязаны по отношению к живым и даже к детям умерших уважением, с которым не всегда мирится история.
Но время шло, причины молчания уменьшались с годами. Кажется, около 1848 года отец мой решился напечатать эту рукопись, но вскоре наступила эпоха возвращения Империи и императора. Эта книга могла бы быть принята за лесть по адресу сына королевы Гортензии[1], к которой, действительно, автор относится крайне бережно, или же за прямое оскорбление династии. Таким образом, обстоятельства придали бы характер полемики труду, имеющему характер объективной истории. Они могли бы превратить в политический акт простой рассказ выдающейся женщины, передающей с подъемом и искренностью то, как она представляла себе царствование и весь двор Наполеона, что она думала об особе императора. Во всяком случае, вероятно, книга подверглась бы преследованию, и ее издание было бы запрещено. Надо ли прибавить для тех, кто сочтет недостаточными эти деликатные причины, что отец мой только с величайшей осторожностью рисковал выставить перед публикой имена, которые были ему дороги. А между тем он охотно вверял свою политику, свои взгляды и саму личность обсуждению журналов и критики и сам жил в сфере самой широкой гласности. Но для лиц, дорогих ему, он боялся малейшей суровости, самого мелкого порицания. По отношению к матери он был крайне сдержан. Мать оставалась предметом страстной любви всей его жизни. Он приписывал ей и счастье первых лет своей юности, и все заслуги, все успехи своего существования. Он был связан с ней столько же по уму и сердцу, сколько и по сходству идей, а также узами сыновней любви. Ее мысли, воспоминание о ней, ее письма играли в его жизни такую роль, о которой немногие подозревали, так как он редко говорил о ней, и именно потому, что всегда о ней думал и боялся встретить со стороны других недостаточное восхищение. Кому не знакома эта сильная страсть, которая навеки связывает нас с теми, кто более не существует, о ком вечно думаешь, о чьих советах и влиянии мечтаешь, чье присутствие чувствуешь ежедневно в дни обычные, как и в дни исключительные, во всех поступках – и личных, и общественных? Эта же страсть мешает говорить о них другим, даже самым близким друзьям, мешает слушать без страдания или беспокойства дорогое имя. Очень редко сладость похвалы по отношению к этому лицу, высказанная другом или посторонним, делает переносимым это глубокое волнение.
Если деликатная и естественная осторожность заставляет печатать эти мемуары только по истечении долгого времени, то не следует и слишком запаздывать. Лучше, если книга выйдет до того времени, когда не останется ровно ничего от рассказанных событий, пережитых впечатлений и свидетельств очевидцев. Для того чтобы точность или по крайней мере искренность не были оспариваемы, необходима проверка воспоминаний всякой семьи, и хорошо, если поколение, которое их читает, прямо происходит от того, которое изображено. Полезно, чтобы описанные времена не совсем бы еще превратились во времена исторические.
В данном случае так оно и есть, до известной степени, и великое имя Наполеона еще является предметом спора различных партий. Интересно прибавить новые данные к спорам, раздающимся вокруг великой тени. Хотя мемуары об императорской эпохе многочисленны, но в них никогда не говорилось подробно и независимо об интимной стороне придворной жизни, и для этого, конечно, были веские причины.
Чиновники или люди, стоявшие близко ко двору Бонапарта, не любили, даже когда он стал императором, говорить с полной искренностью о времени, которое провели с ним. Большинство из них, став легитимистами после Реставрации, были несколько унижены службой узурпатору, в особенности же ролью, которая могла быть облагорожена только наследственным величием того, кто ее давал. Их потомки иной раз сами были бы в затруднении опубликовать такие рукописи, если бы и получили их от авторов.
Вероятно, трудно найти издателя, который чувствовал бы себя в этом отношении свободнее, чем пишущий эти строки. Для меня гораздо важнее талант писателя и польза от его книги, чем разница во взглядах моей матери и ее потомков. Жизнь моего отца, его слава, его политические взгляды – все, что я получил как драгоценное наследие, избавляет меня от объяснений, как и по каким причинам я не разделяю всех идей автора этих мемуаров. Напротив, нетрудно было бы найти в этой книге первые следы либерализма, который одушевлял моих дедушку и бабушку в первые дни Реставрации и который так счастливо развился и преобразовался у моего отца. Надо было быть почти либералом, чтобы в конце 18-го века не возненавидеть принцип политической свободы, именем которой столько людей называли множество преступлений.
Подобного беспристрастия, столь драгоценного и столь редкого у современников великого императора, мы не найдем даже в наши дни у тех, кто служит правителю, менее способному ослепить приближенных. Но такое чувство нетрудно проявлять в наши дни. Обстоятельства привели Францию к такому настроению умов, когда все можно принять, обо всем судить справедливо. Мы видели, как несколько раз менялось мнение о первых годах нашего века. Даже люди среднего возраста помнят время, когда легенда Империи была принята всеми, когда можно было безопасно восхищаться ею, когда дети верили в императора, великого и вместе с тем добродушного, напоминающего доброго Бога Беранже, который, впрочем, и делал героями своих од именно эти две личности. Самые серьезные враги деспотизма, те, кто позднее испытали преследования новой империи, совершенно спокойно возвращали останки Наполеона Великого, придавая античный характер вполне современной церемонии. Позднее даже у тех, кто не вносил страсти в политику, опыт Второй империи открыл глаза на Первую.
Разгром, который навлек Наполеон III на Францию в 1870 году[2], напомнил о том, что это роковое дело начал другой император, и чуть ли не всеобщее проклятие срывалось с уст при имени Бонапарта, которое произносилось некогда с почтительным энтузиазмом. Так колеблется суд наций! Однако можно сказать, что суд Франции наших дней ближе к справедливому суду, чем в те времена, когда он опирался на стремление к покою или на боязнь свободы, а в лучшем случае – на страсть к военной славе. Но между этими двумя крайностями сколько было различных мнений, сколько было лет колебаний и упадка!
Я думаю, все признают, что автор этих мемуаров, явившись ко двору в дни своей молодости, не имела никаких предвзятых идей относительно проблем, которые волновали общество в те времена и теперь еще волнуют. Конечно, признают, что мнения писавшей эти мемуары сложились постепенно, как и мнения всей Франции, также еще очень молодой в те времена. Она была пленена и опьянена гением, потом постепенно овладела собой при свете совершившихся событий или благодаря знакомству с известными лицами и типами.
Многие из наших современников найдут в этих мемуарах объяснение поведения или настроения умов некоторых из своих близких, в которых необъяснимой казалась смена бонапартизма либерализмом.
Беглый обзор жизни моей бабушки или, по крайней мере, тех времен, которые предшествовали ее появлению при дворе, необходим для того, чтобы хорошо понять впечатления и воспоминания, которые она с собой принесла.
Отец мой часто составлял план и даже приготовил некоторые части полного жизнеописания своих родителей. Он не оставил ничего законченного по этому вопросу, но сохранилось большое количество заметок и отрывков, написанных им самим или его близкими, касающихся взглядов его юности и лиц, которых он знал. Все это облегчает мне задачу, и я могу теперь точно рассказать историю молодости моей бабушки, – описать те чувства, с которыми она явилась ко двору, и те обстоятельства, которые побудили ее написать эти мемуары. Это же дает возможность прибавить сюда некоторые суждения о ней ее сына, они заставят понять и полюбить ее. Отец мой очень желал, чтобы читатель испытал это чувство, и действительно трудно не полюбить ее, читая эти воспоминания.
Клара Елизавета Жанна Гравье Вержен, родившаяся 5 января 1780 года, была дочерью Карла Гравье Вержена, который являлся советником бургундского парламента, докладчиком, затем комендантом Оша и, наконец, податным инспектором. Женился он на Аделаиде Франсуазе Батар, родившейся около 1760 года в семье родом из Гаскони, ветвь которой поселилась в Тулузе. Ее отец, Доминик Батар, был членом парламента и умер старейшиной сословия. Его бюст находится в Капитолии в зале знаменитостей. Он принимал деятельное участие в реформах канцлера Мону.
Карл Гравье Вержен не носил никакого титула, так как принадлежал к судейскому дворянству. Это был человек, как говорят, ума посредственного, любящий развлекаться, но неразборчивый в удовольствиях, впрочем, рассудительный, – одним словом, хороший человек, принадлежащий к той школе администрации, во главе которой стояли Трюдэны.
Госпожа Вержен была женщиной более оригинальной, умной и доброй, о ней отец мой говорил часто. Еще ребенком он был близок с ней, как это случается между бабушкой и внуком. В своей собственной веселости, милой и покладистой, насмешливой, но добродушной, он находил некоторые ее черты, так же, как в голосе и в привычке запоминать арии, куплеты из водевилей и старые народные песни. Она была проникнута современными ей идеями: немного философии, но не доходящей до неверия, некоторое отдаление от двора и много уважения и привязанности к Людовику XVI. Ее живой и ясный ум, веселый и свободный, был хорошо развит, ее речи были пикантны и иногда, по обычаю века, слишком смелы. Тем не менее она дала двум своим дочерям, Кларе и Алисе, строгое и несколько замкнутое воспитание, так как мода требовала, чтобы дети мало видели своих родителей. Обе сестры занимались в дальней нетопленой комнате под руководством гувернантки, совершенствуясь в легких, если можно так выразиться, искусствах: музыке, рисовании, танцах. Их редко водили в театр, иногда, впрочем, – в оперу, время от времени – на бал.
Вержен не предвидел и не желал революции. Однако он не слишком негодовал и не слишком испугался. И он сам, и его друзья составляли часть той буржуазии, которая достигала дворянства занятием общественных должностей, которая как бы казалась самой нацией, и он был вполне на месте среди избирателей 1789 года: его избрали начальником батальона национальной гвардии, и он стал членом коммунального совета. Лафайет, на внучке которого сорок лет спустя женился его внук и мой отец, и Ройе-Коллар, место которого во Французской академии этот внук занял, смотрели на него как на одного из своих. Нужно сказать, что взгляды Вержена совпали скорее со взглядами второго, чем первого.
Революция вскоре настигла его, однако он не имел никакой склонности эмигрировать. Его патриотизм, так же, как и привязанность к Людовику XVI, побуждал его остаться во Франции. И поэтому Вержен также не избежал участи, угрожавшей в 1793 году всем, кто занимал такое же положение и отличался такими же чувствами. Ложно обвиненный в эмиграции администрацией департамента Соны и Луары, которая наложила секвестр на его имущество, он был арестован в Париже на улице Св. Евстафия, где жил с 1788 года. Тот, кто арестовал его, имел приказ от Комитета общественной безопасности, касающийся только его отца, но схватил и сына – потому лишь, что тот жил с отцом. И оба замерли вместе на одном эшафоте 24 июля 1794 года, за три дня до падения Робеспьера.
Вержен, умирая, оставлял жену и двух дочерей в самом ужасном положении, одинокими и даже в стесненных материальных обстоятельствах, так как незадолго до этого продал свое имение в Бургундии, а сумма, полученная им, была конфискована. Он им оставил, однако, покровителя, не обладавшего могуществом, но имевшего самые добрые намерения и доброжелательное отношение. В первые дни революции Вержен познакомился с молодым человеком, семья которого некогда отличалась в среде торговцев и чиновников Марселя, благодаря чему дети начали служить в магистратуре и в армии, словом, среди привилегированных. Августен Лаврентий Ремюза родился в Валансоле, в Провансе, 28 августа 1762 года. По окончании блестящих занятий в Жюльи, древнем колледже конгрегации Оратории, который существует до сих пор близ Парижа, в двадцать лет он сделался генеральным адвокатом в Счетной палате и Государственной коллегии Прованса. Мой отец набросал портрет этого молодого человека и описал его прибытие в Париж и жизнь среди нового общества.
«Общество в Э, дворянском и парламентском городе, было довольно блестящее. Мой отец часто бывал в свете. Он обладал приятной внешностью, известной тонкостью ума, веселостью, мягкими и вежливыми манерами, утонченной любезностью. Он достиг успеха, какого только может пожелать молодой человек: занимался профессией, которую любил, и в 1783 году женился на мадемуазель де Санн, дочери генерального прокурора. Но этот брак был непродолжителен; у них родилась дочь, которая, кажется, умерла тотчас же, вскоре за ней последовала мать.
Разразилась революция. Высшие суды были уничтожены. Выкуп должностей был для них важным делом, и для этого Счетная палата отправила в Париж депутацию. Отец мой был одним из делегатов. Он мне часто говорил, что тогда имел случай видеть Мирабо, депутата от Э, и, несмотря на свои предубеждения члена парламента, был очарован его немного торжественной вежливостью.
Никогда не рассказывал мне отец подробно, как он жил. Я не знаю также, какие обстоятельства привели его к моему дедушке Вержену. Одинокий и никому не известный в Париже, он без особых тревог провел там самые тяжелые годы революции. Общества в то время не существовало.
Тем более это знакомство было приятно и даже полезно моей бабушке (госпоже Вержен) среди волнений, а позднее и бедствий. Отец часто говорил, что дед не был человеком выдающимся, но он скоро сумел оценить мою бабушку, которая, со своей стороны, была к нему благосклонна. Бабушка была женщиной разумной, без иллюзий, без предрассудков, без увлечений; она относилась недоверчиво ко всяким преувеличениям, ненавидела аффектацию, но любила серьезные достоинства и правдивые чувства, а проницательный ум, точный и насмешливый, предохранял ее от всего, что не было ни благоразумным, ни нравственным. Ее ум никогда не был жертвой сердца. Но так как она несколько страдала от невнимания мужа, который был ниже ее, то была склонна брать на себя решение и выбор в вопросе о браке.
Когда после смерти моего деда дворянам было декретом приказано покинуть Париж, она удалилась в Сен-Грасьен, что в долине Монморанси, с двумя дочерьми, Кларой и Алисой, и позволила моему отцу за собой последовать. Его присутствие было для них драгоценно. У отца было всегда ровное настроение, покладистый характер, он внимательно и заботливо относился к тем, кого любил. Он был склонен к тихой жизни и деревенскому уединению; его утонченный ум был источником удовольствия для общества, составленного из образованных лиц, где интересовались воспитанием.
Едва ли возможно допустить, что моя бабушка не предвидела заранее и не была согласна на все дальнейшее, даже предполагая, что тогда еще нельзя было ничего прочесть в сердце ее дочери. Но несомненно (и она говорит об этом во многих письмах), что, хоть мать моя была еще ребенком, ее рано созревший ум, восприимчивое сердце, живое воображение, наконец, одиночество, несчастье и сама близость, – все эти причины, вместе взятые, внушили ей по отношению к моему отцу живейший интерес, который с самого же начала получил характер экзальтированного и прочного чувства. Едва ли я встречал когда-нибудь женщину, у которой бы ярче, чем у моей матери, соединились воедино нравственная страсть и романическая чувствительность. Ее молодость протекала в счастливых условиях, которые привязали ее к долгу силой страсти и привели в конце концов к редкому и трогательному единению между душевным миром и волнениями сердца.
Невысокого роста, но хорошо сложенная, она была свежа и полна; боялись, как бы она не получила склонности к излишней полноте. Глаза ее были прекрасны и выразительны, черного цвета, как и ее волосы; черты лица правильны, но несколько крупны. Лицо ее было серьезно, почти строго, хотя взгляд, полный тонкой мягкости, значительно умерял эту строгость. Ее ум, прямой и отзывчивый, даже творческий, отличался некоторыми мужскими свойствами, которые часто вступали в спор с необыкновенной живостью ее воображения. У нее были правильные суждения, наблюдательность, много искренности в манерах и даже в выражениях, хотя она не чужда была известной утонченности понятий.
Моя мать была, по существу, женщиной благоразумной, но с горячей головой. Ее ум был благоразумней ее самой. В молодости ей недоставало веселости и непринужденности. Она могла казаться педанткой, потому что была серьезна, аффектированной – потому что была молчалива, рассеянна и равнодушна к мелочам текущей жизни. Но с матерью, которую она несколько стесняла в ее веселости, и с мужем, при его простом вкусе и покладистом уме (которых она никогда не тревожила), она бывала и оживлена и откровенна. С годами в ней развился известный род веселости. В молодости она была несколько самоуглубленной, но постепенно стала больше походить на мать. Я часто думал, что если бы она прожила достаточно, чтобы оказаться в атмосфере, в какой я теперь живу, то была бы самой веселой из всех нас».
Отец мой написал эту заметку в 1857 году в Лафите (в Верхней Гаронне), когда все, кого он любил, были с ним, счастливые и довольные. Впрочем, эта цитата относится к более позднему времени, так как в ней он говорит о матери как о женщине, а не как о молодой девушке, а Клара Вержен была еще очень молоденькой, когда вышла замуж в начале 1796 года: ей едва исполнилось шестнадцать лет.
Господин и госпожа Ремюза жили временами в Париже, временами в Сен-Грасьене, в очень скромном деревенском доме. Его окрестности были весьма привлекательны благодаря красоте места и прелести соседства. Самыми близкими и милыми из соседей были владельцы Саннуа, с которыми госпожа Вержен была очень близка.
«Исповедь» Жан-Жака Руссо, «Мемуары» госпожи д’Эпине и множество произведений прошлого века познакомили публику с этими местами и их жителями.
Между обитателями Саннуа и Сен-Грасьена вскоре установилась полная близость, и, когда мои дедушка и бабушка продали свое имение, они приискали дом еще ближе к друзьям, и их сады сообщались посредством особого входа.
Однако все чаще и чаще Ремюза бывал в Париже и, так как времена становились более спокойными, мечтал выйти из неизвестности и – зачем скрывать? – из стесненного положения, в которое жена была поставлена конфискацией имущества Вержена, а муж – лишением места в магистратуре. Естественно было, как это всегда случается в нашей стране, подумать о получении общественной должности. Не имея никакого отношения ни к правительству, ни к Талейрану, который был тогда министром иностранных дел, Ремюза пристроился к этому департаменту. Он получил не определенное место, но занятие, дававшее возможность получить должность в министерстве.
Кроме отношений, очень приятных и чисто интеллектуальных, с обитателями Саннуа, жители Сен-Грасьена завязали отношения менее близкие, но оказавшие в будущем большое влияние на их судьбу, – с госпожой Богарне, сделавшейся, как известно, в 1796 году госпожой Бонапарт. Когда эта последняя стала могущественной, благодаря всемогуществу ее мужа, госпожа Вержен попросила у нее покровительства для своего зятя, который желал получить место в Государственном совете или в администрации. Но у Первого консула и его жены были другие планы: известность, которой пользовалась госпожа Вержен, ее общественное положение, ее имя, принадлежавшее старому порядку и идеям нового времени, придавали определенную цену связи консульского дворца с ее семьей. Двор в то время имел мало отношения к парижскому обществу, и вот вдруг, в 1803 году, Ремюза был назначен префектом дворца. Немного позднее госпожа Ремюза начинает сопровождать госпожу Бонапарт и вскоре становится придворной дамой.
Взгляды четы Ремюза не требовали от них никакой жертвы, чтобы примкнуть к новому режиму. У них не было ни экзальтированных чувств роялистов, ни республиканской суровости. Конечно, они стояли ближе к первому взгляду, чем ко второму, но их роялизм ограничивался уважением, полным благоговения, по отношению к Людовику XVI. Несчастья, пережитые этим королем, делали воспоминание о нем трогательным и священным, и его особа в семье Вержен была предметом особенного почтения.
Но тогда еще не был изобретен легитимизм, и те, кто особенно горячо оплакивали падение старого порядка, или, вернее, старой династии, не считали нужным думать, что все происходящее во Франции без Бурбонов не имело никакого значения. Безоблачное восхищение окружало молодого генерала, покрытого славой. Он блестяще восстанавливал если не нравственный, то материальный порядок в обществе, волнения которого носили совершенно иной характер, чем это было позднее, когда явилось столько недостойных спасителей. Впрочем, чиновники сохранили воззрение, что должностное лицо ответственно только за то, что оно делает, но не за происхождение или действия правительства, – воззрение, впрочем, вполне естественное при старом порядке. Чувства солидарности в абсолютных монархиях не существует. К счастью, парламентарный режим сделал нас более деликатными, и честные люди признают, что коллективная ответственность существует между всеми агентами власти. Можно служить только тому правительству, направление и общую политику которого признаешь правильными. В те времена было не так; и вот как объяснял это мой отец, имевший больше права, чем кто бы то ни было, быть строгим в этом отношении. Он, может быть, своей утонченной политической деликатностью был обязан тому трудному положению, в котором видел своих родителей в детстве, когда сталкивались их чувства и их официальные обязанности. И вот, повторяю, как объяснил он это в письме к Сент-Бёву, которому хотел сообщить некоторые биографические подробности для статьи в «Обозрении Старого и Нового Света»:
«Родители мои привязались к новому режиму не вследствие выбора наименьшего зла, не по необходимости или слабости, не по искушению или по случайности. Свободно и доверчиво связали они с ним свою судьбу. Если добавить к этому все удобства, доставляемые легким и видным положением, вместо стесненного положения и неизвестности, интерес и удовольствия, какие представлял этот двор нового сорта, наконец, несравненный интерес созерцать такого человека, как император, в эпоху, когда он был вполне безупречен, молод и приветлив, – вы легко поймете то, что привлекало моих родителей и заставляло их забыть, насколько новое положение могло, по существу, мало соответствовать их вкусам, взглядам и даже истинным интересам. Через два-три года они хорошо поняли, что всякий двор есть всегда двор и не всегда приятно лично служить абсолютному господину, даже тогда, когда он нравится и ослепляет. Но это не помешало им быть весьма долгое время довольными своей судьбой. Особенно мать мою очень забавляло все, что она видела; у нее были очень нежные отношения с императрицей, которая была необычайно добра и мила; она увлекалась императором, который при этом ее отличал: она была, пожалуй, единственная женщина, с которой он беседовал. В конце Империи мать моя говорила иногда: «Я слишком любила его для того, чтобы не начать ненавидеть»».
Впечатления, которые получила новая придворная дама при новом дворе, не дошли до нас. В то время сильно не доверяли почте; госпожа Вержен сжигала все письма дочери, и ее переписка с мужем начинается несколькими годами позднее, во время путешествия императора по Италии и Германии. Однако из этих мемуаров, не изобилующих личными чертами, видно, как все было ново и любопытно для очень молодой женщины, вдруг перенесенной в этот дворец и стоящей так близко к интимной жизни прославленного главы неизвестного правительства. Она была серьезна, как это бывает в юности, когда женщина не легкомысленна, а склонна много наблюдать и много думать. По-видимому, у нее не было никакого самолюбия в том, что касалось внешней жизни, никакой склонности к осуждению, никакого желания блистать или говорить. Что думали о ней в то время? Мы этого совсем не знаем, хотя в некоторых местах писем или мемуаров есть доказательства, что ее находили умной и слегка ее побаивались. Возможно, однако, что ее друзья или подруги находили ее скорее педантичной, чем опасной.
Госпоже Ремюза все удавалось, особенно в первое время. Двор был немногочислен; невозможно было добиться почти никаких отличий или милостей, мало было соперничества. Но мало-помалу это общество сделалось настоящим двором. Кроме того, придворные боятся ума, особенно стремления умных людей бескорыстно интересоваться окружающим, судить о людях, не стараясь найти полезного применения этой науке. Они склонны всегда подозревать скрытую ото всех взоров цель. Выдающиеся личности бывают живо охвачены зрелищем человеческих событий, даже если они хотят быть только зрителями. Они любят, как говорят недоброжелательно и неправильно, вмешиваться даже в то, что лично их не касается. Эта способность менее всего понятна тем, кто ее лишен и относит ее к известным задним мыслям, известным личным расчетам. Все люди подвергаются подобным подозрениям, но особенно опасны они по отношению к женщине, одаренной несколько болезненным воображением, способной чувствовать живой интерес к делам, ее не касающимся. Многие, особенно в том, несколько грубоватом обществе, должны были найти претенциозность и самолюбие в ее разговорах и в самой жизни, а порой и обвинить ее несправедливо в честолюбии.
Но муж ее должен был казаться совершенно непричастным ни к интригам, ни к честолюбию. Положение, которое создавала ему благосклонность Первого консула, не соответствовало его желаниям: он бы, конечно, предпочел какую-нибудь административную должность, связанную с известным трудом. Здесь же он находил применение только своей обходительности и мягкости. Судя по тому, каким он предстает перед нами в письмах, мемуарах и рассказах моего отца, мой дед отличался добродушием и тонкостью, здравым смыслом и ровным настроением – всем тем, что позволяло не создавать врагов. У него никогда их и не было бы, если б известная застенчивость, которая плохо мирится с приятностью разговора и отношений, любовь к покою и некоторая леность не склоняли бы его все более и более к уединению и отчуждению.
В нем присутствовали и скромность, и самолюбие, которые, не делая его нечувствительным к почестям достигнутого ранга, заставляли краснеть от торжественных пустяков, которыми ему приходилось заниматься в силу этого положения. Он думал, что заслуживает большего, и не любил добиваться того, что не приходило само собой. Он не любил выдвигаться вперед, а его равнодушие как раз подходило к его беспечности.
Позднее Ремюза стал трудолюбивым префектом, но как придворный он был нерадив и бездеятелен. Он употреблял свое умение жить только для того, чтобы избегать столкновений и исполнять свои обязанности со вкусом и должной мерой. Приобретя много друзей и много связей, он не заботился о том, чтобы их поддерживать. Если не прилагать стараний, связи рвутся, воспоминания сглаживаются, появляются соперники, и все возможности успеха ускользают. По-видимому, дед никогда и не жалел об этом. Я мог бы легко объяснить причины и изобразить в подробностях этот характер, его недостатки, его неприятности и даже перенесенные им страдания. Это был мой дедушка.
Первое жестокое испытание, которое ожидало господина и госпожу де Ремюза в их новом положении, было убийство герцога Энгиенского. Вдруг увидеть, как тот, которым все восхищались, которого старались полюбить как само воплощение власти и гения, покрыл себя невинной кровью, притом понять, что это было результатом холодного и бесчеловечного расчета, – все это должно было причинить глубокие страдания, о чем свидетельствует этот рассказ. Замечательно, что впечатление у честных придворных было даже сильнее, чем у людей со стороны. Кажется, к преступлениям такого рода чувства общества уже несколько притупились. Даже у роялистов, враждебно относившихся к правительству, это событие вызвало больше огорчения, чем негодования, – так были извращены умы в области политической справедливости и государственной необходимости. Но откуда современники почерпнули бы правильные принципы? Разве могли их так воспитать террор или старый порядок? Немного времени спустя глава церкви приехал в Париж, и среди мотивов, которые заставляли его колебаться в короновании нового Карла Великого, едва ли этот мотив имел хоть какое-нибудь значение. Пресса была нема, а для того, чтобы негодовать, люди нуждаются хотя бы в том, чтобы их предупредили. Будем надеяться, что цивилизация совершила такой скачок, что возвращение подобных событий невозможно. То, что мы видели в наши дни, запрещает нам быть по этому вопросу слишком большими оптимистами.
Нижеследующие мемуары как раз изображают жизнь автора в это время и историю первых годов этого века. Из них будет видно, какое изменение внесло установление Империи в жизнь двора и насколько эта жизнь стала более трудной, как уменьшался престиж императора, по мере того как он злоупотреблял своими способностями, своими силами, своими успехами. Увеличивались неудовольствия, неудачи, неисполнения обязательств. Вместе с тем связь с первыми почитателями становится менее драгоценной, и перемена в мыслях влияет и на саму службу.
По своим естественным чувствам, по принадлежности к семье, по своим связям Ремюза, стоящие между двумя партиями, которые ссорились из-за милости господина, между Богарне и Бонапартами, считались принадлежащими к первым. Их положение оказалось в прямой связи с немилостью и отъездом императрицы Жозефины. И когда ее придворная дама последовала за ней в ее убежище, император, по-видимому, не старался ее удержать. Может быть, ему казалось удобным иметь около своей покинутой и несколько неосторожной супруги особу со здравым смыслом и умом; но вместе с тем и плохое здоровье моей бабушки, желание отдыха и нежелание веселья и блеска отдалили ее от придворной жизни.
Ее муж, разочарованный, недовольный, с каждым днем все более и более поддавался своему настроению, своему нежеланию показываться и искать расположения около холодного и чуждого величия. Особенно охладел он к своим обязанностям камергера, чтобы замкнуться в административных обязанностях по делам театра, которые он исполнял необыкновенно удачно. Значительная часть современных установлений французского театра обязана ему своим происхождением.
Мой отец, родившийся в 1797 году, еще, конечно, очень юный, когда его отец был камергером, но любознательный, с рано пробудившимся умом, имел очень точное воспоминание об этих временах недовольства и разочарования. Он рассказывал мне, что часто видел отца, возвращавшегося из Сен-Клу в угнетенном настроении, подавленного той тяжестью, которая давила всех, кто приближался к этому могущественному императору. Жалобы отца раздавались в присутствии ребенка в те минуты, когда проявлялась его искренность. Овладев собой, в другие дни он старался казаться довольным своим господином и своей службой и не посвящал сына в свои огорчения. Быть может, он был скорее создан для того, чтобы служить Бонапарту – простому, веселому, скромному, умному, для которого были еще новы удовольствия власти, чем Наполеону – с притупившимися чувствами, опьяненному, внесшему дурной вкус в придворную обстановку и день ото дня все более требовательному в церемониале и льстивых проявлениях.
Обстоятельство, по-видимому, ничтожное, важность которого не сразу поняли те, кто был заинтересован, увеличило затруднения этого положения и ускорило неизбежность развязки. Хотя эта история несколько пуста, ее прочтут не без интереса; она лучше осветит это время, к счастью, далекое от нас, которое не возродится, если у французов есть какая-нибудь память.
Знаменитый Лавуазье был в близких отношениях с Верженом. Он умер, как известно, на эшафоте 8 мая 1794 года. Его вдова, вышедшая вторично замуж за Румфорда (ученого или, по крайней мере, практика, связанного с наукой, изобретателя каминов, по системе прусских, и термометра, носящего его имя), сохранила самое теплое отношение к госпоже Вержен и ее детям. Этот вторичный брак не был счастливым, и общественные симпатии совершенно справедливо оставались на стороне жены. Ей пришлось прибегнуть к власти, чтобы избавиться от тирании и требований, по меньшей мере невыносимых. Румфорд был иностранцем, и полиция могла собрать о нем сведения на родине, обратиться к нему со строгими требованиями, даже заставить его покинуть Францию. Кажется, это и было сделано. Талейран и Фуше взялись за это по просьбе моей бабушки. Госпожа Румфорд хотела поблагодарить их, и вот как рассказывает мой отец о результатах этой благодарности.
«Мать моя согласилась устроить для госпожи Румфорд обед и пригласить на него Талейрана и Фуше. Иметь за одним столом обер-камергера и министра полиции не является актом оппозиционным. Но именно эта встреча, вполне естественная, вполне незначительная по своим мотивам, но которая, признаюсь, была необычна и не возобновилась более, была представлена императору в донесениях в Испанию как политическое совещание и доказательство важного соглашения. Я не сочту невозможным, что Талейран и Фуше согласились с особенной поспешностью, которой могло бы и не быть в иное время, что они воспользовались случаем передоверить, что даже мать моя, зная почетное положение этих двух лиц, считала случай подходящим, чтобы устроить свидание, которое ее интересовало и было вместе с тем полезно ее другу. Но у меня нет никаких причин думать именно так. Напротив, я отлично помню слова отца и матери о том, что этот случай – ясный пример того, как иногда получает неограниченное значение незначительный и мимолетный сам по себе факт; они говорили, улыбаясь, что госпожа Румфорд и не подозревала, чего она им стоила.
Они прибавляли, что по этому поводу или с ненавистью, или с насмешкой произносилось слово «триумвировать», и мать моя говорила госпоже Румфорд, смеясь: «Друг мой, мне очень жаль, но ваша роль не могла быть иной, чем Лепида[3]». Отец мой говорил также, что некоторые придворные, не относящиеся к нему дурно, говорили ему об этом как о факте положительном и без враждебного чувства: «Ну, наконец, теперь, когда все это в прошлом, скажите, что это было и что вы затевали?»».
Этот рассказ является примером придворных сплетен и показывает близость моих деда и бабушки с Талейраном. Хотя бывший епископ Отёна, по-видимому, не вносил в эту близость характера заинтересованности, которая была ему обыкновенно свойственна по отношению к женщинам, но ему очень нравилась та, мемуары которой я печатаю, он даже восхищался ей. Я нахожу довольно пикантное доказательство этому в характеристике, которую он набросал на официальной бумаге Сената, бездельничая во время одного из заседаний, когда происходил подсчет голосов (вероятно, в 1811 году).
«Люксембург, 22 апреля.
Мне хочется начать портрет Клари. Клари – не то, что называют обыкновенно красавицей, но все согласны, что она женщина привлекательная. Ей двадцать девять или двадцать восемь лет; она именно такова, какой можно быть в двадцать восемь. Ее фигура хороша, походка проста и грациозна. Клари не худощава, она лишь настолько слаба, насколько это нужно, чтобы быть изящной. Цвет лица ее не ослепителен, но у нее особенная способность казаться тем белее, чем лучше она освещена. Может быть, это полное изображение всей Клари, которая кажется тем лучше и милее, чем лучше ее знаешь.
У Клари большие черные глаза; длинные веки придают ей какое-то соединение нежности и живости, которое чувствуется даже тогда, когда душа ее отдыхает и не желает ничего выражать. Но эти моменты редки. Много мыслей, живое восприятие, подвижное воображение, утонченная чувствительность, постоянное доброжелательство выражаются в ее взгляде. Нужно было бы изобразить душу, которая сама в нем отражается, и тогда Клари была бы самой прекрасной женщиной, какую можно себе представить.
Я недостаточно тверд в правилах рисунка, чтобы утверждать, что черты лица Клари правильны. Мне кажется, что нос ее слишком велик, но я знаю, что у нее прекрасные глаза, прекрасные губы, прекрасные зубы. Ее волосы обыкновенно покрывают значительную часть лба, и это жаль. Две ямочки, которые образуются от ее улыбки, делают ее столь же пикантной, как и нужной. Ее туалет часто недостаточно изыскан, но никогда он не бывает дурного вкуса и всегда очень чист. Эта чистота составляет часть системы порядка или приличия, от которой Клари никогда не отступает.
Клари небогата, но, умеренная во вкусах, стоящая выше фантазии, она презирает расточительность; если она замечала границы своего имущества, то лишь потому, что приходилось урезывать свою благотворительность. Однако, помимо искусства давать, у нее имеются и тысячи способов оказывать одолжения. Всегда готова она поддержать добрые поступки, извинить недостатки, весь ее ум направлен к благотворительности. Никто лучше Клари не может засвидетельствовать, насколько разумная благотворительность выше ума и таланта тех, кто действует только строгостью, критикой и насмешкой. Клари в своей обычной благожелательной манере судить изобретательнее и острее, чем может быть неблагожелательность в искусстве инсинуаций и умолчаний. Клари всегда оправдает того, кого защищает, не оскорбляя никого, кому возражает. Ум Клари очень обширен и очень развит; я не знаю никого, кто бы лучше умел вести разговор. Когда она хочет казаться образованной, это означает доказательство доверия и дружбы.
Муж Клари знает, что ему принадлежит сокровище, и он умеет им пользоваться. Клари хорошая мать, это награда за ее жизнь…
Сеанс окончен. Продолжение – на выборах будущего года!»
Император с неудовольствием замечал эту близость между камергером и обер-камергером, и из этих мемуаров будет видно, что он не раз старался их разъединить. Довольно долго ему удавалось возбуждать в них недоверие друг к другу. Но близость была полной как раз в момент, когда Талейран впал в немилость. Известно, какие мотивы, почетные для этого последнего, вызвали между ним и его господином бурную сцену в январе 1809 года[4], во время Испанской войны, которая стала началом бедствий для Империи и результатом ошибок императора. Талейран и Фуше выразили или, по крайней мере, дали почувствовать неодобрение и недоверие общества. «Во всей империи, – сказал Тьер, – ненависть начинала заменять любовь»[5]. Эта перемена происходила в умах чиновников так же, как и в умах граждан.
Впрочем, член Законодательного корпуса Монтескье, который получил после Талейрана его место при дворе, был лицом менее значительным; но Талейран оставил первому камергеру все, что было в его обязанностях тяжелого, но и приятного и почетного. Для Вержена было, конечно, ударом потерять начальника, большое значение которого отражалось и на подчиненных.
В самом деле, это было странное время! Тот же Талейран, впавший в немилость как министр и носитель видной придворной должности, не потерял, однако, доверия императора. Наполеон внезапно призывал его к себе, искренно сообщая ему тайну вопроса или обстоятельства, по поводу которых желал получить его совет. Эти совещания возобновлялись до самого конца, даже в те времена, когда он поговаривал о том, чтобы отправить Талейрана в Венсенн. В отплату за это Талейран, входя в его интересы, давал ему самые доброжелательные советы, и все происходило так, как будто между ними ничего не случалось.
Политика и величие положения давали Талейрану привилегии и утешение, которых не могли иметь ни камергер, ни придворная дама. Связывая свою судьбу так тесно с абсолютной властью, обыкновенно не предвидят, что наступит день, когда чувства вступят в борьбу с интересами, обязательства – с обязанностями. Забывают, что существуют принципы управления, которые должны опираться на конституционные гарантии; уступают естественному желанию быть чем-то в государстве, служить установившейся власти; тогда не вглядываются в природу или условия этой власти. Но наступает момент, когда, не требуя ничего нового, эта абсолютная власть доходит до такого сумасбродства, жестокости и несправедливости, что ей трудно служить даже в самых невинных видах, а между тем ей необходимо повиноваться, сохраняя в душе негодование, страдание, а вскоре, быть может, и желание ее падения.
Скажут, что существует очень простой выход: выйти в отставку. Но тогда является опасение удивить, скандализировать, быть непонятым или осужденным общественным мнением. Притом, никакая солидарность не связывает служителя государства с поведением главы государства. Так как не имеешь прав, то кажется, будто нет и обязанностей. Ничему нельзя помешать, поэтому кажется, что и нечего искупать. Так думали в правление Людовика XIV и так думают в большей части Европы; так думали при Наполеоне, так, может быть, будут опять думать… Стыд и позор абсолютной власти! Она уничтожает истинные сомнения и истинные обязанности у людей честных.
В переписке господина и госпожи Ремюза можно найти, по крайней мере в зародыше, часть этих чувств, и все способствовало тому, чтобы их глаза открылись. Личные встречи с императором становились все более и более редкими, и его очарование, еще могущественное, все меньше и меньше ослабляло впечатление от его политики. Развод императора также возвратил госпоже Ремюза известную долю свободы, как во времени, так и в суждениях. Она последовала за императрицей Жозефиной по ее удалении, а это не могло повысить ее влияние при дворе. Муж ее также вскоре покинул одну из своих обязанностей, а именно – придворного, заведующего дворцовым гардеробом. И холодность увеличилась. Я употребляю слово «холодность», так как в пасквилях, написанных против моего отца, утверждали, что его семья была серьезно замешана в каких-то дурных поступках, которыми император был очень раздражен. Ничего подобного не было, и лучшим доказательством этого служит то, что, перестав быть заведующим гардеробом, Ремюза остался камергером и начальником театров. Он покинул только самую незначительную и самую связывающую из своих должностей. Конечно, правда, что он терял таким образом доверие и близость, которые возникают при совместной жизни. Но и выигрывал тем, что становился свободнее, мог больше жить в обществе и в семье, и эта новая жизнь, менее замкнутая, чем в салонах Тюильри и Сен-Клу, дала мужу и жене больше независимости и беспристрастия в суждениях о политике их властелина. Им было легче, с помощью советов и предсказаний Талейрана, предвидеть падение Империи и избрать сознательно разрешение проблемы, поставленной событиями.
Нельзя было надеяться на то, что император удовлетворится миром, более унизительным для него, чем для Франции. Европа не была склонна оказать ему милость даже подобного унижения. Поэтому, естественно, помышляли о Бурбонах, несмотря на неудобства, в которых давали себе неясный отчет. Салоны Парижа были не роялистскими, но антиреволюционными. В то время еще не приходило в голову сделать Бонапартов главами консервативной и католической партий.
Конечно, надо было принять важное решение, чтобы возвратиться к Бурбонам, и к этому пришли не без отчаяния, беспокойств и всевозможных волнений. Отец мой сохранил тяжелое воспоминание о том зрелище, какое представляла в 1814 году его семья, в сущности, такая скромная, такая честная, такая простая; это впечатление он считал самым большим политическим уроком, и этот урок, так же, как и его собственные рассуждения, склонили его к простым положениям и к убеждениям, основанным на праве.
Вот, впрочем, как он сам описал чувства, какие видел вокруг себя во времена падения Империи:
«Чистая политика привела мою семью к Реставрации. Отец мой, среди других, казался мне в положении человека, подчиняющегося необходимости и добровольно принимающего все ее последствия. Было бы наивностью стремиться уничтожить эти последствия или совершенно их избежать; но можно было лучше бороться с ними или постараться их больше ослабить. Мать моя, немного более доступная сентиментализму по отношению к Бурбонам, больше давала увлечь себя современному течению.
Во всяком крупном политическом движении есть что-то увлекающее, что направляет симпатии, за исключением тех случаев, когда от этого предохраняет партийная вражда. Эта бескорыстная симпатия, соединенная с любовью к аффектации, составляет значительную долю тех пошлостей, которые бесчестят все перемены правительств. Но эта же симпатия, однако, с самого начала боролась у моей матери со зрелищем преувеличений в чувствах, взглядах и словах… Эта унизительная сторона Реставрации, как и всякой реставрации, особенно неприятно меня поражает. Но если бы роялисты не злоупотребляли этим, им бы многое простили.
Удивительно, что в этом отношении переносили очень честные люди. Я знаю, что отец мой с первых дней довольно живо возражал одной особе, которая в нашем салоне отстаивала со всей резкостью чистую доктрину легитимизма. Однако приходилось принимать эту теорию, хотя в более политической форме. Само слово «легитимизм» утвердилось особенно, кажется, благодаря Талейрану[6], а отсюда развернулась неизбежная вереница последствий».
Со стороны моего отца это было не только историческое воззрение; с этих пор он начал, как ни был молод, думать самостоятельно и направлять, или по крайней мере освещать, взгляды своих родителей.
В этом коротком рассказе я не коснулся одной характерной и трогательной черты той, жизнь которой я описываю. Она была удивительной матерью, заботливой и нежной. Ее сын Шарль, родившийся 14 марта 1797 года, по-видимому, с самых первых дней подавал надежды (которые и оправдал) и внушал ей свои собственные вкусы, по мере того как становился старше и умнее. У нее был второй сын – Альберт, родившийся пять лет спустя и умерший в 1830 году, развитие и способности которого вскоре остановились. Он до конца оставался ребенком. Она относилась к нему с жалостью и постоянной заботливостью, которым приходится удивляться, даже у матери. Но истинная страсть была направлена на старшего, и нельзя представить себе, чтобы сыновняя или материнская привязанность была бы основана на большей аналогии между свойствами ума и способностью чувствовать. Ее письма полны выражения самой тонкой и самой разумной нежности.
Не лишним будет привести одно из писем, написанных ею сыну, которому было тогда шестнадцать лет.
Мне кажется, оно должно вызвать самое благоприятное отношение к ним обоим.
«Виши, 15 июля 1813 года.
Я страдала несколько дней от сильной болезни горла и очень скучала, дитя мое. Сегодня мне немного лучше, и мне хочется развлечься письмом к тебе. Ты бранишь меня за молчание и к тому же давно хвастаешься своими четырьмя письмами. Я не хочу больше оставаться в долгу перед тобой, и благодаря этому письму когда-нибудь и я смогу побранить тебя, если представится случай.
Дорогой друг мой, я шаг за шагом слежу за твоими занятиями и вижу, что ты очень занят в этом июле месяце, когда я веду такую монотонную жизнь. Я приблизительно знаю, что ты говоришь и делаешь по четвергам и воскресеньям.
Госпожа де Грасс рассказывает мне об этих беседах с тобой и очень меня этим развлекает. Например, она рассказала мне, что в прошлый раз ты говорил ей обо мне много хорошего и что, когда мы беседуем с тобой, ты порой склонен приписывать мне слишком много ума. Но, право, это опасение не должно тебя останавливать, так как у тебя, дитя мое, несомненно, не меньше ума, чем у меня. Я говорю это откровенно, потому что это преимущество обыкновенно нуждается в том, чтобы иметь опору во многом другом, и, говоря тебе это, я скорее тебя предостерегаю, чем хвалю. Если наш разговор с тобой бывает несколько серьезным, то припиши это моим обязанностям матери, которые я еще доканчиваю по отношению к тебе, и некоторым счастливым мыслям, которые я, как мне кажется, нахожу в своем уме и которые хотелось бы передать тебе. Когда мне покажется, что я дошла до момента прекращения всяких предупреждений, тогда мы будем лучше говорить друг с другом для собственного удовольствия, обмениваясь мыслями и замечаниями о тех и других, и все это откровенно, не боясь поссориться, в условиях самой полной, искренней и взаимной дружбы. Я представляю себе, что такая дружба прекрасно может существовать между матерью и сыном. Между нами нет той разницы лет, которая мешала бы мне понимать твою молодость и разделять некоторые из твоих впечатлений. Головы женщин долго остаются молодыми, а в голове матери всегда найдется уголок, имеющий как будто возраст ее ребенка.
Госпожа де Грасс говорила мне также, что у тебя явилось желание во время этих каникул записывать свои впечатления по многим вопросам. Я нахожу, что ты прав; приятно будет перечесть это через несколько лет. Отец твой скажет, что я делаю тебя писакой, какой являюсь сама, так как он не стесняется в выражениях, но это мне безразлично. Мне кажется, что нет дурного в том, чтобы привыкнуть направлять свои мысли, писать исключительно для себя, и что вкус и стиль развиваются именно таким образом. Отец твой не что иное, как проклятый ленивец, который может написать только одно письмо в неделю… правда, оно очень мило, но это же мало… недостаточно! Пусть он не заставляет меня говорить.
В моем уединении у меня явилась фантазия написать твою характеристику, и, если бы у меня не болело горло, я бы попробовала. Но, чтобы не быть напыщенной и быть правдивой, я должна была бы указать некоторые твои недостатки; однако то, что я должна была сказать о тебе, стало душить меня, и это, вероятно, стало причиной жабы, так как я никак не могла извлечь эти слова наружу. В ожидании этой характеристики, разбивая тебя по всем пунктам, я нашла у тебя некоторые качества вполне развившиеся, иные – начинающие развиваться и затем – некоторые засорения, которые мешают иному хорошему свободно проявляться. Я извиняюсь за то, что пользуюсь этим медицинским стилем, но это потому, что я живу в стране, где только и говорят о засорениях и способах их излечить.
Я разовью все это перед тобой, когда буду в ударе, сегодня же ограничусь немногими пунктами. Вот что я вижу в тебе по отношению к другим. У тебя много вежливости, даже больше, чем обыкновенно бывает в твоем возрасте, много приветливости в обращении, в манерах, в способе слушать. Сохрани это. Госпожа де Севинье[7] говорит, что одобрительное молчание всегда доказывает в юношестве много ума.
«Но, мама, куда же вы направляетесь? Вы обещали недостатки, а до сих пор я не вижу ничего подобного. Отец торопит тут же, рядом. Ну же, мама, к делу!» Сейчас, сын мой, я начинаю: ты забываешь, что у меня болит горло и я могу говорить только медленно. Наконец, ты вежлив. Если тебя приглашают воспользоваться случаем сделать приятное тем, кого ты любишь, ты охотно соглашаешься. Если тебе указывают этот случай, некоторая лень, некоторое самолюбие заставляют тебя немного поколебаться, и в конце концов ты сам не ищешь этого случая, потому что боишься поставить себя в неловкое положение. Понимаешь ли ты немного эти тонкости? Пока ты немного под моим влиянием, я тебя направлю, я с тобой говорю; но вскоре тебе придется говорить самому, и я хотела бы, чтобы ты говорил хоть немного о других, несмотря на то, что вы много шумите благодаря вашей молодости, которая действительно имеет право покричать немного погромче. Не знаю, ясно ли то, что я тебе говорю? Так как мои мысли проходят сквозь головную боль, сквозь три компресса, которыми я окружена, и так как я не изощряла своего ума с Альбертом в течение четырех дней, то, возможно, в моих беседах есть некоторая странность. Ты разберешься, как сумеешь. Факт, что ты очень вежлив по внешности; я бы желала, чтобы ты был вежлив и внутренне, т. е. доброжелателен. Доброжелательность есть вежливость сердца. Но довольно об этом…
Твой маленький брат хорошо выступает на балу. Он становится здесь совсем деревенским жителем. Удит утром, гуляет, лучше тебя знает деревья и различные культуры, а вечером танцует с толстыми пастушками Оверни, строя им милые гримаски, которые ты знаешь.
До свидания, дорогое дитя мое; я расстаюсь с тобой, так как кончается моя бумага, потому что я занималась всеми этими пустяками, которые отвлекают меня несколько от скуки; но не следует убивать тебя, давая тебе их слишком много сразу».
Вот в таком тоне доверия, нежности и симпатии писали друг другу мать и сын, еще очень юный. Год спустя, в 1814 году, он окончил колледж и исполнил то, что обещал его юный возраст; тогда он занял, конечно, большее место в жизни и занятиях своих родителей. Даже его взгляды начали оказывать все большее и большее влияние на их воззрения, и это тем легче, что их не разделяло ничто абсолютное.
Он был только положительнее и смелее их, и его меньше связывали воспоминания и привязанности. Он не жалел об императоре и, хотя его трогали страдания французской армии, наблюдал падение Империи если не с радостью, то с безразличием. Это было для него, как и для других выдающихся молодых людей его поколения, освобождением.
Отец с жадностью схватывал первые идеи конституционного режима, который появился вместе с Бурбонами. Но салонные роялисты поражали его своей смешной стороной; многие вещи и иные слова, которые пользовались уважением, казались ему вздором; оскорбления по адресу императора и представителей Империи возмущали его; но ни он, ни его родители, несколько недоверчивые к новому режиму, не относились с систематическим недоброжелательством ко всему, что происходило. Бедствия или по крайней мере неприятности личного характера, которые следовали за этим, не мешали им чувствовать себя освобожденными. А это были: потеря должностей, необходимость продать, и притом очень неудачно, библиотеку, которая составляла радость моего дедушки и даже обратила на себя внимание любителей, и множество других неприятностей.
Они были готовы оправдать знаменитые слова императора. Он, в эпоху наибольшего могущества, спросил у лиц, его окружавших, что скажут о нем после его смерти. Каждый спешил сказать какой-нибудь комплимент, что-нибудь льстивое. Он прервал их, говоря: «Как, вы сомневаетесь в том, что скажут? Скажут: уф!»
Было трудно думать о личных интересах и не быть увлеченным зрелищем, которое представляли собой Франция и Европа. Именно такой интерес должен был преобладать над честолюбием в нашей семье, как я ее себе представляю. Однако дед мой думал о том, чтобы получить место в администрации и снова вернуться к своим проектам, по-прежнему обманчивым, о Государственном совете; но он относился к этому все так же небрежно или равнодушно. Если бы он вошел в состав совета, то стал бы только копией большинства прежних чиновников Империи, так как бонапартистская оппозиция появилась только к концу периода. Даже члены императорской семьи сохранили постоянные и дружеские отношения с представителями нового режима, или, скорее, с реставрированным старым режимом. С императрицей Жозефиной обращались с уважением, а император Александр часто посещал ее в Мальмезоне. Ей хотелось создать себе достойное и приличное положение, и она открыла своей придворной даме, что хотела просить для Евгения титул коннетабля – что значило плохо понимать дух Реставрации. Королева Гортензия, которая позднее должна была сделаться заклятым врагом Бурбонов, получила герцогство Сен-Лё, за что хотела благодарить короля Людовика XVIII. Но императрица Жозефина была внезапно унесена гангренозным воспалением горла, и последняя связь, которая существовала между моей семьей и Бонапартами, была навсегда порвана.
Бурбоны как будто поставили своей задачей раздражать и обескураживать тех, кого должно было привлечь к себе их правительство, и мало-помалу устанавливалось мнение, что их царствование будет непродолжительно и Франция, тогда более страстно относившаяся к равенству, чем к свободе, захочет снова нести то иго, которое считалось свергнутым, и снова вернутся дни блеска и бедствий. Поэтому далеко не с тем удивлением, какое можно предположить, мой дедушка возвратился однажды домой, сообщая, что император, убежав с острова Эльба, высадился в Каннах. Исторические события обыкновенно больше удивляют тех, кто о них слышит, чем очевидцев.
Кажется, что какое-то предчувствие присоединяется ко всем логическим выводам. Те особенно, кто видел вблизи этого великого человека, должны были считать его способным явиться, чтобы подвергнуть, вследствие эгоистической и грандиозной фантазии, новой опасности Францию и французов. Но это было великое предприятие, которое принуждало каждого думать не только о политическом будущем, но и о личном. Даже те, кто, подобно Ремюза, не выражали никаким публичным способом своих чувств и желали только покоя и неизвестности, могли всего бояться и должны были все предвидеть. Неизвестность продлилась недолго, и, прежде чем император вступил в Париж, Реаль объявил Ремюза, что его ссылают вместе с двенадцатью или пятнадцатью другими лицами, в числе которых был Паскье[8].
Событие более важное, чем ссылка, которое оставило в памяти моего отца более глубокий след, произошло между сообщением о высадке Наполеона и его приездом в Тюильри. На другой же день после того, как об этой высадке стало известно, госпожа де Нансути прибежала к своей сестре Кларе, испуганная и взволнованная рассказами о преследованиях, которым будут подвергнуты враги императора, мстительного и всемогущего. Она сказала, что полицией будут применены инквизиционные методы, что Паскье беспокоится и что следует освободиться от всего подозрительного в доме.
Бабушка моя, которая, может быть, сама бы об этом не подумала, разволновалась, вспомнив, что у нее найдут рукопись, которая может скомпрометировать ее мужа, сестру, зятя, друзей. Она писала в полной тайне в течение многих лет, почти со времени своего появления при дворе, мемуары, писала ежедневно, под впечатлением событий и разговоров. Она рассказывала в них почти все, что видела и слышала в Париже, в Сен-Клу, в Мальмезоне. В течение двенадцати лет у нее образовалась привычка писать дневник, где главную роль играли черты ее собственного ума и характера, вперемежку с событиями. Дневник состоял из ряда писем, написанных из дворца подруге, от которой ничего не скрывалось. Автор сознавала всю ценность этой работы, или, вернее, эти фиктивные письма напоминали ей всю ее жизнь, все самые дорогие и самые тяжелые воспоминания. Но как можно было рисковать ради того, что могло показаться только проявлением литературного или сентиментального самолюбия, спокойствием, свободой, даже, может быть, жизнью всех своих близких?
Никто не знал о существовании этой рукописи, за исключением ее мужа и госпожи Шерон, жены префекта, очень старинного и верного друга. Клара побежала к ней. К несчастью, госпожи Шерон не было дома, и она должна была вернуться не скоро. Что делать? Бабушка возвратилась совершенно расстроенная и без размышлений и промедлений бросила в огонь все эти тетради. Отец мой вошел в комнату в то время, когда она сжигала последние листы – с некоторым промедлением, чтобы пламя не было слишком сильно. Ему было тогда семнадцать лет, и он позднее часто описывал мне эту сцену, воспоминание о которой ему было очень тяжело. Сначала он подумал, что это только копия мемуаров, которых он не читал, а драгоценный оригинал где-нибудь спрятан. Он сам бросил последнюю тетрадь в огонь, не придавая этому большого значения. «Едва ли какой-нибудь жест, – говорил он мне, – когда я узнал истину, оставил более жестокое сожаление в моей душе».
Эти сожаления с первых же минут были так сильны у матери и у сына, тотчас же понявших, что эта ужасная жертва была напрасна, что они никогда не могли говорить об этом даже друг с другом, а тем более сказать моему дедушке.
Дедушка весьма философски принял свою ссылку, которая не запрещала ему пребывания во Франции, но только не в Париже и его окрестностях. Он решил, что все они переедут в Лангедок, чтобы там переждать бурю. У него было там имение, выкупленное им у наследников Батара, деда его жены, но управление имением было давно заброшено. Поэтому они поехали в Лафит, где отец мой позднее должен был прожить столько месяцев, столько лет, порой среди политических волнений, порой возвращаясь к тихой трудовой жизни, порой отдыхая там после нового изгнания, так как зло, причиняемое абсолютной властью, не ограничилось 1815 годом, и Наполеоны возвратились во Францию из более далеких стран, чем остров Эльба.
Дед мой 13 марта отправился в Лафит, где семья присоединилась к нему несколько дней спустя. Здесь-то и оставались они все три месяца правления, более короткого, но еще более пагубного, чем прежнее, – которое носило название Ста дней. Здесь-то отец мой начал свою карьеру писателя, не создавая еще ничего оригинального, но переводя Попа, Цицерона и Тацита. Единственными оригинальными произведениями были его песни.
Все они жили там спокойно, дружно, почти счастливые, ожидая конца этой трагедии, завершение которой предвидели; весть о битве при Ватерлоо застала их там. Вместе с известием об отречении Наполеона они узнали, что Ремюза назначен префектом в Верхней Гаронне ордонансом (королевским приказом. – Прим. ред.) от 12 июля 1815 года. Это назначение как нельзя более подходило мужу, возвращая его к деятельности, которую он любил, и не принуждая к придворным торжествам, но гораздо менее нравилось жене, которая жалела о Париже и своих друзьях, а также боялась волнений в Тулузе, ставшей добычей южного роялизма, «белого террора», как тогда говорили. Новый префект тотчас же отправился туда, узнал по приезде об убийстве генерала Рамеля, который, однако, водрузил белое знамя на Капитолии. Так велика несправедливость и жестокость партий, даже торжествующих, особенно торжествующих!
Однако как ни интересен этот эпизод наших гражданских бурь, нет необходимости на нем останавливаться. Здесь речь идет не о префекте, но именно о госпоже Ремюза. Несколько обеспокоенная событиями, а может быть, боясь резкости мнений сына, мало соответствующих официальному положению, госпожа Ремюза позволила ему возвратиться в Париж, что очень ему подходило. Тогда между матерью и сыном и завязалась переписка, которая лучше с ними познакомит и позволит больше узнать относительно личности автора этих мемуаров, чем сами эти мемуары.
Но здесь речь идет только об этом последнем труде, и нет необходимости подробно рассказывать о месяцах, даже о годах, следующих за 1815 годом. Назначенная в кровавые дни администрация департамента была в течение девятнадцати месяцев в очень трудном положении. В то время как в Париже сын, живя среди очень либерального общества, дошел до передового конституционного роялизма, который был уже только терпим по отношению к Бурбонам, отец получил от совершенно другого общества подобное же влияние и благодаря своим предложениям и поступкам, встал в первый ряд чиновников, настроенных наименее роялистично, наиболее либерально. Он был умерен, друг законов, справедлив, не фразер, не аристократ, не ханжа. Город Тулуза был до известной степени противоположностью всему этому, однако Ремюза удалось оставить там по себе добрые воспоминания.
Любопытны эти первые времена конституционной свободы даже в провинции, мало предназначенной к тому, чтобы смело осуществить ее теории. При свете этой свободы освещалось то, что Империя оставила в тени. Все возрождалось: мнения, чувства, недовольства, страсти, наконец, сама жизнь. Правительство Бурбонов было представлено женатым священником Талейраном и цареубийцей, якобинцем Фуше, но этого было еще недостаточно, чтобы противодействовать реакционной партии тех времен, а потому либеральная политика стала торжествовать только с правлением Деказа, Паскье, Моле и Ройе-Коллара и со времени знаменитого ордонанса 5 сентября[9]. Эта политика естественным образом должна была принести пользу тем, кто ее заранее держался, и во время поражения либеральной партии на выборах в Верхней Гаронне к префекту отнеслись хорошо. Как только министерство утвердилось и Лэне заместил Воблана, дед мой был назначен префектом Лилля, и вот как отец в уже упомянутом письме передает впечатления, какие произвели эти события на взгляды моей бабушки:
«Назначение моего отца в Лилль снова ввело мою мать в среду бурных движений общественного мнения, движений, которые вскоре должны были выразиться так сильно, как этого не случалось, быть может, с 1789 года. Ее ум, ее мысль, все ее чувства и верования должны были двинуться вперед. Империя, которая сначала возбудила в ней интерес и сознательность, как всякое великое событие в нашем мире, позднее дала ей принципы движения к чисто моральной цели, внушая отвращение к тирании. Отсюда – смутное стремление к правильному правительству, основанному на законе, на разуме и национальном духе, отсюда – известное признание форм английской конституции. Ее пребывание в Тулузе и реакция 1815 года дали ей знакомство с реальными условиями жизни, которого никогда не достигнешь в парижских салонах, сознание результатов и даже причин революции, понимание нужд, чувства нации. Она поняла в общей форме, в чем была опора, сила, жизнь, право. Она знала о существовании новой Франции и о том, какова она».
Пребывание в Лилле было прервано несколькими путешествиями в Париж, где бабушка моя нашла сына среди светских удовольствий, которые предшествовали его литературным успехам, начавшимся несколько месяцев спустя. Впрочем, ему приходилось уже писать и сочинять в письмах к матери, посвященных литературе и политике. Мать его имела больше досуга в Лилле, чем в Париже, и, хотя здоровье ее было всегда слабо, у нее снова появилась охота к умственному труду. До сих пор она ничего не писала, кроме своих сожженных мемуаров, и только иногда пробовала набросать короткие новеллы или маленькие статьи. Она начала, на досуге провинциальной жизни, роман в письмах под названием «Испанские письма, или Честолюбец». В то время как бабушка работала над романом с охотой и успехом, в 1818 году вышли в свет «Размышления о французской революции», посмертный труд госпожи де Сталь; он произвел на госпожу Ремюза самое сильное впечатление. Теперь, через шестьдесят лет, плохо отдают себе отчет в том необыкновенном впечатлении, какое мог произвести такой труд – красноречивое рассуждение о принципах революции.
Взгляды автора, в то время очень новые, теперь для нас представляют только прекрасные и благородные общие места, справедливость которых повсюду признана. Но не так было тотчас же после Империи. Все тогда было ново, и дети, смущенные двадцатилетней тиранией, должны были узнать то, что так хорошо знали их отцы в 1789 году. Что особенно поразило мою бабушку, это пылкие страницы, где автор отдается своей несколько демонстративной ненависти к Наполеону. Она сама испытывала похожие чувства, но так и не могла забыть, что думала раньше несколько иначе.
Люди, любящие писать, естественно искушаемы желанием объяснить на бумаге свои поступки и свои чувства. Это способ лучше их понять. Ей захотелось восстановить свои воспоминания, изложить, что представляла из себя Империя, как она любила ее и восхищалась ею, потом осуждала и боялась ее, потом подозревала и ненавидела, и, наконец, покинула.
Мемуары, которые госпожа Ремюза уничтожила в 1815 году, могли служить самым безыскусственным и точным изложением этой смены событий, положений и чувств. Нечего было и думать воспроизвести их, но можно было создать новые, которым верная память и чистая совесть придали бы такую же искренность. Воодушевленная этим проектом, она написала сыну 27 мая 1818 года:
«Вчера я была охвачена новой причудой. Ты узнаешь теперь, что я встаю ежедневно в шесть часов и пишу с этого времени очень аккуратно до девяти часов с половиной. Итак, я сидела за своими трудами, с тетрадями «Честолюбца», разбросанными вокруг меня. Но несколько глав госпожи де Сталь пронизали мой ум. И вдруг я бросаю роман в сторону, беру белую бумагу, я охвачена потребностью говорить о Бонапарте; вот я рассказываю об убийстве герцога Энгиенского, о той ужасной неделе, которую я провела в Мальмезоне. Так как я человек, живущий чувством, через несколько строк мне кажется, будто я опять переживаю это время. Факты и разговоры как бы сами собой встают передо мной; я написала двадцать страниц со вчерашнего дня, и это меня сильно взволновало».
Та же причина, которая пробудила впечатления матери, возбудила литературные вкусы и воззрения сына, и в то время как он печатал в «Архивах» свою первую статью о книге госпожи де Сталь, 27 мая 1818 года он написал своей матери письмо. Письма, как говорят, встретились в пути.
«Эта книга, мама, разбудила во мне очень сильное сожаление, что вы сожгли мемуары, но я сказал себе, что их нужно заменить. Вы обязаны сделать это ради вас, ради нас, ради истины. Перечтите прежние альманахи, «Монитор», страницу за страницей, перечтите и спросите свои прежние письма, написанные друзьям, особенно моему отцу. Старайтесь найти не подробности событий, но главным образом свои впечатления по поводу событий. Возвратитесь к мнениям, которых уж нет, к иллюзиям, которые потеряны, даже к ошибкам. Покажите себя, как многие уважаемые и разумные люди, негодующей и возмущенной ужасами революции, увлеченной естественной, но мало продуманной ненавистью, энтузиазмом, в сущности очень патриотическим, по отношению к одному человеку. Скажите, что мы все в то время сделались как бы чужды политике. Мы нисколько не боялись власти одного, мы шли ей навстречу.
Покажите затем человека того времени, который портился (или обнаруживал себя) по мере того, как росло его могущество. Покажите, по какой печальной необходимости, теряя свои иллюзии на его счет, вы становились все в большую и большую от него зависимость, и как, чем меньше вы ему повиновались сердцем, тем больше надо было повиноваться фактически. Как, наконец, после того как вы верили в справедливость его политики, потому что ошибались относительно его личности, разочаровавшись в его характере, вы начали разочаровываться и в его системе. И нравственное негодование привело вас к тому, что я называю политической ненавистью. Вот что я умоляю вас сделать, мама. Вы услышите мою просьбу, не правда ли? И вы сделаете это?»
Два дня спустя, 30 мая, моя бабушка отвечала сыну:
«Не поражен ли ты тем, как мы понимаем друг друга? Я также читаю эту книгу, я поражена так же, как и ты; я жалею об этих несчастных и начинаю писать, не зная хорошенько, куда это меня ведет, так как, дитя мое, это в самом деле несколько трудная задача – та, которая меня искушает и которую ты мне предписываешь. Я хочу, однако, постараться восстановить известные эпохи, сначала без всякого порядка и очереди, события, как они вспомнятся. Ты можешь довериться мне, говоря по правде.
Вчера я была одна перед моим письменным столом. Искала в своих воспоминаниях первые моменты моего появления вблизи этого несчастного человека. Снова переживала массу вещей, и то, что ты так хорошо называешь моей политической ненавистью, было готово исчезнуть, чтобы уступить место моим прежним иллюзиям».
Несколько дней спустя, 8 июня 1818 года, она настаивает на трудности своей задачи:
«Знаешь ли ты, что я нуждаюсь во всей своей храбрости, чтобы исполнить то, что ты мне предписываешь? Я немного напоминаю особу, которая провела бы десять лет на каторге и у которой спросили бы дневник с записями об этом времени. Теперь мое воображение тускнеет, когда возвращается к этим воспоминаниям. Я испытываю что-то тяжелое от моих прошлых иллюзий и настоящих чувств. Ты прав, говоря, что у меня прямая душа, но отсюда следует, что я не могу безнаказанно чувствовать, как многие другие, и уверяю тебя, в течение недели я ухожу совершенно удрученная от письменного стола, куда ты и госпожа де Сталь засадили меня. Я не могла бы сказать никому другому, кроме тебя, о моих тайных впечатлениях. Меня бы не поняли и посмеялись бы надо мной».
Наконец, 28 сентября и 8 октября того же года она писала сыну:
«Если бы я была мужчиной, то, вероятно, отдала бы часть своей жизни, чтобы изучать Лигу, но так как я только женщина, я ограничиваюсь тем, что набрасываю замечания о том, кого ты знаешь. Какой человек! Какой человек, сын мой! Он ужасает меня, как только я начинаю писать. Для меня было несчастьем, что я была слишком молода, когда жила подле него. Я недостаточно думала о том, что было вокруг меня, а теперь, когда мы двинулись вперед – и я, и мое время, – мои воспоминания волнуют меня больше, чем это делали события.
Если ты приедешь, то увидишь, как мне кажется, что я не теряла времени в это лето. Я написала уже около пятисот страниц и напишу гораздо больше; работа увеличивается по мере того, как я за нее берусь. Потребуется впоследствии много времени и терпения, чтобы привести все это в порядок, а у меня, быть может, никогда не будет ни того ни другого. Это будет твое дело, когда меня не будет больше на этом свете…»
«Отец твой, – писала она еще, – говорит, что не знает никого, кому бы я могла показать то, что написала. Он думает, что нет никого, у кого был бы больше развит талант быть правдивым, это его выражение. Кроме того, я пишу не для кого-то неизвестного. Когда-нибудь ты найдешь эту рукопись в моем бюро и сделаешь с ней, что захочешь».
«Но знаешь ли ты мысль, которая иногда преследует меня? Я говорю себе: «Если бы когда-нибудь сын мой издал это, что бы обо мне подумали?» Мной овладевает беспокойство, что меня сочтут дурной или по крайней мере недоброжелательной. Я старалась найти случаи хвалить. Но этот человек был таким убийцей добродетели, а мы, мы были так принижены, что очень часто отчаяние охватывает мою душу и у меня готов вырваться крик правды».
Из приведенных отрывков видно, под влиянием каких чувств были задуманы и написаны эти мемуары. Это не было ни литературным препровождением времени, ни развлечением для воображения, ни результатом претензий писателя, ни опытом пристрастной апологии. Но страсть к истине, политическое зрелище, которое было перед глазами автора, влияние сына, с каждым днем все более и более укреплявшегося в либеральных взглядах, которые должны были составить очарование и гордость его жизни, дали ей мужество работать над мемуарами более двух лет. Она поняла благородную политику, которая ставит права человека выше прав государства.
Но и это не все. Как бывает с людьми, сильно преданными умственной работе, все оживлялось и освещалось в ее глазах, и никогда она не вела более деятельной жизни. Среди страданий, причиняемых слабым здоровьем, она постоянно ездила из Лилля в Париж, играла роль Эльмиры в «Тартюфе», в замке Шамплатре у графа Моле, занималась работой о женщинах XVII века, которая составила «Опыты о воспитании женщин», давала указания Дюпюитрену для восхваления Корвисара, напечатала даже новеллу.
Несмотря на счастье, какое давали ей спокойная жизнь и деятельный ум, административные успехи мужа и литературные успехи сына, здоровье ее было сильно затронуто сначала болезнью глаз, которая, не угрожая жизни, стала тяжелой и стесняющей, потом общим раздражением, которое отразилось особенно на слизистых оболочках желудка. После нескольких приступов и улучшений сын привез ее в Париж 28 ноября 1821 года очень расстроенную, очень больную, в состоянии, которое беспокоило тех, кто любил ее, но которое, казалось, не представляло в глазах врачей близкой опасности. Один только Бруссе мрачно смотрел на будущее и поразил моего отца той силой проникновения, которой он был обязан своим открытиям и своим ошибкам. Однако первое время в Париже было употреблено ею на работы по литературе и истории, на политические разговоры, которые собирали вокруг нее большое количество государственных людей. Бабушка могла еще интересоваться падением министерства Деказа и предвидеть, что поражение Виллеля, то есть ультрароялистов, реакционеров, как сказали бы теперь, сделало бы невозможным для ее мужа сохранение префектуры в Лилле. В самом деле, он был отозван 9 января 1822 года. Но, не дожив до этого дня, она умерла внезапно в ночь на 16 декабря 1821 года, сорока одного года.
Сын ее сохранил на всю жизнь глубокую скорбь о ее утрате, а друзья – воспоминание о женщине выдающейся и очень доброй. Никого из них нет теперь в живых, и на наших глазах исчезли последние: Паскье, Моле, Гизо, Леклерк. Присоединяясь к желанию, к воле моего отца, я приношу ей теперь дань наибольшего уважения изданием этих неоконченных мемуаров, которые, за исключением нескольких глав, она не смогла ни просмотреть, ни исправить. Труд этот должен был быть разделен на пять частей, соответствующих пяти эпохам. Она закончила только три из них, которые посвящены периоду от 1802-го до начала 1808 года, то есть со времени ее прибытия ко двору до начала Испанской войны. Части, которых недостает, были бы посвящены времени, которое протекло между этой войной и разводом (1808–1809), и, наконец, пяти последним годам, закончившимся падением императора.
Было бы наивностью не предвидеть, что подобная публикация может навлечь на автора и издателя инсинуации, неблагожелательство или даже политические резкости. Вместо того чтобы интересоваться воззрениями трех поколений, сравнением, которое позволит заметить, какая разница в эпохах, – обратят внимание на видимые противоречия. Удивятся, как можно было быть камергером или придворной дамой – и так мало раболепными, быть либеральными – и так мало возмущенными 18-м брюмера, столь патриотичными – и столь мало бонапартистами, так покоренными гением – и так строго относящимися к его ошибкам, быть столь ясно видящими по отношению к большинству членов императорской фамилии – и столь снисходительными или даже слепыми по отношению к другим, которые, однако, оставили не менее пагубный след в нашей национальной истории. Но трудно будет не отдать автору должной справедливости в его искренности, честности и уме. Невозможно будет, читая эти мемуары, не сделаться более строгим по отношению к абсолютной власти, не перестать быть ослепленным ее софизмами и внешним благополучием.
Поль Ремюза
Вступительные характеристики
Начиная свои мемуары, я считаю нелишним предпослать им некоторые замечания относительно характера императора и отдельных членов его семьи. Мне кажется, что эти замечания помогут мне в той трудной задаче, которую я себе поставила, помогут лучше разобраться во множестве самых разнообразных впечатлений, полученных мной на протяжении двенадцати лет.
Начну с самого Бонапарта. Не всегда я смотрела на него так, как смотрю теперь: мои взгляды изменились вместе с ним. Но я так далека от каких бы то ни было личных обвинений, что мне кажется невозможным отступать от того, чего требует истина.
Наполеон Бонапарт
Бонапарт был маленького роста, непропорционально сложен, так как слишком длинная верхняя часть тела укорачивала рост. Волосы его были редкими, каштанового цвета, глаза – серо-голубыми; цвет лица отдавал желтым, когда Наполеон был очень худ, а с течением времени сделался матово-белым, без всякой окраски. Линия лба и носа, разрез глаз – все это было прекрасно и напоминало античные медали. Рот его, несколько сжатый, становился приятным, когда он улыбался; зубы составляли правильный ряд; немного короткий подбородок и квадратная челюсть придавали тяжеловатость нижней части лица; ноги и руки его были красивы, и я обращаю на это внимание потому, что он сам придавал этому большое значение.
У него была манера держаться всегда несколько устремленным вперед. Глаза, обыкновенно тусклые, придавали лицу его в час покоя меланхолическое, задумчивое выражение; когда он вспыхивал гневом, взгляд его быстро становился суровым и угрожающим. Улыбка необыкновенно шла ему: она молодила и как будто обезоруживала все его существо. Трудно было не поддаться ее очарованию, так она преображала и красила его лицо.
Костюм его всегда был очень прост: обыкновенно Наполеон носил мундир одного из своих гвардейских полков. Соблюдал чистоту, но больше ради системы, чем по личному вкусу; часто принимал ванну, иногда даже ночью, считая это полезным для здоровья. Что касается всего остального, то быстрота, с которой он все совершал, не давала ему возможности много заботиться о костюме; поэтому в дни торжеств и парадов его лакеи должны были сговариваться, чтобы уловить момент и успеть надеть на него какую-нибудь принадлежность костюма. Он не умел носить никаких украшений: малейшее стеснение всегда казалось ему невыносимым. Он срывал и уничтожал все, что причиняло ему хотя бы любое неудобство, а несчастный лакей, причинивший ему эту мимолетную неприятность, порой получал слишком явное и стойкое доказательство его гнева.
Я уже говорила, что было какое-то необыкновенное очарование в улыбке Наполеона, но в течение всего того времени, когда я видела его, он очень редко улыбался. Основным тоном всего его существа была постоянная серьезность, но не та, которая вытекает из благородства и достоинства привычек, а та, которая создается глубоким размышлением.
В молодости он был мечтателем, позднее становится грустным, еще позднее все это переходит в почти постоянное дурное настроение. Когда я познакомилась с ним, он очень любил все то, что располагает к мечтательности: Оссиана, сумерки, меланхолическую музыку. Я слышала, как иногда он восхищался шумом ветра, как с энтузиазмом говорил о рокоте моря, порой впадал в искушение верить в ночные привидения; наконец, у него имелась известная склонность к суеверию. Иногда, покинув свой кабинет, он входил вечером в салон госпожи Бонапарт, обволакивал свечи белым газом, предписывал нам всем глубокое молчание, – и ему нравилось рассказывать или слушать истории о привидениях. Иногда он слушал музыку – тихие, нежные мелодии, исполняемые итальянскими певцами под аккомпанемент немногих тихо звучащих инструментов.
Тогда он впадал в мечтательное настроение, которое все уважали, не смея сделать движение или сойти с места. Придя в себя после этого состояния, доставляющего ему, по-видимому, какое-то облегчение, он становился веселее и общительнее и любил тогда рассказывать о тех впечатлениях, которые только что пережил. Бонапарт так объяснял влияние, какое оказывала на него музыка, особенно Паизиелло: «Она монотонна, а только те впечатления, которые повторяются, могут овладевать нами». Геометрический склад ума всегда приводил его к анализу всех своих чувств. Бонапарт был человеком, особенно много задумывающимся над тем «почему», которое управляет человеческими поступками.
Вечно настороже, даже в мельчайших событиях своей жизни, открывая всегда самые тайные мотивы для каждого движения, он никогда не понимал и не признавал той естественной беспечности, которая иной раз заставляет действовать без всякого плана и цели. Поэтому, судя о других по себе, он часто ошибался, и его заключения и поступки, за ними следовавшие, нередко доказывали, как он заблуждался.
Бонапарту недоставало воспитания и внешнего лоска; казалось, он был рожден или для жизни в палатке, где все безразлично, или на троне, где все дозволено. Он не умел ни войти, ни выйти из комнаты, не знал, как надо кланяться, вставать или садиться; все его жесты были резки и порывисты, такой же была манера говорить. В его устах даже итальянский язык терял свое изящество. На каком бы он ни говорил языке, последний всегда казался не родным ему; оставалось впечатление, будто он делает усилие, чтобы выразить свою мысль. Притом ему было невыносимо следовать какому бы то ни было правилу; всякая свобода нравилась ему как победа, и никогда ничего не уступал он даже грамматике.
Бонапарт рассказывал, что в юности любил романы, так же, как и точные науки. Быть может, ум его освежался от этого смешения. К несчастью, он попал, по-видимому, на не самые лучшие образцы этого сорта книг, но сохранил такое воспоминание об удовольствии, полученном от них, что, женившись на госпоже Богарне, дал ей читать «Ипполита, графа Дугласа» и «Современниц»[10], «чтобы она составила себе понятие о чувствах и обычаях общества».
Пытаясь начертать образ Бонапарта, надо было бы, следуя столь любимым им приемам анализа, разделить существо на три совершенно различные части: душу, сердце и ум, которые действительно почти никогда у него не сливались.
Хотя он был, безусловно, человеком выдающимся благодаря некоторым чертам своего интеллекта, но трудно представить себе что-нибудь более низменное, чем его душа: никакого великодушия, ни тени истинного величия. Я никогда не видела, чтобы он восхищался благородным поступком, чтобы он даже понял его. Он всегда недоверчиво относился к проявлениям добрых чувств. Не придавал никакой цены искренности и не боялся признавать превосходство человека в зависимости от того, насколько искусно умеет он пользоваться ложью. По этому поводу Бонапарт любил вспоминать, как один из дядей еще в детстве предсказал ему, что он будет когда-нибудь править миром, потому что имеет привычку вечно лгать. «Меттерних, – говаривал он, – может стать государственным человеком: он очень искусно лжет».
Для того чтобы править людьми, Бонапарт всегда пользовался теми средствами, которые принижали их больше всего. Он боялся каких бы то ни было привязанностей, стремился отдалить каждого, дарил свои склонности, возбуждая тревогу, думая, что лучший способ привязать к себе людей – скомпрометировать их, часто даже погубить в общественном мнении.
Он прощал добродетель только тогда, когда мог сделать ее смешной.
Нельзя сказать, чтобы Бонапарт истинно любил славу: он, не колеблясь, предпочитал ей успех. Действительно смелый в удаче, доводя ее до крайних пределов, каких мог достигнуть, он бывал робок и смущен, когда над головой его сгущались тучи. Всякое смелое великодушие было совершенно чуждо ему, и по этому поводу нельзя изобразить его без прикрас лучше, чем сделал это он сам в одном признании. Оно сохранилось в рассказе, который я никогда не забуду.
Однажды – дело было после поражения под Лейпцигом, когда, возвратясь в Париж, он был занят объединением остатков своей армии для защиты границ, – Бонапарт рассказывал Талейрану о неудачной войне с Испанией и о затруднениях, в которые вовлекла его эта война. Он любил говорить о своем положении, но не с той благородной откровенностью, которая не боится признаться в ошибке, а с сознанием своего превосходства, которое не допускает затушевывания. Именно в это свидание, среди его излияний, Талейран внезапно сказал:
– Кстати, вы советуетесь со мной так, как будто бы мы не были в ссоре.
Бонапарт ответил:
– На все свое время. Оставим теперь прошедшее и будущее и посмотрим ваше мнение относительно текущего момента.
– Хорошо, – продолжал Талейран, – вам остается одно: надо признать, что вы ошиблись, и сказать это как можно благороднее. Заявите, что вы король волей народной, избранный нациями, и вашей целью никогда не было идти против их желания; скажите, что когда вы начали Испанскую войну, то надеялись только освободить народ от ига ненавистного министра, поощряемого слабостью его монарха. Но, присмотревшись поближе, вы видите, что испанцы, сознавая недостатки короля, привязаны к династии, и вы вернете им династию, чтобы не говорили, что вы противитесь воле народа. После этой прокламации освободите Фердинанда[11] и уведите войска. Подобное признание с такой высоты, притом в минуту, когда иностранцы еще колеблются на нашей границе, может только оказать вам честь, и вы еще слишком сильны, чтобы это сочли низостью.
– Низостью? – возразил Бонапарт. – Это все равно; знайте, что я не задумался бы совершить ее, если бы она была мне полезна. Знаете, в сущности, нет ничего благородного или низкого в этом мире. В моей натуре есть все то, что может повести к упрочению власти и к тому, чтобы обманывать тех, кто думает, что знает меня. Откровенно говоря, я низок, совершенно низок; даю вам слово, что у меня не возникнет ни малейшего отвращения совершить то, что называется в свете бесчестным поступком. Мои тайные наклонности – в сущности, природные, но противоречащие показному величию, которым я принужден себя декорировать, – дают мне бесконечные ресурсы, чтобы обманывать надежды всего мира. Поэтому дело только в том, чтобы разобрать, согласуется ли то, что вы мне советуете, с моей настоящей политикой, и поискать, – добавил он с сатанинской, по словам Талейрана, улыбкой, – нет ли у вас каких-нибудь скрытых интересов вовлечь меня в этот поступок.
Если бы я могла продолжать эту характеристику вне обычных пределов, то прибавила бы сюда еще ряд рассказов, которые не смогу поместить в другом месте и которые подтвердили бы то, что я стараюсь доказать. Приведу еще только один, который кажется мне здесь вполне уместным.
Бонапарт готовился к отплытию в Египет. Он посетил Талейрана, который был в то время министром иностранных дел в правительстве Директории. «Я был тогда болен и лежал в постели, – говорил Талейран. – Бонапарт сел около меня, поверил мне мечты своего юного воображения и заинтересовал живостью своего ума, а также всеми препятствиями, которые он должен был встретить со стороны своих тайных врагов, о которых я знал. Он рассказал мне о своих затруднениях из-за недостатка денег и сказал, что не знает, как достать их. «Послушайте, – сказал я ему, – откройте мой письменный стол, вы найдете там 100 тысяч франков, которые принадлежат мне; в данный момент они – ваши, вы вернете мне их по возвращении». Бонапарт бросился мне на шею, и мне стало как-то приятно от его радости.
Сделавшись консулом, он вернул мне деньги, которые я одолжил ему. А потом однажды спросил: «Какой интерес мог быть у вас, чтобы одолжить мне эти деньги? Сотни раз задавал я себе этот вопрос и не мог хорошо понять, какова была ваша цель». – «Дело в том, – отвечал я ему, – что у меня не было никакой цели. Я был болен, мог никогда вас больше не увидеть. Вы были молоды, вы произвели на меня сильное и глубокое впечатление, меня влекло к тому, чтобы оказать вам эту услугу без всякой задней мысли». – «В таком случае, – продолжал Бонапарт, – если у вас действительно не было никакого предвидения, вы сыграли роль простака»».
Следуя порядку, который указала раньше, я должна говорить теперь о сердце Бонапарта. Но если можно представить себе, что существо, во всем нам подобное, может быть лишено того органа, который дает нам потребность любить и быть любимым, я сказала бы, что в момент появления на свет Бонапарта сердце его было забыто или, может быть, ему удалось совершенно обуздать его. Он всегда слишком много заботился о своей славе, чтобы отдаться какому бы то ни было нежному чувству. Он почти не признавал никаких уз крови, никаких естественных прав. Я не знаю, не был ли он лишен даже чувства отца, по крайней мере оно не играло, судя по всему, главной роли в его отношении к сыну.
Однажды во время завтрака, к которому был допущен Тальма, что случалось довольно часто, привели маленького Наполеона.
Император берет его к себе на колени и, очень далекий от какой бы то ни было ласки, забавляется тем, что бьет его, – правда, довольно легко. «Тальма, – говорит он, – скажите, что это я делаю?» Тальма, естественно, затрудняется с ответом. «Вы не видели? – продолжает император. – Я секу короля».
Несмотря на обычную сухость, Бонапарт, однако, порой испытывал чувство любви. Но, Господи Боже, что это была за манера испытывать любовь! Впрочем, любовь, как и набожность, принимает обыкновенно все оттенки характера. У натуры нежной любовь ведет к почти полному перевоплощению в любимое существо, у человека с характером Наполеона она является поводом к проявлению еще большего деспотизма.
Император презирал женщин, а презрение – плохая школа для любви. Женская слабость казалась ему неоспоримым доказательством того, что они – существа низшие, а влияние их в обществе представлялось невыносимой узурпацией, результатом и недостатком прогресса нашей цивилизации, всегда несколько его личным врагом, по выражению Талейрана. Бонапарт всю жизнь испытывал некоторое стеснение с женщинами, а так как его раздражало всякое стеснение, он плохо относился к ним, не зная, как надо с ними говорить.
По правде говоря, он мало встречал женщин, которые могли бы изменить его взгляды. Легко представить себе, какого рода связи были у него в юности. В Италии он встретил полный упадок нравственности, который еще увеличивался от присутствия французской армии, а когда Бонапарт вернулся во Францию, общество было совершенно рассеяно. Испорченный круг, стоявший близко к Директории, пустые и фривольные жены деловых людей и поставщиков, – вот каковы были парижанки, которых знал Бонапарт. Когда же он достиг консульства, переженил своих генералов и адъютантов и призвал ко двору их жен, то увидел близ себя очень юных, робких и молчаливых женщин или жен своих товарищей по оружию, которые внезапно выдвинулись из прежнего, очень скромного положения вследствие перемены судьбы их мужей; но эта перемена была так быстра, что они не могли скрыть ее.
Я склонна думать, что Бонапарта, почти исключительно занятого политикой, если и привлекала любовь, то только из тщеславия. Он признавал женщин только прекрасных или по крайней мере молодых. Он, вероятно, охотно подал бы голос за то, чтобы в благоустроенной стране нас убивали, как насекомых, которых сама природа осудила на смерть после осуществления ими задачи материнства.
Но все же Бонапарт некогда испытывал чувство любви по отношению к своей первой жене; действительно, если он когда-нибудь волновался, то, несомненно, только ради нее и из-за нее. Можно быть Наполеоном, но нельзя совершенно избежать всяких влияний, и характер человека выражается не в том, каким он бывает всегда, а в том, каким он бывает по большей части. Бонапарт был еще молод, когда познакомился с госпожой Богарне. Благодаря имени, которое она носила, благодаря необыкновенному изяществу манер, она, безусловно, превосходила тот круг, где он ее встретил. Она привязалась к нему, и это льстило его гордости; благодаря ей он достиг видного положения и привык связывать с ее влиянием все, что было счастливого в его судьбе. Она умело поддерживала в нем это суеверие, которое долго оказывало на него влияние и даже несколько раз задерживало исполнение проектов о разводе. Бонапарт считал, что, женившись на Жозефине Богарне, он заключает союз с очень знатной дамой; это была новая победа. В характеристике, посвященной специально госпоже Бонапарт, я расскажу подробнее о том очаровании, под влиянием которого находился Бонапарт.
Несмотря, однако, на предпочтение, которое он ей оказывал, я видела его влюбленным два или три раза, и вот когда проявлялся весь его деспотизм. Как он раздражался от малейшего препятствия! Как резко отвечал на ревнивые беспокойства своей жены! «Вы должны, – говорил он ей, – подчиняться всем моим фантазиям и находить совершенно естественным, что я доставляю себе подобные развлечения. Я имею право ответить на все ваши жалобы вечным «я». Я не стою на одном уровне со всеми и ни от кого не принимаю никаких условий». Но притом же, угнетая своей властью ту, которой он на мгновенье пренебрегал, стремился он подчинить себе и другую, бывшую предметом его мимолетного внимания.
Удивленный возможностью даже временного превосходства над собой, он раздражался, подчинялся только мимолетно, крайне резко обходился с предметом своей победы и, достигнув ее, охладевал и спешил освободиться, публично открывая тайну своего успеха.
Ум императора составлял, бесспорно, самую выдающуюся часть его существа. Трудно, кажется, представить себе ум более обширный. Образование ничего к нему не прибавило, так как, в сущности, Бонапарт был невежествен, мало читал и притом всегда поспешно. Но он легко овладевал всем, что узнавал, а воображение давало возможность развить все это. Способности его кажутся громаднейшими, так как в уме его могло умещаться и классифицироваться множество знаний, не утомляя его.
Одна мысль порождала у него тысячи других, и одно какое-нибудь слово переносило его беседу в области самые возвышенные, – правда, не всегда по законам строгой логики, но всегда так, что ярко сквозил ум.
Я с большим удовольствием слушала, как он разговаривает или, вернее, говорит, так как его беседа большей частью состояла из длинных монологов. Это делалось не потому, что он не допускал возражений (конечно, когда бывал в хорошем настроении). Двор его, в течение долгого времени исключительно военный, имел обыкновение слушать все его речи как приказы, а позднее двор этот стал настолько многочислен, что никто не пытался брать на себя роль оппонента или же собеседника.
Мне приходилось уже говорить, что Бонапарт плохо выражал свои мысли; однако речь его обыкновенно бывала блестяща и оживленна, а грамматические ошибки иногда даже придавали ей неожиданную силу, всегда прекрасно подкрепленную оригинальностью идей. Притом он не нуждался в собеседнике, чтобы увлечься. С того момента, как Бонапарт входил в вопрос, он быстро шел вперед, однако, внимательно глядя, следуют ли за ним, и с удовольствием видя, что его понимают и аплодируют ему. Иной раз уметь слушать было удобным и верным средством понравиться ему. Подобно актеру, воодушевляющемуся эффектом, который он производит, Бонапарт радовался одобрению, которого искал в глазах своей аудитории. Он сильно интересовал меня, когда говорил, я слушала его с удовольствием, и вспоминаю, как он провозгласил меня умной женщиной, хотя я не сказала ему еще и двух сколько-нибудь связных фраз.
Он любил говорить о себе, рассказывать и судить так, как мог бы судить о нем другой. Чтобы извлечь выгоды из своего характера, он иногда подчинял его самому строгому анализу. Он часто говорил, что истинно государственный человек умеет рассчитать все мельчайшие выгоды, какие может извлечь даже из своих недостатков. Талейран выражается об этом еще сильнее. Я слышала, как однажды он раздраженно воскликнул: «Этот демонический человек обманывает по всем пунктам. Даже страсти его ускользают от вас, так как он находит способ вымышлять их, хотя они, конечно, и в самом деле существуют в нем».
Мне приходит на память сцена, ясно рисующая, до какой степени умел Бонапарт переходить от самого полного спокойствия к самому сильному гневу, когда это казалось ему нужным.
Незадолго до нашего последнего разрыва с Англией вдруг распространяется слух, что война вот-вот возобновится и что посланник, лорд Витворт, готовится к отъезду. Обыкновенно один раз в месяц, утром, консул принимал у госпожи Бонапарт посланников и их жен. Эта аудиенция происходила с большой торжественностью. Иностранцы собирались в зале, и когда все были в сборе, об этом докладывали Первому консулу. Он показывался вместе со своей женой, за ними следовали префект и придворная дама. Им представляли посланников и их жен. Госпожа Бонапарт садилась побеседовать с минуту, Первый консул поддерживал более или менее продолжительный разговор и затем удалялся с легким поклоном.
Незадолго до нарушения мира весь дипломатический корпус был, по обыкновению, собран в Тюильри. Пока ожидали Бонапарта, я прошла во внутренние апартаменты госпожи Бонапарт и вошла в комнату, где она заканчивала свой туалет. Первый консул, сидя на полу, весело играл с маленьким Наполеоном, старшим сыном его брата Луи.
Вместе с тем он развлекался, контролируя туалет госпожи Бонапарт и мой собственный и сообщая свое мнение о каждой части нашего костюма. Казалось, он в самом лучшем настроении. Я заметила это и сказала, что донесения, которые будут отправлены посланниками в этот вечер, вероятно, будут говорить только о мире и согласии, – таким веселым и спокойным покажется он им. Бонапарт рассмеялся и продолжал играть с ребенком.
Вдруг его извещают, что все в сборе. Он вскакивает, и веселая улыбка мгновенно исчезает с его лица; меня поразило строгое выражение, сменившее ее; он точно бледнеет благодаря усилию воли, черты его искажаются, и все это в мгновение ока, скорее, чем это возможно описать. «Ну, дамы», – произносит он взволнованно и быстро направляется в залу. Никому не кланяясь, подходит он к английскому посланнику, и тут начинаются горькие жалобы на все, что случилось в его управление. Гнев его, по-видимому, растет с каждой минутой и достигает такого пункта, который пугает уже все собрание. Самые жесткие слова, самые ужасные угрозы срываются каким-то полусдавленным шепотом с его уст. Никто не смеет пошевелиться. Госпожа Бонапарт и я смотрим друг на друга, онемев от изумления; каждый более или менее трепещет за себя. Даже постоянная флегматичность англичанина поколеблена, и он едва находит какие-то слова для ответа.
Другой рассказ, несколько странный, но очень характерный, может доказать, до какой степени он владел собой[12].
Когда Бонапарт предпринимал какое-нибудь путешествие или совершал какую-нибудь кампанию, он не пренебрегал и некоторого рода развлечениями, посвящая им время в короткие промежутки между делами или битвами. Зять его Мюрат или маршал Дюрок должны были позаботиться о том, чтобы найти для него способ удовлетворять его мимолетные фантазии.
Тотчас после первого его прибытия в Польшу Мюрат, приехавший в Варшаву раньше его, получил приказание найти для императора молодую прекрасную женщину, по возможности – среди аристократии. Он удачно исполнил это поручение и подыскал для исполнения этого акта любезности молодую знатную польку, которая была замужем за стариком. Неизвестно, какой способ употребил Мюрат, каковы были его обещания, но в конце концов он добился того, что она согласилась на все условия и даже на то, чтобы отправиться однажды вечером в замок, расположенный неподалеку от Варшавы, где остановился император.
Вот, наконец, эта прелестная особа отправляется в путь и прибывает довольно поздно в место назначения. Она сама рассказывала об этом приключении, признаваясь (чему, конечно, нетрудно верить), что приехала взволнованная и дрожащая. Император сидел в своем кабинете. Ему докладывают о прибывшей. Не беспокоя себя, он велит проводить ее в комнату, для нее предназначенную; велит предложить ей ванну и ужин и прибавляет, что после этого она может ложиться спать. Сам он продолжает заниматься до глубокой ночи.
Наконец, когда все дела его закончены, он направляется в комнату, где его так долго ждали как господина, который пренебрегает излишними приготовлениями. Затем, не теряя ни минуты, он начинает самый необыкновенный разговор о политическом положении Польши, расспрашивая молодую женщину так, как сделал бы это с полицейским агентом, собирая самые обстоятельные сведения о всех польских вельможах, находящихся в то время в Варшаве. Он тщательно расспрашивает об их взглядах, об их интересах в данное время и долго продолжает этот странный допрос.
Можно представить себе удивление молодой двадцатилетней женщины, которая совсем не приготовилась к подобному дебюту. Она постаралась по мере сил удовлетворить его, и только тогда, когда ей нечего было больше говорить, он, казалось, вспомнил, что по крайней мере Мюрат обещал ей от его имени гораздо более нежные слова.
Как бы там ни было, известно, что этот способ действий не помешал молодой польке привязаться к нему, так как связь эта продолжалась в течение нескольких кампаний Наполеона.
Впоследствии она приехала в Париж, и там у нее родился сын, предмет надежд поляков, которые возлагали на него упования относительно своей будущей независимости… Я видела мать, представленную к императорскому двору. Сначала она возбуждала ревность госпожи Бонапарт, а после развода стала, наоборот, в Мальмезоне довольно близкой подругой отвергнутой императрицы, к которой часто приводила своего сына.
Уверяли, что, оставшись верной императору и в несчастий, она не раз посещала его на острове Эльба; он нашел ее во Франции и тогда, когда совершилось его последнее роковое появление. Но после его вторичного падения (я не знаю, когда она овдовела) полька вышла замуж и умерла в Париже в том же 1818 году. Я знаю все эти подробности от Талейрана.
Но вернемся к начатой характеристике. Бонапарт был очень большим индивидуалистом, его нелегко было тронуть тем, что лично его не касалось. Однако порой и он бывал застигнут некоторыми порывами чувствительности, но они всегда быстро проходили и сильно раздражали его. Нередко он бывал так взволнован, что проливал даже слезы, – кажется, они были результатом нервного возбуждения, и тогда наступал кризис. «У меня, – говорил он сам, – крайне несговорчивые нервы, и, если бы кровь не текла всегда так медленно в моих жилах, я рисковал бы сойти с ума». Я знаю, в самом деле, от Корвисара[13], что в его артериях кровь пульсировала медленнее, чем у других людей. Бонапарт никогда не испытывал того, что называется обыкновенно головокружением, он говорил, что даже не может понять выражения: «У меня голова кружится».
Бонапарт часто давал волю жестоким и оскорбительным по отношению к собеседнику словам, и не только потому, что был крайне снисходителен к малейшим своим побуждениям, – казалось, он находил удовольствие в том, чтобы запугивать и оскорблять тех, кто до известной степени дрожал перед ним. Он думал, что тревога возбуждает рвение, и поэтому старался всегда казаться всем и всеми недовольным. Ему прекрасно служили, повиновались ему мгновенно, и, однако, он постоянно жаловался и охотно допускал, чтобы в личной части его дворца царил легкий и мелочный страх.
Если в увлечении разговором с ним вдруг устанавливалась хотя бы на минуту некоторая непринужденность, сразу становилось заметно, что он боится, как бы не злоупотребили ею; тогда резким и высокомерным словом он быстро возвращал на место, т. е. к обычному страху, того, с кем только что был ласков и приветлив.
По-видимому, Бонапарт ненавидел всякий отдых – и для себя, и для других. Когда господин Ремюза устраивал для него великолепные празднества, где были собраны все искусства, чтобы доставить ему удовольствие, я даже никогда не спрашивала, доволен ли император, а только – не много ли он ворчал.
Служить ему было самым тяжким делом в мире; ему самому случалось говорить, в минуту наибольшей откровенности: «Истинно счастлив только тот, кто прячется от меня в самой глубине провинций; когда я умру, весь мир облегченно скажет: уф!»
Я уже говорила, что Бонапарт был чужд какого-либо великодушия, а между тем дары его бывали неисчислимы, награды, раздаваемые им, – огромны. Но когда он платил за услугу, то слишком сильно давал почувствовать, что рассчитывает этим купить себе новую, и все оставались в смутной тревоге по поводу условий торга.
Иногда в его щедрости бывало много фантазии, и редко его благодеяния вызывали признательность. Впрочем, он требовал, чтобы деньги, которые он раздавал, были истрачены; любил, чтобы делали долги, так как это поддерживало зависимость от него. Его жена давала ему самое полное удовлетворение в этом отношении, и он никогда не желал привести в порядок ее дела, чтобы сохранить способ держать ее в вечной тревоге.
Однажды он назначил Ремюза большое содержание, требуя, чтобы у нас было то, что называется открытым домом, и собиралось много иностранцев. Мы сделали все те расходы, которых требует такой дом. Вскоре я перенесла большое несчастье – потеряла мать – и вынуждена была прекратить приемы. Тогда вдруг император отнимает у нас все свои дары, потому что, говорит он, мы не выполнили данные обещания. Он оставил нас самым безжалостным образом в стесненном положении, в которое нас вовлекли исключительно его мимолетные и стеснительные щедроты.
Здесь мне приходится остановиться. Если мне удастся выполнить задуманный план, я, постепенно обращаясь к своей памяти, приведу и другие рассказы, которые дополнят этот беглый эскиз. Он должен бы дать хоть некоторое понятие о характере того человека, с которым судьба связала меня в лучшие годы моей жизни.
Мать Бонапарта
Госпожа Бонапарт, мать Наполеона (урожденная Рамолино), вышла замуж четырнадцати лет в 1764 году за Карла Бонапарта, семья которого была записана в ряды дворянских фамилий Корсики. Говорили, что у нее была связь с де Марбефом, губернатором этого острова, и будто бы даже Наполеон был плодом этой связи. В самом деле, у него всегда были какие-то отношения с семьей Марбеф. Как бы там ни было, губернатор признал Наполеона Бонапарта в числе тех дворянских детей, которые были посланы из Корсики во Францию, чтобы воспитываться в военной школе. Он был помещен в школу в Бриенне.
Когда англичане овладели Корсикой в 1793 году, госпожа Бонапарт, богатая вдова, переселилась с другими детьми в Марсель. Воспитание детей было в большом пренебрежении; если верить воспоминаниям марсельцев, на дочерях ее не отразились принципы слишком строгой морали. Император никогда не мог простить Марселю того, что город этот был свидетелем недостатка уважения по отношению к его родным, и неприятные анекдоты, неосторожно рассказанные некоторыми провансальцами, постоянно вредили в глазах императора интересам всего Прованса.
На время воспитания сына госпожа Бонапарт поселилась в Париже. Она жила довольно замкнуто, накапливая деньги по мере возможности, но не вмешивалась ни в какие дела и не старалась оказывать влияния. Ее сын импонировал ей, как и всем на свете. Это была женщина очень посредственного ума; несмотря на высоту, на которую вознесли ее события, она так и не подала повода ни к каким похвалам. После падения Наполеона она удалилась в Рим, где и поселилась со своим братом, кардиналом Фешем.
О нем говорят, что во время первой итальянской кампании он с крайней алчностью воспользовался обстоятельствами, чтобы создать себе состояние. Феш получил, или даже, как говорят, захватил, огромное количество картин, статуй и драгоценностей, которые служили украшением различных его резиденций. Позднее, когда он сделался архиепископом Лиона и кардиналом, то сумел понять, какие обязанности налагают на него эти два сана, и в конце концов приобрел среди духовенства довольно почетную репутацию. Иногда, когда происходили столкновения с папой, он возражал императору и оказывал немалое сопротивление исполнению его желаний со времени неудачной попытки с церковным Парижским собором. Может быть, из-за политических мотивов, а может быть, по мотивам религиозным, он несколько противился разводу, по крайней мере Жозефина Бонапарт так думала. Далее я несколько подробнее остановлюсь на этом вопросе.
Жозеф Бонапарт
Жозеф, родившийся в 1768 году, красивый и благосклонный к женщинам, всегда отличался более мягкими манерами, чем все его братья, но, подобно им, также склонен был к фальши. Иногда он проявлял честолюбие; конечно, не так резко, как Наполеон, но ум его обыкновенно не оказывался на высоте тех положений, действительно трудных, в которые он бывал поставлен.
В 1805 году Бонапарт хотел сделать Жозефа королем Италии, при условии, чтобы он отрекся от прав на французский престол, но Жозеф отказался. Он обнаруживал всегда необыкновенную настойчивость в сохранении того, что считал своим правом. Ему казалось, что его призвание – дать отдохнуть французам от того вечного беспокойства, в которое вовлекала их деятельность брата. Ему лучше, чем Наполеону, удавалось достигать успеха мягкими средствами, но он не умел внушать доверия.
Жозеф был покладист в частной жизни, но так и не проявил способностей на тронах Неаполя и Испании. Правда, ему было дозволено царствовать только в качестве лейтенанта Наполеона. В обеих странах он не внушил ни уважения, ни вражды, которые относились бы лично к нему. Жена его, дочь марсельского негоцианта по фамилии Клари, была самым простым и добрейшим существом в мире. Некрасивая, худая, застенчивая и молчаливая, она не играла никакой роли ни при дворе императора, ни тогда, когда ей пришлось носить одну за другой две короны, которые она потеряла, по всей вероятности, без сожаления. От этого брака родились две дочери. Вся семья устроилась теперь в Северной Америке.
Сестра жены Жозефа вышла замуж за генерала Берна-дотта, ныне короля Швеции.
В ее характере была некоторая оригинальность; до своего замужества она была охвачена очень сильным чувством по отношению к Наполеону, о котором, кажется, сохранила воспоминание на всю жизнь. Предполагают, что остаток этой не вполне погасшей страсти был причиной ее упорного отказа покинуть Францию. Сейчас она живет в Париже, совершенно инкогнито.
Люсьен Бонапарт
Люсьен Бонапарт был очень умен. У него рано развилась любовь к искусствам и известной литературе. Когда он был депутатом от Корсики, некоторые речи его в Совете пятисот обратили на себя внимание; между прочими речь, произнесенная 22 сентября 1798 года, в годовщину установления республики. Он провозгласил в ней пожелание, какое должен был сделать каждый из членов собрания, – сохранить основы конституции и свободу, – и произнес жестокую анафему всякому французу, который попытается восстановить монархию.
Генерал Журдан выразил тогда некоторые опасения по поводу распространившихся слухов о том, что Совету в скором времени угрожает переворот. Люсьен напомнил, что существует декрет, объявляющий вне закона всякого, кто осмелится нарушить неприкосновенность народного представительства. Тем не менее очень вероятно, что, уговорившись с братом, он выжидал момент, когда они могли бы заложить основы для возвышения своей семьи. У Люсьена были некоторые конституционные идеи, и, быть может, если бы он сохранил свое влияние на брата, то помешал бы безграничному росту произвола последнего.
Между тем ему удалось доставить Наполеону в Египет вести о положении дел во Франции и ускорить его возвращение. Он также много помогал ему, как всем известно, в перевороте 18-го брюмера 1799 года. С этого времени Люсьен становится сначала министром внутренних дел, затем посланником в Испании и повсюду является предметом подозрений Первого консула. Бонапарт не любил воспоминаний об услугах, оказанных ему, а Люсьен имел обыкновение с раздражением напоминать о них в их частых ссорах.
Во время пребывания в Испании он близко сошелся с князем Мира[14] и участвовал в Бадахосском трактате, который на этот раз спас Португалию от вторжения. Люсьен Бонапарт получил в награду значительные суммы денег и бриллианты, которые оценены в 500 миллионов. У него возник проект женить Наполеона на испанской инфанте, но Наполеон, из любви к жене или боясь подозрений со стороны республиканцев, которых еще щадил, отверг эту идею.
В 1790 году Люсьен женился на дочери трактирщика, которая подарила ему двух дочерей и через несколько лет умерла. Старшая из этих дочерей позднее была призвана во Францию императором. Увидев, что дела в Испании идут плохо, император хотел заключить мир с наследником престола принцем Астурии и женить его на старшей дочери Люсьена. Но Шарлотта, живя у бабушки, слишком откровенно написала отцу о впечатлениях, полученных ею при дворе дяди. Она насмехалась над самыми видными лицами; письма ее были распечатаны, и разгневанный император отослал ее в Италию.
В 1803 году Люсьен, овдовевший и предававшийся ухаживаниям, которые могли бы быть названы и несколько иначе, влюбился в мадам Жубертон, жену биржевого маклера, который был послан в Сан-Доминго, где и умер. Мадам Жубертон, красивая и ловкая женщина, сумела женить на себе Люсьена, несмотря на протесты Первого консула. Тогда несогласие двух братьев превратилось в полный разрыв, и Люсьен покинул Францию весной 1804 года. Он поселился в Риме.
Известно, что он сумел войти в интересы папы и ловко снискать его покровительство, и все это так удачно, что, уже после того, как он был призван во Францию во время роковой попытки 1815 года и после вторичного возвращения короля, Люсьен опять приехал в Папскую область и мог спокойно устроиться с частью своей семьи.
Луи Бонапарт
Луи Бонапарт, родившийся в 1778 году, – человек, о котором сложились самые разнообразные мнения. Какое-то лицемерие, чтобы казаться добродетельным человеком, и странные взгляды, опирающиеся, однако, скорее на случайные теории, чем на стойкие принципы, вводили многих в заблуждение и создали ему иную репутацию, чем его братьям.
По уму он был гораздо ниже Наполеона и Люсьена, в его воображении всегда присутствовало что-то романическое, что он умел, однако, соединить с полной сухостью сердца. Всегдашняя болезненность омрачила его юность и усилила острую тоску, к которой Луи был склонен по характеру.
Я не знаю, развилось бы в нем честолюбие, свойственное всей его семье, если б он был предоставлен самому себе, но во многих случаях он не упускал возможности воспользоваться благоприятными обстоятельствами.
Известно, что ему хотелось управлять Голландией в интересах страны, наперекор желаниям брата, и его отречение, скорее по капризу, чем из великодушия, все же делало ему честь. В сущности, это был лучший поступок его жизни.
Бонапарт однажды сказал о нем: «Его притворные добродетели создают мне столько же затруднений, сколько и пороки Люсьена». После падения семьи Луи удалился в Рим.
Луи Бонапарт был по натуре эгоистом и человеком подозрительным. Продолжение этих мемуаров лучше познакомит с ним читателя.
Жозефина Бонапарт и ее семья
Маркиз Богарне, отец генерала Богарне, первого мужа госпожи Бонапарт, занимал военную должность на Мартинике. Там он влюбился в тетку госпожи Бонапарт, с которой возвратился во Францию и на которой женился в старости. Эта тетка вызвала во Францию свою племянницу, Жозефину де ля Пажери. Она воспитала ее и, воспользовавшись своим влиянием на старого мужа, пятнадцати лет выдала замуж за своего пасынка, молодого Богарне. Он женился против воли, однако, надо думать, все же испытывал некоторую привязанность к жене: мне приходилось читать очень нежные письма, которые он писал ей из гарнизона и которые она тщательно хранила.
От этого брака родились Евгений и Гортензия. Когда началась революция, по-видимому, чувства супругов уже охладели. В начале террора Богарне командовал французской армией; все отношения с женой были уже прерваны.
Я не знаю, какие обстоятельства связали ее с некоторыми членами Конвента, но она пользовалась среди них известным влиянием, а так как была добра и любезна, то старалась оказывать услуги, насколько это было в ее власти. С этих пор репутация Жозефины была сильно скомпрометирована, но никто не оспаривал ее доброты, изящества и мягкости манер.
Несколько раз она оказала услуги моему отцу перед Баррасом и Тальеном, влиятельными членами левого крыла Конвента, и это сблизило ее с моей матерью. В 1793 году она случайно поселилась в деревне в окрестностях Парижа, где наша семья проводила лето. Это деревенское соседство привело к еще большему сближению. Я помню, как юная Гортензия, которая была моложе меня на три или четыре года, приходила ко мне в гости; заходя в мою комнату, она забавлялась тем, что составляла инвентарь некоторых моих драгоценностей, и говорила, что ее честолюбие было бы вполне удовлетворено в будущем, если бы она обладала такими сокровищами. Эта несчастная женщина впоследствии была обременена и украшениями, и бриллиантами, и как же страдала она под тяжестью алмазной диадемы, готовой, казалось, раздавить ее!
В те времена, когда каждый должен был искать убежища, чтобы избежать преследований, мы потеряли из виду госпожу Богарне. Муж ее, возбудивший подозрения якобинцев, был заключен в тюрьму в Париже и приговорен революционным трибуналом к смертной казни. Госпожа Богарне, также попавшая в тюрьму, избежала секиры, поражавшей всех без различия. Связанная дружбой с красавицей Тальен, она была принята в общество Директории и находилась под особым покровительством Барраса.
Госпожа Богарне не была состоятельна, а любовь к туалетам и роскоши ставила ее в зависимость от тех, кто мог ей помочь. Хотя она не может быть названа красивой, но во всем ее существе присутствовало какое-то своеобразное очарование. Черты лица ее были тонки и гармоничны, во взгляде было много мягкости; маленький рот хорошо скрывал плохие зубы; цвет лица, несколько смуглый, неясно скрывали румяна и белила, фигура была безукоризненна, все члены гибки и нежны; все ее движения были непринужденны и изящны. К ней вполне применим стих Лафонтена: «Грация, которая прекраснее красоты».
Она одевалась с необыкновенным вкусом: все, что она носила, выигрывало на ней. Благодаря этим преимуществам и изысканности костюма, ее никогда не могли затмить ни красота, ни молодость многих женщин, ее окружавших.
Ко всему этому надо добавить, как я уже говорила, ее необыкновенную доброту, доброжелательность и способность забывать зло, которое ей желали причинить. Жозефина не обладала выдающимся умом. Креолка и притом кокетка, она получила плохое воспитание; сознавала, чего ей недостает, и никогда не выдавала в разговоре недостатка своего образования. У нее был довольно тонкий врожденный такт, ей легко удавалось говорить людям то, что нравилось; она обладала хорошей памятью – полезным качеством для лиц высокопоставленных.
К несчастью, ей недоставало серьезности в чувствах и возвышенности души. Она предпочитала влиять на мужа больше своей прелестью, чем добродетелью. В своей снисходительности к нему она доходила до крайности и только благодаря ей сохраняла свое влияние; но эта же снисходительность способствовала укреплению в нем презрения к женщинам. Иногда Жозефина могла бы дать ему полезный урок, но она боялась его и, напротив, сама находилась под его влиянием. Притом же она была легкомысленна, изменчива, склонна легко волноваться и легко успокаиваться, неспособна на глубокие чувства, на сосредоточенное внимание или серьезное размышление; если величие не вскружило ей голову, то ничему и не научило. Натура влекла ее к тому, чтобы утешать несчастных, но она обращала внимание только на страдания частных лиц и никогда не думала о страданиях Франции.
Ей весьма импонировал гений Бонапарта: если она и осуждала его, то только в том, что касалось ее лично, а во всем остальном уважала то, что он сам называл своей судьбой. Он оказал на Жозефину пагубное влияние, так как внушил ей презрение к известной морали, довольно большую подозрительность и привычку ко лжи, к которой оба они искусно прибегали.
Говорили, что она стала наградой за командование Итальянской армией; госпожа Богарне уверяла меня, что в то время Бонапарт был действительно влюблен в нее. Она колебалась, кого выбрать: Бонапарта, генерала Гоша или Коленкура, который также любил ее. Превосходство Бонапарта увлекло ее. Я знаю, что моя мать, жившая тогда в деревне, удивилась, что вдова генерала Богарне вышла замуж за человека, так мало известного.
Когда я расспрашивала ее о личности Бонапарта в юности, она рассказывала, что он был тогда мечтательным, молчаливым, застенчивым с женщинами, но страстным и способным увлечь, хотя несколько странным во всей своей личности. Путешествию в Египет она приписывала перемену его настроения, развитие постоянного деспотизма, от которого она с тех пор так страдала.
Я видела письма Наполеона к госпоже Бонапарт во время первой кампании в Италию. Она последовала за ним; но иногда он оставлял ее в арьергарде армии до тех пор, пока путь не становился безопасным благодаря его победам. Эти письма очень своеобразны: крайне неразборчивый почерк, ошибки, странный и запутанный стиль. Но в них царят такой страстный тон, такие сильные чувства, такие горячие и вместе с тем поэтические выражения, что каждая женщина ценила бы подобные излияния. Они представляли собой пикантный контраст с ровным и спокойным изяществом писем госпожи Богарне.
К тому же, какое положение для женщины (в эпоху, когда политика руководила всеми поступками человека) – быть как бы стимулом триумфального шествия целой армии! Накануне одной из главных битв Наполеон писал: «Я далек от тебя! Кажется, будто я попал в самую густую тьму, мне необходим роковой свет тех молний, которыми мы ударим во врагов, чтобы выйти из темноты, куда ввергло меня твое отсутствие. Жозефина, ты плакала, когда я покидал тебя. Ты плакала! При этой мысли все мое существо содрогается, но успокойся: Вюрмсер дорого заплатит за слезы, которые ты пролила». И на другой день Вюрмсер был разбит.
Энтузиазм, с которым генерал Бонапарт был встречен в прекрасной Италии, великолепные празднества, гром побед, богатства тех сокровищ, которые мог получить каждый офицер, беспредельная роскошь, которая за этим последовала, – все это приучило госпожу Бонапарт к пышности, ее с тех пор окружавшей. Она сама признавалась, что никогда и ничто не могло сравниться с теми впечатлениями, которые сохранись у нее от той эпохи, когда любовь ежедневно складывала к ее ногам победу над народом, опьяненным своим победителем.
Однако из этих же писем можно заключить, что, несмотря на престиж любви и славы, в то время, когда жизнь ее была полна триумфов и своеволия, госпожа Бонапарт иногда доставляла тревоги своему супругу-победителю. Письма выдают волнения ревности, порой смутной, порой угрожающей. Тогда у Бонапарта появляются меланхолические рассуждения, возникает как будто бы отвращение от столь преходящих иллюзий жизни. Быть может, это недовольство, оскорбляющее слишком горячее первое чувство, оказало на него влияние, которое понемногу его иссушило. Быть может, он сам был бы лучше, если бы его больше, а главное, лучше любили.
Когда же по окончании этой блестящей кампании генерал-победитель должен был удалиться в Египет, чтобы ускользнуть от подозрений со стороны Директории, положение госпожи Бонапарт сделалось непрочным и затруднительным. Супруг ее уехал с некоторыми подозрениями против нее, которые возбуждали в нем Жозеф и Люсьен: они боялись того влияния, какое могла оказывать на Бонапарта его жена. Госпожа Бонапарт, покинутая, лишенная сына, последовавшего за Бонапартом, склонная к беспорядочным тратам, страдающая из-за долгов, сблизилась с Баррасом с помощью своего друга, госпожи Тальен, и искала опоры у директоров, особенно у Ревбеля.
Бонапарт, уезжая, приказал ей купить имение. Соседство Сен-Жермена, где воспитывалась ее дочь, склонило Жозефину в пользу Мальмезона. Здесь-то мы и встретились с ней опять, так как жили несколько месяцев в замке одного из наших друзей[15], расположенном вблизи приобретенного ею. Госпожа Бонапарт, по природе экспансивная и даже порой слишком откровенная, как только встретилась с моей матерью, рассказала ей очень многое относительно своего отсутствующего мужа, его братьев и о целом ряде лиц, которых мы совершенно не знали. Бонапарта считали чуть ли не погибшим для Франции; на жену его не обращали никакого внимания; мать моя жалела ее, мы проявили по отношению к ней некоторую заботу, которой она никогда не забыла. В это время мне было семнадцать лет, и я уже год была замужем.
В Мальмезоне Жозефина показала нам баснословное количество жемчугов, бриллиантов и камней, которые с тех пор входили в состав ее драгоценностей; уже в то время они заслуживали того, чтобы фигурировать в сказках «Тысячи и одной ночи», а со временем их количество еще более увеличилось. Завоеванная, но благодарная Италия содействовала увеличению этих сокровищ, а особенно папа, тронутый вниманием, какое оказал ему победитель, отказавший себе в удовольствии водрузить знамя на стенах Рима. Салоны в Мальмезоне были роскошно декорированы картинами, статуями, мозаиками, награбленными в Италии; притом надо заметить, что подобной добычей мог бы похвастаться каждый из генералов, фигурировавших в кампании.
Но наряду со всей этой роскошью госпожа Бонапарт иногда не в состоянии была оплатить малейшие свои расходы и для того, чтобы выйти из затруднения, старалась продавать свое влияние на людей, могущественных в ту эпоху. Таким образом, она компрометировала себя неосторожными отношениями. Терзаемая заботами, находясь в особенно плохих отношениях со своими деверями, придавая слишком большое значение их обвинениям против нее, не рассчитывая больше на возвращение супруга, она хотела было выдать свою дочь замуж за сына директора Ревбеля. Но эта молодая особа не согласилась на брак и своим протестом разрушила проект, который, конечно, очень не понравился бы Бонапарту.
Между тем разносятся слухи о прибытии Бонапарта во Фрежюс. Он возвратился с душой, истерзанной донесениями, которые ему делал Люсьен в своих письмах. Как только жена его узнает о прибытии мужа, она садится в почтовую карету, чтобы встретить его. Опаздывает, возвращается назад в свой дом на улице Шантерен через несколько часов после него. Поспешно высаживается из экипажа в сопровождении сына и дочери, которые ее встретили, поднимается по лестнице в свою комнату; но каково же ее изумление, когда она видит дверь запертой! Она зовет Бонапарта, настаивает, чтобы он отворил. Он отвечает ей из-за двери, что она не откроется для нее. Тогда Жозефина плачет, падает на колени, умоляет ради нее и ради своих детей; но все безмолвно кругом.
Значительная часть ночи проходит в этих ужасных мучениях. Наконец, побежденный ее криками и настойчивостью, около четырех часов ночи Бонапарт открывает дверь и показывается с лицом строгим, но свидетельствующим о том, что он много плакал, – я знаю это от самой госпожи Бонапарт. Он горько упрекает жену за ее поведение, за забвение, за все ее вины, действительные или вымышленные, которыми так изобиловали рассказы Люсьена. И кончает тем, что объявляет ей решение разойтись навеки. Обернувшись к Евгению Богарне, которому было тогда около двадцати лет, Бонапарт говорит ему: «Что же касается вас, то на вас не падает тяжесть вины вашей матери. Вы всегда будете моим сыном и останетесь со мной». – «Нет, генерал, – отвечает Евгений, – я должен разделить печальную судьбу моей матери и с этой минуты расстаюсь с вами».
Эти слова поколебали твердость Бонапарта. Рыдая, он заключил Евгения в объятия, жена и Гортензия обняли его колени, и вскоре все было прощено. Объясняясь, Жозефина сумела оправдаться в гнусных обвинениях деверя, и Бонапарт, желая отомстить за нее, послал за Люсьеном в семь часов утра. Не предупреждая его, он велел проводить брата в комнату, где тот застал супругов, совершенно примиренных, в объятиях друг друга.
С этих пор Бонапарт потребовал, чтобы жена его совершенно порвала с госпожой Тальен и со всем обществом Директории. 18-го брюмера еще решительнее уничтожило эти отношения. Госпожа Бонапарт рассказала мне, что накануне этого важного дня она с изумлением увидела, как Бонапарт зарядил два пистолета и положил их около кровати. Отвечая на ее вопросы, он сказал, что ночью могут произойти события, ради которых и необходимы подобные предосторожности. Сказав это, он лег и заснул глубоким сном до следующего утра.
Став консулом, Бонапарт воспользовался мягкостью и любезностью своей жены, чтобы привлечь ко двору тех, кого отпугивала его природная суровость. Он предоставил ей заботы о возвращении эмигрантов. Почти все возвращения прошли через руки госпожи Бонапарт; она явилась первым звеном, которое сблизило французское дворянство с правительством Консульства. Мы подробнее познакомимся с этим во многих главах далее.
Евгений Богарне, родившийся в 1781 году, прошел через все периоды своей порой бурной, порой блестящей жизни, всегда сохраняя право на всеобщее уважение. Его поведение доказало, что не широта ума придает уверенность поступкам и согласует их между собой, а известная гармония в свойствах характера.
Принц Евгений, порой находясь в армии со своим отцом, а порой живя среди праздного и утонченного общества матери, говоря правду, не получил никакого воспитания. Природный инстинкт, который направлял его на все прямое, правдивое, школа Бонапарта, которая отшлифовала его, не сбивая с дороги, наконец, и школа жизни – вот что воспитало его. Госпожа Бонапарт неспособна была дать решительный совет; и сын, который очень любил ее, рано заметил, что никогда не должен с ней советоваться. Существуют характеры, которые по природе склонны к рассудительности.
Наружность принца Евгения была не лишена приятности. У него изящная манера держать себя; очень ловкий во всех физических упражнениях, он получил от отца первые уроки той обходительности, которая была свойственна французскому дворянину прежних времен. Он присоединил к этим качествам простоту и добродушие; у него нет ни тщеславия, ни высокомерия, он искренен без болтливости, молчалив, когда следует, но у него мало природного ума, сдержанное воображение, некоторая сухость сердца. Он всегда повиновался своему отчиму, ценил его совершенно, но, хотя не отдавался никаким иллюзиям на его счет, не колеблясь, даже вопреки своим интересам, хранил по отношению к нему как бы религиозную верность. Ни в одном случае не проявил он ни малейшего признака недовольства: как тогда, когда император, осыпая почестями свою собственную семью, казалось, нарочно забывал его, так и тогда, когда он отверг его мать. Во время развода Евгений держался очень благородно.
Будучи полковником, Евгений заслужил любовь своих солдат. Его отмечали в Италии, в армии, повсюду. Правители Европы уважали его, и все с удовольствием видели, что его счастливая судьба оказалась прочнее, чем судьба всей его семьи.
Он имел счастье жениться на очаровательной принцессе, которая всегда обожала его и которую он сделал счастливой[16]. В нем удачно сочеталось все то, что создает счастье в частной жизни: ровность настроения, мягкость, естественная и постоянная веселость. Может быть, все это несколько объясняется и тем, что ничто его глубоко не трогало. Но если подобного рода индифферентность по отношению ко всему, что интересует других, сохраняется и тогда, когда нас постигают личные несчастья, – ее можно назвать философским отношением к жизни.
Сестра принца Евгения, которая моложе его на несколько лет (родилась в 1783 году), была, кажется, самой несчастной женщиной эпохи и менее всего этого заслуживающей. Она была недостойно оклеветана ненавистью Бонапарта, осыпана обвинениями, которые так охотно прилагали ко всему, что касалось ее семьи, и не оказалась достаточно сильной, чтобы с успехом бороться и протестовать против лжи, которая омрачила ее жизнь[17].
Гортензия не отличалась, так же, как мать ее и брат, выдающимся умом, но, подобно им, обладала тактом, а в душе ее было больше чего-то возвышенного, или, если угодно, более экзальтированного.
Предоставленная в молодости самой себе, она не поддалась опасным примерам, которые видела вокруг себя.
В элегантном пансионе госпожи Кампан она проявила больше талантливости, чем приобрела образования.
В молодости большая свежесть, прелестного цвета волосы, прекрасная фигура делали ее привлекательной; но зубы ее рано испортились, а болезнь и горе изменили ее черты.
Природные наклонности влекли Гортензию к добродетели, но она совершенно не знала света, была чужда той морали, которая применяется к обычаям общества, была чиста и воздержанна только для себя, предана идеальным воззрениям, почерпнутым из сферы, ею же самой созданной. Она не сумела связать свою жизнь с теми общественными условностями, которые не охраняют добродетели женщин, но, будучи строго выполнены, доставляют им поддержку, без которой в свете нельзя обойтись и которую не заменишь спокойной совестью. Ведь среди мужчин недостаточно быть добродетельной, чтобы и казаться добродетельной, надо вести себя согласно правилам, ими же установленным.
Госпожа Луи Бонапарт в борьбе с трудными обстоятельствами всегда оставалась без руководства; она прекрасно понимала свою мать и не решалась довериться ей. Строгая в принципах, созданных ею самой, или, если угодно, в чувствах, созданных ее воображением, она сначала была поражена теми отступлениями от морали, которые открыла у окружавших ее женщин, а затем удивилась еще больше, видя, что эти отступления не всегда были результатами влечений сердца. Ей пришлось зависеть от тирана-мужа, быть безропотной и робкой жертвой постоянных и угрожающих преследований; душа ее омрачилась под тяжестью страданий. Она отдалась им, не смея жаловаться, но если бы ей даже пришлось умереть от них, трудно было бы о них догадаться.
Я видела ее вблизи, знала все ее интимные тайны, и мне она всегда казалась самой чистой и самой несчастной женщиной в мире. Единственным ее утешением была нежная привязанность к брату. Она наслаждалась его счастьем, успехами, его приветливым настроением. Как часто я слышала из ее уст трогательные слова: «Я живу только жизнью Евгения».
Гортензия отказала сыну Ревбеля, но этот благоразумный отказ был результатом одного заблуждения: она с ранней юности была уверена в том, что женщина, желающая быть благоразумной и счастливой, должна выйти замуж только за страстно любимого человека. Несколько позднее она противилась желанию матери выдать ее за графа де Мэна, ныне пэра Франции.
Граф де Мэн эмигрировал, но госпожа Бонапарт добилась его возвращения. Он вернул себе свое значительное состояние и просил руки мадемуазель Богарне. Бонапарт, тогда уже Первый консул, был мало склонен к этому браку, но госпожа Бонапарт добилась бы его, если бы не упорное сопротивление дочери. Она услышала, что граф де Мэн был в Германии влюблен в госпожу де Сталь, а эта знаменитая женщина представлялась в воображении молодой девушки каким-то странным чудовищем. Граф де Мэн сделался ей ненавистным и таким образом избежал блестящей судьбы и последовавшего затем грандиозного падения. Действительно, странная игра рока – стать принцем, быть может, даже королем, а затем королем развенчанным.
Несколько позднее в Гортензию влюбился Дюрок, в то время флигель-адъютант консула, который уже отличал его. Это чувство тронуло Гортензию, ей показалось, что она нашла ту половину себя, которую искала. Бонапарт благосклонно отнесся к их браку, но тут была неумолима, в свою очередь, Жозефина. «Необходимо, – говорила она, – чтобы дочь моя вышла или за дворянина, или за Бонапарта».
Тогда подумали о Луи. Он нисколько не был пленен Гортензией, терпеть не мог всех Богарне и совершенно презирал свою невесту. Но он был молчалив, – его сочли мягким; он казался строгим, – не сомневались в его честности. Госпожа Луи Бонапарт говорила мне, что при известии об этой комбинации она испытала сильное горе: ей не только запрещали думать о любимом человеке, но ее отдавали за другого, к кому она чувствовала тайное недоверие. Однако этот брак удовлетворял ее мать: он должен был скрепить семейные узы, он мог послужить к возвышению ее брата. И Гортензия покорилась как безропотная жертва, и даже сделала еще большее. Ее воображение было настроено на те обязанности, которые она себе предначертала, так же, как и самые мельчайшие жертвы по отношению к мужу, которого она, к несчастью, не могла любить. Прямая, но слишком сдержанная, чтобы выражать чувства, которых не испытывала, она была кротка, послушна, уступчива, стараясь понравиться ему, может быть, больше, чем если бы любила его.
Луи Бонапарт, фальшивый и подозрительный, принял внимание жены за упражнение в кокетстве. «Она сначала упражняется надо мной, чтобы обманывать меня», – говорил он. Луи думал, что подобное поведение, которому жена следовала с преувеличенной добродетелью и преданностью, было результатом руководства ее опытной матери. Он отверг внимание, которое ему хотели оказать, и нередко бывал жесток и пренебрежителен. Даже более того: он позволил себе просветить Гортензию насчет слабостей, приписываемых ее матери. Доведя этот рассказ до крайних пределов, он объяснил, что не желает никакой откровенности между своей женой и подобной матерью, и добавил: «Теперь вы носите фамилию Бонапарт; наши интересы должны быть вашими, интересы вашей семьи вас больше не касаются». Это заявление сопровождалось оскорбительными угрозами, опирающимися на презрение к женщинам. Луи заявил, что примет все меры, чтобы «избежать общей судьбы всех мужей», и уверил, что не сделается жертвой ни попыток ускользнуть от него, ни хитростей притворной нежности с целью победить его.
Можно представить себе эффект, который произвела подобная речь на молодую женщину, проникнутую иллюзиями, разочарованную, помимо воли, относительно своей матери. Но Гортензия и тут показала себя покорной супругой, и в течение долгих лет только грусть и угасавшее здоровье выдавали ее страдания. Супруг ее, сухой и капризный человек, эгоистичный, как все Бонапарты, снедаемый тяжелой и острой болезнью, которая со времени Египта омрачила его юность[18], не ставил никаких пределов своим требованиям. Так как он боялся брата и ему хотелось вместе с тем держать свою жену вдали от Сен-Клу, он требовал, чтобы она исполняла его волю – показывалась там очень редко и никогда не ночевала, несмотря на настояние матери.
Госпожа Луи Бонапарт ожидала ребенка вскоре после свадьбы. Бонапарты, и особенно госпожа Мюрат[19], смотрели на этот брак с досадой, так как Жозеф имел только дочерей, и они предвидели, что первый сын Луи, внук госпожи Бонапарт, будет предметом большого внимания. Поэтому они распространили оскорбительный слух, что эта беременность была результатом связи Первого консула с падчерицей, связи, будто бы поощряемой самой матерью. Публика охотно подхватила это подозрение. Госпожа Мюрат рассказала об этом Луи, и тот, поверив или нет, воспользовался слухом для того, чтобы увеличить и оправдать свой надзор.
Рассказ о его тирании по отношению к жене слишком далеко заведет меня, я возвращусь к нему позднее. Шпионство, предписанное лакеям, распечатывание всех писем, запрещение какой бы то ни было близости, ревность по отношению к самому Евгению, бесконечные сцены – все было применено. Первый консул легко заметил этот разлад, но ему было приятно молчание Гортензии, которое доставляло удобный случай не вмешиваться в их дела. Он, не уважавший женщин, всегда подчеркивал свое уважение к Гортензии, а способ говорить о ней и поступать по отношению к ней опровергал вполне определенно обвинения, предметом которых ее делали. В ее присутствии его слова всегда были умеренны и приличны. Часто он делал ее судьей между собой и женой и принимал от нее наставления, которых не стал бы терпеливо выслушивать от другой. «Гортензия, – говаривал он порой, – заставляет меня верить в добродетель».
Книга первая
Глава I 1802–1803 годы
Семейные подробности – Мой первый вечер в Сен-Клу – Генерал Моро – Ремюза назначен префектом дворца, я становлюсь придворной дамой – Привычки Первого консула и госпожи Бонапарт – Талейран – Семья Первого консула – Госпожа Жорж и госпожа Дюшенуа – Ревность госпожи Бонапарт
Несмотря на то, что я начинаю этот рассказ в 1818 году, я не буду искать извинений для мотивов, которые привели моего мужа к Бонапарту, нет, я просто их объясню. В политике оправдания ничего не стоят. Некоторые лица, возвратившиеся только три года назад или начавшие принимать участие в политике только с этих пор, разразились чем-то вроде анафемы по отношению к тем из наших сограждан, кто в течение всех последних двадцати лет не держались вдали от событий. Когда им говорят, что не судят о том, были ли они правы или виноваты в своем продолжительном сне, и когда их просят оставаться беспристрастными в подобном же вопросе, они отвергают это соглашение со всей силой преимуществ, какие дает им их настоящее положение; они порицают без всякого великодушия, так как теперь нет никакого риска в том, чтобы толковать об обязанностях и долге.
Однако кто может в эпоху революции похвалиться тем, что всегда шел правильным путем? Кто из нас не должен отнести на долю обстоятельств часть своих поступков?
Кто, наконец, решится бросить первый камень, не боясь, что он упадет обратно на голову того, кто его бросил? Все люди в стране более или менее затронуты ударами, которыми они поражают друг друга, а им бы следовало лучше щадить друг друга, так как они, в сущности, солидарнее, чем им это кажется; и когда один француз без милосердия преследует другого, пусть он остерегается, – почти всегда он дает этим в руки иностранца оружие против обоих.
К тому же в эпоху переворотов немалым злом является горькая критика, одушевленная партийным духом, которая вызывает неизбежное недоверие, а может быть, и презрение к тому, что называется общественным мнением. Столкновения страстей позволяют тогда каждому пренебрегать им. Между тем люди по большей части до такой степени мало живут внутренней жизнью, что у них очень редки случаи обращения к своей совести. В спокойные эпохи для обыкновенных и повседневных поступков совесть довольно удачно заменяется общественным мнением; но каков же способ подчиняться ему, когда оно постоянно способно осудить тебя на смерть? Самый правильный способ – считаться только с совестью, которой нельзя никогда безнаказанно пренебрегать. Совесть моя и моего мужа ни в чем не упрекает нас.
Полная потеря состояния, опыт, сам ход событий, умеренное и законное желание благосостояния привели Ремюза к тому, что в 1802 году он искал какого бы то ни было места. В то время наслаждаться отдыхом, какой доставил Франции Бонапарт, ввериться надеждам, какие позволял он питать, – значило, конечно, ошибаться, но ошибаться вместе со всеми. Верность предвидения – удел очень немногих. А если бы Бонапарт, после своей вторичной женитьбы, сохранил мир и употребил часть армии для защиты границ, кто осмелился бы сомневаться в прочности его могущества и в силе его прав? Бонапарт правил Францией по ее собственному согласию. Это факт, который могут отрицать в наши дни только слепая ненависть и наивная гордость. Он правил для нашего несчастья, но и для нашей славы. Соединение этих двух слов более естественно в известном состоянии общества, чем это думают, по крайней мере, когда речь идет о военной славе.
Когда он достиг консульства, все вздохнули свободно. Сначала он овладел доверием; мало-помалу явились причины для беспокойства, но люди были уже связаны. Наконец, он заставил содрогаться великодушных людей, которые в него верили, и мало-помалу довел истинных граждан до того, что они желали его падения, даже с риском ущерба лично для себя. Вот наша история, моя и господина Ремюза; и в ней нет ничего унизительного.
Никто никогда не узнает, как я страдала в последние годы тирании Бонапарта. Нет никакой возможности изобразить, с каким беспристрастным доверием я желала возвращения короля, который, в моем воображении, должен был вернуть нам покой и свободу. Я предчувствовала все мои личные невзгоды, Ремюза предвидел это еще лучше, чем я; нашими желаниями мы разрушали будущее наших детей, но это будущее, которому надо было принести в жертву благороднейшие чувства, не вызывало у нас жалоб: страдания Франции в то время слишком громко говорили за себя, – позор тем, кто их не слышал!
Как бы там ни было, мы служили Бонапарту, мы даже любили его и восхищались им, из гордости или из ослепления, – мне не трудно признаться в этом. Мне кажется, что никогда не тяжело признаться в истинном чувстве. Я не стыжусь своих тогдашних взглядов, которые противопоставляют взглядам другого времени. Мой ум не таков, чтобы никогда не ошибаться, я знаю: то, что я чувствовала, я чувствовала всегда искренно; этого мне достаточно перед Богом, перед моим сыном, перед друзьями, перед самой собой.
Однако теперь я ставлю себе довольно трудную задачу, потому что должна вернуться после множества сильных и живых впечатлений к той эпохе, когда я их получила; эти впечатления, подобно памятникам, которые находят в полях разбитыми и разрушенными пожаром, не имеют уже ни базы, ни общей связи. В самом деле, что можно представить себе более опустошенного, чем живое воображение в столкновениях с глубокими волнениями, ставшими вдруг совершенно чуждыми? Конечно, было бы благоразумней и особенно удобней присутствовать при событиях только с холодным любопытством; кто не волнуется, тот всегда готов ко всяким переменам. Но никто по собственной воле не может уклониться от страданий. Всякий волен отвернуться, но нельзя не отметить, что взгляд оказался затронут тем, на что пришлось обратить его вследствие стольких непредвиденных обстоятельств.
То, что я наблюдала в течение двадцати лет, убедило меня в одном: из всех человеческих слабостей эгоизм руководит поведением с наибольшим благоразумием. Он нисколько не поражает общество, способное примиряться с тем, что ровно и тускло; он всегда предвидит несогласованность поступков; он довольно легко может прикрываться внешней разумностью для тех, кто видит, как он действует. Однако какое благородное сердце согласилось бы купить свой покой такой ценой? Нет-нет, лучше рисковать быть сильно затронутым, даже потрясенным во всем своем существе. Нужно примириться со случайными суждениями, которые произносятся людьми мимоходом. Какое утешение в словах, которые нужно стараться повторять себе беспрестанно: «Если меня ввели в заблуждение увлекательные ошибки, по крайней мере мной не руководили мои собственные интересы, и если я желал счастья, то только такого, какое не стоило бы ни одного вздоха моей родине».
Начиная эти мемуары, я опишу, насколько возможно коротко, все то, что касалось нас лично до нашего появления при дворе Первого консула. Впоследствии, может быть, мне придется вернуться подробнее к моим впечатлениям. Нельзя ожидать от женщины рассказа о политической жизни Бонапарта. Если он казался таинственным для всех, кто его окружал, таинственным до такой степени, что часто в самых интимных покоях дворца не знали того, о чем узнавали, возвратясь в Париж, то тем более я, столь молодая в течение первых лет жизни в Сен-Клу, могла понять только разрозненные факты – через долгие промежутки времени. Я расскажу по крайней мере о том, что видела, или, как мне казалось, видела, и не моя вина, если эти рассказы будут не всегда так же верны, как искренни.
Мне было двадцать два года, когда я была назначена придворной дамой госпожи Бонапарт. Выйдя замуж шестнадцати лет, я была счастлива до той поры благодаря спокойной жизни, полной привязанностей. Ужасы революции, смерть моего отца под ударами революционной секиры 1794 года, потеря нашего состояния, склонности моей матери, выдающейся женщины, – все это держало меня вдали от света, который я мало знала и в котором нисколько не нуждалась. Вырванная вдруг из этого мирного одиночества, чтобы быть выброшенной на самую странную арену, и не пройдя школы общества, я была сильно поражена таким резким переходом; на моем характере навсегда отразилось впечатление, какое я получила от этого. Близ горячо любимых мужа и матери я привыкла вполне отдаваться порывам сердца, а позднее, вблизи Бонапарта, я приучилась интересоваться только тем, что меня сильно затрагивало. Вся моя жизнь была и останется навсегда чуждой праздности высшего света.
Мать моя воспитывала меня очень заботливо; образование завершил мой муж, культурный и просвещенный человек, который был старше меня на шестнадцать лет. Я была по натуре серьезна, что всегда соединяется у женщин с некоторой склонностью немного увлекаться. Вместе с тем в первое время моей жизни около госпожи Бонапарт и ее супруга я была одушевлена чувством благодарности. Судя по тому, что о них теперь известно и что я раньше писала об их самой интимной стороне, это значило быть готовой ко многим разочарованиям, и, действительно, их было немало.
Я уже говорила о том, каковы были наши отношения с госпожой Бонапарт во время египетской экспедиции. С этих пор мы ее потеряли из виду до того момента, когда моя мать, желавшая выдать замуж мою сестру за одного из наших родственников, возвратившегося тайно и еще считавшегося в списке эмигрантов, обратилась к ней, чтобы добиться от нее возвращения. Дело было вскоре улажено. Госпожа Бонапарт старалась умелой благожелательностью приблизить к своему супругу лиц известного класса, которые были еще настороже по отношению к нему. Она пригласила мою мать и Ремюза прийти однажды вечером к ней, чтобы лично поблагодарить Первого консула. Было немыслимо и думать об отказе.
Итак, однажды вечером мы отправились в Тюильри; это было немногим позже дня, когда Бонапарту показалось необходимым водвориться там [19 февраля 1800 года], того дня, когда, как я это позднее узнала от его жены, он со смехом сказал ей, ложась спать: «Ну, маленькая креолка, иди ложись в постель твоих господ».
Мы нашли Наполеона в большой гостиной в нижнем этаже, – он сидел на диване; около него я увидела генерала Моро, с которым он, по-видимому, вел серьезный разговор. И тот и другой в то время старались жить дружно. Приводили даже очень любезные слова, сказанные Бонапартом в том благожелательном тоне, который был ему мало свойствен. Он заказал пару роскошных пистолетов, на которых золотом были выгравированы все битвы Моро. «Простите, – сказал Бонапарт, подавая их ему, – если они недостаточно украшены: названия ваших побед заняли все свободное место».
В этой гостиной находились министры, генералы, женщины, почти все молодые и красивые: госпожа Луи Бонапарт, госпожа Мюрат, которая только что вышла замуж и показалась мне очаровательной, госпожа Маре[20], в то время необыкновенно прекрасная, – она как раз наносила свой свадебный визит. Госпожа Бонапарт держалась среди этого кружка с очаровательной грацией, она была изысканно одета, во вкусе, который приближался к античному. Это была мода того времени, когда художники имели довольно большое влияние на обычаи общества.
Первый консул встал, чтобы принять наши приветствия, и после нескольких неопределенных слов снова сел, чтобы больше не заниматься дамами, которые находились в салоне. Признаюсь, что в этот раз я была менее занята им, чем роскошью и необыкновенным изяществом, которые сразу же бросились мне в глаза.
С этих пор мы имели обыкновение время от времени появляться в Тюильри. Мало-помалу нам внушили идею, что Ремюза может получить какое-нибудь место, которое помогло бы нам вернуть кое-что из утраченного имущества. Ремюза, бывший до революции магистратом, хотел снова получить видное положение. Боязнь огорчить меня, разлучив с матерью и отдалив от Парижа, привела к тому, что он попросил место в Государственном совете, избегая префектур. Но тогда мы не знали хорошо всего того, что составляет правительство.
Мать моя не раз говорила о нашем положении госпоже Бонапарт. Госпожа Бонапарт мало-помалу начала питать ко мне симпатию, у моего мужа она находила приятные манеры и вдруг возымела идею приблизить нас к себе. Почти в то же время моя сестра, которая не вышла замуж за того родственника, о котором я говорила, обвенчалась с Нансути, бригадным генералом, племянником госпожи Монтессон, очень уважаемым в армии и в обществе. Эта свадьба сблизила нас с консульским правительством, а месяц спустя госпожа Бонапарт предупредила мою мать, что надеется на скорое назначение Ремюза префектом дворца. Я обойду молчанием разнообразные волнения, какие вызвало в моей семье это известие. Лично я была очень испугана. Ремюза скорее примирился, чем обрадовался, и, как человек вполне добросовестный, сейчас же после своего назначения занялся всеми мельчайшими деталями своей новой службы.
Немного времени спустя я получила следующее письмо от Дюрока, гофмаршала двора:
«Милостивая государыня.
Первый консул избрал вас для представительства во дворце при госпоже Бонапарт.
Личное знакомство с вашим характером и принципами дает ему уверенность в том, что вы исполните это с обычной вежливостью, которой отличаются французские дамы, и достоинством, которое подобает правительству. Я счастлив, что мне поручено передать вам это выражение его уважения и доверия.
Примите уверения в совершенном почтении».
Таким образом мы оказались при этом странном дворе. Хотя Бонапарт всякий раз обнаруживал гнев, когда осмеливались не верить искренности его слов, которые тогда были вполне республиканскими, однако каждый день он придумывал какие-нибудь новости, которые вскоре придали месту, где он жил, большое сходство с дворцом государя. Личный вкус склонял его к некоторого рода представительству, лишь бы оно не стесняло его привычек, но окружающих он давил игом церемониала. Впрочем, Бонапарт был убежден, что французов можно победить внешним блеском. Очень просто одетый, он требовал от военных большой роскоши в обмундировании. Он уже создал определенное расстояние между собой и двумя другими консулами. В правительственных актах, употребляя выражение «по приговору консулов» и т. п., он помещал только свою подпись; он один содержал двор в Тюильри или в Сен-Клу, принимал послов с церемониями, принятыми у королей, показывался на публике только в сопровождении многочисленной охраны, позволяя при этом своим коллегам иметь только двух гренадеров перед экипажами; и, наконец, Бонапарт начал создавать своей жене положение в государстве.
В первые минуты мы очутились в довольно затруднительной ситуации. Генералы и адъютанты, которые окружали Бонапарта, гордились своей военной славой и правами, которые она давала. Они готовы были поверить, что все отличия должны принадлежать исключительно им.
Между тем консул, ценивший всякого рода победы и имевший тайный план приблизить к себе все классы общества, мало-помалу раздражал этих военных, привлекая к себе милостями представителей других профессий. Притом Ремюза, как человек умный, замечательно образованный, чудесно слушающий и умеющий прекрасно отвечать, превосходящий своих коллег умением вести разговор, был быстро выдвинут своим господином, умеющим открыть в каждом то, что ему было полезно. Бонапарт был не прочь, чтобы за него знали то, чего он сам не знал. Он нашел у моего мужа знание известных обычаев, которые хотел бы восстановить, верный такт при различных обстоятельствах, привычки хорошего общества. Бонапарт быстро излагал ему свои проекты, Ремюза тотчас же его понимал и так же быстро ему служил. Эта необычная манера нравиться ему сначала вызвала некоторое неудовольствие у военных, они предчувствовали, что не будут больше единственными, кого выделяют, и что от них потребуют, чтобы они отказались от грубой внешности, приобретенной на поле битвы; наше присутствие беспокоило их.
Со своей стороны, несмотря на молодость, я была развитее их жен. Большинство моих подруг, мало знающих общество, робких и молчаливых, в присутствии Первого консула испытывали только скуку и страх. Что касается меня, то, как я уже говорила, будучи оживленной и впечатлительной, легко возбуждаемой новыми идеями, склонной к умственным удовольствиям, я вскоре понравилась моему новому властелину, поскольку стала находить удовольствие слушать его.
Притом госпожа Бонапарт любила меня как женщину, ею избранную; ей льстило, что она достигла по отношению к моей матери, которую уважала, преимущества привязать к себе особу из видной семьи. Она выражала мне доверие. Я была нежно привязана к ней. Вскоре госпожа Бонапарт начала поверять мне свои личные тайны, которые я хранила в полном секрете. Хотя я могла быть по возрасту ее дочерью, я часто была в состоянии дать ей добрый совет, так как привычки уединенной и нравственной жизни рано дают знакомство с ее серьезной стороной.
Мы с мужем тотчас же оказались на виду, и это надо было заставить простить нам. До известной степени мы достигли этого, сохраняя простоту, держась в границах вежливости и избегая всего того, что могло бы заставить думать, будто мы хотим создать из доброго к нам отношения возможность влияния.
Ремюза жил среди этого ощетинившегося двора с простотой и добродушием. Что же касается меня, то я была достаточно счастлива, чтобы отнестись к себе справедливо и не выражать претензий, которые особенно задевают женщин. Большинство моих подруг были красивее меня, некоторые – очень красивы; они были окружены большой роскошью. Мое лицо, которое только молодость делала приятным, обычная простота моего костюма предупредили их о том, что они имеют надо мной преимущество во многих отношениях. Вскоре между нами как будто установилось нечто вроде безмолвного соглашения: они будут очаровывать взоры Первого консула, когда мы окажемся в его присутствии, а я постараюсь нравиться его уму, поскольку у меня самой его хватит. И я уже говорила, что в этом отношении дело было только в том, чтобы уметь его слушать.
Молодая женщина двадцати двух лет не может быть особенно проникнута политическими идеями. В то время у меня не было ни малейшего партийного духа. Я не рассуждала о том, имеет ли Бонапарт больше или меньше прав на власть, когда повсюду говорили, что он достойно ее применяет. Ремюза, вверяясь ему почти со всей Францией, отдавался надеждам, которые тогда возможно было питать. Каждый, кто чувствовал негодование и отвращение к ужасам революции, охотно верил, что правительство предохранит нас от реакции якобинцев, и приветствовал его установление как новую эру для родины. Те применения свободы, к которым прибегали неоднократно, внушили по отношению к ней нечто похожее на отвращение, естественное, но малообоснованное, так как, говоря по правде, свобода всегда исчезала, как только злоупотребляли ее именем, чтобы только разнообразить способы тирании. Но, в общем, во Франции желали только покоя и возможности свободно упражнять ум, развивать некоторые частные добродетели и поправить мало-помалу перенесенные потери состояний.
Я не могу без стеснения сердца подумать об иллюзиях, которые тогда переживала. Я сожалею о них, как сожалеют о светлых грезах жизненной весны, той поры, когда, по выражению самого Бонапарта, на все предметы смотришь сквозь золотистую дымку, которая и делает их блестящими и легкими. Мало-помалу, говорил он, эта дымка сгущается до того, что становится почти совсем черной. Увы! Он сам не замедлил сделать кровавой ту вуаль, сквозь которую Франция любила смотреть на него.
Итак, осенью 1802 года я появилась в Сен-Клу, где находился тогда Первый консул. Все мы, четыре дамы[21], поочередно проводили одну неделю близ госпожи Бонапарт. Так же организована была и служба префектов дворца, генералов гвардии, лейтенантов. Гофмаршал двора Дюрок жил в Сен-Клу; он содержал дворец в необыкновенном порядке; мы обедали у него. Консул обедал один со своей женой; два раза в неделю он приглашал членов правительства; раз в месяц в Тюильри происходили званые обеды на сто персон, которые давали в зале Дианы; после них принимали всех, кто занимал место сколько-нибудь выдающееся в военной или гражданской службе, а также выдающихся иностранцев.
В течение зимы 1803 года мы были в мирных отношениях с Англией, и это привлекло в Париж большое количество англичан. Так как их нечасто там видели, они возбуждали всеобщее любопытство.
На этих блестящих собраниях демонстрировалась необыкновенная роскошь. Первый консул любил, чтобы дамы были хорошо одеты, и из расчета или из личного вкуса побуждал к этому свою жену и сестер. Госпожа Бонапарт, госпожа Баччиокки[22] и госпожа Мюрат (госпожа Леклерк жила в это время в Сан-Доминго[23]) были ослепительны. Различные униформы давались различным полкам, мундиры были богаты; и вся эта пышность, последовавшая за временами, когда выставление напоказ отвратительной грязи соединялось с аффектацией гражданской добродетели, эта пышность казалась еще одной гарантией против возвращения пагубного режима, о котором не забыли.
Мне кажется, что костюм Первого консула в ту эпоху достоин описания. В обыкновенные дни он носил один из мундиров своей гвардии; но для него и для обоих его коллег было установлено, что во время больших церемоний они все трое надевают красные костюмы, вышитые золотом, зимой из бархата, летом из легких тканей. Оба консула, Камбасерес и Лебрен, пожилые, в париках, со строгими манерами, носили эти блестящие одежды с кружевами и шпагами, как прежде носили обыкновенные костюмы. Бонапарт, которого этот наряд стеснял, старался как можно чаще избегать его. Волосы у него были остриженные, короткие, прямые и довольно плохо причесанные. При этом костюме, красном с золотом, он сохранял черный галстук, кружевное жабо на рубашке, иногда белый жилет, вышитый серебром, чаще форменный жилет, форменную шпагу, а также панталоны, шелковые чулки и сапоги. Этот костюм и его маленький рост придавали ему очень странный вид, над которым, однако, никто не осмеливался смеяться. Когда Бонапарт стал императором, ему сделали костюм для церемоний, с маленькой мантией и шляпой с перьями, который ему шел чрезвычайно. Император присоединил к нему великолепную цепь ордена Почетного легиона, усыпанную бриллиантами, а в обыкновенные дни продолжал носить только серебряный крест.
Я вспоминаю, что накануне его коронования новые маршалы, которых он назначил за несколько месяцев до этого, явились к нему на прием, одетые в прекрасные костюмы. Эти костюмы, выставленные напоказ, в противоположность простому мундиру, который был на Наполеоне, заставили его улыбнуться. Я находилась в нескольких шагах от него, и он, так как видел, что я тоже улыбаюсь, сказал: «Право быть просто одетым не принадлежит всем». Несколько минут спустя маршалы армии заспорили об установлении старшинства и попросили императора определить порядок их рангов в церемонии. В сущности, их претензии опирались на довольно громкие титулы, так как каждый из них перечислял свои победы. Бонапарт слушал их, и его забавляло встречать мои взгляды. «Мне кажется, – сказала я ему, – что вы сегодня как будто топнули ногой на Францию, говоря: «Пусть все тщеславия выйдут из-под земли!» – «Это правда, – отвечал он, – но дело в том, что очень удобно управлять французами посредством тщеславия»»[24].
Но вернемся назад. В первые месяцы моего пребывания частью в Сен-Клу, частью в Париже, в течение всей зимы, жизнь казалась мне довольно приятной. Дни проходили в правильном порядке. Утром, около восьми часов, Бонапарт покидал постель жены, чтобы пройти в свой кабинет; в Париже он возвращался к ней, чтобы позавтракать; в Сен-Клу он завтракал один и часто на террасе, которая примыкала к этому кабинету. Во время этого завтрака он принимал артистов, актеров комедии; тогда Первый консул разговаривал охотно и добродушно. Потом он до шести часов занимался общественными делами. Госпожа Бонапарт оставалась у себя, принимая в течение всего утра бесконечное количество визитеров, особенно женщин: тех, мужья которых были связаны с правительством, или тех, которые называли себя дамами старого порядка, не хотели поддерживать отношения (или делали вид, что не хотят) с Первым консулом, но добивались от его жены возвращения или восстановления прав. Госпожа Бонапарт всех принимала с очаровательной любезностью; она все обещала и отпускала всех удовлетворенными. Поданные петиции время от времени терялись, но ей подавали другие, и она, казалось, никогда не уставала всех выслушивать.
В шесть часов в Париже обедали; в Сен-Клу совершали прогулку: консул – в коляске со своей женой, мы – в других экипажах. Братья Бонапарта, Евгений Богарне, его сестры могли появиться во время обеда. Иногда приезжала госпожа Луи Бонапарт, но она никогда не ночевала в Сен-Клу. Ревность мужа и его необыкновенное недоверие делали ее робкой и довольно печальной уже в то время. Раза два в неделю присылали маленького Наполеона, того, который умер позднее в Голландии[25]. Бонапарт, казалось, любил этого ребенка и связывал с ним надежды на будущее. Может быть, только из-за этого он и отличал его. Талейран рассказывал мне, что, когда известие о его смерти пришло в Берлин, Бонапарт был так мало тронут, что готов был показаться публично, но Талейран поспешил сказать ему: «Вы забываете, что в вашей семье случилось несчастье и вы должны иметь несколько печальный вид». – «Я не нахожу удовольствия в том, чтобы думать о мертвых», – отвечал ему Бонапарт[26].
Было бы любопытно сопоставить эти слова с прекрасной речью Фонтана[27], которому было поручено говорить над прусскими знаменами, торжественно принесенными в Дом Инвалидов. Он так хорошо, так красноречиво напомнил о величественной скорби победителя, который забывает блеск своих побед, проливая слезы о смерти ребенка!
После обеда консула нас предупреждали, что мы можем подняться наверх. В зависимости от того, был ли он в хорошем или дурном настроении, разговор затягивался, продолжался более или менее долго. Затем консул исчезал, и обыкновенно его больше не видели. Он возвращался к работе, давал несколько частных аудиенций, принимая некоторых министров, и обыкновенно рано ложился спать. Госпожа Бонапарт играла, чтобы закончить вечер. Между десятью и одиннадцатью часами ей говорили: «Мадам, Первый консул в постели», – и тогда она нас покидала.
У нее и повсюду вокруг них царило полное молчание по поводу политических дел. Дюрок, Маре, тогда государственный секретарь, частные секретари были совершенно непроницаемы. Большинство военных, как мне кажется, чтобы избежать разговоров, воздерживались даже от того, чтобы думать; в общем, в привычках этой жизни не на что было тратить ум.
Так как я прибыла ко двору, будучи совершенно незнакомой с большими и маленькими страхами, которые Бонапарт внушал тем, кто давно его знал, то не испытывала перед ним такого стеснения, как другие. Мне не казалось нужным подчиняться системе односложных фраз, которая была принята всеми в доме религиозно, если можно так выразиться, а может быть, в достаточной мере осторожно. Однако это повело к тому, что я приобрела смешной вид, о котором сначала не подозревала, но который надо было под конец уже скрывать. Дальше будет видно, что это не так легко было сделать.
Однажды вечером, когда Бонапарт говорил о таланте Порталиса-отца, работавшего тогда над Гражданским кодексом, Ремюза сказал, что Порталиса особенно развило изучение Монтескье, которого он читал и изучал как катехизис. Первый консул, обращаясь к одной из моих подруг, заметил, смеясь: «Держу пари, что вы даже не знаете, кто такой Монтескье!» – «Простите, – отвечала она, – кто не читал «Le Temple de Grade»…»[28] – При этих словах Бонапарт громко расхохотался, и я не могла удержаться от улыбки. Он взглянул на меня и спросил: «А вы, сударыня?» Я отвечала, естественно, что не знаю ничего о «Temple de Gnide», что читала «Рассуждение» о римлянах, но думаю, что ни тот ни другой труд не были катехизисом, о котором говорил Ремюза. «Черт побери! – сказал мне Бонапарт. – Да вы ученая!» Этот эпитет сконфузил меня, и я почувствовала, что рискую сохранить его за собой.
Минуту спустя госпожа Бонапарт заговорила о какой-то трагедии, которую тогда давали. Первый консул припомнил по этому поводу современных авторов и заговорил о Дюси, которого недолюбливал. Сначала Бонапарт огорчался, что наши поэты-трагики так посредственны, а потом прибавил, что больше всего на свете желал бы вознаградить автора прекрасной трагедии. Я решилась сказать, что Дюси испортил «Отелло» Шекспира[29]. Это длинное английское имя в моих устах произвело известный эффект на нашу галерею из эполет, молчаливую и внимательную. Бонапарту не очень нравилось, когда хвалили что-нибудь, принадлежащее англичанам. Мы немного поговорили: со своей стороны, я держалась в разговоре направления вполне обычного, но я назвала Шекспира, я возражала консулу, я хвалила английского автора, – какая дерзость! Какое чудо учености! И я была вынуждена несколько дней после этого молчать или вести ничего не значащие разговоры, чтобы исправить впечатление от превосходства, которое, между тем, так скоро причинит мне затруднение.
Когда я покидала дворец и возвращалась к своей матери, то довольно часто встречала там немало милых женщин и выдающихся людей, которые вели очень интересные разговоры, и я улыбалась про себя, сравнивая эти отношения с теми, которые были при дворе.
Но эта привычка к почти полному молчанию предостерегала нас, по крайней мере в ту эпоху, от того, что называют в свете сплетнями. Женщины совершенно не были кокетливы, мужчины были постоянно заняты исполнением своих обязанностей, а я обманывалась относительно нравственных привычек Бонапарта, которые я у него предполагала. Казалось, он очень любит свою жену; казалось, она его удовлетворяла. Однако вскоре я заметила в ней беспокойство, которое меня удивило. Она была очень склонна к ревности. Мне думается, что не любовь была тут главной причиной. Для нее была большим несчастьем невозможность дать своему супругу детей; иногда он выражал по этому поводу сожаление, и тогда она дрожала за свое будущее. Семья консула, всегда возбужденная против Богарне, подчеркивала это обстоятельство. Все это вызывало мимолетные бури. Иногда я заставала госпожу Бонапарт в слезах, и тогда она изливала горькие жалобы на своих деверей, на госпожу Мюрат и Мюрата, которые старались упрочить свое влияние, возбуждая у консула мимолетные фантазии. Я уговаривала госпожу Бонапарт оставаться спокойной и благоразумной.
Мне вскоре стало ясно, что если Бонапарт любил свою жену, то особенно потому, что ее обычная кротость давала ему покой, и она явно теряла свое влияние, волнуя его. В конце концов, в течение первого года, что я была при дворе, легкие столкновения в этой семье всегда заканчивались удовлетворительными объяснениями и усилившейся близостью.
С 1802 года я никогда не видела генерала Моро у Бонапарта – они были уже почти в ссоре. Жена и теща Моро слыли большими интриганками, а Бонапарт не выносил наклонности к интригам у женщин. Притом, однажды мать госпожи Моро в Мальмезоне позволила себе неприятные шутки относительно скандальной близости, которую подозревали между Бонапартом и его юной сестрой Каролиной (к тому же она только что вышла замуж). Консул не простил подобных разговоров и подчеркнул свое дурное отношение к матери и дочери. Моро пожаловался, что они стараются возбудить в нем недовольство своим положением. Он жил уединенно, в кругу, который ежедневно раздражал его, и Мюрат, глава тайной и деятельной полиции, выслеживал недовольство, которому не следовало придавать значения, и постоянно приносил в Тюильри недоброжелательные донесения.
Большой ошибкой Бонапарта и следствием его естественного недоверия было усиление полиции в государстве. Бонапарт думал придать себе ореол либерализма и умеренности, упраздняя министерство полиции (изобретение совершенно революционное). Однако вскоре раскаялся в этом и заменил одно министерство множеством шпионов. Префект полиции, Мюрат, Дюрок, Савари, тогда командовавший избранной жандармерией, Маре, также имевший тайную полицию, и другие, которых я не знаю, сделались как бы отголосками упраздненного министерства. Все эти полиции выслеживали одна другую, доносили друг на друга, старались сделаться необходимыми консулу и постоянно окружали его подозрениями. Со времени происшествия с адской машиной, которым Талейран воспользовался, чтобы сместить Фуше, полиция была передана в руки верховного судьи Ренье. Сам Фуше, прекрасно владея искусством делаться необходимым, не замедлил тайно войти в милость к Первому консулу и добиться того, что его назначили вторично.
С этих пор Камбасерес и Лебрен, второй и третий консулы, мало принимали участия в управлении. Лебрен, уже пожилой человек, не беспокоил Бонапарта ни с какой стороны. Другой, выдающийся магистрат, человек очень полезный в вопросах, касающихся Государственного совета, вмешивался только в обсуждение законов. Бонапарт извлекал пользу из его познаний и, с целью ослабить его значение, благоразумно полагался на смешные стороны характера, которые создавало Камбасересу его мелочное тщеславие. В самом деле, консул, очарованный оказанными ему отличиями, наслаждался ими с наивностью, которую хвалили, насмехаясь. Так его слабость – самолюбие – в некотором отношении упрочивала его положение.
В то время, о котором я говорю, большим влиянием пользовался Талейран. Все вопросы высшей политики проходили через его руки. Он не только регулировал внешние дела и определял новые конституции, но, кроме того, ежедневно имел с Бонапартом продолжительные беседы и толкал его на все меры, которые могли придать ему силу как реформатору. С этих пор, я уверена, часто между ними шла речь о том, что следует делать, чтобы восстановить монархическое правительство. Талейран всегда имел внутреннее убеждение, что только оно подходит для Франции. Он хотел вернуться к обычным привычкам своей жизни, вновь перейти на знакомую почву. Преимущества и потери, которые зависят от двора, открывали ему возможность власти и влияния.
Я не знала Талейрана, а то, что слышала о нем, создавало большое предубеждение. Но я была поражена изяществом его манер, которые представляли резкий контраст с чопорностью военных, окружавших меня до тех пор. Он всегда сохранял среди них тон большого вельможи; щеголял пренебрежительным молчанием и покровительственной вежливостью, которой никто не мог избежать. Он один присваивал себе право подсмеиваться над людьми, которых пугала тонкость его насмешек.
Талейран, менее искренний, чем кто бы то ни было, сумел придать характер естественности привычкам, приобретенным по определенному плану. Он сохранил их так, как если бы они имели силу истинной натуры. Его манера относиться к самым важным вещам довольно легко почти всегда бывала полезна ему.
Несколько лет я не имела с ним никаких отношений; я смутно не доверяла ему, но мне нравилось слушать его и видеть, как он поступает с присущей ему непринужденностью, которая придавала безграничную грацию всем его манерам, тогда как у другого она шокировала бы как аффектация.
Зима этого года (1803-го) была блестяща. Первый консул желал, чтобы устраивали праздники, он также захотел заняться реставрацией театров и поручил управление ими префектам своего двора. «Комеди Франсез» была поручена Ремюза; снова поставили на сцене массу произведений, которые были устранены республиканской политикой.
Мало-помалу, казалось, возвращались ко всем привычкам общественной жизни. Это был ловкий способ привлечь к ней снова всех тех, кто ее хорошо знал. Это значило возобновить связи между образованными людьми. Вся эта система была проведена очень ловко. Оппозиционные воззрения слабели с каждым днем. Роялисты, замыслы которых были разрушены 18-го фрюктидора, не теряли надежды, что Бонапарт восстановит порядок, который заключался в возвращении всего старого, до Бурбонов включительно. И если они ошиблись по этому пункту, то по крайней мере они были признательны ему за порядок, который он восстановил, и не боялись составить смелый проект: захватить Наполеона и таким образом оставить незанятым место, которое никто, кроме него, не мог бы с тех пор занять; и все это легко докажет, что самым естественным его преемником должен быть законный правитель.
Эта тайная мысль партии, обыкновенно доверчивой по отношению к тому, на что надеется, и всегда неосторожной в том, на что решается, привела к возобновлению тайной переписки с нашими принцами, к некоторым попыткам эмигрантов организовать заговор, волнениям у вандейцев, которые Бонапарт молчаливо наблюдал.
С другой стороны, люди, стоящие за федеративное правительство, с беспокойством видели, что консульское правительство склоняется к централизации, которая мало-помалу ведет, монархии. Они довольно хорошо соединялись с тем небольшим числом лиц, которые, несмотря на все ошибки и заблуждения французской революции, в глубине своей совести видели в ней полезную встряску и боялись, как бы Бонапарт не дошел до того, чтобы парализовать ее влияние. Иногда в Трибунате раздавались по этому поводу некоторые речи, которые доказывали, что тайные проекты Бонапарта имели и других противников, кроме роялистов.
Наконец, были еще явные якобинцы, с которыми надо было считаться, и военные, твердо стоящие на своих претензиях: они только удивлялись, как можно было создавать или признавать другие права, кроме их собственных.
Обо всех волнениях этих партий и доносили Бонапарту, который осторожно маневрировал среди них. Он медленно шел к своей цели, которую мало кто тогда угадывал, привлекая общее внимание к одной стороне своей политики, которая в общем оставалась неопределенной. Бонапарт отлично умел по собственному желанию привлекать или отвлекать внимание, возбуждать попеременно одобрение одной или другой стороны, беспокоить или успокаивать в зависимости от того, как ему было нужно, пользоваться удивлением или надеждой. Он видел во французах изменчивых детей, которых можно отвлечь от их интересов новой игрушкой. Его положение первого консула было ему выгодно, потому что как ни было оно неопределенно, но все же ослабляло беспокойство в обществе. Позднее вполне определенное положение императора отняло у него это преимущество; и тогда, открыв Франции свою тайну и желая отвлечь ее от полученного впечатления, ему не оставалось ничего другого, как бросить ей эту роковую приманку – военную славу. Отсюда и его постоянно возобновляющиеся войны, отсюда эти бесконечные победы: он чувствовал потребность занять нас какой бы то ни было ценой. И отсюда же, если пожелают хорошенько вглядеться, необходимость направить свою судьбу, отказываться от мира в Дрездене и даже в Шатильоне. Бонапарт прекрасно чувствовал, что погиб бы безвозвратно с того дня, когда его вынужденный отдых позволил бы нам размышлять о нем и о нас самих.
В газете «Монитор» конца 1802-го или начала 1803 года напечатан диалог между французом, относящимся с энтузиазмом к английской конституции, и англичанином, так сказать, благоразумным, который, показав, что в Англии, собственно говоря, нет конституции, а только учреждения, более или менее подходящие к положению страны и характеру жителей, стремится доказать, что эти учреждения могли бы быть даны французам только со значительными неудобствами. Такими способами и им подобными Бонапарт стремился сдержать желание свободы, всегда готовое возродиться у французов.
К концу 1802 года в Париже узнали о смерти генерала Леклерка, который умер в Сан-Доминго от желтой лихорадки. В январе его молодая красивая вдова возвратилась во Францию. Она была с тех пор сильно ослаблена серьезной болезнью, которая всегда ее преследовала. Но даже ослабевшая и больная, одетая в печальное траурное платье, она показалась мне самой очаровательной особой, какую только приходилось видеть в жизни. Бонапарт убеждал сестру не злоупотреблять свободой, чтобы не впасть в излишества, которые, кажется, были причиной ее отъезда в Сан-Доминго; но она вскоре же перестала считаться со словом, которое дала ему в ту минуту.
Эта смерть дала повод к одному недоразумению, которое, судя по всему, стало еще одним шагом к восстановлению монархических обычаев. Бонапарт надел траур, как и госпожа Бонапарт, и мы также получили распоряжение носить траур. Это было уже довольно многозначительно, но речь шла пока лишь о том, что посланники должны явиться в Тюильри выразить Первому консулу и его жене сочувствие в этой потере. Им указали, что вежливость требует, чтобы они были в трауре во время этого посещения. Посланники собрались, чтобы обсудить это, и, не имея времени ждать указаний от своих дворов, решили явиться на приглашение так, как было в обычае в подобных случаях. Поэтому явились во дворец одетые в черное и были приняты по церемониалу.
С декабря 1802 года предыдущего английского посланника заменил лорд Витворт. В то время верили в прочный мир, хоть отношения между Францией и Англией с каждым днем усложнялись, и люди несколько более сведущие предвидели причины новых столкновений между двумя правительствами. В британском парламенте шла речь о роли, какую Франция играла в новой конституции, данной Швейцарии; в «Мониторе», вполне официальном органе, стали появляться статьи, в которых жаловались на некоторые меры, примененные в Лондоне к французам.
Однако все общество в Париже, и в частности в Тюильри, явно предавалось удовольствиям и празднествам. Внутри дворца все было спокойно, как вдруг новая фантазия Первого консула по отношению к молодой красивой актрисе «Комеди Франсез» смутила госпожу Бонапарт и вызвала довольно бурные сцены.
Две выдающиеся актрисы (мадемуазель Дюшенуа и мадемуазель Жорж) почти одновременно дебютировали в трагедии: одна очень некрасивая, но с выдающимся талантом, который стяжал ей много похвал, другая – «посредственная актриса, но необыкновенной красоты»[30].
Парижская публика горячилась ради одной и ради другой, но, в общем, успех таланта победил успех красоты. Бонапарт, наоборот, был побежден этой последней, и госпожа Бонапарт вскоре узнала, благодаря тайному шпионству своих лакеев, что госпожа Жорж была в течение нескольких вечеров тайно проведена в маленькое уединенное помещение во дворце. Это открытие внушило ей сильное беспокойство; она поделилась им со мной с необыкновенным волнением и начала проливать бесконечные слезы, которые показались мне более обильными, чем того заслуживал этот мимолетный случай. Я считала нужным доказать ей, что доброта и терпение являются, по-моему, единственными средствами против горя, которое время неминуемо рассеет, и в разговорах по этому поводу она начала открывать мне относительно своего супруга вещи, мне еще совершенно неизвестные.
Неудовольствие, которое она испытывала, заставило меня думать, что в горечи ее жалоб было некоторое преувеличение. По ее словам, «у него не было никаких моральных принципов, он скрывал еще пороки, к которым был склонен, потому что боялся, как бы они не повредили ему; но если бы ему дали возможность спокойно отдаться им без всяких жалоб, он мало-помалу погряз бы в самых позорных страстях. Не покорил ли он своих сестер, одну за другой? Не считал ли он себя поставленным в мире так, что мог удовлетворять все свои фантазии? И, наконец, разве его семья не воспользовалась бы его слабостями, чтобы изменить его тихую семейную жизнь и отдалить от всяких отношений с женой?» И после каждой такой интриги она видела над своей головой этот угрожающий ей развод, о котором уже иногда заходила речь.
«Для меня большое несчастье, – добавляла она, – что я не дала Бонапарту сына. Это будет способ, которым воспользуется ненависть, чтобы смущать мой покой». – «Но, мадам, – отвечала я ей, – мне кажется, сын вашей дочери прекрасно поправит это несчастье; Первый консул любит его и, может быть, в конце концов усыновит его». – «Увы, отвечала она, – это предмет моих желаний, но ревнивый и мрачный характер Луи Бонапарта всегда будет мешать этому. Его семья со злым умыслом сообщила ему оскорбительные слухи, которые распространяли относительно поведения моей дочери и рождения ее сына. Ненависть приписывает этого ребенка Бонапарту, и этого достаточно, чтобы Луи не пошел на соглашение с ним. Вы видите, как он держится в стороне и как дочь моя принуждена следить за малейшим своим поступком. Притом, независимо от этих важных результатов, неверность Бонапарта всегда является для меня источником тысячи неприятностей, какие мне придется переносить».
И в самом деле, я всегда замечала, что, как только Первый консул начинал заниматься другой женщиной, он становился жесток, груб, немилосерден по отношению к своей жене. И это потому, что деспотизм характера заставлял его удивляться, как жена не оправдывает во всем независимость, которую Первый консул хотел сохранить исключительно для себя; или же потому, что природа дала ему такую незначительную способность к привязанности и любви, что она вся бывала захвачена особой, избранной на время, и не оставалось уже ни малейшего благожелательства по отношению к другой. Он немедля сообщал жене о новой связи и выказывал изумление, что она не признает развлечений, которые он считал, если можно так сказать, математически дозволенными и нужными для него. «Я не такой человек, как другие, – говорил он, – и законы морали и поведения не могут быть применены ко мне». Подобные заявления возбуждали недовольство, слезы и жалобы госпожи Бонапарт. Ее супруг отвечал на них иногда жестокостями и насилием, о которых я не смею рассказывать подробно, но когда его новая фантазия вдруг исчезала, он чувствовал, как возрождается его нежность по отношению к жене. Тогда он бывал тронут ее страданиями, заменял свои оскорбления ласками, которые не имели никакой меры, так же, как и грубости, – и, будучи кроткой и изменчивой, она опять успокаивалась.
Но в продолжение всего времени, пока длилась гроза, я часто находилась в очень затруднительном положении благодаря странным откровениям, которые получала, и даже поступкам, в которых принуждена была участвовать. Вспоминаю, между прочим, что случилось со мной однажды вечером, и страх, немного смешной, который я испытала и над которым позднее много смеялась.
Дело происходило в течение этой зимы. У Бонапарта еще была привычка приходить каждый вечер спать вместе с женой. Она ловко убедила его в том, что его личная безопасность связана с этой близостью. У нее был, как она говорила, очень легкий сон, и, если бы случилось, что кто-нибудь покушался бы на него ночью, она была бы тут же, чтобы тотчас же позвать на помощь. По вечерам госпожа Бонапарт удалялась только тогда, когда ее извещали, что муж уже в постели. Но когда его охватила фантазия по отношению к госпоже Жорж, он заставлял ее приходить довольно поздно, когда заканчивал работу, и сам спускался в эти дни только поздно ночью.
Однажды вечером госпожа Бонапарт, охваченная большим, чем всегда, ревнивым беспокойством, удержала меня возле себя и живо поведала мне о своем горе. Был уже час, мы были одни в ее гостиной, глубочайшее молчание царило в Тюильри. Вдруг она встает. «Я не могу больше терпеть; госпожа Жорж, наверно, наверху, я хочу их застигнуть».
Довольно смущенная этим внезапным решением, я сделала все возможное, чтобы ее отговорить, но не смогла достигнуть успеха. «Следуйте за мной, – сказала госпожа Бонапарт, – мы поднимемся наверх вместе с вами». Тогда я постаралась показать ей, что подобное шпионство, неприличное с ее стороны, недопустимо с моей и в случае открытия, которое она думала совершить, я буду лишняя в сцене, последующей за этим. Она не хотела ничего слушать, упрекала меня, что я покидаю ее в страданиях, и так сильно настаивала, что, против своего желания, я уступила ее воле, говоря себе, однако, что наше путешествие ни к чему не приведет и что на первом этаже точно приняты предосторожности против всяких неожиданностей.
Вот мы молча отправляемся, госпожа Бонапарт первая, до крайности взволнованная, я за ней, медленно подымаясь по крутой лестнице, ведущей в комнаты Бонапарта, стыдясь той роли, которую меня заставляли играть. В середине нашего путешествия раздается легкий шум. Госпожа Бонапарт обернулась: «Это может быть Рустан, мамелюк Бонапарта, который охраняет дверь. Этот несчастный способен задушить нас обеих». При этих словах я была охвачена таким страхом, который не дал мне дослушать, и, не думая о том, что оставляю госпожу Бонапарт в полной темноте, я со свечой в руке вернулась в гостиную. Через несколько минут она последовала за мной, удивленная моим внезапным бегством. Увидев мое перепуганное лицо, она начала смеяться, я – тоже, и мы отказались от своего предприятия. Я ушла от нее, говоря, что странный испуг, который она мне причинила, принес ей пользу и я довольна, что поддалась ему.
Ревность, которая часто прерывала кроткое настроение госпожи Бонапарт, вскоре перестала быть тайной для кого бы то ни было. Эта ревность поставила меня в затруднительное положение поверенной, но без влияния на ту особу, которая со мной советовалась, и иногда создавалось впечатление, что я разделяю недовольство, свидетельницей которого являюсь.
Бонапарт сначала думал, что женщина должна вполне разделять чувства, испытываемые другой женщиной, и проявил некоторое недовольство тем, что я посвящена в наиболее интимную сторону его жизни. С другой стороны, парижское общество все более и более склонялось в пользу некрасивой актрисы. Красивую часто встречали свистом. Ремюза старался оказывать одинаковое покровительство обеим дебютанткам, но то, что он делал для той и для другой, почти одинаково принималось с неудовольствием или публикой, или Первым консулом. Все эти мелочи принесли нам некоторое беспокойство. Бонапарт, не вверяя Ремюза тайну своего интереса, пожаловался ему и заявил, что согласился бы, чтобы я была поверенной его жены, лишь бы я давала ей разумные советы. Мой муж представил меня как особу положительную, воспитанную во всех приличиях, которая ни в каком случае не могла бы возбуждать воображение госпожи Бонапарт. Консул, который был еще настроен благожелательно по отношению к нам, согласился думать обо мне хорошо; но тогда явилось другое неудобство: он стал иногда обращаться ко мне как к третейскому судье в своих семейных распрях и хотел опираться на то, что называл моим разумом, чтобы считать безумием ревнивые резкости, которыми был утомлен.
Так как у меня еще не было привычки скрывать свои мысли, то, когда он обращался ко мне по поводу своей досады, я отвечала ему совершенно искренно, что очень жалею госпожу Бонапарт, страдает ли она справедливо или нет, и что он должен извинять ее больше, чем всякий другой. Но вместе с тем я признавалась, что мне кажется, будто она поступает недостойно, когда посредством лакеев-шпионов ищет доказательства неверности, которую подозревает. Консул передавал госпоже Бонапарт мои слова, и тогда я оказывалась жертвой в бесконечных объяснениях между мужем и женой, в которые я вносила всю живость моего возраста и преданность, испытываемую по отношению к обоим.
Все это вызывало ряд сценок, подробности которых изгладились из моей памяти: я видела Бонапарта поочередно надменным, жестоким, недоверчивым до крайности, потом вдруг растроганным, смягченным, почти нежным, исправляющим довольно мягко вины, которые он признавал, но от которых, однако, не отказывался. Я помню, как однажды, чтобы прервать тет-а-тет, который его, вероятно, стеснял, оставив меня обедать с ним и его женой, очень взволнованной, конечно, потому что он объявил ей, что с этих пор будет спать ночью в отдельной комнате, Бонапарт решился сделать меня судьей в таком странном вопросе: должен ли муж утешать фантазии жены, если они касаются невозможности для него иметь другую постель, кроме ее постели?
Я была слишком мало приготовлена к тому, чтобы ответить, и знала, что госпожа Бонапарт не простит мне, если я не решу в ее пользу. Я старалась избежать ответа и держаться на том, что невозможно и даже не особенно удобно, чтобы я вмешивалась в решение такого вопроса. Но Бонапарт, который, впрочем, любил смущать, живо настаивал. Тогда я не нашла другого выхода из затруднения, как сказать, что не знаю точно, где должен быть предел требованиям жены и любезностям мужа, но все, что дает повод думать, что Первый консул изменил своей манере жизни, вызовет неприятные предположения, а малейшее волнение, которое произойдет во дворце, заставит всех нас много горевать. Бонапарт стал смеяться, дернув меня за ухо: «Ну, вы – женщина, а вы все заодно».
Тем не менее он не отказался от того, что решил, и с этих пор жил в отдельных комнатах. Однако мало-помалу он вернулся к более нежному отношению к жене, а она, со своей стороны, более спокойная, последовала совету, который я не переставала ей давать, – пренебрегать соперничеством, недостойным ее. «Было бы возможно огорчаться, если бы консул сделал выбор среди женщин, которые вас окружают, тогда бы это было истинное горе, а для меня – большая неприятность».
Два года спустя мое предсказание было в полной мере осуществлено, и в частности относительно меня.
Глава II 1803 год
Возвращение к монархическим привычкам – Фонтан – Госпожа д ’Удето – Слухи о войне – Собрание Законодательного корпуса – Отъезд английского посла – Маре – Маршал Бертье – Путешествие Первого консула в Бельгию – Случай в дороге – Амьенские празднества
Помимо этой легкой бури, зима прошла спокойно. Некоторые новые учреждения ознаменовали восстановление порядка. Были организованы лицеи, магистратам возвратили мантии и известное значение. В Лувре собрали все французские картины, назвали это собрание «Музеем», и Денону было поручено заведование этим новым учреждением. Награды и пенсии давались литераторам, и по этому поводу часто совещались с Фонтаном. Бонапарт любил разговаривать с ним: его мнения были, в общем, интересны. Консулу нравилось затрагивать чисто классический вкус Фонтана, а Фонтан защищал наши французские шедевры с большой силой, которая придавала ему в глазах присутствующих репутацию известной храбрости. В то время при этом дворе находились люди, уже настолько изощренные в профессии придворных, что им казался настоящим римлянином тот, кто осмеливался восхищаться Меропой или Митридатом, тогда как господин заявлял, что не любит ни ту ни другого. Однако, казалось, Бонапарт очень забавлялся этими литературными спорами. Одно время он имел даже желание доставлять себе подобное удовольствие два раза в неделю, приглашая известных литераторов проводить вечер у госпожи Бонапарт. Ремюза, который знал в Париже довольно много выдающихся людей, должен был собирать их во дворце.
И вот однажды вечером пригласили нескольких академиков и известных литераторов. Бонапарт был в прекрасном настроении, он хорошо говорил и предоставлял говорить, был любезен и оживлен. Я была в восторге, что он показал себя именно таким. Мне очень хотелось, чтобы он понравился тем, кто его не знал, и чтобы он разрешил, показываясь чаще, известные предубеждения, которые зарождались против него. Так как, когда он желал, его ум бывал очень тонок, Бонапарт вскоре раскрыл свойства ума старого аббата Морелле[31], человека прямого, определенного, идущего всегда прямо от обстоятельств к обстоятельствам, не признающего никогда влияния воображения на направление человеческих идей. Бонапарту нравилось оспаривать эту систему. Давая волю своему собственному воображению (а тогда оно заводило его далеко), он затрагивал всевозможные сюжеты, иногда терялся, убеждался в утомлении, которое доставляет уму аббата, но при этом был действительно очень интересен. На другой день он с удовольствием говорил об этом вечере и объявил, что желает еще подобных же.
И, конечно, еще одно собрание было назначено уже через несколько дней. Я не помню, кто именно начал довольно решительно высказываться по поводу свободы думать и писать и о ее преимуществах для нации. Это вызвало нечто вроде спора, несколько менее непринужденного, чем в первый раз, поскольку консул долго оставался безмолвным, что внесло в собрание какой-то холод. Наконец, во время третьего вечера, он появился позднее, был мечтателен, рассеян, мрачен и проронил только несколько отрывочных слов. Все молчали и скучали. На другой день Первый консул сказал нам, что ничего не может извлечь из всех этих литераторов, что их невозможно приблизить и он не желает больше, чтобы их приглашали. Он не мог переносить никакого принуждения, а необходимость быть любезным и веселым в известный день и в определенный момент тотчас же показалась ему стеснением, которое он поспешил стряхнуть с себя.
В эту зиму умерли два выдающихся академика: Лагарп и Сен-Ламбер. Я сильно жалела последнего, так как нежно любила госпожу д’Удето, с которой он был связан почти полстолетия и у которой и умер. В доме этой симпатичной старушки собиралось самое лучшее, самое приятное общество Парижа. Я часто бывала у нее и находила там остатки времен, которые, казалось, исчезают безвозвратно, – я хочу сказать – тех времен, когда умели разговаривать приятно и поучительно. Госпожа д’Удето, по своему возрасту и очаровательному характеру чуждая какого бы то ни было партийного духа, наслаждалась покоем, который был нам возвращен, и пользовалась им, чтобы собирать у себя обломки хорошего общества Парижа. Я очень любила отдыхать у нее от принуждения, в котором находилась в салоне Тюильри, я видела вокруг достойные примеры и постепенно обретала необходимую опытность.
Между тем начинали тихонько говорить, что может вновь возобновиться война с Англией. Были опубликованы тайные письма о некоторых предприятиях в Вандее. Казалось, английское правительство обвиняли в том, что оно поддерживало вандейцев, а Жоржа Кадудаля называли посредником между этим правительством и шуанами. В то же время говорили об Андре, который якобы тайно проник во Францию, хотя уже раз, до переворота 18-го фрюктидора, пробовал служить королевской агентуре.
По этому поводу собрали Законодательный корпус. Отчет о положении Республики, представленный на заседании, был замечателен и был замечен. Мир со всеми державами, предложение о новом разделе Германии, данное в Регенсбурге и признанное всеми правителями, конституция, принятая швейцарцами, Конкордат, заботы о народном просвещении, учреждение Института, более правильно организованная юстиция, улучшение финансов, Гражданский кодекс, часть которого была отдана на обсуждение этого собрания, различные работы, начатые одновременно и на границах, и во Франции, в частности проекты относительно важнейшей дороги через Мон-Сени и канала Урк (для судоходства и снабжения Парижа питьевой водой. – Прим. ред.), приобретение острова Эльба, Сан-Доминго, где еще продолжалась война, проекты многочисленных законов об учреждении торговых палат, урегулировании медицины и мануфактур, – все это представляло удовлетворительную и почетную для правительства картину. В конце этого доклада, однако, проскользнуло несколько слов о возможности разрыва с Англией и о необходимости усилить армию.
Ни Законодательный корпус, ни Трибунат не протестовали ни по одному пункту, и по отношению к работам, так счастливо начатым, было выражено одобрение, в конце концов заслуженное в эту эпоху.
В первые дни марта в наших журналах появились довольно горькие жалобы относительно пасквилей, которые распространялись в Англии по адресу Первого консула. Раздражение против того, что появилось в английской печати, которая пользовалась полной свободой, было неискренним, но и оказалось только предлогом: оккупация Мальты и наше вмешательство в дела Швейцарии были настоящей причиной разрыва. Восьмого марта 1803 года послание английского короля к парламенту возвещало о важных разногласиях и пререканиях между двумя правительствами, король жаловался на вооружение голландских портов. В то самое время мы и были свидетелями сцены, о которой я уже говорила, когда Бонапарт перед всеми посланниками притворился жестоко разгневанным (или был взбешен искренне). Вскоре после этого он покинул Париж и поселился в Сен-Клу.
Общественные дела не порабощали его всецело, он, к примеру, заставил одного из префектов дворца написать письмо с выражением восхищения знаменитому Паизиелло относительно оперы «Прозерпина», которую тот только что давал в Париже. Первый консул очень ревниво относился к возможности привлекать во Францию выдающихся людей из разных стран и щедро платил им.
Вскоре произошел разрыв между Францией и Англией, и английский посланник, перед дверью которого ежедневно собиралась масса народа, чтобы успокоиться или взволноваться в зависимости от приготовлений к отъезду, какие можно было заметить перед его домом, внезапно уехал. Талейран сделал Сенату донесение относительно мотивов, которые принуждали к войне. Сенат ответил, что может только приветствовать умеренность, соединенную с твердостью Первого консула, и послал в Сен-Клу депутацию с выражением благодарности и преданности. Воблан, выступая в Законодательном корпусе, с энтузиазмом воскликнул: «Какой глава нации когда-нибудь проявил большую любовь к миру! Если бы возможно было отделить историю Первого консула от истории его деяний, казалось бы, что изучаешь жизнь спокойного магистрата, который занят только способами утвердить мир».
Трибунат передал пожелание, чтобы были приняты энергичные меры, и после всех этих выражений восхищения и преданности сессия Законодательного корпуса закончилась.
Вот тогда-то появились в первый раз жестокие и оскорбительные ноты против английского правительства, которые следовали одна за другой и слишком тщательно отвечали на статьи периодических листков, ежедневно издающихся в Лондоне. Бонапарт часто диктовал суть этих нот, которые Маре затем редактировал. Но выходило, что правитель обширной империи как бы вступает в словесный поединок с журналистами и унижает собственное достоинство, показывая себя слишком раздраженным насмешками этих летучих листков, на которые было в сто раз лучше не обращать никакого внимания. Английским журналистам нетрудно было узнать, до какой степени Первый консул, а немного позднее император Франции, оказывался задет шутками, которые они себе позволяли на его счет, и тогда они удвоили энергию своих преследований.
Как часто нам приходилось видеть его мрачным и в дурном настроении и слышать, как он говорил госпоже Бонапарт, что это из-за недавней статьи в «Курьере» или в газете «Сан», направленной против него. Бонапарт попробовал даже поддерживать нечто вроде чернильной войны между различными английскими газетами, подкупал в Лондоне писателей, истратил много денег, но никого не смог обмануть ни во Франции, ни в Англии.
Я уже говорила по этому поводу, что часто он диктовал заметки в «Монитор». У Бонапарта была странная манера диктовать. Никогда ничего не писал он собственноручно. Его ужасный почерк был неразборчив как для других, так и для него самого, и у него была плохая орфография. Ему совершенно не хватало терпения для какого бы то ни было ручного труда, а необыкновенно деятельный ум и привычка повиноваться минуте, секунде не позволяли никакого упражнения, где одна часть его самого должна была бы повиноваться другой. Люди, которые редактировали по его указаниям (сначала Бурьен, а потом Маре и его личный секретарь Меневаль), придумали нечто вроде сокращенного письма, чтобы их перо могло двигаться так же быстро, как его мысль. Первый консул диктовал, расхаживая большими шагами по своему кабинету. Если он был возбужден, его речь была пересыпана жестокими проклятиями и даже богохульством, которые пропускали, когда записывали, и которые имели по крайней мере то преимущество, что давали немного времени, чтобы поспеть за ним.
Бонапарт не повторял того, что сказал один раз, хотя бы даже его не слышали, и это было несчастьем для его секретарей, так как он очень хорошо помнил, что сказал, и замечал пропуски. Однажды он прочел одну трагедию в рукописи, которая была ему передана; произведение настолько поразило его, что у него явилась фантазия сделать в нем некоторые изменения. «Возьмите чернила и бумагу, – сказал он Ремюза, – и запишите то, что я буду вам говорить». И почти не давая моему мужу времени устроиться за столом, он стал диктовать с такой быстротой, что Ремюза, привыкший к очень быстрому письму, сильно вспотел, стараясь следовать за ним. Бонапарт прекрасно видел, как тому было трудно, и время от времени приостанавливался, чтобы сказать: «Ну постарайтесь понять меня, потому что я не стану повторять». Его всегда несколько забавляла неловкость, в которую он ставил других. Главный общий принцип, который он всегда применял как в крупном, так и в мелочах, заключался в том, что рвение является только вместе с беспокойством.
Слава Богу, что он забыл спросить лист с замечаниями, который продиктовал, так как мы, Ремюза и я, часто пытались перечесть его и никогда не были в состоянии разобрать ни слова. Маре, государственный секретарь, человек отнюдь не блестящего ума (на самом деле Бонапарт не питал ненависти к людям средним, говоря, что у него достаточно ума, чтобы давать им то, чего им недостает), – Маре, говорю я, дошел до того, что получил большое влияние, потому что достиг необыкновенной ловкости в редактировании. Он привык понимать и передавать даже слабый намек мысли Бонапарта и, не допуская никогда никаких замечаний, умел верно передать ее такой, какой она выходила из мозга консула. Окончательно же объясняет успех Маре у господина то, что он отдавался, или делал вид, что отдается, безграничной преданности, которую выражал восхищением, – и это восхищение не могло не льстить Бонапарту. Этот министр дошел до такой лести, что, как утверждают, когда он путешествовал с императором, то заботливо оставлял своей жене образцы писем, которые она старательно списывала и в которых жаловалась на то, что ее муж так исключительно предан своему господину, что она не может удержаться от ревности. И так как во время путешествия курьеры доставляли его письма императору, который часто забавлялся тем, что вскрывал их, эти ловкие жалобы производили именно тот эффект, которого ожидали.
Когда Маре был министром иностранных дел, он не держался примера Талейрана, который часто говорил, что на этом месте надо больше всего вести переговоры с самим Бонапартом. Маре, наоборот, входил во все его страсти, всегда выражая удивление, как иностранные государи смеют возмущаться, когда их оскорбляют, и стремятся несколько противодействовать своей гибели; он часто упрочивал свое положение за счет интересов Европы, к которым он мог бы отнестись более справедливо, как беспристрастный и ловкий министр. Он всегда имел подле себя, так сказать, курьера, чтобы донести каждому государю первый признак гнева Бонапарта, если тот узнавал какую-нибудь новость, которая его зажигала.
Эта преступная услужливость, впрочем, иногда вредила самому его господину. Она вызвала несколько разрывов, о которых жалели после того, как первый гнев остывал, и, может быть, даже способствовала падению Бонапарта. Дело в том, что в последний год его царствования, в то время, как он колебался в Дрездене относительно того, как поступить, Маре на восемь дней задержал необходимое отступление, не имея мужества сообщить императору об измене Баварии, о чем тому так необходимо было знать[32].
Может быть, здесь уместно рассказать относящийся к Талейрану анекдот, который доказывает, до какой степени этот ловкий министр знал, как надо поступать с Бонапартом, и в какой мере владел собой.
Мир между Англией и Францией заключили в Амьене весной 1802 года. Некоторые новые затруднения между уполномоченными вызывали известное беспокойство. Первый консул с нетерпением ждал курьера. Тот является и приносит министру иностранных дел столь желанную подпись. Талейран кладет ее в карман и отправляется к Первому консулу, появляется перед ним с невозмутимым видом, какой он сохранял во всех случаях. Остается целый час, представляя Бонапарту целый ряд важных дел, и, когда работа подходит к концу, говорит, улыбаясь: «Теперь я доставлю вам большое удовольствие: трактат подписан, вот он».
Бонапарт был поражен этим способом сообщить новость.
– Как же, – спросил он, – вы мне этого тотчас же не сказали?
– А, – ответил ему Талейран, – тогда вы не стали бы слушать всего остального. Когда вы счастливы, вы недоступны.
Эта сила в молчании поразила Первого консула и не рассердила его, добавлял Талейран, потому что он тотчас же заключил, сколько можно извлечь из этого выгоды.
Другой представитель этого же двора, более сердечно преданный Бонапарту, но так же точно обнаруживающий восхищение им, был маршал Бертье, принц Ваграмский. Он совершил египетскую кампанию и там сильно привязался к своему генералу. Он демонстрировал даже такую дружбу, что Бонапарт, как ни был нечувствителен ко всему, исходящему от сердца, не мог порой не отвечать на нее. Но их чувства были крайне неравны и сделались для того, кто обладал властью, случаем требовать преданности, которая является результатом искренней привязанности. Однажды Талейран беседовал с Бонапартом, ставшим императором. «В самом деле, – говорил Бонапарт, – не понимаю, как могли между мной и Бертье установиться отношения, имеющие вид дружбы. Мне не слишком нравятся бесполезные чувства, а Бертье – такая посредственность, что я не знаю, почему мне должно нравиться его любить; а между тем, в сущности, когда ничто меня не отвращает, мне кажется, я не лишен склонности к нему». – «Если вы его любите, – отвечал Талейран, – то это потому, что он верит в вас!»
Все эти разнообразные рассказы, которые я привожу по мере того, как их припоминаю, я узнала только гораздо позднее, когда мои более близкие отношения с Талейраном открыли мне главные черты характера Бонапарта. В первые годы я совершенно заблуждалась на его счет и была благодаря этому очень счастлива. Я находила в нем ум, я видела, что он готов был исправлять мимолетные вины по отношению к своей жене, я видела с удовольствием эту дружбу Бертье; он ласкал на моих глазах маленького Наполеона, которого, по-видимому, любил. Я представляла его себе открытым для нежных и естественных чувств, и мое юное воображение легко наделяло его всевозможными достоинствами. Но, по справедливости, надо сказать, что избыток власти пьянил его, а страсти дошли до крайности по причине легкости, с какой он мог их удовлетворять; молодой и неуверенный еще в своем будущем, он чаще колебался: обнаруживать ли ему известные пороки или по крайней мере поддерживать некоторые добродетели.
Не знаю, кто первый после объявления войны Англии внушил Бонапарту идею о плоскодонных судах. Я не могу даже утверждать, что он искренне проникся надеждой или сделал из этого случай усилить армию, которую собрал в Булонском лагере. Притом так много людей подтверждали возможность высадки, что, быть может, Бонапарт решил, будто судьба принесет ему подобный успех.
В наших портах и в некоторых городах Бельгии вдруг были начаты громадные работы; армия шла по берегу; генералы Сульт и Ней были отправлены для командования ею в разные пункты. Всеобщее воображение как будто бы было направлено на завоевание Англии, так что сами англичане начали беспокоиться и делать некоторые приготовления к обороне. Общественное мнение старались возбуждать против Англии драматическими произведениями: в театрах представляли сюжеты из жизни Вильгельма Завоевателя. А между тем легко захватили Ганновер. Но тогда и началась блокада наших портов, которая причинила нам столько зла.
Летом этого года было решено отправиться в Бельгию. Первый консул потребовал, чтобы это путешествие было совершено с большой пышностью. Ему нетрудно было убедить госпожу Бонапарт носить все то, что могло бы поразить людей, которым она будет показываться. Госпожа де Талуэ и я были избраны для совершения покупок, и консул дал мне тридцать тысяч франков на расходы. Он отправился в путь 24 июня 1803 года в сопровождении нескольких экипажей, двух генералов своей гвардии, адъютантов, Дюрока, двух префектов дворца – Ремюза и одного пьемонтца по имени Сальматорис; и ничто не было забыто, чтобы сделать это путешествие пышным.
Прежде чем двинуться в путь, мы провели один день в Мортефонтене. Эту землю купил Жозеф Бонапарт, и вся семья собралась здесь. Но тут произошло довольно странное происшествие.
Утро посвятили осмотру садов, действительно прекрасных. Во время обеда зашла речь о церемониале. Мать Бонапарта также была в Мортефонтене, и Жозеф предупредил брата, что, проходя в столовую, он поведет под руку свою мать, которая сядет от него справа, тогда как госпожа Бонапарт сядет только слева. Церемониал, который ставил его жену на второе место, обидел консула, и он приказал брату изменить очередность. Жозеф запротестовал, и ничто не смогло заставить его уступить. Когда объявили, что обед подан, Жозеф взял под руку мать, а Люсьен – госпожу Бонапарт. Консул, раздраженный протестом, быстро пересек залу, подхватил жену под руку, прошел впереди всех, посадил ее рядом с собой и, полуобернувшись ко мне, громко позвал меня и приказал сесть около себя. Все собрание было поражено, я – больше всех. Госпожа Жозеф Бонапарт, с которой обязаны были соблюдать вежливость, в итоге очутилась в конце стола, как будто не составляла часть семьи. Понятно, что за столом возникла неловкость. Братья были недовольны, госпожа Бонапарт – огорчена, а я – очень сконфужена тем, что оказалась так на виду.
Во время обеда Бонапарт не сказал ни слова никому из своей семьи, он был занят только женой, потом поговорил со мной и выбрал даже этот момент, чтобы сообщить мне, что утром отдал виконту Вержену (моему двоюродному брату) леса, давно секвестрованные вследствие эмиграции. Я была весьма тронута этим знаком его благосклонности, но в то же время мне было очень досадно, что он выбрал подобный момент для такого сообщения, так как благодарность и радость, которые позднее я с удовольствием бы ему выразила, придавали мне в глазах тех, кто нас видел, вид непринужденности, противоречащей неловкости, которую я на самом деле испытывала. Остаток дня прошел холодно, как можно себе представить, и на следующий день мы уехали.
Случай, который произошел с нами с самого начала путешествия, еще больше усилил мою привязанность к консулу и его жене. Они ехали в экипаже с одним из генералов гвардии. Впереди был экипаж, где ехали Дюрок и три адъютанта, сзади него третий – для госпожи де Талуэ, Ремюза и меня. Позади нас – еще два. В нескольких лье от Компьеня, где мы посещали военную школу, кучера повезли с такой быстротой, что наш экипаж неожиданно опрокинулся. Госпожа де Талуэ повредила голову, Ремюза и я получили только несколько ушибов. Нас вытащили из разбитого экипажа с некоторым трудом.
Об этом случае донесли Первому консулу, который был впереди. Он велел остановиться, госпожа Бонапарт в ужасе стала беспокоиться обо мне, и Бонапарт поспешил в маленькую хижину, куда нас привели к этому моменту. Я была так потрясена, что, как только увидела Бонапарта, стала просить его почти со слезами отправить меня в Париж. У меня было уже отвращение по отношению к путешествиям, как у голубя в басне Лафонтена, и в волнении я воскликнула, что мечтаю возвратиться к своей матери и детям.
Бонапарт обратился ко мне с несколькими словами, чтобы меня успокоить, но, видя, что в первые минуты ничего не достигнет, взял меня под руку, дал распоряжение поместить госпожу де Талуэ в один из экипажей и, удостоверившись, что с Ремюза ничего не случилось, повел меня, перепуганную, к своей карете и заставил сесть вместе с ним. Мы поехали, и он старался успокоить свою жену и меня, весело посоветовав нам поцеловаться и поплакать, «потому что, – смеясь заметил он, – это облегчает женщин». Мало-помалу ему удалось отвлечь меня оживленным разговором от ужаса, какой мне внушала мысль о продолжении путешествия. Когда госпожа Бонапарт заговорила о горе моей матери, если бы со мной что-нибудь случилось, он задал мне несколько вопросов о ней и как будто хорошо знал положение, которое она занимала в обществе. Видимо, именно этот мотив и вызывал значительную часть его забот обо мне. В то время, когда столько людей еще отказывались от авансов, которые он им делал, ему было лестно, что моя мать согласилась на мое представление ко двору. В то время я была для него почти знатной дамой, и он надеялся, что моему примеру последуют другие.
Вечером этого дня мы прибыли в Амьен, где были встречены с энтузиазмом, который невозможно описать. В какой-то момент лошади кареты были отпряжены и заменены жителями, желавшими ее везти. Я была тем более тронута этим зрелищем, что для меня оно было совершенно ново. Увы! С тех пор как я пришла в возраст, когда оглядываешься вокруг себя, я видела только сцены ужаса и отчаяния, я слышала со стороны народа только крики ненависти и угроз. Эта радость жителей Амьена, эти гирлянды, которые увенчивали наш путь, эти триумфальные арки, воздвигнутые в честь того, кто был изображен на всех девизах как восстановитель Франции, эта толпа народа, которая теснилась, чтобы его увидеть, эти благословения, слишком всеобщие, чтобы быть предписанными, – все это тронуло меня так живо, что я не могла удержаться от слез; госпожа Бонапарт тоже плакала, и я видела, что глаза Бонапарта на минуту покраснели.
Глава III 1803 год
Продолжение путешествия в Бельгию – Взгляды Первого консула на благодарность, славу и французов – Пребывание в Генте, Малине, Брюсселе – Духовенство – Рокелор – Возвращение в Сен-Клу – Приготовления к высадке в Англии – Замужество госпожи Леклерк – Путешествие Первого консула в Булонь – Болезнь Ремюза – Я еду к нему – Беседа с Первым консулом
Как только Бонапарт появлялся в каком-нибудь городе, префект дворца должен был тотчас же собрать представителей власти для представления Первому консулу. Префект, мэр, епископ, председатель суда приветствовали его, потом произносили небольшую речь, обращаясь к госпоже Бонапарт. В зависимости от того, был ли он более или менее терпелив, Первый консул выслушивал эти речи до конца или прерывал их, чтобы задать различным лицам вопросы относительно их обязанностей или страны, в которой они исполняли их. Редко расспрашивал он с видимым интересом, чаще – тоном человека, который хочет доказать, что знает предмет, и хочет видеть, сумеют ли ему ответить.
В этих речах говорилось о Республике, но если дать себе труд перечесть их, то станет ясно, что с такими же речами можно было обращаться и к государю. В некоторых городах Фландрии мэры довели свою решимость до требований, чтобы консул завершил счастье всего мира, заменив свой титул, слишком непрочный, другим, который лучше бы соответствовал его высокому назначению. Я присутствовала тогда, когда это случилось в первый раз, и следила за Бонапартом. Когда эти слова были произнесены, он с некоторым трудом сдержал улыбку, затем, сохраняя самообладание, прервал оратора и отвечал с выражением притворного гнева, что узурпация власти, которая уничтожила бы существование Республики, была бы недостойна его; подобно Цезарю, он отверг корону, хотя, быть может, не был недоволен, что ее начинали предлагать. И, в сущности, эти добрые жители провинции не были слишком неправы.
Блеск, окружающий нас, вся пышность этого двора, военного и вместе с тем блестящего, церемониал, строго требуемый повсюду, повелительный тон господина, подчинение всех и, наконец, эта супруга первого магистрата, которой Республика ничем не была обязана и по отношению к которой требовалось выражение почтения, – все это могло обозначать только шествие короля.
После аудиенции Первый консул обыкновенно садился на лошадь и показывался народу, который следовал за ним с криками; он посещал общественные памятники, мануфактуры, всегда немного бегом, так как не мог умерить быстроту своих движений. Затем Бонапарт давал обед, присутствовал на празднике, который был ему приготовлен, и это было самой скучной частью его профессии, «так как, – добавлял он меланхолическим тоном, – я не создан для удовольствия».
Наконец он покидал город, получив несколько прошений, ответив на некоторые жалобы, распределив помощь в виде денег и подарков. Во время таких поездок, убедившись в отсутствии некоторых общественных учреждений, необходимых городу, консул привык требовать, чтобы они учреждались после его посещения. И за эту щедрость он уносил с собой благословения жителей. Но вскоре происходило следующее. «Согласно милости, которую вам оказал Первый консул (позднее император), – писал министр внутренних дел, – вы обязаны, граждане, построить такое-то или такое-то здание, позаботившись принять расходы на счет вашей городской общины». Таким образом, города оказывались вдруг вынужденными изменить порядок распределения своих фондов, и часто в то время, когда этих фондов не хватало на покрытие самых необходимых нужд. Но префект тщательно заботился о том, чтобы приказания были исполнены: таким образом можно было доказать, что во Франции повсюду, из конца в конец, все улучшалось, все процветало, и изобилие таково, что можно повсеместно начинать новые предприятия, как бы они ни были тягостны.
В Аррасе, Лилле, Дюнкерке нас ожидали такие же встречи, но мне показалось, что энтузиазм несколько уменьшился, когда мы покинули старую Францию. В Генте, особенно, мы встретили некоторую холодность. Тщетно власти старались возбудить жителей, – они выразили любопытство, но не старание угодить. У консула появилось легкое недовольство, и ему не хотелось оставаться надолго; однако вскоре, одумавшись, он сказал своей жене: «Этот народ набожен и находится под влиянием священников; завтра нужно будет долго пробыть в церкви, привлечь духовенство некоторыми милостями, и мы овладеем страной». В самом деле, он с видом глубокого проникновения поприсутствовал на длинной мессе, побеседовал с епископом, которого совершенно очаровал, и мало-помалу добился на улицах приветственных криков, каких желал.
Именно в Генте он нашел дочерей герцога Виллекье, одного из прежних четырех вельмож города, и вернул им прекрасное имение Виллекье со значительными доходами. Я имела счастье содействовать этому возвращению, стараясь ускорить его, чем только могла; милые молодые особы никогда этого не забывали.
В тот вечер, когда это совершилось, я говорила Бонапарту об их благодарности. «Ах, – сказал он мне, – благодарность!.. Это только поэтическое выражение, лишенное смысла в революционные эпохи, и то, что я сделал, не помешает вашим друзьям очень обрадоваться, если какой-нибудь королевский посланный во время этого путешествия убьет меня». И так как я выразила удивление, он продолжал: «Вы молоды, вы не знаете, что такое политическая ненависть. Видите ли, это нечто вроде сложных очков, сквозь которые можно видеть отдельные лица, взгляды, чувства, но только при помощи стекол своей страсти. Отсюда следует, что ничто ни хорошо, ни плохо само по себе, а только в зависимости от той точки зрения, с которой мы смотрим. В сущности, эта манера видеть довольно удобна, и мы ею пользуемся, потому что у нас тоже есть свои очки, и мы рассматриваем вещи если не сквозь наши страсти, то по крайней мере сквозь наши интересы».
«Но, – сказала я ему в свою очередь, – с подобной системой какое место отводите вы одобрению, которое вам льстит? Для какой категории людей тратите вы вашу жизнь на великие предприятия и часто опасные попытки?» – «О, надо быть человеком, повинующимся своей судьбе. Кто чувствует, что она зовет его, не может ей противиться. Кроме того, человеческая гордость создает для себя публику, какую пожелает, в том идеальном мире, который называется потомством. Пусть человек представит себе, что через сто лет прекрасные стихи напомнят какие-нибудь великие дела, а какая-нибудь картина сохранит об этом воспоминание, и т. п.; тогда воображение разыгрывается, поле битвы больше не представляет опасности, напрасно гремят пушки, – их звук, кажется, только переносит имя храбреца через тысячу лет нашим отдаленным потомкам».
«Никогда не пойму, – продолжала я, – как можно искать славы, если с внутренним пренебрежением относишься к людям своего времени». Тут Бонапарт живо перебил меня: «Я не презираю людей, – это слово, которое никогда не нужно произносить; и, в частности, я уважаю французов». Я улыбнулась при этом резком заявлении, и, как бы догадываясь о причине моей улыбки, он также улыбнулся и, приблизившись ко мне и дернув меня за ухо, что было, как я уже говорила, его обычным жестом, повторил мне: «Слышите ли, сударыня? Никогда не нужно говорить, что я презираю французов».
Из Гента мы отправились в Антверпен, где получили удовольствие от совершенно особенной церемонии. Во время пребывания в городе королей и принцев жители Антверпена имеют обыкновение прогуливать по улицам великана. Пришлось согласиться на эту фантазию народа, хотя мы не были ни королями, ни принцами. Затея способствовала доброму расположению Бонапарта по отношению к этому славному городу, и Первый консул много занимался вопросом строительства городского порта, начав важную работу, которая затем была полностью выполнена.
Переезжая из Антверпена в Брюссель, мы остановились на несколько часов в Малине у нового архиепископа Рокелора. Он был епископом Санлиса при Людовике XVI и большим другом моего двоюродного дедушки, графа Вержена. Я часто видела его в детстве и была чрезвычайно рада снова встретить. Бонапарт был очень ласков с ним. В это время он везде подчеркивал, что нужно заботиться о духовенстве и привлекать его на свою сторону. Консул знал, до какой степени религия поддерживает королевскую власть, и предвидел возможность с помощью духовенства распространить в народе катехизис, в котором вечное проклятие угрожало бы тем, кто не будет любить императора или не будет повиноваться ему.
В первый раз со времени Революции духовенство видело, что правительство интересуется его судьбой и предоставляет ему места и положение. Духовенство показало себя благодарным и сделалось полезным союзником Бонапарта до того момента, когда он захотел противопоставить деспотизм совести и попробовал заставить священников колебаться между ним и своими обязанностями. Но пока еще огромный успех принесло ему начинание, превозносимое с энтузиазмом всеми религиозными устами: «Он восстановил религию»[33].
Наш въезд в Брюссель был великолепен; многочисленные, прекрасно экипированные отряды ожидали Первого консула у ворот; он сел на лошадь; для госпожи Бонапарт была приготовлена великолепная карета; город был декорирован, стреляли из пушек, звонили во все колокола; духовенство в торжественном облачении расположилось на ступенях храма; масса народа, множество иностранцев, восхитительная погода! Я была в восторге.
Все время, которое мы провели в Брюсселе, было ознаменовано блестящими празднествами. Министры Франции, консул Лебрен, иностранные посланники, которые должны были разрешить с нами некоторые дела, – все явились сюда. В Брюсселе я слышала, как Талейран ловко и лестно для Бонапарта ответил на его слишком внезапный вопрос. Однажды вечером Первый консул спросил Талейрана, каким образом он смог составить себе громадное состояние, да еще так быстро. «Ничего не может быть проще, – отвечал Талейран, – я купил ренты 17-го брюмера и продал их 19-го».
Однажды в воскресенье нужно было идти в брюссельский собор на большую церемонию. С утра Ремюза отправился в церковь, чтобы следить за проведением этой церемонии. Он имел секретное поручение не противиться никаким выражениям отличия, которые придумает духовенство по этому поводу. Однако когда решили встречать Первого консула с балдахином и крестом у главных ворот и вопрос был в том, разделит ли эту честь его жена, Бонапарт не решился поставить ее в такое положение и велел отвести ей место на трибуне вместе со вторым консулом.
В полдень, как было назначено, духовенство выходит из алтаря и становится за пределами портала. Оно ожидает появления властелина, который не показывается. Удивляются, беспокоятся, как вдруг, обернувшись, видят, что он уже прошел в церковь и уселся на троне, который ему приготовили. Священники, удивленные и смущенные, возвращаются в церковь, чтобы начать службу. Дело в том, что Бонапарт узнал, как во время подобной же церемонии Карл V предпочел войти в церковь св. через маленькую боковую дверь, которая с тех пор называлась его именем, и, по-видимому, Первому консулу пришла фантазия воспользоваться подобным же способом, может быть, в надежде, что с этих пор ее будут называть дверью Карла V и Бонапарта.
Однажды утром я видела консула – или, лучше сказать в этом случае, генерала, – делающего смотр многочисленным и великолепным войскам, которые были призваны в Брюссель. Ничего нельзя представить себе более опьяняющего, чем встреча, которую оказывали Бонапарту войска в эту эпоху. Но нужно также было видеть, как он говорил с солдатами, как он их расспрашивал, одного за другим, об их кампании, об их ранах, как он особенно хорошо относился к тем, кто был с ним в Египте. Я слышала от госпожи Бонапарт, что ее супруг долго сохранял привычку, ложась в постель по вечерам, изучать кадровые списки войск. Он так и засыпал над названиями корпусов и перечнем лиц, входивших в состав его собственного корпуса. Обыкновенно он сохранял их в уголке своей памяти, и это чудесно служило ему в тех случаях, когда нужно было узнать солдата и доставить ему удовольствие быть выдвинутым его генералом.
Бонапарт держался с военными добродушного тона, который их очаровывал, всем им говорил «ты» и напоминал о тех военных подвигах, которые они совершили вместе.
Позднее, когда его армия сделалась столь многочисленной, а битвы – столь смертоносными, он уже презирал этот способ очаровывать. Притом смерть унесла столько воспоминаний, что через несколько лет стало слишком трудно отыскать сотоварищей его первых подвигов. Когда Бонапарт обращался с речью к солдатам, призывая их на битву, он не мог уже обращаться к ним как к поколению, непосредственно связанному с предыдущим, которому прежняя, исчезнувшая, армия завещала свою славу. Но эта новая манера возбуждать их храбрость еще долго удавалась ему по отношению к нации, которая верила, что исполняет свое назначение, ежегодно умирая за него.
Я говорила, что Бонапарт очень любил вспоминать свою египетскую кампанию, и действительно, он всего охотнее воодушевлялся, говоря о ней. Он взял с собой в это путешествие Монжа, ученого, которого сделал сенатором и которого особенно любил, просто потому, что тот был в числе членов Института, которые сопровождали его в Египет. Часто Бонапарт вспоминал с ними об этой экспедиции, «этой стране поэзии, – как говорил он, – которую попирали Цезарь и Помпей». Бонапарт с энтузиазмом возвращался к тому времени, когда он показался перед изумленными жителями Востока как новый пророк. Эта победа над умами – пожалуй, самая полная из всех, – казалась ему самой желанной. «Во Франции, – говорил он, – мы всего должны добиваться при помощи доказательства, в Египте, Монж, мы не нуждались в нашей математике».
В Брюсселе я начала немного привыкать к манерам Талейрана. Презрительное выражение его лица и склонность к насмешкам не слишком мне импонировали. Однако, так как праздность придворной жизни делает иногда день сточасовым, оказалось, что мы провели многие из них вместе в одном салоне, ожидая, когда Первому консулу вздумается появиться или уйти. В один из таких моментов скуки я расслышала, как Талейран жалуется, что его семья не пошла навстречу проектам, которые он для нее составил. Его брат, Аршамбо де Перигор, был изгнан. Он был обвинен в том, что позволил себе насмешливую манеру говорить, довольно обычную в этой семье, но он применил ее к лицам, слишком высокопоставленным; притом знали, что он отказался выдать за Евгения Богарне свою дочь и предпочел отдать ее замуж за графа Жюста де Ноайля. Талейран, который желал этой свадьбы так же, как и госпожа Бонапарт, порицал поведение брата, и я хорошо понимала, что с точки зрения личной политики он был заинтересован в подобном союзе.
Когда я начала беседовать с Талейраном, меня прежде всего поразило то, что он оказался лишен каких бы то ни было иллюзий или энтузиазма относительно совершавшегося вокруг нас. Весь двор испытывал этот энтузиазм в большей или меньшей степени. Полное подчинение военных легко могло принять оттенок преданности, и такая преданность действительно существовала у некоторых из них. Министры подчеркивали или испытывали глубокое восхищение; Маре по всякому поводу демонстрировал культ Бонапарта; Бертье спокойно верил в реальность его дружбы; казалось, что каждый более или менее испытывает какие-то чувства. Ремюза старался любить занятие, которому отдался, и уважать того, кто ему это занятие предписывал. Что касается меня, я не упускала случая волноваться и обманываться.
Спокойствие, безразличие Талейрана меня смущало. «Боже мой! – решилась я ему однажды сказать. – Как можно жить и действовать, не получая никакого впечатления ни от того, что происходит, ни от своих поступков?» – «О, насколько вы женщина и как вы молоды!» – отвечал он и начинал насмехаться надо мной, как и над всеми остальными. Его насмешки оскорбляли меня однако они же заставляли меня улыбаться. Я сознавала, что, как бы против своей воли, испытываю удовольствие от его остроумных насмешек: моему самолюбию льстило, что я могла понимать его ум, благодаря этому меня меньше возмущала сухость, которую я находила в его сердце. Притом я его еще не знала, и только гораздо позднее, освободившись от ощущения неловкости, в которую он ставил всегда тех, кто приближался к нему в первый раз, я могла наблюдать странное смешение, которое представлял его характер.
После Брюсселя мы посетили Льеж и Маастрихт и возвратились в старую Францию через Мельер и Седан. Госпожа Бонапарт была в этом путешествии очаровательна и оставила о своей доброте и грации воспоминание, которое пятнадцать лет спустя я нашла неизгладившимся.
Мы возвратились в Париж с радостью; я снова находилась в кругу своей семьи и, свободная от придворной жизни, с наслаждением отдавалась ей. Мы оба, Ремюза и я, были утомлены праздной, но беспокойной пышностью, в которой провели шесть недель. Для нас ничто не могло сравниться с тихими прелестями тесно сплоченной семейной жизни, в окружении нежных привязанностей и самых естественных чувств.
Когда Первый консул приехал в Сен-Клу, его и госпожу Бонапарт приветствовали депутации различных учреждений, судов и т. п.; дипломатический корпус также нанес ему визит. Спустя некоторое время он постарался придать большее великолепие ордену Почетного легиона и назначил его канцлером графа Ласепеда.
После падения Бонапарта либеральные писатели, и в числе их госпожа де Сталь, предали это учреждение своего рода анафеме, напоминая одну английскую карикатуру, которая представляла Бонапарта вырезающим кресты из красного колпака. Однако если бы он не злоупотреблял этим учреждением (равно как и всеми остальными), можно было бы только приветствовать изобретение награды, которая побуждала ко всякого рода заслугам, не становясь для государства слишком тяжелым бременем. Сколько подвигов на поле битвы заставил совершить этот кусочек ленты! И если бы он давался только за заслуги, если бы из него не сделали отличия, вручаемого часто по капризу, мне кажется, это была бы благородная идея – уравнивать все услуги, оказанные родине, какого бы рода они ни были, и награждать их все одинаковым способом.
Когда речь идет о нововведениях Бонапарта, надо остерегаться осуждать их без рассмотрения. Большинство из них имеет полезную цель и могло бы быть обращено на благо нации; но его неумеренная любовь к власти портила их затем по его капризу. Возмущаясь всякими препятствиями, он не выносил также и те, которые происходили от его собственных начинаний, и дискредитировал их, принимая решения внезапные и произвольные.
Создав в течение этого года различные представительства, он дал Сенату канцлера, казначея и преторов. Канцлером был назначен Лаплас, которого Бонапарт уважал как ученого и который нравился ему потому, что умел хорошо льстить. Двумя преторами были генералы Лефевр и Серюрье, а де Фарт был казначеем.
Республиканский год закончился, как обыкновенно, в середине сентября, а годовщина Республики была ознаменована большими празднествами, проводимыми с королевской пышностью во дворце Тюильри. В то же время узнали, что ганноверцы, побежденные генералом Мортье, устроили в день рождения Первого консула празднование. Таким образом, мало-помалу, сначала во главе всего, а затем и один, Бонапарт приучал Европу видеть Францию только в его лице, представляя ее вместо всех остальных.
Так как он сознавал, что встретит противодействие со стороны представителей старшего поколения, то рано и довольно ловко начал привлекать молодежь, которой открыл все двери для движения вперед. Он устроил кандидатов в различные министерства, дал ход всевозможным честолюбиям как в военной, так и в гражданской карьере. Бонапарт часто говорил, что предпочитает, чтобы народом правили молодые, и до известной степени находил для этого возможности.
Первый консул обсуждал в этом году и учреждение суда присяжных. Я слышала, как говорили, что Бонапарт не имеет к нему никакого расположения; но его Государственный совет показал себя твердым по этому пункту, и, несмотря на желание управлять в дальнейшем гораздо более самостоятельно, без помощи собраний, которых он опасался, Первый консул был вынужден сделать некоторые уступки самым выдающимся членам Совета.
Во всех крупных городах Франции учредили лицеи, и изучение древних языков, уничтоженное во время революции, снова сделалось обязательным в системе народного образования.
Между тем большие приготовления шли во флотилии плоскодонных кораблей, которая должна была служить для экспедиции в Англию. Со дня на день увеличивались шансы, в случае тихой погоды, отправить ее к берегам Англии. Говорили, что консул сам будет командовать экспедицией, и это предприятие, казалось, не превышало возможностей ни его смелости, ни его удачи. Наши газеты изображали Англию взволнованной и обеспокоенной, и, в сущности, английское правительство не было чуждо известных опасений по этому поводу. «Монитор» всегда вел ожесточенную войну против свободных английских газет, и брошенные перчатки поднимались с обеих сторон. Во Франции применили закон о рекрутском наборе, и многочисленные солдаты уже собирались под знамена. Спрашивали о причинах такого вооружения, обсуждали замечания, подобные нижеследующему, как бы случайно разбросанные по страницам «Монитора»: «Английские журналисты подозревают, что большие приготовления к войне, о которых Первый консул издал распоряжения в Италии, предназначены для Египта».
Никакого отчета не было дано французской нации. Но французы испытывали по отношению к Бонапарту доверие, подобное тому, какое внушает магия легковерному уму; и, так как успех его предприятий был неоспорим в глазах народа, естественно увлеченного удачей, Бонапарту нетрудно было получить молчаливое согласие на все свои действия. С этого времени небольшое число догадливых людей начало замечать, что он не будет для нас полезным человеком, но, так как страх перед революционным правительством все-таки провозглашал его нужным человеком, опасались, протестуя против него, облегчить дела партии, которую, казалось, он один мог сдерживать.
А Бонапарт, всегда энергичный и деятельный, стремился не оставлять умы в покое, который ведет к размышлению, и распространять во все стороны беспокойство, которое должно было служить ему. Было напечатано письмо графа д’Артуа, извлеченное из «Морнинг Кроникл», в котором английскому королю предлагались услуги эмигрантов в случае вылазки; носились слухи о некоторых попытках заговоров в восточных департаментах; с тех пор как война в Вандее сменилась бесславными беспорядками, которые наводили шуаны, общество привыкло к идее, что любое движение, которое возникнет в стране, не поведет ни к чему другому, кроме грабежа и пожара. Наконец, истинную возможность покоя видели только в сохранении установленного правительства; и теперь некоторые друзья свободы оплакивали ее потерю, несмотря на либеральные учреждения (испорченные на их глазах потому, что были задуманы абсолютной властью), и делали заявления, подобные следующим: «После стольких бурь, среди борьбы стольких партий только сила может дать нам свободу, и, поскольку именно сила стремится сейчас поддержать принципы порядка и морали, мы не должны думать, что отклоняемся от истинного пути, так как в конце концов создатель исчезнет, но созданное им останется у нас».
А «создатель», в то время, когда волновались по поводу его распоряжений, постоянно пребывал в состоянии полного спокойствия. В Сен-Клу он снова возвратился к жизни размеренной, и мы проводили наши дни так, как я их уже описывала. Все его братья были заняты: Жозеф – в лагере в Булони, Луи – в Государственном совете, Жером, самый молодой, – в Америке, куда он был послан и где был очень хорошо принят[34]. Сестры, начав пользоваться большим состоянием семьи, украшали дома, которые им подарил Первый консул, и старались перещеголять одна другую роскошью обстановки. Евгений Богарне погрузился в исполнение своих военных обязанностей; его сестра жила тихо и довольно печально.
Молодая госпожа Леклерк отдавалась новой страсти, которую она внушила принцу Боргезе (недавно приехавшему во Францию из Рима) и которую она разделяла. Этот принц просил ее руки у Бонапарта, который, по причине, мне неизвестной, сначала противился этому предложению. Быть может, его тщеславие не позволяло ему казаться польщенным какими бы то ни было связями, и он не желал показать вида, что с радостью принимает первое же предложение. Но когда связь этих двух лиц сделалась известной, он наконец согласился ее легализировать браком, который и совершился в Мортефонтене, во время пребывания суда в Булони.
Бонапарт поехал осматривать лагерь и флотилию 3 ноября 1803 года; это путешествие было чисто военным. Он велел сопровождать себя только генералам своей гвардии, адъютантам и Ремюза.
Прибыв в Понт-де-Брик, маленькое селение на расстоянии одного лье от Булони, где Бонапарт велел организовать свою главную квартиру, мой муж опасно заболел. Как только я об этом узнала, поспешила к нему и прибыла в этот Понт-де-Брик в середине ночи. Отдавшись всецело своему беспокойству, я думала только о состоянии, в котором найду своего дорогого больного, но, когда вышла из экипажа, была смущена, очутившись одна среди лагеря и не зная, что подумает консул о моем прибытии. Однако меня успокоили: слуги, которые встали, чтобы встретить меня, рассказали, что мое прибытие предвидели и оставили мне еще два дня тому назад маленькую комнату. Я провела в ней остаток ночи, ожидая утра, чтобы показаться на глаза своему мужу, не нарушая его покой. Я нашла его очень подавленным, но он проявил такую радость, видя меня у своей постели, что я поздравила себя с тем, что поехала, не испросив разрешения.
Проснувшись, Бонапарт позвал меня к себе; я была взволнована и немного смущена; он это заметил, как только я вошла в комнату. Тогда он поцеловал меня, усаживая, и успокоил меня первыми же словами: «Я ждал вас. Ваше присутствие вылечит вашего мужа». При этих словах я расплакалась. Он был, по-видимому, тронут и постарался меня успокоить, предписав приходить к нему каждый день обедать и завтракать, для того чтобы, как он сказал, смеясь, «понаблюдать за женщиной ваших лет, очутившейся таким образом среди стольких военных».
Затем Бонапарт спросил, в каком состоянии я оставила его жену. Незадолго до его отъезда несколько новых тайных визитов мадемуазель Жорж вызвали столкновение в семье. «Она волнуется, – прибавил он, – гораздо больше, чем следует. Жозефина всегда боится, как бы я серьезно не влюбился, – значит, она не знает, что любовь существует не для меня. Так как, в самом деле, что такое любовь? Страсть, которая оставляет весь мир в стороне, чтобы видеть, признавать только любимый предмет. А я, конечно, совсем не склонен отдаваться такой исключительности. Что же ей до тех развлечений, в которых нисколько не участвует мое чувство? Вот, – продолжал он, глядя на меня несколько строго, – в чем должны убеждать ее друзья, а особенно пусть они не надеются увеличить свое влияние на нее, увеличивая ее беспокойство». В этих последних словах заметен был оттенок недоверия и строгости, которых я не заслуживала, и мне кажется, он это знал тогда очень хорошо, но ни в коем случае не хотел отступить от своей излюбленной системы, которая заключалась в том, чтобы держать умы в состоянии беспокойства.
После моего приезда Бонапарт пробыл в Понт-де-Брик около десяти дней. Муж мой был болен серьезно, но доктора не беспокоились. За исключением четверти часа, занятой завтраком с консулом, я проводила все время в комнате моего больного. Бонапарт ежедневно посещал лагерь, осматривал войска, флотилию, присутствовал на небольших сражениях или, вернее, при обмене выстрелами между нами и англичанами, которые беспрерывно курсировали перед портом и старались помешать рабочим.
В шесть часов Бонапарт возвращался и тогда звал меня к себе. Иногда он приглашал к обеду некоторых военных, живущих в его доме, морского министра или директоров путей сообщения, которые его сопровождали. Иногда мы обедали тет-а-тет, и тогда он говорил о самых разнообразных вещах. Он рассказывал о своем собственном характере, изображал себя всегда несколько меланхолическим, вне всякого сравнения со своими товарищами. Моя память очень точно хранит воспоминание обо всем, что он рассказывал во время этих бесед. Вот о чем приблизительно шла речь:
«Я был воспитан, – говорил он, – в военной школе, но обнаруживал расположение только к точным наукам. Все говорили обо мне: «Этот ребенок способен только к геометрии». Я жил в отдалении от моих товарищей. Избрав уголок, я усаживался, чтобы помечтать, так как всегда был склонен к мечтательности. Когда товарищи хотели завладеть этим уголком, я защищал его всеми силами. У меня тогда уже было инстинктивное сознание, что моя воля должна господствовать над волей других и что то, что мне нравится, должно принадлежать мне. Меня недолюбливали в школе; для того чтобы заставить любить себя, нужно время, но даже когда мне нечего было делать, мне всегда смутно казалось, что я ничего не теряю.
Когда я поступил на службу, то скучал в своих гарнизонах и принялся читать романы: это чтение меня живо интересовало. Я пробовал даже писать романы; это занятие порождало неопределенные мечты, и они смешивались с точными знаниями, которые я приобрел; порой я развлекался мечтами, чтобы сравнивать затем эти мечты с точностью моих рассуждений. Я отдавался мыслью идеальному миру и старался определить, чем он отличался от мира реального.
Я всегда любил анализ: если бы я был серьезно влюблен, то разложил бы свою любовь на составные части. Зачем и почему – полезные вопросы, которые всегда надо задавать себе.
Я меньше изучал историю, чем завоевывал ее. Это значит, что я выбирал и запоминал из нее только то, что могло дать лишнюю идею, пренебрегая ненужным и пользуясь известными результатами, которые мне нравились. Я не много понимал в революции, однако она могла принести мне пользу. Равенство, которое привело к моему возвышению, увлекало меня. Двадцатого июня 1792 года я был в Париже, видел, как чернь шла против Тюильри. Я никогда не любил народных движений и был возмущен грубым поведением этих несчастных; я находил, что вожди, поднявшие их, поступили неосторожно, и говорил себе: «Выгоды от этой революции получат не они». Но когда мне сказали, что Людовик надел на голову красный колпак, я пришел к заключению, что он перестал царствовать, так как в политике нельзя подняться после унижения.
Десятого августа я почувствовал, что, если бы меня призвали, я защищал бы короля[35]; я восставал против тех, кто позволял народу основать Республику; я видел, как люди в куртках нападали на людей в мундирах, и это меня шокировало. Позднее я изучил военное искусство – отправился в Тулон; мое имя становилось известным. По возвращении я вел праздную жизнь. Не знаю, какое тайное внушение предупреждало меня о том, что надо пользоваться моментом.
Однажды вечером я был на спектакле; это было 12-го вандемьера [3 октября 1795 года]. И слышу разговоры о том, что на следующий день ожидают «du train», смену состава, – вы знаете, что это обычное выражение парижан, которые привыкли равнодушно видеть разнообразные смены правительства, пока они не мешают ни их делам, ни их удовольствиям, ни даже их обедам. После террора были довольны всем, что давало возможность жить.
В моем присутствии говорили, что собрание объявило свои заседания непрерывными, я побежал туда, но увидел только смятение и колебание. Вдруг из глубины залы раздался голос, сказавший: «Если кто-нибудь знает адрес генерала Бонапарта, то ему просят передать, что его ожидают в комитете собрания». Я всегда любил придавать значение случаю, который вмешивается в известные события; этот последний решил дело: я отправился в комитет.
Я встретил там некоторых депутатов, совершенно перепуганных, и между прочими – Камбасереса. Он ожидал на следующий день нападения и не знал, на что решиться. У меня спросили совета; моим ответом была просьба дать мне пушки. Это предложение их ужаснуло. Вся ночь прошла в нерешимости. Утром вести были очень неблагоприятными. Тогда мне поручили все дело, а затем начали рассуждать о том, имеют ли право отвечать на силу силой. «Думаете ли вы, – отвечал им я, – что народ даст вам позволение стрелять в него? Я скомпрометирован, так как вы меня назначили; теперь справедливо, чтобы вы предоставили мне свободу действий». С этими словами я покинул этих адвокатов, которые тонули в собственном красноречии. Я двинул войска и поставил две пушки на улице Сен-Рок; эффект был ужасен: буржуазная армия и заговорщики были сметены в одну минуту.
Но я пролил кровь парижан! Какое святотатство! Надо было сгладить впечатление. Между тем с каждым днем я чувствовал себя все более и более призванным к чему-то и попросил командование Итальянской армией. Все было неустроенно в этой армии – и вещи, и люди. Только юность способна к терпению, потому что у нее еще все впереди. Я отправился в Италию с солдатами жалкими, но полными воодушевления. Я велел везти в середине войска эскортированные фургоны – хотя и пустые, но которые называл «сокровищем армии». Я велел раздавать рекрутам башмаки, – никто не пожелал их носить. Я обещал своим солдатам, что за Альпами нас ожидают счастье и слава, я сдержал слово, – и с этих пор армия шла за мной на край света.
Я провел прекрасную кампанию – и стал личностью для Европы. С одной стороны, при помощи военных приказов я поддерживал революционную систему; с другой – я втайне щадил эмигрантов и позволял им питать некоторые надежды. Подобным способом очень легко злоупотреблять, потому что он исходит не от того, что существует, но от того, что желательно. Я получал великолепные предложения на случай, если захочу последовать примеру генерала Монка. Претендент [будущий Людовик XVIII] даже написал мне письмо своим неуверенным и цветистым слогом. Я сумел лучше победить папу, избегая появляться в Риме, чем если бы сжег его столицу.
Наконец я сделался видным и опасным человеком, а Директория, которой я внушал беспокойство, не могла, однако, предъявить мне никакого внятного обвинения. Мне ставили в упрек, что я способствовал перевороту 18-го фрюктидора [4 сентября 1797 года]; это было то же, что упрекать меня в поддержке революции. Надо было воспользоваться ею, этой революцией, и воспользоваться кровью, которую она пролила. Что?! Отдаться, без всяких условий, принцам из дома Бурбонов, которые хвастались бы перед нами нашими же несчастиями, начавшимися после их отъезда, и предписали бы нам молчание, так как мы показали, что нуждались в их возвращении! Переменить наши победоносные знамена на это белое знамя, которое не побоялось смешаться с неприятельскими штандартами! А мне, наконец, мне удовлетвориться несколькими миллионами и каким-либо герцогством! Конечно, роль Монка не так трудна и доставила бы мне меньше хлопот, чем египетская кампания или 18-го брюмера; но приобретают ли какой-нибудь опыт правители которые никогда не видели поля битвы?.. К чему другому привело англичан возвращение Карла II, если не к низложению Иакова[36]?
Ясно, что я мог бы, если бы это было нужно, низложить во второй раз Бурбонов, но лучший совет, который им можно было дать, – поскорее отделаться от меня. Возвратившись во Францию, я встретил общественное мнение более смягченным, чем когда бы то ни было. В Париже – а Париж это и есть Франция, – никогда не заинтересуются вещами, если не интересуются лицами. Обычаи древней монархии приучили вас все олицетворять. Это плохой способ для народа, который серьезно желал бы свободы; но вы ничего не можете желать серьезно, кроме, быть может, равенства, и притом и от него охотно бы отказались, если бы каждый мог льстить себя надеждой стать первым. Быть равным настолько, насколько все будут ниже, – вот секрет всего вашего тщеславия; поэтому надо давать всем надежду на возвышение.
Большое неудобство для директоров заключалось в том, что никто не заботился о них и начинали слишком заботиться обо мне. Не знаю, что случилось бы со мной, если бы не счастливая идея отправиться в Египет. Когда я сел на корабль, то не знал хорошенько, не навсегда ли прощаюсь с Францией; но я не сомневался в том, что она снова призовет меня. Искушение победы на Востоке отвлекло меня от мысли о Европе больше, чем я мог предполагать. Мое воображение и на этот раз примешалось к практике, но, кажется, затем умерло в Сен-Жан д’Акр. Что бы там ни было, я никогда больше не дам ему воли.
В Египте я был освобожден от тормозов стесняющей меня цивилизации; я мечтал обо всем на свете и видел способы выполнить все, о чем мечтал. Я создавал религию, уже видел себя по пути в Азию, едущим на слоне с тюрбаном на голове, держа в руке новый Коран, который сочиняю по своему желанию. Я соединил бы в своих начинаниях опыты двух миров, попирая право всех историй, нападая на английское могущество в Индии и возобновляя этой победой отношения со старой Европой.
Время, проведенное в Египте, было лучшим в моей жизни, потому что оно было самым идеальным. Но судьба решила иначе. Я получил письма из Франции; я видел, что нельзя терять ни минуты, и вернулся к реальному общественному положению, вернулся в Париж, в Париж, где самые важные общественные дела решают в антракте оперы.
Директория ужаснулась при моем возвращении; я контролировал себя: это одна из эпох моей жизни, когда я был особенно ловок. Я видел аббата Сийеса и обещал ему продвижение его многословной конституции. Я принимал вождей якобинцев, агентов Бурбонов; не отказывал никому в советах, но давал их только в интересах своих планов. Я скрывался от народа, так как знал, что, когда наступит время, любопытство видеть меня увлечет их по моим стопам. Каждый был более или менее связан с моими интересами, и, когда я сделался главой государства, во Франции не было ни одной партии, которая не возлагала бы каких-нибудь надежд на мой успех».
Глава IV 1803–1804 годы
Продолжение бесед с Первым консулом в Булони – Чтение трагедии «Филипп-Август» – Мои новые впечатления – Возвращение в Париж – Ревность госпожи Бонапарт – Празднества зимы 1804 года – Фонтан – Футе – Савари – Пишегрю – Арест генерала Моро
В другой раз вечером, в то время, как мы были в Булони, Бонапарт завел разговор о литературе. Поэт Лемерсье, которого он любил, поручил мне привезти консулу трагедию «Филипп-Август», которую поэт только что закончил и в которой кое-что касалось личности самого Бонапарта. Первый консул хотел читать ее вслух; мы были только вдвоем. Было как-то неприятно видеть человека, который всегда спешит, даже когда ему нечего делать, – в борьбе с необходимостью произносить слова подряд, не прерываясь, принужденного читать александрийские стихи, размера которых он не знал и которые читал так плохо, что, казалось, сам не понимал того, что прочитывает. Притом, как только он открывал книгу, ему сразу хотелось высказать суждение.
Я попросила у него рукопись и стала читать сама; тогда он начал говорить, потом, в свою очередь, выхватил книгу, зачеркнул целые тирады, сделал несколько замечаний на полях, стал осуждать план и характеры. Он не рисковал ошибиться, так как пьеса была плоха[37]. Мне показалось особенно странным, что после этого чтения Бонапарт показал мне, что не желает, чтобы автор подумал, будто все эти замечания и поправки были сделаны властной рукой, и приказал мне принять их на себя. Можно себе представить, как сильно я защищалась. Мне стоило большого труда отвратить его от этой фантазии и заставить понять, что если немного странно, что он вымарал и почти полностью изменил рукопись автора, то было бы совершенно неприлично, если бы подобной свободой злоупотребила я.
– Прекрасно, – сказал он, – но в этом, как и в других случаях, я признаюсь, что не очень-то люблю это неопределенное слово «приличия», которое вы выставляете по всякому поводу. Это выдумка глупцов, чтобы несколько приблизиться к людям умным, нечто вроде общественной затычки, которая стесняет сильного и служит только посредственности. Может быть, эти приличия для вас и удобны, для тех, кому нечего делать в этой жизни; но вы прекрасно чувствуете, что в моей жизни, например, представится случай, когда я вынужден буду их попирать.
– Но если применять их в жизни, – возразила я ему, – не явятся ли они до некоторой степени тем, чем определенные правила являются для драматических произведений?.. Они придают произведениям стройность и правильность и являются стеснением для гения только тогда, когда он хотел бы отдаться заблуждениям, осуждаемым хорошим вкусом!
– О! Хороший вкус – вот еще одно из классических выражений, которых я не признаю[38]. Быть может, это моя вина, но есть известные правила, которых я не чувствую. Например, то, что называют «стилем», плохим или хорошим, нисколько меня не трогает. Я чувствителен только к силе мысли. Сначала я любил Оссиана, но по той же причине, по которой люблю слушать рокот ветра или морских волн. В Египте меня хотели заставить читать «Илиаду» – мне было скучно. Что касается французских поэтов, то я признаю только Корнеля. Он понял политику и, если бы имел больше опытности в делах, был бы государственным человеком. Мне кажется, я могу оценить его лучше, чем кто-либо, потому что, судя о нем, исключаю все драматические чувства. Например, недавно только я понял развязку «Цинны». Сначала я видел в ней только способ создать патетический такт; и притом милосердие, собственно говоря, такая ничтожная, маленькая добродетель, если она не опирается на политику, что милосердие Августа, сделавшегося вдруг благодушным правителем, не казалось мне достойным концом этой прекрасной трагедии. Но однажды Монвель, играя в моем присутствии, открыл мне тайну этой великой концепции. Он произнес слова: «Будем друзьями, Цинна!» – таким искусным и хитрым тоном, что я прекрасно понял, что этот поступок был только лицемерием тирана, и признал как расчет то, что казалось мне наивным как чувство. Нужно всегда произносить эти стихи так, чтобы из всех слушающих обманутым был только Цинна.
Что касается Расина, он мне нравится в «Ифигении»: эта пьеса во все продолжение действия заставляет вас дышать поэтическим воздухом Греции. В «Британике» он был ограничен Тацитом, против которого у меня есть предубеждение, потому что он недостаточно объясняет то, что выдвигает. Трагедии Вольтера страстны, но не особенно проникают в психологию человека. Например, его Магомет не пророк, не араб. Это обманщик, который кажется воспитанным в Политехнической школе, потому что проявляет свое могущество так, как я мог бы это сделать в век, подобный нынешнему. Убийство отца сыном – бесполезное преступление. Великие люди никогда не бывают жестоки без необходимости[39].
Что касается комедии, то для меня это то же, что интересоваться сплетнями в ваших салонах; я признаю ваше удивление перед Мольером, но не разделяю его; он поставил действующих лиц своих комедий в такие рамки, в которых я никогда бы не решился видеть их действующими.
Нетрудно заключить на основании этих разнообразных мнений, что Бонапарт любил рассматривать человеческую природу только тогда, когда она находилась в борьбе с великими жизненными событиями, и что он мало заботился о человеке вне поля действия.
В таких разговорах с Первым консулом протекало время в Булони, и вскоре после этого путешествия я испытала первое недоверие ко двору, при котором должна была жить. Военные, жившие в нашем доме, иногда удивлялись, как может их господин проводить долгие часы с женщиной и беседовать о предметах, всегда довольно серьезных. Они вывели заключение, которое компрометировало мое положение, совершенно простое и совершенно мирное. Я осмеливаюсь сказать: моя душевная чистота, чувства, на всю жизнь привязавшие меня к моему мужу, не позволяли мне понять подозрения, которые делались на мой счет в передней консула, в то время как я слушала его в салоне. Когда он возвратился в Париж, его адъютанты забавлялись пересказом наших длинных бесед с глазу на глаз. Госпожа Бонапарт испугалась, наслушавшись этих рассказов, и, когда после месячного пребывания в Понт-де-Брике мой муж почувствовал себя достаточно окрепшим, чтобы перенести путешествие, и мы возвратились в Париж, я нашла мою ревнивую покровительницу несколько охладевшей.
Я же вернулась воодушевленная удвоенной благодарностью по отношению к Первому консулу. Он так хорошо меня принял, проявил так много внимания к тому, чтобы сохранить моего мужа; наконец, его заботы, которые трогали мою тревожную и смущенную душу, развлечение, которое он мне доставил в этом уединении, и маленькое удовлетворение моего тщеславия, которому льстило удовольствие, по-видимому, доставляемое моим присутствием, – все это подогревало мои чувства, и в первые дни по приезде я повторяла с живостью такой благодарности, какая бывает в 20 лет, что его доброта ко мне была неизмерима. Одна из моих подруг, которая любила меня, посоветовала мне умерить выражения и обратить внимание на впечатление, какое они вызывают. Помню до сих пор, что ее слова произвели на меня впечатление холодного и острого лезвия, которое мне вдруг вонзили в сердце. В первый раз я видела, что обо мне судят не так, как я того заслуживаю; моя молодость, мои чувства протестовали против таких обвинений; нужно достигнуть долгой, но печальной опытности, чтобы суметь спокойно переносить несправедливость общественного суда, хотя, быть может, стоит пожалеть о временах, когда он поражал так сильно, но не так остро.
Между тем то, что мне говорили, объяснило перемену госпожи Бонапарт по отношению ко мне. Однажды, будучи пораженной больше обыкновенного, я не могла удержаться, чтобы не сказать ей со слезами на глазах: «Неужели вы меня подозреваете?» Так как она была добра и подвержена впечатлению минуты, то не обратила внимания на мои слезы, но поцеловала меня и отнеслась ко мне так же, как прежде. Но госпожа Бонапарт не совсем поняла меня; в ее душе не было того, что могло бы понять справедливое негодование моей души; ее не смущало то, что мои отношения с ее мужем могли быть такими, какими ей старались их представить, ей достаточно было для успокоения решить, что, во всяком случае, эти отношения могли быть мимолетны, так как ничто в моем поведении в ее глазах не отличалось от прежней сдержанности. Наконец, чтобы оправдаться в моих глазах, она сказала мне, что семейство Бонапарта во время моего отсутствия первое распространило эти оскорбительные слухи. «Вы не видите, – заметила я ей, – справедливо это или нет, но здесь думают, что нежная привязанность к вам делает меня догадливой по отношению к тому, что совершается вокруг вас, а мои советы – очень слабая помощь, однако они могут добавить к вашей предосторожности и мою. Политическая зависть, мне кажется, с недоверием относится ко всему, и я думаю, что, как ни ничтожна моя особа, нас хотели бы поссорить». Госпожа Бонапарт признала справедливость этого размышления, но даже не подумала, как долго я могла огорчаться тем, что не ей первой оно пришло в голову.
Она призналась мне, что делала своему мужу упреки по отношению ко мне и что его, по-видимому, забавляло ее беспокойство на мой счет. Все эти маленькие открытия испугали меня, а затем меня смутило чувство, с которым я к ним отнеслась. Я начала чувствовать, как колеблется под моими ногами почва, по которой я до сих пор ходила с доверчивостью неопытности. Я почувствовала, что познала беспокойство, которое не покинет меня, по-видимому, никогда.
Уезжая из Булони, Первый консул велел записать в военном приказе, что доволен армией, а 12 ноября 1803 года мы прочитали в «Мониторе» следующие слова:
«Сочли предзнаменованием то, что, копая землю для устройства лагеря Первого консула, нашли военный топор, который, по-видимому, принадлежал римскому войску, завоевавшему Англию. В Амблетезе, устанавливая палатку Первого консула, нашли медаль Вильгельма Завоевателя. Нужно признать, что эти обстоятельства по меньшей мере странны и покажутся еще более необыкновенными, если припомнить, что, посетив развалины Пелузиума в Египте, генерал Бонапарт нашел там камею Юлия Цезаря».
Сравнение выбрали не особенно удачно, так как, несмотря на камею Юлия Цезаря, Бонапарт был вынужден покинуть Египет, но эти маленькие сближения, продиктованные изобретательной лестью Маре, бесконечно нравились его господину, который, впрочем, думал, что они производят некоторый эффект и среди нас.
Ничего не забыли в эту эпоху для того, чтобы все газеты подогревали воображение относительно высадки. Я не могу сказать, верил ли действительно Бонапарт, что она возможна. По крайней мере, он делал вид, что верит в это, тем более что расходы на сооружение плоскодонных кораблей были очень значительны. Взаимные оскорбления между «Монитором» и английскими газетами продолжались так же, как и вызовы. «Говорят, что французы обратили Ганновер в пустыню и собираются его покинуть», – вот что печатал «Таймс», и тотчас же заметка в «Мониторе» отвечала: «Как только вы покинете Мальту».
Пастырские послания епископов призывали нацию вооружиться для справедливой войны. «Выбирайте людей с сердцем, – говорил епископ Арраса, – и идите сражаться с амаликитянами[40]». «Подчиниться голосу народа, – сказал Боссюэ, – значит подчиниться голосу самого Бога, который установил власть».
Эта цитата из Боссюэ напоминает мне анекдот, который очень хорошо рассказывал старый епископ Эвре, Бурлье. Это было в эпоху собора, созванного в Париже, чтобы победить епископов и противодействовать решениям папы. «Иногда, – говорил мне этот епископ, – император созывал нас и начинал теологические беседы. Он обращался к самым упрямым среди нас: «Господа епископы, моя религия – это религия Боссюэ, он мой отец церкви и защищал наши свободы; я хочу сохранить его дело и поддержать ваше собственное достоинство, слышите ли вы, господа?»
И говоря таким образом, бледный от гнева, он хватался за эфес шпаги; он заставлял меня трепетать при виде горячности, с которой он был готов взяться за нашу защиту, и эта странная смесь из имени Боссюэ, слова «свобода» и угрожающего жеста вызвала бы у меня охоту улыбнуться, если бы я не был, в сущности, очень огорчен церковными распрями, которые уже тогда предвидел».
Я возвращаюсь к зиме 1804 года. Эта зима, как и предшествовавшая, прошла в празднествах и балах для двора и города, но в то же время продолжали проводить новые законы, которые были представлены на сессию Законодательного корпуса. В этом году госпожа Баччиокки, которая имела очень явную склонность к Фонтану, так часто говорила о нем своему брату, что эти разговоры, вкупе с мнением, которое он имел об этом академике, склонили его назначить Фонтана председателем Законодательного корпуса. Этот выбор показался некоторым лицам странным, но, в сущности, представляя, что Бонапарт хотел сделать из Законодательного корпуса, ему и не нужно было назначать президентом никого иного, кроме литератора. Фонтан демонстрировал благородное и изящное искусство, когда нужно было обращаться к императору с речью в самых трудных обстоятельствах. В его характере мало силы, но талант придает ему эту силу, когда он должен говорить публично; тонкий вкус ему внушает тогда настоящий подъем. Может быть, это и было недостатком, так как ничто так не опасно для правителей, как видеть, что талант облекает их злоупотребление властью цветами красноречия, и в особенности это опасно для Франции, где царствует такой культ формы. Как это часто случалось с парижанами, в той тайной комедии, которую правительство разыгрывало перед ними, они добродушно становились жертвами, и только потому, что актеры отдавали должное тонкости их вкуса, требовавшего, чтобы каждый играл возможно лучше роль, которая ему была поручена!
В течение января «Монитор» поместил заметку из английских газет, в которой говорилось о некоторых разногласиях между Баварией и Австрией и о возможности континентальной войны. Такие замечания бросались мимоходом, время от времени, словно чтобы предупредить нас о том, что может произойти. Так бывает в оперной декорации, а еще вернее, на небе, когда облака скапливаются ниже вершины горы и рассеиваются на минуту, чтобы открыть то, что совершается за ними. Таким же образом все более или менее важные обсуждения, которые происходили в Европе, на минуту показывались нам, чтобы мы не были слишком изумлены, когда они вызовут какой-нибудь разрыв. Но затем тучи смыкались снова, и мы оставались во тьме до тех пор, пока не разразится гроза.
Я касаюсь эпохи очень важной, но которую тяжело описывать. Вскоре я буду говорить о заговоре Жоржа Кадудаля и о преступлении, которое было им вызвано. Приведу здесь относительно генерала Моро только то, что слышала, и не буду ничего утверждать. Мне кажется необходимым предпослать этому рассказу краткий обзор состояния, в котором мы тогда находились.
Известная часть людей, которые довольно близко стояли у дел, начинала говорить о необходимости для Франции наследственной правительственной власти. Некоторые придворные политики, добросовестные революционеры, люди, которые считали, что покой Франции зависит от жизни одного человека, сходились на неустойчивости Консульства. Мало-помалу идеи приблизились к монархии, и это направление имело бы свои преимущества, если бы могли согласиться на монархию, ограниченную законами. Революции имеют то важное неудобство, что разделяют общественное мнение на бесконечные оттенки, которые изменяются в результате столкновений, испытываемых каждым в различных обстоятельствах. И это всегда благоприятствует начинаниям, на которые покупается деспотизм, идущий вслед за ними. Чтобы сдержать власть Наполеона, надо было решиться произнести слово «свобода»; но, поскольку за несколько лет перед этим оно было начертано во Франции везде и всюду только для того, чтобы служить эгидой самому кровавому рабству, никто не решался преодолеть роковое впечатление, хотя и малопродуманное, какое оно внушало.
Однако роялисты беспокоились и видели, что с каждым днем Бонапарт все более и более удаляется от того пути, на котором они его долго ждали. Якобинцы, оппозиции которых Первый консул боялся сильнее, глухо волновались. Они находили, что правительство старается дать гарантии их противникам. Конкордат, авансы, которые делали по отношению к старому дворянству, уничтожение революционного равенства, – все это было завоеванием их. Счастлива, сто раз счастлива была бы Франция, если бы Бонапарт совершил это завоевание только применительно к партиям! Но для этого надо быть воодушевленным исключительно любовью к справедливости; нужно в особенности слушать лишь голос великодушного ума.
Когда правитель, какой бы титул он ни носил, входит в сношения с той или иной из крайних партий, порожденных гражданскими смутами, можно всегда держать пари, что у него имеются намерения, враждебные правам граждан, которые доверились ему. Бонапарт, желая укрепить свой деспотический план, был вынужден вступить в сношения с этими опасными якобинцами и, к несчастью, принадлежал при этом к числу людей, которые видят достаточные гарантии только в преступлении. Их можно успокоить, только беря на себя некоторые из их беззаконий. Этот расчет сыграл большую роль в вынесении приговора герцогу Энгиенскому, и я убеждена, что все, что совершалось в эту эпоху, происходило не от какого-либо жестокого чувства, не от слепой мести, а было только результатом совершенно макиавеллистической политики, которая желала расчистить себе дорогу любой ценой. Не для удовлетворения ненасытного тщеславия Бонапарт стремился переменить свой титул консула на титул императора. Не нужно думать, что его всегда слепо увлекали страсти; он знал искусство подчинять их анализу своих расчетов, а если в дальнейшем сильнее отдавался им, то это потому, что успех и лесть мало-помалу опьянили его. Эта комедия Республики и равенства, которую приходилось играть в эпоху Консульства, надоела ему, и могла, в сущности, обмануть только тех, кто желал быть обманутым. Она напоминала притворство времен Древнего Рима, когда императоры периодически заставляли Сенат переизбирать себя. Я встречала людей, которые, украшая себя, как тогой, известной любовью к свободе и не переставая, однако, постоянно ухаживать за Бонапартом, Первым консулом, говорили затем, что лишили его своего уважения, как только он принял титул императора. Я никогда не могла хорошенько понять их мотивов. Каким образом власть, которой он пользовался почти со времени своего вступления в правительство, не открыла им глаза? Нельзя ли сказать, напротив, что была известная добросовестность в том, чтобы принять титул, соответствующий власти, которая фактически существовала?
Как бы то ни было, в тот момент, о котором я говорю, Первому консулу необходимо было упрочить свою власть какой-нибудь новой мерой. Англичане, которым угрожали, чинили всякого рода препятствия проектам, направленным против них, возобновлялись сношения с шуанами, и роялисты должны были видеть в консульском правительстве только переход от Директории к восстановлению королевской власти. Но один человек мог все изменить; естественно было заключить, что надо отделаться от этого человека.
Я слышала от Бонапарта летом 1804 года, что на этот раз события вынудили его и что его план состоит в основании Империи, но только через два года. Он поручил полицию министру юстиции; это была здравая и нравственная идея, но ей противоречило намерение, чтобы магистратура применяла эту полицию так же, как в то время, когда она была учреждением революционным. Как я уже говорила, первые замыслы Бонапарта часто были хороши и велики. Создать и утвердить их значило применять его власть, но подчиняться им впоследствии становилось для него же отречением. Он не мог переносить господства даже своих собственных учреждений. Таким образом, стесненный медленными и урегулированными судебными процедурами, а также слабым и крайне посредственным умом своего верховного судьи, он вверил себя тысяче и одной полиции и мало-помалу снова стал доверять Фуше, который в полной мере обладал способностью сделать себя необходимым. Фуше, одаренный обширным, тонким и проницательным умом, разбогатевший якобинец, в конце концов начавший испытывать отвращение к некоторым принципам своей партии, но сохраняющий с ней связь, чтобы иметь опору в случае беспорядков, нисколько не отступил перед идеей облечь Бонапарта монархической властью. Прирожденная гибкость заставляла его всегда принимать те формы правления, в которых имелась возможность сыграть роль ему самому. Его привычки были более революционны, чем его принципы; я думаю, что он не вынес бы только такого положения вещей, которое привело бы его к уже совершенному ничтожеству. Надо всегда помнить эти черты Фуше и всегда несколько опасаться, когда приходится иметь с ним дело; нужно признать, что ему необходимы времена смут, чтобы обладать всей силой своей власти, потому что в самом деле, так как это человек, лишенный страстей и ненависти, в такие времена он превосходит большинство людей, его окружающих, более или менее ослепленных страхом и желанием мести.
Фуше отрицал, что посоветовал убить герцога Энгиенского. Если не существует полной уверенности, я никогда не возлагаю тяжесть обвинения в преступлении на того, кто это прямо отрицает. Впрочем, Фуше, который обладал способностью предвидения, легко мог предполагать, что это преступление может дать партии, которую Бонапарт хотел привлечь, только очень мимолетную гарантию. Он слишком хорошо знал консула, чтобы бояться, что тот хотел бы восстановить короля на троне, который мог бы занять сам, а потому легко понять, как на основании своих данных Фуше признал, что это убийство было ошибкой.
Талейран менее, чем Фуше, нуждался в поисках подхода, чтобы посоветовать Бонапарту облечь себя монархической властью: она должна была создать Первому консулу удобное положение во всех отношениях. Враги Талейрана и даже сам Бонапарт обвинили его в том, что он подавал голос за убийство несчастного герцога; но Бонапарт и его враги сами заслуживают подозрения по этому пункту. Всем известный характер Талейрана не допускает подобной жестокости. Он рассказывал мне несколько раз, что Бонапарт сообщил ему, так же, как и двум консулам, об аресте герцога Энгиенского и о своем неизменном решении; он описывал, как все трое видели, что всякие слова были бы излишни, и поэтому все они хранили молчание. Это, конечно, уже более чем достаточная слабость, но очень обычная для Талейрана, который видел положение дел и пренебрегал излишними разговорами, потому что они могут удовлетворить только совесть.
Оппозиция, мужественное сопротивление могут подействовать на человека, каков бы он ни был. Жестокий властелин, кровожадный по характеру, может иногда пожертвовать своей склонностью силе убеждения, которую ему противопоставляют; но Бонапарт не был жесток ни по природе, ни по системе: он желал того, что казалось ему самым быстрым и самым верным; он сам сказал тогда, что ему надо покончить с якобинцами и роялистами. Неосторожность этих последних доставила ему эту роковую удачу, он схватил ее на лету, и то, что я расскажу несколько дальше, докажет, что он покрыл себя этой знаменитой и невинной кровью с полным спокойствием расчета, или, вернее, софизма.
Через несколько дней после возвращения короля герцог Ровиго явился ко мне как-то утром[41]; он старался оправдаться по поводу обвинений, которые тяготели над ним. Вот что он рассказал мне о смерти герцога Энгиенского: «Император и я, – говорил он мне, – были обмануты. Один из второстепенных агентов Жоржа был подкуплен моей полицией; он рассказал нам, что в ту ночь, когда заговорщики собрались, им объявили о тайном приезде одного важного руководителя, которого нельзя еще назвать, и что в самом деле несколько ночей после этого среди них появлялась личность, по отношению к которой все остальные оказывали знаки большого уважения. Наш шпион описывал его так, что можно было принять этого человека за принца дома Бурбонов. В то же самое время герцог Энгиенский поселился в Эттенгейме, чтобы ожидать здесь успешного осуществления заговора. Агенты писали, что иногда герцог исчезал на несколько дней; мы заключили, что это делалось для того, чтобы появляться в Париже; его арест был решен. Когда шпиона свели на очной ставке с арестованными преступниками, он узнал Пишегрю в указанном важном лице, и, когда я сообщил об этом Бонапарту, он закричал, топнув ногой: «Ах, несчастный, что же он меня заставил сделать?!»»
Но вернемся к событиям. Пишегрю возвратился во Францию 15 января 1804 года и с 25 января скрывался в Париже. Генерал Моро донес правительству, что Пишегрю поддерживает сношения с домом Бурбонов. Моро считался человеком с республиканскими взглядами; быть может, затем он поменял их на идеи конституционной монархии. Я не знаю, будет ли его семья защищать его теперь так же горячо, как тогда, от обвинения в том, что он подал руку роялистам в их проектах; не знаю также, следует ли вполне доверять признаниям, сделанным в правление Людовика XVIII. Но поведение Моро в 1813 году и уважение, оказываемое нашими принцами его памяти, могли бы заставить поверить, что у них с давних пор были некоторые основания рассчитывать на него. В эпоху, о которой я говорю, Моро был сильно раздражен против Бонапарта. Не сомневались в том, что он тайно виделся с Пишегрю, по крайней мере он хранил молчание относительно заговора; некоторые роялисты, арестованные тогда, обвиняли его только в том, что он проявил благоразумие, ожидая успеха, чтобы действовать открыто. Моро, как говорили, был вне сражений человеком слабым и посредственным; думаю, что его репутация не вполне ему соответствовала. «Существуют люди, – замечал Бонапарт, – которые не умеют носить свою славу; роль Монка великолепно шла Моро; на его месте я бы действовал так же, но более искусно».
В конце концов, я привожу свои сомнения не для того, чтобы оправдывать Бонапарта. Каков бы ни был характер Моро, его слава действительно существовала, ее следовало уважать и надо было извинить старого товарища по оружию, недовольного и раздраженного; доброе согласие могло бы быть результатом политического расчета Бонапарта, какой он видел в Августе Корнеля, и это было самым лучшим из того, что можно было сделать. Но Бонапарт, не сомневаюсь, был убежден в «моральной измене» Моро. Он думал, что этого достаточно для законов и правосудия; его уверили, что улики найдутся, чтобы узаконить обвинение. Он считал, что обязан это сделать.
Уже несколько дней говорили о заговоре. Семнадцатого февраля утром я пришла в Тюильри. Консул был в комнате своей жены; обо мне доложили; меня позвали. Госпожа Бонапарт показалась мне смущенной, глаза ее были красны. Бонапарт сидел около камина и держал на коленях маленького Наполеона. В его взгляде была серьезность, но ни тени жестокости. Он машинально играл с ребенком.
– Знаете ли вы, что я только что сделал? – сказал он мне и в ответ на мой отрицательный жест добавил: – Я издал распоряжение арестовать Моро.
Я, вероятно, сделала какое-нибудь движение.
– А, вот вы удивлены! Это наделает много шума, не правда ли? Скажут, что я ревную к Моро, что это месть, и тысячу тому подобных пустяков. Я – и ревновать к Моро! О Боже мой! Он обязан мне большей частью своей славы; ведь я оставил ему прекрасную армию и сохранил в Италии только рекрутов; я желал поддерживать с ним только добрые отношения. Конечно, я его не боялся: во-первых, я никого не боюсь, а Моро – меньше, чем кого бы то ни было. Двадцать раз я мешал ему скомпрометировать себя; я предупредил его, что нас поссорят. Он это чувствовал, как и я, но он слаб и честолюбив, женщины управляют им, партии влияют на него.
Говоря так, Бонапарт встал, подойдя к жене, взял ее за подбородок и сказал, приподняв ее голову:
– Ни у кого нет такой доброй жены, как у меня! Ты плачешь, Жозефина? Почему? Ты боишься?
– Нет, но мне неприятно, что об этом будут говорить.
– Что же тут можно сделать… – Затем, повернувшись ко мне, Бонапарт прибавил: – У меня есть никакой ненависти, никакого желания мести. Я много думал, прежде чем арестовать Моро; я мог бы закрыть глаза, дать ему время бежать, но тогда сказали бы, что я не решился отдать его под суд. У меня достаточно доказательств для его осуждения. Он виноват, я составляю правительство; все это должно пройти просто.
Я не знаю, влияет ли на меня до сих пор сила воспоминаний, но признаюсь, что даже сегодня мне трудно поверить, что Бонапарт, говоря так, не был искренен. Я видела, что он делает успехи в искусстве обманывать, но в то время в его голосе еще был оттенок правдивости, которого позднее я в нем не находила. Быть может, это происходило и потому, что тогда я верила в него.
Бонапарт вышел из комнаты. Госпожа Бонапарт рассказала мне, что он почти всю ночь провел на ногах, обсуждая, надо ли арестовать Моро, взвешивая все за и против, без тени раздражения; на рассвете он позвал генерала Бертье и после долгого разговора решился послать в Гросбуа, куда удалился Моро.
Это событие наделало много шума; о нем говорили различно. В Трибунате брат генерала Моро, трибун, выступил с горячностью и произвел некоторое впечатление. Три государственных учреждения избрали депутацию, чтобы выразить сочувствие консулу по поводу опасности, которой он подвергался. В то же время в Париже часть буржуазии, адвокаты, литераторы – все, кто мог представлять либеральную часть нации, – горячились из-за Моро. Нетрудно было заметить известную оппозицию в интересе, который проявился по отношению к генералу; решили появиться громадной толпой в суде; раздавались даже некоторые угрозы на случай, если его осудят.
Полиция Бонапарта предупредила его, что Моро могут даже выпустить из тюрьмы. Бонапарт начал раздражаться, и я уже не видела у него прежнего спокойствия в отношении к этому делу. Его зять Мюрат, в то время губернатор Парижа, ненавидел Моро и старался ежедневно возбуждать Бонапарта гнусными донесениями; он сговаривался с префектом полиции Дюбуа и преследовал консула устрашающими доносами; к несчастью, к этому присоединились события: ежедневно находили новые разветвления заговора, а парижское общество упрямилось, не признавая его. Это была маленькая война мнений между Бонапартом и парижанами.
Двадцать девятого февраля открыли местопребывание Пишегрю, он был арестован, хотя отчаянно защищался. Это событие ослабило недоверие, но к Моро по-прежнему относились с интересом. Его жена придавала своему горю некоторую театральность, и это производило впечатление. Между тем Бонапарт, не зная судебных процедур, находил их гораздо более медленными, чем он полагал раньше. В первое время главный судья слишком легкомысленно обещал сделать процедуру короткой и ясной, а между тем могли доказать только тот факт, что Моро поддерживал тайные сношения с Пишегрю, что тот ему все доверил, но Моро ничего положительного не обещал. Этого было недостаточно, чтобы повлечь за собой осуждение, которое начинало становиться необходимым; наконец, несмотря на громкое имя, которое связано со всей этой историей, именно Жорж Кадудаль навсегда сохранил в мнениях и спорах положение настоящего главы заговора.
Невозможно представить себе волнение, которое царило во дворце консула; расспрашивали всех; расспрашивали о малейших разговорах. Однажды Савари отвел в сторону Ремюза, говоря ему:
– Вы были магистратом, вы знаете законы; думаете ли вы, что сведения, которые мы имеем, достаточны для судей?
– Никогда не осуждали человека, – отвечал мой муж, – только потому, что он не выдал проектов, о которых знал. Конечно, это политическая вина по отношению к правительству, но это еще не преступление, которое должно повлечь за собой смертную казнь; а если это ваш единственный аргумент, вы дадите Моро только очевидность, печальную для вас же.
– В таком случае главный судья сделал большую глупость. Лучше бы он воспользовался Военной комиссией.
С того дня, как арестовали Пишегрю, парижские заставы были закрыты для розысков Жоржа. Сильно огорчались, что он так ловко ускользнул от преследования. Фуше постоянно насмехался над неловкостью полиции и закладывал по этому случаю основы своего нового влияния; его насмешки возбуждали Бонапарта, уже недовольного, и когда он действительно подвергался большой опасности и видел, что парижане не доверяют истинности известных событий, то чувствовал, как его увлекает желание мести. «Видите ли, – говорил он, – могут ли французы быть управляемы законами и умеренными учреждениями? Я уничтожил революционное, но полезное министерство, и тотчас же составились заговоры. Я пренебрег своими личными впечатлениями и предоставил независимой от меня власти наказание человека, который желал моей гибели, а теперь, не зная моего желания, насмехаются над моей умеренностью, извращают мотивы моих поступков. А! Я покажу, как ошибаться в моих побуждениях! Я верну себе все свои права и покажу, что я один создан для того, чтобы управлять, решать и наказывать!»
Гнев Бонапарта рос тем сильнее, что он все больше чувствовал себя в ложном положении. Он надеялся подчинить себе общественное мнение, а оно от него ускользало.
Что может показаться странным тем, кто не знает, до какой степени форменная одежда убивает в людях, которые ее носят, привычку думать, – это то, что армия не подала повода ни к малейшему беспокойству. Военные делают все по приказу и воздерживаются от впечатлений, которые им не приказаны. Только незначительная часть офицеров вспомнила, что они служили и побеждали под командой Моро, а буржуазия была более взволнована, чем всякий другой класс нации.
Полиньяки, де Ривьер[42] и некоторые другие были один за другим арестованы. Тогда начали немного больше верить в реальность заговора и понимать, что это все-таки заговор роялистов. Однако республиканская партия продолжала отстаивать Моро. Дворянство было испугано и держалось очень сдержанно, порицая неосторожность Полиньяков, которые заявляли потом, что не нашли того рвения, на которое рассчитывали. Ошибка, слишком обычная для роялистов, заключается в том, что они верят в существование желаемого и действуют на основании своих иллюзий. Это свойственно людям, которые руководствуются своими страстями или своим тщеславием.
Что касается меня, я сильно страдала. В Тюильри я видела Первого консула мрачным и молчаливым, его жену – часто заплаканной, его семью – взволнованной; сестра Бонапарта нервировала его резкими словами; в обществе бушевали тысяча различных мнений, недоверие, подозрения, коварная радость одних, сожаление от неудачи предприятия других, пристрастные суждения. Я была расстроена, огорчена тем, что слышала, и тем, что чувствовала; я замкнулась в своей семье, с мужем и матерью; мы все трое расспрашивали друг друга обо всем, что слышали, и о том, что совершалось в нас самих. Ремюза, с легкостью его прямого ума, огорчался из-за совершаемых кругом ошибок, и так как судил он беспристрастно, то начинал предчувствовать развитие характера, который молчаливо изучал.
Его опасения причиняли мне боль. Я уже чувствовала себя несчастной от подозрений, которые подымались во мне! Увы! Недалек был момент, когда мой ум должен был проясниться еще более роковым образом!
Глава V 1804 год
Арест Жоржа Кадудаля – Миссия Коленкура в Эттингейме – Арест герцога Энгиенского – Мое беспокойство и настойчивые просьбы, обращенные к госпоже Бонапарт – Вечер в Мальмезоне – Смерть герцога Энгиенского – Замечательные слова Первого консула
После нескольких арестов, о которых я говорила, в «Мониторе» поместили статьи из «Морнинг Кроникл», в которых говорилось о близкой смерти Бонапарта и реставрации Людовика XVIII. Якобы лица, только приехавшие в Лондон, утверждали, что на этом событии там спекулировали на бирже, и называли Жоржа, Пишегрю и Моро. В том же «Мониторе» напечатали письмо одного англичанина к Бонапарту, которого называли «Господин консул». В этом письме ему посылали для его личной пользы памфлет, в котором рассказывалось, что нельзя применить к таким личностям, как Кромвель и Бонапарт, слово «умертвить», потому что убить и умертвить – не одно и тоже и нет никакого греха в том, чтобы убить опасное животное или тирана. «Убить – не значит умертвить, – говорилось в памфлете, – это огромная разница».
Между тем в Париже получали со всей Франции обращения от городов и армий и послания епископов с приветствиями Первому консулу и поздравлениями Франции с тем, что она счастливо избежала опасности. В «Мониторе» тщательно печатали и эти статьи.
Жорж Кадудаль был арестован в марте, на площади Одеона. Он ехал в кабриолете и, увидев, что его преследуют, поспешно погнал свою лошадь. Один офицер полиции храбро появился перед лошадью, но был тотчас же убит Жоржем выстрелом из пистолета. Но вскоре Кадудаль был окружен народом, кабриолет остановили и пассажира схватили. У него нашли от шестидесяти до восьмидесяти тысяч франков в билетах, вся сумма была отдана вдове человека, которого он убил. В газетах поместили заметку с его признанием в том, что он явился во Францию, только чтобы умертвить Бонапарта. Однако я припоминаю, что рассказывали в то время: Жорж, показавший во время всей процедуры необычайную твердость и большую преданность дому Бурбонов, всегда отрицал план убийства, но признавал, что его проект состоял в нападении на экипаж консула и похищении его, без причинения какого бы то ни было вреда.
В это время серьезно заболел английский король; наше правительство рассчитывало на его смерть, ожидая выхода Питта из министерства.
Двадцать пятого марта в «Мониторе» появилась следующая заметка: «Принц Конде издал циркуляр, чтобы призвать эмигрантов и собрать их на Рейне. Один из принцев дома Бурбонов находится на границе».
Далее напечатали тайную корреспонденцию, перехваченную у человека по имени Дрэк, английского посланника в Баварии; благодаря ей становилось ясно, что английское правительство не пренебрегало никакими средствами для возбуждения смуты во Франции. Талейран получил приказание послать копии этой корреспонденции всем членам дипломатического корпуса, выразившим свое негодование в письмах.
Приближалась Святая неделя. В Вербное воскресенье, 18 марта, начиналась неделя моего дежурства у госпожи Бонапарт. Рано утром я отправилась в Тюильри, чтобы присутствовать на обедне, которая совершалась с большой торжественностью. После обедни госпожа Бонапарт находилась в салонах среди многочисленного двора и оставалась там некоторое время, разговаривая то с одними, то с другими.
Затем, возвратившись к себе, она объявила, что мы проведем эту неделю в Мальмезоне.
– Я в восторге от этого, – прибавила она, – Париж в настоящее время меня пугает.
Несколько часов спустя мы отправились. Бонапарт ехал в своем собственном экипаже, госпожа Бонапарт – в своем, только со мной. Дорогой я заметила, что она была молчалива и очень печальна, и выразила свое беспокойство по этому поводу. Она, казалось, колебалась, но затем сказала:
– Я доверю вам большую тайну. Сегодня утром Бонапарт сообщил мне, что послал на наши границы Коленкура, чтобы схватить герцога Энгиенского. Его привезут сюда.
– Ах! Боже мой! – вскричала я. – Что же хотят с ним сделать?
– Мне кажется, его будут судить.
Эти слова повергли меня в самый сильный ужас, какой я когда-либо испытала в жизни. Он был так силен, что госпожа Бонапарт подумала, что я падаю в обморок, и закрыла окна.
– Я сделала все, что могла, – продолжала она, – чтобы получить от него обещание, что этот принц не погибнет, но я очень боюсь, что его судьба решена.
– Как?! Вы думаете, что Бонапарт приговорит его к смерти?
– Я боюсь этого.
При этих словах я не могла удержаться от слез и, волнуясь, поспешила представить всю пагубность подобного события: это пролитие королевской крови, которое удовлетворит только партию якобинцев; особенный интерес, который вызовет этот принц; громкое имя Конде; всеобщий ужас, горячую ненависть, которую все это вызовет, и тому подобное. Я касалась всех вопросов, о которых госпожа Бонапарт думала только отчасти. Идея убийства – вот что ее особенно поразило. Я достигла того, что действительно ее напугала, и она обещала испробовать все, чтобы заставить Бонапарта изменить это роковое решение.
Мы обе приехали в Мальмезон совершенно подавленные. Я спряталась в своей комнате, где продолжала горько плакать. Душа моя была потрясена. Я любила Бонапарта и восхищалась им, мне казалось, что он призван непобедимой силой к самому высокому назначению; я предоставляла моему юному воображению увлекаться им; но вдруг покрывало над моими глазами разорвалось, и, судя по тому, что я испытывала в тот момент, я слишком хорошо понимала, какие последствия вызовет это событие.
В Мальмезоне не было никого, кому я могла бы совершенно открыться. Мой муж не был дежурным и остался в Париже. Мне надо было себя сдерживать и появляться со спокойным лицом, так как госпожа Бонапарт решительно запретила мне выдавать то, что она мне рассказала.
Спустившись в салон около шести часов, я нашла там Первого консула, который играл в шахматы. Он показался мне веселым и спокойным; мне тяжело было смотреть на его спокойное лицо. В течение двух часов, пока я думала о нем, мой ум был до такой степени потрясен, что я никак не могла вернуться к обычным впечатлениям, которые мне внушало его присутствие, – мне казалось, что я должна найти его изменившимся. Несколько военных обедали с ним; за все это время не произошло ничего важного. После обеда он удалился в кабинет, чтобы работать со своей полицией; вечером, когда я расставалась с госпожой Бонапарт, она еще раз обещала мне возобновить уговоры.
На другое утро я явилась к ней, как только это оказалось возможным. Она была совершенно обескуражена. Бонапарт отказал ей по всем пунктам: женщины должны быть чужды подобного рода делам; его политика требовала этого государственного переворота; он достигнет после этого права быть милосердным в дальнейшем; ему надо выбрать между этим решительным действием или длинным рядом заговоров, которые придется ежедневно наказывать. Безнаказанность поощрила бы партии, ему пришлось бы их преследовать, изгонять и осуждать их без конца, вернуться к тому, что он сделал по отношению к эмигрантам, отдаться в руки якобинцев. Роялисты уже несколько раз компрометировали его по отношению к революционерам. Этот поступок оправдывал его перед всеми. Притом герцог Энгиенский, кроме всего прочего, участвовал в заговоре Жоржа, внес смятение во Францию, служил мести англичан, а его военная репутация могла в будущем взволновать армию. Когда он будет мертв, наши солдаты совершенно порвут с Бурбонами. В политике смерть, которая даст покой, не преступление; притом распоряжения отданы, теперь нельзя отступать.
Во время этого разговора госпожа Бонапарт сказала своему мужу, что он усилит ужас этого поступка выбором Коленкура, родители которого некогда были очень привязаны к дому Конде. «Я этого не знал, – отвечал Бонапарт, – и какое это имеет значение? Если Коленкур скомпрометирован, в этом нет большой беды, он будет мне служить еще лучше. Оппозиционная партия со временем простит его дворянство». Он добавил в конце, что Коленкур знал только об одной части его плана и думал, что герцог Энгиенский останется здесь в тюрьме.
Мужество покинуло меня при этих словах; я хорошо относилась к Коленкуру и ужасно страдала от всего того, что узнала. Я считала, что он должен был отказаться от миссии, которую на него возлагали. Весь день прошел очень печально; я вспоминаю, что госпожа Бонапарт, которая очень любила деревья и цветы, утром велела перенести кипарис в ту часть своего сада, которая была заново распланирована. Она сама бросила несколько лопаток земли на дерево, чтобы иметь возможность сказать, что посадила это дерево своими руками. «Боже мой, – сказала я, глядя ей в глаза, – это именно то дерево, которое вполне подходит к такому дню»[43]. С тех пор, когда я проходила мимо этого кипариса, у меня всегда сжималось сердце.
Мое глубокое страдание смутило госпожу Бонапарт. Легкомысленная и изменчивая, притом вполне доверявшая планам Бонапарта, она особенно боялась печальных и продолжительных впечатлений; конечно, она способна была испытывать даже довольно сильные чувства, но они бывали необыкновенно мимолетны. Убежденная в том, что смерть герцога Энгиенского решена, она не хотела предаваться бесполезным сожалениям. Но я мешала ей в этом. Я употребляла большую часть дня на то, чтобы ее постоянно тревожить; госпожа Бонапарт слушала меня необыкновенно кротко, но безнадежно: она знала Бонапарта лучше, чем я. Я плакала, заклинала ее не отказываться и наконец, так как имела на нее некоторое влияние, достигла того, что она решилась сделать последнюю попытку.
«Назовите меня, – говорила я, – Первому консулу, я очень мало значу, но он сможет судить по впечатлению, какое испытываю я, о том, какое произведет он; так как я действительно более привязана к нему, чем многие другие, то не желаю ничего лучшего, чем найти для него оправдание, но не могу найти ни единого для того, что он хочет сделать».
Мы мало видели Бонапарта в этот второй день; а верховный судья, префект полиции, Мюрат появлялись и имели долгие аудиенции; я видела, что у них были зловещие лица. Я провела на ногах часть ночи. Когда я засыпала, мне снились ужасные сны. Вдруг меня охватывало желание броситься к ногам Бонапарта, чтобы просить пожалеть свою славу, так как тогда мне казалось, что она чиста, и я искренно плакала над ней. Эта ночь никогда не изгладится из моей памяти.
Во вторник утром госпожа Бонапарт сказала мне:
– Все напрасно, герцог Энгиенский приезжает сегодня вечером. Его повезут в Венсенн и будут судить сегодня ночью. Все поручено Мюрату. Он ужасен в этой истории. Это он толкает Бонапарта; он повторяет, что милосердие консула примут за слабость, а якобинцы будут в бешенстве. Существует партия, которая считает неправильным, что на прежнюю славу Моро не обратили внимания, и она непременно спросит, почему же больше щадят Бурбона; наконец, Бонапарт запретил мне обсуждать это. Он говорил мне о вас, – добавила она затем, – я призналась ему, что вам рассказала; он был поражен вашей печалью. Старайтесь сдерживаться.
Кровь бросилась мне в голову.
– А! Пусть он думает обо мне что хочет! Это меня мало трогает, уверяю вас; если он спросит, почему я плачу, я отвечу, что оплакиваю его самого! – И говоря так, я действительно заплакала.
Госпожа Бонапарт ужасалась, видя меня в таком состоянии; сильные душевные потрясения были ей до известной степени чужды. Когда она старалась успокоить меня, я могла ответить только словами:
– Ах! Вы меня не понимаете!
Она уверяла меня, что после этого события Бонапарт будет таким же, как прежде. Увы, не будущее меня беспокоило; я не сомневалась в его власти над самим собой и над другими, но чувствовала нечто вроде внутреннего раздвоения, совершенно личного.
Наконец, в час обеда, надо было спуститься вниз и придать своему лицу выражение, соответствующее обстоятельствам. Но мое лицо было слишком выразительно. Бонапарт еще играл в шахматы, – он пристрастился к этой игре. Как только консул увидел меня, то подозвал к себе, прося дать ему совет, но я не могла произнести и нескольких слов. Он говорил с мягкостью и интересом, которые окончательно смутили меня.
Когда обед был подан, он посадил меня возле себя и стал расспрашивать о множестве вещей, относящихся к моей семье. Казалось, он старался вскружить мне голову и помешать мне думать. Из Парижа привезли маленького Наполеона. Его дядя, казалось, забавлялся тем, что ребенок трогал все блюда и переворачивал все вокруг себя. После обеда он посадил малыша на землю, играя с ним, и подчеркивал веселость, которая казалась мне неискренней.
Госпожа Бонапарт, которая боялась, чтобы муж не был раздражен тем, что она рассказала ему обо мне, смотрела на меня, ласково улыбаясь, как будто желая мне сказать: «Вы видите, что он не так зол и мы можем успокоиться». Что касается меня, я не понимала, что со мной, в иные моменты казалось, что я вижу дурной сон; по-видимому, у меня был испуганный вид, так как вдруг Бонапарт, посмотрев на меня в упор, спросил:
– Почему вы не нарумянились? Вы слишком бледны.
Я отвечала ему, что забыла румяна.
– Как?! – возразил он. – Женщина, которая забывает румяна! – И, расхохотавшись, воскликнул: – С тобой этого никогда не случается, Жозефина! У женщин есть две вещи, которые им приносят пользу: румяна и слезы.
Эти слова расстроили меня окончательно.
Генерал Бонапарт не имел достаточно изящества в своей веселости и держался манер, которые напоминали гарнизонные привычки. Он еще довольно долго шутил со своей женой – больше свободно, чем прилично. Потом позвал меня к столу, чтобы сыграть партию в шахматы. Он играл не особенно хорошо, не желая подчиняться определенным ходам. Я предоставляла ему делать все, что ему нравилось; все хранили молчание; тогда он принялся напевать сквозь зубы. Потом ему вдруг пришли на память стихи. Он произнес вполголоса: «Будем друзьями, Цинна», – а затем стихи Гусмана из «Альзиры»: «Как различны боги, которым мы служим: твои повелевают убийство и месть, а мой Бог, когда твоя рука готова меня убить, повелевает пожалеть тебя и простить».
Я не могла удержаться, чтобы не поднять голову и не посмотреть на него; он улыбнулся и продолжал. В самом деле, я подумала в тот момент, что он обманул свою жену и всех других и готовит великую сцену милосердия. Эта наивная мысль успокоила меня; мое воображение было еще очень юно, и притом во мне жила такая потребность надеяться!
– Вы любите стихи? – спросил меня Бонапарт.
Мне очень хотелось ответить: «В особенности когда они воплощаются в жизнь». Но я никогда бы не решилась.
Мы продолжали нашу партию, и я все более и более доверялась его веселости. Мы еще играли, когда раздался стук подъезжающего экипажа, – доложили о генерале Гюлле-не; Первый консул резко отодвинул стол, поднялся и, войдя в галерею по соседству с салоном, провел всю остальную часть вечера с Мюратом, Гюлленом и Савари. Он больше не показывался, однако я возвратилась к себе более спокойная, чем прежде. Я не могла поверить, чтобы Бонапарта не тронула мысль, что у него в руках такая жертва. Мне хотелось, чтобы принц попросил Бонапарта о встрече; и действительно, он это сделал, повторяя: «Если Первый консул согласится увидеть меня, то поступит со мной справедливо: он поймет, что я исполнял свой долг». Быть может, говорила я себе, он сам поедет в Венсенн и проявит милосердие. Иначе зачем же припоминать стихи Гусмана?
Ночь, эта ужасная ночь, наконец прошла. Рано утром я сошла в салон и встретила там Савари, одного, бледного и, должна отдать ему справедливость, с расстроенным лицом. Его губы дрожали во время разговора со мной, хотя он обращался ко мне с ничего не значащими словами. Я не расспрашивала его. Вопросы всегда излишни по отношению к подобным лицам. Они говорят, когда их спрашивают, только то, что хотят сказать, и никогда не отвечают на вопросы.
Госпожа Бонапарт вышла в салон; она грустно посмотрела на меня и спросила Савари:
– Что же, это совершилось?
– Да, – отвечал тот, – он умер сегодня утром; я принужден признать это, умер мужественно.
Я была совершенно убита.
Госпожа Бонапарт спросила о подробностях, – они уже стали известны. Принца отвели в ров замка; когда ему предложили платок, он с достоинством оттолкнул его и обратился к жандармам. «Вы – французы, – сказал он им, – вы окажете мне, по крайней мере, услугу не промахнуться». Герцог передал кольцо, прядь волос и письмо госпоже де Роган[44]; Савари показал все это госпоже Бонапарт. Письмо не было запечатано, оно было коротким и трогательным. Не знаю, были ли исполнены последние желания несчастного принца.
– После его смерти, – продолжал Савари, – жандармам разрешили взять его одежду, часы и деньги, которые были при нем, – ни один не пожелал до них дотронуться. Пусть говорят что угодно, но нельзя приравнивать гибель таких людей к гибели многих других, и я чувствую, что мне трудно вернуться к обычному хладнокровию.
Затем появились Евгений Богарне, слишком еще юный для воспоминаний (он видел в герцоге Энгиенском только заговорщика против жизни своего господина), и генералы (имен их я не назову), которые восхищались этим поступком; а госпожа Бонапарт, всегда несколько испуганная, когда говорили громко и резко, как будто извинялась за свою печаль, повторяя неуместную фразу: «Я женщина, и, признаюсь, то, что происходит, вызывает у меня желание плакать».
В течение утра появилась толпа народа, консулы, министры, Луи Бонапарт и его жена: первый – замкнувшийся в молчании, которое казалось неодобрительным, госпожа Луи – перепуганная, не смеющая чувствовать и как бы спрашивающая, что должна думать. Женщины более всех были подчинены магическому могуществу выражения Бонапарта «моя политика». Этими словами он подавлял мысли, чувства, даже впечатления, и, когда он их произносил, никто, в особенности ни одна женщина, не решался спрашивать о том, что это выражение значит.
Утром явился мой муж; его присутствие облегчило ужасный гнет, который душил меня. Ремюза был подавлен и огорчен так же, как я. Как я ему благодарна за то, что он не дал мне совета сохранять внешнее спокойствие! Мы понимали друг друга во всех наших страданиях. Он рассказал мне, что в Париже все возмущены и вожди якобинской партии говорят: «Теперь он из наших». Ремюза добавил слова, которые я часто потом вспоминала: «Консул теперь на дороге, где ему придется, чтобы изгладить это воспоминание, оставить в стороне полезное и ошеломлять нас необыкновенным». Он также сказал госпоже Бонапарт: «Вам остается дать Первому консулу важный совет: ему следует, не теряя ни минуты, успокоить общественное мнение, которое быстро изменяется в Париже. Нужно, по крайней мере, чтобы он доказал, что это не является следствием жестокого характера, постепенно раскрывающегося, но только расчета, о справедливости которого я не могу судить, но который должен сделать его крайне осторожным».
Госпожа Бонапарт оценила этот совет. Она передала его своему мужу, который был готов его выслушать и отвечал двумя словами: «Это верно». Придя к ней после обеда, я нашла ее в галерее с дочерью и Коленкуром, который только что приехал. Он наблюдал за арестом принца, но не сопровождал его. Я отшатнулась, как только увидела Коленкура. «И вы также, – сказал он мне громко, – вы меня возненавидите, а между тем я только несчастлив, и очень сильно. В награду за мою преданность консул обесчестил меня. Я недостойно обманут, теперь я погиб». Он плакал, говоря так, и мне стало его жаль.
Госпожа Бонапарт уверяла меня, что он говорил в том же тоне с Первым консулом, и я долго замечала, что в его присутствии Коленкур хранил строгое и раздраженное выражение лица. Первый консул делал ему авансы, а он их отталкивал. Консул раскрывал перед ним свои планы, свою систему, но находил Коленкура твердым и холодным. Ему было предложено блестящее вознаграждение, но он сначала отказался.
Между тем общественное мнение восстало против Коленкура; иные люди щадили господина и уничтожали адъютанта. Это неравенство отношений раздражало его; он склонил бы голову перед независимым порицанием, которое, по крайней мере, не касалось бы его одного; но когда выяснилось, что решили исчерпать все упреки по отношению к нему, чтобы достигнуть права относиться хорошо к истинному виновнику, Коленкур усвоил себе полное презрение к людям и решил заставить их молчать, ставя себя на такую ступень могущества, которая могла им импонировать. Его честолюбие и Бонапарт оправдывали это решение. «Не будьте сумасбродным, – говорил ему Бонапарт. – Если вы склонитесь перед ударами, которые вам наносят, с вами покончат; вам не поставят в заслугу вашу запоздалую оппозицию моей воле и станут осуждать тем сильнее, что не будут бояться». Постоянно возвращаясь к подобным рассуждениям и не упуская случая утешить, обласкать и победить Коленкура, Бонапарт достиг того, что успокоил чувство досады, которое тот испытывал, и мало-помалу поднял его на очень высокую ступень. Можно порицать слабость, позволившую Коленкуру простить несмываемое пятно, начертанное Первым консулом на его челе, но нужно отдать адъютанту справедливость: он никогда не был перед консулом слепым и низким придворным, а, напротив, был в числе тех немногих его слуг, которые не пренебрегали случаем говорить ему правду[45]. Коленкур сохранил на всю жизнь подобные чувства и очень строго судил о политике и личности того, роковую волю которого часто исполнял.
Перед обедом госпожа Бонапарт и ее дочь убеждали меня сохранять невозмутимый вид. Госпожа Бонапарт сказала, что утром муж спросил ее, какое впечатление произвела на меня эта печальная новость, и в ответ на сообщение, что я плакала, отвечал: «Это очень просто, она исполняла свою роль женщины; вы все, все ничего не понимаете в моих делах; но всё успокоится, и тогда увидят, что я не совершил ошибки».
Наконец наступил час обеда. Вместе с обычными дежурными этой недели на обеде присутствовали Луи Бонапарт и госпожа Луи, Евгений Богарне, Коленкур и генерал Гюллен[46]. Вид этого человека смутил меня. У него было в тот день то же выражение лица, что и накануне, – необыкновенное бесстрастие[47]. Мне в самом деле кажется, что он не думал совершать ни дурного поступка, ни акта преданности, председательствуя в Военной комиссии, которая осудила принца. С этих пор он жил довольно просто. Бонапарт заплатил местами и деньгами за роковую услугу, которую генерал ему оказал. Но иногда Бонапарту случалось говорить при виде Гюллена: «Его присутствие меня раздражает, я не люблю того, что он мне напоминает»[48].
Консул перешел из кабинета к столу. Сегодня он не подчеркивал своей веселости, – напротив, все время, пока продолжался обед, он оставался погруженным в глубокую задумчивость; все мы были очень молчаливы. Когда уже хотели вставать из-за стола, консул вдруг, отвечая на свои собственные мысли, сказал сухим и резким голосом: «По крайней мере они увидят, на что мы способны, и в будущем, надеюсь, нас оставят в покое». Он прошел в салон, долго беседовал там со своей женой и смотрел на меня два или три раза без гнева. Я грустно держалась в стороне, убитая, больная, не имея ни сил, ни желания произнести хоть слово.
Вскоре приехали Жозеф Бонапарт, и господин и госпожа Баччиокки[49] в сопровождении Фонтана. Люсьен в то время был в ссоре с братом из-за брака с госпожой Жубертон, не появлялся у Первого консула и хотел покинуть Францию. Вечером явились Мюрат, префект полиции Дюбуа, члены Государственного совета и пр. Держались все приехавшие крайне натянуто. Разговор шел с перерывами, чувствовалась неловкость; женщины сидели в глубоком молчании, мужчины стояли полукругом; Бонапарт ходил из угла в угол. Сначала он затеял с Фонтаном нечто вроде разговора, наполовину литературного, наполовину исторического. Когда прозвучали некоторые исторические имена, это дало ему повод высказать мнения о некоторых из наших королей и замечательных полководцев. (Я заметила с этого дня, что естественная склонность влекла его к развенчаниям, какого бы рода они ни были, даже к развенчанию предметов его восхищения.) В тот день он начал восхищаться Карлом Великим, но заметил, что Франция всегда была в упадке в правление Валуа. Он принижал величие Генриха IV. «Ему недоставало, – заявил он, – серьезности. Добродушие – это аффектация, которой монарх должен всегда избегать. Чего он желает? Напомнить окружающим, что он такой же человек, как и другие? Какая бессмыслица! Как только человек становится королем, он перестает быть другом. Я всегда видел правильный подход в идее Александра вести свое происхождение от богов». Бонапарт добавил, что Людовик XIV лучше знал французов, чем Генрих IV, но затем поспешил представить Людовика находящимся под влиянием священников и старой женщины и высказал по этому поводу несколько вульгарные взгляды. Затем он обратил свою мысль на некоторых генералов Людовика XIV и на военное искусство.
«Военная наука, – говорил он, – состоит в умении хорошо вычислять все возможности, а затем отдаваться почти математически случаю. В этом отношении не следует ошибаться, и одна десятичная дробь может все изменить. Это разделение между наукой и случаем может уместиться только в голове гения, так как это необходимо повсюду, где есть творчество, и, конечно, наибольшее творчество человеческого разума состоит в том, чтобы дать существование тому, чего пока не существует. Случай является тайной для посредственного ума и становится реальностью для человека выдающегося. Тюренн не думал об этом и обладал только методой. Мне кажется, – добавил он, улыбаясь, – что я побил бы его. Конде сомневался больше, чем он, но отдавался случаю благодаря горячности[50]. Принц Евгений является одним из тех, кто больше всех его признает.
Генрих IV всегда ставил храбрость выше всего. У него происходили только стычки, и он не сумел бы повести крупного сражения. Катина[51] хвалили главным образом из-за демократического принципа; что касается меня, то я одержал победу там, где он был разбит (в Италии. – Прим. ред.).
Философы перекраивали его репутацию, как хотели, и это тем легче, что всегда можно говорить все что угодно о людях посредственных, вознесенных на известную высоту обстоятельствами, которые создали не они. Чтобы быть великим человеком в какой бы то ни было области, надо действительно создать часть своей славы и поставить себя выше событий, которые создаешь. Например, Цезарь в нескольких случаях проявил слабость, которая вызывает недоверие к похвалам истории.
Господин Фонтан, ваши друзья, историки, часто кажутся мне очень подозрительными. Ваш Тацит ничего не объясняет. Он выводит результаты, не указывая дороги, по которой шел. Это, по-моему, искусный писатель, но вряд ли государственный человек. Он рисует нам Нерона как гнусного тирана, а потом, рассказывая об удовольствии, которое тот испытал, сжигая Рим, говорит, что народ его любил. Все это неясно. Поверьте мне: мы в наших верованиях являемся отчасти жертвами писателей, которые нам сфабриковали историю в зависимости от естественной склонности ума. Но знаете ли вы, о ком я хотел бы прочесть хорошо составленную историю? О прусском короле Фридрихе. Мне кажется, что он один из тех, кто наилучшим образом знал свое дело во всех областях.
Дамы, – сказал он, обращаясь к нам, – не согласятся со мной и скажут, что он был сух и эгоистичен, но, в конце концов, создан ли государственный человек для того, чтобы быть чувствительным? Не является ли он исключительной личностью, всегда одиноко стоящей по одну сторону, когда весь мир стоит по другую? Очки, через которые он смотрит, – это его политика. Он должен только следить, чтобы они ничего не преувеличивали и не уменьшали. Должен ли он щадить известные чувства, столь важные для обыкновенных людей? Может ли он признавать узы крови, привязанности, мелкие предосторожности в обществе? Сколько ему приходится совершать поступков, которые вызывают порицание, хотя должны бы содействовать главному делу, которого никто не замечает! Когда-нибудь он закончит создание колосса, который будет вызывать удивление потомства. Несчастные! Вы не выскажете вашей похвалы, потому что побоитесь, что движение этой громадной машины произведет на вас такое же действие, какое производил Гулливер, когда, переставляя ноги, давил лилипутов. Убедите себя, идите впереди времени, расширьте ваше воображение, смотрите издали, и вы увидите, что эти великие личности, которые вам кажутся жестокими, безжалостными, являются только… политиками! Они знают друг друга, судя друг о друге лучше, чем вы, и, когда они действительно искусны, они умеют управлять своими страстями и доходят до того, что рассчитывают их влияние».
Этот своего рода манифест показывает воззрения Бонапарта, а также и то, как одни идеи порождали другие, когда он отдавался беседе. Иногда случалось, что он говорил с меньшей последовательностью, потому что допускал, чтобы его прерывали. Но сегодня умы всех казались замороженными его присутствием, и никто не решался продолжить беседу, чего он, по-видимому, хотел.
Он не переставал ходить, разговаривая так, почти в течение часа. Моя память не сохранила многое из того, что он сказал. Наконец, прерывая вдруг течение своих мыслей, он велел Фонтану читать отрывки из корреспонденции Дрэка, о которой я уже говорила, отрывки, всецело относящиеся к заговору.
Когда чтение было окончено, Бонапарт сказал: «Вот доказательства, которые нельзя отвергать. Эти люди хотели внести беспорядок во Францию и убить революцию в моем лице; я должен был ее защитить и отомстить. Я показал то, на что она способна. Герцог Энгиенский участвовал в заговоре, как и другие, с ним надо было обращаться так же, как и с другими. Притом, все это замышлялось без предосторожностей, без знания места; несколько неизвестных корреспондентов, несколько старых доверчивых женщин написали, – и им поверили.
Бурбоны никогда ничего и не видят дальше своего носа и склонны к вечным иллюзиям. Полиньяки не сомневались в том, что все дома в Париже будут открыты для них, а когда они явились сюда, никто из дворян не захотел их принять. Если бы даже эти сумасшедшие убили меня, они ничего бы от этого не выиграли; они получили бы вместо меня только раздраженных якобинцев. Прошли времена этикета, а Бурбоны не могут от него отказаться; если они возвратятся, держу пари, они прежде всего позаботятся именно о нем. О, это было бы нечто другое, если бы их увидели, как Генриха IV, на поле битвы, покрытых кровью и пылью. Нельзя вернуть себе трон письмом, написанным в Лондоне и подписанным «Людовик». А между тем подобное письмо компрометирует неосторожных, которых я принужден наказать и которые внушают мне некоторого рода жалость. Я пролил кровь, но должен был это сделать; я, может быть, пролью еще, но без гнева и просто потому, что кровопускание входит в состав политической медицины. Я – государственный человек, я – Французская революция, я ее повторяю, и я ее поддержу».
После этого последнего заявления Бонапарт всех нас отпустил; все удалились, не смея даже пробовать понять его идеи; так закончился этот роковой вечер[52].
Глава VI 1804 год
Впечатление, произведенное смертью герцога Энгиенского – Старания Первого консула рассеять это впечатление – Опера – Смерть Пишегрю – Разрыв Бонапарта с Люсьеном – Проект усыновления маленького Наполеона – Основание Империи
Первый консул не пренебрегал ничем, чтобы рассеять беспокойство, вызванное этим событием. Он заметил, что его поведение вызвало вопрос о его характере, и постарался в своих речах в Государственном совете, а также обращенных ко всем нам, показать, что только политика, а не жестокость, вызванная какой-нибудь страстью, была причиной смерти герцога Энгиенского. Бонапарт, как я уже говорила, осторожно относился к действительному негодованию, которое обнаружил Коленкур, а по отношению ко мне он проявлял постоянную снисходительность, которая снова и снова смущала мой ум. Какую власть имеют над нами государи! Каковы бы они ни были по своей природе, наши чувства, наше тщеславие – все подчиняется их малейшему давлению. Я сильно страдала, но чувствовала еще, как мало-помалу меня побеждает это ловкое поведение, и, подобно Бурру, я восклицала: «Да будет угодно Богу, чтобы это было последнее преступление Нерона!»
Между тем мы возвратились в Париж, и тогда я получила новые тяжелые впечатления от настроения умов. Мне приходилось опускать голову перед тем, что я слышала, и только стараться успокоить тех, кто думал, что этот роковой поступок явится началом царствования, которое с этих пор будет кровавым.
Между прочим у меня произошла довольно бурная сцена с двоюродной сестрой госпожи Бонапарт; она была в числе тех лиц, которые не появлялись вечером в Тюильри; она как бы делила этот дворец на две различные половины и думала, что это возможно – не нарушая взглядов и воспоминаний, показываться утром внизу у госпожи Бонапарт и избегать обязанности признавать могущество, которое царило наверху.
Это была женщина умная, живая, довольно экзальтированных взглядов. Однажды я встретила ее у госпожи Бонапарт, которую она испугала силой своего негодования; она так же горячо напала на меня и жалела нас обеих за то, что мы «прикованы цепью к настоящему тирану». Госпожа *** зашла так далеко, что я постаралась показать ей, как она волнует свою кузину. Но в гневе она напала на меня и обвинила в том, что я недостаточно чувствую весь ужас случившегося.
– Что касается меня, – говорила она, – то все мои чувства так возмущены, что, если бы ваш консул вошел в комнаты, вы бы видели, что я убегаю от него, как убегают от ядовитого животного.
– О, мадам, – отвечала я ей (и в то время мои слова не казались мне самой столь пророческими), – удержитесь от слов, которые когда-нибудь поставят вас в очень неприятное положение. Плачьте вместе с нами, но подумайте, что воспоминания о некоторых словах, произнесенных в момент сильного возбуждения, затрудняют часто в дальнейшем наши поступки. Теперь вы видите во мне признаки некоторой умеренности, которая вас раздражает, а быть может, мои впечатления будут продолжительнее ваших.
В самом деле, несколько месяцев спустя госпожа *** сделалась придворной дамой своей двоюродной сестры, ставшей императрицей.
Юм говорит, что Кромвель, установив вокруг себя как бы ореол монархической власти, увидел себя окруженным теми вельможами, кто спешит во дворец, как только им открывают его двери. Так же точно Первый консул, приняв титул, свойственный власти, которой он на самом деле давно пользовался, этим самым дал возможность прежней знати успокоить свою совесть оправданием; но как устоять против искушения снова занять то место, для которого они чувствовали себя как бы предназначенными? Мое сравнение будет крайне тривиально, но, кажется мне, верно: в характере знатных вельмож есть что-то кошачье, – они привязываются к дому, кто бы ни был хозяин, живущий там. Наконец, Бонапарт, покрытый кровью герцога Энгиенского, сделавшись императором, добился от французского дворянства того, чего добивался напрасно как консул; и, когда позднее он уверял одного из своих министров, что это убийство было преступлением, но не ошибкой, «так как результаты, которые я предвидел, действительно оказались таковы», – быть может, в этом смысле он и был прав[53].
Однако, рассматривая события с более широкой точки зрения, надо признать, что результаты этого поступка были значительнее, чем думали тогда. Конечно, удалось ослабить резкость некоторых воззрений, потому что масса людей отказывается чувствовать там, где не на что надеяться; но, как говорил Ремюза, надо было, чтобы Бонапарт отвлек нас от преступления рядом необыкновенных поступков, которые заставили бы замолчать всякие воспоминания; в особенности он как бы обязался иметь перед нами постоянный успех, так как только успех мог бы его оправдать. Если мы захотим представить себе, по какому опасному и трудному пути с тех пор он должен был идти, мы сделаем заключение, что только благородная и чистая политика, основанная на благоденствии человечества и его правах, – единственная и самая удобная дорога для властелина.
Бонапарту удалось скомпрометировать смертью герцога Энгиенского сначала нас, позднее – французское дворянство и, наконец, всю нацию и всю Европу. Он связал нас со своей судьбой, и это действительно было для него важным пунктом; но, накладывая на нас известное клеймо, он терял свои права на преданность, которой он напрасно стал бы требовать в несчастий. Как мог он рассчитывать на связь, которая была создана, надо признаться, за счет самых благородных душевных чувств?.. Увы, я сужу по себе. Начиная с той поры я стала краснеть за себя – из-за цепи, которую носила, и это тайное чувство (я порой умела более или менее его подавлять) позднее стало для меня обычным, так же, как и для всех.
По возвращении в Париж Первый консул был поражен впечатлением, которое произвел; он заметил, что чувства не так быстро изменяются, как мнения, и лица меняют выражения в его присутствии. Утомленный воспоминанием, которое он хотел бы сделать старым с первых же дней, Бонапарт подумал, что самый простой способ для этого – быстро ослабить силу впечатления, и решил показываться публично, хотя значительное число лиц советовало ему немного подождать. «Но, – отвечал он, – надо любой ценой состарить это событие, а оно будет новым, пока можно что-нибудь испытывать по этому поводу. Не изменяя ничего в наших привычках, я заставлю общество не придавать большого значения обстоятельствам».
Было решено, что он отправится в Оперу. В этот день я сопровождала госпожу Бонапарт. Ее экипаж следовал тотчас за экипажем ее супруга. Обыкновенно он имел привычку, не ожидая ее приезда, быстро подняться по лестнице и показаться в ложе. Но на этот раз он остановился в маленьком салоне и подождал госпожу Бонапарт. Она сильно дрожала, он был очень бледен; он смотрел на нас и как будто бы вопрошал наши взгляды, чтобы узнать, как, по нашему мнению, его встретят. Наконец он вошел в ложу с таким видом, с каким ходят под выстрелами батарей. Его встретили как обыкновенно, – быть может, потому, что его появление произвело свое обычное действие (толпа не меняет в один момент свои привычки), или, быть может, потому, что полиция приняла некоторые меры предосторожности. Я боялась, что ему не станут аплодировать, но когда это действительно случилось, у меня сжалось сердце.
Бонапарт недолго оставался в Париже. Он отправился в Сен-Клу, и я думаю, что именно с этих пор он решил исполнять свой проект установления монархии. Он чувствовал необходимость противопоставить Европе власть, которая не могла более быть оспариваемой, и в тот момент, когда он порывал со всеми партиями благодаря поступкам, которые считал сильными, ему казалось легким открыто показать цель, к которой он стремился.
Он начал с того, что добился от Законодательного корпуса рекрутского набора в 60 000 человек, не потому, что солдаты были ему нужны для войны с Англией, войны, которая могла вестись только на море, но потому, что надо было придать себе внушительный вид, когда готовишься поразить Европу новым инцидентом. Только что был закончен Гражданский кодекс; это было очень важное дело, которое заслуживало, как говорили, всеобщего одобрения. С трибун всех трех государственных собраний раздались похвалы Бонапарту. Маркорель, депутат Законодательного корпуса, внес 24 марта, через три дня после смерти герцога Энгиенского, предложение, которое было принято с восторгом. Он предложил, чтобы бюст Первого консула был поставлен в зале заседаний. «Пусть яркое выражение нашей любви, – сказал он, – докажет Европе, что тот, которому угрожали кинжалы подлых убийц, является предметом любви и восхищения». Многочисленные аплодисменты были ответом на эти слова.
Через несколько дней после этого Фуркруа, член Государственного совета, закрывая сессию, стал говорить от имени правительства. Он говорил о принцах из дома Бурбонов, называя их «членами этой бесчеловечной фамилии, которые хотели потопить Францию в крови, чтобы властвовать над ней». Он прибавил, что им надо угрожать смертью, если они захотят осквернить своим присутствием почву своей родины.
Между тем тщательное следствие по этому громкому процессу продолжалось. Каждый день арестовывали то в Бретани, то в Париже шуанов, связанных с заговором, и уже несколько раз допрашивали Жоржа, Пишегрю и Моро. Жорж и Пишегрю, как говорили, отвечали с твердостью, Моро казался подавленным; из этих допросов не получалось ничего определенного.
Однажды утром генерала Пишегрю нашли в тюрьме удавленным. Это событие наделало много шума. Его стали приписывать желанию отделаться от опасного врага. Решительность его характера, как говорили, привела бы его в тот момент, когда процесс сделался публичным, к горячим речам, которые произвели бы нежелательный эффект. Он, может быть, сумел бы возбудить какую-нибудь партию в свою пользу или оправдал бы Моро, виновность которого уже и так трудно доказать юридически. Вот какие мотивы придавали этому убийству. В то же время сторонники Бонапарта говорили: «Никто не сомневается в том, что Пишегрю явился в Париж, чтобы поднять восстание, – он сам не отрицает этого; его признания убедили бы недоверчивых, а его отсутствие во время допроса повредит ясности, которой желательно было бы добиться во всем этом процессе». Однажды, через несколько лет, я спросила у Талейрана, что он думает о смерти Пишегрю. «Что она случилась, – отвечал он, – очень внезапно и очень кстати». Но в это время Талейран был в ссоре с Бонапартом и не пренебрегал никаким случаем, чтобы направить против него всевозможные обвинения. Поэтому я очень далека от каких-либо утверждений по поводу этого события. О нем в Сен-Клу не говорили, и каждый воздерживался даже от тени размышления.
Приблизительно в то же время Люсьен Бонапарт покинул Францию, окончательно поссорившись с братом. Его брак с госпожой Жубертон, которому Бонапарт не смог помешать, разделил их. Они виделись очень редко. Консул, занятый своими великими проектами, сделал последнюю попытку, но Люсьен оставался непоколебим. Напрасно изображали будущее возвышение семьи, напрасно говорили о браке с королевой Этрурии[54], – любовь оказалась сильнее, он отказался от всего. За этим последовали резкая сцена, полный разрыв и изгнание Люсьена из Франции.
При этих обстоятельствах я имела случай увидеть Первого консула, отдавшегося одному из тех редких приступов волнения, о которых я говорила выше, когда он действительно казался затронутым эмоционально.
Это произошло в Сен-Клу к концу вечера. Госпожа Бонапарт, у которой находились только Ремюза и я, с беспокойством ждала развязки разговора между двумя братьями. Она не любила Люсьена, но ей хотелось, чтобы в семье не происходило ничего резкого. Около полуночи Бонапарт вошел в салон; вид у него был подавленный, он упал в кресло и воскликнул проникновенным тоном: «Кончено! Я порвал с Люсьеном и изгнал его с моих глаз». На просьбы госпожи Бонапарт он ответил: «Ты добрая женщина, что просишь за него». Поднявшись, он обнял жену, положил тихонько ее голову себе на плечо, продолжая разговаривать и придерживая рукой эту голову, изящная прическа которой составляла контраст с печальным и расстроенным лицом госпожи Бонапарт. Консул рассказал, что Люсьен протестовал против всех его просьб, что он напрасно угрожал ему и взывал к дружбе. «Тяжело, однако, – прибавил он, – встречать в своей собственной семье подобное противодействие столь важным интересам. Придется мне изолировать себя от всех и рассчитывать только на себя. Ну что ж! Я буду довольствоваться собой, а ты, Жозефина, ты утешишь меня во всем».
Я сохранила довольно теплое воспоминание обо всей этой сцене. У Бонапарта на глазах были слезы, когда он говорил, а у меня появилось искушение поблагодарить его, когда я увидела его доступным чувству, подобному чувствам других людей. Очень скоро после этого его брат Луи доставил ему неприятность, которая, быть может, оказала большое влияние на судьбу госпожи Бонапарт.
Консул, решивший занять французский трон и установить наследственность, иногда уже касался вопроса о разводе. Однако, может быть, потому, что он был еще слишком привязан к своей жене, а может, потому, что его настоящие отношения с Европой были пока не настолько прочны, он, по-видимому, склонялся к тому, чтобы не разрушать свой брак и усыновить маленького Наполеона, который был одновременно его племянником и внуком.
Как только он обнаружил свои намерения, вся семья его испытала крайнее беспокойство. Жозеф Бонапарт осмелился утверждать, что не заслужил лишения прав на корону, которые он должен получить как старший брат, и стал поддерживать свои права так, будто они действительно были давно признаны. Бонапарт, которого всегда раздражало противодействие, вспылил и казался еще более проникнутым своим планом; он доверил его жене, которую безгранично обрадовал, и она говорила мне об этом плане, считая, что его выполнение прекратит ее беспокойство. Госпожа Луи Бонапарт подчинилась, не выражая в то же время удовлетворения: у нее не было никакого честолюбия, но даже она боялась, что это возвышение может навлечь какую-либо опасность на голову ее ребенка. Однажды консул, окруженный своей семьей, держал маленького Наполеона на коленях; играя с ним и лаская его, он обратился к нему со словами:
– Знаешь ли ты, малыш, что рискуешь когда-нибудь стать королем?
– А Ахилл[55]? – спросил Мюрат тотчас же.
– О, Ахилл, – отвечал Бонапарт, – Ахилл будет хорошим солдатом.
Этот ответ глубоко оскорбил госпожу Мюрат, но Бонапарт, делая вид, что не замечает этого, и внутренне задетый оппозицией своих братьев, которую он справедливо приписывал госпоже Мюрат, – Бонапарт продолжал обращаться к своему внуку:
– Во всяком случае, я советую тебе, бедное дитя мое, если ты хочешь жить, не принимать угощений от своих двоюродных братьев.
Можно понять, какое сильное раздражение должны были внушать подобные речи. Луи Бонапарт был с этих пор атакован своей семьей: ему напоминали слухи о рождении его сына, ему доказывали, что он не должен жертвовать интересами своих близких ради этого ребенка, который наполовину принадлежал семье Богарне, и, так как Луи не был настолько лишен честолюбия, как этому старались поверить, он стал, подобно Жозефу, спрашивать у Первого консула о причинах, из-за которых ему следует пожертвовать своими правами. «Почему, – спрашивал он, – я должен уступать своему сыну мою часть вашего наследства? Чем заслужил я быть лишенным наследства? Каково будет мое положение, когда этот ребенок, ставший вашим, окажется в положении гораздо более высоком, чем мое, независимым от меня, идущим сейчас же вслед за вами, смотрящий на меня только с беспокойством или даже, может быть, с презрением? Нет, я никогда на это не соглашусь, и, чем отказываться от власти, которая войдет в состав вашего наследства, чем склонять голову перед собственным сыном, я лучше уеду из Франции, увезу Наполеона, и мы увидим, решитесь ли вы публично отнять ребенка у отца».
Первый консул, несмотря на всю свою власть, не мог победить это противодействие; он напрасно сердился, ему пришлось уступить из страха перед печальной и почти смешной развязкой, так как было смешно, конечно, видеть эту семью, заранее спорящую из-за короны, которую Франция еще формально не дала. Весь этот шум подавили, и Бонапарт был вынужден оформить вопрос о наследственности и возможности усыновления в специальном декрете о возведении консула в императоры.
Эти споры, конечно, разжигали ненависть, которая уже существовала между Бонапартами и Богарне. Луи показал себя еще более суровым, чем прежде, в запрещении жене каких бы то ни было близких отношений с матерью. «Если вы будете защищать ее интересы за счет моих, – говорил он ей сурово, – я заставлю вас раскаиваться, я разлучу вас с сыном, замурую вас в каком-нибудь отдаленном убежище, откуда вас не сможет освободить никакая человеческая сила, и вы заплатите несчастьем всей вашей жизни за угождение своей семье. Но в особенности смотрите, чтобы ни одна из моих угроз не дошла до ушей моего брата! Его власть не защитит вас от моей ярости».
Госпожа Луи склоняла голову, как жертва, перед подобным насилием. Она была в это время беременна, горе и тревоги повлияли на ее здоровье, которое с тех пор больше не восстановилось. Свежесть, составлявшая единственную прелесть ее лица, постепенно исчезла. В ней была природная веселость, которая исчезла навсегда. Молчаливая, робкая, она остерегалась рассказывать свое горе матери, откровенности и живости которой боялась. Ей не хотелось также раздражать Первого консула. Он ценил ее сдержанность, так как знал своего брата и угадывал страдания, которые она должна была переносить. С этих пор он не упускал случая выказать интерес, скажу более, нечто вроде уважения, которое внушало ему кроткое и разумное поведение падчерицы. То, что я говорю о ней, непохоже на мнение, которое, увы, сложилось об этой несчастной женщине; но ее мстительные золовки никогда не переставали губить ее самой отвратительной клеветой, и, так как она носила фамилию Бонапарт, общество, которое начинало мало-помалу ненавидеть императорский деспотизм и презирать всю семью, охотно принимало эти сплетни. Ее супруг, все более и более раздраженный огорчениями, которые ей причинял, признавал, что не мог быть любимым после своей тирании; ревнивый из гордости, подозрительный по характеру, раздраженный в результате плохого здоровья, крайний индивидуалист, он заставлял ее сносить все строгости семейного деспотизма. Она была окружена шпионами, все письма получала открытыми; все ее свидания с глазу на глаз, даже с женщинами, вызывали недовольство. Когда она жаловалась на эту оскорбительную суровость, он отвечал: «Вы не можете меня любить, вы женщина, следовательно – существо, созданное из хитрости и коварства, вы дочь женщины, лишенной нравственности, вы принадлежите к семье, которую я ненавижу, – вот сколько у меня мотивов, чтобы следить за всеми вашими поступками!»
Госпожа Луи Бонапарт, от которой я узнала эти подробности гораздо позднее, находила утешение только в дружбе брата своего Евгения; Бонапарты, как ни были ревнивы, его упрекнуть не могли ни в чем. Евгений, простой, откровенный, веселый, с открытым характером, не проявлял никакого честолюбия, держался в стороне от всяких интриг, исполняя свой долг на всяком месте, куда его назначали, обезоруживал всякую клевету и оставался чуждым всего, что происходило во дворце. Его сестра любила его страстно и ему одному доверяла свое горе в те краткие моменты, когда ревнивый надзор Луи Бонапарта не мешал им быть вместе.
Между тем Первый консул, по-видимому, пожаловался баварскому курфюрсту на корреспонденцию, которую Дрэк вел во Франции; и этот англичанин, беспокоившийся за свою безопасность, и сэр Спенсер Смит, посланник Англии при вюртембергском дворе, – все они вдруг исчезли. Лорд Морпот в палате общин сделал запрос министерству по поводу поведения Дрэка. Канцлер казначейства отвечал, что этому посланнику не было дано правительством никаких полномочий для подобной махинации и что он объяснится подробнее, когда посланник ответит на сделанные ему запросы. В это время Первый консул вел длинные переговоры с Талейраном. Талейран, все взгляды которого по своему существу были монархическими, настаивал, чтобы Бонапарт заменил свой титул королевским. Талейран признавался мне потом, что титул императора пугал его: он видел в нем что-то неопределенное и растяжимое, то, что как раз льстило воображению Бонапарта. «Но в этом было, – говорил Талейран, – соединение Римской республики и Карла Великого, что вскружило ему голову. Однажды я хотел доставить себе удовольствие мистифицировать Бертье и отвел его в сторону. «Вы знаете, – сказал я ему, – какой великий проект нас занимает; постарайтесь уговорить Первого консула принять королевский титул, вы доставите ему удовольствие». Тотчас же Бертье, в восторге от возможности поговорить с Бонапартом по поводу такого приятного сюжета, идет к нему с другого конца комнаты, где мы все находились; я отошел, так как предвидел бурю. Бертье начинает свое маленькое приветствие, но при слове «король» глаза Бонапарта вспыхивают. Он подносит кулак к подбородку Бертье и толкает его по направлению к стене. «Глупец, – говорит он, – кто посоветовал вам раздражать мою печень? В другой раз не берите на себя подобных поручений». Бедный Бертье посмотрел на меня сконфуженно и долго не мог простить мне эту плохую шутку».
Наконец, 30 апреля 1804 года, член Трибуната Кюре, которому, конечно, сделали внушение и усердие которого было вознаграждено позднее сенаторским местом, внес в Трибунат предложение: власть в Республике предлагалось вручить императору, а Империю сделать наследственной для семьи Наполеона Бонапарта. Его речь была искусна. Он рассматривал наследственность как гарантию против махинаций со стороны, и, в сущности, титул императора означал победоносного консула.
Почти все трибуны записались на прения. Составили комиссию из тринадцати членов. Один Карно имел мужество встать в решительную оппозицию этому проекту. Он объявил, что по тому же принципу, по которому вотировал против пожизненного консульства, будет вотировать против Империи, без всякого личного раздражения и вполне готовый повиноваться императору, если он будет избран. Он очень восхвалял американскую систему правления и добавил, что Бонапарт мог принять ее во время Амьенского трактата, говорил, что злоупотребление деспотизмом имеет для нации более опасные последствия, чем злоупотребление свободой, и, прежде чем открыть дорогу этому деспотизму, надо создать учреждения, которые могли бы ему помешать. Несмотря на оппозицию Карно, проект был поставлен на голосование и принят.
Четвертого мая депутация от Трибуната передала этот проект Сенату в совершенно готовом виде. Вице-президент Франсуа де Невшато отвечал, что Сенат предвидел этот вотум и что он примет его во внимание. Тогда же было решено, что проект и ответ вице-президента будут переданы Первому консулу. Пятого мая Сенат подал Бонапарту адрес, чтобы просить у него без дальнейших объяснений последний акт, который упрочит в будущем покой Франции. В «Мониторе» можно найти ответ на этот адрес. «Я прошу вас открыть вашу мысль целиком. Я желал бы, чтобы мы могли сказать французскому народу в ближайшее 14 июля: «Блага, которые вы приобрели 15 лет тому назад, – свобода, равенство и братство, – теперь находятся под защитой от всяких бурь». В ответ на это Сенат единогласно проголосовал за верховную власть империи, «которой необходимо облечь Наполеона Бонапарта в интересах французского народа».
К 8 мая в Сен-Клу прибыли адреса от городов. Первым явился адрес от Лиона, потом от Парижа и других городов. В то же время явились приветствия от армий: сначала от генерала Клейна, а затем от армии Монтрельского лагеря, которая находилась под начальством генерала Нея. Другие корпуса армии быстро последовали их примеру. Фонтан говорил с Первым консулом от имени Законодательного корпуса, который был в это время распущен: те из его членов, кто находился в Париже, собрались, чтобы проголосовать.
Можно себе представить, что подобные события вносили в жизнь замка Сен-Клу сильные волнения. Я сказала уже, какое неудовольствие вызвал отказ Луи Бонапарта у его тещи. Между тем она сохраняла надежду, что Первый консул преодолеет противодействие своих братьев, если, конечно, не изменит сам своей воли; она выразила в разговоре со мной большую радость по поводу того, что новые планы ее супруга не связаны с обсуждением этого ужасного развода.
В те моменты, когда Бонапарт жаловался на своих братьев, госпожа Бонапарт всегда имела большое влияние, потому что ее неисчерпаемая кротость становилась утешением раздраженного консула. Она не старалась получить от него обещаний ни для себя, ни для своих детей, и доверие, которое она выражала в своей нежности, как и умеренность Евгения, сопоставленные с претензиями семьи Бонапарта, могли только поразить консула и очень ему нравились. И госпожа Баччиокки, и госпожа Мюрат, очень взволнованные тем, что должно было произойти, старались заполучить от Талейрана или Фуше секретные проекты Первого консула, чтобы знать, на что могут надеяться. Но не в их власти было рассеять замешательство, которое они испытывали, и я наблюдала это замешательство в их беспокойных взглядах и случайно вырвавшихся словах.
Наконец, однажды вечером нам было объявлено, что на другой день члены Сената явятся с торжественной церемонией, чтобы вручить Бонапарту декрет, передающий ему корону. Мне кажется, что при этом воспоминании я опять испытываю те же чувства, которые вызвала во мне эта новость тогда. Первый консул сообщил жене об этом событии, о том, что собирается окружить себя более многочисленным двором, но сумеет отличать вновь прибывших от прежних придворных, которые доверились его судьбе первыми. Он попросил ее предупредить, в частности, Ремюза и меня о своих добрых намерениях по отношению к нам.
Я уже говорила, как он принял печаль по поводу герцога Энгиенского, которую я не могла рассеять; его снисходительность не уменьшилась, и он находил, быть может, некоторое развлечение в том, чтобы проникать в тайну всех моих впечатлений, изглаживая мало-помалу их влияние проявлением заботливого доброжелательства, которое снова воодушевило мою преданность ему, уже готовую угаснуть. Я не имела еще силы с успехом бороться против привязанности к нему; я страдала от его вины, которую находила громадной; но когда я видела его, так сказать, лучшим, чем в прошлом, то думала, что он сделал фальшивый расчет; я ценила, что он действительно держал свое слово, оставаясь добрым и кротким, как обещал.
Факт, что в ту эпоху он нуждался во всех и не пренебрегал никаким способом успеха. Его ловкость удалась даже перед Коленкуром, который, побежденный его ласками, мало-помалу приобрел свое прежнее спокойствие и сделался одним из самых интимных наперсников его будущих проектов. В то же время Бонапарт расспрашивал свою жену о мнениях, какие каждый из представителей двора высказал в момент смерти принца, и узнал от нее, что Ремюза, обыкновенно молчаливый по склонности и из-за благоразумия, но правдивый, когда его спрашивали, не побоялся признаться ей в своем тайном негодовании. Бонапарт, который, по-видимому, обещал себе ничем не раздражаться, стал обсуждать однажды с Ремюза этот вопрос и, раскрывая перед ним то, что ему хотелось, из своей политики, сумел убедить его в том, что он считал этот суровый акт необходимым для спокойствия Франции. Рассказывая мне об этой беседе, мой муж заявил: «Я далек от признания его идеи о том, что необходимо было покрыть себя этой кровью, чтобы утвердить свою власть, и я не побоялся сказать это еще раз. Однако признаю, я испытал облегчение от мысли, что его увлекала не жажда мести, и от того, что вижу его таким взволнованным; а потому надеюсь, что в будущем он не попробует больше утвердить свою власть такими ужасными средствами. Я не упустил случая показать ему, что в век, подобный нашему, и с такой нацией, как наша, желание импонировать ей кровавым террором значило играть большую игру. И я вижу хороший признак в том, что он слушал меня с необыкновенным вниманием по всем пунктам, о которых я говорил».
Это искреннее признание показывает, что испытывали мы оба и какова была у нас потребность в надежде. Строгие судьи относительно чувств могли бы нас порицать, конечно, за то, как легко еще было нам льстить; они скажут, с некоторой долей справедливости, что эта легкость зависела от нашего личного положения. О, конечно, так тяжело краснеть перед самим собой за положение, которое занимаешь, так сладко любить обязанности, которые на себя принимаешь, так естественно желать улучшить будущее свое и своей родины, что только с трудом и после долгой борьбы приходишь к истине, которая портит жизнь. Она явилась позднее, эта истина, она пришла шаг за шагом, но так властно, что ее нельзя было отталкивать, и мы слишком дорого заплатили за свои ошибки.
Как бы там ни было, 18 мая 1804 года второй консул Камбасерес, председатель Сената, явился в Сен-Клу в сопровождении всех членов Сената и значительного корпуса войск. Он произнес составленную речь и назвал Бонапарта в первый раз «величеством». Бонапарт принял титул спокойно и так, как будто бы имел на него право всю жизнь. Сенаторы прошли затем в апартаменты госпожи Бонапарт, которую провозгласили императрицей. Она ответила депутатам со своим обычным милым изяществом.
В то же время были названы знатные сановники: великий электор – Жозеф Бонапарт, коннетабль – Луи Бонапарт, архиканцлер – Камбасерес, верховный казначей – Лебрен. Министры, государственный секретарь Маре (который также получил должность министра), полковники гвардии, губернатор дворца Дюрок, префекты дворца, адъютанты – все принесли присягу, а на другой день коннетабль представил императору офицеров армии, среди которых находился Евгений Богарне, простой полковник.
Возражения, которые Бонапарт встретил в своей семье по вопросу усыновления, привели его к решению отложить эту идею на неопределенное время. Наследственность была объявлена в потомстве Наполеона Бонапарта и, за отсутствием детей, в потомстве Жозефа и Луи, которые были названы имперскими принцами. Конституционный сенатус-консульт [законодательный акт, дополняющий конституцию] устанавливал, что император может усыновить одного из племянников по собственному выбору, а в дальнейшем усыновление в его потомстве было запрещено.
Цивильный лист был тот же, какой давали королю в 1791 году, и содержание принцев должно было оставаться в пределах прежнего закона, изданного 20 декабря 1790 года. Высшие сановники получали треть суммы, предназначенной принцам. Они должны были председательствовать в избирательных коллегиях шести главнейших городов Империи, а принцы с восемнадцати лет становились пожизненными членами Сената и Государственного совета. Шестнадцать маршалов были назначены в это время, не считая сенаторов, которым был дан титул маршала.
По поводу наследования в декрете прямо было сказано, что «французский народ желает наследственности императорского достоинства в потомстве Наполеона Бонапарта, прямом, естественном, законном и усыновленном, а также в потомстве прямом, естественном и законном Жозефа Бонапарта и Луи Бонапарта».
Этот сенатус-консульт был провозглашен во всех частях Парижа, и, так как нужно было подумать одновременно обо всем, статья в «Мониторе» указывала, что принцам дается титул императорских высочеств, высшим сановникам – высочеств и сиятельств, министры будут называться «всемилостивейшими государями, чиновниками и петиционерами», маршалы – «господами маршалами».
Так совершенно исчезло слово «гражданин», уже давно забытое в обществе, где слово «господин» вернуло себе права гражданства; но Бонапарт пользовался им всегда очень осторожно. А в тот день, 18 мая, пригласив к обеду своих братьев, а также Камбасереса, Лебрена и министров, Бонапарт в первый раз воспользовался словом господин, и привычка ни разу не сорвала с его уст слова гражданин.
Глава VII 1804 год
Причины и результаты достижения Бонапартом императорского титула – Беседа с императором – Огорчения госпожи Мюрат – Характер Ремюза – Новый двор
Обретение Бонапартом императорского трона вызвало в Европе целую массу разнообразных впечатлений и даже во Франции встретило противоположные мнения. Однако можно признать, что этот факт не возмутил значительного большинства нации. Якобинцы не удивились, привыкнув приписывать успех себе, насколько это было возможно, как только удача благоприятствовала им. Роялисты стали отчаиваться, и в этом отношении Бонапарт достиг того, чего желал. Но смена Консульства императорской властью не понравилась истинным друзьям свободы. Они, к несчастью, разделились на два класса, и это ослабляло их влияние, что продолжается и до сих пор. Одни, безразлично отнесшиеся к перемене правящей династии, приняли бы Бонапарта как всякого другого, если бы он получил свою власть на основании конституции, которая ее не только создала бы, но и ограничивала. Они с беспокойством наблюдали за предприимчивым воином, завладевшим властью, и легко было предвидеть, что палаты, уже приведенные к ничтожеству, не будут препятствовать все большим и большим захватам. Сенат казался готовым к пассивному повиновению, Трибунат колебался в самом своем основании, и чего же можно было ожидать от безмолвного Законодательного корпуса? Министры, лишившись всякой ответственности, становились только первыми канцелярскими служащими и, конечно, заранее предвидели, что Государственный совет, направляемый методически, сделается большим складом, из которого впредь будут лишь извлекать необходимые в каждом случае законы.
Если бы эта первая часть друзей свободы была более многочисленна и лучше направлена, она, вероятно, могла бы импонировать императору, беспрерывно подвигая нацию к требованию того, чего нация напрасно никогда долго не требует: правильного и законного пользования своими правами.
Но существовала другая партия, которая сходилась с первой только по существу и опиралась на теории, уже раз примененные опасным и кровавым образом; она потеряла возможность продемонстрировать полезную оппозицию. Я говорю о сторонниках англо-американского правительства. Они без отвращения наблюдали создание Консульства, которое в достаточной мере напоминало им президентство Соединенных Штатов; они верили, или хотели верить, что Бонапарт поддержит равенство прав, которому они придавали такое большое значение, и среди них некоторые были искренно в этом убеждены. Я говорю «некоторые», потому что думаю, что мелкое тщеславие, вызванное стараниями Бонапарта льстить им и советоваться с ними, ослепило большинство этих людей.
В самом деле, если бы у них не было некоторого тайного интереса обманываться, откуда взялись бы так часто повторяющиеся с тех пор слова о том, что они любили только Бонапарта-консула, а Бонапарт-император стал им ненавистен? Во время своего консульства был ли он иным, чем всегда? А его консульская власть не была ли диктаторской властью, только под другим именем? Не решал ли он вопросы о войне и мире, не спрашивая желания нации? Право рекрутского набора не было ли полностью в его власти? Предоставлял ли он свободу в обсуждении дел? Могли ли газеты позволить себе напечатать хоть одну статью, которую бы он не одобрил? Не показывал ли он ясно, что опирался в своей власти на победоносное оружие? И как могли суровые республиканцы позволить так поймать себя?..
Я понимаю, что люди, утомленные революционными бурями, испуганные той свободой, которую так долго связывали со смертью, увидели возможность отдыха во власти искусного властелина, которому притом благоприятствовала сама судьба; признаю, что они видели перст судьбы в его возвышении и льстили себя надеждой найти мир в неизбежном. Я решаюсь сказать, что вполне искренни были те, кто думал, что Бонапарт, сделавшись консулом или императором, станет противиться всей силой своей власти различным предприятиям со стороны партий и мы будем спасены от опасностей беспокойной анархии.
Теперь уже не решались произносить слово «республика», так его осквернил террор; правительство Директории было уничтожено в результате презрения, которое внушали его главари; возвращение Бурбонов могло произойти только при помощи революции; малейший намек на революцию приводил французов в ужас, всякий энтузиазм, по-видимому, иссяк. Притом люди, которым они последовательно доверялись, обманули их; и на этот раз, отдаваясь силе, они были уверены по крайней мере в том, что не будут обмануты[56]. Это мнение, или, вернее, это заблуждение о том, что только деспотизм мог в ту эпоху поддержать порядок во Франции, было тогда всеобщим. Оно стало опорным пунктом Бонапарта, и, быть может, нужно отдать ему справедливость, оно увлекло его, как и других. Он сумел очень искусно поддержать его, тем более что партии сослужили ему службу несколькими неосторожными предприятиями.
Бонапарт не без некоторого основания стал считать себя необходимым. Франция поверила в это вместе с ним, и он достиг даже того, что убедил иностранных правителей в том, что являлся и для них гарантией против республиканского влияния, которое без него могло бы распространиться дальше. Быть может, наконец, в момент, когда Бонапарт надел на голову императорскую корону, не было ни одного короля в Европе, который не почувствовал бы свою собственную власть укрепившейся – благодаря этому событию. И если бы в самом деле новый император присоединил к этому решительному акту дарование либеральной конституции, возможно, спокойствие народов и королей утвердилось бы навсегда.
Искренние защитники первоначальной системы Бонапарта – а таковые существуют еще и теперь, – утверждают, для его оправдания, будто от него нельзя было требовать того, что могут давать только законные правители, что право обсуждать наши интересы могло бы вызвать обсуждение наших прав, что Англия, ревниво относящаяся к нашему возрождающемуся благоденствию, попробовала бы возбудить у нас новые смуты. Юм, говоря о Кромвеле, высказывает мнение, что великое неудобство узурпаторского правительства заключается в обязанности, какую ему обыкновенно приходится брать на себя, – вести личную политику, противоречащую интересам страны. Это значило дать преимущество наследственной власти, и желательно было бы, чтобы народы поняли это.
Но Бонапарт, в конце концов, не был обыкновенным узурпатором; его возвышение не имеет ничего общего с возвышением Кромвеля. «Я нашел, – говорил он, – корону Франции на земле и поднял ее концом своей шпаги». Живой продукт неизбежной революции, он не участвовал ни в одном из ее разрушений и до смерти герцога Энгиенского, как мне, по крайней мере, кажется, сохранял возможность узаконить свою власть благодеяниями, которые вызвали вечную благодарность нации. Его увлекло его деспотическое честолюбие, но, повторяю, не он один заблуждался.
Некоторые лица часто повторяли около него слова свободы, но нужно признать, что эти лица не были ни достаточно чисты, ни достаточно уважаемы нацией, чтобы сделаться выразителями ее воли. Честные люди, казалось, желали от Бонапарта только покоя, не очень смущаясь формой, в которой он его даст. Притом он разобрал, что тайной слабостью французов было тщеславие; он видел способ легко удовлетворить его при помощи пышности, связанной с монархической властью; он восстановил отличия, в сущности, еще демократические, потому что все имели на них право, и эти отличия не влекли за собой никаких привилегий. Поспешность, которую проявили в получении титулов, майоратов и крестов, вызывавших насмешки, пока они украшали только платье сосуда, не должна была его обмануть, если правда, что он заблуждался. Не должен ли он был, наоборот, гордиться собой, когда при помощи нескольких слов, прибавленных к именам, и нескольких кусков лент нивелировал под одним и тем же титулом претензии феодальные и претензии республиканские? «Мой наследник, кто бы он ни был, – говорил тогда Бонапарт, – вынужден будет идти вровень со своим веком и сможет удержаться только при помощи либеральных мнений; я оставлю ему в наследство эти либеральные идеи, но только лишенные их первоначальной резкости». Франция неосторожно приветствовала и эту идею.
Между тем вскоре робкий голос, который был для него голосом совести, а для нас голосом интереса, казалось, уже предупреждал его так же хорошо, как и нас. Чтобы заглушить неприятное напоминание, он хотел вскружить нам голову необыкновенным и все возобновляющимся зрелищем. Отсюда бесконечные войны, продолжительность которых казалась Бонапарту столь важной, что он считал временным всякий мир, а всякий трактат был только результатом дипломатического искусства Талейрана. В самом деле, когда Бонапарт возвращался в Париж и снова обращался к управлению Францией, помимо того, что он не знал, как быть с армией, каждая победа которой увеличивала претензии нации, он испытывал еще и неудобство от немого, но сильного и неизбежного противодействия, которое дух нашего века противопоставляет деспотизму, несмотря даже на индивидуальные слабости; деспотизм сделался, к счастью, неудобным способом правления. Как хорошо сказала госпожа де Сталь: «Ужасная дубина, которую он один мог поднять, упала наконец на его собственную голову». Счастливо, сто раз счастливо время, в которое мы живем, потому что мы исчерпали весь опыт, и теперь только сумасшедшим позволено колебаться относительно пути, который должен привести нас к спасению.
Но Бонапарт долго был сам ослеплен военным рвением французской молодежи. Эта неумеренная страсть к завоеваниям, данная обществу, чтобы задержать шаги к различного рода благоденствиям, увлекла нас за разрушительным оружием Бонапарта. Во Франции трудно противостоять славе, в особенности когда эта слава покрывает и замаскировывает печальную приниженность, на которую каждый видел себя осужденным. Во времена мира Бонапарт давал нам возможность видеть тайну нашего рабства. Но это рабство исчезало, когда наши дети шли водружать наши знамена на воротах всех больших городов Европы.
Так прошло довольно много времени, прежде чем мы увидели те кольца, которые каждая из наших побед прибавляла к цепи, сковывающей нашу свободу; и когда мы заметили ошибку нашего опьянения, уже было поздно противиться: армия, сделавшись соучастницей тирании, порвала с Францией и в крике о ее освобождении видела только бунт.
Самая большая ошибка Бонапарта, ошибка, зависящая от его характера, заключалась в том, что он рассчитывал свое поведение, опираясь только на успех. Быть может, правда, ему извинительнее, чем другому, сомневаться, что какая-нибудь неудача может осмелиться встать на его пути. Его естественная гордость не могла выносить мысли о поражении в каком бы то ни было роде, – в этом слабая сторона его ума, так как выдающийся человек должен предвидеть все возможности. «Мне удастся!» – Это было основное слово всех его расчетов, и часто то упрямство, с которым он это повторял, приводило к тому, чего он достигал. Наконец, его удача сделалась его основным суеверием; ему казалось, что он должен окружать ее особым культом, и это узаконило в его глазах все те жертвы, которых он от нас требовал. А мы, в этом надо признаться, не разделяли ли сначала это роковое суеверие?
Эта иллюзия уже оказывала большое влияние на наше воображение, податливое и любящее все чудесное, во время событий, которые я привела. Процесс генерала Моро и смерть герцога Энгиенского в особенности возмутили чувства, но не поколебали мнений. Бонапарт почти не отрицал, что то и другое послужило для выполнения планов, которые он давно задумал. Но в защиту человеческого рода надо сказать следующее: отвращение к преступлению так свойственно нам, что мы довольно легко верим тому, кто признается, что он вынужден это преступление совершить. Когда выяснилось, что Бонапарту удается возвыситься при помощи таких ступеней, мы показали себя охотно идущими по пути, который он предлагал нам, по пути прощения в случае его успеха.
С этого момента перестали его любить; но время, когда правят любовью народа, прошло, и Бонапарт, показавший, что умеет наказывать даже за побуждения, считал, что сделал удачный обмен, променяв слабую привязанность на реальный страх. Восхищались, по крайней мере удивлялись смелости его игры, и, когда с действительно импонировавшей всем смелостью он бросился от окровавленного рва в Венсенне к императорскому трону, воскликнув: «Я победил родину!» – изумленная Франция не могла удержаться, чтобы не повторить этого крика вместе с ним. А это было все, чего он желал от нее.
Через несколько дней после того, как Бонапарт облек себя титулом императора (я не буду удерживаться от употребления этого титула, который он носил дольше, чем титул консула[57]), в один из моментов, когда он был расположен к известной откровенности, о которой я уже говорила, он находился в зале со своей женой, Ремюза и мной. Мне кажется, что я еще вижу его в амбразуре окна в одном из салонов в Сен-Клу, сидящего верхом на стуле, уперев подбородок в спинку, госпожа Бонапарт – в нескольких шагах от него на диване, я сидела напротив, а Ремюза стоял за моим креслом. Довольно долго Бонапарт хранил молчание, потом вдруг прервал его.
– Итак, – сказал он мне, – вы ставили мне в вину смерть герцога Энгиенского?
– Это правда, ваше величество, и я ставлю вам это в вину до сих пор. Мне кажется, что вы причинили себе много зла.
– Но знаете ли вы, что он там ожидал, чтобы меня убили?
– Это может быть, ваше величество, но он не был во Франции.
– Ах! Недурно показать себя время от времени господином у других.
– Ваше величество, не будем говорить больше об этом, так как вы заставите меня плакать.
– Слезы! Женщины не имеют других ресурсов. Вот и Жозефина думает всего добиться, как только заплачет. Не правда ли, Ремюза, слезы – самый главный аргумент у женщин?
– Ваше величество, бывают такие слезы, которых нельзя порицать.
– А, я вижу, что вы тоже принимаете все серьезно. В конце концов, все это очень просто. Вы все имеете свои воспоминания, вы видели другие времена. Я же считаю с того времени, когда начал становиться чем-то. Что такое герцог Энгиенский для меня? Эмигрант, более важный, чем другие, вот и все, и этого достаточно для того, чтобы нанести более решительный удар. Разве эти сумасшедшие роялисты не распространили слуха, будто я хочу восстановить Бурбонов на троне? Якобинцы испугались, Фуше явился однажды спросить от их имени, каковы мои намерения. Власть так естественно сосредоточивалась в течение двух лет в моих руках, что иногда могли сомневаться в том, не желаю ли я ее принять официально. В свою очередь, я думал, что мне необходимо воспользоваться ею для законного завершения революции. Вот почему я предпочел империю диктатуре: потому что ставишь себя на законную почву, когда эта почва знакома.
Я начал с того, что хотел примирить обе партии, которые находились в борьбе при моем вступлении в консульство. Мне казалось, что, создавая устойчивые институты власти, я отвращу партии от фантазии продолжать борьбу. Но они не теряют надежды до тех пор, пока их боятся, а их боятся до тех пор, пока стараются их примирить. Притом можно победить известные чувства, но никогда – мнения. Я понял, что не могу устроить союза между ними, но могу устроить союз с ними сам для себя. Конкордат и возвращения сблизили меня с эмигрантами, а теперь это совершится окончательно, и вы увидите, как их увлечет жизнь двора.
Языком, напоминающим старые привычки, можно привлечь дворянство; но с якобинцами нужны поступки. Это не такие люди, которых можно взять словами. Моя строгость удовлетворила их. Со времени 3-го нивоза (происшествия с адской машиной. – Прим. ред.), в момент, кстати, вполне роялистического заговора, я сослал довольно большое количество якобинцев; они имели бы право жаловаться, если бы я на этот раз не покарал так же сильно. Все вы подумали, что я делаюсь жестоким, кровожадным, но вы ошиблись. У меня нет ненависти, я неспособен ничего сделать из мести; я устраняю то, что мешает, и вы можете завтра увидеть, что, если нужно, я прощу самого Жоржа, который действительно явился, чтобы меня убить.
Когда увидят, что спокойствие последует за этим событием, мне больше не поставят его в вину, а через год эту смерть будут находить великим политическим актом. Но правда в том, что она заставила ослабить кризис; то, что я совершил, не входило в мои планы еще два года тому назад. Я рассчитывал сохранить Консульство, хотя при этой форме правления слова не гармонировали с сущностью вещей, и те подписи, которые я ставил под всеми актами, были росчерками постоянной лжи. Однако мы, Франция и я, еще долго шли бы этим путем, потому что Франция доверяла мне и хотела всего того, чего хотел я; но этот заговор имел целью поднять Европу; надо было поэтому разубедить Европу и роялистов. Я должен был выбрать между частичными преследованиями или одним ударом; не могло быть сомнения в моем выборе.
Я предписал молчание и роялистам, и якобинцам. Остаются республиканцы, эти мечтатели, которые думают, что можно создать республику из старой монархии и Европа спокойно позволит установить федеративное управление для двадцати миллионов человек. Этих последних я не могу победить, но их немного, и они не влиятельны.
Вы, остальные французы, любите монархию. Это единственная форма правления, которая вам нравится. Держу пари, что вы, мой милый Ремюза, в сто раз приятнее чувствуете себя с тех пор, как называете меня «ваше величество», а я обращаюсь к вам «месье»!
Так как в этом замечании была доля правды, мой муж рассмеялся и сказал, что верховная власть Бонапарту очень идет. «В самом деле, – продолжал император, хорошее настроение которого пока не испортилось, – мне кажется, что я очень плохо бы повиновался. Вспоминаю, как во времена трактата Кампо-Формио мы явились, Кобенцль и я, чтобы заключить его окончательно в зале, где, по австрийскому обычаю, воздвигли балдахин и стоял трон австрийского императора. Войдя в залу, я спросил, что это значит, а потом сказал австрийскому министру: «Послушайте, прежде чем начинать, велите снять это кресло, так как я никогда не могу спокойно видеть кресло более высокое, чем остальные, чтобы у меня не явилось желания сесть на него». Вы видите, что у меня уже возникло предчувствие того, что должно было со мной впоследствии случиться.
В настоящее время я достиг большого умения управлять Францией; это потому, что ни я, ни она не обманываемся. Талейран хотел, чтобы я сделался королем, – это слово из его словаря. Ему казалось, что он тотчас же сделался бы знатным вельможей при короле; но я желаю только таких знатных вельмож, каких сделаю сам. Кроме того, титул короля изношен, он несет в себе готовые идеи, он сделал бы из меня нечто вроде наследника, а я не желаю быть ничьим наследником. Титул, который я ношу, более велик. Он еще несколько неопределенен, но служит воображению.
Теперь революция закончена, и притом тихо, и я горжусь этим. Знаете ли почему? Она не переменила ничьих интересов, но пробудила многие. Всегда нужно держать ваше тщеславие в напряжении; строгость республиканского правительства надоела бы вам до смерти. Что создало революцию? Тщеславие. Что завершит ее? Опять тщеславие. Свобода – только предлог. Равенство – вот ваша страсть, и народ доволен иметь королем человека, взятого из рядов солдат. Люди вроде аббата Сийеса, – прибавил он, смеясь, – могли бы закричать: это деспотизм! Но моя власть всегда останется популярной. Теперь народ и армия за меня; был бы очень глуп тот, кто бы не сумел с этим править».
Произнеся эти слова, Бонапарт встал. До этого момента он был очень весел, звук его голоса, его лицо, жесты – все это соединялось с ободряющей простотой, он улыбался, видел, как мы улыбаемся, и даже забавлялся рассуждениями, которые мы примешивали к его словам. Наконец он заставил нас чувствовать себя совершенно просто. Но, как будто окончив играть роль простака, он изменился: его лицо вдруг сделалось суровым, а взгляд – строгим, и он отдал Ремюза какое-то незначительное приказание со всей сухостью абсолютного властителя, который не желает терять случая скомандовать, даже когда просит.
Звук его голоса, столь противоположный тому, который поражал нас час тому назад, заставил меня почти вздрогнуть, и, когда мы удалились, мой муж, который заметил это движение, признался мне, что почувствовал то же, что и я. «Ты видишь, – сказал он мне, – он испугался, чтобы этот момент откровенности не уменьшил страха, который он всегда желает внушать. Ему казалось необходимым, расставаясь с нами, поставить нас на место».
Это замечание, справедливое и тонкое, не изгладилось из моей памяти, и с тех пор неоднократно я признавала, насколько оно было основано на истинном знании характера Бонапарта.
Но я увлеклась рассказом об этой беседе и размышлениями, которые ей предшествовали. Возвратимся к тому дню, когда Бонапарт сделался императором, и закончим изображением любопытных сцен, которые прошли перед нашими глазами.
Я говорила, кого Бонапарт пригласил к обеду в этот день. За минуту до того, как мы сели за стол, явился Дюрок, чтобы предупредить нас о титулах принцев и принцесс, с которыми надо было обращаться к Жозефу и Луи Бонапартам, так же, как и к их женам. Госпожа Баччиокки и госпожа Мюрат, казалось, были поражены этим различием между ними и их невестками. В особенности госпожа Мюрат с трудом могла скрывать свое недовольство.
Около шести часов новый император появился и начал без малейшего стеснения величать каждого его новым титулом. Я отлично помню возникшее у меня в этот момент очень сильное впечатление, которое имело характер предчувствия. День сначала был прекрасный, но очень жаркий. В тот момент, когда в Сен-Клу появились сенаторы, погода вдруг испортилась, небо потемнело, раздалось несколько ударов грома, и над нами разразилась ужасная гроза. Это мрачное небо, покрытое тучами, которое как будто нависло над дворцом Сен-Клу, показалось мне грустным предзнаменованием, и я с трудом могла преодолеть испытываемую печаль. Что касается императора, он был весел и спокоен и тайно наслаждался, как мне кажется, некоторой принужденностью, какую вызывал в нас новый церемониал. Императрица сохраняла всю свою милую непосредственность, Жозеф и Луи казались довольными, госпожа Жозеф – подчиняющейся тому, что от нее требуют, госпожа Луи была, как всегда, покорной, а (чего нельзя не похвалить по контрасту) Евгений Богарне – простым, естественным, обнаруживающим ум, совершенно свободным от всякого тайного и недовольного честолюбия. Не так было с новым маршалом Мюратом, но страх, который он питал по отношению к своему шурину, заставлял его сдерживаться: он хранил озабоченное молчание.
Что касается госпожи Мюрат, она испытывала жестокое отчаяние; во время обеда она так плохо владела собой, когда слышала, как император несколько раз назвал принцессой госпожу Луи, что не могла удержаться от слез. Она пила большие стаканы воды, чтобы успокоиться и показать, будто что-то делает, но слезы лились из ее глаз.
Все были смущены, а брат ее коварно улыбался. Что касается меня, то я была крайне удивлена, и вместе с тем мне было как-то противно видеть, как это молодое красивое лицо искажается волнением такой сухой страсти. Госпоже Мюрат было тогда двадцать два – двадцать три года. Ее лицо ослепительной белизны, ее прекрасные белокурые волосы, венок из цветов, украшавший их, розовое платье, которое шло ей, – все это придавало ее облику что-то молодое, почти детское, и это составляло такой неприятный контраст с чувством, свойственным другому возрасту, которым она, видимо, была охвачена. Невозможно было испытывать никакого сочувствия к ее слезам, и мне кажется, она производила на всех то же крайне неприятное впечатление. Госпожа Баччиокки, старше ее и лучше владеющая собой, не плакала, но была резка, груба и обращалась со всеми нами с подчеркнутым высокомерием.
Император, по-видимому, наконец стал раздражаться из-за подобного поведения своих сестер и увеличил их недовольство насмешками, которые не относились лично к ним, но очень прямо их задевали.
Все, что я видела в течение этого дня, дало мне новую идею о силе эмоций, вызванных честолюбием в душе известного рода людей; это было зрелище, о котором до этого дня я не имела ни малейшего понятия.
На другой день после семейного обеда произошла резкая сцена, свидетельницей которой я не была, но взрывы которой слышала через стену, отделяющую салон императрицы от того, в котором находились мы. Госпожа Мюрат разразилась жалобами, слезами и упреками; она спрашивала, почему их желают обречь, ее и ее сестер, на неизвестность, презрение, в то время как посторонних осыпают почестями и титулами. Бонапарт был очень суров в своих ответах, объявляя неоднократно, что он господин и может распределять почести по своей воле. По этому поводу у него вырвались остроумные слова, которые были сохранены в истории: «В самом деле, видя ваши претензии, сударыни, можно подумать, что мы получили корону от покойного короля, нашего отца».
Императрица рассказала мне впоследствии об этой резкой размолвке. Как ни была она добра, но не могла удержаться, чтобы не позабавиться немного страданиями особы, которая ее сильно ненавидела. В конце разговора госпожа Мюрат, вне себя от крайнего отчаяния и резкости слов, которые пришлось выслушать, упала в обморок. Ярость Бонапарта исчезла при виде этого, он успокоился и, когда сестра его пришла в чувство, прожил даже некоторое намерение удовлетворить ее. В самом деле, несколько дней спустя, после совета с Талейраном, Камбасересом и несколькими другими лицами, решили, что не будет ничего неудобного в том, чтобы пожаловать сестер Бонапарта из любезности особенными титулами, и мы узнали из «Монитора», что к ним теперь следует обращаться со столь желанным титулом императорских высочеств.
Но для госпожи Мюрат и ее супруга оставалось еще одно горе. Внутренний регламент дворца в Сен-Клу разделял императорское помещение на несколько салонов, куда можно было войти только в зависимости от новых рангов, в которые был возведен каждый из придворных. Салон, ближайший к императорскому кабинету, сделался тронным, или салоном принцев, куда маршалу Мюрату, хотя и супругу принцессы, дверь была закрыта. Ремюза передали неприятное поручение остановить его, когда он пожелает туда войти. Хотя мой муж не был ответствен за приказания, которые получал, и для передачи их употребил самую деликатную вежливость, Мюрат был сильно оскорблен этим публичным афронтом, и он и его жена, уже плохо относившиеся к нам вследствие нашей привязанности к императрице, оказали Ремюза и мне, скажу, почти честь, возненавидев нас глубокой ненавистью, которую не раз давали нам почувствовать. Но на этот раз госпожа Мюрат, понявшая, какое влияние оказывают ее жалобы на брата, не смотрела на свое дело как на потерянное и вскоре действительно сумела доставить своему мужу все почести, которых так горячо желала.
Новые прерогативы в зависимости от рангов внесли смятение в этот двор, до тех пор мирный. Вокруг госпожи Бонапарт, среди нас, в свою очередь, разыгралось нечто вроде пародии на те волнения из-за тщеславия, которые потрясли императорскую семью.
Кроме четырех своих придворных дам, госпожа Бонапарт часто собирала вокруг себя жен различных офицеров. Тут можно было встретить также госпожу Маре, которая жила в Сен-Клу благодаря месту, занимаемому ее мужем, и дочь маркиза Богарне, которую выдали замуж за де Лавалетта и которой ее супружеская любовь и несчастья создали в дальнейшем большую известность[58]. Лавалетт, человек крайне темного происхождения, но большого ума и приветливого и покладистого характера, прослужив некоторое время в армии, покинул военную службу, к которой его мягкий характер внушал ему отвращение. Первый консул поручал ему некоторые дипломатические миссии; теперь он назначил его членом Государственного совета. Лавалетт проявлял необыкновенную преданность по отношению ко всем Богарне, родственником которых сделался. Жена его была проста и кротка; но теперь было решено, что тщеславие сделается первым двигателем для лиц, привязанных к этому двору, каков бы ни был их пол и возраст.
Когда распоряжение императора предоставило придворным дамам некоторое преимущество перед остальными женщинами, это сделалось стимулом всех женских честолюбий. Госпожа Маре, сухая и гордая, была оскорблена, видя, что мы идем впереди нее; ее раздражение сблизило ее с госпожой Мюрат, которая хорошо понимала недовольство подобного рода. Притом Талейран, который не любил Маре и безжалостно насмехался над его смешными сторонами, бывший в довольно плохих отношениях с Мюратом, сделался предметом ненависти их обоих и таким образом явился, до некоторой степени, связующим звеном между ними. Императрица, которая не любила всех, кто был привязан к госпоже Мюрат, стала обходиться с госпожой Маре с некоторой сухостью, и хотя я и была совершенно чужда всем этим резким чувствам и со своей стороны никого не ненавидела, – на меня простерлось недоброжелательство этой партии против Богарне.
Наконец, однажды утром в воскресенье императрица получила приказание появиться на обедне в сопровождении только четырех придворных дам. Госпожа де Лавалетт, которую до сих пор повсюду видели рядом с ее теткой, была вдруг лишена этой чести, пролила много слез, и мы вынуждены были утешать еще и это юное честолюбие.
Все это мне было очень интересно наблюдать; я оставалась спокойной среди этих волнений, несколько смешных и, может быть, довольно естественных. Однажды я была в очень хорошем настроении, смеялась от всей души над какой-то шуткой; один из адъютантов подошел вдруг ко мне и спросил тихонько, не получила ли я лично обещания каких-либо новых почестей; я не могла удержаться, чтобы не спросить его, в свою очередь, не думает ли он, что отныне в Сен-Клу надо все время плакать, если не становишься принцессой.
Нельзя сказать, однако, что у меня не было никакого честолюбия; но это честолюбие было умеренным, и его очень легко было удовлетворить. Император передал мне через императрицу, а Коленкур повторял моему мужу, что в момент упрочения своей судьбы он не забудет тех, кто был с давних пор предан ему. Спокойные за наше будущее на основании этих уверений, мы не делали никаких шагов к его улучшению и были неправы, так как все вокруг нас волновались. Ремюза всегда был чужд интриг всякого рода, а это почти недостаток, когда живешь при дворе. Известные свойства характера решительно вредят повышению при каком-нибудь властелине. Последние не любят встречать вокруг себя великодушных чувств и философии, которая доказывает душевную независимость вблизи них; они менее всего прощают, если, служа им, люди сохраняют некий способ ускользнуть от их могущества.
Бонапарт, более требовательный, чем кто бы то ни было в различных родах преданности, живо заметил, что Ремюза служит ему преданно, но не обнаруживает готовности подчиняться каждому его капризу. Это открытие, подкрепленное некоторыми обстоятельствами, которые я передам по мере того как они представятся, освободило его от всякого чувства долга по отношению к нам. Он оставил моего мужа при себе, пользовался им, потому что это было ему удобно, но не возвысил его так, как возвысил многих других, поскольку заметил, что его дары не завоюют угодливости человека, который неспособен жертвовать деликатностью честолюбию. Притом ремесло придворного было несовместимо со вкусами моего мужа. Он любил уединение, серьезные занятия, семейную жизнь; все склонности этого сердца были нежны и нравственны; потеря времени на постоянное, мелочное внимание к тому, что составляет придворный этикет, часто вызывала его сожаление. Лишенный своей действительной роли революцией, которая удалила его от магистратуры, он считал нужным ради будущего своих детей оставаться в положении, в которое был поставлен обстоятельствами. Но тяготился службой, состоящей из пустяков, имеющих здесь важное значение, на которую обрекла его судьба; и был только точным там, где надо было быть усердным.
Позднее, когда пелена, покрывавшая его глаза, упала и он увидел Бонапарта таким, каким тот был в действительности, негодование возмутило его благородную душу, и он очень страдал, сознавая себя привязанным интимной службой к этому человеку. Ничто так не мешает возвышению придворного, как известное нравственное отвращение, которое он не старается особенно подавлять. Но в ту эпоху все эти чувства в нас были еще довольно неопределенны, и я возвращаюсь к тому, что говорила в начале. Мы имели основания думать, что император был нам кое-чем обязан, и мы рассчитывали на него.
Однако вскоре наступил момент, когда мы потеряли наше влияние. Люди, равные нам, и почти тотчас же люди, выше нас стоящие по рождению и по положению, стали добиваться чести принадлежать к этому двору; понятно, что можно было уже не так ценить преданность тех, кто первыми открыли дорогу. Бонапарт был действительно польщен победами, которые он мало-помалу одержал над французским дворянством. У госпожи Бонапарт, более доступной чувству привязанности, одно время также закружилась голова, когда она увидела аристократок среди своих придворных дам. Лица, более искусные в интригах, в эту минуту удвоили бы ловкость и старания для сохранения своего положения, на которое со всех сторон давила эта тщеславная толпа. Но, чуждые всего этого, мы уступили; мы увидели возможность вернуть себе некоторую свободу; мы воспользовались ею довольно неосторожно, а когда какая-нибудь причина заставляет вас при дворе потерять почву под ногами, очень редко можно вернуть себе прежнее положение.
Талейран, который побуждал Бонапарта возродить весь престиж монархической власти, уговорил его тщательно удовлетворять тщеславные претензии тех, кого он хотел привлечь, а французское дворянство удовлетворяется только тогда, когда ему отдают предпочтение перед всеми. Надо было, следовательно, блеснуть отличиями, которых, казалось им, они имеют право требовать. Были уверены в победе над Монморанси, Монтескье и т. д., обещая им, что в тот день, когда они встанут в ряды, окружающие Бонапарта, они станут первыми, как это было в прошлом. В сущности, трудно было бы сделать иначе, раз решили устроить настоящий двор.
Некоторые лица находят, что со стороны Бонапарта было бы искуснее, принимая титул императора, сохранить вокруг себя и кое-что из той простой и строгой внешней обстановки, которая исчезла вместе с Консульством. Двор не столь многочисленный, без роскоши, в котором бы сказывались перемены, какие внесла в идеи революция, быть может, менее удовлетворял бы тщеславие, но приобрел бы более реальное значение. А тогда советовались со всеми, чтобы знать, какими способами еще увеличить пышность обстановки, окружающей нового правителя. Дюрок предложил Ремюза высказать письменно свои взгляды по этому поводу. Муж мой составил план благоразумный, умеренный, но его нашли слишком простым для тайных проектов, которых никто тогда не мог угадать.
«Тут нет достаточной пышности, – говорил Бонапарт, читая его, – все это не может пустить пыль в глаза». Он хотел обольстить, чтобы лучше обмануть. Решительно отказываясь дать французам свободную конституцию, он хотел ослепить их, оглушить всеми способами сразу; и так как в гордости всегда есть мелочность, высшая власть его не удовлетворяла сама по себе, он захотел показывать эту власть, а отсюда этикет и все эти камергеры, которые, по его мнению, заставляли еще лучше забыть, что он выскочка. Бонапарт любил пышность, склонялся к феодальной системе, совершенно вне идей современного ему века, и думал, что установит ее, но эта система, по-видимому, просуществовала бы только во время его правления. Нельзя представить себе всего, что приходило ему в голову по этому поводу. «Французская империя, – говорил он, – сделается родиной-матерью других держав; я хочу, чтобы каждый король Европы был бы вынужден построить в Париже большой дворец для себя; и во время коронования императора французов эти короли явятся в Париж и украсят его своим присутствием, и будут приветствовать эту величественную церемонию». Разве этот план не указывал на надежду восстановить великие феоды и воскресить Карла Великого, который только ради своей пользы и для утверждения своего могущества стал бы эксплуатировать и деспотические идеи прошлого, и опыты настоящего?
Как бы там ни было, мания этикета, по-видимому, овладела всеми обитателями императорского дворца в Сен-Клу. Из библиотеки вытащили огромные регламенты Людовика XIV и из них стали делать извлечения, чтобы приноровить их к удобствам нового двора. Госпожа Бонапарт послала за госпожой Кампан, которая была первой камеристкой королевы. Это была женщина умная; она содержала пансион, где, как я уже говорила, почти все молодые особы, появлявшиеся при дворе, получали воспитание. Ее подробно расспрашивали относительно привычек последней французской королевы; мне было поручено записать под ее диктовку все, что она рассказывала, и Бонапарт присоединил толстую тетрадь, которая появилась в результате наших разговоров, к тем, которые приносили ему со всех сторон.
С Талейраном советовались обо всем. Происходило постоянное движение, волновались, будучи в какой-то неуверенности, в которой была некоторая приятность, так как каждый надеялся подняться и возвыситься. Нужно признаться откровенно, нам всем казалось, что мы как будто выросли; тщеславие изобретательно в своих расчетах; наши расчеты касались всего.
Порой случались минутные разочарования, вызванные смешными впечатлениями, какие эти волнения вызывали в обществе. Те, кто оставался чужд нашему новому величию, говорили, подобно Монтеню: «Отомстим, говоря об этом плохо». Насмешки, более или менее тонкие, и каламбуры относительно недавно созданных принцев смущали наши блестящие иллюзии; но число тех, кто решается порицать успех, всегда незначительно, и лесть всегда одерживает верх над критикой, во всяком случае в том круге, куда проникали наши взгляды.
Вот, приблизительно, положение, в каком мы очутились в конце этой эпохи, описание которой на этом заканчиваю. Мы увидим, пройдя следующую эпоху, успехи, которые мы все сделали (а говоря «все», я говорю обо всей Франции и Европе) на пути престижа и блестящих заблуждений, на пути, на котором наша свобода и наше истинное величие постепенно затерялись и исчезли навсегда.
Я забыла сказать, что в апреле того года Бонапарт назначил своего брата Луи членом Государственного совета, а своего брата Жозефа – полковником 4-го линейного полка. «Нужно, – говорил император, – чтобы вы оба были поочередно сановниками военными и гражданскими и не казались чуждыми всего того, что составляет интерес родины».
Глава VIII 1804 год
Процесс генерала Моро – Осуждение Полиньяка, Ривьера и др. – Помилование Полинъяка – Письмо Людовика XVIII
Установление Империи отвлекло умы от процесса генерала Моро, хотя следствие по этому делу продолжалось. Но с течением времени надежда на осуждение Моро становилась все более и более слабой, а между тем это осуждение с каждым днем казалось все более необходимым. У меня есть внутреннее убеждение в том, что император никогда не допустил бы пролития крови Моро; ему было бы достаточно, чтобы Моро осудили и помиловали. Но необходимо было ответить определенным решением суда всем тем, кто в этом деле обвинял самого Бонапарта в поспешности и личной вражде.
Те, кто относились хладнокровно к этому событию, согласились с тем, что на скамье подсудимых Моро проявил слабость характера и довольно посредственный ум. У него не оказалось ни того достоинства, ни того величия, которых ожидали. Он не был, подобно Жоржу Кадудалю, ни человеком решительным, способным на исполнение обширных проектов, ни человеком невинным, возмущенным обвинением, которого не заслуживает. Отвечая на суде, он прибегал иногда к уловкам, и постепенно интерес к нему стал ослабевать. Но даже и тогда это ослабление энтузиазма не принесло никакой пользы Бонапарту. Вследствие партийного духа, а может быть и справедливо, его осуждали за весь этот шум, который приписывали личной ненависти.
Наконец, 30 мая обвинительный акт появился в «Мониторе». Там же были напечатаны письма Моро, написанные в 1795 году, до 18-го фрюктидора. Они доказывали, что Моро, убежденный в существовании тайной переписки между Пишегрю и принцами, донес на него правительству Директории. И когда в этом втором заговоре Моро, желая оправдать себя, утверждал, что не считал удобным открыть Первому консулу этот новый заговор, в котором сам отказался участвовать, невольно являлся вопрос: почему же Моро теперь поступал совершенно иначе, чем в первый раз?
Шестого июня были опубликованы все показания обвиняемых. Некоторые из них ясно доказывали, что в Англии принцы нисколько не сомневались в том, что могут рассчитывать на Моро. Они говорили, что, именно надеясь на него, Пишегрю отправился во Францию и оба генерала несколько раз виделись с Жоржем Кадудалем. Обвиняемые утверждали даже, что Пишегрю был очень недоволен этими свиданиями и жаловался на то, что Моро поддерживает его только отчасти, и будто бы хотел воспользоваться для своей выгоды ударом, которым должен был поразить Бонапарта.
Некий человек по имени Роллан приписывал Пишегрю даже следующие слова: «Прежде всего нужно, чтобы исчез Первый консул».
На допросе Моро отвечал, что Пишегрю спрашивал его еще в Англии, помог бы он ему в случае возвращения во Францию, и что он обещал Пишегрю свое содействие в осуществлении этого плана. Может показаться странным, почему Пишегрю, который несколько лет тому назад был выдан Моро, обратился к нему теперь за помощью.
Когда допрашивали Пишегрю, он отрицал эту попытку, отрицал и свое свидание с Моро, которое Моро, однако, признавал. Пишегрю объяснил свое появление во Франции только ненавистью к чужим странам и желанием возвратиться на родину. Некоторое время спустя его нашли мертвым в тюрьме, но так и не смогли точно установить, каким образом произошла эта смерть и какие причины ее вызвали[59].
Моро признавал, что принимал у себя Пишегрю, который сам явился к нему, но в то же время объявлял, что решительно отказался принять участие в заговоре, который имел целью возвращение Бурбонов, так как это угрожало бы национальным интересам. Он добавлял, что находил все это предприятие бессмысленным, потому что для его осуществления нужно было бы заставить исчезнуть Первого консула, двух других консулов, губернатора Парижа и гвардию. Он заявил, что видел Пишегрю только один раз, хотя другие обвиняемые уверяли, что у них было несколько свиданий. Моро держался этой линии в течение всей защиты, хотя не мог отрицать, что пусть и поздно, но все же узнал о сношениях своего личного секретаря с заговорщиками. Этот секретарь бежал, как только началось разбирательство дела.
Жорж Кадудаль на допросе отвечал, что его проект заключался в том, чтобы силой захватить Первого консула; он говорил, что не сомневался в возможности найти в самом Париже врагов существующего режима, которые помогли бы ему в его предприятии. Он сказал также, что старался бы всеми силами восстановить на троне Людовика XVIII. Но в то же время Жорж отрицал всякие отношения с Пишегрю и Моро и закончил свой ответ словами: «У вас и так достаточно жертв; я не хочу увеличивать их числа».
Бонапарт, по-видимому, был поражен этим сильным характером и сказал нам: «Если бы я мог спасти кого-нибудь из этих убийц, я помиловал бы Жоржа».
Жюль Полиньяк рассказал, что тайно явился во Францию для того, чтобы составить себе точное представление об общественном настроении и выяснить, насколько можно рассчитывать на его поддержку. Когда же он узнал, что речь идет об убийстве, то хотел удалиться из Франции, и уехал бы, если бы его не арестовали.
Ривьер отвечал таким же образом, а Арман Полиньяк доказывал, что только последовал за братом.
Наконец 10 июня двадцать обвиняемых были объявлены уличенными и приговорены к смертной казни. Во главе их стоял Кадудаль, и среди них были маркиз де Ривьер и герцог Полиньяк.
По решению суда Жюль Полиньяк, Луи Леридан, Моро и Роллан были признаны виновными в том, что принимали участие в заговоре; но, на основании следствия и принимая во внимание все обстоятельства, их признавали заслуживающими снисхождения, и суд заменил казнь, к которой были приговорены все вышеупомянутые лица, исправительным наказанием.
Я находилась в Сен-Клу, когда было получено это известие. Все были подавлены этим приговором. Верховный судья решительно обещал Первому консулу, что Моро будет приговорен к смертной казни, и теперь Бонапарт не мог скрыть своего неудовольствия. Известно, с какой яростью он встретил на первой же аудиенции в воскресенье судью Лекурба (брата генерала), который на суде с большой энергией говорил о невиновности Моро. Бонапарт прогнал его с глаз долой, называя вероломным судьей, так что никто не мог понять, какой смысл придавал он этим словам в сильном гневе; позднее он сместил Лекурба.
Я возвратилась в Париж, крайне подавленная всеми впечатлениями, полученными в Сен-Клу, а в городе встретила у известной партии радость, оскорбительную для императора. Но дворянство было огорчено осуждением герцога Полиньяка.
Вместе с мужем и матерью я оплакивала печальный результат судебного разбирательства и многочисленные казни, которые должны были за этим последовать. Вдруг мне объявили о приходе госпожи Полиньяк, жены герцога, и ее тетки, госпожи д’Андло, дочери Гельвеция, с которой я часто встречалась в обществе.
Обе были в слезах. Первая – беременная в течение уже нескольких месяцев – живо меня тронула.
Она явилась, чтобы с моей помощью добиться права упасть к ногам императора и просить о помиловании своего мужа. У нее не было никакой возможности проникнуть в Сен-Клу, и она надеялась на то, что я предоставлю ей эту возможность. Ремюза, моя мать и я – мы все трое почувствовали, как трудно исполнить это, но в то же время все одновременно подумали, что это не должно остановить меня. Так как у нас в распоряжении было несколько дней благодаря апелляции осужденных по поводу приговора суда, я просила этих дам прийти на следующий день в Сен-Клу и обещала уговорить госпожу Бонапарт принять их.
В самом деле, я возвратилась на другой день в Сен-Клу и без труда добилась от добрейшей императрицы обещания принять эту несчастную особу. Но я заметила, что она с ужасом думала, как обратиться к императору в минуту, когда он был так недоволен.
«Если бы Моро был осужден, я была бы больше уверена в успехе, – сказала она мне. – Но император так разгневан, что я опасаюсь, как бы он не оттолкнул нас и не поставил вам в вину поступок, который вы заставляете меня совершить». Но подобные соображения не могли остановить меня: я была слишком тронута положением и слезами госпожи Полиньяк и постаралась как можно ярче изобразить императрице впечатление, которое произвел в Париже этот приговор. Я напомнила ей о смерти герцога Энгиенского, говорила, что восшествие на престол императора сопровождалось кровавыми казнями. И всеобщий ужас можно было бы успокоить актом милосердия, осуществленным наряду с такими жестокостями.
В то время, когда я все это говорила ей горячо и со слезами, внезапно в комнату вошел император – по обыкновению, через наружную террасу, где утром отдыхал у своей жены. Он застал нас обеих крайне взволнованными.
В другое время его присутствие заставило бы меня замолчать, но глубокое волнение, которое я испытывала, пересилило всякие соображения, и на его вопросы я отвечала признанием в том, на что решилась. Императрица заметила, что лицо его сделалось крайне строгим, и, не колеблясь, стала поддерживать меня, объявив ему, что согласилась принять госпожу Полиньяк.
Император начал с того, что мы его не понимаем, жаловался, что мы хотим поставить его в затруднительное положение, вынудив быть жестоким. «Я не приму эту женщину, – сказал он мне, – я не могу помиловать ее мужа. Вы не понимаете, что среди роялистов есть множество неосторожных молодых людей, которые будут постоянно возобновлять свои попытки, если их не остановить решительными уроками. Бурбоны легковерны, они поверят тому, что скажут некоторые интриганы, которые обманывают их относительно общественного мнения во Франции, и в результате будет много новых жертв».
Но этот ответ не остановил меня; я была взволнована до последней степени и самим событием, а может быть, и той опасностью, которой подвергалась, – рассердить властелина, которого все боялись. Мне не хотелось даже самой себе признаваться, что я могу отказаться от своей задачи, и это делало меня храброй и настойчивой.
Я очень горячилась, и император, расхаживавший быстрыми шагами по комнате, вдруг остановился передо мной и сказал, пристально глядя на меня:
– Какой интерес связывает вас с этими людьми? Вас можно извинить только в том случае, если это ваши родственники.
– Ваше величество, – продолжала я со всей твердостью, на которую только была способна, – я их не знаю и до вчерашнего утра ни разу не видела госпожу Полиньяк.
– Значит, вы защищаете людей, которые хотели убить меня!
– Нет, ваше величество, я защищаю несчастную женщину в отчаянном положении и, скажу более, защищаю Вас самих.
Тотчас же, взволнованная, я повторила ему все то, что говорила императрице.
Но мы ничего не смогли добиться в эту минуту, и император ушел от нас в дурном настроении, запрещая нам дольше настаивать на своем. Через несколько минут мне доложили о приходе госпожи Полиньяк. Императрица приняла ее в отдаленной комнате своей половины; она скрыла от несчастной женщины отказ императора и обещала испробовать все возможное, чтобы добиться помилования ее мужа.
В течение этого утра, которое было, конечно, одним из наиболее беспокойных в моей жизни, императрица два раза приходила в кабинет своего мужа и оба раза вынуждена была уйти, ничего не добившись. Она возвращалась ко мне обескураженная, и я сама начинала терять надежду и трепетала при мысли о том, что придется ответить госпоже Полиньяк.
Наконец мы узнали, что император остался работать с Талейраном. Я попросила императрицу сделать последнюю попытку, надеясь, что, если Талейран будет при этом присутствовать, он поможет ей уговорить императора. В самом деле, министр присоединился к ней, и император, побежденный этими уговорами двух сторон, согласился на то, чтобы госпожа Полиньяк была введена к нему. А согласиться на это – значило обещать все, так как невозможно было произнести жесткое «нет» в ее присутствии.
Войдя в кабинет, госпожа Полиньяк упала в обморок у ног императора. Императрица была в слезах. Маленькая заметка, составленная Талейраном и помещенная на другой день в газете Le journal de l’Empire[60], прекрасно передавала всю эту сцену. Герцог Полиньяк был помилован.
Когда Талейран вышел из кабинета императора, я была в салоне императрицы, и он рассказал мне обо всем происшедшем. Сквозь слезы, которые он заставил меня пролить, я невольно улыбнулась, когда он рассказал одно незначительное, но смешное обстоятельство, конечно, не ускользнувшее от его насмешливого ума. Бедная госпожа д’Андло, сопровождавшая свою племянницу, хотела произвести на императора известное впечатление и, поднимая госпожу Полиньяк, едва пришедшую в сознание, беспрестанно восклицала: «Ваше величество, я – дочь Гельвеция!» – «Этими тщеславными словами, – говорил Талейран, – она производила на всех нас несколько расхолаживающее впечатление».
Казнь герцога Полиньяка была заменена несколькими годами тюрьмы, за которыми должна была последовать ссылка. Его посадили в тюрьму вместе с братом. Оба они находились под арестом, потом их заключили в крепость и, наконец, содержали в лечебнице, откуда они бежали во время кампании 1814 года. Министра полиции, герцога Ровиго, подозревали тогда в том, что он содействовал их побегу, желая приобрести расположение партии, близкое торжество которой предвидел.
Не стараясь придать себе в данном случае больше значения, чем я в самом деле заслуживаю, я могу, однако, признать, что обстоятельства дали мне возможность оказать тогда существенную услугу семье Полиньяк, и было бы естественно, если бы и они сохранили об этом хоть некоторое воспоминание. Однако со времени Реставрации я поняла, до какой степени партийный дух, особенно у придворных, способен подавить самые справедливые чувства.
После этого события госпожа Полиньяк считала себя обязанной сделать мне несколько визитов, но мало-помалу, вращаясь в таких различных кругах, мы потеряли друг друга из виду в течение нескольких лет, предшествовавших Реставрации.
В эпоху Реставрации король послал герцога Полиньяка в Мальмезон, чтобы поблагодарить императрицу Жозефину от его имени за старание спасти жизнь герцогу Энгиенскому. Герцог Полиньяк воспользовался этим, чтобы выразить свою собственную благодарность. Императрица, сообщая мне об этом, сказала, что герцог, без сомнения, зайдет ко мне, и я, признаюсь, ожидала с его стороны какого-нибудь знака внимания.
Но я ошиблась, а так как не в моем характере стараться вызвать благодарность, которая была бы дорога, только если бы была добровольна, я спокойно оставалась у себя, не желая напоминать о событии, которое, по-видимому, старались забыть.
Однажды вечером случай свел меня с госпожой Полиньяк у герцога Орлеанского. Это был его приемный день, всякий мог явиться к нему, и у него собралась масса народа. Пале-Рояль был декорирован с необыкновенной роскошью. Все французское дворянство было в сборе; аристократы, которым Реставрация, как казалось на первых порах, вернула их права, держались с той уверенностью и тем выражением довольства и непринужденности, которые появляются всегда вслед за успехом.
Среди этой блестящей толпы я заметила герцогиню Полиньяк. После долгих лет я наконец видела ее возвращенной на прежнее место, принимающей заслуженные поздравления придворных, которые теснились вокруг нее. Я вспомнила, какой видела ее в первый раз, ее слезы, ее страх, тон, которым она обратилась ко мне, входя в мою комнату и чуть не падая к моим ногам. Это сопоставление сильно взволновало меня.
Находясь в нескольких шагах от герцогини, я подошла к ней и обратилась, искренне тронутая, с приветствием по поводу того нового положения, в котором теперь ее видела. Мне хотелось услышать хоть одно слово, которое показало бы, что она помнит меня, и это было бы достаточным ответом на те волнения, которые я из-за нее испытывала. Но мое воодушевление было тотчас же охлаждено равнодушным и принужденным видом, с которым она приняла мои слова. Она не узнала меня или сделала вид, что не узнает. Я назвала себя, ее неловкость увеличилась. Едва заметив это, я немедленно отошла от герцогини с тяжелым чувством; то настроение, которое вызвало ее присутствие и которое, как я сначала думала, тронет ее так же, как меня, бесследно исчезло.
Способ, которым императрица добилась помилования Полиньяка, наделал много шума в Париже; это послужило новым поводом к тому, чтобы прославлять ее доброту, которой обыкновенно отдавали должное.
И тотчас же жены, матери и сестры остальных заключенных стали осаждать дворец в Сен-Клу, стараясь добиться свидания с ней, чтобы ее тронуть.
Обращались также и к ее дочери, и обе они добились от императора и для других замены казни иным наказанием. Император сам видел, какой мрачный характер получило его вступление на престол из-за всех этих несчастий, и был доступен, принимая просьбы. Его сестры, не пользовавшиеся той всеобщей симпатией, какую внушала императрица, и желавшие видеть проявление подобной же симпатии по отношению к себе, передавали женам заключенных, что можно обращаться и к ним. Они с известной пышностью повезли несчастных женщин в своих экипажах в Сен-Клу, чтобы просить о помиловании их мужей. Этот образ действий, о котором, кажется, заранее сговаривались с императором, был менее естественным, чем поступок императрицы, и казался слишком хорошо разыгранным. Но, в конце концов, это тоже спасло жизнь некоторым лицам.
Мюрат, который вызвал всеобщее негодование своим жестким поведением и личной ненавистью по отношению к Моро, хотел реабилитировать себя подобным же поступком и добился помилования маркиза Ривьера. Он также принес Бонапарту письмо от Жоржа Кадудаля, которое мне пришлось читать. Письмо это было прекрасно написано и исполнено твердости. Такое письмо мог написать человек, примирившийся со своей судьбой, человек, который верил в то, что поступки, которые он совершил и которые сгубили его, были совершены только из чувства долга и великодушия и благодаря твердому, непреклонному решению.
Бонапарт был поражен этим письмом и еще раз выразил сожаление, что не может быть милосердным по отношению к Жоржу.
Этот истинный глава заговорщиков умер со спокойным мужеством. Для семерых из двадцати осужденных смертная казнь была заменена более или менее продолжительным тюремным заключением. Вот имена их: герцог Полиньяк, маркиз Ривьер, Руссильон, Рошелль, д’Озье, Лажоле, Гальяр. Остальные были казнены, а генерал Моро был выслан в Бордо, посажен на корабль и отправлен в Соединенные Штаты; его семья продала все свое имущество. Император купил часть его и отдал Гро-Буа маршалу Бертье.
Несколько дней спустя в «Мониторе» был напечатан протест Людовика XVIII против вступления на престол Наполеона. Этот протест появился 1 июня 1804 года и произвел мало впечатления: заговор Жоржа Кадудаля, быть может, еще более охладил чувства, и без того очень слабые, какие еще сохранились по отношению к старой династии.
В самом деле, казалось, заговор был плохо составлен и опирался на незнание внутреннего состояния Франции и общественного мнения, а имена и характеры заговорщиков внушали мало доверия. Но главное, боялись новых потрясений, которые последовали бы за очередной переменой.
Поэтому, за исключением немногих дворян, желавших возвращения старого режима, никто во Франции не жалел об этой развязке заговора, которая утверждала новый строй. Отчасти по убеждению, отчасти из-за желания покоя, или же благодаря необыкновенной судьбе нового главы государства, которая всем импонировала, многие содействовали его возвышению. И для Франции наступило время покоя и порядка.
Враждебные партии начали терять надежду на успех, и, как это обыкновенно бывает, многие члены этих партий начали делать шаги к сближению с императором, желая воспользоваться теми шансами, которые могли для них открыться при новом режиме.
Дворяне и народ, роялисты и либералы – все делали попытки выдвинуться; тщеславие и честолюбие были возбуждены во всех партиях, и Бонапарт видел, как добивались чести служить ему те, от которых он меньше всего мог этого ожидать. Однако он не спешил с выбором и долго сомневался, поддержать ли надежды и увеличить ли тем самым число искателей.
Именно в это время я покинула двор, чтобы подышать деревенским воздухом. Целый месяц я прожила в долине Монморанси у госпожи д’Удето, о которой уже говорила. Спокойная жизнь, которую мы вели, дала мне возможность отдохнуть от тяжелых впечатлений, переживаемых до того почти без перерыва. Мне необходим был этот отдых; здоровье мое, которое с тех пор навсегда оставалось довольно слабым, начинало расстраиваться; это вызывало во мне некоторую грусть, еще усиливающуюся по мере того, как приходилось узнавать правду относительно многого вообще и некоторых лиц в частности. Золотистая дымка, заволакивающая, по словам Бонапарта, глаза в юности, начинала тускнеть, и это заставляло меня до известной степени страдать, пока жизненный опыт не сгладил остроты первого впечатления.
Глава IX 1804 год
Устройство флота в Булони – Статья в «Мониторе» – Придворные чины – Придворные дамы – Годовщина 14 июля – Красота императрицы – Проект развода – Приготовления к коронации
Мало-помалу различные флотилии, построенные в наших портах, присоединились к стоящим в Булони. Иногда в пути они терпели неудачи, потому что английские суда беспрестанно курсировали около берегов, чтобы помешать их соединению. Лагеря в Булони, Монтрейле и Компьене имели весьма внушительный вид, и армия становилась с каждым днем все более и более многочисленной и грозной.
Несомненно, в Европе возбуждали беспокойство как эти приготовления, так и то, что говорилось об этом в Париже; в газетах поместили статью, которая не произвела в то время большого впечатления, но мне показалось, что ее стоит сохранить, так как в ней точно передавалось все, что тогда происходило.
Эта статья была напечатана в «Мониторе» 10 июля 1804 года, в тот самый день, когда появился отчет об аудиенции, данной всем посланникам императором, только что получившим новые верительные грамоты; некоторые из них сопровождались лестными приветствиями императору от иностранных правителей по поводу его вступления на престол. Вот эта статья:
«Столица всегда была страною слухов. Каждый день появляется новое известие, которое на другой же день опровергается. Хотя за последнее время и замечается больше систематичности и известная тенденция в слухах, все же думается, что лучше по этому поводу подождать и что молчание в данном случае – лучший и самый разумный ответ. Притом, что представляет из себя француз? Это человек, не лишенный здравого смысла, который, если только пожелает узнать истину, конечно, увидит в распространяющихся слухах результат известной хитрости, известной тенденции. В стране, где знают то, что действительно существует, и могут судить о том, чего нет, если кто-нибудь и станет серьезно беспокоиться из-за слухов, если его легкомысленная доверчивость окажет какое-нибудь влияние на его торговые расчеты или личные интересы, то, конечно, ненадолго, и он должен отнести это на счет своей легковерности.
Но иностранцы, члены дипломатических миссий, часто могут быть введены в заблуждение, так как у них нет ни подобной возможности судить, ни знания страны. Хотя и им случалось довольно долго наблюдать, как часто события противоречат распространяющимся слухам, тем не менее они не перестают распространять эти слухи в своих странах, и их рассказы создают совершенно ложные мнения относительно Франции. Мы думаем, что нелишне напечатать в этой газете несколько слов по поводу того, что говорят.
Говорят, что император хочет соединить под своей властью республики Итальянскую, Лигурийскую, Лукку, королевство Этрурию, Папскую область и, вслед за тем, Сицилию и Неаполь. Говорят, подобная же судьба постигнет Швейцарию и Голландию. Говорят, что Ганновер, благодаря своему присоединению, доставит императору возможность вхождения в состав Священной Римской империи.
Из этих предположений делают различные выводы, и первый, например, – будто папа отречется и кардинал Феш (или кардинал Руффо) займет папский престол.
Мы говорили уже и повторяем, что если Франция и повлияет на положение верховного главы церкви, то это скорее в том смысле, чтобы содействовать благополучию святого отца и усилению могущества папского престола и его владений, а никак не в том, чтобы уменьшить их.
Что касается Неаполитанского королевства, то вызывающий образ действий Актона (английского посланника в Неаполе. – (П.Р.). мог бы некогда дать Франции достаточно законных причин начать войну, хотя она никогда не имела намерения присоединить королевство Обеих Сицилий к Французской империи.
Республики Итальянская и Лигурийская и королевство Этрурия не перестанут существовать как независимые государства, и, конечно, совершенно неправдоподобно, чтобы император не знал обязанностей, связанных с властью коалиции, когда он создал себе славу, дважды возвратив независимость побежденным им странам.
Можно спросить себя по поводу Швейцарии: что помешало ее присоединению к Франции до Акта посредничества? Акт – непосредственный результат забот и дум императора, вернувший народам спокойствие, является гарантией их независимости и безопасности, пока они сами не разрушат этой эгиды, противопоставляя элементам, которые ее создают, желание одного из установленных учреждений или одной из партий.
Если бы Франция захотела присоединить Голландию, Голландия сделалась бы французской страной, подобно Бельгии. Если она остается независимой, то только благодаря Франции, которая поняла, что эта страна, так же точно, как и Швейцария, должна сохранить независимое существование и свое специальное устройство.
Еще более смешны предположения относительно Ганновера. Ганновер был бы самым плохим подарком, какой можно было бы сделать Франции, и не нужно много размышлять, чтобы это заметить. Ганновер сделался бы предметом соперничества между французским народом и тем государем, который показал себя союзником и другом Франции в то время, когда против нее еще объединялась Европа.
Чтобы сохранить Ганновер, нужно такое военное положение, которое требовало бы затрат, совершенно не соответствующих нескольким миллионам, составляющим все доходы этой страны. Может ли правительство, которое пожертвовало необходимости иметь простую и непрерывную границу даже укреплениями Страсбурга и Майнца на правом берегу, так мало понимать, чтобы желать присоединения Ганновера? Говорят, что с обладанием Ганновером связано преимущество быть в составе Священной Римской империи. Сам титул императора французов опровергает эту странную идею. В Империи может быть множество королей и только один император. Впрочем, надо слишком мало знать благородную гордость нашей страны, чтобы поверить в возможность для нее стать частью какой-либо империи. Если бы подобная вещь была совместима с национальным достоинством, что помешало бы Франции сохранить свои права на провинции, входившие в состав Бургундского герцогства, или – можем даже сказать с чувством справедливой гордости, – на часть государства Баденского и территорию Швабии?
Нет, Франция никогда не пойдет за Рейн, и ее армия никогда больше не перейдет его, разве только ей придется оберегать Священную Римскую империю и ее правителей, которые удивляют ее своей привязанностью к ней и своей необходимостью для равновесия Европы.
Если все это праздные слухи, мы достаточно на них ответили. Если же их источник – беспокойная зависть некоторых держав, привыкших постоянно кричать, что Франция властолюбива, чтобы лучше скрыть свое собственное властолюбие, то на это существует другой ответ: благодаря двум коалициям, создавшимся против нас, и благодаря трактатам в Кампо-Формио и Люневиле Франция не имеет вблизи своей территории ни одной области, которую бы она желала захватить.
Французская столица расположена в центре страны, границы окружены маленькими государствами, дополняющими ее политическую систему. В географическом отношении ей нечего желать из того, что принадлежит ее соседям, поэтому у нее нет естественной вражды ни к кому.
Кроме того, распространяют и другого рода слухи. То в наших лагерях бунт, то третьего дня тридцать тысяч французов отказались сесть на корабли в Булони; вчера наши легионы сражались десять против десяти, тридцать против тридцати, знамя против знамени. Сегодня говорят, что общественная казна истощена, работы прекращены, повсюду раздоры, и налоги нигде не платятся. Если император отправляется в лагерь, может быть, скажут, что он спешит подавить восстание.
Наконец, останется ли он в Сен-Клу, отправится ли в Тюильри, будет ли жить в Мальмезоне, – все это явится поводом к предположениям, одно смешнее другого.
И если эти слухи, одновременно передаваемые в другие страны, имели целью посеять тревогу относительно тщеславия императора и вместе с тем придать себе смелости, подавая некоторую надежду на слабость его управления, мы можем только повторить то, что сказал один министр, покидая двор:
«Император французов не желает войны с кем-либо, но и не боится ее. Он не вмешивается в дела своих соседей и имеет право на подобное же поведение с их стороны. Долгий мир – желание, которое он постоянно высказывает; но история его жизни не дает возможности думать, что он допустит, чтобы его оскорбляли или презирали»».
Между тем, отдохнув некоторое время в деревне, я возвратилась и снова попала в водоворот нашего двора, где порок тщеславия, казалось, с каждым днем все более и более овладевал нами. Император как раз назначил главных придворных сановников. Генерал Дюрок был назначен обер-гофмаршалом двора, Бертье – обер-егермейстером, Сегюр – обер-церемониймейстером; Ремюза получил титул первого камергера. Он шел тотчас же после Талейрана, который должен был предоставить моему мужу большую часть преимуществ, связанных с его местом, так как сам он, по-видимому, занимался исключительно иностранными делами.
Сначала все так и было установлено; но вскоре император назначил обыкновенных камергеров, среди которых были барон Талейран, племянник обер-камергера, а также сенаторы – бельгийцы знатного рода, несколько позднее – французские дворяне. Тогда начались претензии из-за первенства, неудовольствие из-за отличий, которых кто-то не получил.
Ремюза приходилось быть мишенью их постоянной зависти и находиться в состоянии какой-то борьбы, причинявшей мне огорчения, о которых я теперь вспоминаю, краснея. Но каков бы ни был двор, к которому принадлежишь – а у нас уже был настоящий двор, – невозможно не придавать значения всем пустякам, составляющим его главные элементы. Честный человек, человек разумный в душе стыдится тех радостей и горестей, которые он испытывает в качестве придворного, однако он не может их избежать. Легкое различие в костюме, прохождение двери, вход в тот или другой салон – вот поводы, по-видимому, ничтожные, к массе вечных волнений. Но напрасно стараться быть тверже по отношению к ним. Напрасно ум, рассудок протестуют против такого применения человеческих способностей; как бы ни был человек недоволен собой, нужно или унизиться со всеми остальными, или избегать двора совершенно, или же относиться серьезно ко всем мелочам, из которых состоит придворная атмосфера.
Император присоединил к неудобствам, связанным с придворными обычаями, и такие, которые были связаны с его характером. Он требовал соблюдения этикета со строгостью военной дисциплины. Церемониал исполнялся так, как если бы совершался под бой барабана, и все происходило как бы по ускоренному маршу; эта поспешность, эта постоянная боязнь, которую он внушал, придавали его двору характер более печальный, чем достойный; и на всех лицах являлся отпечаток беспокойства даже среди удовольствий и празднеств, которыми император старался быть постоянно окруженным из желания блистать.
Главной статс-дамой императрицы была назначена ее двоюродная сестра, госпожа де Ларошфуко, а второй статс-дамой – госпожа де Лавалетт; назначили двенадцать придворных дам. Мало-помалу число их было увеличено, и из различных областей были вызваны знатные дамы, очень удивлявшиеся такому назначению. Но, не желая вдаваться в совершенно ненужные подробности, я должна сказать, что встречала в ту эпоху множество просьб от лиц, которые теперь подчеркивают свою роялистическую суровость, малосовместимую с их тогдашними попытками.
Скажем откровенно: все классы желали тогда принять участие в том, что создавалось, и я замечала про себя, как многие из тех, кто осуждал меня за старинную дружбу и присутствие при дворе, сами стремились всеми способами попасть к этому двору из честолюбия.
Что же касается императрицы, то она была в восторге, видя себя окруженной многочисленной свитой, удовлетворявшей ее тщеславие. Победа, которую она одержала над госпожой де Ларошфуко, привязав ее к своей особе, удовольствие считать господина д’Обюссона, графа де Ла Фейяда среди своих камергеров, а госпожу д’Арбер, госпожу де Сегюр и супруг маршалов – среди своих придворных дам – все это немного вскружило ей голову, но эта чисто женская радость нисколько не помешала ее обычной приветливости. Императрица всегда умела искусно сохранить высоту своего положения, проявляя как бы особенную вежливость по отношению к тем, кто прибавляет двору новый блеск своим именем.
В то же время снова создано было министерство полиции, и снова был назначен Фуше. Коронацию собирались провести 18-го брюмера, а чтобы показать, что революционная эпоха не потеряна из виду, 14 июля того же года император с большой пышностью отправился в Дом Инвалидов; здесь он раздавал кресты ордена Почетного легиона многочисленной толпе, состоящей из различных классов, входивших в состав правительства, армии и двора.
В этих мемуарах, конечно, ожидают встретить некоторые подробности, которые напомнят о том, что они продиктованы женской памятью, поэтому я не обойду молчанием того, как императрица сумела показаться молодой и привлекательной среди молодых и красивых женщин, которыми в первый раз была окружена, и все это благодаря вкусу, с каким она одевалась, и умелой изобретательности. Церемония происходила при свете яркого солнца. На императрице было платье из розового тюля, усеянного серебряными звездами, очень открытое, по тогдашней моде, усыпанное бессчетным количеством бриллиантов. Этот свежий и блестящий туалет, ее изящные манеры, очаровательная улыбка и кроткий взгляд произвели такое впечатление, что многие из присутствующих признавали: императрица затмила весь свой блестящий кортеж.
Вскоре после этого император отправился в Булонский лагерь, и, если верить распространившимся слухам, англичане действительно начали опасаться его попытки высадиться. В течение месяца с лишним он осматривал различные части своей армии, в то время такой многочисленной, блестящей и такой воодушевленной.
Он присутствовал при нескольких стычках между блокирующими нас судами и нашими флотилиями, которые принимали весьма угрожающий вид. Отдаваясь военным занятиям, император издал несколько декретов, которые должны были установить первенство и ранги вновь созданных должностей.
Бонапарт умел заботиться обо всем сразу. Он уже составил тайный проект – призвать папу для своего коронования, и чтобы достичь этого, проявлял и силу воли, стремясь не получить отказа, и ловкость, благодаря которой надеялся папу уговорить. В том числе он послал орден Почетного легиона кардиналу Капрара, папскому легату. Это отличие сопровождалось лестными словами по адресу верховного главы церкви, успокоительными в смысле восстановления религии. Они были немедленно напечатаны в «Мониторе».
Однако когда император сообщил свой проект Государственному совету, то должен был выдержать противодействие одной части советников, испуганных этим священным великолепием. Талейран, между прочим, также воспротивился этой идее. Император дал ему высказаться, а затем заявил: «Вы меньше меня знаете почву, на которой мы стоим: знайте, что религия еще более могущественна, чем вы думаете. Вы не знаете ничего из того, чего я достиг благодаря священникам, которых сумел привлечь. Во Франции существует тридцать департаментов, достаточно религиозных, чтобы я не захотел бороться против папы. Только постепенно компрометируя все власти, я смогу утвердить свою собственную, т. е. революцию, которую мы все хотим утвердить».
В то время как император ездил по различным портам, императрица поехала лечиться на воды, в Ахен. Ее сопровождала часть ее нового двора. Ремюза получил приказание следовать за ней, чтобы подождать императора, который тоже должен был приехать в этот город. Я была довольна новой передышкой. Невозможно было дольше скрывать от себя, что так много новых лиц несколько затмили значение, которое я имела в первые годы благодаря невозможности сравнения, и хоть я и была еще неопытна в делах света, но поняла, что недолгое отсутствие будет мне полезно, впоследствии я смогу занять место, конечно, не первое, но такое, какое сама изберу.
Императрица уехала с госпожой де Ларошфуко. Это была женщина лет тридцати шести – сорока, маленькая, горбатая, с довольно пикантной физиономией, с заурядным умом, которым она, однако, умело пользовалась, смелая, как все женщины некрасивые, но имевшие некоторый успех, веселая и совсем не злая. Она подчеркивала все воззрения, которые называли «аристократическими» в эпоху революции; а так как их трудно было связать с ее настоящим положением, она начала над ними смеяться, и ее довольно добродушные шутки относились к ней самой. Она понравилась императору, потому что была легкомысленна, суха и неспособна к интригам. Притом, вследствие благоразумия, счастливой случайности или невозможности, едва ли когда-нибудь двор, столь изобилующий женщинами, мог представить меньше удобных случаев для каких бы то ни было интриг. Все государственные дела сконцентрировались в кабинете императора; о них ничего не ведали и понимали, что никто не может в них вмешаться; никто также не мог похвастаться особенной благосклонностью императора. Небольшое число лиц, которых император отличал и которые ограничивались тем, что просто исполняли его волю, были совершенно недоступны.
Дюрок, Савари, Маре никогда не произносили лишнего слова, стараясь только немедленно передать нам получаемые приказания. Исполняя только то, что нам было приказано, мы казались им, так же, как и самим себе, похожими на машины или даже на изящную золоченую мебель, которой только что украсили дворцы Тюильри и Сен-Клу.
Наблюдение, которое мне пришлось в то время сделать и которое очень забавляло меня, заключалось в следующем: по мере того как при этом дворе появлялись знатные вельможи прежних времен, все они испытывали, как бы ни были различны по характеру, некоторое разочарование, довольно любопытное для наблюдений. Появившись в первый раз, они снова находили привычки своей ранней молодости, снова дышали воздухом дворца, снова видели отличия, блеск, тронные залы, располагались в королевских апартаментах. Тогда они быстро поддавались иллюзии и думали жить так же, как это удавалось им раньше в тех же дворцах, где переменился только господин. Но вскоре строгое слово, новая и резко выраженная воля их предупреждали, внезапно и жестко, что все изменилось в этом единственном в мире дворе. Тогда нужно было видеть, как они начинали чувствовать себя стесненными в своих мелочных привычках и, видя, как почва уходит у них из-под ног, теряли весь свой апломб, несмотря на все старания. Лишенные своих обычаев, слишком пустые и слабые, чтобы заменить их серьезностью, они не знали, как себя держать. Ремесло придворного при Бонапарте сводилось к нулю. Так как оно ни к чему не вело, то не имело никакого значения. В его присутствии рискованно было оставаться человеком, то есть проявлять какие-нибудь из своих интеллектуальных способностей. Для всех, или почти для всех, было легче и проще придать себе характер раба, и, если бы я смела, я бы даже сказала, какой категории людей это меньше всего стоило. Но если бы я стала распространяться по этому поводу, то придала бы своим мемуарам характер сатиры, а это не соответствует ни моим вкусам, ни свойствам моего ума.
Во время пребывания в Булони император послал в Париж своего брата Жозефа, которого приветствовали, так же, как и его жену, все правительственные учреждения. Таким образом, император мало-помалу определял место каждого и предписывал возвышение одних и унижение других.
К 3 сентября Бонапарт приехал к своей жене в Ахен; он остался там несколько дней и держал блестящий двор, принимая германских принцев, которые желали вручить ему свою судьбу.
Во время этого пребывания Ремюза получил приказание выписать в Ахен второй парижский театр, которым руководил тогда Пикар; в присутствии курфюрстов было устроено несколько праздников, довольно блестящих, хотя, конечно, не столь великолепных, какие мы увидели позднее. Архиканцлер Священной Римской империи[61] и баденский курфюрст[62] всячески старались угодить нашему властелину. Император и императрица посетили Кельн и поднялись по Рейну от Кельна до Майнца, где застали еще множество принцев и знатных иностранцев, которые ожидали их. Это путешествие продолжалось до октября.
Одиннадцатого октября у госпожи Луи Бонапарт родился второй сын[63], через несколько дней император вернулся в Париж. Это событие доставило большую радость императрице. Она надеялась на благоприятные последствия, которые упрочат ее будущее; а между тем в этот самый момент против нее составлялся новый заговор, который ей удалось раскрыть только после многих усилий и беспокойств.
После того как узнали, что папа прибудет в Париж для коронования, семья императора очень старалась помешать участию госпожи Бонапарт в этой важной церемонии. Зависть наших принцесс была по этому поводу чрезвычайно возбуждена. Им казалось, что подобная честь установит слишком большую разницу между ними и их невесткой; впрочем, ненависть не нуждается в какой-нибудь специальной причине, чтобы быть задетой тем, что удовлетворяет ненавистный предмет. Императрица горячо желала своего коронования: оно должно было утвердить ее положение в ее собственных глазах, и Жозефину тревожило молчание мужа. Казалось, он колебался.
Жозеф Бонапарт не пренебрегал ничем, чтобы уговорить его сделать из своей жены только свидетельницу церемонии коронования. Он доходил до того, что возобновлял вопрос о разводе и советовал воспользоваться готовящимся событием, чтобы решиться окончательно на этот развод. Он представлял выгоды союза с какой-нибудь иностранной принцессой или, по крайней мере, с какой-нибудь наследницей громкого титула во Франции. Он искусно доказывал, что такой брак даст надежду на наследование по прямой линии; ему удавалось заставить себя верить в это тем более, что он подчеркивал свою незаинтересованность: ведь это решение должно было его лично отдалить от трона.
Император, постоянно возбуждаемый своей семьей, по-видимому, охотно слушал эти разговоры, и некоторые неосторожные слова, которые вырывались у него, безгранично волновали его жену. Благодаря привычке доверять мне все свои горести, она сделала меня своей поверенной. Мне было довольно трудно дать ей добрый совет, и я опасалась быть слегка скомпрометированной в этой крупной размолвке.
Неожиданное событие ускорило удар, которого мы боялись. С некоторых пор госпожа Бонапарт заметила усиление близости между своим супругом и госпожой N. Напрасно я заклинала ее не создавать нового предлога к ссоре с императором, поскольку такой предлог немедленно используют против нее, – слишком возбужденная, чтобы быть осторожной, она, несмотря на мои уговоры, выжидала случая убедиться в своих подозрениях.
В Сен-Клу император занимал апартаменты, выходящие в сад и расположенные на одном уровне с ним. Над этими апартаментами он велел меблировать маленькое и совершенно отдельное помещение, сообщавшееся с его собственным потайной лестницей. Императрица имела некоторые основания опасаться назначения этого укромного уголка. Однажды утром, когда в ее салоне было довольно много народа (госпожа N. уже в течение нескольких дней находилась в Сен-Клу), императрица, увидев вдруг ее выходящей из помещения, встает через несколько секунд после ее ухода и говорит, притянув меня к себе в амбразуре окна: «Я хочу сейчас же убедиться в моих подозрениях; оставайтесь в этом салоне со всеми окружающими, а если обо мне будут спрашивать, скажите, что меня позвал император». Я старалась ее удержать, но она была вне себя и, не слушая меня, тотчас же вышла, а я осталась, очень обеспокоенная тем, что может произойти. Через полчаса императрица быстро вошла в салон из своих апартаментов через дверь, противоположную той, в которую вышла; она казалась сильно взволнованной, едва могла сдерживаться и села возле пяльцев, которые стояли в салоне. Я оставалась вдали от нее, занятая работой, и избегала смотреть на нее; но я ясно видела волнение, которое выражалось в резкости движений императрицы, обыкновенно столь мягких.
Наконец, так как она была неспособна молчаливо переживать сильное волнение, каково бы оно ни было, императрица не могла дольше оставаться в таком принужденном состоянии и, громко позвав меня, приказала мне следовать за собой. Как только мы вошли в ее комнату, она сказала мне: «Все кончено! То, что я предвидела, вполне доказано. Я искала императора в его кабинете, его там не было; тогда я поднялась потайной лестницей в маленькую комнату; дверь была заперта, и сквозь замочную щель я услышала голос Бонапарта и госпожи N. Я громко постучала, назвав себя. Вы понимаете, как я смутила их; они очень долго не отворяли мне, а когда отворили, их вид и беспорядок не могли оставить у меня ни малейшего сомнения.
Я знаю, что должна была бы сдержаться, но это было для меня невозможно, и я разразилась упреками. Госпожа N. начала плакать. Бонапарт был так сильно разгневан, что я насилу успела спастись бегством от его злобы. В самом деле, я до сих пор еще дрожу, так как не знаю, до какой крайности он мог дойти. Вероятно, он придет, и я ожидаю ужасной сцены».
Можно себе представить, как волнение императрицы передалось мне. «Не делайте, – сказала я ей, = второй ошибки: император не простит вам, что вы доверили это кому бы то ни было. Позвольте мне удалиться. Нужно подождать его, нужно, чтобы вы были одни, и постарайтесь смягчить его и поправить такую страшную неосторожность». После этих нескольких слов я удалилась и вернулась в салон, где нашла госпожу N., которая бросила на меня обеспокоенный взгляд. Она была очень бледна, говорила отрывисто, несвязно и старалась угадать, знаю ли я что-нибудь.
Я принялась за свою работу спокойно, насколько могла; но трудно себе представить, чтобы госпожа N., видя меня выходящей из этого помещения, не поняла, что мне только что пришлось быть поверенной. Все присутствующие в салоне смотрели друг на друга, не понимая ничего из того, что происходило.
Через несколько минут мы услышали сильный шум в комнате императрицы, и я поняла, что император сейчас там и происходит резкая сцена. Госпожа N. спросила своих лошадей и уехала в Париж. Но этот неожиданный отъезд не мог предотвратить грозы. Я, в свою очередь, должна была возвратиться вечером. Перед моим отъездом императрица позвала меня и рассказала, заливаясь слезами, что Бонапарт сначала всячески оскорблял ее, разломал в ярости кое-что из мебели, которая попалась ему под руку, а потом сообщил ей, что она должна готовиться уехать из Сен-Клу, что он утомлен ее ревнивым надзором и решил сбросить с себя это иго и следовать интересам своей политики, которая требует от него, чтобы он имел жену, способную дать ему детей. Она прибавила, что он послал за Евгением Богарне, требуя его в Сен-Клу, чтобы определить условия отъезда его матери, и что она безвозвратно погибла. Императрица приказала мне ехать на другой же день в Париж к ее дочери, чтобы рассказать ей обо всем, что случилось.
В самом деле, я отправилась к госпоже Луи Бонапарт, которая только что видела брата, вернувшегося из Сен-Клу. Император сообщил ему о своем решении развестись, которое Евгений принял с обычной покорностью. Но он отказался и от какого бы то ни было личного удовлетворения, которое предлагалось ему в виде утешения, объявив, что ничего не примет в то время, как такое несчастье обрушилось на его мать, что последует за ней повсюду, куда ее отправят, хотя бы на Мартинику, жертвуя всем ради того, чтобы доставить ей это утешение. Бонапарт, по-видимому, был поражен таким великодушным решением и выслушал его в суровом молчании.
Я нашла, что госпожа Луи менее взволнована этим событием, чем я ожидала. «Я не могу ни во что вмешиваться, – сказала она мне, – так как муж мой решительно запретил мне какие бы то ни было шаги в этом отношении. Моя мать была очень неблагоразумна, она потеряет корону, но по крайней мере приобретет спокойствие. О, поверьте мне, существуют женщины гораздо несчастней ее». Она произнесла эти слова с такой грустью, что нетрудно было отгадать ее мысль, но так как она никогда не позволяла себе ни единого слова относительно своего личного положения, я не решилась ответить ей так, чтобы доказать, что поняла ее. «Наконец, – сказала она мне, – если есть какая-нибудь надежда, что дело поправится, то эта надежда заключается в могуществе, каким обладают по отношению к Бонапарту кротость и слезы моей матери. Их нужно оставить в покое, не вмешиваться в их дела, и я советую вам не возвращаться в Сен-Клу, тем более что госпожа N. назвала вас и думает, что вы будете давать враждебные ей советы».
Из этого разговора видно, как часто невозможно быть правильно понятой при дворе и как обстоятельства, на первый взгляд ничтожные, ставят нас в положение, из которого трудно выйти. Два дня я не показывалась в Сен-Клу, следуя этому совету; на третий день я отправилась к императрице, судьба которой глубоко меня беспокоила. Она уже отчасти пришла в себя. Ее слезы, ее покорность обезоружили Бонапарта. Не было больше речи о его ярости и о том, что ее вызвало. Но после нежного примирения император снова причинил своей жене новое беспокойство, доказывая ей, как важен для него развод. «У меня нет мужества, – говорил он ей, – принять окончательное решение; если ты откажешь мне, я знаю, что никогда не буду достаточно тверд, чтобы заставить тебя меня покинуть. Но признаюсь, что очень желал бы, чтобы ты сумела примириться с интересами моей политики и сама могла бы избавить меня от затруднений этой горькой разлуки».
Сообщая об этом, императрица прибавляла, что он пролил много слез. Во время разговора, я до сих пор помню это, меня не покидало внутреннее понимание этого плана великой и великодушной жертвы с ее стороны. Считая в то время судьбу Франции неразрывно связанной с судьбой Наполеона, я думала, что было бы истинным величием души решиться на все то, что должно было его утвердить; думала, что, будь я женой, к которой обратились бы с подобной просьбой, я охотно покинула бы это блестящее положение, где на меня смотрели с известным сожалением, и удалилась в уединение, где жила бы мирно, удовлетворенная своей жертвой.
Но, видя волнение, которое вызвали слова императора на лице госпожи Бонапарт, я вспомнила слова моей матери: чтобы дать полезный совет, нужно всегда применяться к характеру лица, которому его даешь. Тогда я вспомнила об ужасе, какой внушало уединение императрице, о ее любви к блеску и роскоши, о той скуке, которая терзала бы ее, если бы она порвала со светом. И, отрешась от экзальтированного чувства, какое на минуту овладело мной, я сказала ей, что вижу для нее только два пути, по которым она может идти: или с достоинством и решимостью согласиться на то, чего требовали от нее, и в таком случае на другой же день утром уехать в Мальмезон, написав императору, что возвращает ему свободу, или же, если она хочет остаться, показать себя совершенно неспособной решить свою судьбу, всегда готовой повиноваться, но твердо заявить, что будет ждать прямых приказаний, чтобы покинуть трон, на который ее возвели.
Этот последний совет она и приняла, и с умелой и покорной кротостью, с видом жертвы сумела смягчить и на этот раз то, что было направлено против нее завистью императорской семьи. Печальная, приветливая, совершенно покорная, но умело пользующаяся влиянием на своего мужа, она довела его до состояния волнения и нерешительности, из которого он не мог выйти.
Наконец слишком сильно возбужденный своими братьями император заметил, какую радость выражают Бонапарты, думая, что достигли своей цели, и начал внутренне сравнивать их поведение с поведением своей жены и детей; кроме того, он был оскорблен торжествующим видом своих родственников, которые имели неосторожность хвалиться тем, что сумели повлиять на него, и испытывал тайное удовольствие при мысли разрушить план, создавшийся вокруг него.
После долгих колебаний, во время которых императрица пребывала в смертельном беспокойстве, он объявил ей однажды вечером, что должен приехать папа, что он коронует обоих и ей нужно серьезно готовиться к этой церемонии. Можно представить себе радость императрицы, вызванную этой развязкой, а также неудовольствие Бонапартов и особенно Жозефа. Так как император, верный своим привычкам, рассказал жене обо всех попытках, которые они предпринимали, чтобы убедить его, нетрудно понять, как эти разоблачения усилили тайную ненависть между обеими партиями.
По этому поводу императрица сообщила мне, что ей давно хотелось утвердить этот брак религиозной церемонией, которой пренебрегли во время его совершения. Иногда она говорила об этом императору, который не противился предложению, но отвечал, что, даже призвав священника к себе, невозможно сохранить тайну того, что до сих пор они не были повенчаны церковью. Может быть, потому, что это была истинная причина, а может быть, и потому, что ему хотелось на будущее сохранить легкость расторжения этого брака, когда это ему действительно понадобится, он всегда отвергал, хотя довольно мягко, просьбы своей жены. Она решилась ожидать приезда папы, справедливо надеясь, что он поддержит ее интересы.
В это время весь двор всецело отдавался приготовлениям к церемонии коронования, и императрица окружила себя лучшими художниками Парижа и самыми знаменитыми продавцами. С их помощью она определила форму новой придворной одежды и свой собственный костюм. Конечно, не могло быть и речи о возвращении к фижмам, но к нашим обычным одеждам добавили длинные мантии (которые сохранили после возвращения короля), а также воротник из кружева, который подымался довольно высоко сзади головы и закреплялся на обоих плечах; он напоминал костюм Екатерины Медичи. У императрицы были уже бриллианты на значительную сумму. Император прибавил к ним новые. Он взял несколько украшений, принадлежащих общественной казне, и хотел, чтобы императрица надела их в этот день. Над диадемой должна была возвышаться корона, которую император возложит ей на голову. Секретно проводили репетиции этой церемонии, а художник Давид, который должен был изобразить ее на полотне, распределял места для каждого.
Сначала было много споров из-за коронования самого императора. Первоначальная идея заключалась в том, что папа возложит корону собственноручно; но Бонапарт отказывался получить ее от кого бы то ни было и именно тогда сказал те слова, которые госпожа де Сталь вспоминает в своем произведении: «Я нашел корону Франции на земле и только поднял ее кончиком моей шпаги». Наконец после долгих обсуждений решили, что император коронуется сам, а папа только даст благословение.
Ничто не было забыто, чтобы придать празднеству больше блеска. Множество народа съехалось в Париж; призвали войска; все крупные должностные лица провинции, великий канцлер Священной Римской империи и множество иностранцев приехали также.
Каковы бы ни были отдельные мнения, все были охвачены теми интересом и удовольствием, какие могли внушить столь новое событие и столь великолепное зрелище. Продавцы были очень заняты, всевозможного рода ремесленники радовались случаю получить прибыль; население города как будто бы удвоилось; торговля, общественные учреждения, театры получили барыши, и все казались довольными и деятельными. Пригласили поэтов, чтобы они прославили это великое событие. Шенье получил приказание написать трагедию; он взял в качестве главного героя Кира. Опера готовила балеты. Мы, придворные, получили деньги для необходимых расходов, а императрица подарила своим придворным дамам прекрасные бриллианты.
Был разработан также костюм для мужчин, окружающих императора; он был очень красив и шел всем. Одежда различных цветов для различных должностей; серебряная вышивка для всех; бархатная мантия, подбитая атласом, спускающаяся с одного плеча; шарф, кружевные отвороты и приподнятая шляпа, украшенная перьями. Принцы должны были носить эту одежду, белую с золотом; император был в длинной одежде, напоминающей одежду наших королей, и пурпурной мантии, усеянной пчелами; венец его представлял собой золотой лавровый венок, подобно венцу цезарей.
Мне все это кажется сном, но сном, подобным восточной сказке, когда я вспоминаю всю роскошь, выставленную тогда напоказ, и то, каковы были волнения из-за мест, из-за степеней, каковы были требования каждого. Император хотел, чтобы принцессы несли мантию императрицы; с большим трудом удалось их уговорить; и я помню, как они неохотно несли ее. Был момент, когда императрица не могла больше двигаться, так слабо поддерживали мантию ее золовки. Они требовали, чтобы их шлейфы несли их камергеры, и этот знак отличия несколько утешил принцесс в их неприятной обязанности.
Между тем узнали, что папа уехал из Рима 2 ноября. Медленность его путешествия и множество приготовлений задержали коронование до 2 декабря, и 24 ноября весь двор отправился в Фонтенбло для встречи его святейшества, который должен был приехать на другой день.
Заканчивая эту главу, я хочу напомнить одно обстоятельство, которое мне кажется интересным. Император, отказавшийся в ту минуту от развода, но всегда стремившийся иметь наследника, спросил у своей жены, согласна ли она признать наследника, который принадлежал бы только ему, и достаточно искусно изобразить беременность для того, чтобы обмануть всех. Она готова была исполнить всякую его фантазию по этому поводу. Тогда Бонапарт, призвав своего лейб-медика Корвисара, к которому он питал полное и заслуженное доверие, сообщил ему свой проект. «Если я смогу, – сказал он ему, – добиться рождения мальчика, который будет моим родным сыном, я желал бы, чтобы вы были свидетелем притворных родов императрицы и сделали все необходимое, чтобы придать этой хитрости видимость реальности».
Корвисар нашел, что согласие на это предложение скомпрометировало бы его. Он обещал полную тайну, но отказался сделать то, чего от него потребовали. Только много лет спустя, уже после второго брака Бонапарта, он рассказал мне этот анекдот, сообщая о законном рождении Римского короля, о котором хотели возбудить совершенно несправедливые сомнения.
Глава Х Декабрь 1804 года
Приезд папы в Париж – Плебисцит – Бракосочетание императрицы Жозефины – Коронование – Празднество на Марсовом поле, в Опере и т. п. – Придворные
Вероятно, папу удалось пригласить во Францию только потому, что ему были представлены выгоды и преимущества, которые ему будут даны для восстановления религии в награду за его любезность. Он приехал в Фонтенбло, решившись согласиться на все, чего требовали от него и что он мог бы себе позволить. Несмотря на преимущества, которые, по-видимому, имел над ним победитель, склонивший его к такому большому перемещению, и несмотря на незначительное уважение, какое весь двор испытывал по отношению к правителю, не имевшему шпаги в числе своих регалий, папа импонировал всем достоинством своих манер и серьезностью поведения.
Император отправился ему навстречу и, когда экипажи встретились, сошел на землю, так же, как и его святейшество. Они поцеловались, сели оба в одну карету, император первый, предоставляя папе сесть справа, и они вместе возвратились во дворец.
Папа приехал в воскресенье, 25 ноября 1804 года, в полдень. Отдохнув в своих апартаментах, куда проводили его Талейран, обер-гофмаршал и обер-церемониймейстер, папа отправился с визитом к императору, который принял его в своем кабинете и через полчаса проводил до залы, называемой тогда Залой придворных. Императрица получила приказание посадить его справа от себя.
После этих визитов принц Луи, министры, великий канцлер и главный казначей, кардинал Феш и придворные чины, находившиеся в Фонтенбло, были представлены папе. Он принял всех вежливо и благосклонно, затем пообедал с императором и рано удалился, чтобы отдохнуть.
Папе Пию VII было в это время шестьдесят два года. Он был довольно высок ростом, лицо его было красиво, строго и имело благосклонное выражение. Его окружала многочисленная свита итальянских священников, которые не импонировали окружающим, в отличие от него: их живые манеры, вульгарные и несколько странные, не могли сравниться с достойными манерами французского духовенства. Дворец в Фонтенбло имел в то время странный вид благодаря пестрому смешению населявших его лиц: правителей, принцев, военных, священников, женщин, собиравшихся в назначенные часы.
На другой же день его святейшество принял всех придворных, которые представлялись ему. Нам всем была оказана честь поцеловать его руку и получить благословение. Его присутствие в таком месте и по такому важному поводу довольно сильно меня взволновало.
В этот же понедельник визиты между правителями возобновились. Когда папа во второй раз явился к императрице, она осуществила свой секретный план и рассказала ему о том, что не была венчана в церкви. Его святейшество, поздравив ее с добрым намерением, назвал ее «дочь моя» и обещал потребовать от императора, чтобы он перед коронованием совершил церемонию, необходимую для узаконения их союза. В самом деле, император должен был согласиться на то, от чего до сих пор уклонялся. По возвращении в Париж кардинал Феш обвенчал их.
Вечером в понедельник пригласили нескольких певцов, чтобы устроить концерт в апартаментах императрицы, но папа отказался присутствовать и удалился в тот момент, когда концерт должен был начаться.
В это время начала становиться заметной склонность императора к госпоже Д. Потому ли, что он был доволен успехом задуманного проекта, или потому, что зарождающаяся любовь внушала ему некоторое желание нравиться, но он казался во время этого маленького путешествия в Фонтенбло спокойным, веселым и более доступным, чем обыкновенно. Когда папа удалился, император оставался у императрицы и говорил по преимуществу с находящимися там женщинами.
Его жена, пораженная этой переменой и очень догадливая по поводу всего того, что возбуждало ее ревность, подозревала, что причиной этого была какая-нибудь новая фантазия, но не могла разобрать еще, кто же виновница ее беспокойства, так как император с достаточной ловкостью общался со всеми нами по очереди. Госпожа Д., необыкновенно сдержанная, казалось, в то время не сознавала, она ли была скрытой целью всех этих любезностей императора, которые он проявлял по отношению к нам. Некоторые даже думали, что его особенное внимание завоюет жена маршала Нея. Это была дочь Огье, заведовавшего прежде финансами, и госпожи Огье, камеристки последней королевы. Она была воспитана госпожой Кампан, своей теткой, и все еще оставалась подругой госпожи Луи Бонапарт. Аглае Луизе было тогда двадцать два или двадцать три года, лицо ее и вся фигура были довольно приятны, хотя слишком худы. У нее не было привычки к свету, она была необыкновенно застенчива и нисколько не надеялась привлечь внимание императора, которого чрезвычайно боялась.
Во время нашего пребывания в Фонтенбло в «Мониторе» был напечатан сенатус-консульт, который, имея в виду проверку, сделанную специальной комиссией Сената, объявлял Бонапарта и его семью призванными на французский трон.
Общее число проголосовавших было 3 574 898. Из них 3 572 329 человек проголосовали «за», а 2569 – «против».
Двор возвратился в Париж в четверг, 29 ноября. Император и папа возвратились в одной карете; его святейшество остановился в павильоне Флоры; император предоставил ему часть своего дворца.
В первые дни своего пребывания в Париже папа не встретил среди обитателей того уважения, на которое он мог рассчитывать. Любопытство побуждало толпу встречать его, когда он посещал церкви, или собираться под его балконом в те часы, когда он давал благословение. Но мало-помалу рассказы видевших его о достоинстве его манер, благодарные и трогательные слова, которые он произносил в разных случаях и которые повторялись, мужество, с которым он переносил положение, столь странное для главы христианства, – все это произвело перемену даже среди низших классов общества. Вскоре терраса в Тюильри каждое утро стала заполняться несметной толпой народа, люди приветствовали его громкими криками и становились на колени в ожидании благословения.
Разрешили, чтобы галереи Лувра наполнялись в известные часы дня народом, и тогда папа проходил через них и благословлял всех присутствующих. Матери подводили к нему детей, которых он принимал с особенной благосклонностью. Однажды некий человек, известный своими антирелигиозными взглядами, находился в этой галерее, желая только удовлетворить свое праздное любопытство, и держался в стороне, как бы желая избегнуть благословения. Папа, приближаясь к нему и угадывая его тайные и враждебные намерения, кротко обратился к нему со следующими словами: «Почему вы избегаете меня? Разве благословение старика представляет опасность?»
Вскоре похвалы папе раздавались по всему Парижу, и император начал этому завидовать. Он принял некоторые меры, которые заставили его святейшество уклониться от слишком большого рвения со стороны верующих: папа, понявший беспокойство, предметом которого он был, удвоил свою сдержанность, никогда не проявляя ни малейших следов какой бы то ни было человеческой гордости.
За два дня до коронования Ремюза, который был одновременно первым камергером и заведующим дворцовым гардеробом, а поэтому должен был заняться всеми приготовлениями императорских костюмов, отнес императрице прелестную диадему, которая только что была закончена. Императрица была так довольна, что едва могла сдержать громкое выражение своей радости. Отведя моего мужа в сторону, она сообщила ему, что утром этого дня в кабинете императора был приготовлен престол и кардинал Феш обвенчал ее с императором в присутствии двух адъютантов. После церемонии она потребовала от кардинала письменное подтверждение этого брака. Императрица всегда бережно хранила его и, несмотря на все старания императора овладеть им, не соглашалась с ним расстаться.
После говорили, что церковное бракосочетание, совершенное не в присутствии священника того прихода, где оно должно было совершиться, утрачивает всякое значение и будто бы все было сделано преднамеренно, с тем чтобы сохранить на будущее возможность разрыва. В таком случае нужно было бы, чтобы кардинал сам согласился на этот подлог. Однако его дальнейшее поведение не дает повода думать таким образом: во время бурных сцен, вызванных вопросом о разводе, императрица иногда грозила своему супругу опубликовать подтверждение, которое оставалось у нее в руках, а кардинал Феш, с которым советовались, всегда отвечал, что оно действительно, что этот брак освящен и что расторгнуть его можно только силой произвольной власти.
После развода император опять хотел захватить этот документ, но кардинал посоветовал императрице не выпускать его из рук. Насколько недоверие было распространено в семье, видно из того, как императрица говорила мне тогда, что кардинал мог ей давать советы только с согласия императора и хотел довести ее до какой-нибудь низости, чтобы иметь предлог выслать ее из Франции. Между тем дядя и племянник были тогда в ссоре из-за папы.
Наконец 2 декабря произошла церемония коронования. Трудно было бы описать всю ее пышность и передать все детали этого дня. Было холодно, но сухо и ясно, улицы Парижа были полны народа, но людьми руководило скорее любопытство, чем энтузиазм; гвардия была в полном вооружении и во всей красе.
Папа явился на несколько часов раньше императора и выказал необыкновенное терпение, долго оставаясь на троне, который был ему приготовлен в церкви, и не жалуясь ни на холод, ни на томительное ожидание процессии. Собор Парижской Богоматери был декорирован с большим вкусом и великолепием. В глубине церкви, где император мог появиться, окруженный своим двором, был воздвигнут для него пышный трон.
Перед отбытием в собор мы были собраны в апартаментах императрицы. Наши туалеты были блестящи, но бледнели перед туалетами императорской фамилии. Императрица, сияющая бриллиантами, с головкой, украшенной бесчисленными буклями, как в эпоху Людовика XIV, казалась не старше двадцати пяти лет[64]. Она была одета в платье и мантию из белого атласа, вышитую золотом и серебром. Бриллиантовое колье, серьги и драгоценный кушак – все это демонстрировалось с обычной грацией. Ее золовки тоже блистали неисчислимым количеством драгоценных камней, и император, рассматривая всех нас одну за другой, улыбался этой роскоши, которая была, как и все остальное, внезапным созданием его воли.
Сам Бонапарт также был одет в великолепный костюм. Так как в императорской мантии он должен был поехать только в церковь, то сейчас на нем были костюм из красного бархата, вышитый золотом, белый шарф и короткая мантия, усеянная пчелами, шляпа с бриллиантовой пряжкой и белыми перьями, а также бриллиантовая цепь ордена Почетного легиона. Этот костюм очень шел ему.
Все придворные были в бархатных мантиях, вышитых серебром. Мы щеголяли друг перед другом костюмами; надо сознаться, это зрелище было действительно красиво.
Император сел в золоченую карету с семью зеркальными стеклами со своей женой и двумя братьями, Жозефом и Луи. Затем каждый придворный направился к карете, которая была ему предназначена, и этот многочисленный кортеж шагом двинулся к собору. По дороге не было недостатка в приветствиях; в них не было энтузиазма, которого желал бы правитель, стремящийся видеть выражение любви, но эти приветствия могли удовлетворить тщеславие гордого и малочувствительного господина.
По прибытии в собор Парижской Богоматери император надел торжественную одежду, которая, казалось, несколько подавляла его. Его маленькая фигура исчезла под огромной горностаевой мантией. Простой лавровый венок, украшавший его голову, походил на античную медаль. Император был необыкновенно бледен, действительно взволнован, и выражение его глаз казалось строгим и несколько смущенным.
Вся церемония была величественна и красива. Момент, когда была коронована императрица, вызвал общее движение восторга – не из-за самого акта, но потому, что она была так изящна, так хорошо подошла к алтарю и с такой грацией и простотой преклонила колени, что очаровала всех. Когда нужно было перейти от престола к трону, случилась минута недоразумения между ней и ее золовками, которые несли мантию с такой неохотой, что, казалось, одну минуту императрица не могла двинуться дальше. Император, который это заметил, обратился к своим сестрам с несколькими сухими и резкими словами, после чего процессия возобновилась.
Через два или три часа весь наш кортеж направился к Тюильри; мы возвратились туда только к ночи, которая рано наступает в декабре; наш путь был освещен иллюминацией и бесчисленным количеством факелов, с которыми нас сопровождали. Мы обедали во дворце у обер-гофмаршала, а после этого император захотел в течение нескольких минут принять придворных, он был весел и очарован церемонией. Он находил нас всех красивыми, восхищался тем, как украшает женщин наряд, и говорил нам, смеясь: «Ведь это мне, дамы, вы обязаны тем, что так очаровательны». Он не хотел, чтобы императрица сняла свою корону, хотя она обедала с ним с глазу на глаз, и говорил ей комплименты относительно ее манеры носить диадему; наконец мы расстались.
Вернувшись домой, я застала у себя многих друзей и знакомых, которые не видели всех этих блестящих новшеств и собрались, чтобы доставить себе удовольствие лицезреть меня в моем новом наряде.
В течение месяца бесчисленные празднества и удовольствия следовали одно за другим. 5 декабря император отправился на Марсово Поле с тем же кортежем, как и 2 декабря, и распределял там орлов в полках. Энтузиазм солдат был гораздо сильнее, чем воодушевление народа. Плохая погода испортила этот день: дождь лил как из ведра; однако толпа народа покрывала трибуны Марсова Поля. «Если положение зрителей было печально, то не было никого, кто не находил бы себя вознагражденным тем чувством, которое его удерживало, а также самым горячим общим выражением чувств». Вот как описывает в «Мониторе» этот дождь Маре.
Самая обычная лесть, хотя и самая смешная, во все времена заключалась в том, что так как король нуждается в солнце, то и может влиять на его присутствие. Я встречала в Тюильрийском дворце как бы установившееся мнение: если император назначит на какой-нибудь день смотр или охоту, то небо в этот день непременно будет ясным. Это очень подчеркивали, когда такое случалось, и старались не останавливаться на днях туманных и дождливых. То же самое мы видим в эпоху Людовика XIV. Мне хотелось бы, чтоб правители принимали эту наивную лесть холодно, скажу даже – почти с отвращением, чтобы никто не решался больше ее возобновлять. Невозможно было сказать, что на Марсовом Поле не шел дождь во время распределения орлов; но многие уверяли на другой день, что дождь не мочил их!
Для императорской семьи и свиты был воздвигнут большой помост, на котором стоял трон, прикрытый по случаю дурной погоды. Ткань обивки быстро оказалась испорченной. Императрица вынуждена была удалиться вместе со своей дочерью, только что вставшей после родов, и золовками, за исключением госпожи Мюрат, которая храбро оставалась, несмотря на дурную погоду, хотя и была легко одета. Она привыкала с тех пор «переносить, – как говорила она, смеясь, – неизбежные неудобства на троне».
В тот же день в Тюильри был дан великолепный банкет. В Галерее Дианы под роскошным балдахином был устроен стол для папы, императора, императрицы и архиканцлера Священной Римской империи. Императрица сидела посредине, между императором по правую руку и папой по левую. Им прислуживали придворные чины. Ниже стоял стол для принцев, среди которых находился баденский наследный принц[65]; другой стол предназначался для министров, отдельный – для дам и офицеров императорского дома; все это было обставлено с большой роскошью, во время обеда играла прекрасная музыка; затем последовали многочисленное собрание и концерт, на котором папа захотел присутствовать; потом посредине большой залы танцоры Оперы устроили балет. Сразу после начала представления папа удалился. В конце вечера играли, император, уходя, дал знак, чтобы все расходились.
Игра при императорском дворе только входила в церемониал. Император никогда не позволял, чтобы у него играли на деньги; играли в вист и лото; садились вокруг стола только для виду, чаще всего карты держали в руках, не глядя на них, и просто разговаривали.
Императрица любила играть, даже и не на деньги, и действительно неплохо играла в вист. Ее партия, так же, как и партия принцесс, устраивалась в салоне, называемом «кабинетом императора», салон находился перед Галереей Дианы. Она играла с самыми знатными лицами общества, иностранцами (посланниками) или французами. Придворные дамы, дежурившие в эту неделю, садились сзади нее, а камергер – около ее кресла. В то время как она играла, все лица, наполнявшие салон, приходили, одно за другим, чтобы приветствовать ее.
Сестры и братья Бонапарта играли и приглашали к своим партиям через своих камергеров, – так же, как и его мать, которую называли Мадам Мер. Все остальные придворные играли в других салонах. Император повсюду прогуливался, разговаривая, в сопровождении нескольких камергеров, которые предупреждали о его приходе. Когда он приближался, воцарялось глубокое молчание, никто не двигался, женщины вставали в ожидании ничего не значащих и часто не особенно любезных слов, с которыми он к ним обращался. Никогда он не помнил имен, и почти всегда первый вопрос его был: «Как вас зовут?» И не было ни одной женщины, которая не пришла бы в восторг, увидев его удаляющимся от того места, где она находилась.
Это напоминает мне интересный анекдот, относящийся к Гретри. Как член Института, он часто появлялся на воскресных аудиенциях, и император почти машинально подходил к нему и спрашивал его имя. Однажды Гретри, которому надоел этот постоянный вопрос (а может, ему хотелось вызвать о себе более продолжительные воспоминания), в тот момент, когда император с обычной резкостью спросил: «А вы, кто вы такой?» – отвечал немного нетерпеливо: «Ваше величество! Всегда Гретри». С тех пор император прекрасно узнавал его.
Императрица, напротив, обладала удивительной памятью на имена и запоминала все мелкие обстоятельства, касающиеся каждого.
Собрания проходили долго, позднее к ним прибавили концерты и балеты, а затем и спектакли; я расскажу об этом в свое время. На этих блестящих ассамблеях император хотел, чтобы придворным дамам были предоставлены особые места; эти маленькие преимущества возбудили маленькие неудовольствия, которые породили большую ненависть, как это часто бывает при дворе. Тщеславие есть та человеческая слабость, которая прививается легче всего.
В эту эпоху император не отказывался ни от одной церемонии. Он их любил в особенности потому, что они были отчасти его творением. В то же время его присутствие всегда несколько усложняло их из-за его природной стремительности, от которой ему трудно было освободиться, а также по причине вечного страха, который испытывали окружающие, стремясь все устроить согласно его фантазии.
В то же время произошел незначительный случай, вызвавший раздражение императора против парижан. Он приказал Шенье написать трагедию, которую можно было бы представить по случаю коронования. Шенье взял сюжетом «Кира», и пятый акт действительно довольно верно изображал коронование Бонапарта и всю церемонию в соборе Парижской Богоматери. Пьеса была поставлена. Старание применить ее к данному случаю было слишком подчеркнуто. Парижская публика партера, всегда независимая, освистала произведение и даже позволила себе смеяться в момент, когда Кир садится на трон. Император был недоволен; он сердился на моего мужа, которому поручено было заведование театрами, как будто Ремюза мог отвечать за одобрение публики. Тогда же и эта самая публика поняла, что может воспользоваться слабостью императора в театре, чтобы отомстить за молчание, которое ей повсюду было строжайшим образом предписано.
Сенат также устроил блестящий праздник; позднее сделал тоже и Законодательный корпус. Этот великолепный праздник состоялся 16 декабря и вовлек Париж на несколько лет в долги. Роскошный пир, фейерверки, бал, сервизы из позолоченного серебра и туалеты с позолотой, поднесенные императору и императрице, крайне льстивые речи, легенды… Часто говорят о похвалах, расточавшихся по адресу Людовика XIV в эпоху его правления; уверена, что, если бы их все собрать вместе, они не составили бы и десятой доли всего того, что выслушал Бонапарт. Я вспоминаю, как во время другого праздника, данного городом в честь императора несколько лет спустя, уже истощились все надписи, и придумали написать золотыми буквами над его троном слова из Священного Писания: «Ego sum qui sum»[66], – и никто не был этим скандализирован.
Вся Франция отдалась в то время празднествам и удовольствиям; были выбиты медали, которые затем раздавали с большой щедростью. Маршалы устроили свой праздник в зале Оперы. Этот праздник стоил по десять тысяч франков каждому маршалу. Сцену установили на одном уровне с залой. Ложи были украшены серебряным газом, освещены сверкающими люстрами. В ложах сидели дамы в роскошных нарядах; императорская фамилия расположилась на отдельной эстраде; цветы и бриллианты, богатство костюмов, великолепие двора – все это придавало празднеству много блеска.
Не было ни одной среди нас, которой не пришлось бы сделать больших расходов для всех этих церемоний. Придворным дамам было выдано 10 000 франков, чтобы их вознаградить, но этого, конечно, совсем не хватало. Расходы на коронацию дошли до четырех миллионов. Принцы и знатные иностранцы, которые находились в Париже, усердно проявляли внимание к нашим правителям, а император, со своей стороны, прилагал старания, чтобы оказать им честь.
Принц Людвиг Баденский был тогда еще очень молод, сильно стеснялся и старался держаться в тени. А князь-примас [Дальберг], которому исполнилось уже шестьдесят лет, был любезен, весел, немножко болтлив, хорошо знал Францию и Париж, в котором жил в юности, и слыл любителем литературы, стоящим близко к старым академикам. Оба гостя были приняты вместе с некоторыми другими в маленький кружок, который собирался у императрицы.
Этой зимой раз или два в неделю множество гостей приглашали к ужину в Тюильри. Собирались к восьми часам в изысканных туалетах, но не в придворной одежде. Играли в залах первого этажа, а когда появлялся Бонапарт, все проходили в залу, где итальянские артисты давали концерт в течение получаса; затем возвращались в салон и возобновляли партии; император прохаживался, разговаривал или играл, – как ему вздумается. В одиннадцать часов подавали очень хороший ужин. За ним сидели только женщины. Кресло Бонапарта оставалось пустым. Он ходил вокруг стола, ничего не ел и по окончании ужина удалялся.
В то время начинали носить одежду из тканей, затканных золотом и серебром, и именно этой зимой установилась мода на тюрбаны; их делали из муслина, белого или цветного, или из блестящих турецких материй. Одежда мало-помалу также стала принимать восточный характер. Мы одевали платья из муслина, богато вышитые, из цветной ткани; руки, плечи и грудь оставались открытыми.
В течение всего этого сезона император, все более и более влюбленный, как об этом будет сказано ниже, и старающийся скрыть свое увлечение, одинаково уделяя внимание всем женщинам, казалось, чувствовал себя хорошо только среди придворных дам. И каждый из мужчин при дворе, замечая, что его присутствие стесняет императора, удалялся в соседний салон. Так мы стали составлять нечто вроде гарема. Я в шутку сказала об этом Бонапарту однажды вечером; он был в хорошем настроении, и это его позабавило, но совершенно не понравилось императрице.
Папа, который проводил свои вечера в уединении, утра посвящал осмотру церквей, госпиталей и общественных учреждений. Однажды во время службы, которую он проводил в соборе Парижской Богоматери, значительная толпа была допущена к благословению. Папа побывал также в Версале, в окрестностях Парижа, был трогательным образом принят в Доме Инвалидов и именно тогда стал производить более сильное впечатление, чем того желал император.
Я слышала в то время, что его святейшество очень желал возвратиться в Рим. Не знаю, почему император задерживал его, я никак не могла найти причины.
Папа всегда был в белом; он носил монашескую одежду, и этот наряд из шерсти, а сверху нечто вроде кофты из муслина, украшенной кружевами, производили странное впечатление. Шапочка его также была из белой шерсти.
В конце декабря Законодательный корпус был вновь открыт с торжественной церемонией; произнесли речь о значении и счастье великого события, которое только что совершилось. В этой же речи был дан правдивый, прекрасный отчет о благосостоянии Франции.
Между тем учащались просьбы о получении мест при новом дворе; император удовлетворял некоторые из них. Он избрал также сенаторов и председателей избирательных собраний, назначил Мармона полковником конных егерей, наградил орденами Почетного легиона Камбасереса, Лебрена, маршалов, кардинала Феша, Дюрока, Коленкура, Талейрана, Сегюра и многих министров. Эти назначения, эти милости, эти отличия держали всех в напряжении. Толчок был дан: привыкли желать, ждать, постоянно видеть какие-нибудь новшества, каждый день происходило какое-нибудь маленькое событие, неожиданное в подробностях, но ожидаемое благодаря привычке видеть всегда что-нибудь новое. Так император ввел во Франции, а затем и во всей Европе, эту систему постоянного возбуждения человеческого честолюбия, любопытства и надежды, и это был один из наиболее ловких способов управлять.
Глава XI 1805 год
Влюбленный император – Госпожа Д. – Госпожа де Дама – Признания императрицы – Придворные интриги – Мюрат возведен в сан принца
Императрица не могла удержаться от того, чтобы иногда не пожаловаться тайно, что ее сын не получил никаких отличий, которые раздавались ежедневно; но она была настолько тактична, что скрывала свое неудовольствие по этому поводу, а Евгений сохранял среди этого двора спокойствие и естественность, которые делали ему честь и представляли резкий контраст с нетерпеливой завистью Мюрата. Жена последнего постоянно беспокоила императора, прося наконец обеспечить ее мужу положение, которое поставило бы его выше остальных маршалов: его раздражало то, что он должен с ними смешиваться. Этой же зимой чета Мюрат искусно воспользовалась слабостью императора и, заботливо служа ему в его новых увлечениях, сумела заслужить новые дары.
Евгений до известной степени был увлечен госпожой Д.[67] Эта молодая женщина двадцати четырех или двадцати пяти лет была белокожей блондинкой; ее голубые глаза принимали любое выражение, какое она хотела им придать, только не выражение искренности: по-видимому, она по характеру была склонна к известному притворству. Ее орлиный нос был несколько длинноват, но рот был очаровательный, с великолепными зубами, которые она часто показывала. Госпожа Д. была изящна, но несколько худощава, с маленькими ножками; и она чудесно танцевала. Она не проявляла выдающегося ума, но не лишена была его тонкости. Кроме того, была спокойна, несколько суховата, и ее трудно было взволновать, еще труднее смутить.
Императрица сначала очень ее отличала: она хвалила ее наружность, всегда одобряла туалеты, ласкала и таким образом, может быть, сама обратила на нее внимание своего мужа.
Император увлекся госпожой Д. со времени путешествия в Фонтенбло. Госпожа Мюрат, которая первая угадала зарождающуюся склонность своего брата, постаралась заручиться доверием молодой женщины, и это ей удалось в достаточной мере, чтобы тотчас же посеять недоверие между ней и императрицей. Затем Мюрат, кажется, вследствие соглашения очень интимного характера, представился влюбленным в госпожу Д. и, таким образом, отвлек на некоторое время внимание двора.
Императрица, которая не сомневалась в наличии нового увлечения императора, не могла угадать, кто был его предметом, и заподозрила сначала, как я уже говорила, жену маршала Нея, к которой он действительно часто обращался. В течение нескольких дней бедная жена маршала была предметом недовольных взглядов и дурного отношения своей госпожи. По обыкновению, императрица призналась мне в своем ревнивом беспокойстве, но я еще не видела достаточных для него оснований. Императрица жаловалась госпоже Луи Бонапарт на то, что она называла «вероломством» госпожи Ней, ее допрашивали и увещевали. Она уверяла, что не испытывала никогда никаких чувств, кроме известного страха перед императором, но призналась, что этот последний иногда как будто бы проявлял к ней интерес и госпожа Д. даже поздравила ее с победой. Этот рассказ все открыл императрице. Присмотревшись более внимательно к своему окружению, она разобрала правду, обнаружила, что Мюрат только притворялся влюбленным в госпожу Д., – чтобы передавать ей признания императора. В особенных знаках внимания по отношению к интриганке со стороны Дюрока императрица также нашла доказательство чувств его господина, а в поведении госпожи Мюрат – довольно искусный план, угрожающий ее собственному спокойствию.
С тех пор императора все чаще видели в апартаментах его жены. Почти каждый вечер он спускался вниз, и его взгляды и некоторые слова одинаково просвещали императрицу и предмет его благосклонности. С каждым днем, все менее владея собой, он казался все более увлеченным. Госпожа Д. сохраняла холодный вид, но пользовалась всеми ресурсами женского кокетства. Туалет ее становился все более и более изысканным, улыбка – более тонкой, взгляд – более кокетливым, и вскоре было нетрудно угадать, что происходит. Императрица заподозрила, что госпожа Мюрат устраивает у себя тайные свидания, и несколько позднее уверяла меня, что имеет тому доказательства.
Императрица, по своему обыкновению, разразилась жалобами и слезами, и я вновь вынуждена была выслушивать признания, которые меня компрометировали, и возобновлять проповеди, которых не слушали.
Императрица попробовала начать объяснения, которые, однако, были очень плохо встречены. Муж ее рассердился, отнесся к ней сурово, упрекал ее в том, что она противится малейшим его развлечениям, предписал ей молчание, и в то время как в обществе она демонстрировала свое горе и казалась печальной и убитой, он, напротив, веселый, открытый, оживленный больше, чем когда бы то ни было, уделял всем нам внимание и удивлял нас выражением своей довольно грубоватой любезности.
На собраниях у императрицы, о которых я только что говорила, император казался настоящим султаном. Он садился за игровой стол, обыкновенно приглашал к своей партии свою сестру Каролину, меня и госпожу Д. и, едва держа в руках карты, начинал с нами разговоры, довольно сентиментальные, в которых проявлял больше остроумия, чем чувствительности, порой довольно плохой вкус, но всегда много экзальтации. Во время этих разговоров госпожа Д., очень сдержанная и, может быть, опасающаяся, как бы я ее потом не выдала, отвечала односложно. Госпожа Мюрат мало интересовалась этими беседами и шла прямо к цели, не заботясь о деталях. Меня же эти разговоры занимали, и я отвечала со всей свободой ума, которая давала мне преимущество перед этими тремя лицами, более или менее заинтересованными. Иногда, не называя никого, император начинал рассуждать о ревности, и тогда ясно было, что он хотел это применить к своей жене. Я понимала все и, насколько могла непринужденно, защищала ее, избегая называть; иногда при этом я ясно видела, что госпожа Д. и госпожа Мюрат ставили мне это в вину.
Императрица, играя довольно печально в другом конце салона, издали глядела на нас и страдала от этих разговоров, которые продолжали ее беспокоить. Хотя у нее было много оснований полагаться на меня, от природы она была недоверчива и порой боялась, как бы я не пожертвовала ею из желания нравиться императору; по крайней мере, она ставила мне в вину, что я не осуждала его поведения. Иногда она просила меня пойти к нему и решительно переговорить с ним относительно того вреда, какой принесет ему в свете его новая связь. Иногда она просила меня подстеречь ее мужа возле дома госпожи Д., куда, как она знала, Бонапарт является иногда вечером. Или же заставляла меня писать в ее присутствии анонимные письма, полные упреков, которые я составляла тут же, чтобы доставить ей удовольствие и чтобы она не заставила это делать кого-нибудь другого. Затем я тщательно сжигала их, уверив ее, что отослала.
Слуги, которым она доверяла, должны были отыскивать доказательства того, что она подозревала. Даже ее излюбленные торговцы были посвящены во все эти интриги, и я страдала от такой неосторожности, тем более что вскоре узнала, что госпожа Мюрат на мой счет относила все открытия, сделанные императрицей, она обвиняла меня в довольно скверном ремесле, на которое я, конечно, совершенно не была способна.
Моя госпожа страдала тем более, что сын ее был очень огорчен тем, что происходило. Госпожа Д. сначала, из кокетства, склонности или тщеславия, относилась к нему довольно благосклонно, но после своей новой и более блестящей победы стала тщательно избегать каких бы то ни было сношений с ним. Быть может, она хвасталась императору любовью, которую внушала Евгению, поскольку император начал очень холодно относиться к своему пасынку. Императрица была раздражена этим; госпожа Луи Бонапарт огорчалась, но скрывала свои тайные чувства; Евгений страдал и замыкался во внешнем спокойствии, которое, к счастью, делало его неуязвимым.
Во всем этом опять скрывалась вечная ненависть между Бонапартами и Богарне; и, видимо, моя судьба была такова, что как ни была я умеренна, однако мне всегда приходилось быть замешанной в этой распре. Опыт показал, что все, или почти все, при дворах является делом случая. Человеческое благоразумие не имеет сил защищаться от него, и избежать всяких толков можно только тогда, когда сам монарх лишен подозрительности. Но император, наоборот, с известной доверчивостью принимал все доносы, особенно те, которые были недоброжелательны, правдивы они были или нет. Самый верный способ приобрести его расположение заключался в том, чтобы пересказать ему то, что говорят, доносить ему о поведении всех. Вот почему Ремюза, стоящий близко к императору, никогда не пользовался его благосклонностью, отказываясь от того ремесла, на которое ему Дюрок часто указывал.
Однажды вечером император был раздражен резкой сценой, произошедшей между ним и его женой: доведенная до крайности, она заявила ему, что запретит госпоже Д. появляться в своих апартаментах. Он обратился к Ремюза и стал жаловаться, что я не пользуюсь своим влиянием на императрицу, чтобы умерить все ее неблагоразумные резкости, и закончил тем, что желает переговорить со мной частным образом и я должна попросить у него аудиенции. Ремюза передал мне это приказание, и в самом деле, на другой же день я попросила аудиенции, которая была назначена на следующее утро.
На этот же день была назначена большая охота. Императрица выехала заранее с придворными дамами и ожидала императора в Булонском лесу. Я явилась, когда император собирался сесть в экипаж и вся его свита была уже в сборе. Он возвратился в свой кабинет, чтобы принять меня, к великому удивлению двора, где подобный случай составлял целое событие.
Император начал горько жаловаться на волнения в своей личной жизни. Он разразился целой речью против всех жен вообще и против своей в особенности. Он упрекал меня в том, что я поощряла ее шпионство, обвинял меня в тысяче поступков, которые были мне чужды, но о которых ему доносили. Тогда я узнала и об интригах госпожи Мюрат. Но меня особенно огорчило то, что императрица, с целью придать больше основательности своим жалобам, иногда называла меня и приписывала мне то, что сама говорила или думала.
Все это (и, конечно, сами слова императора) взволновало меня до такой степени, что слезы выступили у меня на глазах. Император заметил это и обратился ко мне со своей любимой фразой: «У женщин всегда есть два ловких способа произвести впечатление: румяна и слезы». Слова эти, произнесенные ироническим тоном и с целью меня расстроить, произвели противоположное впечатление, – они задели меня и дали мне силу ответить: «Нет, ваше величество, иногда бывает, что человек, несправедливо обвиненный, не может не плакать от негодования».
Нужно отдать Бонапарту справедливость: встречая некоторую твердость, он не относился к вам с резкостью. Это происходило, может быть, потому, что, не особенно часто встречая твердость, он и не умел хорошенько на нее отвечать, или же потому, что его справедливый ум отдавал должное тому, что было справедливо прочувствовано. Несколько резкое проявление чувства, которое я испытывала, понравилось ему. «Если вы не одобряете, – сказал он мне, – ту инквизицию, которую устроила против меня императрица, как же не хватает у вас влияния, чтобы ее удержать? Она унижает нас обоих шпионством, которым меня окружает. Она дает орудие в руки своим врагам. Так как вы пользуетесь ее доверием, вы обязаны отвечать мне, и я делаю вас ответственной за все ее ошибки». Он даже несколько развеселился, произнося эти слова. Тогда я сообщила ему, что нежно люблю императрицу, что неспособна руководить ею, в особенности на ложном пути, но что в то же время невозможно положиться на страстную особу. Я сказала ему также, что он совершенно не умеет обращаться с ней, ведь, подозревала жена его справедливо или ложно, он всегда был с нею слишком резок.
Я не осмеливалась бранить императрицу за то, что ее поведение действительно заслуживало порицания, так как знала, что он передаст жене все, что я скажу. Поэтому я просто закончила уверением в том, что некоторое время буду держаться вдали от дворца и он сам тогда увидит, пойдет ли дело лучше. Бонапарт попробовал мне доказать, что не был и не мог быть влюбленным, что относится к госпоже Д. так же, как и к другим, что любовь создана для иных характеров, а он весь поглощен политикой и нисколько не желает при своем дворе господства женщин, что это принесло много вреда Генриху IV и Людовику XIV, его же роль гораздо значительнее, да и сами французы стали слишком серьезны, чтобы прощать правителям афишированные связи с титулованными фаворитками.
Он в несколько неуместном тоне заговорил и о поведении своей жены в прошлом, прибавляя, что она не имеет права быть слишком строгой. Я сочла нужным остановить его в этом разговоре, и он не рассердился. Наконец, он стал расспрашивать меня относительно тех лиц, которые служили шпионами при императрице; я по-прежнему отвечала, что их не знаю. Тогда император стал упрекать меня в том, что я недостаточно ему предана. Я старалась доказать ему, что гораздо искреннее привязана к нему, чем все доносящие о разных мелочах, о которых стыдно слушать. Этот разговор закончился лучше, чем начался: мне показалось, что я произвела на императора довольно благоприятное впечатление. Хочу еще заметить, что наша беседа была очень продолжительной.
Императрица, скучавшая в Булонском лесу, послала верхового, чтобы узнать, что задержало ее мужа. Верхового отправили назад с известием, что император заперся со мной. Ее беспокойство очень усилилось; она возвратилась в Тюильри и, так как меня там уже не было, послала ко мне госпожу де Талуэ с поручением узнать, что случилось. Повинуясь приказанию императора, я отвечала, что речь шла только о просьбах, относящихся к Ремюза.
Вечером генерал Савари давал маленький бал, на котором император обещал присутствовать. В течение этой зимы он искал случая почаще бывать на собраниях; оставался на них какое-то время, был весел, даже немного танцевал, хотя довольно неловко. Я явилась к госпоже Савари немного раньше придворных. Навстречу мне направился маршал Дюрок, он с почтением провел меня под руку до моего места; а хозяин дома оказал мне тысячу любезностей. Длительная аудиенция, данная мне утром, наводила на размышления: за мной ухаживали как за особой, пользующейся благосклонностью или большим доверием. Я внутренне улыбалась, видя эти старания со стороны придворных.
Император явился со своей женой; быстро пройдя между собравшимися, он остановился передо мной и любезно заговорил. Императрица не спускала с нас глаз и умирала от беспокойства, госпожа Д. казалась несколько смущенной. Все это забавляло меня, но я не предвидела, что из этого выйдет. На другой день императрица задала мне тысячу вопросов, на некоторые я не ответила. Тогда она обиделась, решив, что я пожертвовала ею, что искала выгоды, что не любила ее больше других; она глубоко огорчила меня.
Позже я поведала моей добрейшей матери все мои тайные горести; я приобретала печальный опыт и была еще настолько молода, что это стоило мне слез. Моя мать утешала меня и посоветовала держаться в стороне, что я и сделала, но это не принесло мне никакой пользы. Император заставлял меня высказаться, а упрекая свою жену за неблагоразумие, опирался на мнения, которые приписывал мне. Императрица стала обращаться со мной холодно, а я, со своей стороны, решила не добиваться ее откровенности.
Император, любивший ссорить окружающих друг с другом, видя наше охлаждение, стал относиться ко мне еще лучше. Госпожа Д., которую уверили в том, что она не обязана любить меня, была обеспокоена той небольшой благосклонностью, которой я, по-видимому, пользовалась у императора, и, быть может, даже делая мне честь немного ревновать меня, искала случая повредить мне. В этом мире всегда все устраивается прекрасно, когда касается чего-нибудь дурного, поэтому она легко нашла случай, который помог ей в ее намерениях.
В то же время Евгений Богарне и госпожа Луи Бонапарт уверились в том, что я изменила их матери, предав ее ради императора, и все это является следствием честолюбия моего мужа, который будто бы предпочел благосклонность господина привязанности госпожи. Ремюза держался вдали от всех этих маневров, но у придворных, если речь идет о честолюбии, все, что вероятно, – непременно уже верно. Евгений, который всегда дружелюбно относился к моему мужу, отдалился от него. Наше положение как придворных было неплохо, но мы оставались только честными людьми и оба огорчились, не желая извлекать из момента никакой постыдной выгоды.
Мне остается рассказать, каким образом госпоже Д. удалось нанести последний удар. Среди тех лиц, с которыми моя мать и я поддерживали отношения, была графиня де Дама, дочь которой дружила с моей сестрой и довольно близко общалась со мной. Графиня де Дама была экзальтированной роялисткой. Она высказывала свои мнения довольно неосторожно, и после происшествия с адской машиной ее обвинили в том, что она прятала шуанов от возмездия. Осенью 1804 года на графиню де Дама был сделан донос за несколько резкие выражения, и ей пришлось уехать за сорок лье от Парижа. Эта строгость повергла в отчаяние и мать, и дочь, которая должна была вскоре родить. Видя их слезы и разделяя их горе, я передала императрице свое огорчение; она рассказала об этом своему мужу, который согласился меня выслушать и даже кончил тем, что пообещал мне отмену приговора. Графиня де Дама запомнила услугу, которую я ей оказала, и, связанная благодарностью по отношению к императору и испуганная угрожавшей ей опасностью, стала осторожнее в своих словах. Она никогда не говорила со мной об общественных делах, относилась с осмотрительностью к моему положению, я же уважала ее чувства.
У нее был враг в лице маркизы К., той самой, которая некогда так нашумела при дворе и в свете, прославившись резкостью своих выражений. Маркиза была в очень хороших отношениях с госпожой Д., она даже знала об их связи с императором. Обладая живым умом, несколько склонным к интригам, она захотела направлять подругу в поведении, которого, по ее мнению, должна была держаться фаворитка монарха. Они говорили обо мне, и маркиза, видя в событиях императорского двора вечные версальские интриги, вообразила, что я желаю занять место новой фаворитки. Так как за мной признавали в свете немного ума, а репутация моей матери прочно соединялась с моей, то предположили, что меня вовлекли в интригу. Маркиза К., желая одновременно устроить неприятность графине де Дама и навредить мне, рассказала подруге о графине как об особе крайне экзальтированной в своем роялизме, готовой поддержать тайную переписку и действовать всеми способами против императора, пользуясь снисходительностью, с которой к ней отнеслись. Моя близость к ней была представлена более тесной, чем она была в действительности.
Все эти разговоры, переданные императору, вооружили его против меня. Он перестал приглашать меня играть с ним, перестал со мной говорить; меня не пригласили ни на охоту, ни в Мальмезон, куда время от времени совершались поездки, и вскоре я оказалась в немилости, не умея угадать, по какой причине; я жила довольно замкнуто и уединенно, так как мое здоровье постепенно угасало. Мы были слишком тесно связаны с мужем, чтобы немилость не коснулась нас обоих, и, оба отвергнутые, ничего не понимали из того, что происходило.
Охлаждение императора вернуло мне доверие его жены, которая приняла меня опять с той же легкостью, с какой и рассталась со мной, и без всяких объяснений, – я достаточно уже знала ее, чтобы понимать их бесполезность. Она открыла мне тайну недовольства императора; она знала от него самого, что эти доносы были сделаны маркизой К. и госпожой Д. Император даже признался жене в том, что влюблен, просил ее оставить его в покое относительно этой связи и прибавлял, для ее успокоения, что это останется мимолетной фантазией, которая может усилиться, если ей будут мешать, и которая продолжится тем меньше, чем большую свободу ему предоставят. Поэтому императрица стала до известной степени держаться примирения; но она никогда не заговаривала с госпожой Д., хотя последняя и не беспокоилась об этом, с несколько неосторожным равнодушием отнесясь к раздорам, причиной которых оказалась. Руководимая притом госпожой Мюрат, она удовлетворяла вкусам императора, говоря ему массу дурного относительно бесчисленного множества лиц. Ее влияние создало много жертв и еще более испортило характер императора, от природы и так весьма подозрительный.
Я решилась высказать все это императору, когда узнала новую вину, которую мне приписывали; но на этот раз он был крайне строг со мной. Он упрекал меня в том, что я сближаюсь только с его врагами, что поддерживала Полиньяков, что являюсь чуть ли не агентом аристократии. «Я хотел сделать из вас, – сказал он мне, – знатную даму, поднять вас на высшую ступень счастья; но все это может быть куплено только ценой абсолютной преданности. Нужно, чтобы вы порвали со всеми вашими прежними связями, и как только графиня де Дама появится у вас, вы должны указать ей на дверь, давая понять, что вы не можете дружить с моими врагами, – и только тогда я поверю в вашу привязанность». Я не старалась показать ему, насколько подобный способ действий был чужд моим привычкам; напротив, пообещала как можно реже видеть графиню, однако постаралась оправдать ее поведение, по крайней мере со времени полученной ею милости. Император отнесся ко мне очень дурно; он был глубоко предубежден. Я видела, что могу надеяться только на то, что с течением времени он убедится в своей ошибке.
Через несколько дней графиню де Дама снова решили выслать. Она заболела и лежала в постели. Император послал к ней Корвисара, чтобы удостовериться в том, действительно ли ее нельзя перевезти. Корвисар был моим другом и готов был отвечать так, как мне хотелось; но наконец ее здоровье поправилось, и она покинула Париж (возвратиться она смогла только спустя много времени). Я больше не бывала у нее, она не бывала у меня, но навсегда сохранила дружеское отношение ко мне и прекрасно поняла причины моего вынужденного поведения.
Граф Шарль де Дама, возвратившийся из-за границы, честный, простой и более осторожный, чем его жена, никогда не имел неприятностей со стороны полиции, которая всегда наблюдала за госпожой де Дама. Но через несколько лет император передал дочери графини, госпоже де Вогюе, что она должна явиться ко двору; это было в то время, когда Наполеон был уже женат на эрцгерцогине Марии Луизе.
Между тем Бонапарты торжествовали. Евгений, предмет их вечной зависти, был действительно в немилости и внушал императору тайное беспокойство. Вдруг в конце января, в самое суровое время, он получил приказание отправиться со своим полком в Италию. Это приказание должно было быть исполнено в двадцать четыре часа. Евгений не мог более сомневаться в том, что был в полной опале. Императрица считала немилость делом рук госпожи Д.; она много плакала, но сын ее решительно потребовал, чтобы она не высказывала никаких протестов. Он простился с императором, который держался с ним холодно, и на другой день мы узнали, что полк флигельманов выступил со своим полковником во главе и шел с ним, несмотря на зимнее время, ускоренным маршем.
Госпожа Луи Бонапарт, говоря мне об этой суровости, радовалась, однако, повиновению своего брата. «Если бы император потребовал подобной вещи от кого-нибудь из своих, – говорила она мне, – было бы много шума и протестов, но в данном случае не было произнесено ни одного слова, и я думаю, что Бонапарт будет поражен подобным послушанием». И действительно, так и случилось, и особенно – благодаря злорадству его братьев и сестер, – император любил разрушать чужие планы.
Он удалил своего пасынка в минуту ревности, но тотчас же захотел вознаградить его за достойное поведение, и 1 февраля 1805 года Сенат получил два послания от императора[68]. В одном из них он объявлял о возведении маршала Мюрата в достоинство принца и великого адмирала Империи, это было вознаграждением за его недавние услуги и результатом многочисленных вмешательств со стороны госпожи Мюрат. В послании, полном привязанности и лестном для принца Евгения, последний назначался государственным канцлером; это была одна из важнейших должностей в Империи. Евгений узнал об этом назначении в нескольких лье от Лиона, где курьер застал его сидящим верхом на лошади перед своим полком и совершенно засыпанным беспрерывно падавшим снегом.
Прежде чем говорить о великом событии, которое доставило нам новое зрелище и, конечно, послужило причиной войны, разразившейся осенью того же года [то есть о присоединении Короны Италии к Короне Франции], мне хотелось бы закончить рассказ о госпоже Д.
Она все больше и больше казалась предметом внимания императора и по мере того, как убеждалась в своем могуществе, все менее обращала внимания на императрицу, по-видимому, даже забавляясь ее страданиями. Двор совершил маленькое путешествие в Мальмезон, и всякие стеснения были отброшены – резче, чем когда бы то ни было. Император, ко всеобщему удивлению, прогуливался в садах с госпожой Д. и юной госпожой Савари, так как они не боялись ни ее доносов, ни ее наблюдений; своим делам он отдавал гораздо меньше времени, чем обыкновенно. Императрица оставалась в своей комнате, проливая обильные слезы, снедаемая беспокойством, думая о признанной фаворитке, о немилости, о забвении, может быть, даже о разводе, вечно возрождающемся предмете ее беспокойства. Она не в силах была устраивать бесполезные сцены; только грусть выдавала ее страдания и тронула наконец сердце мужа. Потому ли, что она снова пробудила его нежность, или потому, что удовлетворенная любовь начала ослабевать, но наконец случилось то, что император сам предвидел. Однажды, оставшись с глазу на глаз со своей женой и видя ее готовой заплакать из-за нескольких слов, с которыми он к ней обратился, Бонапарт вернулся к ласковому тону, каким когда-то говорил с ней. Он признался ей, что был сильно влюблен, но что все кончено. Он откровенным образом посвятил жену во все, что произошло, и прибавил, что стал замечать, будто им хотят руководить. Он признался ей, что госпожа Д. сделала множество довольно злостных разоблачений. Затем император довел свои признания до самых интимных подробностей, что было крайне неделикатно, и кончил тем, что попросил императрицу помочь ему порвать связь, которая не доставляла ему больше удовольствия.
Императрица вовсе не была мстительна, нужно отдать ей в этом справедливость. Как только она увидела, что ей нечего больше бояться, ее гнев угас. В восторге от того, что незачем больше беспокоиться, она не проявила никакой строгости по отношению к императору и снова сделалась той приятной и снисходительной женой, которая всегда так легко прощала мужа. Она противилась каким бы то ни было резким действиям по этому поводу и уверила его, что если он изменит свое поведение относительно госпожи Д., то и она изменит свое, и даже обещала постараться поддержать ее. Императрица только сохранила за собой право переговорить с бывшей соперницей. И действительно, призвав ее, говорила с ней довольно искренно, указала на то, чем та рисковала, постаралась отнести на счет ее молодости и неосторожности все проявления легкомыслия и, наконец, рекомендуя ей быть более осторожной в будущем, обещала полное забвение прошлого.
И в этом разговоре госпожа Д. показала, что великолепно владеет собой. Хладнокровно отрицая, что заслужила подобные предупреждения, не проявляя ни малейшего волнения и тем более ни малейшей благодарности, она затем сохранила внешнее спокойствие и сдержанность перед всем двором, который в течение некоторого времени не спускал с нее глаз. Это доказало, что сердце ее не было сильно затронуто только что порвавшейся связью и что она удивительно ловко может управлять своими тайными чувствами, так как трудно поверить, чтобы она не была глубоко оскорблена, хотя бы в своем тщеславии. Император, боявшийся проявлений хотя бы малейшего ига по отношению к себе, как я уже говорила, старался до известной степени подчеркнуть, что если таковое и имело место, то сейчас полностью свергнуто. По отношению к госпоже Д. были забыты даже правила вежливости. Император не смотрел на нее, говорил иногда о ней в небрежном тоне госпоже Бонапарт, которая иной раз не могла отказать себе в удовольствии повторить его слова некоторым лицам. Он старался представить свои чувства мимолетной фантазией и краснел оттого, что был влюблен, так как это означало признать пусть временное, но подчинение власти, более сильной, чем его собственная.
Это поведение убедило меня в истинности того, что я часто говорила императрице, чтобы ее утешить: хорошо и приятно быть женой такого человека, поскольку, по крайней мере, это может удовлетворить гордость, но всегда будет тяжело и бесполезно быть его фавориткой, и не в его натуре как вознаграждать слабую и чувствительную женщину за принесенные ею жертвы, так и предоставить женщине честолюбивой шанс проявить свое влияние.
Одновременно с падением госпожи Д., вновь снизилось влияние при дворе Бонапартов и Мюрата. Император, вернувшийся к своей жене, стал снова доверять ей и узнал от нее обо всех тех мелких интригах, жертвой которых она была. Однако полученное ранее впечатление не совсем сгладилось, и император навсегда сохранил мысль, что Ремюза и я неспособны к той преданности, какую он требовал и ради которой надо было жертвовать и вкусами, и приличиями. Быть может, он был и прав в том, что касается вкусов, и может быть, надо отказаться жить при дворе, если не можешь совершенно замкнуться в узком круге придворных мыслей и интересов. Но ни муж мой, ни я – мы не были к этому склонны. У меня была потребность привязываться всеми чувствами к тому, чем я вынуждена была жить, а мое сердце в то время оказалось слишком разбито, чтобы меня не тяготили предписываемые мне обязанности. Император переставал быть для меня тем человеком, о котором я мечтала; он внушал мне больше страха, чем интереса; и чем более старалась я ему повиноваться, тем более мое раненое сердце сжималось от разрушенных иллюзий и страдало заранее от той правды, которую предчувствовало. Мы оба волновались, видя, как почва колеблется под нашими ногами, – и в особенности Ремюза, покорно, но и с отвращением вынужденный вести жизнь, которая ему крайне не нравилась.
Вспоминая эти волнения, я чувствую себя теперь такой счастливой, когда мой муж, спокойный и удовлетворенный, находясь во главе администрации прекрасной провинции, достойно выполняет обязанности хорошего гражданина, полезного родной стране[69]! Насколько более достойно это применение способностей человека с просвещенным умом и благородными чувствами! Какой контраст с занятиями опасными, мелочными, почти смешными, которым приходится отдаваться при дворах, и притом не имея ни минуты покоя! Я говорю «при дворах», так как все они похожи один на другой. Конечно, есть отличия между службой, требуемой Людовиком XIV, нашим королем Людовиком XVIII, императором Александром или Бонапартом. Но как бы ни были различны господа, придворные везде одинаковы: страсти те же, потому что их главный движущий мотив – тщеславие, зависть, желание превзойти, страх быть остановленным на своем пути – приводил и всегда будет приводить к одинаковым волнениям. Я внутренне убеждена, что тот, кто, живя во дворце, захочет сохранить способность мыслить и чувствовать, почти всегда будет несчастлив.
К концу зимы наш двор еще больше увеличился: бесчисленное множество людей теснилось вокруг, чтобы добиться милости лиц, которые теперь показывают себя неумолимыми по отношению к приближенным императора, а тогда толпились, чтобы добиться его расположения. Императрица, Талейран и Ремюза принимали прошения и представляли императору громадные списки, которые заставляли его улыбаться. Действительно, он видел в одном ряду имена лиц, державшихся до сих пор либеральных взглядов, военных, которые, как видно было, завидовали его возвышению, дворян, которые, посмеявшись над тем, что они называли нашими «королевскими парадами», добивались теперь всех отличий, чтобы получить свою долю. Некоторые просьбы были удовлетворены. Госпожи Тюренн, Монталиве, Булье, Дево и Мареско были назначены придворными дамами, Гедувиль, де Круа, де Мерси-Арджанто, де Турнон и де Бонди – императорскими камергерами, де Канизи – коннетаблем, де Боссе – префектом дворца и т. д.
Этот многочисленный двор оказался вскоре составленным из элементов, совершенно чуждых друг другу, но нивелированных общим страхом перед господином. Между женщинами было мало соперничества: они не знали друг друга и не сближались; императрица относилась ко всем одинаково, госпожа де Ларошфуко, легкомысленная и покладистая, не завидовала ничьему влиянию. Я с каждым днем все более и более уклонялась от несколько опасной дружбы императрицы; но нужно признать, что та часть двора, которая окружала ее, не испытывала волнений или зависти благодаря ровности ее характера и любезности ее манер.
Совершенно другая обстановка была вокруг императора – и именно потому, что он сам старался будить беспокойство. Например, Талейран сначала несколько повредил положению Ремюза не из-за каких-либо личных побуждений, но для удовлетворения вновь прибывших и завидовавших моему мужу, а затем, вступив в более близкие с ним отношения, начал ценить его и проявлять к нему некоторый интерес, так как Ремюза того стоил. Бонапарт заметил это; его пугала тень какой бы то ни было близости, и он принимал тогда самые мелочные предосторожности. Поэтому он сказал однажды моему мужу добродушным тоном, который не был ему обыкновенно свойствен: «Берегитесь, Талейран, кажется, сближается с вами, но я знаю наверное, что он желает вам зла».
«А почему бы Талейран мог желать нам зла?» – говорил мне муж, передавая эти слова. Между тем, не понимая причин, мы становились недоверчивыми, – а это все, чего от нас желали.
Вот каково приблизительно было положение императорского двора в 1805 году.
Теперь я должна возвратиться назад, чтобы дать отчет о великих решениях относительно итальянской Короны.
Книга вторая
Глава XII 1805 год
Открытие сессии Сената – Доклад Талейрана – Письмо императора к английскому королю – Присоединение итальянской Короны к Империи – Госпожа Баччиокки становится принцессой Пьомбино – Представление «Аталии» – Путешествие императора в Италию – Недовольство императора – Талейран – Проекты войны с Австрией
Четвертого февраля 1805 года во Франции из опубликованной в печати речи английского короля в парламенте узнали, что французский император сделал новые предложения о соглашении, а ответ министра состоит в том, что ничего нельзя решить, не переговорив с державами на континенте, и особенно с императором Александром.
В достаточной мере резкие, как всегда, заметки служили комментариями к этой речи; они описывали наши хорошие отношения (по крайней мере с французской стороны) с государями Европы, но признавали некоторое охлаждение между императорами Франции и России и приписывали его интригам Моркова и Воронцова, преданных английской политике. В послании английского короля говорилось также о войне между Англией и Испанией.
В тот же день, 4 февраля, собрался Сенат, и Талейран представил очень удачно составленный доклад, в котором обрисовывалась система поведения Бонапарта по отношению к англичанам. Талейран доказывал, что Бонапарт всегда делал все для поддержания мира, не боясь, однако, войны, и чувствовал свою силу благодаря приготовлениям, которые угрожали берегам Англии, и многочисленным флотилиям, стоявшим экипированными в портах, а также благодаря значительной и воодушевленной армии. Он рассказал о приготовлениях неприятеля для защиты берегов; это доказывало, что неприятель не считал высадку невозможной.
Высказав большие похвалы в адрес императора, Талейран прочел собравшемуся Сенату письмо, адресованное императором английскому королю 2 января:
«Брат мой! Призванный на трон Франции Провидением и решениями Сената, народа и армии, я прежде всего желаю мира. Франция и Англия славятся своим благосостоянием; они могут выдержать борьбу в течение целых веков. Но выполняют ли их правительства самую священную из своих обязанностей? Столько крови, пролитой бесполезно и без всякой цели, не служит ли для них обвинением в их собственном сознании? Я не считаю бесчестьем сделать первый шаг. Надеюсь, я достаточно доказал миру, что не боюсь никакой войны. Притом мне нечего бояться. Мир составляет искреннее желание моего сердца, но никогда еще никакая война не вредила моей славе.
Право, никогда не было более подходящих обстоятельств и более благоприятного момента, чтобы заставить умолкнуть всякие страсти и повиноваться исключительно чувству гуманности и разума. Если этот момент будет упущен, как приостановить волну, которую я не смогу прекратить, несмотря на все усилия? Ваше Величество в течение десяти лет получили, в смысле территории и богатства, больше, чем имеет вся Европа; Ваша нация достигла высшей степени благосостояния, чего ждет она от войны? Составить коалицию из нескольких континентальных держав? Континент останется спокойным, а коалиция только увеличит континентальное преобладание и могущество Франции. Вызвать снова внутренние беспорядки? Времена теперь уже не те. Подорвать наши финансы? Финансы, основанные на развитии земледелия, не могут быть подорваны. Отнять у Франции ее колонии? Колонии для Франции – предмет второстепенный; не обладает ли Ваше Величество большим числом колоний, чем Вы можете удержать? Если Ваше Величество пожелает об этом подумать, то увидит, что война не имеет цели. Какая печальная перспектива – заставить народы сражаться только для того, чтобы они сражались!
Мир достаточно велик, чтобы обе наши нации могли жить в нем спокойно, а разум наш достаточно могуществен, чтобы можно было найти способы соглашения, если этого желают обе стороны.
Во всяком случае, я исполняю священный долг, дорогой моему сердцу. Пусть Ваше Величество верит искренности чувств, которые я стараюсь ему выразить, и желанию доказать это.
Париж, 2 января 1805 года».
Представив это письмо, в сущности, довольно замечательное, как яркое доказательство любви Бонапарта к французам и стремления к миру, Талейран сообщил ответ лорда Мюльграва, министра иностранных дел. Вот этот ответ:
«Его Величество получил письмо, написанное ему главой французского правительства, датированное 2-м числом текущего месяца.
Нет ничего, чего Его Величество желал бы сильнее, чем первой же возможности доставить своим подданным мир, который согласуется с постоянной безопасностью и существенными интересами его государства. Его Величество убежден, что эта цель может быть достигнута только соглашениями, которые могут одновременно содействовать безопасности и спокойствию Европы и предупредить возобновление опасностей и бедствий, в которых она находилась.
Согласно этому чувству, Его Величество сознает невозможность ответить более определенно на сделанное ему предложение до тех пор, пока не войдет в сношения с континентальными державами, с которыми он связан конфиденциальными отношениями, и в частности с императором России, давшим наилучшие доказательства мудрости и возвышенности своих чувств и живого интереса к безопасности и независимости Европы.
14 января 1805 года».
Неопределенный характер этого ответа, в высшей степени дипломатический, выгодно оттенял письмо императора, более решительное и, по-видимому, вполне искреннее. Оно произвело довольно большое впечатление в обществе; письмо передали трем высшим государственным учреждениям и представили в самом благоприятном свете.
Особенно примечательно и интересно до сих пор донесение Реньо де Сен-Жан д’Анжели, посланного в качестве государственного советника в Трибунат. Его похвалы императору, хоть и сильно преувеличенные, не лишены благородства; картина Европы нарисована удачно; картина того вреда, который война должна принести Англии, по крайней мере правдоподобна; наконец, изображение нашего благосостояния внушительно и очень мало (или даже совсем не) преувеличено.
«Франции, – говорит он, – нечего просить у Неба, разве только того, чтобы солнце продолжало светить, дождь продолжал орошать наши нивы, а земля давала плодородие нашим посевам».
В то время все это было верно, и разумное и умеренное правление и либеральная конституция навсегда утвердили бы благосостояние Франции! Но конституционные идеи нисколько не входили в планы Бонапарта. Быть может, потому, что он действительно думал, будто французский характер и континентальное положение Франции находятся в противоречии с медленностью представительного правления, а быть может, потому, что, чувствуя себя сильным и ловким, он не мог согласиться, ради будущего Франции, принести в жертву преимущества абсолютной власти; и потому Бонапарт не упускал случая дискредитировать форму правления наших соседей.
«Несчастное положение, в какое вы поставили ваш народ, – говорил он в статье «Монитора», обращаясь к английским министрам, – объясняется только несчастьем государства, где внутренняя политика плохо организована, а правительство является игрушкой парламентских партий и действий могущественной олигархии».
Однако порой Бонапарт начинал сомневаться, удастся ли ему противостоять общим тенденциям века, но думал, что у него хватит сил по крайней мере сдержать их. Несколько позднее ему случалось говорить: «Покуда я жив, я буду править так, как мне нравится, но мой сын будет вынужден стать либеральным».
Мечтал Бонапарт только об установлениях чисто феодальных. Он надеялся заставить принять их без критики, которая начинала осуждать старые учреждения, и ради этого ставил их на такую высоту, что они действовали на наше честолюбие и заставляли разум замолкнуть. Ему казалось возможным еще раз, как показывает история веков, подчинить мир могуществу «народа-короля» – могуществу, воплощенному в его особе. Из всех правителей Европы он мечтал сделать великих феодалов Французской империи. И если бы море не оградило Англию от нашего вторжения, этот гигантский проект вполне мог быть осуществлен.
Через некоторое время случай дал нам возможность увидеть, как император закладывает основание для того плана, который он вырабатывал в своих тайных мечтах. Я хочу говорить о присоединении Железной короны к короне Франции.
Семнадцатого марта Франческо Мельци, вице-президент Итальянской республики, в сопровождении главных членов Государственного совета, многочисленной депутации из представителей Законодательного корпуса и других лиц, имеющих влияние, явился к императору и передал ему приглашение Совета править Республикой. «Невозможно сохранять далее настоящее правительство, – объявил Мельци, – потому что оно оставляет нас позади эпохи, в которую мы живем. Конституционная монархия водворяется повсюду благодаря процессу просвещения. Итальянская республика желает короля, и ее интересы требуют, чтобы этим королем был Наполеон, при условии, что обе короны будут соединены только над его головой и он сам изберет себе наследника по нисходящей линии, как только Средиземное море вернет себе свободу».
В ответ на эту речь император сказал, что он всегда стремился к объединению Италии, что ради этой цели он принимает корону, так как понимает, что раздробление было бы в эту минуту гибельно для независимости Италии. Он обещал, наконец, позднее очень охотно возложить Железную корону на более молодую голову, готовый всегда принести себя в жертву интересам тех государств, которыми призван управлять.
На другой день, 18-го, император явился в Сенат с большой торжественностью и объявил о желании Государственного совета и о своем согласии. Мельци и все итальянцы принесли ему присягу, а Сенат признал это и приветствовал согласно обычаю. Император закончил свою речь словами: «Напрасно гений зла старался вовлечь весь континент в войну, – то, что присоединено к Империи, остается присоединенным».
Без сомнения, он предвидел тогда, что это событие поведет к войне, по крайней мере с австрийским императором, но был далек от того, чтобы этой войны бояться.
Армия тяготилась бездействием; слишком много опасностей было связано с высадкой на берега Англии, однако можно было надеяться, что благоприятные обстоятельства, тем не менее, облегчат ее выполнение; но как удержаться затем в стране, где невозможно получать подкрепление? И какая надежда на спасение в случае неудачи? В истории Бонапарта можно наблюдать, как он всегда старался избегать безнадежных положений. Поэтому война должна была оказать ему услугу, освободив от неудобств, связанных с неудачным проектом высадки.
Во время того же заседания княжество Пьомбино было отдано принцессе Элизе. Сообщая эту новость Сенату, Бонапарт заявил, что княжество плохо управлялось в течение нескольких лет и всегда интересовало французское правительство, поскольку предоставляло возможность сношений с Эльбой и Корсикой, и, следовательно, этот дар не был результатом какой-нибудь особенной привязанности, а является актом разумной политики, связанной с блеском Короны и интересами народов. Подтверждением того, что эти дары императора носили характер феодальных владений, может служить императорский декрет: он устанавливал, что дети госпожи Баччиокки, наследуя своей матери, будут получать инвеституру от императора французов, не могут заключать браки без его согласия, а муж принцессы, получающий титул принца де Пьомбино, должен будет произнести следующую клятву: «Я приношу клятву в верности императору; я обещаю защищать всеми доступными мне средствами гарнизон острова Эльба; я объявляю, что никогда не перестану выполнять, при всяких обстоятельствах, долг доброго и верного подданного его величества императора французов».
Через несколько дней после этого папа с великой торжественностью крестил в Сен-Клу второго сына Луи Бонапарта. По случаю этого события парк был иллюминован и для публики были устроены игры. Вечером состоялись многочисленное собрание и первое представление «Аталии» в театре Сен-Клу.
Со времени революции эта трагедия Расина не ставилась ни разу. Император признался, что это произведение никогда его не поражало, но представлением он очень заинтересовался и еще раз повторил по этому поводу, что очень желал бы, чтобы подобная трагедия была написана во время его царствования. Он разрешил поставить эту трагедию в Париже, и начиная с этого времени в наших классических театрах ставили ряд произведений, которые были ранее устранены революционной предусмотрительностью. Однако и теперь в трагедии опустили несколько стихов, боясь их применения. Люс де Лансиваль, автор «Гектора», а позднее Эсменар, автор поэмы «La Navigation», должны были исправить Корнеля, Расина и Вольтера. Но не во гнев слишком мелочной в своей предосторожности полиции будет сказано: выброшенные стихи, подобно статуям Брута и Кассия, тем больше обращали на себя внимание, чем большее их заставляли исчезнуть.
После этих важных решений относительно Италии император объявил о своей будущей поездке и назначил коронование в Милане на май месяц. Затем он созвал итальянский Законодательный корпус и издал целый ряд декретов и постановлений, относящихся к новому этикету, который он намеревался ввести в Италии. Император назначил придворных дам и камергеров своей матери, между прочими – де Коссе-Бриссака, который просил этой милости. В то же время принц Боргезе был объявлен французским гражданином, а среди наших придворных дам появилось новое лицо – госпожа де Канизи, одна из самых красивых женщин этой эпохи. Госпожа Мюрат в то время родила; она занимала тогда особняк Телюссон, расположенный в конце улицы Виктуар. По этому особняку можно судить, как новые принцессы окружали себя все большей и большей роскошью и все-таки не достигли еще той степени, к которой пришли позднее.
Вскоре не занимались уже ничем, кроме приготовлений к отъезду, который был назначен на 2 апреля, так же как и отъезд папы. За несколько дней до этого Ремюза уехал в Милан с поручением отвезти инсигнии (внешние знаки могущества, власти или сана. – Прим. ред.), императорские украшения и бриллианты Короны, которые должны были использовать во время коронации. С этим путешествием для меня началось новое горе, которое должно было повторяться в течение нескольких лет. Никогда до сих пор я не разлучалась со своим мужем, и у меня создалась привычка так живо и глубоко наслаждаться радостями моего семейного очага, что очень трудно было научиться переносить это тяжелое лишение. Это горе еще увеличило мрачные стороны придворной жизни и очень дорого стоило моему мужу, который, подобно мне, напрасно это обнаружил. Я говорила уже, что жизнь придворного несчастлива, если он желает сохранить свои чувства, которые всегда являются опасной помехой для мелочных обязанностей, составляющих эту жизнь.
Я так беспокоилась, видя, что муж мой отправляется в путешествие, казавшееся мне долгим и почти опасным, что просила его взять с собой одного из наших друзей, бывшего морского офицера по имени Салембени. Это был человек бедный, занимавший незначительное место и живший своим жалованьем и теми деньгами, которые доставлял ему Ремюза, давая секретарскую работу. Я поручила ему заботы о здоровье моего мужа. Это был человек умный, но несколько тяжелого характера, довольно хитрый и угрюмый. Он причинил нам много неприятностей, поэтому я решилась так сказать о нем.
Мое здоровье было слишком слабо, чтобы я могла думать о путешествии; императрица, по-видимому, жалела о моем отсутствии, что же касается меня, то, в сущности, я была рада отдохнуть от этой бурной жизни и пожить немного со своей матерью и детьми.
Статс-дамы де Ларошфуко, д’Арберг, де Серран и Савари сопровождали императрицу. Довольно значительное количество камергеров, придворных чинов, весь многочисленный и довольно молодой двор принимали участие в путешествии. Император отправился в путь 2 апреля, а папа – 4-го. Повсюду, до самого приезда в Рим, папа получал знаки глубокого уважения, и тогда ему, вероятно, казалось, что он навсегда прощается с Францией.
Мюрат остался в Париже в качестве губернатора, ему было поручено тщательное наблюдение за делами города, но он писал донесения, кажется, не всегда беспристрастные. Фуше, более либеральный в своих начинаниях, получив право считать себя необходимым, руководил делами несколько свысока, щадя все партии по своей системе, чтобы сделать себя полезным для всех.
Архиканцлер Камбасерес должен был руководить Государственным советом и быть представителем Парижа. Он принимал очень много лиц с вежливостью, смешанной с известной спесью, которая придавала его манерам смешной оттенок. В конце концов, Париж и Франция находились тогда в состоянии наибольшего покоя. Казалось, все стремится к порядку и подчинению.
Император начал свое путешествие с Шампани. Он отправился в Бриенн и провел один день в прекрасном Бриеннском замке, желая посетить колыбель своей юности. Госпожа де Бриенн проявляла необычайный энтузиазм по отношению к нему, а так как он всегда любил обожание, то держался с ней очень мило. Было интересно видеть, как некоторые родственники госпожи де Бриенн, проживающие в Париже, получали от нее оживленные письма по поводу этого пребывания императора. Так как письма эти сообщали о реальных событиях, то производили в свете известное впечатление. Успех нетруден для сильных мира сего, они не нравятся нам только тогда, когда совершенно неблагожелательны или совершенно неумелы.
Через несколько дней после торжественного отъезда в «Мониторе» появилась следующая статья:
«Жером Бонапарт приплыл в Лиссабон на американском корабле, на котором пассажирами были записаны «месье и мадемуазель Паттерсон». Тотчас же Жером отправился в Мадрид, а месье и мадемуазель Паттерсон опять пересели на корабль. Думают, что они уже возвратились в Америку»[70].
Кажется, они отправились тогда в Англию. Этот господин Паттерсон был не кто иной, как тесть Жерома. Жером, влюбившись в Америке в дочь местного негоцианта, женился на ней, рассчитывая, что получит прощение своего брата, переждав некоторое неудовольствие с его стороны. Но Бонапарт мечтал в то время о других проектах по отношению к своей семье, поэтому был сильно разъярен, разорвал этот брак и принудил брата к немедленной разлуке. Жером отправился в Италию и присоединился к нему в Турине. Император обошелся с ним очень резко и велел ему отплыть на одном из наших кораблей, которые курсировали по Средиземному морю; Жером пробыл в море довольно долгое время и вновь приобрел милость императора только несколько месяцев спустя.
Императора повсюду встречали с истинным энтузиазмом. Некоторое время он пробыл в Лионе, где сумел привлечь на свою сторону коммерсантов с помощью ордонансов, которые были для них благоприятны; наконец он перебрался через Мон-Сени и пробыл несколько дней в Турине.
Между тем Ремюза приехал в Милан, где встретил принца Евгения, который принял его со своей обычной сердечностью. Принц расспросил моего мужа о том, что произошло в Париже со времени его отъезда, и узнал от него некоторые подробности, относящиеся к госпоже Д., которые задели его прежние чувства. Ремюза передавал мне, что Евгений в ожидании двора вел довольно спокойную жизнь, осматривал Милан, который показался ему скучным городом. Жители проявляли мало любезности по отношению к французам; дворяне держались замкнуто под предлогом того, что недостаточно богаты, чтобы достойно поддержать честь своего дома. Принц Евгений старался собрать их вокруг себя, но это удавалось ему с большим трудом. Итальянцы, пребывая еще в сомнениях, не знали, следует ли радоваться новой судьбе, которую им предначертали.
Ремюза сообщал мне в это время интересные подробности о характере миланцев. Их равнодушие к светским удовольствиям, абсолютное отсутствие радостей семейной жизни, мужья, совершенно чуждые своим женам и предоставляющие ухаживать за ними какому-нибудь дамскому угоднику, скучные спектакли, темнота зал, дающая возможность каждому появляться в них, не заботясь о туалете, и заниматься в почти пустых ложах чем угодно, только не слушанием оперы, однообразие представлений, сравнение обычаев этой страны с французскими – все это давало Ремюза возможность наблюдений в пользу нашей милой родины и еще увеличивало его желание возвратиться ко мне.
В это время император посещал места своих первых побед. Он устроил смотр на поле битвы при Маренго и раздавал там кресты. Войска, которые собрали под предлогом этого смотра и держали затем поблизости к реке Эч, послужили причиной или предлогом к тому, что австрийский кабинет еще увеличил и без того значительную линию укреплений.
Девятого мая император приехал в Милан. Его присутствие вызвало большое оживление, а обстоятельства, сопровождавшие коронование, разбудили тщеславие, подобно тому, как это было в Париже. Самые знатные миланские вельможи начали стремиться к новым отличиям и преимуществам, с ними связанным. Итальянцам говорили о независимости и единстве правления, и они отдавались надеждам, которые им позволялось питать.
С самого появления нашего двора в Милане я была поражена грустным тоном писем Ремюза и вскоре после этого узнала, что ему пришлось страдать от внезапного и несколько несправедливого неудовольствия со стороны его господина. Письма были вскрыты; офицер, о котором я говорила (Салембени), язвительный наблюдатель всего происходившего в Милане, вздумал писать в Париж довольно веселые и несколько насмешливые описания того, что совершилось у него на глазах. Ремюза получил приказание отправить его в Париж, сначала даже без объяснений, и только позднее узнал причину подобного приказания. Недовольство Бонапарта не ограничилось секретарем, а пало и на того, кто привез его с собой[71].
Кроме того, принц Евгений рассказал о некоторых подробностях, которые узнал благодаря доверию моего мужа, и всех этих причин, вместе взятых, было более чем достаточно, чтобы вызвать неудовольствие господина, от природы и так раздражительного. По привычке всегда пользоваться нужными людьми, каково бы ни было его отношение к ним, император потребовал от моего мужа строжайшей точности в службе, потому что давнишнее пребывание Ремюза во дворце давало ему глубокое знание церемониала. Но вместе с тем Бонапарт обращался с ним сурово и сухо и всегда повторял тем, кто справедливо хвалил достоинства моего мужа: «Все это может быть, но он не предан мне так, как я бы того хотел». Этот упрек повторялся в течение всех лет, которые мы провели при дворе, и, может быть, как раз есть известная заслуга в том, что мы не переставали его заслуживать.
Эта оживленная, но вместе с тем праздная жизнь при дворе дала Ремюза и Талейрану возможность узнать друг друга немного больше и послужила основой той близости, которая позднее причинила мне много различных волнений.
Тонкий природный такт дал Талейрану возможность оценить прямой и наблюдательный ум моего мужа; они понимали друг друга относительно множества вещей, и противоположность их характеров не мешала им находить удовольствие в обмене мыслями. Однажды Талейран сказал Ремюза: «Я вижу, что в вас есть некоторое недоверие ко мне. Я знаю, откуда оно взялось. Мы служим господину, который не любит связей. Видя нас привязанными к одной и той же службе, он предвидел наши отношения. Вы – умный человек, и этого достаточно, чтобы он пожелал разобщить нас. Он вас предупредил, он старался уж не знаю какими сообщениями вызвать в вас недоверие, но мы не останемся только по этой причине вдали друг от друга. Это одна из его слабостей, которую нужно признать, щадить и извинять, не подчиняясь, однако, ей всецело». Эта естественная манера вести беседу вместе с любезностью, которую Талейран умел проявлять, когда желает, понравилась моему мужу; он нашел притом, что это сближение служит вознаграждением за скуку его службы[72].
В это время Ремюза заметил, что Талейран, пользовавшийся большим влиянием на Бонапарта благодаря своему таланту, очень завидовал влиянию Фуше, которого не любил, а также внутренне презирал Маре и выражал это презрение своими обычными язвительными насмешками, которых трудно было избежать. Не имея никаких иллюзий относительно императора, он, однако, хорошо служил ему, старался сдерживать его страсти, стремясь поставить его в определенное положение как по отношению к иностранцам, так и по отношению к Франции, уговаривая создать учреждения, которые могли бы действительно его ограничивать. Император, как я уже говорила, любил создавать и притом быстро понимал и легко схватывал то, что казалось ему новым и значительным, поэтому он охотно принимал советы Талейрана и закладывал вместе с ним первоначальный фундамент того, что было действительно полезно. Но затем его желание повелевать, его недоверие, страх быть чем-нибудь связанным заставляли его бояться власти того, что он сам создал, и по неожиданному капризу он вдруг сворачивал с дороги и откладывал или сам разрушал начатый труд. Талейран раздражался, но, от природы беспечный и легкомысленный, не находил в себе достаточно сил и последовательности для настойчивой борьбы и кончал тем, что охладевал и бросал предприятие, которое требовало наблюдения, утомительного для него. Последующие события объяснят все это гораздо лучше, чем я делаю в данный момент. Мне достаточно указать на то, что начал уже замечать Ремюза, правда, еще довольно смутно.
Между тем разгорелась война между Англией и Испанией. Мы ежедневно совершали вылазки на море; некоторые из них были до известной степени удачны. Одна из флотилий, выйдя из Тулона, смогла присоединиться к испанской эскадре, и в газетах много шумели об этом успехе[73].
Двадцать третьего мая Бонапарт был коронован итальянской короной. Церемония была торжественна, подобно той, что произошла в Париже. Императрица присутствовала на ней, сидя на одной из трибун. Ремюза рассказал мне, что в церкви произошло всеобщее движение в тот момент, когда Бонапарт, взяв Железную корону и возлагая ее на свою голову, произнес угрожающим голосом: «Бог дал мне ее, – горе тому, кто к ней прикоснется!»
Остаток времени, проведенного в Милане, был употреблен частью на празднества, а частью – на составление декретов, которые регулировали положение и управление нового королевства. Почти повсюду во Франции радовались этому событию, однако оно и беспокоило немало лиц, которые предвидели войну с Австрией как его последствие.
Четвертого июня в Милан явился генуэзский дож [Жироламо Дураццо, последний дож Генуи], который просил присоединения своей республики к Империи. Это заявление, подготовленное заранее или даже сделанное по приказу, было принято с торжественной церемонией, и тотчас же эта часть Италии была разделена на новые департаменты. Вскоре после этого итальянскому Законодательному корпусу была предложена новая конституция, а принц Евгений был назначен вице-королем Италии.
Император покинул Милан. Он совершал путешествие, казавшееся по виду увеселительной поездкой, но на самом деле это было изучение австрийских военных сил по линии реки Эч. Согласно Кампо-Формийскому договору, Бонапарт оставил австрийскому императору Венецию, и это делало его опасным соседом для Итальянского королевства. Приехав в Верону, разделенную Эчем на две части, Бонапарт принял барона де Венса, который командовал австрийским гарнизоном в той части Вероны, которая принадлежала его государю. Барон, по-видимому, узнал о наших силах в Италии; император, со своей стороны, рассмотрел силы противника. Исследуя берега Эча, он понял, что надо было построить крепости, которые могли бы защищать реку, но, высчитывая время и необходимые расходы, проговорился, что было бы проще и лучше удалить австрийцев от этой границы. Можно представить, что с этой минуты он уже внутренне решился на войну, которая и разразилась через несколько месяцев.
Впрочем, австрийский император, со своей стороны, не мог относиться равнодушно к тому могуществу, которого достигла Франция в Италии. Английское правительство, которое старалось возбудить против нас континентальную войну, ловко воспользовалось беспокойством австрийского императора и тем недовольством, которое мало-помалу охладило наши отношения с Россией. Английские газеты поспешили объявить, что Бонапарт осматривал свои войска в Италии только для того, чтобы привести их в боевое состояние, создавая грозную армию. Были выдвинуты несколько австрийских корпусов, и внешняя видимость мира, которая еще соблюдалась, послужила только к тому, чтобы дать возможность приготовиться обоим императорам, сделавшимся к тому времени почти открытыми врагами.
Глава XIII 1805 год
Празднества в Генуе – Кардинал Мори – Моя уединенная жизнь в деревне – Госпожа Луи Бонапарт – «Тамплиеры» – Возвращение императора, его увеселения – Женитьба Талейрана – Война объявлена
Император, путешествуя, посетил Кремону, Верону, Мантую, Болонью, Модену, Парму, Пьяченцу и появился в Генуе, где был принят с энтузиазмом. Он вызвал в Геную главного казначея Лебрена, которому поручил надзор за новой администрацией. Здесь он расстался со своей сестрой Элизой, которая сопровождала его в путешествии и которой он подарил Лукку, присоединив ее к Пьомбино.
В Вероне для императора устроили показ боя собак и быков в древнем амфитеатре, в котором помещалось сорок тысяч зрителей. При его появлении раздался всеобщий крик восторга, и он был искренно тронут этим приветствием, действительно внушительным благодаря количеству народа и самому месту. Празднества, данные в Генуе, носили действительно сказочный характер. На обширных платформах были устроены плавучие сады, которые завершались чем-то вроде храма, также плавучего, – он приблизился к берегу, чтобы принять Бонапарта и весь двор. Тогда все барки соединились вместе и удалились от берега, и император очутился посередине очаровательного острова, откуда он мог любоваться Генуей, тщательно иллюминованной и как бы воспламеняющейся от фейерверков, устроенных одновременно в нескольких местах.
Во время пребывания в Генуе Талейран получил удовольствие совершенно в своем вкусе, – так как его всегда забавляло, когда он мог найти или заметить что-нибудь смешное. Кардинал Мори, живший в Риме со времени своей эмиграции, пользовался репутацией, созданной резкостью его замечаний в нашем Учредительном собрании[74], однако у него было желание возвратиться во Францию. Талейран написал ему из Генуи и уговорил приехать, чтобы представиться императору. Он явился в Геную и, приняв немедленно тот почтительный вид, который мы всегда с тех пор наблюдали, повторял во всеуслышание, что явился, чтобы увидеть великого человека. Он добился аудиенции. «Великий человек» быстро понял его и, ценя так, как кардинал того стоил, доставил себе удовольствие и дал ему возможность отречься от прошлого.
Бонапарт легко привлек Мори к себе, немного приласкав, пригласил его во Францию, где он играл довольно смешную роль. Талейран, у которого не изгладились воспоминания о скандалах в Учредительном собрании, нашел немало возможностей слегка отомстить кардиналу, язвительно подчеркивая его глупость и его неуместную хвастливость.
В то время как император путешествовал по Италии, утверждая повсюду свое могущество, в то время как все вокруг утомлялись от постоянных представлений, которых он требовал от своего двора, когда императрица, счастливая возвышением своего сына, хотя и огорченная разлукой с ним, забавлялась всеми этими празднествами и возможностью блеснуть великолепием драгоценных камней и самых изящных туалетов, – я вела самую спокойную и приятную жизнь в долине Монморанси у госпожи д’Удето, о которой уже говорила. Воспоминания этой милой женщины переносили меня в те времена, которые она любила описывать; мне нравилось слушать ее рассказы о знаменитых философах, которых она так хорошо знала и о чьих привычках и разговорах так умело могла поведать.
Париж во время моего отсутствия оставался пустынным и спокойным. Я виделась иногда с госпожой Луи Бонапарт во дворце Сен-Лё, который купил ее муж. Луи казался занятым исключительно украшением своего сада. Его жена была одинока, больна и пребывала в страхе проронить хоть одно слово, которое ему не понравится. Она не смела ни радоваться его возвышению, ни плакать о его отсутствии, которое было бесконечным.
Однажды, когда я была у нее с визитом, она сообщила мне новые слухи о Полиньяках, запертых в замке Гам: они сделали попытку бежать оттуда, и их перевели в Тампль, а императрицу обвинили в том, будто она из-за меня отнеслась ко всему этому с большим интересом. Госпожа Луи подозревала, что Мюрат является автором этого обвинения, которое, конечно, не имело никаких оснований: госпожа Бонапарт и не думала больше об этих двух заключенных, а я совершенно потеряла из виду герцогиню Полиньяк.
Я старалась жить уединенно, чтобы таким образом ответить на толки, которые распространяли по поводу моего поведения. Но меня очень огорчали эти старания и в особенности то, что я не могла воспользоваться своим положением и быть полезной так, как мне бы хотелось, самому императору или тем лицам, которые желали добиться от него, благодаря мне, некоторых милостей.
В моем характере всегда было довольно много благожелательности; к тому же известное самолюбие заставляло меня служить тем, кто вначале меня порицал, и с помощью массы услуг, не лишенных великодушия, вынудить смолкнуть критиков. Наконец, мне казалось, что император привлечет к себе людей, если позволит мне передавать ему их просьбы и нужды. И так как я еще была привязана к нему (хотя теперь он внушал мне больше страха, чем прежде), я все-таки желала, чтобы его любили. Однако пришлось уяснить себе, что он не всегда одобряет мои планы и я сама могу сделаться их жертвой. Надо было больше думать о самозащите, чем покровительствовать другим.
Размышления по этому поводу огорчали меня, но в другие моменты, примиряясь со своей судьбой, я старалась примениться к неровностям своего положения и видеть только хорошие стороны. У меня было в обществе известное влияние, которое мне нравилось, и имелось известное благосостояние, хотя иногда приходилось стесняться, как это бывает со всеми людьми, у которых нет солидного имущества, а есть много обязательных расходов; но я была молода и мало думала о будущем. Общество, окружавшее меня, было приятно: мать моя была безукоризненна, муж – добр и любезен, а старший сын мой – очарователен. Я была очень дружна со своей сестрой, умной и доброй.
Все это отвлекало мои мысли от двора и помогало переносить неприятности. Мое здоровье постоянно беспокоило меня, так как было слабо, а тревожная жизнь, по-видимому, еще ухудшала его. В конце концов, я не знаю, почему говорю о себе так подробно; если когда-либо все это будет читать кто-либо, кроме моего сына, нужно, не колеблясь, все это выбросить[75].
Во время пребывания императора в Италии в «Комеди Франсез» имели успех две пьесы: «Тартюф нравов» Шерона (перевод, или, вернее, подражание «Школе злословия» Шеридана) и «Тамплиеры». Шерон был человеком умным, депутатом Законодательного собрания, женился на племяннице аббата Морелле; я была чрезвычайно дружна с ними. Аббат писал императору, прося его дать место Шерону, и по возвращении Бонапарта из путешествия «Тартюф нравов» был сыгран в его присутствии. Пьеса так понравилась императору, что он спросил Ремюза, кто ее автор. Узнав, что автор явно заслужил поощрение и должность, Бонапарт в минуту доброжелательности назначил его префектом в Пуатье. К несчастью для семьи Шерона, он умер там через три года.
«Тамплиеры» были прочитаны Бонапарту Фонтаном и вызвали частью одобрение, частью порицание. Император хотел, чтобы в пьесе сделали несколько поправок, но автор, Ренуар, отказался. Император был несколько оскорблен. Ему не понравилось, что «Тамплиеры» имели такой большой успех. Он был настроен против произведения, а отчасти и против автора, и порицал их с тем своеобразным смешением мелочности и деспотизма, которые так уживались в нем, когда кто-либо или что-либо вызывали его недовольство. Все это случилось уже после его возвращения.
В общем, он желал, чтобы его мнения и вкусы служили для всех образцом. Ему понравилась опера «Барды» Лесюэра, и он готов был найти возмутительным то, что парижская публика судила иначе.
Император уехал из Генуи, чтобы возвратиться прямо в Париж. В последний раз он видел эту прекрасную Италию, где ему удалось всецело поразить воображение людей: как генералу, как миротворцу и как правителю. Он возвратился через Мон-Сени и организовал работы, которые должны были так же, как и в Симплоне, облегчить сношения между двумя нациями[76]. Он увеличил двор, призвав в него знатных итальянских вельмож и дам. Он назначил нескольких камергеров из бельгийцев, и вокруг уже слышалось множество акцентов, которыми только и различались торжественные приветствия, к нему обращенные.
Одиннадцатого июля император прибыл в Фонтенбло, а оттуда вернулся в Сен-Клу. Через некоторое время после его приезда в «Мониторе» были помещены довольно резкие статьи, возвещавшие грозу, которая должна была разразиться в Европе. Иногда в этих статьях попадались резкие выражения, которые выдали их автора. Сохранилась одна из них, особенно меня поразившая. Английские газеты передавали, что в Лондоне напечатали предполагаемую генеалогию семьи Бонапарта, которая относила его дворянское происхождение к весьма отдаленным временам. «Эти изыскания довольно наивны, – говорится в заметке. – Всем тем, кто спрашивает, с какого времени начинается дом Бонапарта, легко ответить. Он начался 18-го брюмера».
Я вновь увидела императора и испытала смешанные чувства радости и некоторой горечи. Трудно было не разволноваться в его присутствии; но я страдала потому, что это волнение было смешано с известным недоверием, которое он начинал мне внушать[77].
Императрица встретилась со мной вполне дружески. Я довольно откровенно рассказала ей о своих тайных горестях, выразив удивление по поводу того, что прежняя преданность нисколько не защитила меня перед ее супругом от каких бы то ни было внезапных обвинений. Она передала ему мои слова. Так как в них были и правда, и сила, он выслушал их довольно благосклонно. Император возвратился опять к той мысли, что преданностью может называться только та преданность, благодаря которой человек отдается целиком, со всеми своими чувствами, со всеми мнениями; он повторил, что мы должны отказаться от малейших наших прежних привычек, чтобы думать только о его интересах, о его воле. Наградой будет возвышение, богатство, полное удовлетворение честолюбия. «Я дам им все, – сказал он, говоря о нас, – чтобы смеяться над теми, которые осуждают их сегодня, и, если они захотят порвать с моими врагами, я брошу их врагов к их ногам». Впрочем, в течение всего времени перед кампанией Аустерлица ум императора был занят самыми серьезными делами и мало проявлялись его личные черты, поэтому наше положение снова стало довольно спокойным.
Я вспоминаю сейчас маленький анекдот, интересный только потому, что может еще лучше охарактеризовать этого странного человека; мне кажется, я не должна обойти его молчанием.
Деспотизм императора увеличивался по мере того, как расширялся его двор. Нужно признать, что Бонапарт хотел быть единственным руководителем мнений, желал, чтобы они формировались по его велению. Он компрометировал человека, мог погубить женщину за одно слово, без всяких предосторожностей. Но в то же время горячо возмущался, если общество решалось наблюдать и осуждать поведение тех, кого он ставил под защиту своего ореола.
Во время путешествия по Италии близость и праздность при дворах повели к некоторым более или менее серьезным ухаживаниям, о которых писали в Париж и о которых любили посплетничать. Однажды вдруг Бонапарт входит в столовую с довольно веселым лицом, опирается на спинку кресла, в котором сидит его жена, и обращается к нам – то к одной, то к другой – с ничего не значащими фразами, затем начинает расспрашивать нас о нашей жизни и, наконец, говорит, сначала полунамеками, о том, что среди нас находятся такие, о которых в обществе много разговоров.
Императрица, которая хорошо знала своего мужа и предвидела, что, слово за слово, он может зайти очень далеко, желала прервать этот разговор. Но император продолжал, и через несколько минут разговор стал очень неловким. «Да, дамы, – заявил он, – вы интересуете добрых жителей Сен-Жерменского предместья. Они говорят, например, что у вас есть связь с М., что вы…» И обратился таким образом к двум или трем среди нас. Можно легко представить себе, в какое неловкое положение поставил нас всех подобный разговор. Мне кажется также, что император забавлялся той неловкостью, которую создавал. «Но, – добавил он вдруг, – пусть не думают, что я одобряю подобные предположения! Затронуть мой двор – значит, затронуть меня самого. Я не хочу, чтобы позволяли себе хоть одно слово относительно меня или моей семьи и двора». При этом лицо его сделалось угрожающим, а тон – более строгим. Затем император заявил, что вышлет любую женщину, которая произнесет хотя бы одно слово относительно придворной дамы, но, говоря это, горячился один, так как никто из нас не желал ему отвечать.
Императрица сократила завтрак, чтобы закончить эту сцену. Начавшееся движение прервало императора, который удалился так же, как и пришел. Одна из дам, блаженная поклонница Бонапарта, готова была умилиться над добротой господина, который желал, чтобы наша репутация была чем-то священным. Но госпожа де ***, женщина большого ума, ответила ей с нетерпением: «Да, если император будет защищать нас подобным способом, – мы погибли!»
Бонапарт очень удивился, когда императрица указала ему, как смешна была эта сцена; он всегда считал, что мы должны быть ему благодарны за ту горячность, с какой он оскорблялся, когда задевали нас.
Во время пребывания в Сен-Клу он много работал и составил множество декретов, относящихся к управлению новыми департаментами, образованными в Италии. Кроме того, увеличил Государственный совет, которому с каждым днем придавал больше значения, так как был уверен в его зависимости от себя. Показывался в Опере, и парижане хорошо встречали его. Однако Бонапарт находил их несколько холодными, сравнивая их с жителями провинций. Жизнь его была полна и серьезна; иногда ему надоедала охота, он гулял только раз в день и принимал просителей только раз в неделю.
«Комеди Франсез» приезжала в Сен-Клу и ставила трагедии и комедии в небольшом хорошеньком театре, который там был построен. Тогда начались затруднения для Ремюза: как забавлять того, кого Талейран называл «незабавляемым».
Напрасно искали в нашем репертуаре какой-нибудь шедевр, напрасно наши лучшие актеры старались понравиться императору: чаще всего он бывал на этих представлениях рассеян и занят своими планами, хотя вменял в вину первому камергеру, Корнелю, Расину, актерам, что они не умели возбудить с его стороны большого внимания к спектаклю. Нужно сказать, что Бонапарт любил талант Тальма, или, вернее, самого Тальма, с которым был в довольно близких отношениях в юности. Он давал актеру много денег и принимал его запросто; но и Тальма не умел лучше других заинтересовать его. Подобно тому, как больной ставит в вину другим плохое состояние своего здоровья, Бонапарт раздражался, видя, как скользят мимо него удовольствия, доступные для других, и всегда думал, что, браня и мучая, он заставит наконец придумать, что поможет его развлечь. Можно было очень серьезно пожалеть того, кому поручены были его удовольствия. К несчастью для нас, это был Ремюза, и я могу рассказать, как много он страдал от этого.
Император все еще хвалился возможностью бороться против англичан некоторыми успехами на море. Соединенный флот, испанский и французский, часто делал рейды: пробовали защищать колонии, адмирал Нельсон повсюду преследовал нас, расстраивал большинство наших предприятий, но это тщательно скрывали, и, если верить нашим газетам, мы ежедневно били англичан.
Возможно, проект высадки к этому времени уже был оставлен. Английское министерство создавало нам опасных врагов на континенте. Русский император, молодой и независимый по характеру, быть может, уже оскорблялся тем преобладанием, к которому стремился наш император, и подозревал некоторых из его министров в том, что они, в угоду английской политике, желали сделать его нашим врагом. Мир с Австрией висел на волоске, и только прусский король казался нашим союзником.
В августе император отправился в Булонь. В то время в его планы не входило посещение флотилий, он желал сделать смотр многочисленной армии, которая стояла лагерем на севере и которую он хотел двинуть вперед. Во время его отсутствия императрица совершила путешествие на воды в Пломбьер. Мне кажется, что я могу воспользоваться этим перерывом, возвратиться назад и рассказать некоторые подробности о Талейране, которые я, сама не знаю почему, опускала до сих пор.
Известно, каким образом Талейран, уже некоторое время назад вернувшийся во Францию, был назначен министром иностранных дел: стараниями госпожи де Сталь, которая указала на этот выбор директору Баррасу. Во время правления Директории Талейран познакомился с госпожой Гранд[78]. Хоть уже и не первой молодости, но эта прекрасная индианка еще обращала на себя внимание своей красотой. Она хотела поехать в Англию, где жил ее муж, и отправилась к Талейрану просить паспорт.
Ее визит, ее внешность произвели на него, по-видимому, такое впечатление, что паспорт не был дан или оказался ненужным. Госпожа Гранд осталась в Париже, вскоре стала посещать министерство иностранных дел, а позднее там поселилась. Бонапарт в то время был Первым консулом. Его победы и договоры привлекли в Париж посланников главных европейских держав и массу иностранцев. Люди, вынужденные по своему положению бывать у Талейрана, довольно благосклонно относились к тому, что встречали за его столом и в салоне госпожу Гранд, которая играла роль хозяйки, однако и удивлялись той слабости, с какой Талейран поставил в сложное положение женщину, только красивую, но с умом настолько посредственным и характером настолько тяжелым, что она постоянно оскорбляла Талейрана плоскостями и смущала его покой неровностью своего настроения. У Талейрана в характере всегда было много мягкости и много снисходительного равнодушия к деталям. Им можно повелевать, запугивая его, потому что он не любит шума, и госпожа Гранд довольно ловко пользовалась своим очарованием и своей требовательностью, чтобы подчинять его.
Однако, когда речь зашла о представлении министру жен посланников, появились затруднения. Некоторые из жен не желали быть принятыми госпожой Гранд. Они жаловались, и их недовольство дошло до ушей Первого консула. Он имел с Талейраном по этому поводу решительный разговор и объявил своему министру, что тот должен изгнать госпожу Гранд из своего дома. Как только эта последняя узнала о таком решении, она явилась к госпоже Бонапарт и мольбами добилась от нее обещания устроить свидание с Бонапартом. Едва очутившись в его присутствии, она упала перед Первым консулом на колени и умоляла его отменить постановление, которое приводило ее в отчаяние. Бонапарт был тронут слезами и криками этой красавицы и, чтобы несколько успокоить ее, сказал: «Я вижу только один способ. Талейран должен на вас жениться, – и все устроится. Нужно, чтобы вы носили его имя или перестали появляться». Консул повторил свое предложение Талейрану и дал ему на размышления только двадцать четыре часа. Говорят, Бонапарту доставило злобное удовольствие женить своего министра и он был в восторге от этой возможности приструнить его.
Талейран возвратился к себе, смущенный быстрым решением, которого от него требовали. Его встретили резкой сценой, на него нападали всеми способами, которые должны были окончательно склонить его к согласию. Его торопили, преследовали, волновали, что было противно его натуре. Остаток любви, сила привычки, быть может, даже боязнь раздражить женщину, которую он, конечно, не мог не посвятить в некоторые тайны, привели его к решению. Он уступил, поехал в деревню и отыскал в Монморанси священника, который согласился обвенчать его.
Два дня спустя узнали, что госпожа Гранд стала госпожой Талейран, и все затруднения дипломатического корпуса были улажены. Судя по всему, офицер Гранд, живущий в Англии, хоть и не стремился найти жену, с которой давно порвал, но воспользовался случаем и заставил дорого заплатить за то, чтобы не протестовать против этого брака. Чтобы иметь какое-нибудь развлечение в своем доме, Талейран удочерил маленькую Шарлотту, которая затем воспитывалась у него и которую ошибочно считали его дочерью. Он очень привязался к девочке, заботился о ее воспитании и в 17 лет выдал ее замуж за барона Талейрана (Александра Талейрана-Перигора, своего кузена. – Прим. ред.). Она проявила себя с лучшей стороны и добилась доброго отношения Талейранов, которые справедливо были недовольны этим браком.
Лица, которые знают Талейрана и знают, до какой степени изящным был его вкус, как он привык к тонкому и остроумному разговору, как нуждался во внутреннем покое, очень удивились, что он соединил свою жизнь с жизнью особы, ежеминутно шокировавшей его. Поэтому можно предположить, что его принудили к этому крайние обстоятельства: воля Бонапарта и краткий срок, данный на размышление, помешали разрыву, который, в сущности, больше бы ему подходил.
В самом деле, какая разница, если бы целью своего поведения он не ставил сближение с церковью, которую покинул ранее. Можно представить себе, как улучшилось бы его положение, если бы Талейран на склоне жизни снова надел римский пурпур или по крайней мере поправил в глазах света то, что было самым большим скандалом его жизни[79]. Но в том положении, в которое он себя поставил, сколько мер приходилось ему принимать, чтобы по возможности не быть смешным, что всегда угрожало ему! Конечно, он умел лучше других выйти из неловкого положения. Глубокое молчание относительно своих тайных огорчений, полная внешняя индифферентность по отношению к тому вздору, который говорила его подруга, известное высокомерие по отношению к тем, кто попытался бы посмеяться над ним или над ней, необыкновенная вежливость, большое влияние, громадное политическое значение, огромное состояние, терпение, с которым он переносил всякое оскорбление, умение отомстить за него, – вот что он мог противопоставить всеобщему порицанию, которое вызвал, но которое не смело проявляться. И несмотря на громадные ошибки, сделанные им, общественное презрение никогда не посмело его коснуться. Но не нужно думать, что он не был наказан внутренне за свое неблагоразумное поведение: лишенный семейного счастья, до известной степени порвавший со своей семьей, он должен был отдаться совершенно искусственной жизни, которая мешала ему до самого конца.
Общественные дела служили ему и занимали его; оставшееся свободное время он посвящал игре в карты. Всегда окруженный многочисленным двором, отдавая утро делам, вечер театру, а ночь картам, он никогда не подвергал себя ни скуке остаться с глазу на глаз с женой, ни опасности одиночества, которое могло бы навести на слишком серьезные размышления. Всегда стараясь быть занятым, он возвращался, чтобы отдаться сну, только тогда, когда был уверен, что сможет уснуть благодаря крайней усталости.
Притом император своим отношением к госпоже Талейран не вознаграждал его за те обязательства, которых от него потребовал. Бонапарт всегда обращался с ней холодно, часто даже невежливо и только с известными затруднениями признавал те знаки отличия, которые были присущи ее положению; он не скрывал, что она ему не нравилась, даже когда Талейран еще пользовался полным его доверием. Талейран все переносил молча, у него так и не вырвалось ни малейшей жалобы. Он устроил так, чтобы жена мало показывалась при дворе; она принимала иностранцев, а в известные дни – лиц, принадлежавших к правительству; она не делала визитов, и от нее их не требовали, – поскольку с ней не считались. Было ясно, что можно только здороваться или прощаться с ней, входя или выходя из ее салона, и Талейран не требовал большего. Я осмелюсь сказать в заключение, что он, казалось, все переносил с необыкновенным мужеством и примирением, – «Tu l’as voulu»[80].
В этих мемуарах мне придется еще говорить о Талейране, когда я буду рассказывать о нашем сближении с ним[81].
Я не знала госпожу Гранд во времена расцвета ее молодости и красоты, но слышала, что она была одной из самых очаровательных женщин своей эпохи. Ее высокая фигура отличалась гибкостью и грациозностью, столь свойственной женщинам ее родины. У нее был ослепительный цвет лица; голубые блестящие глаза; нос, несколько коротковатый, вздернутый, по странной случайности придавал ей некоторое сходство с Талейраном. Ее волосы, особенного, белокурого, цвета, были так прекрасны, что это сделалось почти пословицей. Мне кажется, что ей должно было быть по крайней мере тридцать шесть лет, когда она вышла замуж за Талейрана. Ее талия начала терять свое изящество, она стала полнеть, и это усилилось с течением времени; испортились тонкость ее черт и прекрасный цвет лица. Голос у нее был неприятный, манеры сухи, она от природы была недоброжелательна по отношению ко всем и, в сущности, безгранично глупа, из-за чего никогда ничего не могла сказать кстати. Близкие друзья Талейрана всегда были предметом ее особенной ненависти и сами ненавидели ее от всего сердца. Возвышение принесло ей мало счастья, но ее страдания никогда не вызывали ничьего сочувствия.
В то время как император делал смотр всем своим войскам, госпожа Мюрат посетила его в Булони, и он потребовал, чтобы госпожа Луи Бонапарт, которая сопровождала своего мужа на воды в Сен-Аманд, также приехала к нему и привезла сына. Часто затем Бонапарт обходил ряды своих солдат с этим ребенком на руках. Армия в то время была удивительно хороша – подчиненная самой точной дисциплине, воодушевленная, хорошо снабженная и жаждущая войны. Ее желание вскоре было исполнено. Несмотря на донесения газет, нас почти всегда останавливали, когда мы старались на море защитить наши колонии; высадка с каждым днем казалась все более и более опасной; надо было поразить Европу какой-нибудь менее сомнительной новостью.
«Мы не те французы, – говорилось в статьях «Монитора», обращенных к англичанам, – которых так долго продавали и предавали их вероломные министры, жадные фаворитки и ленивые короли. Вы идете навстречу неизбежной судьбе».
Мы дали морское сражение при мысе Финистер, сражение, в котором обе нации, англичане и французы, одержали победу, или, вернее, наша национальная храбрость оказала достойное противодействие искусству неприятеля; но это сражение не имело никаких других результатов, кроме того, что наш флот возвратился в порт.
Вскоре после этого выяснилось, что австрийские войска мобилизованы и против нас заключен союз между двумя императорами, австрийским и русским. Английские газеты с торжеством объявляли о континентальной войне.
В этом году день рождения Бонапарта праздновался по всей Франции с большой пышностью. Император возвратился из Булони 3 сентября, и в это время Сенат издал декрет, по которому с 1 января 1806 года должны были вернуться к григорианскому календарю.
Так мало-помалу исчезли последние следы Республики, которая просуществовала, или казалась существующей, тринадцать лет.
Глава XIV 1805 год
Талейран и Фуше – Речь императора в Сенате – Отъезд императора – Бюллетени Великой армии – Нищета в Париже во время войны – Император и маршалы – Сен-Жерменское предместье – Трафальгар – Путешествие Ремюза в Вену
В эпоху, о которой я говорю, Талейран был в дурных отношениях с Фуше, но, что особенно любопытно, этот последний обвинял Талейрана в недостатке совести и искренности. Он постоянно помнил, что во время покушения 3-го нивоза Талейран обвинял его в небрежности по отношению к Бонапарту и немало содействовал его отставке. Возвратившись в министерство, Фуше сохранял в тайне свое недовольство, но не упускал случая проявить его резкими и несколько циничными насмешками, которые, впрочем, составляли обычный тон его разговора. Талейран и Фуше были действительно замечательными людьми, и оба были очень полезны Бонапарту; но невозможно представить себе меньше сходства и меньше точек соприкосновения между двумя лицами, находящимися в столь постоянных отношениях. Один стойко сохранял грациозные, но дерзкие (если можно так выразиться) манеры вельмож старого режима. Тонкий, молчаливый, умеренный в своих речах, холодный в обхождении, любезный в разговоре, он обязан был своей силой только самому себе, так как не опирался ни на какую партию; он никому не доверялся, был непроницаем относительно дел, которые ему были поручены, и относительно своего собственного мнения о господине, которому служил. Чтобы закончить характеристику Талейрана, надо сказать еще, что он подчеркивал известную небрежность, не забывая о своих удобствах, был изыскан в своем туалете, надушен, любил хороший стол и все наслаждения роскоши, никогда не заискивал перед Бонапартом, умея быть для него желанным, никогда не льстил ему публично, зная, что всегда будет ему необходим.
Фуше, напротив, истинный продукт революции, не заботясь о своей особе, носил вышивки и шнуры, демонстрирующие его отличия, так, будто сам с пренебрежением к ним относится, и даже при случае подсмеивался над ними; деятельный, оживленный, всегда несколько озабоченный, болтливый, довольно лживый, подчеркивающий известного рода откровенность, которая могла быть последней степенью хитрости, он охотно хвастался, был склонен подвергать себя суждению других, рассказывая о своем поведении, и старался оправдать себя только пренебрежением к морали или равнодушием к одобрению. Но Фуше тщательно поддерживал отношения с партией якобинцев, которую император должен был щадить в его лице, и это беспокоило Бонапарта.
Несмотря на все это, в натуре Фуше присутствовало известного рода добродушие, у него были даже некоторые внутренние достоинства. Он был хорошим мужем некрасивой и довольно скучной женщины и очень добрым, даже слабым отцом. Он рассматривал революцию в общем, ненавидел мелкие интриги, ежедневные подозрения, и именно поэтому его полиция не удовлетворяла императора. Там, где Фуше видел достоинство, он отдавал ему справедливость; его месть никогда не носила личного характера, и он не казался способным на продолжительную зависть. Вероятно даже, что если в течение нескольких лет он оставался врагом Талейрана, то это происходило не столько из-за личного недовольства, сколько потому, что император старался поддерживать эту холодность между двумя людьми, сближение которых считал опасным для себя. И действительно, приблизительно в то время, когда они сблизились, он перестал доверять им и несколько удалил их от своих дел.
Но в 1805 году Талейран пользовался гораздо большим влиянием, чем Фуше. В то время надо было основывать монархию и импонировать Европе и Франции искусной дипломатией и пышным двором, – и бывший знатный вельможа мог давать обо всем этом гораздо лучшие советы. У Талейрана была серьезная репутация в Европе; знали о его консервативных взглядах, которые казались иностранным правителям достаточной гарантией морали. Император, желая внушить доверие своим соседям, должен был подкреплять свою подпись подписью своего министра иностранных дел. Он прощал ему это лестное отличие до тех пор, пока считал его полезным для своего проекта.
Волнение в Европе в момент разрыва с Россией и Австрией сделало еще более частыми совещания императора с Талейраном; когда Бонапарт уехал, чтобы открыть кампанию, министр отправился в Страсбург, чтобы явиться к императору в момент, когда французская пушка укажет начало переговоров.
В середине сентября в Сен-Клу распространился слух о предстоящем отъезде. Ремюза получил приказание отправиться в Страсбург, чтобы приготовить помещение для императора. Императрица так живо выразила желание следовать за своим супругом, что было решено, что она отправится в Страсбург вместе с Ремюза. За ними должен был следовать довольно многочисленный двор. Так как мой муж уезжал, мне очень хотелось сопровождать его, но здоровье мое становилось все хуже и хуже, и я была не в состоянии совершить путешествие. Мне пришлось подчиниться этой новой разлуке, которая была тоже тяжела, но совершенно в ином роде, чем прежняя. В первый раз со времени моего появления при этом дворе император отправлялся в армию. Опасность, которой он подвергался, снова вызвала всю мою привязанность к нему: я была не в силах в чем-нибудь упрекать его, когда он уезжал по такой важной причине, а мысль, что многих из тех лиц, которые уезжали вместе с ним, я, быть может, никогда не увижу, заставляла сжиматься мое сердце и вызывала порой слезы на глазах. Вокруг себя я видела жен и матерей, расстроенных, но не смеющих обнаружить свое горе, – такова была сила страха! Так же точно военные подчеркивали свою беззаботность – необходимую внешнюю деталь в их положении. Но в то же время среди них было немало тех, кто, достигнув достаточного состояния и не предвидя того почти гигантского возвышения, к которому приведет их война, искренно жалели о богатой и спокойной жизни, к которой привыкли в течение последних лет.
Во Франции со строгостью применялись рекрутские наборы, которые, конечно, волновали провинции. В Париже партии льстили себя надеждой, что многое будет пересмотрено, и с известной холодностью относились к новой славе, которую должна была приобрести наша армия. Но солдат и простой офицер полны были огня и надежды и летели к границам с тем рвением, которое предсказывает успех.
Двадцатого сентября в «Мониторе» появилась следующая заметка: «Император Австрии без переговоров и предварительных объяснений и без объявления войны захватил Баварию. Курфюрст удалился в Вюрцбург, где собралась вся баварская армия».
Двадцать третьего числа император явился в Сенат; он внес декрет, призывавший резервы за последние пять лет. Военный министр Бертье прочел донесение о предстоящей войне, а министр внутренних дел указал на необходимость охранять берега с помощью Национальной гвардии.
Речь императора была проста и внушительна, все ее одобрили; причины нашего недовольства против Австрии были подробно изложены в газетах. Без сомнения, Англия, если не обеспокоенная, то по крайней мере утомленная пребыванием наших войск у ее берегов, направила всю свою политику к тому, чтобы поднять против нас врагов на континенте. А создание Итальянского королевства, в особенности присоединение его к Французской империи, сильно обеспокоило австрийский кабинет. Не зная тайн дипломатии этого времени – от чего я очень далека, – невозможно понять, почему русский император порвал с нами. Возможно, торговые притеснения начали беспокоить его в его отношениях с Англией. Если угодно, я добавлю слова самого Наполеона, сказанные в то время: «Император Александр молод, ему хочется испытать славу и, как всем детям, идти по другой дороге, чем его отец».
Я не могу также объяснить нейтралитет, который сохранял прусский король; этот нейтралитет был для нас так выгоден, а для него так пагубен, что только отсрочил на год его неизбежную отмену. Мне кажется, Европа ошиблась: надо было лучше понять императора и искренне согласиться всегда уступать ему или тогда уже объединиться, чтобы уничтожить его в самом начале.
Но возвратимся к рассказу, от которого я отклонилась, чтобы говорить о вещах, превышающих мои силы.
Последние дни перед отъездом я провела в Сен-Клу. Император работал без перерыва; когда он бывал утомлен, то ложился днем на несколько часов и вставал среди ночи. В нем ощущалось какое-то спокойствие и даже больше благожелательности, чем в другое время. Принимал он по обыкновению, присутствовал на некоторых спектаклях и, вспомнив в Страсбурге комика Флери, послал ему награду за то, что за два дня до его отъезда тот сыграл в его присутствии «Лжеца» Корнеля.
Что касается императрицы, то основной линией ее поведения было полное доверие, которое жена Бонапарта должна была обыкновенно демонстрировать. Довольная тем, что сопровождает его и может, таким образом, избегнуть парижских толков, которые ее пугали, надзора братьев своего мужа и скуки дворца в Сен-Клу, радуясь новому зрелищу, она смотрела на кампанию как на путешествие и сохраняла спокойствие, которое было не результатом равнодушия, а, в сущности, лестной для Бонапарта уверенностью в том, что судьба ему не изменит. Заболевший Луи Бонапарт должен был оставаться в Париже и получил приказание, так же, как и его жена, устраивать приемы. Жозеф председательствовал в административных департаментах Сената. Живя в Люксембурге, он также должен был содержать двор.
Госпожа Мюрат удалилась в Нельи, где занималась украшением прелестного жилища. Мюрат сопровождал императора в армию. Талейран должен был оставаться в Страсбурге до нового приказания. Маре сопровождал императора: он был главным редактором бюллетеней.
Двадцать четвертого сентября император выехал и, не останавливаясь, прибыл в Страсбург. Я печально вернулась в Париж к своим детям, матери и сестре, обеспокоенной разлукой с Нансути, который командовал кавалерийской дивизией.
Недостаток в деньгах почти тотчас же дал себя знать; несколько позднее банковские платежи были отсрочены, серебро подорожало, внешняя торговля не удовлетворяла наших нужд, война ее совершенно приостановила и подняла цены на все, что привозилось к нам из-за границы. В этом, как говорили, была причина внезапных затруднений, которые нам пришлось испытывать.
К общей печали присоединялось еще беспокойство со стороны частных лиц. Многие знатные семьи хотели для своих детей военной карьеры и теперь дрожали за их судьбу. Как должны были ожидать родители бюллетеней, из которых могли узнать о потере самого дорого в мире! Какую муку создал Бонапарт матерям и женам на многие годы! Иногда он удивлялся, что под конец стал внушать ненависть; но могли ли простить ему столь долгое, мучительное беспокойство, так много пролитых слез, бессонных ночей и полных ужаса дней? Если бы он относился к людям внимательнее, то увидел бы, как сильно оскорбил самые естественные их чувства.
Перед отъездом, чтобы дать выход дворянству, он решил создать так называемую Почетную гвардию. Командование ею он поручил своему обер-церемониймейстеру. Доставляло удовольствие видеть старание, с которым Сегюр формировал этот корпус, усердие, с которым стремились некоторые лица войти в его состав, и тревогу, которую испытывали некоторые камергеры, воображавшие, что император одобрит перемену их красной одежды на военный мундир. Я никогда не забуду удивления и почти ужаса, внушенного мне Люсеем, префектом дворца, мягким и робким созданием, спросившим меня, не собирается ли Ремюза, отец семейства, бывший чиновник, человек старше сорока лет, посвятить себя вдруг военной карьере, которая открывалась для всех. Мы начинали привыкать к самым странным вещам, и я, несмотря на благоразумие, стала беспокоиться, а потому написала своему мужу, который ответил мне, что, к счастью, ни малейший воинственный пыл не овладел им и он надеется, что император еще признаёт и другие заслуги, кроме военных.
В это время император вернул нам, до известной степени, свое расположение. Уезжая из Страсбурга, он поручил моему мужу надзор за двором и домом императрицы. Это значило предоставить ему вести довольно спокойную жизнь, в которой не было других неудобств, кроме некоторой скуки. Но Талейран, живший в то время в Страсбурге, внес интерес в жизнь Ремюза. В это время началось их настоящее сближение, они часто виделись. Ремюза, от природы простой, скромный, сдержанный, очень выигрывал вблизи. Талейран разгадал тонкость его ума, правдивость суждений, прямоту взглядов и стал доверять ему, отдавая справедливость его искренности; с этой минуты министр так привязался к нему, что никакие превратности не смогли изменить этого в дальнейшем.
Между тем император быстро покинул Страсбург. Кампания началась 1 октября, и вся армия, как бы по волшебству перенесенная из Булони, перешла наши границы. Баварский курфюрст Максимилиан, отказавшийся пропустить войска по требованию австрийского императора, был окружен со всех сторон, но Бонапарт не замедлил примчаться к нему на помощь.
Вскоре появился первый бюллетень Великой армии, который объявлял об успехе при Донаувёрте и передавал нам прокламации императора и вице-короля Италии. Массена должен был помочь вице-королю и проникнуть в Тироль с соединенной (французской и итальянской) армией. К словам, которые предназначены были воспламенять наших солдат, прибавляли и печатали язвительные насмешки над врагом. Была напечатана речь, обращенная к жителям Австрии, с просьбой о доставке корпии, ее сопроводили следующим замечанием: «Мы надеемся, что австрийский император не нуждается в корпии, так как он благополучно возвратился в Вену». Оскорбления касались также министров и некоторых знатных австрийских вельмож, между прочим – графа Коллоредо, которого обвиняли в том, что им руководит жена, совершенно преданная английской политике. Эти мелочи были перемешаны в бюллетенях со словами действительно возвышенными, представлявшими скорее римское, чем французское красноречие, но производившими сильное впечатление.
Деятельность Бонапарта в этой кампании была изумительна. С самого начала он понял преимущества, которые дадут ему первые ошибки австрийцев, и предвидел свой успех. В середине октября он писал жене: «Успокойся, я обещаю тебе, что эта кампания будет самая короткая и самая блестящая». В Вертингене против неприятеля успешно действовала наша кавалерия, и здесь отличился Нансути. Другое блестящее дело произошло при Гюнцбурге, и вскоре австрийцы отступали уже повсюду.
Армия все более и более воодушевлялась и, по-видимому, не обращала внимания на надвигающуюся суровую зиму. Готовясь дать сражение, император говорил речь на мосту через реку Лех, под снегом, падавшим обильными хлопьями. «Но, – говорилось в бюллетене, – его слова были пламенны, и солдаты забывали о своих лишениях». Бюллетень заканчивался следующими пророческими словами: «Судьба кампании решена».
Взятие Ульма и капитуляция его громадного гарнизона окончательно повергли Германию в изумление и ужас и заставили смолкнуть злостную клевету, которую полиция едва могла сдерживать в Париже. Трудно помешать французам встать на сторону победителей, покрывающих себя славой, и мы начали интересоваться славой наших войск. Но недостаток в деньгах по-прежнему тяжело давал себя чувствовать: торговля страдала, на спектаклях было пусто, всеобщая нужда усиливалась, и всех поддерживала одна надежда, что за такой блестящей кампанией последует скорый мир.
После взятия Ульма император сам продиктовал следующую фразу бюллетеня: «Можно в нескольких словах выразить похвалу армии: она достойна своего вождя»[82]. Он писал Сенату, посылая ему знамена, отнятые у неприятеля, что курфюрст возвратился в свою столицу. Были опубликованы послания с целью оправдать эту новую войну и содействовать более быстрому рекрутскому набору. Епископы снова стали повторять, цитируя текст из Священного Писания, что император находится под особым покровительством бога войны[83].
Жозеф Бонапарт передал письмо своего брата в Сенат. Сенат постановил, что в ответ на это несколько его членов отвезут поздравительный адрес на главную квартиру.
Императрицу в Страсбурге посетили многие германские принцы, которые увеличили ее двор и выразили ей свое почтение. Она показывала им с естественной гордостью письма императора, в которых он заранее объявлял ей о всех предстоящих победах; и приходилось удивляться этому необыкновенному предвидению или признать силу судьбы, которая не изменила Бонапарту ни на минуту.
Маршал Ней отличился в деле при Эльхингене, и император настолько согласился, что честь победы принадлежит ему, что позднее, создавая титул герцогов, пожелал, чтобы маршал носил имя герцога Эльхингенского.
Я употребляю выражение «согласился», так как известно, что Бонапарт не всегда был справедлив в признании славы за своими генералами. Однажды в момент откровенности, какую император иногда позволял себе, я слышала от него, что он любит признавать славу только за теми, кто не может быть ею увенчан. Ему случалось, следуя своей политике по отношению к подчиненным или в зависимости от доверия к ним, молчать о некоторых победах или изображать успехами некоторые ошибки маршалов. Иногда генерал узнавал из бюллетеня о действии, которого он никогда не совершал, или о речи, которую никогда не произносил. Другой видел вдруг, как его превозносили газеты, и искал, по какой причине заслужил это внимание. Порой старались протестовать против забвения или против искажения событий, но каким способом можно вернуться к тому, что произошло, прочитано и уже забыто благодаря более свежим новостям? Ведь быстрота Бонапарта на войне каждый день давала что-нибудь новое. Тогда он предписывал молчание протестующим, а если надо было умиротворить оскорбленного вождя, ему дарилась сумма денег или добыча, отнятая у неприятеля, или разрешение взять контрибуцию, – и так заканчивалась распря.
Эта хитрость, которой Бонапарт ловко пользовался по отношению к своим маршалам и главным генералам, может до известной степени оправдываться трудностью сдержать такое множество лиц со столь разнообразными характерами, да еще и предъявляющих подобные претензии. Император прекрасно знал их способности, знал, чем каждый из них мог быть ему полезен, был постоянно вынужден, благодаря их за услуги, сдерживать их гордость и зависть, должен был пользоваться для этого всеми способами и в особенности старался не упустить случая показать им, насколько их судьба находится в его руках. Когда это ему удавалось, он был уверен, что можно больше не беспокоиться из-за них и оплатить их службу соответствующей ценой.
В общем, маршалы не могли пожаловаться, что он не платил им по очень высокой цене. Награды были громадны, а продолжительная война довела их надежды до высшей степени, они не удивлялись, делаясь герцогами и принцами, и кончили тем, что только королевство казалось им достойным завершением их карьеры. Им были розданы громадные суммы, им разрешали всевозможные вымогательства по отношению к побежденным. Многие из маршалов составляли себе огромное состояние, и если эти состояния уничтожились вместе с правительством, при котором создались, то это потому, что легкость их достижения привела к расточительной их трате благодаря уверенности, что никогда не иссякнет способ вновь приобрести их.
В этой первой кампании Наполеона армия была еще подчинена дисциплине, от которой позднее отклонилась, однако побежденные страны были отданы в жертву хищничеству победителя, и многие австрийские вельможи и принцы поплатились настоящим грабежом своих замков за обязанность дать помещение на одну ночь, иногда даже только на несколько часов, офицеру французской армии. Солдат был сдержан, казалось, всюду установлен порядок, но невозможно было помешать маршалу, уезжающему из замка, увезти с собой то, что он счел подходящим. По окончании этой войны жена маршала *** рассказывала нам, смеясь, что муж, зная ее любовь к музыке, прислал ей громадную коллекцию нот, найденную у какого-то немецкого принца; она говорила нам с той же наивностью, что он послал ей такое количество ящиков, наполненных люстрами и венским хрусталем, собранным отовсюду, что она не знала, куда их девать.
Но, сдерживая твердой рукой притязания своих генералов, император делал все, чтобы поощрить и удовлетворить солдата. После взятия Ульма декретом было объявлено, что истекший месяц будет считаться за целую кампанию.
В День Всех Святых в соборе Парижской Богоматери со всей торжественностью был исполнен Те Deum, а Жозеф устроил праздник в честь наших побед.
Вскоре нельзя уже было сомневаться в том, что австрийский император дорого заплатит за эту чудесную кампанию. Русская армия ускоренным маршем шла ему на помощь; но она не соединилась еще с австрийцами, а тем временем император уже разбивал их. В то время говорили, что император Франц сделал большую ошибку, начав эту войну раньше, чем император Александр мог явиться ему на помощь. Бонапарт заручился обещанием короля Неаполитанского, что тот сохранит нейтралитет, и согласился освободить его от французских гарнизонов, присутствие которых королю приходилось переносить. Было издано несколько декретов, относящихся к французской администрации, а бывший генуэзский дож был назначен сенатором.
Император очень любил казаться одновременно занятым различными делами, любил показать, что может повсюду бросать свой орлиный взгляд. По этой же причине, а также из-за ревнивого беспокойства, он написал министру полиции письмо, рекомендуя ему наблюдать за тем, что сам называл «Сен-Жерменским предместьем», то есть за той частью французского дворянства, которая оставалась враждебной ему; он говорил, что знает о речах, произносимых против него в его отсутствие, и готовится по возвращении отомстить с блеском.
Когда Фуше получал подобные приказания, он имел обыкновение требовать к себе тех лиц, мужчин и женщин, которых прямо обвиняли. Потому ли, что он действительно считал мелочным гнев императора и думал, как и говорил, что было ребячеством желание помешать французам говорить, потому ли, что он хотел поставить себе в заслугу свою умеренность, – но, посоветовав проявлять больше осторожности тем, кого призвал к себе, Фуше кончал признанием, что император слишком отдается мелочному беспокойству, и таким образом приобретал репутацию справедливости и умеренности, которая сглаживала первые неприятные впечатления.
Император, зная об этом поведении, часто ставил его в вину Фуше и втайне не доверял человеку, так старательно щадящему различные партии.
Наконец 12 ноября наша победоносная армия вступила в Вену. В газетах были помещены очень подробные рассказы об этом событии. Эти рассказы приобретают особенный интерес ввиду того, что продиктованы самим Бонапартом, а он очень часто любил сочинять после события подробности и анекдоты, которыми желал поразить умы.
«Император, – говорилось в бюллетене, – устроился во дворце в Шенбрунне; он работает в кабинете, украшенном статуей Марии-Терезии. Увидав ее, он воскликнул: «Ах, если бы эта великая королева еще жила, она не допустила бы, чтобы ею руководили интриги такой женщины, как госпожа Коллоредо! Всегда окруженная преданными вельможами своей страны, она знала волю своего народа. Она не отдала бы своей провинции на грабеж московитов…»»
Между тем радость Бонапарта по поводу успехов была омрачена дурным известием: адмирал Нельсон разбил наш флот при Трафальгаре. Французы совершали на море чудеса, но не смогли избежать поражения, действительно ужасного.
Это событие произвело в Париже дурное впечатление, навсегда отвратило императора от каких бы то ни было морских предприятий и вызвало в нем такое предубеждение против французского флота, что с этого времени не было никакой возможности добиться от него какого-нибудь интереса или внимания к нему. Напрасно моряки и военные, отличившиеся в этот ужасный день, старались добиться какого-нибудь вознаграждения за перенесенную опасность, – им было почти запрещено когда бы то ни было вспоминать это роковое событие; и когда они позднее хотели добиться некоторых милостей, то никогда не ставили на вид свою изумительную храбрость, которую оценили только донесения англичан.
Приехав в Вену, император немедленно вызвал к себе Талейрана, поскольку предвидел, что начнутся переговоры: австрийский император только что выслал своих министров. Возможно, наш министр уже составил в голове проект сделать баварского курфюрста королем, увеличив его государство, а также проект женитьбы принца Евгения.
Ремюза получил приказание приехать в Париж. Он должен был привезти императорские украшения и бриллианты Короны и затем перевезти их в Вену. Я видела его только минуту и узнала, с новым огорчением, что он поедет дальше. По возвращении в Страсбург он застал приказание тотчас же отправиться в Вену, а императрица – приехать в Мюнхен со всем своим двором.
Ничто не может сравниться с теми почестями, которые оказывали императрице в Германии: принцы и курфюрсты теснились толпой на ее пути. Баварский курфюрст в особенности не щадил ничего, чтобы она была довольна приемом. Императрица осталась в Мюнхене, чтобы дождаться возвращения мужа.
Ремюза, приехав на место своего назначения, предавался очень печальным размышлениям о стране, по которой приходилось проезжать. Она представляла собой пепелище после сражений, свидетельницей которых была. Разрушенные деревни, дороги, покрытые трупами и следами разрушения, рисовали ему все ужасы резни. Бедствия побежденного народа увеличивали опасности путешествия в довольно суровое время года. Все соединилось, чтобы омрачить воображение человека, друга человечества, готового оплакивать разрушение, являющееся следствием жестоких наклонностей победителей. Письма мужа, переполненные этими грустными размышлениями, глубоко огорчили меня и ослабили энтузиазм, начавший снова овладевать мной благодаря успеху, который нам изображали только с блестящей стороны.
Приехав в Вену, Ремюза уже застал там императора. Переговоры длились недолго, и наша армия двинулась вперед. Талейран и Маре оставались во дворце в Шенбрунне, где жили без малейшего взаимного дружелюбия. Привычка императора к Маре доставляла последнему известное влияние, которое он сохранял, как я уже говорила, при помощи обожания, истинного или притворного, выражавшегося в каждом его поступке, в каждом его слове. Талейран иногда забавлялся этим и позволял себе насмехаться над государственным секретарем, который, конечно, затаил в себе самое крайнее раздражение. Он очень следил за собой в присутствии Талейрана и очень не любил его.
Талейран, сильно скучавший в Вене, был очень рад приезду Ремюза, и их близость увеличилась благодаря праздной жизни, которую пришлось вести обоим. Очень возможно, что Маре, писавший регулярно императору, сообщил ему об этой новой связи и она не понравилась этому уму, всегда подозрительному, готовому видеть важные мотивы в мельчайших поступках.
Талейран, не находя никого, кроме Ремюза, кто мог бы понять его, открывал моему мужу свои политические взгляды по поводу побед наших войск. Очень желая упрочить покой Европы, он боялся увлечения императора победой, а также и того, что желание военных, его окружающих, привыкших к войне, приведет к ее продолжению. «Вы увидите, – говорил он, – что в момент заключения мира мне труднее всего будет сговориться с самим императором и придется потратить много слов, чтобы победить опьянение порохом».
В этой откровенной беседе, которой с удовольствием отдавался Талейран, он говорил об императоре без иллюзий и искренне признавал громадные недостатки его характера, но, однако, верил в его призвание бесповоротно закончить революцию во Франции, установить прочное правительство и надеялся руководить им в его политике относительно Европы. «Если мне не удастся уговорить его, я сумею по крайней мере сдержать его против его желания, – говорил Талейран, – и принудить его к некоторому отдыху». Ремюза был в восторге, встретив у искусного министра, пользующегося доверием императора, такие разумные планы, и готов был все более и более уважать его и доверять ему; то же должен был чувствовать каждый француз по отношению к человеку, желавшему сдержать безграничное честолюбие властителя. Муж часто писал мне, как был доволен тем, что узнал благодаря близости с Талейраном, а я начинала интересоваться человеком, который смягчал для моего мужа тяготы разлуки и скучной жизни.
В моей одинокой и беспокойной в то время жизни письма мужа составляли единственное удовольствие и всю радость моего существования. Хотя из предосторожности он не вдавался в подробности, я видела, что он был доволен своим положением. Он рассказывал мне о том, что ему приходилось видеть, рассказывал о поездках по Вене, которая казалась ему большим и прекрасным городом, о своих посещениях известных лиц, поразивших его своей привязанностью к императору Францу. Добрые жители Вены, хотя и побежденные, громко выражали свое желание вернуться под отеческое управление своего государя и, жалея его за его неудачи, не высказывали ему ни единого упрека.
Жизнь в Вене была упорядочена, гарнизон поддерживал самую строгую дисциплину, и у жителей не было особенных поводов жаловаться на своих победителей. Французы даже имели некоторые развлечения: они посещали спектакли, и в Вене Ремюза услышал знаменитого итальянского певца Крешентини и заключил с ним договор, по которому тот становился артистом императора.
Глава XV 1805 год
Битва при Аустерлице – Император Александр – Переговоры – Д’Андре – Опала Ремюза – Дюрок – Савари – Мирный трактат
Появление русской армии и тяжелые условия, предложенные победителем, привели австрийского императора к решению еще раз попытать счастья на поле битвы. Собрав свои войска и соединившись с императором Александром, он ожидал Бонапарта, который шел ему навстречу. Эти две громадные армии встретились в Моравии близ маленькой деревни Аустерлиц, совершенно до тех пор неизвестной и сделавшейся знаменитой благодаря столь замечательной победе. Бонапарт решил дать сражение 1 декабря, на другой день после годовщины своего коронования.
Князь Долгоруков был послан царем в нашу главную квартиру с предложениями мира, которые, если верить императорским бюллетеням, не могли быть приняты победителем, владевшим столицей неприятеля. Если верить этому бюллетеню, русские требовали возвращения Бельгии и передачи Железной короны другому лицу.
Посланного заставили проехать мимо части армии, нарочно оставленной в беспорядке; он сам был введен в заблуждение и ввел в заблуждение императоров.
В бюллетене рассказывалось, как император, возвращаясь в свой бивуак вечером, сказал: «Вот прекраснейший вечер в моей жизни. Но мне грустно думать, что я потеряю немалое количество этих храбрецов. Я чувствую по тому, как мне это больно, что они действительно мои дети; в самом деле, я ставлю себе в упрек это чувство, потому что боюсь, как бы оно не сделало меня неспособным вести войну».
На следующий день, обращаясь с речью к солдатам, он сказал: «Нужно окончить эту кампанию громовым ударом. Если Франция не может достигнуть мира на иных условиях, кроме предложенных адъютантом Долгоруковым, Россия не получит его, хотя бы ее армия стояла лагерем на высотах Монмартра».
Но в Книге судеб было написано, что настанет день, когда эти армии расположатся лагерем на этих высотах и Александр примет в Бельвиле посланного Наполеона с предложением такого мира, какой он сам продиктует.
Я не буду здесь повторять рассказ об этой битве, действительно сделавшей честь нашей армии. Замечу только, что русский император с благородной искренностью, отлично характеризующей его, сказал, что ничто не может сравниться с распоряжениями императора, которые привели к успеху этого дня, с искусством его генералов и рвением французских солдат. Отборное войско трех наций билось с ожесточением, два императора должны были бежать, чтобы избегнуть плена, и кажется, что, если бы на другой день не было переговоров, русскому императору было бы очень трудно спастись.
Бонапарт почти на поле битвы продиктовал сообщение обо всем, что произошло в первые три дня декабря. Он сам написал известную часть этого сообщения, и это донесение, составленное поспешно, но подробно, очень интересно и теперь – написанное на двадцати пяти страницах, покрытое помарками, ссылками, беспорядочное, порой неясное. Его отослали в Вену Маре, приказав быстро отредактировать и поместить в «Мониторе».
Как только Маре получил этот пакет, он поспешил передать его Талейрану и Ремюза. Они жили тогда во дворце австрийского императора, и все трое заперлись в апартаментах императрицы, занимаемых Талейраном, чтобы разобрать и привести в порядок этот пакет. Почерк императора, очень неразборчивый, и почти полное отсутствие орфографии делали этот труд очень долгим. Затем надо было установить порядок событий, заменить некоторые неправильные выражения более подходящими и, наконец, по мнению Талейрана и к великому ужасу Маре, выбросить некоторые слова, слишком оскорбительные для иностранных государей, и слишком явные похвалы, которые Бонапарт применял к самому себе. Однако постарались сохранить некоторые подчеркнутые фразы, которым император придавал большое значение. Эта работа продолжалась несколько часов и заинтересовала Ремюза, давая ему возможность наблюдать, как различны системы службы у двух министров императора.
После сражения император Франц попросил свидания, которое произошло в бивуаке.
– Это единственный дворец, – говорил Бонапарт, – где я живу в течение двух месяцев.
– Но вы так хорошо им пользуетесь, – отвечал австрийский император, – что он должен вам нравиться.
Уверяют, как передает бюллетень, что император сказал о Франце I: «Этот человек заставляет меня делать ошибку: я должен был бы воспользоваться победой и взять в плен всю русскую и австрийскую армии; но что делать, по крайней мере будет пролито немного меньше слез».
Кажется, из этого же бюллетеня ясно, что царя не тронули. Вот как было рассказано о визите, который нанес ему адъютант Савари:
«Адъютант Наполеона сопровождал австрийского императора, чтобы узнать, согласился ли царь на капитуляцию. Он нашел остатки русской армии без артиллерии, без обозов и в ужасном беспорядке. Была полночь; генерал Меерфельд был отброшен от Гёдинга маршалом Даву, русская армия была окружена, ни один человек не мог бы спастись. Князь Чарторижский ввел генерала Савари к императору.
– Скажите вашему господину, – заявил ему русский император, – что я ухожу, что вчера он совершил чудеса, что этот день увеличил мое восхищение им, что он – избранник Неба, а моя армия сможет сравниться с его армией только через сто лет. Но могу ли я удалиться безопасно?
– Да, ваше величество, – отвечал ему генерал, – если ваше величество признает то, о чем императоры Франции и Австрии договорились во время свидания.
– А что именно?
– Что армия вашего величества возвратится к себе в установленный императором срок, что она очистит Германию и австрийскую Польшу. При соблюдении этого условия я получил приказание от императора возвратиться к нашему авангарду, который вас уже обошел, и подготовить охрану для вашего отступления, так как император желает оказать уважение другу Первого консула.
– Какая гарантия нужна для этого?
– Ваше величество, ваше слово.
– Я даю его вам.
Тотчас же послали к маршалу Даву и передали ему приказание прекратить всякое движение войск и оставаться на месте. Пусть это великодушие французского императора не будет забыто в России так же скоро, как и благородный прецедент, когда император возвратил шесть тысяч человек императору Павлу с такой любезностью и уважением по отношению к нему!
Генерал Савари целый час проговорил с русским императором и нашел его таким, каким должен быть человек сердечный и умный, какие бы неудачи он ни перенес.
Монарх спросил у него о подробностях этого дня.
– Ваши силы были меньше моих, – сказал он, – однако вы оказались сильнее на всех пунктах атаки.
– Ваше величество, – отвечал генерал, – таковы военное искусство и плоды пятнадцатилетней славы. Это сороковая битва, данная императором.
– Это правда, это великий человек в военном деле! Я не в первый раз был в огне, но никогда не претендовал равняться с ним.
– Ваше величество, когда у вас будет достаточно опыта, вы, быть может, его превзойдете.
– Я удаляюсь в свою столицу. Я явился на помощь австрийскому императору; он передал мне, что доволен этим, я – также».
Тогда люди часто задавали себе вопрос, почему император и в самом деле не воспользовался победой, а согласился на мир после этого сражения; желание уменьшить количество пролитых слез, указанное в «Мониторе» в качестве причины, конечно, не могло быть истинным мотивом его сдержанности. Можно ли предположить, что день Аустерлица стоил Бонапарту слишком дорого и он не желал рискнуть еще раз подобным днем, а русская армия была уж не так совершенно разбита, как ему хотелось бы верить? Или, может быть, и на этот раз было верно то, что он сказал сам, когда его спросили, почему он приостановил победное шествие после трактата в Леобене: «Дело в том, что я играл в двадцать один и остановился на двадцати»?.. Можно ли думать, что Бонапарт, став императором всего год назад, еще не решался жертвовать кровью народов, как он это делал позднее? Или, доверяя вполне Талейрану, охотнее уступал умеренной политике своего министра? Может быть, он считал, что эта кампания более ослабила австрийское могущество, чем это было на самом деле; ему случалось говорить по возвращении в Мюнхен: «Я оставил слишком много подданных императору Францу».
Каковы бы ни были его мотивы, нужно поставить ему в заслугу эту умеренность, которую он сумел сохранить среди армии, разгоряченной победой и исполненной в эту минуту рвения продолжать войну. Маршалы и все офицеры, окружавшие императора, старались побудить его продолжать кампанию: уверенные в постоянных победах, они требовали новых сражений и, колебля намерения своего вождя, причиняли Талейрану все те затруднения, которые он предвидел.
Министр, посланный в главную квартиру, вынужден был бороться с настроением армии. Один он стоял за то, что надо заключить мир, что австрийское мужество необходимо для европейского равновесия. С этого времени он часто повторял: «Ослабив силы центра, как помешаете вы флангам, например, русским, броситься на центр?» Ему возражали, ссылаясь на частные интересы, на личные ненасытные желания воспользоваться всеми выгодами продолжения войны, а некоторые, довольно хорошо знавшие характер императора, говорили: «Если мы не закончим сразу этого дела, вы увидите, что позднее мы начнем новую кампанию».
Что касается императора, то, возбуждаемый столь различными мнениями и прежней любовью к битвам, раздраженный вечным недоверием, он иногда подозревал Талейрана в том, что он, быть может, находится в сношениях с австрийским министром и жертвует ему интересами Франции. Талейран отвечал с твердостью, которую всегда проявлял в важных делах, придя к определенному мнению: «Вы ошибаетесь. Именно интересам Франции я хочу пожертвовать интересами ваших генералов, с которыми не считаюсь. Подумайте о том, что вы уничтожаете себя, рассуждая подобно им; вы стоите достаточно высоко, чтобы быть не только военным». Этот способ возвышать Бонапарта, уничтожая его прежних сотоварищей по оружию, льстил императору, и таким ловким способом Талейрану удавалось достигать своей цели.
Наконец он уговорил императора послать его в Пресбург, где должны были проходить переговоры; но что странно и даже, может быть, небывало, – это то, что император, давая Талейрану полномочия для заключения трактата, не побоялся сам обмануть его и доставить таким образом наибольшие затруднения, какие когда-либо испытал тот, кто вел переговоры.
Во время переговоров двух императоров после сражения Франц согласился отдать Венецию, но просил, чтобы Тироль, большая часть которого была завоевана Массена, был ему возвращен. Император, несмотря на все свое самообладание, несколько смущенный и как бы смягченный присутствием этого побежденного государя, сам обсуждая свои интересы на поле битвы, еще покрытом его подданными, принесенными в жертву ради него, не мог оставаться непоколебимым. Он согласился отдать Тироль. Но как только свидание закончилось, он раскаялся в этом и, передавая Талейрану подробности принятых условий, скрыл от него все, что касалось этой провинции.
После отъезда своего министра в Пресбург император возвратился в Вену в Шенбруннский дворец. Здесь он занялся смотром армии, восстанавливал понесенные потери, реформируя корпуса по мере того, как они подвергались осмотру. Гордый и удовлетворенный кампанией, он ко всем относился тогда довольно добродушно, хорошо обращался со своим двором и охотно описывал чудеса этой войны.
Только одно порой вызывало у императора проблески неудовольствия: он удивился, как мало впечатления производило его присутствие на жителей Вены и как трудно ему привлечь их к себе, хотя он приглашал их на представления и обеды во дворец, в котором жил. Бонапарт искренне удивлялся их привязанности к побежденному государю, стоящему гораздо ниже его. Однажды он говорил об этом довольно откровенно Ремюза: «Вы провели некоторое время в Вене, вы могли их наблюдать. Какой это странный народ, как бы нечувствительный к славе и неудачам». Ремюза, который с большим уважением отнесся к преданному и привязчивому характеру венцев, начал хвалить их, отвечая императору и описывая их преданность своему государю.
– Однако, – продолжал Бонапарт, – говорили же они обо мне! Что они думают?
– Ваше величество, – отвечал Ремюза, – они говорят: «Император Наполеон – великий человек, это правда, но наш император бесконечно добр, и мы можем любить только его».
Эти чувства, сохранившиеся в несчастье, не могли быть поняты человеком, который ценил только успех. Когда Бонапарт узнал, по возвращении в Париж, о трогательной встрече, устроенной жителями Вены своему побежденному императору, он воскликнул: «Что за народ! Если бы я подобным образом возвращался в Париж, меня, конечно, встретили бы иначе».
Через несколько дней после возвращения императора вдруг возвратился и Талейран, что вызвало всеобщее удивление. Австрийские министры в Пресбурге сказали ему, конечно, о Тироле, и, принужденный признать, что не имеет никаких инструкций по этому поводу, он явился за этими инструкциями очень недовольный, видя себя обманутым[84]. Когда он сказал об этом императору, тот ответил, что в минуту любезности, о которой сожалеет, он согласился исполнить просьбу императора Франца, но твердо решил не держать слова. Ремюза, который в то время часто виделся с Талейраном, говорил мне, что Талейран был действительно возмущен. Он не только предвидел возобновление войны, но признавал, что французский кабинет запятнал себя вероломством, стыд которого частично падал на него. Его поездка в Пресбург становилась смешной, показывая, как мало влияния имел он на своего господина, и разрушила бы его личный авторитет, который он всегда старался поддерживать в Европе.
Маршалы снова начали призывать к войне. Мюрат, Бертье, Маре – все эти льстецы императора, видя, в какую сторону он склоняется, толкали его к тому, что называли «славой». Талейран переносил упреки со всех сторон и часто с горечью говорил моему мужу: «Вы один дружески относитесь ко мне; кажется, немного надо, чтобы все эти люди считали меня за изменника». Его поведение, его терпение в это время делают ему бесконечную честь. Он достиг наконец того, что император признал необходимым заключить мир, и, получив от него желаемое слово, хоть и не добившись возвращения Тироля, уехал в Пресбург во второй раз, более довольный. Прощаясь, он сказал Ремюза: «Я улажу дело Тироля и сумею теперь заставить императора заключить мир, пусть и помимо его желания».
Во время своего пребывания в Шенбрунне Наполеон получил письмо от принца Карла, который писал ему, что восхищается им, желал бы видеть его и говорить с ним в течение нескольких минут. Бонапарт, польщенный этим знаком уважения со стороны человека, известного в Европе, назначил местом свидания маленький охотничий домик в нескольких лье от дворца, приказал Ремюза присоединиться к свите и привезти с собой очень богатую шпагу. «После нашего разговора, – сказал он своему камергеру, – вы дадите ее мне: я хочу подарить ее на прощание принцу».
Когда император действительно встретился с принцем, они заперлись вдвоем на некоторое время, и, когда Бонапарт вышел, мой муж подошел к нему, как это было приказано. Но император, живо отталкивая его, сказал, что он может унести шпагу, а возвратясь в Шенбрунн и говоря о принце без особенного уважения, заявил, что считает его за человека крайне посредственного, недостойного подарка, который он хотел ему сделать[85].
Мне кажется, что я не должна умолчать об одном обстоятельстве, касающемся лично Ремюза и еще ослабившем благосклонность, которую император, казалось, готов был ему оказывать. Я часто замечала, что судьба мешала нам пользоваться преимуществами нашего положения, и я благодарю Провидение, что оно избавляло нас от еще более ужасного падения.
В первые годы Консульства королевская партия долго сохраняла надежду на то, что во Франции для нее вновь появятся благоприятные условия, и старалась поддерживать сношения с теми, кто оставался в стране. Д’Андре, бывший депутат Учредительного собрания, эмигрант, преданный делу, взял на себя миссию при дворах некоторых европейских правителей – миссию, о которой Бонапарт прекрасно знал. Д’Андре – провансалец, как и Ремюза, его товарищ по колледжу и, подобно ему, магистрат до революции, не поддерживая с ним отношений, не мог, однако, сделаться ему совершенно чужим. Разочарованный в своих бесплодных попытках, считая дело Империи окончательно выигранным, утомленный скитальческой жизнью и происходящими отсюда затруднениями, он мечтал возвратиться на родину. Находясь в Венгрии во время кампании 1805 года, он послал свою жену в Вену и просил генерала Матье Дюма, бывшего друга, помочь ему добиться возвращения. Генерал Дюма, несколько испуганный подобной миссией, обещал, однако, сделать несколько попыток и уговорил госпожу д’Андре повидать Ремюза и заинтересовать его этим делом.
Однажды утром она явилась к моему мужу; он принял ее как жену старого друга, был тронут ее рассказом о положении д’Андре и согласился просить о его возвращении. Ремюза не знал всех обстоятельств дела (а между тем они могли сделать императора неумолимым) и притом верил, что победы, утвердившие могущество Бонапарта, должны склонить его к милосердию.
Положение главного хранителя гардероба давало Ремюза право входить к императору в то время, когда он совершал свой туалет. Он поспешил спуститься в императорские апартаменты и, застав его полуодетым и в довольно хорошем настроении, рассказал ему о визите госпожи д’Андре и о своей просьбе.
При одном имени д’Андре лицо императора чрезвычайно омрачилось.
– Знаете ли вы, – сказал он, – что вы просите за моего смертельного врага?
– Нет, ваше величество, – отвечал Ремюза, – я не знаю, есть ли действительно у вашего величества причины быть недовольным им; но на этот раз я осмелюсь просить его помилования. Д’Андре в бедности и в изгнании, мне кажется, он желает только спокойно доживать свой век на нашей общей родине.
– Вы находитесь в сношениях с ним?
– Нет, ни в каких, ваше величество.
– Почему же вы им интересуетесь?
– Ваше величество, он провансалец, он воспитывался вместе со мной в коллеже в Жюльи, он избрал тот же род деятельности, что и я, и был моим другом.
– Вам очень повезло, – возразил император, бросая на Ремюза свирепый взгляд, – что у вас есть такие мотивы для извинения. Никогда не говорите мне больше о нем и знайте, что, если бы он был в Вене и я мог бы схватить его, он был бы повешен в двадцать четыре часа.
Сказав это, император повернулся к Ремюза спиной.
Везде, где император появлялся со своим двором, он имел обыкновение каждое утро устраивать прием. Уже одетый, он проходил в залу и призывал тех, кого называл своими служащими. Это были придворные чины – Ремюза, как хранитель гардероба и первый камергер, а также генералы его гвардии.
Второй утренний прием составлялся из камергеров, генералов армии, а в Париже – и из префекта Парижа, префекта полиции, принцев и министров. Иногда император принимал их всех молча, только здороваясь и тотчас отпуская их. Иногда же, когда это было нужно, отдавал приказания и нисколько не боялся раздражить того или другого из тех, кем был недоволен, и не обращал внимания на неудобство упрекнуть или получить упрек при стольких свидетелях.
Расставшись с Ремюза, он велел призвать присутствовавших на приеме и, отослав всех, надолго удержал генерала Савари. После этого разговора Савари разыскал моего мужа в одном из салонов дворца, отвел его в сторону и начал с ним беседовать относительно того, как ему следует вести себя. Эта беседа показалась бы очень странной всякому, кто не знал наивных принципов этого генерала.
– Идите, идите сюда, – сказал он Ремюза, подходя к нему, – я хочу поздравить вас. Вы рискнули недавно большой игрой, говоря императору о д’Андре; но все это можно поправить. Где он теперь?
– Я думаю, в Венгрии. По крайней мере, так мне сказала его жена.
– Ну же, не притворяйтесь! Император думает, что он в Вене, он уверен, что вы знаете, где д’Андре скрывается, и желает, чтобы вы сказали это.
– Я уверяю вас, что совершенно этого не знаю. Я никогда не был с ним в переписке. Его жена явилась ко мне сегодня утром в первый раз. Она просила меня переговорить с императором о ее муже, и я это сделал. Вот и все.
– Хорошо! Если это так, пошлите за ней опять. Она не может не доверять вам, поговорите с ней и постарайтесь выведать у нее, где скрывается ее муж. Вы не можете представить себе, какое удовольствие доставите императору этой услугой.
Ремюза, до последней степени смущенный тем, что слышал, не мог удержаться от выражения крайнего изумления.
– Как? – воскликнул он. – Вы делаете мне подобное предложение? Я сказал императору, что был другом д’Андре; вы также это знаете, и вы хотите заставить меня изменить ему, предать его, – и все это посредством его жены, доверившейся мне!
Савари, в свою очередь, был удивлен негодованием Ремюза.
– Какое ребячество! Вы подумайте, ведь вы упустите свое счастье! Император не раз сомневался в том, что вы ему преданы так, как он того хочет; вот случай рассеять его подозрение, и вы будете очень неловки, если им не воспользуетесь.
Беседа долго продолжалась в том же духе. Конечно, Ремюза был непоколебим. Он уверил Савари, что не только не пошлет за госпожой д’Андре, но постарается ее не принимать, и передал ей через генерала Дюма о неудаче миссии. Но Савари в течение целого дня возвращался к тому же, повторяя фразу:
– Вы упускаете ваше счастье; признаюсь, я не понимаю вас.
– Ну и прекрасно! – отвечал Ремюза.
В самом деле, император затаил неудовольствие по поводу этого отказа и принял по отношению к моему мужу сухой и ледяной тон, каким говорил всегда, когда был недоволен. Ремюза переносил немилость спокойно и сказал о ней только Дюроку. Последний лучше понял его отвращение к подобному поступку и только сожалел, что этот случай скомпрометировал моего мужа в глазах его господина. Он поздравил его с этим поступком, который казался ему актом необыкновенной храбрости, так как неповиновение императору было для него самой невероятной вещью в мире.
Странным человеком был Дюрок. Не широкого ума, при этом душа его, чувства и мысли были замкнуты в определенном круге – пожалуй, по собственной его воле. В характере его имелись известная ловкость и умение в мелочах. Он был более подчинен Бонапарту, чем предан, и думал, что, находясь возле императора, можно делать все, только чтобы повиноваться ему пунктуальнейшим образом. Дюрок не позволял себе ни единой мысли, выходящей за пределы того, что он должен был делать на своем посту. Холодный, молчаливый, непроницаемый относительно всех тайн, доверенных ему, он, кажется, привык никогда не размышлять об отдаваемых ему приказаниях. Он не льстил императору и не старался понравиться ему доносами, часто бесполезными, но удовлетворявшими природное недоверие императора. Подобно верному зеркалу, он отражал перед своим господином все, что происходило в его присутствии, и передавал слова императора с теми же оттенками и в тех же выражениях, в каких они были сказаны. Если бы кто-нибудь должен был умереть на его глазах в результате данного ему поручения, он исполнил бы его с невозмутимой точностью. Я не думаю, чтобы он стал решать вопрос, был император великим человеком или нет, – это был господин, вот и все. Его подчинение делало его очень полезным императору; ему была поручена вся внутренняя жизнь дворца, управление домом, все расходы; и все это было отрегулировано в точнейшем порядке, необыкновенно экономно, однако с большим великолепием.
Маршал Дюрок женился на испаночке, очень богатой, довольно некрасивой, но неглупой, дочери испанского банкира Герваса. Этому Гервасу были поручены некоторые второстепенные дипломатические дела, затем он был сделан маркизом Абруэнара и, наконец, министром в Испании, в правление Жозефа Бонапарта. Госпожа Дюрок была воспитана у госпожи Кампан, как госпожа Луи Бонапарт и другие дамы двора. Муж жил с ней хорошо, но без всякой близости, которая часто предоставляет возможность откровенной беседы тем, кто вынужден переносить стеснения двора. Он не позволял ей иметь самостоятельное мнение ни о чем из того, что совершалось перед ее глазами, не позволял завязывать какие бы то ни было отношения.
Что касается его самого, то и у него не было никаких. Я никогда не встречала никого, менее нуждавшегося в дружбе, в удовольствии беседы; Дюрок не имел никакого представления о жизни в обществе, не знал, что такое любовь к литературе и искусству. Это равнодушие ко всему, эта пунктуальность повиновения без малейшего энтузиазма делали его человеком очень интересным для наблюдений. Он пользовался при дворе большим уважением, или по крайней мере необыкновенным влиянием. Все зависело от него; он принимал приказания каждого, никогда не высказывал своего мнения, тем более не давал советов, но выслушивал внимательно, передавал то, что ему поручали, и никогда не проявлял ни малейшего недоброжелательства, как и ни малейшего интереса[86].
Бонапарт, талантливо извлекавший из людей пользу, очень ценил службу человека, настолько отстраненного. Он мог возвышать его без всяких неудобств и действительно вознаграждал почестями и богатствами. Но дары императора для Савари, тоже очень значительные, вытекали из других побуждений. «Этого человека, – говорил он, – надо постоянно подкупать!» И странная вещь: несмотря на это мнение, он продолжал доверять Савари или по крайней мере верить всем его рассказам. Бонапарт знал, что тот никогда не откажется ни от одного поручения, и порой говорил о нем: «Если бы я приказал Савари отделаться от жены и детей, я уверен, он не стал бы колебаться».
Этот Савари, предмет всеобщего ужаса, несмотря на свое поведение, не был, в сущности, злым человеком. Главной страстью его была любовь к деньгам. Не обладая никакими военными талантами, презираемый своими выдающимися товарищами, он должен был делать свою карьеру иным путем, чем его товарищи по оружию. Он видел, как перед ним открывается верная дорога хитрости и доносов, которая нравится Бонапарту; и, раз вступив на нее, он уже не мог свернуть на другой путь.
В сущности, Савари был лучше, чем его репутация, то есть если бы он поступал по своему первому побуждению, то стоял бы выше, чем это случилось. У него не было недостатка в природном уме и в известной живости воображения; он был довольно невежествен, но желал учиться и обладал довольно верным инстинктом для того, чтобы судить; скорее лгун, чем человек фальшивый, твердый по внешности, но очень трусливый в глубине души. У него были основания хорошо знать Бонапарта и бояться его. Однако, будучи министром, Савари позволил себе некоторое подобие противодействия, и тогда у него как будто явилось желание примириться с общественным мнением. Подобно многим другим, он, быть может, был обязан времени развитием своих недостатков, заглушивших лучшую часть его натуры. Император старательно пестовал в людях все постыдные страсти, поэтому в его царствование они и приносили наибольшие плоды.
Но возвратимся к нашей теме. Переговоры Талейрана медленно подвигались вперед. Несмотря на все препятствия, ему удалось, благодаря своим письмам, склонить императора к миру, а Тироль, этот камень преткновения при заключении трактата, был отдан императором Францем баварскому курфюрсту. Когда Бонапарт несколько лет спустя уже поссорился с Талейраном, он в гневе часто возвращался к этому трактату, жалуясь, что министр отнял у него победу и вызвал вторую австрийскую кампанию, оставив австрийскому императору еще слишком много могущества.
Перед отъездом из Вены император успел еще принять депутацию из четырех мэров Парижа, поздравлявших его с победой. Немного позднее он уехал в Мюнхен, объявив, что хочет возложить королевскую корону на голову баварского курфюрста и заключить брак принца Евгения.
Императрица, пробывшая в Мюнхене уже некоторое время, необыкновенно радовалась браку своего сына, поскольку брак этот приносил ему союз с главнейшими династиями Европы. Ей очень хотелось, чтобы госпоже Луи Бонапарт позволили присутствовать на этой церемонии, но Луи строго запретил жене это, и она вынуждена была, по обыкновению, смириться.
Талейран присоединился к двору, подписав трактат, и мир воцарился в Европе, по крайней мере на время. Трактат был подписан 25 декабря 1805 года. Согласно его условиям, австрийский император признавал императора Наполеона итальянским королем. Он отдавал Итальянскому королевству Венецианскую область, признавал королями курфюрстов Баварии и Вюртемберга, отдавая первому несколько княжеств и Тироль, а второму – довольно значительное количество городов; баденскому курфюрсту отошла часть Брейсгау. Вместо уступленного Австрии Зальцбурга бывший великий герцог Тосканский Фердинанд получил герцогство Вюрцбург.
Глава XVI 1805–1806 годы
Состояние Парижа во время войны – Камбасерес – Лебрен – Госпожа Луи Бонапарт – Бюллетени и прокламации – Женитьба Евгения Богарне – Склонность императора к баварской королеве – Ревность императрицы – Нансути – Госпожа К. – Завоевание Неаполя – Положение и характер императора
Я уже говорила, как печально и пустынно было в Париже во время этой кампании и как все классы общества страдали от возобновления войны. Звонкая монета становилась все более и более редкой, и так трудно было ее находить, что, когда мне пришлось внезапно послать деньги моему мужу, я вынуждена была, разменивая на золото билет в тысячу франков, потерять на нем девяносто франков.
Этими событиями пользовались недоброжелатели, чтобы распространить и усилить всеобщее беспокойство. Приходя в ужас от неосторожности иных разговоров, наученная прежним опытом, я держалась в стороне от всего и старалась видеться только со своими друзьями и теми лицами, которые не могли меня скомпрометировать. Когда принцы и принцессы императорской фамилии устраивали приемы, я бывала у них вместе с другими, так же, как и у архиканцлера Камбасереса, который вменил бы любому в большую вину, если бы от его приглашений осмелились отказаться.
Архиканцлер давал званые обеды и принимал два раза в неделю в большом доме на площади Карусель. В семь часов вечера площадь обыкновенно была уже заполнена длинной вереницей экипажей, которую Камбасерес с большим удовольствием рассматривал из своего окна. Приходилось довольно долго ждать, прежде чем удавалось войти во двор и достичь подножия лестницы. У первой же двери в салон внимательный привратник громко провозглашал ваше имя. Это имя повторялось несколько раз до дверей той комнаты, где находился его светлость. Здесь теснилась огромная толпа: женщины сидели в два или три ряда, мужчины стояли вплотную, образуя от одного угла салона до другого нечто вроде коридора. Камбасерес, украшенный лентами и, в большинстве случаев, всеми своими бриллиантовыми орденами, в огромном, хорошо напудренном парике, важно прохаживался посреди этого живого коридора, произнося направо и налево по несколько вежливых фраз. Уверившись, что он заметил вас, а еще лучше – после того, как он уже заговорил с вами, можно было удалиться, чтобы освободить место другим. Иногда приходилось еще очень долго ждать, прежде чем найдешь свой экипаж; но лучший способ польстить Камбасересу заключался в том, чтобы сообщить во время следующего визита, какой беспорядок на площади создавало множество карет, приехавших к нему.
Гораздо меньше теснились у верховного казначея – Лебрена, придававшего, по-видимому, меньше значения внешним почестям и жившего довольно просто. Но если в его характере не было смешных сторон его товарища, то не было и некоторых его достоинств. Камбасерес был любезен; он охотно принимал просьбы, и когда обещал поддержать их, то слово его бывало верно, на него можно было положиться. Лебрен же желал сохранить свое состояние, ставшее довольно значительным; это был старик очень эгоистичный, довольно хитрый, который никогда никому не старался быть полезным.
Из всей королевской семьи я чаще всего бывала у принцессы Гортензии. Вечером у нее собирались, чтобы узнать новости. В декабре 1805 года распространился слух, будто англичане попытаются высадиться на берегах Голландии, и Луи Бонапарт получил приказание объехать эту страну и осмотреть Северную армию. Его отсутствие, всегда дававшее немного свободы жене и облегчение всему дому, трепетавшему перед ним, позволило госпоже Луи Бонапарт проводить вечера довольно приятно. У нее занимались музыкой или рисовали на огромном столе, стоящем посредине салона. Принцесса Гортензия всегда проявляла большую склонность к искусствам: она писала прелестные романсы, очень хорошо рисовала, любила артистов и художников. Единственный ее недостаток состоял, может быть, в том, что она не могла придать своему дому ту внешнюю важность, какой требовало ее положение. Всегда оставаясь очень простой в обращении с подругами по учению, она сохранила в своих манерах следы пансионских обычаев, которые в ней порой замечали и осуждали[87].
Наконец, после довольно продолжительного молчания о делах в армии – молчания, начавшего уже вызывать беспокойство, – однажды вечером явился адъютант императора Лебрен, сын верховного казначея. Он был послан с поля битвы Аустерлица, возвестил победу, последовавшее за ним перемирие и надежду на мир. Это известие, распространенное повсюду, произвело большое впечатление и рассеяло мрачную апатию, в которую были погружены все жители Парижа. Подобный успех поразил всех и привлек опять на сторону счастья и славы. Французы, увлеченные рассказом о подобной победе, исчерпывавшей все, так как ею заканчивалась война, почувствовали возрождение энтузиазма, и на этот раз опять незачем стало предписывать радость. Нация снова слилась в одно целое с успехом своих солдат. Эту эпоху я считаю апогеем счастья Бонапарта, так как его великие дела были тогда восторженно приняты большинством нации. С тех пор, конечно, его могущество и власть еще увеличились, но энтузиазм уже приходилось предписывать, и хотя порой и удавалось его насильно вызвать, но самые эти усилия портили в глазах императора цену восторженных приветствий.
Среди радостей и искреннего восхищения, проявленного Парижем, главные государственные учреждения и должностные лица не упустили, конечно, случая выразить свое одобрение в пышных выражениях. Перечитывая сегодня спокойно речи, произнесенные в то время в Сенате и Трибунате, приветствия префектов и мэров, послания епископов, можно спросить себя, возможно ли, чтобы голова не закружилась от таких чрезмерных похвал. Вся слава прошлых времен растаяла перед славой Бонапарта; имена самых великих людей померкли; с этих пор молва должна была краснеть от всего того, что она провозглашала до сих пор, и т. п., и т. п.
Тридцать первого декабря собрался Трибунат, и его председатель Фабр де л’Од объявил о возвращении депутации, посланной к императору и рассказывавшей о чудесах, свидетельницей которых она была, а также о прибытии большого количества знамен. Восемь из них император жаловал городу Парижу, восемь – Трибунату и пятьдесят четыре – Сенату; эти последние должны были быть переданы всем составом Трибуната.
После речи председателя множество членов Трибуната бросились вперед, чтобы высказать свои пожелания: один предложил выбить золотую медаль, другой – поставить памятник, устроить императору, как в античные времена, триумф; наконец, пожелали, чтобы весь Париж целиком вышел ему навстречу. «В языке нельзя найти выражений достаточно сильных, – сказал один из депутатов, – чтобы коснуться столь возвышенного предмета или передать чувства, вызываемые им». Маркиз Каррион-Низас предложил, чтобы шпага, которую император носил в битве при Аустерлице, была торжественно освящена при заключении общего мира.
Каждому хотелось превзойти в своей речи другого, и во время этого заседания, продлившегося несколько часов, действительно было исчерпано все, что может внушить воображению язык лести. Однако этот самый Трибунат продолжал беспокоить императора, потому что его учреждение все еще сохраняло как бы тень свободы; и император счел впоследствии необходимым уничтожить его, чтобы докончить утверждение своего деспотизма даже в мельчайших его проявлениях. Когда император вычеркнул Трибунат – тогда было употреблено именно это слово, – он решился сказать: «Вот мой последний разрыв с Республикой».
Первого января 1806 года члены Трибуната отнесли в Сенат знамена и предложили воздвигнуть колонну. Сенат поспешил облечь это пожелание в декрет; он постановил также, что письмо императора, посланное вместе со знаменами, будет выгравировано на мраморе и помещено в зале заседаний. Таким образом, сенаторы оказались на высоте трибунов.
Вскоре начались приготовления к празднествам, которые должны были начаться по возвращении императора. Ремюза послал мне приказание, чтобы театры приготовили постановку некоторых подходящих произведений. «Комеди Франсез» выбрал трагедию Лакло «Гастон и Баярд» (полиция изменила некоторые стихи, неудобные для произнесения[88]), а Опера занялась новыми дивертисментами.
Между тем император, подписав мир, уехал из Вены, оставив жителям прокламацию, полную лестных слов по отношению к ним и их правителю, среди которых были следующие: «Я мало показывался среди вас не из пренебрежения или ложной гордости, но потому, что не хотел отвлекать вас ни от одного из тех чувств, которые вы должны питать к вашему правителю, поскольку с ним я хочу заключить скорый мир».
Выше мы видели истинные мотивы, задержавшие императора в Шенбруннском замке.
Хотя французская армия была сдерживаема в Вене довольно строгой дисциплиной, но, несомненно, жители Вены с большой радостью наблюдали отъезд гостей, которых приходилось принимать, содержать и заботливо кормить. Если желают составить себе представление о тех заботах, какие должны были оказывать нам побежденные, достаточно привести следующий пример: генералы Жюно[89] и Бессьер, помещавшиеся у принца Эстергази, получали каждый день из Венгрии все необходимое для изысканного стола, и между прочим – токайское вино. Такое внимание оказывал им принц, у которого они жили на всем готовом.
Я вспоминаю рассказ, услышанный от Ремюза: когда император явился в Вену, прежде всего поспешили осмотреть погреба императорского дворца, чтобы найти токайское вино, и были очень удивлены, не найдя ни одной бутылки, – император Франц забрал все с собой.
Бонапарт приехал в Мюнхен 31 декабря и на другой день провозгласил баварского курфюрста королем Максимилианом I. В послании к Сенату император сообщил об этом событии, а также об усыновлении принца Евгения и о его браке, который желали совершить до возвращения в Париж.
Принц Евгений не замедлил явиться в Мюнхен; перед этим он принял Венецианскую область и успокоил, по возможности, своих новых подданных достойными и умеренными прокламациями.
Император считал себя обязанным похвалить Итальянскую армию. В одном из бюллетеней читаем: «Народы Италии проявляли много энергии, император много раз говорил: «Почему бы народам Италии не показать себя со славой на мировой сцене? Они полны ума и страсти, в них легко будет вызвать военную доблесть!»». Он обратился к солдатам с прокламациями, несколько напыщенными, в его обычной манере, но, говорят, они произвели большое впечатление в армии.
Кроме того, император издал прекрасный декрет, в особенности если учесть, что он был полностью исполнен:
«Мы усыновляем, – заявил он, – сыновей и дочерей генералов, офицеров и солдат, убитых при Аустерлице. Они будут воспитываться в Рамбуйе и Сен-Жермене, мы дадим им места и выдадим их замуж. Они прибавят к своему имени имя Наполеона…»
Курфюрст, или, вернее, король Баварии, является младшим принцем Цвейбрюкенского дома, который достиг курфюршества вследствие прекращения правящей ветви. В царствование Людовика XVI он был послан во Францию и поступил на службу к нашему королю. Вскоре он стал командовать полком и довольно долго служил то в Париже, то в гарнизонах некоторых наших городов. Курфюрст Максимилиан привязался к Франции и оставил о себе хорошую память благодаря своей доброте и приветливым манерам. Он был известен под именем принца Макса.
Однако жениться во Франции он отказался. Принц Конде предложил выдать за него свою дочь, но отец принца и его дядя, курфюрст Цвейбрюкена, не согласились на этот брак. Причиной было то, что принц Макс как человек небогатый, вероятно, вынужден был бы сделать некоторых из своих дочерей канониссами; а иные монашеские ордена не согласились бы принять их в свою среду из-за мезальянса, который представляла собой связь Людовика XIV с госпожой де Монтеспан[90].
Когда позднее этот принц должен был наследовать своему дяде, он навсегда сохранил добрую память о Франции и привязанность к французам. Теперь, сделавшись королем властью императора, он постарался выразить ему свою благодарность самым блестящим образом и принимал французов с необыкновенной добротой. Можно представить себе, что он ни на минуту не задумался согласиться на союз, предлагаемый его старшей дочери Августе. В этой принцессе, семнадцати или восемнадцати лет, очарование привлекательной наружности счастливо соединилось с самыми симпатичными свойствами. И этот брак, заключенный из политических целей, стал для принца Евгения источником невозмутимого счастья. Принцесса Августа Баварская очень привязалась к мужу и немало способствовала тому, чтобы завоевать ему сердца итальянских граждан. Красивая, умная, набожная и очень милая, она нежно любима принцем Евгением; и теперь, живя в Баварии, они наслаждаются радостями самого идеального брака[91].
Когда император находился в Мюнхене, ему пришло в голову избавиться на несколько месяцев от работы посредством нового увлечения, известной фантазии, полуромантической-полуполитической, по отношению к королеве Баварии. Каролина Баденская, вторая жена короля, была не очень красива, но изящна, с приятными манерами, полными достоинства. Император представился влюбленным в нее. Присутствовавшие при этом зрелище говорят, что было довольно любопытно видеть его в борьбе со своим резким характером, своими несколько вульгарными привычками, желающим, однако, иметь успех у королевы, привыкшей к известному этикету, от которого в Германии не освобождаются ни при каких обстоятельствах. Баварская королева сумела внушить уважение своему энергичному воздыхателю, и, однако, по-видимому, ей доставляло удовольствие выражение его нежных чувств. Императрица находила королеву слишком кокетливой, и все эти приемы вызывали у нее желание поскорее покинуть баварский двор и портили удовольствие, которое должен был доставить брак ее сына.
Тем временем госпожа Мюрат нашла неправильным, что новая вице-королева, сделавшись приемной дочерью Бонапарта, шла впереди нее на церемониях. Она притворилась больной, чтобы избежать, как ей казалось, оскорбления, и брат должен был рассердиться, чтобы помешать ей слишком громко заявлять о своем недовольстве. Если бы мы не были свидетелями того, с какой быстротой растут известные претензии у тех, кому благоприятствует судьба, мы могли бы удивиться этому недовольству у принцев и вельмож с такого недавнего времени: казалось бы, они не могли еще привыкнуть ко всем преимуществам и правам ранга, но это зрелище слишком часто повторялось перед нашими глазами; пришлось признать, что ничто среди людей не просыпается и не растет так быстро, как тщеславие. Бонапарт, хорошо это знавший, сделал из тщеславия самый верный способ управления.
В Мюнхене император раздал много армейских должностей. Своему зятю, принцу Боргезе, он подарил полк карабинеров. Вознаградил многих офицеров повышениями и орденами Почетного легиона. Между прочими он сделал кавалером ордена и моего зятя Нансути. Это был храбрый человек, уважаемый в армии, простой, отличающийся честностью и деликатностью, к несчастью, нечасто встречающимися у военных. Во всех иностранных государствах о нем сохранилась очень почетная репутация.
Военные при дворе императора, следуя примеру своего господина и, подобно ему, воодушевленные победой, были очень довольны тем, что встретили дам, сопровождавших императрицу. Казалось, что любовь наконец получила свою долю в мире, до сих пор несколько пренебрегавшем ею, но нужно признать, что ей никогда не отводили достаточно времени для того, чтобы утвердиться, и любви приходилось всегда вести атаку несколько форсированно.
К этому времени относятся чувства Коленкура к прекрасной госпоже К.[92]. Она была назначена придворной дамой летом 1805 года. Очень молодой она вышла замуж за своего двоюродного брата, который был в то время шталмейстером императора и мало обращал на нее внимания. Она приковала взоры всего двора своей ослепительной красотой. Коленкур безумно влюбился в нее, и эта привязанность, более или менее разделенная в течение нескольких лет, помешала ему думать о женитьбе. Госпожа К., все более и более недовольная своим мужем, наконец развелась с ним (император немедленно удалил ее от двора, поскольку терпеть не мог разведенных женщин), а когда Реставрация осудила Коленкура на изгнание, она пожелала разделить с ним его несчастье и вышла за него замуж.
Я сказала уже, что во время этой кампании император заявил, что готов очистить Неаполитанское королевство от наших войск. Но вскоре с этим государством возникли новые проблемы, потому ли, что король Неаполитанский [Фердинанд IV] не особенно точно выполнял заключенный с ним трактат и был под влиянием англичан, угрожавших его портам, или потому, что император хотел завершить свой проект полного подчинения Италии. Он думал, конечно, что, согласно своей политике, должен мало-помалу низвергнуть Бурбонов со всех тронов на континенте[93]. Как бы то ни было, из приказа, изданного в императорском лагере в Шенбрунне 27 декабря 1805 года, Франция узнала, что французская армия выдвинулась для завоевания Неаполитанского королевства. Командование этой армией поручалось Жозефу Бонапарту, который и прибыл в место назначения.
«Мы не будем больше прощать, – говорилось в прокламации. – Неаполитанская династия перестала царствовать, ее существование несовместимо с покоем Европы и честью моей короны. Солдаты! Идите! Постарайтесь поскорее сообщить мне, что вся Италия подчиняется моим законам или законам моих союзников»[94].
Тоном своего воззвания Бонапарт, только что подписавший мир, вызывал новую войну, снова оскорблял правителей Европы и побуждал английскую политику найти для него новых врагов.
Двадцать пятого января королевский двор Неаполя, теснимый ловким и победоносным неприятелем, отплыл в Палермо и оставил свою столицу новому правителю, который вскоре должен был занять ее. Между тем император, присутствовавший 14 января на свадьбе принца Евгения, выехал из Мюнхена, проезжая Германию, принимал повсюду почести и приехал в Париж в ночь с 26-го на 27 января.
Мне казалось, что я должна закончить здесь рассказ о второй эпохе Бонапарта, потому что, как я говорила выше, считаю конец первой кампании лучшим моментом его славы, прежде всего потому, что французский народ вновь согласился разделить ее.
Ничто в истории, быть может, по отношению ко временам и людям, не может сравниться с могуществом императора после подписания этого трактата. Но в то время как вся Европа склонялась перед ним, во Франции до странности ослабел престиж его побед, и наша армия, хотя еще составленная из наших же сограждан, начинала становиться нам чужой. Император, который часто оценивал события с математической точностью, быстро это заметил. Я слышала, как он говорил по возвращении, после подписания этого трактата: «Военная слава, живущая так долго в истории, быстрее всего исчезает в глазах современников. Все наши последние победы не производят во Франции и половины того впечатления, какое произвела битва при Маренго».
Если бы он развил эту идею, то понял бы, что народ, которым управляешь, нуждается в славе, приносящей пользу, а восхищение тем, что имеет бесплодный блеск, постепенно уничтожается.
В 1806 году, справедливо или ложно, английскую политику опять обвиняли в возбуждении против нас врагов. Имея все основания считать, что она завидует нашему возрождающемуся благосостоянию, мы везде замечали ее старания внести смуту, несмотря на наши самые умеренные стремления. Так как невозможно было сравняться с англичанами в морском могуществе, Франции казалось разумным уравновешивать торговое могущество наших врагов посредством большего могущества на континенте.
Поэтому чудеса этой трехмесячной кампании должны были сильно поразить французов. Австрийская империя была побеждена, соединенные армии двух главнейших правителей Европы отступили перед нашей; царь бежал, император Франц лично просил мира, и этот мир носил весьма умеренный характер; наши победы создали королей; простой французский дворянин женился на дочери коронованного правителя; наконец, быстрое возвращение победителя позволяло надеяться на прочный мир. Быть может, к этому присоединялась потребность сохранить иллюзии относительно господина – потребность, внушенная тщеславием. Все это снова вызвало национальный восторг и усилило честолюбие победителя.
В самом деле, император заметил свой успех и решил, довольно справедливо, что слава вознаградит нас за все потери, причиненные деспотизмом. Он думал, что французы не станут роптать, если рабство их будет блестящим, и мы охотно отдадим все свободы, с таким трудом завоеванные революцией, за ослепительный успех, который он нам доставил. Наконец, – и в этом был корень зла, – Бонапарт считал войну способом отвлечь нас от размышлений по поводу его правления, и он пользовался ею, чтобы оглушать нас или по крайней мере заставлять молчать. Так как он был очень искусен в ведении войны, то не боялся ее, а так как мог вести ее с многочисленной армией и грозной артиллерией, то не видел в ней опасностей лично для себя. Быть может, я ошибаюсь, но мне кажется, что после аустерлицкой кампании война была скорее результатом его системы, чем влечением его вкуса. Первым истинным предметом честолюбия Наполеона было могущество, и он предпочел бы мир, если бы мир увеличивал его власть.
Однако, кроме противодействия Англии, некоторые затруднения происходили исключительно из-за одной черты его характера. В Бонапарте как бы соединились два человека. Один из них, несомненно, более гигант, чем великий человек, был способен мгновенно понять, как быстро исполнить задуманное, и тщательно закладывал все основания для выполнения своих планов. Этот человек, руководимый единственной идеей, казалось, не считался ни с какими второстепенными соображениями, которые могли бы остановить его проекты. Поставив себе целью благо человечества, он, со всеми своими способностями, мог бы стать величайшим человеком, какой когда-либо жил на Земле, но при этом глубиной проникновения и могучей волей оставался бы самым необыкновенным.
Второй Бонапарт, тесно связанный с первым, пожираемый беспокойством, как нечистая совесть, вечно волнуемый подозрениями, раб своих низменных страстей, подозрительный, боялся всякой власти, даже той, которую сам создал.
Сознавая необходимость учреждений, он, создавая их, тотчас же пугался тех прав, какие они давали отдельным лицам; боясь собственного произведения, он не мог противиться стремлению мало-помалу разрушить его. Не раз слышали, как он говорил, раздавая титулы и майораты своим маршалам: «Этих людей я сделал независимыми, но я сумею найти их и помешать им быть неблагодарными».
Таким образом, недоверие к людям, начав влиять на него, овладевало им всецело, и Бонапарт уже думал только о том, как бы отдалить одних от других. Он старался ослабить семейные узы, он покровительствовал индивидуальным интересам в ущерб общественным. Единственный центр громадного круга, он желал бы, чтобы в этом круге было столько радиусов, сколько у него подданных, – так, чтобы они соприкасались друг с другом только через него. Эта ревнивая подозрительность, всегда преследовавшая его, присоединялась ко всем его предприятиям и мешала созданию сколько-нибудь прочных учреждений, которые вечно придумывало его творческое воображение.
Как бы то ни было, после аустерлицкой кампании Наполеон был горд своими победами и тем культом, какой создали в отношении него народы, наполовину ослепленные, наполовину подчиненные; деспотизм его начал развиваться гораздо интенсивнее, чем прежде. Теперь чувствовалось что-то более гнетущее в том иге, которое он тщательно накладывал на каждого гражданина. Перед его славой почти насильно склоняли голову, но теперь замечали, что он принял все предосторожности к тому, чтобы ее не подняли вновь.
Наполеон окружил себя новой пышностью с целью создать большее расстояние между собой и другими людьми. Он принял немецкие обычаи, с которыми только что познакомился, и весь дворцовый этикет, который он рассматривал как ежедневное рабство: никто не мог избежать мелочной зависимости, о которой он очень заботился. Нужно, однако, признать, что тотчас же после кампании он был вынужден до известной степени заставить умолкнуть претензии своих товарищей по успехам, а когда ему удавалось подчинить их, он не считал нужным обращаться осторожней с другими классами граждан, имевшими в его глазах гораздо меньше значения.
Военные, еще воодушевленные победой, создали для себя почетный пьедестал, с которого их трудно было низвести. У меня сохранилось письмо Ремюза из Шенбрунна, прекрасно рисующее надменность генералов и предосторожности, какие надо было принимать, чтобы жить с ними в мире. «Военное ремесло, – писал он мне, – придает характерам известную искренность, несколько грубоватую, которая открывает самые завистливые страсти. Наши герои, приучившиеся открыто побеждать неприятеля, привыкают ничего более не скрывать; каждое встречаемое ими препятствие, какое бы оно ни было, они рассматривают уже как сражение. Интересно послушать, как они говорят о людях невоенных и даже друг о друге: обесценивая поступки, приписывая многое случаю, уничтожая репутации, которые мы считали твердо установленными, они раздувают свою славу, еще такую свежую, и могут выносить только того, кто проявляет много ловкости и умеет жертвовать своим тщеславием, хотя бы имеющим некоторые основания».
Император заметил это несколько воинственное настроение, вынесенное офицерами из армии. Он мало беспокоился о том, что оно оскорбляет граждан, но не желал, чтобы оно стесняло его самого. Поэтому еще в Мюнхене он считал себя вынужденным сдерживать высокомерие своих маршалов, а на этот раз его личный интерес заставил его говорить с ними языком благоразумия. «Подумайте, – сказал он им, – я желал бы, чтобы вы были военными только в армии. Титул маршала является достоинством чисто гражданским, дающим вам почетное положение при моем дворе, но никакой власти. Генералы на поле битвы, будьте вельможами вокруг меня и будьте связаны с государством чисто гражданскими узами, которые я создавал, давая вам титулы».
Это предупреждение произвело бы более сильное впечатление, если бы император закончил его словами: «В лагере, во дворце – повсюду ваш первый долг – быть гражданином!» Если бы он обратился с подобными словами ко всем классам, для которых должен был бы быть как господином, так и защитником, если бы он говорил так со всеми французами, то соединил бы их этим новым равенством, не противоречащим достоинству. Но, как мы видели, Бонапарт всегда боялся естественных и благородных уз и считал возможным употреблять только одну цепь, цепь деспотизма, потому что она связывает людей разъединенных, не имеющих даже возможности сблизиться.
Глава XVII 1806 год
Смерть Питта – Прения в английском парламенте – Общественные работы – Промышленная выставка – Новый этикет – Представления в Опере и «Комеди Франсез» – Монотонность двора – Чувства императрицы – Госпожа Луи Бонапарт – Госпожа Мюрат – Генерал Кларк – Бурбоны – Новые придворные дамы – Моле
В конце января 1806 года, когда французский император с триумфом въезжал в Париж, в Англии, будучи сорока семи лет от роду, умирал премьер-министр Питт. Англичане живо почувствовали эту потерю. Память его была почтена общенародным горем. Только что открывшийся парламент назначил значительную сумму для уплаты его долгов, так как он не оставил никакого состояния. Питт был с пышностью погребен в Вестминстере. Его противник Фокс сделался министром иностранных дел в новом министерстве. Император считал смерть Питта счастливым для себя обстоятельством, но вскоре заметил, что английская политика не изменилась, а британское правительство продолжает настраивать против него континентальные державы.
В течение января 1806 года прения в английском парламенте были очень оживленными. Оппозиция, с Фоксом во главе, расспрашивала министров о мотивах, которыми руководствовались в последней войне; выражали мнение, что австрийскому императору не было оказано достаточной помощи и его оставили в полной зависимости от победителя. Министры представляли условия трактата, заключенного в начале этой кампании различными державами. Этот трактат показывал, что были ассигнованы средства для коалиции, которая должна была заставить императора уйти из Ганновера, Германии и Италии, а также восстановить независимость Голландии и Швеции. Быстрые победы наших войск разрушили эти проекты.
Австрийского императора обвинили в том, что он слишком стремительно начал кампанию, не дождавшись русской армии, но главные обвинения пали на голову прусского короля – за его нейтралитет, сделавшийся главной причиной неудачи коалиции. Царь, раздраженный против него, быть может, отомстил бы ему за это пагубное бездействие, если бы не вмешалась очаровательная прусская королева. В Европе распространился слух о том, что она очаровала и обезоружила русского императора и он принес ей в жертву свое справедливое неудовольствие.
Император Наполеон, которому удалось сдержать Фридриха-Вильгельма III, запугав его своим войском, считал себя обязанным вознаградить его за сохранение нейтралитета. Он предоставил прусскому королю Ганновер – до эпохи установления всеобщего мира, эпохи очень неопределенной. Со своей стороны, король уступил Баварии Анспах, а Франции – свои права на герцогства Бергское и Клевское; они вскоре были отданы принцу Иоахиму, то есть Мюрату.
Доклад, сделанный английскому парламенту относительно трактата, о котором я только что говорила, был напечатан в наших газетах и сопровождался, как можно себе представить, несколькими статьями, в которых выражалось новое неудовольствие против континентальных держав. В них сожалели о слабости королей, которые ставили себя в зависимость от европейских купцов.
«Если Англии удастся, – говорилось в них, – составить четвертую коалицию, то Австрия, потерявшая в первой коалиции Бельгию, во второй – Италию и левый берег Рейна, в третьей – Тироль, Швабию и Венецианскую область, в четвертой – потеряет свою корону.
Влияние Французской империи на континенте даст счастье Европе, так как с него начнется век цивилизации, просвещения, наук и законов. Русский император, как молодой человек, неосторожно играл в опасную политику; ошибки Австрии можно забыть, так как она за них наказана. Однако нужно сознаться, что, если бы трактат, только что опубликованный в Англии, был известен, Австрии не удалось бы заключить мира. И кстати, этот же граф Стадион, заключивший трактат о субсидиях, до сих пор стоит во главе правительства императора Франца».
Статьи эти, в которых чувство раздражения было довольно плохо замаскировано, напечатанные в первых числах февраля, стали вызывать некоторое беспокойство. Те, кто внимательно следил за событиями, начали думать, что мир непрочен.
Ни один трактат не был заключен с царем. Под предлогом того, что он был только союзником австрийцев, Александр отказался принимать участие в переговорах. Я слыхала, что император, пораженный его поведением, стал смотреть на него с этого времени как на противника, с которым придется спорить из-за обладания миром. Поэтому он старался унизить царя, насколько это было возможно.
В России существует орден, который могут носить только генералы, оказавшие в важных случаях услуги государству (Орден Св. Георгия). Когда Александр возвратился в свою столицу, кавалеры этого ордена предложили его наградить. Император отказался, ответив, что не командовал армией во время кампании и не считает себя достойным этого отличия. Наши газеты, хваля эту скромность, прибавляли: «Царь достоин этого ордена, если заслужить его можно, командуя армией, но не побеждая. Известно, что не император Франц дал сражение при Аустерлице и, тем более, не он руководил военными действиями. По правде говоря, принимая орден, Александр взял бы на себя ошибки своих генералов, но это было бы благороднее, чем взваливать поражение русских на маленькую австрийскую армию, которая сражалась храбро; она сделала все, чего могли ожидать от нее союзники».
Второго февраля эта статья появилась в наших газетах; накануне в них была помещена прокламация к Итальянской армии, возвещавшая нападение на Неаполитанское королевство. Жозеф Бонапарт с помощью маршала Массена занял столицу, принц Евгений завладел Венецией. Таким образом, вся Италия оказалась в зависимости от Французской империи. Север Германии также был подчинен Франции: государи, получившие корону благодаря нам, были связаны с нашими интересами; а вскоре нам предстояло стать свидетелями нового брака, несомненно, содействующего осуществлению тайных проектов императора.
По возвращении из Мюнхена император остановился на несколько часов в Аугсбурге. Здесь бывший трирский курфюрст представил ему юного баденского принца Карла. Этот принц, смущенный и почти дрожавший перед Наполеоном, скромно просил у него чести принадлежать к его дому, женившись на какой-нибудь особе из императорской семьи. Император принял эту почтительную просьбу и обещал заняться ею по возвращении во Францию[95].
Кроме того, он послал своего брата Луи в Голландию, чтобы установить отношения между новым правителем и страной, которая вскоре должна была получить приказ возвести для него трон на развалинах своей республики.
Вот каково было политическое положение императора. Конечно, это положение могло удовлетворить честолюбивые планы Наполеона, и нельзя отрицать, что он энергично воспользовался истекшими восемнадцатью месяцами своего правления.
Что касается Франции, то казалось, все партии в ней совершенно замолкли; всё склонилось под игом; ни один класс не оказался нечувствительным к славе, а император старался еще усилить свое обаяние многочисленными работами, начатыми одновременно. Как только Наполеон смог на мгновение перевести свой взор от внешней политики к внутренней, он занялся улучшением финансов, которые расстроились в его отсутствие. Недовольный Барбе-Марбуа был хранителем казны, император заменил его Моллиеном, человеком умным и ловким. Ему прекрасно помогал министр финансов Годен, безукоризненная честность и большие знания которого улучшили собираемость налогов, поддержав роскошь, делавшую их более продуктивными; а большие контрибуции, повсюду взятые императором с побежденных врагов, давали Годену возможность, не отягчая народа, поддерживать силы армии и оплатить все те улучшения, которые появлялись во Франции по приказу императора, точно по волшебству.
Дороги через Мон-Сени и Симплон проводились очень деятельно, строили мосты, ремонтировали дороги, основывали город Вандэн; были прорыты каналы Урк и Сен-Кантен; установили телеграф; Сен-Дени должен был быть улучшен; начато было возведение колонн на Вандомской площади и Триумфальной арки на площади Карусель; решили устроить набережные на берегах Сены и украсить весь квартал между бульварами и Тюильри, – с этой целью уже начали сносить старые здания. Стали прокладывать улицу Риволи и закончили колоннаду Лувра; скульптор Лемо должен был декорировать его фронтон. Был сооружен мост Искусств и начат мост Аустерлица, – так назвали мост в Ботаническом саду. Оранжереи этого сада были обогащены растениями из оранжерей Шенбрунна.
Ученым покровительствовали в их открытиях; художникам приказывали писать картины, прославляющие наши победы; Консерватория получала субсидии; лучшие итальянские артисты приезжали во Францию, чтобы развивать любовь к пению; писатели получали пенсии, драматурги – значительные награды. В Фонтенбло и Сен-Сире были основаны военные школы; император лично посетил парижские лицеи. Наконец, желая повсюду поощрить развитие национальной промышленности, император задумал устроить выставку всевозможных промышленных продуктов; эта выставка должна была состояться весной, во время празднеств в честь аустерлицкой кампании[96]. Министр внутренних дел Шампаньи издал циркуляр, обращенный ко всем префектам, прося их предупредить свой департамент о том, что 1 мая на площади Инвалидов в специальных палатках будет выставлено все, что заслуживает внимания в смысле пользы и роскоши. Таким образом торговля была выведена из оцепенения, в котором она все еще оставалась после войны.
Император требовал от своего двора все большей и большей пышности и расточительности. Он одобрял все возрастающее изящество женских туалетов, а также роскошь меблировки дворцов его сестер и окружавших его вельмож. Французская нация, от природы тщеславная и расточительная, пристрастилась к удобствам и излишествам той жизни, которая как будто для нее была создана. И особенно мы, чья судьба зависела не только от жизни нашего господина, но и от его фантазии, неосторожно увлекаясь примером, который подавали друг другу, вечно боясь не понравиться ему, – мы тратили его более или менее щедрые дары только по воле самого Бонапарта, и больше ради подчинения, чем ради удовольствия.
Я говорю «мы», а между тем ни Ремюза, ни я в это время ничего не получали из его даров. Мой муж никогда не пользовался особой милостью императора. Что касается меня, то я жила скромно среди нашего двора, ставшего очень многочисленным. Говоря откровенно, мне доставляло удовольствие видное положение, которое я занимала при моих государях, когда была привязана к ним, но опыт показывал мне, что я не должна стремиться приобрести какое бы то ни было влияние в эпоху, когда весь характер двора совершенно изменился. Следующую главу я посвящу подробному рассказу о жизни, которую мы вели при дворе, а теперь возвращаюсь к историческим событиям.
Вернувшись в свою столицу, император получил приветствие от всех собраний. Во время пребывания в Мюнхене он стал свидетелем одной немецкой церемонии. Баварский король и королева, восседая на тронах, делали смотр придворным, допущенным принести им свои приветствия. Император захотел установить этот обычай во Франции, и мы получили приказание подготовиться к этому новому этикету. Тогда, конечно, все привычки пришлось менять. Свободы, приобретенные революцией, изгнали из общества весь церемониал вежливости. Теперь уже не умели кланяться, приближаясь, и все придворные дамы сделали открытие, что в нашем воспитании оказался пробел: мы совсем не умеем делать реверансы. Тотчас был вызван Деспрео, учитель танцев королевы, который стал каждой из нас давать уроки, показал нам, как мы должны ходить и кланяться, и т. д. Таким образом, между придворными дамами и дамами из общества установилась маленькая демаркационная линия, довольно ничтожная сама по себе, но получившая известное значение. Мы внесли в общество более церемонные приемы и манеры, которые нас повсюду отличали. В самом деле, из духа оппозиции некоторые женщины желали оставаться вдали от нового двора и продолжали держаться свободно и несколько резко, к чему привыкли, не живя в свете. Во Франции известные взгляды сказываются во всем; тогда они выражались в особенной манере, с какой входила в салон придворная дама или дама так называемого Сен-Жерменского предместья.
Но, оставляя в стороне мотивы, нужно признать, что преимущество было на нашей стороне. Это было заметно по возвращении короля. Женщины, имевшие законное право находиться при дворе, по привычке к свободе или к «своей почве», по выражению вельмож, внесли в Тюильри свободные манеры и резкие выражения, которые составляли довольно пикантный контраст с молчаливым изяществом строгого и точного церемониала двора Бонапарта.
В назначенный день император взошел на трон вместе с императрицей, которая села слева от него; принцессы и фрейлины разместились на табуретах, а придворные чины стояли по обеим сторонам. Придворные дамы, жены маршалов, придворных министров, в пышных одеждах медленно подходили к подножию трона и молчаливо делали реверанс. Мужчины следовали за ними. Церемония была очень длинна. Сначала она очаровала императора, который любил этикет, но кончилось тем, что это смертельно ему надоело и всех стали торопить; насилу уговорили его остаться на троне до завершения церемонии. Наполеон готов был на нас взвалить вину за то, что сам предписал нам исключительно по своей воле.
Вскоре после этого он отправился в Оперу и был встречен громкими приветствиями огромной толпы. Давали дивертисмент, составленный Эсменаром, автором популярной поэмы «La Navigation». Представители различных наций, собравшись вместе, выражали радость и пели арии в честь победителя. К ним присоединился партер; со всех сторон залы вдруг стали махать лавровыми ветвями и кричать: «Да здравствует император!» Наполеон был тронут, – это не могло его не тронуть. Быть может, в последний раз тогда публика выражала свой энтузиазм не по приказу.
Несколько позднее императору были выражены подобные же приветствия в «Комеди Франсез», но непредвиденное обстоятельство придало новый, немного неприятный оттенок впечатлениям этого вечера. Давали «Аталию», и Тальма играл роль Абнера. Во время представления император принимает курьера, принесшего известие о вступлении французских войск в Неаполь, и тотчас же посылает адъютанта к Тальма с приказанием прервать пьесу, выйти к рампе и объявить об этом событии. Тальма повинуется и громко читает весь бюллетень. Публика аплодирует, но, помнится, мне показалось, что приветствия были не так естественны, как в Опере.
На другой день наши газеты объявили падение той, которую называли современной Аталией; эту побежденную королеву оскорбляли, презирая всякие общественные приличия, которые предписывают обыкновенно уважение к несчастью[97]. Кстати, чуть позже, на открытии Законодательного корпуса, все заметили, с каким искусством Фонтан, хваля Бонапарта, избегал оскорблять свергнутых им государей. Он относил свои похвалы главным образом к умеренности, с которой был заключен мир, и к восстановлению могил в Сен-Дени. В общем, можно составить целую коллекцию произнесенных в это царствование Фонтаном речей, могущих служить образцами приличия и вкуса.
Вскоре император вернулся в Тюильри к своей обычной деловой жизни, а мы – к нашей придворной, по этикету, регулированному самым тщательным образом. Чем многочисленнее становился двор, тем однообразнее он был по виду; каждый делал каждую минуту то, что должен был делать, но никто не старался выйти из узкого круга интересов, создаваемого одними и теми же обязанностями. Деспотизм, возраставший с каждым днем, страх, испытываемый каждым, – самый наивный страх получить выговор за неисполнение какой-либо мелочи, – наше всеобщее молчание – все это ставило разнообразных людей в салонах Тюильри на почти одинаковую ступень. Теперь стало и вовсе бесполезно проявлять чувства или ум, так как не было ни единого повода испытать какое бы то ни было впечатление или обменяться какими бы то ни было мыслями. Император, занятый великими проектами, до известной степени уверенный во Франции, обращал свои взоры на Европу, и его политика не ограничивалась уже желанием повелевать умами своих сограждан. Точно так же он стал пренебрегать теми маленькими успехами среди окружающих, которых сам искал раньше. Я могу сказать, что он смотрел на свой двор с тем равнодушием, с каким относился к уже одержанной победе, в противоположность той, какую еще надо было одержать. Ему всегда хотелось завоеваний, и, чтобы добиться их, он не пренебрегал никакими способами очаровывать; но едва только заметив, что его власть установлена, он никогда не старался быть приятным.
Лишь одно преимущество было у императорского двора, зависимого и подчиненного: внутри него не происходило ничего, похожего на интригу. Каждый имел внутреннее убеждение в том, что все зависит только от воли господина; поэтому никто и не пытался идти иным путем, кроме пути, указанного свыше, – и в отношениях друг с другом можно было насладиться некоторым покоем.
Жена императора была от него почти в такой же зависимости, как и все остальные. По мере того как начинания становились более грандиозными, они делались ей все более и более чуждыми: европейская политика и судьбы мира мало беспокоили ее; круг ее идей не достигал тех возвышенных умозрений, которые могли влиять на что-то, не касавшееся ее лично. В это время императрица была спокойна за себя, довольна судьбой своего сына и жила мирно и равнодушно; она проявляла равную приветливость ко всем, не испытывая особенно дружеских чувств, а только большую доброжелательность. Она не искала удовольствий и не боялась скуки; всегда кроткая, приветливая, спокойная и, в сущности, беззаботная, она не испытывала больше тех ревнивых беспокойств, которые вносили столько смятения в ее жизнь в предшествующие годы, так как привязанность ее к мужу сильно охладела. Императрица с каждым днем все лучше и лучше понимала его и старалась ничем не смущать, убедившись в том, что лучший способ сохранить влияние на Бонапарта заключается в покое, который она доставляет ему ровностью своего характера.
Я говорила уже не раз, что человек, подобный ему, не имел ни времени, ни наклонностей, приводящих к любви; и императрица поэтому прощала ему все увлечения, которые порой заменяют мужчинам любовь. Она довела свою любезность до того, что покровительствовала некоторым его мимолетным фантазиям, сделалась поверенной и привыкла не обижаться на это.
Император требовал, чтобы к его внутренним апартаментам примыкал салон, занятый дамами, выбранными из буржуазии. Им дали титул дам-привратниц. Придворные дамы собирались в большом салоне в Тюильри или Сен-Клу. Дальше шел другой салон, за которым следовали внутренние комнаты. В этом втором салоне и оставались дамы-привратницы, они должны были открывать двери, когда проходила императрица, и объявлять о ее появлении, так же как и о появлении императора, когда он проходил из своих апартаментов к жене. Это были молодые красивые особы; иногда они привлекали беглый взгляд Бонапарта, а жена его об этом знала или не знала – в зависимости от того, нравилось ему говорить или скрывать, – но это нисколько не пугало ее.
По возвращении из Аустерлица император снова увидел госпожу Д., но, по-видимому, не обратил на нее внимания; императрица обращалась с ней так же, как и с другими. Говорили, что Бонапарт иногда возвращался к прежним воспоминаниям по отношению к этой женщине, но так мимолетно, что двор едва ли мог заметить это, и, так как не происходило никаких новых инцидентов, никто не обращал на эти мелочи внимания.
Император, совершенно убежденный в том, что господство женщин часто ослабляло французских королей, твердо решил, что дамы будут только украшением его двора, и сдержал слово. Он был убежден, я не знаю – почему, что во Франции женщины умнее мужчин; по крайней мере Бонапарт часто так говорил; он считал, что само воспитание предрасполагает их к известной ловкости, от которой надо защищаться, поэтому несколько опасался их и старался держать на определенном расстоянии, иногда же свое раздражение против некоторых из них доводил до слабости.
Наполеон быстро изгнал госпожу де Сталь, которую действительно боялся, а несколько позднее – госпожу де Бальби[98], позволившую себе несколько легких насмешек на его счет. Она разговаривала довольно откровенно с одним человеком из общества, которого я не назову и который очень точно передал все, что услышал. Это был дворянин и камергер, и я упоминаю о нем только с целью доказать, что император во всех классах общества находил людей, служивших ему так, как он того хотел.
В течение этой зимы стали наконец замечать страдания, которые приходилось переносить госпоже Луи в семейной жизни. Супружеская тирания Луи Бонапарта проявлялась во всем. Его характер был столь же деспотическим, как характер его брата. До сих пор жена терпеливо старалась ослабить его крайние проявления, но исключительное обстоятельство заставило ее открыть матери часть своих страданий.
Луи Бонапарт был очень слаб здоровьем. Со времени возвращения из Египта он страдал неизвестной болезнью, выражавшейся в частых приступах, которые так ослабили его руки и ноги, что он с трудом ходил и был стеснен во всех своих движениях[99]. Медицина безрезультатно исчерпала на его лечение все свои ресурсы, Корвисар, врач всей семьи, посоветовал ему, наконец, сделать последнюю пробу, как она ни была отвратительна. Он предположил, что, может быть, сильная сыпь на теле ослабит скрытую болезнь, не поддающуюся стольким лекарствам. Поэтому решили положить под вышитый балдахин, украшавший кровать принца Луи, простыни, взятые с постели больного чесоткой в госпитале; и его императорское высочество был вынужден укрываться ими и даже надевать рубашку этого больного. Луи, желавший скрыть от всех производимый опыт, потребовал, чтобы в его привычных отношениях с женой ничего не изменилось. Он привык спать с ней в одной комнате и всегда требовал, чтобы ночи она проводила около него, на маленькой кровати, поставленной под тем же балдахином. И сейчас Луи категорически потребовал, чтобы этот обычай сохранился, прибавив с жестокой и странной ревностью, что муж не должен отказываться от предосторожностей против женского природного непостоянства. Госпожа Луи, и сама не совсем здоровая, несмотря на естественное отвращение, подчинилась и хранила молчание об этом новом злоупотреблении супружеской властью.
Между тем Корвисар, лечивший и ее и пораженный переменами в ее состоянии, расспросил принцессу о некоторых подробностях ее жизни и добился признания о странной фантазии мужа. Он счел нужным сообщить об этом императрице и не скрыл от нее, что считает воздух в спальне принца Луи крайне вредным для его жены.
Госпожа Бонапарт предупредила об этом дочь, которая заклинала мать не вмешиваться в ее отношения с мужем. Но она не могла дольше сдерживаться и открыла матери множество подробностей, доказывавших, как ее притесняли и как велика была заслуга ее молчания обо всем до сих пор. Госпожа Бонапарт рассказала об этом императору. Он любил свою падчерицу и выразил брату свое неудовольствие, но Луи холодно ответил, что если император желает вмешиваться в его семейную жизнь, то он уедет из Франции. Тогда император, не желавший проявления резкости в своей семье, уговорил госпожу Луи быть терпеливой, быть может, и потому, что, подобно другим, опасался странного и упорного раздражения Луи. К счастью для жены, Луи быстро отказался от ужасного средства, а жене поставил в вину то, что она не сумела лучше сохранить его тайну.
Если бы дочь ее была счастлива, императрица испытывала бы нерушимое и счастливое спокойствие. Семья Бонапартов, занятая своими интересами, не старалась больше ее мучить. Отсутствовавший Жозеф готовился вступить на неаполитанский престол. Люсьен был навсегда изгнан из Франции. Молодой Жером неотлучно находился в море у наших берегов. Госпожа Баччиокки правила в Пьомбино. Принцесса Боргезе, занятая, по очереди, то лекарствами, то удовольствиями, ни во что не вмешивалась. Одна госпожа Мюрат могла бы несколько омрачить жизнь своей невестки, но она старалась устроить дела своего мужа, а императрица этому нисколько не мешала: ей очень хотелось, чтобы Мюрат получил какое-нибудь княжество, которое удалило бы его из Парижа.
Госпожа Мюрат пользовалась всей своей ловкостью и даже надоедливостью, чтобы добиться цели. Она льстила вкусам императора, предоставляла ему свой дом, если какая-нибудь внезапная фантазия делала это нужным. Она старалась доставить ему удовольствие празднествами, понравиться роскошью, которую он любил. Она обсуждала с императором подробности этикета, который он желал установить, и это заставило императора говорить, что у сестры его действительно есть все, чтобы быть королевой. Не пренебрегая ничем, что могло принести ей пользу, она приближала Маре, который приобрел известное значение, наконец, льстила Фуше и сильно привязала его к себе.
Сближение госпожи Мюрат с этими двумя лицами, плохо относящимися к Талейрану, привело к окончательному охлаждению Талейрана к Мюрату, которого он вообще не любил; а так как в то время Талейран был в большой милости, он часто разрушал проекты госпожи Мюрат. Сам Мюрат доверил жене соблюдение его интересов и довольствовался тем, что старался не раздражать императора, проявлять по отношению к нему самое полное подчинение и безропотно переносить неровность его характера. Необыкновенно храбрый на поле битвы, он не обладал, как говорят, военными талантами и добивался всегда только самого опасного положения, чтобы проявить себя. У него не было недостатка в известном уме, манеры его были приятны, внешность и костюм всегда несколько театральны, но красивое лицо и благородная фигура мешали ему выглядеть смешным. Император нисколько не доверял Мюрату, пользовался его услугами потому, что не боялся его; к тому же он не мог устоять, когда ему льстили. Известная легковерность может совмещаться в одном и том же характере с недоверием, и самые подозрительные из сильных мира сего являются, однако, доступными лести.
После аустерлицкой кампании император распределял награды между генералами. Он раздал некоторым из них очень значительные суммы денег в качестве вознаграждения за понесенные расходы. Генерала Кларка сделал членом ордена Почетного легиона за управление Веной, хотя до сих пор обращался с ним довольно холодно, не проявляя особенного доверия и обвиняя в тайной привязанности к Орлеанскому дому. Но Кларк сумел убедить его в своей рабской преданности.
Генерал Кларк, в настоящее время герцог де Фельтр, в течение трех лет играл довольно большую роль, поэтому, мне кажется, следует рассказать о нем подробнее. Его дядя, сенатор Шэ, ныне пэр Франции, служил до революции секретарем одной кавалерийской части, полковником которой был герцог Орлеанский. Шэ взял с собой своего племянника Кларка и таким образом вытащил его из провинции[100]. Молодой человек оказался тесно связан с Орлеанским домом, и, быть может, поэтому Бонапарт обвинял его в его тайных склонностях.
Кларк горячо служил интересам революции и в 1794-м и 1795-м годах Комитет общественного спасения даже поручал ему дела, касающиеся военной администрации. Кларк также последовал за Бонапартом в Италию, а позднее был назначен посланником в Тоскану, где оставался довольно долго, но часто писал во Францию, желая добиться назначения и возвращения. Наконец его призвали; он стремился победить предубеждение, которое было у Бонапарта по отношению к нему; он старательно льстил императору, отдался тому порабощению, какого всегда требовал его господин, и наконец был назначен государственным советником и секретарем кабинета.
Кларк оказался хорошим работником, не интересовался никакими развлечениями, обладал умом не глубоким, не изобретательным, но точно воспроизводившим то, что его поражало. Генерал последовал за императором в первой венской кампании, управлял этим городом без злоупотреблений и по возвращении получил первую награду. В то же время он обладал высокомерием и известной требовательностью, которая совсем не нравилась главнокомандующему.
Позднее мы его увидим военным министром, честность его была повсюду признана; он собрал состояние только благодаря сбережениям из своего жалованья. Вместе с Маре он довел до последней степени язык лести. Женатый первым браком на женщине, которая ему не нравилась, Кларк развелся; от этого брака у него была дочь, милая и кроткая, которую он выдал замуж, сделавшись министром, за виконта Эмери Монтескье-Фезензака[101], чья военная карьера благодаря такому тестю составилась очень быстро[102]. Этот молодой человек состоит в настоящее время главным лекарем королевской гвардии.
Герцог де Фельтр женился второй раз на незначительной, но очень доброй женщине, от которой имеет нескольких сыновей.
Между тем расположение Талейрана к Ремюза стало причиной того, что у нас завязались некоторые отношения. Талейран еще не бывал у меня, но я часто встречалась с ним, и он повсюду отличал меня гораздо больше, чем прежде. Он не упускал случая сказать мне что-нибудь хорошее о моем муже, затрагивая мои самые горячие чувства и даже, если говорить все, мое тщеславие; таким образом, мало-помалу он побеждал мое предубеждение против него. Однако порой Талейран смущал меня некоторыми неожиданными словами. Однажды я говорила с ним о завоевании Неаполитанского королевства и решилась заметить, как меня волнует эта политика свержения с тронов, которой мы, по-видимому, руководствовались. Он отвечал мне решительным и холодным тоном, который всегда принимал, когда не желал продолжения разговора: «Сударыня, все это будет окончено только тогда, когда на тронах Европы не будет ни одного Бурбона». Эти слова причинили мне некоторое огорчение. Я не думала тогда о нашей королевской фамилии – нужно это признать, – однако, когда слышала это имя, мне казалось, что известные воспоминания юности пробуждали во мне прежнее чувство, которое только дремало, но не исчезло окончательно.
Рассказывая сейчас об этом впечатлении, я рискую быть обвиненной в аффектации, совершенно чуждой моему характеру. Могли бы подумать, что, вспоминая это время, я хочу подготовить свое возвращение к тем взглядам, которые каждый теперь старается проявить. Но нет, ничего подобного. В то время я очень восхищалась императором; я еще любила его, хотя он меньше меня привлекал; я считала его необходимым для Франции, и он казался мне законным государем. Но ко всему этому присоединялось нежное уважение к наследникам и родственникам Людовика XVI, ко всей династии Людовика XVI, бывшего моим кумиром; и это чувство заставляло меня страдать, когда я видела, что Бурбонам готовят новые несчастья, или слышала, как дурно говорят о них.
Бонапарт часто причинял мне это горе. У человека, ценящего только успех, Людовик XVI не мог пользоваться большим уважением. Бонапарт относился к королю крайне несправедливо и сохранял по отношению к нему все народные предрассудки, порожденные революцией. Когда его беседа касалась этого знаменитого и несчастного государя, я старалась отклониться от нее, насколько это было возможно.
Как бы то ни было, таково было тогда мнение Талейрана; я смогу показать, как мало-помалу события изменили его.
В эту зиму украшением нашего двора явился наследник баварского короля. Он был молод, глуховат, довольно нелюбезен, но очень вежлив и притом проявлял большое уважение по отношению к императору. Его поместили в Тюильри; назначили двух камергеров и шталмейстера для его личной службы и оказывали ему всевозможные почести.
Десятого февраля список придворных дам был пополнен именами госпожи Маре (по просьбе госпожи Мюрат) и госпожи де Шеврез. Талейран, друг герцогини де Люинь, добился того, чтобы ее падчерица была представлена ко двору. Эта герцогиня обожала госпожу де Шеврез, которая имела взгляды довольно твердые и всегда противоположные тому, чего от нее требовали.
Бонапарт угрожал, Талейран вел переговоры и, по своему обыкновению, добился поставленной цели. Госпожа де Шеврез была красива, несмотря на рыжий цвет волос[103], была умна, но до последней степени испорчена своей семьей, несколько своевольна и склонна к причудам. Ее здоровье было уже тогда очень слабо. Император порой начинал обращаться с ней ласково, чтобы возместить свою обычную резкость. Иногда ему удавалось достигнуть цели, но в целом она не скрывала своего раздражения. Благодаря своему характеру госпожа де Шеврез доставляла императору удовольствие, которое другая постаралась бы доставить из хитрости: удовольствие украшать пышные празднества нашего двора. И так как Бонапарт любил даже самый маленький успех, то, видя появление госпожи де Шеврез, нарядной и веселой, он говорил, смеясь: «Я победил отвращение госпожи де Шеврез». В сущности, я не думаю, чтобы это ему действительно удалось.
Госпожа де Монморанси, бывшая в близких отношениях с Талейраном, была представлена ко двору благодаря уговорам Талейрана и своему собственному желанию: ей хотелось приобрести леса, которые принадлежали ее семье и были отняты правительством во время эмиграции, но пока не проданы. Госпожа де Монморанси вполне подходила нашему двору: без высокомерия, без низкопоклонства, она была довольна и очень веселилась. Само имя ее давало ей повсюду известное преимущество. Император часто говорил, что уважает только историческое дворянство, и действительно очень отличал его.
Через несколько лет император возвратил Монморанси и Мортемару большую часть потерянного ими состояния. Мортемар отказался быть шталмейстером, считая это занятие слишком утомительным, и был назначен губернатором в Рамбуйе. Виконт де Лаваль-Монморанси стал губернатором Компьеня и одним из самых горячих поклонников Бонапарта.
С этого времени люди все больше и больше стремились попасть к императорскому двору и быть представленными императору. Круг придворных становился блестящим. Честолюбие, страх, тщеславие, стремление к удовольствиям, желание возвыситься руководило множеством лиц. В марте в администрации появился Моле, последний потомок и наследник Матье Моле[104]. Ему было тогда двадцать шесть лет. Он родился в эпоху революции, много перенес в те времена и мог сам распоряжаться собой, так как потерял отца во времена тирании Робеспьера. Он употребил свою свободу на серьезные и разнообразные занятия. Его родственники и друзья женили его, когда ему было 19 лет, на Каролине де ла Бриш, наследнице значительного состояния, племяннице госпожи д’Удето, о которой я часто говорила. Моле, человеку от природы серьезному, скоро надоела светская жизнь, и, так как он еще не знал, чему посвятить свою молодость, он постарался занять свой досуг сочинениями, которые показывал друзьям. К концу 1805 года он написал небольшую метафизическую работу, местами несколько неясную, относительно теории власти и человеческой воли. Его друзья, удивленные теми размышлениями, которые проявлялись в этом сочинении, посоветовали его напечатать. Моле охотно согласился, прежде всего в силу своего юношеского тщеславия. Его возраст сделал публику снисходительной к этой работе, в ней нашли глубину и остроумие, но вместе с тем и известное стремление восхвалять деспотическое правительство, и это дало повод думать, что автор, печатая его, желал обратить на себя внимание и понравиться тому, кто располагал тогда судьбою всех. Быть может, это тайное намерение действительно входило в планы автора; быть может, он приходил в ужас от злоупотреблений свободы и видел с самого дня рождения, что отдых для Франции наступил только в тот день, когда ею стала править твердая воля; как бы то ни было, Моле опубликовал свой труд о морали в политике, который наделал довольно много шума.
По возвращении из Вены Фонтан, очень любивший Моле, прочел этот труд Бонапарту, который был поражен им. Выраженные в нем взгляды, выдающийся ум, славное имя Моле – все это привлекало внимание императора. Он захотел увидеть автора, обласкал его, как умел это делать, так как он говорил с молодежью именно таким языком, каким лучше всего умел ее очаровать. Ему удалось убедить Моле, что он должен вступить в администрацию, обещая ему быструю, блестящую карьеру, и через несколько дней после этого свидания Моле был уже причислен к министерству внутренних дел. Связанный тесной дружбой со своим двоюродным братом д’Удето, Моле уговорил его избрать такую же карьеру, и д’Удето был причислен к морскому министерству.
Эти назначения, совершавшиеся с такой быстротой, вносили в общество успокоение, потому что соединяли интересы всех. Так, например, Моле сделался как бы звеном, соединявшим императора со значительной частью общества, так как сам происходил из многочисленной и выдающейся семьи и жена его принадлежала к довольно высокопоставленным лицам: двоюродными сестрами госпожи Моле были госпожа де Вентимиль и госпожа де Фезензак. Я тоже давно дружила с этой семьей. Мне приятно было видеть, что они получили соответствующее положение, которое создавалось для всякого, кто желал им воспользоваться. Я видела, как взгляды смягчались из-за интересов, партии стушевывались; честолюбие, удовольствие, роскошь сближали всех, а порицание с каждым днем теряло свою силу. Если бы Бонапарт, так искусно умевший привлекать людей, сделал еще один лишний шаг, если бы он согласился управлять не только при помощи силы, если бы он покровительствовал этому направлению умов, этому желанию отдыха, наконец, если бы, победив настоящее, он обеспечил бы будущее прочными и благотворными учреждениями, не зависящими от его собственных капризов, – тогда, почти наверное, его победа над воспоминаниями, предупреждениями и сожалениями была бы так же прочна, как и блестяща.
Но, надо сознаться, свобода, истинная свобода, повсюду отсутствовала, и наша общая вина состояла в том, что мы слишком поздно это заметили. Как я уже говорила, император улучшил финансы, поощрял торговлю, науки, искусства; отыскивали что-либо выдающееся во всех классах общества, но при этом всегда старались запятнать их рабством. Желая все направлять, все регулировать в свою пользу, император всегда ставил себя целью всякого общественного движения. Рассказывали, что когда он в первый раз отправился в итальянскую кампанию, то сказал одному журналисту, своему другу: «Старайтесь в сообщениях о наших победах говорить только обо мне, всегда обо мне, слышите ли?» Это «я» было вечным выражением его личного честолюбия. «Цитируйте только меня, воспевайте, хвалите, рисуйте только меня, – говорил он ораторам, музыкантам, поэтам, художникам. – Я куплю у вас все, что вы пожелаете, но нужно, чтобы все вы были проданы». Он желал отметить свой век всеми чудесами, но вместе с тем заставлял таланты испытывать угрызения совести, парализовывавшие все старания, уничтожая ежедневно, шаг за шагом, ту благородную независимость, которая развивает свободный полет фантазии в какой бы то ни было области.
Глава XVIII 1806 год
Цивильный лист императора – Некоторые подробности о дворе и его расходах – Туалеты императрицы – Придворные празднества – Семья императрицы – Замужество принцессы Стефании – Ревность императрицы – Спектакли в Мальмезоне
Прежде чем продолжать свой рассказ, я должна, как мне кажется, посвятить несколько страниц подробностям внутреннего управления, тому, что называлось домом императора. Хотя теперь все, что касается окружающих и самого двора, забылось еще больше, чем все остальное, однако, мне кажется, интересно знать, до каких мелочей Бонапарт регулировал расходы и поступки всех окружающих его лиц. Он проявлял себя во всех случаях одинаково, и эта верность системе, безапелляционно принятой, составляла одну из любопытнейших сторон его деятельности.
Подробности, которые я хочу привести, относятся к различным эпохам. Однако с 1806 года правила, которым следовали при дворе, оставались без изменений, и незначительные перемены или совсем не нарушали общего плана, или нарушали его только слегка. Поэтому я буду говорить об этом плане в целом, и в этом случае мне поможет очень точная память Ремюза, который в течение десяти лет был свидетелем и сам принимал участие во всем описанном в этой главе[105].
Цивильный лист достиг во Франции при Бонапарте суммы в двадцать пять миллионов, кроме того, имелись леса и коронные домены, приносившие три миллиона, и цивильный лист Италии в восемь миллионов, из которых четыре миллиона император отдал принцу Евгению. В Пьемонте по цивильному листу и от доменов выходило три миллиона; когда принц Боргезе был назначен губернатором Пьемонта, он стал получать половину; наконец, четыре миллиона из Тосканы он делил с госпожой Баччиокки, великой герцогиней Тосканской. Таким образом, точный доход императора составлял 35 500 000 франков.
Бонапарт лично распоряжался большей частью секретных расходов министерства иностранных дел и театральной кассой, составлявшей 1 800 000 франков; из них только 1 200 000 были предназначены на поддержку театров, а остальное раздавалось в качестве наград актерам[106], артисткам, писателям и даже придворным чинам. Кроме того, император располагал всей кассой полиции, за вычетом расходов по этому министерству; а эта касса представляла ежегодно довольно значительную сумму, так как составлялась из дохода с карт (который достигал тогда больше четырех миллионов[107]), доходов от всех газет (что должно было составить около миллиона) и, наконец, дохода от гербовой бумаги, паспортов и разрешений носить оружие.
Доходы с налогов, взимаемых во время войны, были причислены к экстренным; ими Бонапарт распоряжался по собственной фантазии. Часто он сохранял себе из них значительную долю, чтобы покрывать расходы по войне с Испанией и громадные приготовления к московской кампании. Наконец, он реализовал значительную часть из них, обменяв на звонкую монету и бриллианты, которые хранились в подвалах Тюильри и служили ресурсом во время войны 1814 года, когда истощились все другие ресурсы.
Самый строгий порядок царил при дворе Бонапарта: доходы каждого были довольно значительны, но все было урегулировано таким образом, что ни один придворный не мог ничего расхитить из того, что ему было доверено. Высшие придворные чины получали 40 000 франков. В два последних года своего царствования император назначил большие суммы денег, помимо жалованья, лицам, занимающим высшие придворные должности.
Гофмаршал, обер-камергер и обер-шталмейстер получали по 100 000 франков, обер-егермейстер – 80 000 франков, обер-церемониймейстер – 60 000, интендант и казначей получали по 40 000, первый префект дворца и придворные кавалеры императрицы – по 30 000.
Мой зять Нансути некоторое время был первым камергером императрицы, но когда это место было упразднено, он сделался первым шталмейстером императора. Статс-дама получала 40 000, первая придворная дама – 30 000. Из восемнадцати камергеров самые старые получали различно, 12 000, 6000 или 3000 франков, в зависимости от воли императора. Для других это звание было только почетным.
Притом император ежегодно регулировал расходы, касающиеся дворца, и это увеличило зависимость, так как ни у кого не было уверенности в своей судьбе. Шталмейстеры получали 12 000 франков, префекты дворца или дворецкие – 15 000, церемониймейстер – столько же. Каждый из лейтенантов получал 24 000, так же как и придворные чины. Гофмаршал двора осуществлял верховный надзор за всеми расходами относительно стола, прислуги, освещения, отопления и т. п. Эти расходы достигали почти 2 000 000 франков.
У Бонапарта был обильный стол и изысканная сервировка; серебряная посуда была очень красива, в большие праздники и во время торжественных обедов сервировали позолоченным серебром. У госпожи Мюрат и принцессы Боргезе и вовсе вся посуда была из позолоченного серебра. Гофмаршал двора носил малиновую одежду, вышитую серебром. Префекты дворца носили тот же цвет, но меньше вышивок.
Расходы обер-шталмейстера простирались от трех до четырех миллионов. У него было около 1200 лошадей; экипажи были скорее прочными, чем изящными; все они были выкрашены в зеленый цвет.
У императрицы было несколько экипажей и красивые коляски, но не было своей конюшни.
Обер-шталмейстер и остальные шталмейстеры носили темно-синий костюм, вышитый серебром.
В ведомство обер-камергера входила служба в апартаментах, наблюдение за гардеробом, за спектаклями при дворе, празднествами, за музыкой в капелле, за камергерами императора и императрицы. Все эти расходы не превышали 3 000 000. Камергер носил красный костюм, вышитый серебром. Обер-церемониймейстер имел бюджет, и вовсе не превышавший 300 000 франков, он носил лиловый костюм с серебром. Обер-егермейстер – 700 000 франков; костюм был зеленый с серебром.
Обстановка находилась в ведомстве интенданта, так же, как и здания. Эти расходы составляли от пяти до шести миллионов.
Таким образом, издержки каждого года доходили до пятнадцати или шестнадцати миллионов.
В последние годы император построил еще некоторые здания, так что этот расход увеличился.
Ежегодно он заказывал в Лионе обивку и мебель для различных дворцов. Это делалось для того, чтобы поддержать мануфактуры города. Кроме того, ежегодно покупали прекрасную мебель из красного дерева и т. п. Фарфоровые фабрики получали заказы на целые сервизы необыкновенной красоты. После возвращения короля все дворцы нашли заново отделанными, а склады – полными мебели.
Вместе с тем расходы в самые затратные годы, в годы коронования и венчания, не превышали двадцати миллионов.
Расходы Бонапарта на туалеты были определены в бюджете в 40 000 франков. Иногда они немного превышали эту сумму. Во время кампаний приходилось посылать для него белье и платье в несколько мест сразу. Он быстро и сильно пачкал все, что носил, малейшее стеснение заставляло его бросать одежду, так же, как и малейшая разница в тонкости сукна или белья. Он всегда говорил, что хотел бы одеваться как простой офицер его гвардии, всегда ворчал на то, что его заставляли тратиться, по его словам, но по фантазии или неловкости часто создавал необходимость возобновлять свой костюм. Среди других разрушительных наклонностей нужно упомянуть привычку Бонапарта мешать огонь в камине ногой, сжигая таким образом свои башмаки и сапоги, особенно когда он предавался гневу; тогда, сердясь и разговаривая, он резко отбрасывал головни в камине, около которого стоял.
Ремюза был в течение нескольких лет хранителем его гардероба, не получая за это жалованья. Когда его сменил Тюренн, камергер, ему назначили 12 000 франков.
Каждый год император сам составлял бюджет расходов двора – с самым мелочным вниманием и замечательной бережливостью. В течение трех последних месяцев года каждый, кто стоял во главе ведомства, составлял бюджет расходов на следующий год. Когда эта работа бывала окончена, собирался совет, и все тщательно обсуждалось. Этот совет состоял из гофмаршала, который в нем председательствовал, придворных чинов, коменданта и хранителя коронной казны. Расходы по дому императрицы были в ведении главного камергера, который и заносил их в свой бюджет. На этих советах гофмаршал и хранитель казны должны были защищать интересы императора. Когда обсуждение заканчивалось, гофмаршал приносил бюджеты Бонапарту, который сам их просматривал и затем возвращал, отметив на полях свои замечания. Через некоторое время на следующем совете председательствовал уже сам император, который еще раз обсуждал каждую статью расходов. Эти обсуждения продолжались обыкновенно в течение нескольких советов; затем бюджеты, врученные всем, кто стоял во главе ведомств, переписывались набело и переходили в руки интенданта, который окончательно их вырабатывал с императором в присутствии гофмаршала. Тут точно определяли все расходы, и очень редко кто-нибудь из придворных мог добиться того, чего просил.
Бонапарт вставал в разное время, но обыкновенно в семь часов. Проснувшись ночью, он иногда возобновлял работу, или купался, или ел. Пробуждение обыкновенно бывало печальным и, по-видимому, тяжелым, поскольку Бонапарта часто мучили конвульсивные спазмы желудка, возбуждавшие тошноту. Иногда он бывал этим сильно напуган, начинал думать, что принял яд, и тогда употребляли всевозможные лекарства, чтобы облегчить это состояние. Такие подробности я знаю от его медика, Корвисара.
Единственными лицами, которые имели право входить в его уборную без доклада, были гофмаршал и первый доктор; заведующий гардеробом входил после доклада, но почти всегда бывал принят. Император желал, чтобы Ремюза пользовался этим утренним визитом и давал ему отчет о том, что говорится и делается при дворе и в городе. Муж мой всегда от этого отказывался – с известной твердостью, которая заслуживает одобрения; и это очень не нравилось императору.
Другие доктора или хирурги могли приходить только тогда, когда их призывали. Бонапарт, казалось, не очень верил в медицину и любил посмеяться над ней, но чрезвычайно доверял Корвисару и очень уважал его. Здоровье у императора было хорошим, сложение – крепким; но, когда ему несколько нездоровилось, он становился очень мнительным. Время от времени он страдал лишаями и жаловался немного на печень; ел очень умеренно, не пил, ни в чем не позволял себе излишеств, кроме кофе, – пил много кофе.
Я говорила уже о том, как он отказался спать в одной комнате с первой женой; кажется, не много ночей он провел и с эрцгерцогиней. Она очень боялась жары, не позволяла топить в комнате, в которой спала, а император, который боялся холода в доме, хотя очень хорошо мог переносить суровый холод на дворе, жаловался на эту привычку.
Во время одевания Бонапарт бывал молчалив, за исключением тех случаев, когда между ним и Корвисаром завязывался какой-нибудь спор по поводу медицины. Во всем он любил доходить до сущности, и когда ему говорили о чьей-нибудь болезни, первым вопросом его было: «Он умер?» Бонапарт очень не одобрял, если ответ бывал положительным, и выводил отсюда заключение о несостоятельности медицины.
С большим трудом он привык бриться сам. Ремюза уговорил его делать это, видя его волнение и беспокойство все время, пока длилась эта процедура, исполняемая цирюльником. После многих проб императору удалось научиться, и он часто говорил, что тот, кто дал ему совет бриться собственноручно, оказал ему особенную услугу.
Бонапарт так привык не обращать никакого внимания на все окружающее, что это презрение к другим сказывалось в его малейших привычках. У него не было никакого представления о приличии, которое внушается обыкновенно каждому сколько-нибудь воспитанному человеку, и он совершал полный туалет в своей комнате в присутствии всех, кто бы они ни были. Если какой-нибудь лакей вызывал его нетерпение во время одевания, он резко раздражался, не сдерживаясь ни относительно себя, ни относительно других, и бросал на пол или в огонь ту часть одежды, которая ему не подходила.
Император особенно заботился о своих руках и ногтях. Чтобы обрезать их, ему нужно было громадное количество ножниц, так как он ломал и отбрасывал их, когда они казались ему недостаточно отточенными. Никогда он не употреблял никаких духов, довольствуясь одеколоном, которым так обильно поливал всю свою особу, что употреблял до шестидесяти флаконов в месяц. Он считал это очень полезным, так как не был особенно аккуратен, как я уже говорила.
По окончании туалета он проходил в свой кабинет, где его ждал личный секретарь. Когда било десять часов, дежурный камергер, являвшийся в восемь часов и тщательно осматривавший, все ли в порядке и на местах ли комнатные слуги, стучал в дверь и объявлял прием, не входя в кабинет, если император не приказывал ему этого. Я уже рассказывала, как происходили эти приемы. Когда они были окончены, Бонапарт давал аудиенции частным лицам, которые там находились: принцам, министрам, занимающим высокие общественные должности, или префектам в отпуске. Все те, кто не имел права присутствовать на этих приемах, могли получить аудиенцию, только обращаясь к дежурному камергеру, который представлял их имена императору, но большей частью император в аудиенции отказывал.
Эта процедура продолжалась до завтрака. Около одиннадцати часов императору подавали завтрак в так называемом служебном салоне, где он давал частные аудиенции и работал со своими министрами. Префект дворца объявлял, что завтрак подан, и присутствовал при нем стоя. Император быстро съедал поданные два или три блюда и заканчивал большой чашкой кофе. Затем он возвращался к себе и работал. В салоне, о котором мы говорили, оставались полковник гвардии, дежуривший в эту неделю, а также камергер, шталмейстер, префект дворца и, когда устраивалась охота, один из офицеров.
Советы министров происходили в назначенные дни. Созывали три заседания Государственного совета в неделю. В течение пяти или шести лет Бонапарт часто председательствовал на них, его сопровождали полковник и камергер. Говорили, что император выказывал во время прений замечательные свойства своего ума. Иногда удивлялись тем блестящим и глубоким замечаниям, которые вырывались у него по вопросам, казалось, совершенно ему чуждым. Постепенно его снисходительность в спорах уменьшилась, и он принял более повелительный тон.
Занятия в Государственном совете или Совете министров, а также его частная работа продолжались до шести часов. С 1806 года Бонапарт почти всегда обедал один с женой, за исключением путешествий в Фонтенбло, когда он приглашал гостей. Подавали закуски и сладкое вместе, и он брал рассеянно все, что попадалось под руку, будь то варенье или крем, которые он нередко ел до закусок. Префект дворца присутствовал при обеде, прислуживали два пажа, а им помогали лакеи. Время обеда было очень неровным. Если этого требовали дела, Бонапарт оставался работать и задерживал свой совет до шести, семи или восьми часов вечера, не обнаруживая ни малейшей усталости и никакого желания есть. Госпожа Бонапарт ожидала его с удивительным терпением, никогда не жалуясь.
Вечера бывали очень коротки. В течение зимы 1806 года давалось много маленьких балов в Тюильри или у принцев. Император показывался на них на минуту, но всегда имел скучающий вид. Вечерний прием совершался так же, как и утренний, за исключением того, что тогда последними являлись его служащие, чтобы получить приказания. Чтобы раздеться и лечь в постель, император имел при себе только лакея.
Никто не спал в его комнате, кроме него самого. Мамелюк укладывался возле внутреннего входа. Дежурный адъютант спал в служебной зале, подпирая головой дверь. В комнатах, предшествующих салонам, дежурили полковник гвардии и два лакея. Внутри дворца нельзя было встретить ни одного часового. В Тюильри часовой стоял на лестнице, потому что эта лестница была открыта для публики. У внешних дверей часовые были расставлены повсюду. Бонапарта прекрасно охраняли совсем немного людей, – об этом заботился гофмаршал. Дворцовая полиция была прекрасно организована; знали имена всех входящих лиц. Статс-дама имела свои апартаменты, которые, впрочем, госпожа де Ларошфуко почти не занимала. Со времени второго брака Бонапарт пожелал, чтобы госпожа де Монтебелло всегда жила во дворце[108]. В Сен-Клу во дворце проживали все служащие. Обер-шталмейстер помещался в конюшнях, которые находились там, где теперь находятся конюшни короля[109]. Интендант и хранитель казны также располагались во дворце.
Императрица Жозефина получала на свои личные расходы 600 000 франков, но этой суммы ей далеко не хватало, она ежегодно делала множество долгов. Ей предоставляли 120 000 франков на дела благотворительности, притом что эрцгерцогине выдавали только 300 000 и 60 000 франков для ее шкатулки.
Причина этого различия заключалась в том, что госпожа Бонапарт вынуждена была часто помогать своим бедным родственникам, которые об этом просили; поэтому она должна была больше тратить. Госпожа Бонапарт много дарила, но так как никогда не брала подарков на свой счет, а всегда их покупала, то это бесконечно увеличивало ее долги.
Несмотря на желание своего мужа, она так и не смогла подчиниться в своей личной жизни никакому порядку, никакому этикету. Он даже желал, чтобы к ней не получал доступа ни один продавец, но вынужден был уступить. Внутренние апартаменты были полны продавцами и всевозможными художниками. У императрицы была мания заказывать свои портреты, и она дарила их всем, кто желал их получить, – родственникам, друзьям, горничным и даже купцам. Ей постоянно приносили драгоценные камни, шали, материи, украшения всевозможных сортов; она всегда все покупала, никогда не спрашивая о цене, и в большинстве случаев забывала, что купила.
С самого начала императрица намекнула своим статс-дамам, что им незачем вмешиваться в ее гардероб. Все совершалось между нею и камеристками, у нее их было, кажется, шесть или восемь. Она вставала в девять часов; туалет совершался очень долго, и часть его оставалась секретной, имея целью поддерживать ее красоту. Когда все бывало окончено, императрица надевала очень изящный длинный пеньюар, украшенный кружевами, и ее причесывали. Ее сорочки и юбки были вышиты и также украшены. Она меняла белье три раза в день и носила только совершенно новые чулки. Если мы подходили к двери в то время, когда она причесывалась, нас приглашали войти. Затем ей приносили большие корзины с различными платьями, несколькими шляпами и шалями. Летом это были платья из муслина или ситца, с богатой вышивкой и нарядно украшенные, зимой – закрытые платья из бархата. Она выбирала туалет на день и утром всегда надевала шляпу, украшенную цветами или перьями, а также платья, которые скрывали всю ее фигуру. У императрицы было от трехсот до четырехсот шалей, и она делала из них платья, покрывала для постели, подушки для своей собаки. Утром всегда одна из шалей была накинута на ее плечи с такой грацией, какую я встречала только у нее. Бонапарт находил, что эти шали слишком покрывают ее, и иногда срывал их и бросал в огонь, тогда она просила принести другую. Она покупала все шали, которые ей приносили, сколько бы они ни стоили; я видела у нее шали стоимостью восемь, десять или двенадцать тысяч франков. Впрочем, шали составляли главный предмет роскоши этого двора. Считалось недостойным носить такие, которые стоили бы не больше пятидесяти луидоров, и ценой любили даже похвастаться[110].
Я уже рассказывала о жизни, которую вела госпожа Бонапарт; эта жизнь особенно не менялась. Императрица никогда не открывала книг, не держала в руках пера, не работала и, по-видимому, никогда не скучала. Она не любила театр, а император не желал, чтобы она получала там без него приветствия. Она гуляла, только когда бывала в Мальмезоне, который постоянно украшали и тратили ради этого огромные суммы денег.
Император сердился, ссорился с женой, жена его плакала, обещала быть сдержаннее, но жила по-прежнему. В конце концов, конечно, приходилось платить. Вечерний туалет совершался так же, как и утренний. Все всегда было необыкновенно изящно; нам редко приходилось видеть то же платье, те же цветы. Вечером императрица почти всегда оставалась без шляпки, но с цветами, жемчугом или драгоценными камнями. Тогда она надевала очень открытые платья. Самым изысканным туалетом был тот, который ей наиболее шел. Каждое маленькое собрание, самый маленький бал были для нее поводом заказать новый костюм, несмотря на многочисленные склады тряпок, которые хранились во всех дворцах, так как у нее была мания ни с чем не расставаться. Я не могу сказать, какую сумму императрица истратила на всевозможные наряды. У всех придворных портных Парижа всегда можно было найти что-нибудь, что делалось для нее. Я видела у нее платья, стоившие сорок, пятьдесят и даже сто тысяч франков. Почти невероятно, как эта любовь к нарядам, вполне удовлетворенная, тем не менее так и не притупилась.
После развода она сохранила в Мальмезоне ту же роскошь и наряжалась даже тогда, когда никого не должна была принимать. Даже в день своей смерти госпожа Бонапарт пожелала, чтобы ее одели в очень изящный капот, так как думала, что русский император, быть может, посетит ее. Она умерла, вся покрытая лентами и розовым атласом. Этот вкус и эти привычки заставляли нас очень много тратить, чтобы быть прилично одетыми подле нее.
Дочь ее одевалась с большой роскошью, так как таков был обычай при дворе; но Гортензия любила порядок и экономию, и, кажется, ей не доставляло особенного удовольствия наряжаться. Госпожа Мюрат и принцесса Боргезе в нарядах проявляли все свое тщеславие, выплачивая за свои придворные костюмы от десяти до пятнадцати тысяч франков и покрывая их жемчугами и даже бриллиантами. Благодаря этой необыкновенной роскоши, замечательному вкусу императрицы, богатству костюмов двор становился весьма блестящим. Можно сказать, что в иные дни он представлял собой прямо ослепительное зрелище. Иностранцы были поражены.
Начиная с этого [1806] года император распорядился время от времени давать большие концерты в так называемой Зале маршалов. Эта зала, украшенная их портретами, была освещена бесчисленным количеством свечей. Приглашали всех, кто имел отношение к правительству, и особ, представленных ко двору, то есть около четырех или пяти сотен человек. Пройдя салоны, где находилось все это общество, Бонапарт входил в залу. Император располагался в глубине ее, императрица – слева, так же, как и принцессы императорской семьи, в ослепительных нарядах; справа помещалась Мадам Мер, еще очень красивая, с благородной осанкой, за ней – братья императора, богато одетые, затем – иностранные принцы и высшие сановники. Позади размещались придворные чины, камергеры, служащие, все в вышитых мундирах. Справа и слева, в два ряда, сидели: статс-дама, первая придворная дама, другие придворные дамы, почти все молодые, большей частью красивые и великолепно одетые, а затем шел бесконечный ряд женщин, француженок и иностранок, одетых с большой роскошью; за двумя рядами сидящих женщин стояли мужчины: посланники, министры, маршалы, сенаторы, генералы – все в блестящих костюмах. Напротив императорского ряда помещались музыканты. Как только император садился, начинала звучать прекрасная музыка, которую, признаться, несмотря на тишину, не особенно слушали.
Когда концерт заканчивался, в четырехугольнике, остававшемся пустым, лучшие танцоры и танцовщицы Оперы, очень изящно одетые, представляли очаровательные балеты. Эта часть празднества доставляла удовольствие всем, даже императору. Ремюза заведовал всем этим зрелищем, а это было немалое дело, так как император был требователен до мелочей. Этот дивертисмент и концерт продолжались около полутора часов, затем шли ужинать в Галерею Дианы. Красота галереи, блеск люстр, пышность стола, роскошь серебра и хрусталя вместе с роскошью гостей придавали этому ужину что-то действительно сказочное. Однако в нем недоставало не то чтобы непринужденности, которая едва ли может быть при дворе, а известной безопасности для каждого; таковая могла бы быть, если бы власть захотела присоединить хоть немного доброжелательности к величию, которым была окружена. Но императора повсюду боялись, и на празднествах на лице каждого можно было прочесть тайный страх, который императору нравилось внушать.
Выше я упоминала семью госпожи Бонапарт. В первые же годы после своего возвышения она вызвала в Париж четырех племянников и племянницу, которые жили на Мартинике. Это были молодые люди и мадемуазель Таше. Молодых людей отправили служить, а молодую особу поместили в Тюильри. Она была красива, но перемена климата повредила ее здоровью, что помешало ей выйти замуж так, как желал того император. Сначала он хотел выдать ее за баденского принца, затем одно время предназначал ее принцу испанского дома, наконец, ее выдали замуж за сына герцога А., из бельгийской семьи[111]. Этот брак, которого желала вся семья, рассчитывая получить большие выгоды, плохо удался. Супруги совсем не подходили друг другу. Их взаимное непонимание заставило их сначала разойтись без шума. После развода семья А., обманутая в своем честолюбии, казалась очень недовольной этим союзом и после возвращения короля брак был окончательно расторгнут. Госпожа А. живет теперь в Париже, очень скромно.
Старший из ее братьев, прожив два или три года во Франции, нисколько не был ослеплен честью иметь теткой императрицу; ему надоело представительство при дворе, он не любил военную службу, жалел о своей родине и получил разрешение скромно возвратиться в колонии. Он привез туда деньги и, ведя скромную жизнь, несомненно, был доволен своим благоразумным отъездом. Второй брат был связан с Жозефом Бонапартом, служил в его войсках в Испании и женился на мадемуазель Клари, племяннице госпожи Жозеф Бонапарт. Третий брат женился на принцессе фон дер Лейен и живет с ней в Германии. Четвертый брат был болен, жил со своей сестрой, и я не знаю, что с ним сталось.
Богарне также воспользовались возвышением госпожи Бонапарт и теснились вокруг нее. Я рассказывала, как она выдала дочь маркиза Богарне замуж за де Лавалетта. Маркиз долго был посланником в Испании; теперь он служил во Франции. Граф Клод Богарне, сын той, что писала стихи и романы[112], женился первым браком на мадемуазель де Лезе-Марнезия. От этого брака у него родилась дочь Стефания, которая жила после смерти матери у старой тетки, монахини. Граф Богарне, женившись во второй раз, не особенно вспоминал об этой молодой девушке, а вот Лезе-Марнезия, дядя юной Стефании, привез ее из Лангедока в Париж; ей было тогда четырнадцать или пятнадцать лет. Он представил ее госпоже Бонапарт, которая нашла ее красивой и изящной и поместила в пансион госпожи Кампан, откуда девушка вышла в 1806 году и была вдруг удочерена императором, объявлена принцессой императорского дома и вскоре выдана замуж за баденского наследного принца. Стефании было тогда семнадцать лет; в ее арсенале имелись: милая наружность, природный ум, веселость, даже некоторое ребячество, которое хорошо к ней шло, очаровательный голос, хороший цвет лица, живые голубые глаза и волосы красивого белокурого цвета.
Баденский принц, конечно, влюбился в нее, но сам сначала был не особенно любим. Карл Людвиг был молод, но очень толст; наружность его была обыкновенной и невыразительной; он мало говорил, казался всегда стесненным в движениях и повсюду как будто засыпал на ходу. Юная Стефания, живая, пикантная, имела некоторые основания считать, что оказывает баденскому принцу честь, отдавая ему свою руку: она была ослеплена своей судьбой и гордилась тем, что стала дочерью императора, которого считала тогда первым государем в мире. Напрасно старались изменить ее взгляды на этот брак; она покорно согласилась заключить его, когда этого пожелают, но отмечала всегда, что дочь Наполеона могла бы выйти замуж за королевского сына или за какого-нибудь короля. Это маленькое проявление тщеславия, сопровождаемое пикантными шутками, которым много прелести придавали ее семнадцать лет, понравилось императору и стало доставлять ему удовольствие. Он начал относиться к своей приемной дочери несколько лучше, чем следовало бы, и как раз в момент совершения брака был довольно откровенно влюблен в нее. Эта победа окончательно вскружила голову принцессе и сделала ее еще более высокомерной по отношению к будущему мужу, который напрасно старался ей понравиться.
Как только император объявил Сенату об этой свадьбе[113], юная Стефания поселилась в Тюильри в особых апартаментах и принимала в них депутации от государственных собраний. В депутацию от Сената назначили ее отца, положение которого было довольно странным. Она приняла все приветствия без смущения и на все прекрасно ответила.
Так как Стефания сделалась дочерью государя, и притом очень любимой, император повелел, чтобы она шла повсюду тотчас же после императрицы, впереди всей семьи. Госпожа Мюрат, конечно, была крайне недовольна. Она возненавидела девушку от всего сердца и не могла скрыть своего высокомерия и зависти. Юная особа смеялась над этим, как и ее государь, надо всем готовый посмеяться вместе с ней.
Императрица также была недовольна новой фантазией своего мужа. Она серьезно поговорила с племянницей и доказала ей, что та повредит себе, если не будет явно противодействовать усилиям императора очаровать ее. Мадемуазель Богарне выслушала советы тетки с известной покорностью; она сделала ее поверенной всех попыток, иногда чересчур решительных, со стороны приемного отца и обещала держать себя сдержанно.
Эта откровенность повела к возобновлению былых ссор в императорской семье. Бонапарт, оставшись прежним, не скрывал от жены своей новой склонности и, слишком уверенный в своем могуществе, возмущался тем, как принц Баденский осмеливается обижаться на все происходящее у него на глазах. Постепенно император начал опасаться, что произойдет взрыв, и видел, сколько эти распри привлекают взглядов, поэтому он сделался более осторожным. С другой стороны, молодая девушка, которой хотелось только позабавиться, проявила больше твердости, чем подумали сначала, но при этом откровенно возненавидела своего мужа. В вечер свадьбы было невозможно уговорить ее принять принца у себя.
Через некоторое время двор переехал в Сен-Клу, а с ним вместе и молодая чета. Ничто не могло склонить принцессу к согласию с мужем. Он проводил ночи в кресле в ее комнате, умоляя и настойчиво требуя, и наконец засыпал, ничего не добившись. Он жаловался императрице, которая бранила племянницу. Император поддерживал принцессу в ее упрямстве и, казалось, снова начинал надеяться. Все это производило довольно плохое впечатление. Наконец император почувствовал это и согласился на отъезд баденского принца, потому что сам был занят серьезными делами, утомлен резкостями жены, поражен недовольством молодого принца и сам убедился в том, что имеет дело с юной особой, желавшей только доставить себе удовольствие кокетничать с ним.
Баденский принц увез свою жену, которая пролила много слез, покидая Францию, и довольно холодно была встречена правившим принцем. Позже пришлось посылать к ней из Франции тайных послов, которые старались убедить ее в том, что очень важно стать матерью принца, имеющего, в свою очередь, наследственные права. Стефания подчинилась, но принц, охлажденный ее сопротивлением, не выражал по отношению к ней особенной нежности, и казалось, что этот брак сделает их обоих несчастными. Однако случилось иначе. Позднее мы увидим, что баденская принцесса, сделавшись с годами более благоразумной, вернула любовь принца и могла наслаждаться радостями союза, который сначала так страстно отвергала.
Среди придворных удовольствий надо упомянуть еще комедии, которые давали в Мальмезоне. В первые годы Консульства это случалось довольно часто. В ту пору Бонапарт интересовался этими представлениями, даваемыми перед немногочисленным собранием. В Мальмезоне устроили красивую залу, где мы несколько раз выступали. Принц Евгений и его сестра обладали истинным талантом и очень любили играть. Но мало-помалу та высота, на которую поднялась семья Бонапарта, начала мешать такого рода удовольствиям, и в конце концов комедии стали давать в известных случаях, например, в день именин императрицы.
Когда император возвратился из Вены, госпожа Луи Бонапарт предложила поставить маленький водевиль, сочиненный по этому поводу, и все мы играли и пели куплеты. Было приглашено довольно много народа, и Мальмезон прелестно иллюминовали. Что-то внушающее трепет было в том, чтобы выступать на сцене перед подобной аудиторией, но император казался довольно благосклонным. Мы играли хорошо, госпожа Луи имела большой и заслуженный успех; куплеты оказались хороши, похвалы довольно тонки, и вечер прекрасно удался.
Было очень интересно слышать, каким тоном каждый говорил в этот вечер: «Император смеялся! Император аплодировал!» И как мы поздравляли друг друга! В частности, я сама, подходившая к императору только с известной сдержанностью, вдруг много выиграла в его глазах благодаря тому, как исполнила роль старой крестьянки, которая мечтает, что ее герой совершит невероятные подвиги, и видит, что совершающееся даже превосходит ее мечты. После спектакля император сказал мне несколько любезных слов. Все мы играли от всего сердца, и, казалось, Бонапарт был растроган. Когда мне случалось видеть его таким, как будто внезапно смягченным и растроганным, мне хотелось ему сказать: «Будьте иногда таким! Соглашайтесь порой думать и чувствовать, как другие». В этих слишком редких случаях я чувствовала истинное облегчение. Мне казалось, что новая надежда будто возрождается во мне. Ах, как легко великим людям овладевать нами и как немного нужно, чтобы заставить себя любить! Быть может, я не раз высказывала эту мысль, но она так часто приходила мне в голову в течение двенадцати лет моей жизни, она так тяготит меня и теперь, когда я обращаюсь к своим воспоминаниям, что нет ничего удивительного, если она вырвется у меня несколько раз.
Глава XIX 1806 год
Двор императора – Придворное духовенство – Военные – Маршалы – Женщины – Делиль – Шатобриан – Госпожа де Сталь – Госпожа де Жанлис – Романы – Литература – Искусство
Прежде чем перейти к рассказу о дальнейших событиях, мне хочется немного остановиться на именах тех лиц, которые составляли в то время двор или занимали выдающееся положение в государстве. Я не могу, однако, брать на себя составление характеристик, которые отличались бы резко выраженными чертами. Известно, что деспотизм лучше всего нивелирует личности. Он предписывает мысли, определяет поступки и слова; благодаря ему правила, которым все должны подчиняться, так хорошо исполняются, что сглаживают все внешнее и даже, может быть, самые чувства.
Я вспоминаю, что в течение зимы 1814 года императрица Мария Луиза каждый вечер принимала множество людей. К ней приходили, чтобы узнать армейские новости, которыми каждый живо интересовался. В то время, когда император, преследуя прусского генерала Блюхера со стороны Шато-Тьери, разрешил австрийской армии продвинуться до Фонтенбло, в Париже думали, что все попадут в руки чужестранцев. У императрицы собралось много народу, все с большой тревогой расспрашивали друг друга. В конце вечера Талейран подошел ко мне и, рассказав о беспокойстве, свидетелем которого стал, заметил: «Что это за человек, который мог довести таких разных людей, как граф Монтескье и член Государственного совета Буле, до того, что они выражают испытываемые ими чувства одинаковыми словами?!» Он встретил у императора этих двух людей, которые показались ему одинаково бледными и одинаково страшащимися событий, которые начинали уже предвидеть.
Таким образом, за некоторыми исключениями, потому ли, что случай не собрал вокруг императора выдающихся характеров, потому ли, что все были подчинены одинаковым правилам поведения, – я не могу найти в своей памяти индивидуальных особенностей, которые стоило бы сохранить. Главные лица не идут в счет: они будут достаточно охарактеризованы событиями, о которых мне остается рассказать. Что же касается всех остальных, то я ограничусь тем, что назову их, опишу их костюмы и должности.
Тяжело переносить презрение ко всему человечеству со стороны государя, к которому чувствуешь себя привязанной. Это омрачает ум, разочаровывает и заставляет замкнуться в чисто материальной деятельности, которая становится ремеслом. Без сомнения, каждый из придворных или членов императорского правительства обладал известными особенностями ума и чувства. Некоторые вели молчаливо-добродетельную жизнь, другие скрывали свои недостатки и проявляли их только по команде: к несчастью для людей того времени, Бонапарт думал, что лучше воспользоваться злом, чем добром, поэтому выгоднее было обнаруживать самые дурные свои стороны. Там, где Бонапарт не видел пороков, он поощрял слабости, а в крайнем случае возбуждал страх, чтобы всегда чувствовать себя наиболее сильным. Так, ему нравилось, что Камбасерес, несмотря на действительно выдающиеся достоинства, проявлял довольно глупую гордость и создавал себе репутацию человека распущенного, что и уравновешивало его знания и справедливость. Император нисколько не жаловался на некоторую безнравственность Талейрана, на его легкую беззаботность, на то, что он придает мало цены общественному мнению. Императора забавляла «глупость», как он любил говорить, принца Невшательского и раболепная лесть Маре. Он извлекал выгоду из жажды наживы, открытой им в Савари, и из сухости Дюрока. Он не боялся напоминать, что Фуше был якобинцем, и даже часто говорил, улыбаясь: «Теперь есть одно отличие: он стал разбогатевшим якобинцем, но мне только этого и надо».
Министры императора были при нем и для него только более или менее деятельными приказчиками, с которыми он «не знал бы, что делать, если бы у них не было известной посредственности ума или характера». Наконец, если бы они действительно почувствовали себя стоящими выше, то должны были бы постараться это скрыть, и, может быть, потому, что чувство опасности предостерегало каждого, все и старались подчеркнуть свою слабость или свое ничтожество, которого на самом деле не было.
Духовенство не имело никакого влияния. Для императора каждое воскресенье служили мессу, но это было все. Я уже говорила о кардинале Феше. Около 1807 года при дворе появился Прадт, епископ Пуатье, впоследствии архиепископ Мехельнский. Он был человек неглупый и склонный к интриге, говорил многословно и вместе с тем остроумно, любил поболтать, был либерален во взглядах, но слишком цинично их выражал; он был замешан в очень многое, но без всякого успеха, умел действовать на императора своими речами; быть может, он и давал хорошие советы, но когда ему поручали их исполнять, все было испорчено. Он не пользовался ни доверием, ни общественным уважением.
Аббат Брольи, епископ Гента, из-за пустяков подвергся преследованию. Аббат Булон, епископ Труа, горячо проповедовал деспотизм, а теперь старается выйти из бездеятельности, в которой, к счастью, находится благодаря конституционному правлению короля. О кардинале Мори я уже говорила.
Бонапарт пользовался духовенством, но не любил священников. У него против них было какое-то предубеждение – философское, немного революционное. Не знаю, был ли он деистом или атеистом. Он охотно смеялся в кругу близких над тем, что касалось религии. Впрочем, мне кажется, император придавал слишком много значения тому, что совершается в этом мире, чтобы интересоваться тем, что происходит в другом. Я осмелюсь даже сказать, что он придавал большую цену бессмертию своего имени, чем своей души. Он чувствовал известное отвращение к ханжам и всегда называл их лицемерами. Когда в Испании духовенство подняло народ против него, когда ему пришлось испытать достойное противодействие со стороны французских епископов, когда он обнаружил, что на стороне папы много народа, Бонапарт был совершенно озадачен, ему не раз случалось говорить: «Я представлял себе людей более передовыми, чем они оказались на самом деле».
Среди придворных императора было много военных, в невоенное время они исполняли гражданские обязанности. В Тюильрийском дворце Бонапарт боялся воспоминаний о поле битвы, придал иное направление претензиям, сделав генералов камергерами, а позднее запретил им появляться при дворе в форме, разрешив только вышитую одежду и заменив саблю придворной шпагой. Это превращение не понравилось очень многим военным, но пришлось покориться и из волка сделаться пастухом. Впрочем, это желание имело разумные основания. Блеск оружия до известной степени убил другие классы, которые надо было привлечь. Таким образом, солдатские нравы невольно должны были смягчиться, и упорные маршалы потеряли кое-что из своей силы, стараясь приобрести хорошие манеры. Во время этого обучения они имели несколько смешной вид, а Бонапарт видел в этом свою выгоду.
Мне кажется, я могу утверждать, что император никого из своих маршалов не любил. Он охотно говорил о них дурно, а иногда и очень дурно. Всех их он обвинял в большой жадности, проявления которой, впрочем, поощрял безграничной щедростью. Однажды Бонапарт их всех разобрал передо мной. Он вынес Даву нечто вроде приговора, о котором я уже, кажется, говорила: «Даву – человек, которому я могу дать славу, но он никогда не сумеет носить ее». О маршале Нее он сказал: «У него есть склонность к неблагодарности и крамоле. Если бы я должен был умереть от руки маршала, то готов держать пари, что это была бы его рука».
От этих разговоров у меня сохранилось воспоминание, что Монсей, Бессьер, Виктор, Удино казались ему посредственностями, предназначенными оставаться всю жизнь только титулованными солдатами, Массена был человеком, которому Бонапарт, по-видимому, завидовал. Порой его беспокоил Сульт: ловкий, резкий, гордый, он спорил со своим господином и отстаивал свои условия. Император симпатизировал Ожеро, у которого в характере было больше грубоватости, чем истинной твердости, и, зная о тщеславных претензиях Мармона, не упускал случая подшутить над ними, так же как и над обычно дурным настроением Макдональда. Ланн был товарищем Бонапарта и иногда желал об этом напомнить, но его осторожно призывали к порядку. Бернадотт проявлял больше ума, чем другие. Он постоянно жаловался, но с ним действительно часто довольно плохо обращались.
Я не стану перечислять камергеров. «Императорский Альманах» может заменить меня в этом отношении. Мало-помалу их число сделалось весьма значительным, их брали во всех классах, самые усердные и самые молчаливые имели наибольший успех. Их занятия были довольно тяжелыми и очень скучными. Чем ближе они стояли к особе императора, тем неприятнее становилась их жизнь. Люди, которые входили с Бонапартом только в деловые сношения, не имеют полного представления об этих неудобствах: всегда было лучше иметь дело с его умом, чем с его характером.
Не буду много рассказывать и о женщинах той эпохи. Бонапарт часто повторял: «Нужно, чтобы женщины не играли никакой роли при моем дворе. Они не будут меня любить, но у меня будет больше покоя». И он сдержал слово. Мы украшали праздники, и это была фактически единственная наша роль. Однако, ввиду того, что красота имеет право на внимание, мне кажется, следует упомянуть о некоторых наших придворных дамах. Госпожа де Моттевиль в своих мемуарах (о королеве Франции Анне Австрийской и ее дворе, – Прим. ред.) иногда останавливается на самых красивых женщинах своей эпохи, и мне не хотелось бы умолчать о красивых женщинах моего времени.
О первой статс-даме императрицы, госпоже де Ларошфуко, я уже не раз рассказывала. Императрица как будто опасалась ее немного, поскольку обычное легкомыслие этой женщины имело несколько дерзкий оттенок.
Госпожа де Лавалетт, первая придворная дама, также уже не раз появлялась на страницах этих мемуаров. В качестве первой придворной дамы она не имела никаких определенных занятий, потому что императрица не желала, чтобы вмешивались в ее туалет. Напрасно император хотел, чтобы госпожа де Лавалетт регулировала счета, распоряжалась расходами, стояла во главе покупок: в этом пункте приходилось уступить и отказаться от возможности внести хоть какой-нибудь порядок. Госпожа де Лавалетт не решалась, из уважения к тетке, защищать права своего положения, поэтому ограничилась тем, что заменила госпожу де Ларошфуко, когда болезнь удалила эту последнюю от двора.
Во главе придворных дам стояла госпожа де Люсей, самая старшая из всех. В 1806 году она была уже не первой молодости. Это была простая и кроткая особа, так же как и ее муж, префект дворца. Она выдала свою дочь за младшего сына графа Сегюра и вскоре ее потеряла.
Мое имя обыкновенно шло вслед за ними. Мне хочется попытаться несколько описать себя, и думаю, что сумею сказать правду. Мне было двадцать три года, когда я появилась при дворе. Я не была красива, но не была и лишена приятности. Нарядные платья шли мне, у меня были красивые глаза, черные волосы, красивые зубы, но мой нос и лицо были слишком маленькими. Я считалась при дворе умной женщиной, и это было почти недостатком. В самом деле, у меня были и ум, и благоразумие, но в душе и даже в уме жила известная горячность, которая влияла на слова и поступки и заставляла меня совершать ошибки, которых не сделала бы особа, быть может, менее разумная, но более спокойная. При дворе на мой счет часто ошибались: я была деятельной, а меня считали интриганкой, мне было интересно узнавать ближе выдающихся людей, а меня считали честолюбивой. Однако я слишком предана была лицам и делам, которые казались мне справедливыми, чтобы заслуживать первый упрек, а моя верность друзьям в несчастье отвечает на второй. Госпожа Бонапарт доверяла мне несколько больше, чем другим, и этим меня компрометировала. Это вскоре заметили, и никто такому доверию особенно не завидовал. Император, который сначала любил меня довольно сильно, вызывал у императрицы большее беспокойство, но я не воспользовалась его благоволением. Однако надо признать, что это чувство льстило мне и вызывало мою благодарность. Я старалась ему нравиться, когда сама любила его, но, разочаровавшись, отдалилась. Притворство совершенно не в моем характере.
Я испытывала слишком большой интерес к этому двору. Он казался мне столь странным театром, что я к нему внимательно приглядывалась и много расспрашивала, чтобы во всем разобраться. Часто думали, что это делается для того, чтобы организовать интригу; во дворце никогда не верят никакому бескорыстному поступку, на все тона повторяется: «Кому выгодно?» Подвижность моего ума также ставила меня в затруднительное положение, тем более что я была еще очень молода и очень искренна, так как была очень счастлива. Но в моем характере еще не было ничего вполне установившегося, и мои достоинства иногда вредили мне так же, как и недостатки.
Среди всего этого я встретила людей, которые любили меня и по отношению к которым я сохраню самое нежное воспоминание, при каком бы режиме мне ни пришлось жить. Несколько позднее я стала очень страдать от моих разрушительных надежд, обманутых привязанностей и ошибочных заключений. К тому же здоровье мое угасало; я была утомлена тревожной жизнью, разочарована в людях; многое мне стало противно, многое я поняла. Я отдалилась и была счастлива тем, что могла найти в своем доме чувства и радости, которые не обманывали меня. Я любила своего мужа, свою мать, своих детей, своих друзей; несмотря на многочисленные и мелочные обязанности, связанные с занимаемым мною местом, я сохранила известную свободу. Наконец, было слишком заметно, как я любила и когда перестала любить, а это была самая большая неловкость, какую можно было сделать по отношению к Бонапарту. Чего он боялся больше всего на свете, так это способности его судить.
Госпожа де Канизи, о которой я уже упоминала, внучатая племянница архиепископа Бриенна, была безусловно прекрасна, когда появилась при дворе. Высокая, прекрасно сложенная, с черными глазами и волосами, красивыми зубами, орлиным и правильным носом, несколько смуглым, но живым цветом лица, она обладала какой-то царственной красотой, даже несколько надменной.
Госпожа Маре также была очень красива, у нее были правильные черты лица. Кажется, со своим мужем она жила очень дружно, Маре внушил ей часть своего честолюбия; мне редко приходилось видеть более наивное и беспокойное тщеславие. Она завидовала исключительному положению всякого человека и только положение принцесс ставила выше своего. Рожденная в очень скромных условиях (Мари-Мадлен Леже была дочерью сборщика налогов. – Прим. ред.), она мечтала о самых высоких отличиях. Когда император сделал всех придворных дам графинями, госпожа Маре была как будто оскорблена этим равенством. Она заупрямилась, отказалась носить этот титул и оставалась просто госпожой Маре до тех пор, пока ее муж не получил титул герцога Бассано.
Госпожа Маре и госпожа Савари были самыми элегантными женщинами нашего двора. Расходы на их туалеты, как говорили, превосходили сумму в пятьдесят тысяч франков в год. Тем не менее госпожа Маре считала, что императрица недостаточно отличает ее перед другими, и часто входила в союз с Бонапартами против нее. Ее боялись, и ей не доверяли не без оснований: она передавала очень многое, благодаря ее мужу это доходило до императора и многим вредило. Так как я была далека от всего этого, госпожа Маре относилась ко мне очень холодно и воздвигала на моем пути много мелких препятствий. Всякий желавший кому-нибудь повредить перед Бонапартом мог быть уверен в успехе: император всегда готов был поверить всему дурному. Госпожу Маре он не любил и слишком строго судил ее, однако верил всему, что исходило от нее. Мне кажется, она была одной из тех, кто больше всего пострадал от падения громадного здания Империи, падения, сбросившего всех нас на землю.
Тщеславие, связанное с положением в обществе, в конце концов было свойственно не одной госпоже Маре. Мы видели, что жена маршала Нея также очень тщеславна. Она была племянницей госпожи Кампан, первой камеристки королевы, и дочерью госпожи Огье, также камеристки, довольно плохо воспитанной, но доброй и кроткой женщиной. Отличия, которыми ее постепенно награждали, вскружили ей голову, и она по временам доставляла нам зрелище развития массы претензий, но это никого не шокировало в ней, потому что она опиралась на громкую военную репутацию своего мужа. В гордости этого последнего было что-то грубое, и это объясняло гордость жены.
Госпожа Ней, впоследствии герцогиня Эльхингенская, принцесса Московская, была, в сущности, очень доброй особой, неспособной говорить или делать что-либо дурное. Она серьезно огорчилась из-за некоторых произошедших во время Реставрации перемен в своем положении, презрения придворных дам короля. Она передавала свои жалобы мужу и, быть может, вызвала в нем раздражение против нового положения вещей, которое не лишало его места, но подвергало их ежедневным мелким унижениям, совершенно не зависящим от воли короля. После смерти мужа госпожа Ней уехала в Италию с сыновьями и менее значительным, чем все думали, состоянием.
У госпожи Ней в характере была привычка к необыкновенной роскоши: однажды она отправилась на воды с целым домом – взяла с собой постель, мебель, дорожное серебро по специальному заказу, целый ряд фургонов, массу курьеров. Говорила при этом, что жена французского маршала не может иначе путешествовать. Ее дом был одним из наиболее пышных; его меблировка и украшения стоили 1 100 000 франков. Аглая Луиза Ней была худощавой и высокой. У нее были несколько крупные черты лица, прекрасные глаза, доброе, приятное лицо и очень красивый голос.
Среди наших красавиц надо отметить также жену маршала Ланна, герцогиню де Монтебелло. В ее лице всегда оставалось что-то девичье, черты лица были нежны и правильны, а цвет лица поражал очаровательной белизной. Разумная, хорошая жена и превосходная мать, она всегда была в обществе суха, холодна и довольно молчалива.
Количество придворных дам мало-помалу сделалось очень значительным, и, в общем, немного можно сказать о женщинах, игравших такую незначительную роль. Я уже рассказывала о Монморанси, де Мортемар и де Шеврез. Мне остается только упомянуть о де Талуэ, Лористон, Кольбер, Мареско и прочих – добрых, кротких, простых, с совершенно обыкновенной наружностью и уже немолодых. То же самое можно сказать и о массе итальянок и бельгиек, которые проводили в Париже два месяца своей службы и почти все время были молчаливы и смущены. В общем, довольно много внимания при выборе придворных дам обращали на красоту и молодость. Дамы всегда были одеты необыкновенно изысканно. Некоторые из них жили при дворе молчаливо и равнодушно, другие пользовались поклонением с большей или меньшей легкостью и удовольствием. Все происходило без шума, потому что Бонапарт любил только тот шум, который производил он сам. Его не трогало ни проявление дружбы, ни выражение резкой ненависти. В жизни столь полной, столь урегулированной, столь дисциплинированной не было особенных шансов ни для того, ни для другого.
Среди лиц, из которых император составил штаты для своей семьи, также встречались выдающиеся женщины, но они имели при дворе еще меньше значения, чем мы. Во дворце его матери, кажется, жили очень скучно, у госпожи Жозеф Бонапарт – тихо и просто. Госпожа Луи Бонапарт окружала себя пансионскими подругами и сохраняла с ними, насколько могла, близкие отношения. У госпожи Мюрат все было церемонно, даже несколько жеманно, но подчинено определенному порядку. Общественное мнение слегка осуждало то, что происходящее у принцессы Боргезе, ее фривольное поведение бросали тень на молодых, красивых женщин, составляющих ее двор.
Быть может, нелишне остановиться также на выдающихся лицах в области литературы и искусства и на тех произведениях, которые появлялись в эту эпоху. Мне хотелось бы подробнее остановиться на тех четырех персонах, которые больше всего обращали на себя внимание в литературе[114].
Жак Делиль, которого мы знаем под именем аббата Делиля, провел лучшие годы своей жизни в эпоху, предшествовавшую нашей революции. В нем большой талант сочетался с доброжелательным умом и очаровательным характером. Он получил титул аббата, поскольку некогда этого было достаточно, чтобы создать себе известное положение, и отказался от этого титула во время революции, чтобы жениться на особе довольно хорошего происхождения, но посредственной и не особенно приятной, заботы о которой стали для него повинностью. Аббат Делиль был всегда принят в самом лучшем парижском обществе, к нему очень хорошо относилась королева Мария-Антуанетта, его осыпал милостями граф д’Артуа, и он знал только радости, доставляемые положением литератора. Делиль обладал необыкновенной грацией и наивностью ума. Ничто не может сравниться с его чудесной дикцией: когда он декламировал стихи, спорили из-за удовольствия его послушать.
Кровавые сцены революции ужаснули эту юную и нежную душу. Он эмигрировал и встречал повсюду в Европе такой прием, который мог утешить его в изгнании. Однако когда Бонапарт восстановил во Франции порядок, Делиль пожелал возвратиться и вернулся со своей женой в Париж уже пожилым и почти слепым, но безукоризненно любезным; он привез с собой прекрасные произведения, которые желал напечатать на своей родине. К нему отнеслись с прежним вниманием, литераторы теснились вокруг него, и Бонапарт сделал ему несколько авансов. Делилю вернули кафедру, на которой он с большим талантом читал лекции об основных принципах французской литературы; ему даже предложили пенсию, как бы в вознаграждение за некоторые стихотворения, но Делиль, желая сохранить свободу мнений, которые связывали его с династией Бурбонов, удалился от двора, избегал любезностей и предложений, отдаваясь исключительно труду. Он отвечал на все следующими стихами из поэмы «Сельский житель»: «Позвольте мне без славы, без денег, без цепей мечтать под звуки лиры и стихов».
Если Бонапарт и ощущал некоторое неудовольствие из-за этого противодействия, то он этого не показывал: уважение и всеобщая любовь были той эгидой, которая всегда охраняла милого поэта. Он жил спокойно, но умер слишком рано (и в бедности. – Прим. ред.), так что ему не пришлось насладиться возвращением принцев, которых он не переставал любить.
В то время, когда Бонапарт был еще только консулом и ему доставляло удовольствие добиваться своего до последних мелочей, у него явилась фантазия повидаться с Делилем; быть может, он надеялся очаровать или по крайней мере ослепить его. Госпоже Баччиокки было поручено пригласить поэта провести у нее вечер. Пригласили несколько человек, среди которых была и я. Явился и Первый консул. В его появлении было что-то напоминающее ослепительное появление Зевса Громовержца, – он был окружен большим количеством адъютантов, которые выстроились стеной и были немало удивлены тем, что их генерал так старается произвести впечатление на этого худощавого старика в черной одежде, которого они, кажется, даже несколько испугали.
Бонапарт для вида присел за игорный стол и подозвал меня. В этом салоне я оказалась единственной женщиной, имя которой было знакомо Делшпо, и я поняла, что Бонапарт выбрал меня связующим звеном между поэтом и консулом. Я старалась их несколько сблизить; Бонапарт согласился на то, чтобы разговор касался литературы, и сначала наш поэт растрогался предупредительностью такого лица. Оба оживились, но каждый по-своему, и вскоре я заметила, что ни тот ни другой не смогли произвести впечатления, на которое оба надеялись. Бонапарт любил поговорить, Делиль был немного болтлив и слыл хорошим рассказчиком; они непрестанно прерывали друг друга, их речи сталкивались, а не отвечали одна другой. Оба привыкли к похвалам и живо почувствовали, что ни один из них не одержит верха над другим. Вскоре они разошлись, утомленные и, может быть, недовольные друг другом. После этого вечера Делиль говорил, что «беседы консула отзываются порохом», а Бонапарт находил, что «старый поэт болтал всякий вздор».
Я не знаю никаких подробностей о юности Шатобриана. Он эмигрировал со всей семьей и в Англии познакомился с Фонтаном, который видел его первые рукописи и поддержал в нем желание писать. По возвращении во Францию Шатобриан возобновил с ним отношения и, думаю, был представлен Первому консулу именно Фонтаном. Трактат «Гений христианства» был напечатан уже после возвращения из эмиграции и посвящен реставратору религии.
Шатобриан был небогат; его вкусы, несколько беспорядочный характер, довольно большое, хотя и неопределенное честолюбие и чрезмерное тщеславие внушали ему желание получить какое-нибудь назначение. Я не знаю, в качестве кого вошел он в состав посольства в Рим, но там повел себя неосторожно и чем-то оскорбил Бонапарта. Раздражение от этого поступка в соединении с негодованием писателя по поводу смерти герцога Энгиенского окончательно их поссорили.
Шатобриан по возвращении в Париж был окружен женщинами, которые приветствовали его и отнеслись к нему экзальтированно, как к жертве. Он живо воспринял убеждения, которых и держался с этого времени. Сделавшись предметом наблюдения, он воспользовался этим ради своего тщеславия. Те, кто знает его очень близко, говорят, что если бы Бонапарт не преследовал его, а отдавал должное его достоинствам, то легко привлек бы его к себе, писатель не остался бы нечувствительным к похвалам, произнесенным с такой высоты. Я передаю это мнение, не утверждая, что оно основательно; но я хорошо знаю, что таково было мнение императора, который любил говорить: «Для меня затруднение не в том, чтобы купить Шатобриана, но чтобы заплатить так, как он себя оценивает». Как бы то ни было, Шатобриан держался в стороне от двора и посещал только оппозиционный круг. Его путешествие в Святую землю заставило забыть о нем на некоторое время, но потом он снова появился и напечатал свой роман «Мученики».
Религиозные идеи, выраженные на каждой странице этого произведения, ярко окрашенные блестящим талантом, создали из поклонников Шатобриана нечто вроде секты, а из писателей-философов сделали его врагов. Газеты и хвалили его, и нападали на него.
В то время, когда появились «Мученики», в Бретани был составлен роялистский заговор. Один из кузенов Шатобриана, замешанный в заговоре, был отправлен в Париж, его судили и приговорили к смерти. Я была близка с друзьями Шатобриана; они привели писателя ко мне и уговорили просить вместе с ним о помиловании этого родственника. Я просила Шатобриана дать мне письмо к императору, но он отказался, выражая сильное отвращение, и согласился написать только императрице. Кроме того, он вручил мне экземпляр «Мучеников», надеясь, что Бонапарт просмотрит книгу и смягчится. Так как я не была уверена, что этого достаточно, чтобы умиротворить императора, то отвечала Шатобриану, что советую ему испробовать сразу несколько способов. «Вы родственник Малерба, – сказала я ему, – это имя можно произнести перед кем бы то ни было с уверенностью вызвать внимание и уважение[115]. Постарайтесь воспользоваться им и опирайтесь на него, когда будете писать императрице».
Шатобриан очень удивил меня, отвергнув этот совет. Он показал мне, что его самолюбие будет оскорблено, если он лично не добьется просимого. Его авторская гордость стояла выше всего, и он надеялся повлиять на императора, поэтому и не написал того, что я хотела; тем не менее я не отказалась отнести его письмо. Я старалась подкрепить это как можно лучше в разговоре с императором и воспользовалась удобным моментом прочесть ему несколько страниц из «Мучеников». Наконец, я напомнила Малерба.
«Вы являетесь довольно ловким адвокатом, но вы плохо знаете всю эту историю, – сказал мне император. – Я должен показать пример строгости в Бретани; для этого послужит человек, довольно неинтересный, так как родственник Шатобриана пользуется очень посредственной репутацией. Я знаю и не могу сомневаться в том, что, в сущности, его кузен о нем мало беспокоится, доказательством этого служат поступки, которые он заставляет вас совершать. Он имел ребячество не написать мне, а его письмо к императрице сухо и несколько высокомерно; он желает импонировать мне значением своего таланта, – я отвечаю ему значением своей политики, и, по совести, это не должно оскорблять его. Мне нужно избежать массы мелких политических преследований в дальнейшем. А этот случай даст господину Шатобриану повод написать несколько патетических страниц. Он прочтет их в Сен-Жерменском предместье, прелестные дамы будут плакать, и, поверьте, это утешит его».
Не было никакой возможности поколебать волю Бонапарта, выраженную таким образом. Все, что мы пробовали – императрица и я, = было совершенно бесполезно; приговор был приведен в исполнение. В тот же день я получила от Шатобриана маленькую записку, которая, против моей воли, напомнила мне слова Бонапарта. Он написал мне, что счел необходимым присутствовать при смерти своего родственника и трепетал, видя, как собаки утоляют свою жажду, слизывая его кровь. Вся записка была написана в этом тоне. Раньше я была потрясена, но теперь он меня охладил; не знаю, его ли, меня ли – кого из нас следует обвинять.
Через несколько дней Шатобриан уже не казался особенно удрученным, однако его раздражение против императора усилилось.
Это событие содействовало тому, что между нами завязались отношения. Его произведения нравились мне, но, когда я видела его самого, это меня охлаждало. Шатобриан был очень избалован известной частью общества, в особенности женщинами. Он доставлял каждому, кто у него бывал, довольно значительные затруднения, потому что сразу становилось заметно, как высоко он себя ценит. Занимая только первое место, он чувствовал себя хорошо и становился довольно любезным. Но все его речи, показывающие живое воображение, обнаруживали вместе с тем большую сухость сердца и почти не замаскированный эгоизм.
Его произведения носят религиозный характер, но слова его не всегда выражали религиозные убеждения. Он серьезен, когда пишет, но ему недоставало серьезности в поведении. Лицо его было очень красиво, но фигура, напротив, неловка; его туалет был эффектен и продуман до мелочей. Казалось, что он больше всего ценит в любви так называемый «успех у женщин»; внешность всегда привлекала его больше всего.
У него больше последователей, чем друзей. В конце концов я решила, что его приятнее читать, чем знать лично.
Я мало видела госпожу де Сталь, но меня окружали лица, хорошо знавшие ее. Моя мать и некоторые из родственниц бывали у нее, когда она была молода, и часто рассказывали мне о том, что с первых же лет этот характер представлял собой что-то совершенно выходящее из ряда всех общественных привычек. Когда ей было пятнадцать лет, она зачитывалась философскими произведениями и любовные романами. Знаменитый доктор Троншен из Женевы увидел ее однажды окруженной всевозможными книгами, с томом Жан-Жака Руссо в руках, и сказал ее матери, госпоже Неккер: «Берегитесь, ваша дочь сделается сумасшедшей или идиоткой». Этот строгий приговор не исполнился ни по одному из пунктов, но все же можно сказать, что было какое-то заблуждение ума в том, как госпожа де Сталь понимала свою роль женщины в свете.
У своего отца она была окружена самыми знаменитыми людьми города; под влиянием разговоров, которые ей приходилось слышать, а также благодаря свойствам натуры интеллектуальные способности развивались в ней, быть может, чрезмерно. Она полюбила эти блестящие споры, в которых так отличалась, проявляя массу остроумия и изящества. Это была женщина чрезвычайно живая, очень искренняя и естественная, которая все сильно чувствовала и горячо выражала. Волнуемая и снедаемая воображением, жаждущая блеска и успеха, стесненная общественными нормами, ограничивающими женщин чрезвычайно, она пренебрегала всем и победила все, но много страдала от этой борьбы между демоном, который увлекал ее, и приличиями, которые не могли ее остановить.
Госпожа де Сталь была, к несчастью, довольно некрасива и сильно огорчалась этим, так как, казалось, в глубине души ее жила потребность всяческих успехов. Имея недурную наружность, она, быть может, была бы счастливой, так как оставалась бы спокойной. Но в ее душе было слишком много страстности, – и она не могла не любить, между тем ум ее был слишком склонен к воображению, – и она не могла не думать, что любит. Будучи знаменитостью, она привлекала внимание, и это тешило ее тщеславие. Хотя, по существу, это была очень добрая женщина, но вызывала она ненависть и зависть, пугала женщин и оскорбляла многих мужчин, ставя себя выше их. Однако некоторые друзья остались ей верны, а ее привязанность бывала всегда самой полной.
Когда Бонапарт достиг консульства, госпожа де Сталь была уже знаменитостью благодаря своим взглядам, поведению и произведениям. Лицо, подобное Бонапарту, должно было возбудить ее любопытство и поначалу даже некоторый энтузиазм. Она страстно заинтересовалась им, искала и преследовала его повсюду. Писательница думала, что счастливое сочетание выдающихся качеств и благоприятных условий должно было неизбежно склонить его к свободе, которая была ее излюбленным кумиром. Но она скоро испугала Бонапарта, не желавшего, чтобы его наблюдали или старались понимать. Госпожа де Сталь сначала беспокоила его, потом не нравилась ему. Он холодно отнесся к ее авансам и вызвал ее раздражение своими твердыми и иногда сухими словами. Он задел некоторые из ее взглядов; между ними установилось некоторое недоверие, а так как оба они были натурами страстными, то это недоверие очень скоро перешло в ненависть.
В Париже госпожа де Сталь принимала много народу. У нее с большой свободой говорили обо всех политических вопросах. Луи Бонапарт, еще очень молодой, бывал у нее, и беседа с ней доставляла ему изрядное удовольствие. Это обеспокоило Бонапарта; он запретил брату ее общество и стал наблюдать за ним. У госпожи де Сталь бывали литераторы, публицисты, деятели революции, знатные вельможи. «Эта женщина, – говорил Первый консул, – учит думать тех, кто не решался или забывал этим заниматься». И это было довольно справедливо.
Опубликование некоторых произведений Неккера окончательно Бонапарта раздражило[116]. Он изгнал госпожу де Сталь из Франции и очень повредил себе этим преследованием. Гораздо более того – поскольку ничто не возбуждает так, как первая несправедливость, – он стал преследовать даже тех лиц, которые оказывали ей услуги в ее изгнании. Все произведения госпожи де Сталь, появлявшиеся во Франции, за исключением романов, были сокращены; все газеты получали повеление дурно отзываться о них; на нее нападали без всякого великодушия.
Но пока она оставалась изгнанной из родной страны, иностранцы принимали ее с особым уважением. Благодаря жизненным препятствиям ее талант окреп и достиг такой степени, которой могли бы позавидовать многие мужчины. Если бы госпожа де Сталь умела сочетать с добротой своего сердца, с блеском – я даже могу сказать, своего гения – умение спокойно жить, она могла бы избежать многих несчастий и приобрести в течение жизни то выдающееся положение среди писателей ее века, в котором ей нельзя отказать. В ее произведениях мы находим возвышенные взгляды, сильные здравые рассуждения, много душевного огня и живости воображения, порой чрезмерной. Но ей не хватает ясности и тонкого вкуса. Ее жизнь не была вполне жизнью женщины, но не могла быть и жизнью мужчины; ей недоставало покоя, а это непоправимое лишение для счастья, даже для таланта.
После первой Реставрации госпожа де Сталь возвратилась во Францию, радуясь своему прибытию на родину и заре конституционного режима, которого она так желала. Возвращение Бонапарта поразило и ужаснуло ее, но она вынуждена была снова отправиться в изгнание, которое, правда, длилось только сто дней. Она возвратилась вместе с королем и была счастлива; она выдала свою дочь Альбертину замуж за герцога де Брольи, который со значением своего имени соединил значение выдающегося ума.
Госпожу де Сталь удовлетворяло освобождение Франции; ее окружали друзья, общество теснилось вокруг нее. Но тут смерть настигла ее в возрасте пятидесяти лет, в 1817 году. Последнее произведение, незаконченное и изданное после ее смерти, дает возможность познакомиться с ней самым полным образом[117]. Это произведение и изображает эпоху, в которую она жила, и дает ясную идею о веке, результатом которого она стала, который мог ее создать.
Я не один раз слышала, как Бонапарт говорил о госпоже де Сталь. Ненависть, с которой он к ней относился, отчасти была основана на той зависти, какую внушало ему всякое превосходство, если он не мог им овладеть; и его речи, полные горечи, возвеличивали госпожу де Сталь против его воли, принижая его самого в глазах тех, кто слушал его вполне сознательно.
В то время как госпожа де Сталь могла справедливо жаловаться на преследования, другая женщина, стоящая гораздо ниже и менее знаменитая, могла, наоборот, похвалиться покровительством императора, – это была госпожа де Жанлис. Собственно говоря, он не находил в ней ни таланта, ни неприятных для себя мнений. Она любила революцию и восхищалась ею, при этом сумев воспользоваться всеми ее свободами.
Состарившись, сделавшись немного ханжой и недоступной, она полюбила порядок и, по этой причине или под этим предлогом, стала выражать безграничное восхищение Бонапартом. Он был польщен; назначил ей пенсию и завязал с ней нечто вроде переписки, в которой она сообщала ему о том, что считала для него полезным, и рассказывала о старом порядке то, что он желал знать. Госпожа де Жанлис любила и покровительственно относилась к Жозефу Фьеве, очень молодому в то время писателю. Она привлекала и его к этой переписке, и таким образом между ним и Бонапартом завязались известного рода отношения, которыми он хвалился довольно долго.
Извлекая выгоды из восхищения госпожи де Жанлис, Бонапарт, однако, довольно верно судил о ней. Однажды, говоря со мной, он выразился довольно остроумно по поводу той лицемерной стыдливости, которая была заметна во всех ее произведениях: «Когда госпожа де Жанлис хочет определить добродетель, она говорит о ней как о каком-нибудь открытии».
Реставрация не восстановила отношений между госпожой де Жанлис и Орлеанским домом, герцог Орлеанский только один раз пожелал увидеть ее; он ограничился тем, что продолжил выплачивать ей пенсию, назначенную императором[118].
Эти дамы не были единственными, печатавшими свои произведения во времена царствования Бонапарта. Я могла бы назвать нескольких других: госпожу Коттен, отличавшуюся страстной живостью, полетом воображения и своим стилем, госпожу де Флаго, которая писала милые романы. Есть и другие, имена которых встречаются во всех газетах того времени.
В течение тридцати последних лет во Франции появилось множество романов, и, просто читая их, можно хорошо понять развитие французской общественной мысли со времени революции. Отсутствие порядка в первые годы этой революции отвратило общественную мысль от всех радостей, которыми можно наслаждаться только в состоянии покоя. Молодежь была лишена воспитания, разномыслие партий разрушило общественное мнение. В тот момент, когда этот главный регулятор исчез, посредственность стала проявляться без всякого смущения. Появились различные литературные опыты, и совершенно безнаказанно печатались всевозможные продукты воображения, тем легче создаваемые, чем менее они были серьезны. В умах, разгоряченных происходившими событиями, появлялась какая-то экзальтация, которая выражалась в создании сказок и в стиле наших романов. Свобода, которой недоставало людям, одна способна содействовать развитию величия и гениальности, благодаря тем впечатлениям, которые вызывают наши политические бури.
Но во все времена, при всяком правлении женщины могут говорить и писать о любви, и обычное направление сказалось и в эту эпоху в произведениях подобного рода. Это уже было не изысканное изящество госпожи де Лафайет или остроумная утонченность госпожи Риккобони; уже не доставляло удовольствия описывать обычаи двора, привычки почти разрушенного общественного строя. Теперь изображали сильные сцены, страстные чувства, человеческую природу в столкновении с необычными обстоятельствами. В этих сказочных сюжетах порой открывали свое сердце, и даже некоторые мужчины, желая выразить свои горячие, но сдерживаемые чувства, отдавались подобному творчеству.
Впрочем, во всех произведениях, напечатанных в ту эпоху, есть что-то естественное и правдивое, и даже в романах экзальтация отличается скорее силой, чем эмоциональностью. По крайней мере, она не сбивается с пути дурным вкусом. Теперь искали более сильные и искренние чувства, потому что несчастье развивает привычку глубоко чувствовать. Возвращение к правильному порядку в управлении привело к тому, что Фонтан называл изящной словесностью. Теперь признавали, что талантливые произведения не должны быть лишены хорошего вкуса, приличия и чувства меры.
Если бы добрый гений Франции позаботился о том, чтобы Бонапарт, возвращая нам покой, дал еще хоть некоторую тень свободы, возможно, воспоминания о бурных временах, придавшие общественной мысли страстный оттенок, в соединении с порядком, породили бы более выдающиеся произведения. Но император, желая из всего извлечь пользу для себя, хоть и делал огромные усилия, чтобы связать со своим царствованием всех знаменитостей, однако стеснял ум и отмечал его клеймом своего деспотизма, запрещая всякий благородный порыв. Большинство писателей тратили свою изобретательность на всевозможные похвалы, которых требовали и за которые вознаграждали; никто не решался писать о политике; в произведениях старались избегать опасных примирений; в комедии не решались изображать нравы, в трагедии изображали только героев известного рода. Было немало поводов для похвал, и совесть могла быть до некоторой степени спокойной, но истинное творчество вскоре иссякло.
Однако ход событий, естественное развитие ума, неизменная привычка Франции к хорошему вкусу, старые образцы – все это содействовало тому, что в произведениях все же можно было найти изящество и правильность. Все, кто писал, писали более или менее хорошо, но старались держаться в пределах благоразумной посредственности: главным свойством истинного гения является сила мысли, а когда мысль сдерживается, писатели ограничиваются усовершенствованием формы. Поэтому старались как можно лучше исполнить то, что было дозволено. Отсюда, как мне кажется, вытекает то однообразие тона, которым отличается большинство произведений начала этого века.
Но теперь, когда свобода, которой удалось достигнуть, может быть применена ко всему, то же усовершенствование формы явится нелишним, и мы оставили в наследство нашим детям привычку к отделке произведений, которая естественным образом теперь присоединится к гениальным порывам.
Я сказала, что, так как сила нам была запрещена, оставалась правда, и ее действительно можно найти во всех литературных произведениях нашего времени. Театр, который не решался изображать пороки или смешные стороны, – этот театр освободился от напыщенности, свойственной времени, предшествовавшему революции.
Во главе наших авторов комедий надо поставить Пикара, который остроумно и живо изображал обычаи и нравы Парижа в эпоху Директории. За ним следуют Дюваль и некоторые авторы комических опер. При нас появились и умерли несколько выдающихся поэтов: Легуве, который дебютировал «Смертью Авеля» и создал затем «Смерть Генриха IV», Арно, автор пьесы «Марий в Минтурнах», Ренуар, имевший большой успех в «Тамплиерах», Лемерсье, дебютировавший «Агамемноном», который и стал лучшим его произведением, Шенье, талант которого был слишком отмечен революционным характером, но успел стать значимым.
Затем следует целый ряд поэтов[119], которые были в большей или меньшей степени учениками Делиля и, научившись у него изящно рифмовать, прославляли прелести деревни, простых удовольствий и покоя – под звуки пушечных выстрелов, раздававшихся по воле Бонапарта от одного конца Европы до другого. Я не стану заниматься перечислением их имен, это можно найти повсюду.
Исторических произведений было немного; наступали времена, которые надо было описывать с силой, а на это никто не решался. К несчастью, всем надоел тот легкий и насмешливый тон философии прошлого века, который разрушал все верования посредством насмешки, клеймил все самые серьезные вещи в жизни и создал нетерпимую и насмешливую догму из отсутствия религии. Пережитые несчастья начинали отталкивать от неверия; человеческий разум направлялся на лучшую дорогу, по которой следовал всегда, хоть и несколько медленно[120].
Искусство, которое не так нуждается в свободе, как литература, продолжало развиваться. Но я уже говорила в другом месте, что и на искусстве сказалось общее стеснение. Среди наших самых знаменитых художников можно назвать Давида, который, к сожалению, испортил свою репутацию, отдавшись самым отвратительным заблуждениям революционного опьянения. В 1792 году он отказался написать портрет Людовика XVI, потому что не желал, чтобы его кисть «изображала черты тирана»; но он очень охотно подчинялся Бонапарту и рисовал его во всех видах.
Затем следуют: Жерар, написавший множество исторических портретов, бессмертную «Битву при Аустерлице» и, недавно, «Въезд Генриха IV в Париж», – все эти работы вызвали чисто французские патриотические чувства, Жираде, известный чистотой рисунка и смелостью композиции, Гро, чьи картины в высшей степени драматичны, Герен, кисть которого заставляет трепетать все тонкие струны души, Изабе, столь искусный и остроумный в своих миниатюрах, и множество других во всех родах живописи.
Император покровительствовал им всем. Живопись прониклась сюжетами, которые воодушевляли кисть художников; деньги раздавались щедрой рукой. Революция доставила художникам место в обществе, они заняли приятное, а иногда и выгодное положение, оказывали влияние на развитие роскоши. Таким образом, воодушевляясь поэтическими сторонами нашей Революции и Империи, художники извлекали из них выгоды. Бонапарт мог, конечно, охладить выражение сильных чувств, но он возбуждал воображение, а этого достаточно для большинства поэтов и для всех художников.
Развитие наук не прерывалось, поскольку они не вызывают никакого недоверия и полезны для всякого правительства. Французский Институт объединил людей очень выдающихся. Бонапарт покровительствовал им всем; он обогатил многих из них, наградил новыми отличиями, некоторых ввел в Сенат. Мне кажется, это значило оказать честь этому учреждению, и сама эта идея не лишена величия. Притом ученые в его царствование не проявляли большей независимости, чем другие представители общества. Один только Лагранж, которого Бонапарт сделал сенатором, держался, тем не менее, вдали от него; но Лаплас, Ласепед, Монж, Бертоле, Кювье и некоторые другие принимали его милости очень охотно и платили за них постоянным восхищением.
Я считаю невозможным окончить эту главу, ничего не сказав о большом количестве музыкантов, которые также оказали честь своему искусству. Бонапарт особенно любил итальянскую музыку. Затраты, сделанные им для того, чтобы перенести ее во Францию, были очень полезны, хотя в распределении своих милостей он руководствовался собственной фантазией. Например, он всегда отвергал Керубини, потому что этот музыкант, недовольный критикой Бонапарта, тогда еще только генерала, ответил ему несколько резко, что «можно быть искусным на поле брани и ничего не понимать в гармонии». Особенно Бонапарт любил Лесюэра и был рассержен при распределении десятилетних наград тем, что Институт не упомянул этого композитора. Он принимал также в Мальмезоне старого Гретри и относился к нему необыкновенно внимательно.
Гретри, Далейрак, Мегюль, Бертон, Лесюэр, Спонтини и другие были выдающимися композиторами эпохи Империи и получили множество наград за свои произведения.
Так же точно актеры пользовались широким покровительством императора. Все то, что я говорила о писателях, можно применить и к театру. После революции дикция на нашей сцене сделалась естественной. Тальма и мадемуазель Марс особенно хорошо умели соединить искусство и естественность. Непринужденность, соединенная с силой, проявлялась и в танцах. Таким образом, можно признать, что в настоящее время во Франции господствуют красота, изящество и гармония и исчезло все ложное и условное.
Глава XX 1806 год
Сенатус-консульт от 30 марта – Основание королевств и герцогств – Королева Гортензия
По предложению министра вероисповеданий Порталиса император издал декрет, по которому празднование его именин назначалось на день Успения, 15 августа, годовщину заключения Конкордата. Предписано было также ежегодно праздновать первое воскресенье декабря в память Аустерлица. Тридцатого марта состоялось очень важное заседание Сената, которое дало повод к разного рода размышлениям. Император послал сенаторам сообщение о целом ряде декретов, которые должны были произвести сильное впечатление по всей Европе. Я считаю уместным дать здесь о них подробный отчет и привести, в сокращении, речь архиканцлера Камбасереса. Эта речь может служить новым доказательством того, с какой угодливостью умели облечь благовидными фразами внезапные решения властелина, который держал умы всех в вечном напряжении.
«Господа, – сказал Камбасерес, – в тот момент, когда Франция, в полном единении с нами, утверждала свое счастье и славу, поклявшись повиноваться нашему августейшему государю, вы, при вашей мудрости, предвидели необходимость во всех частях согласовать систему наследственного правительства и укрепить его учреждениями, соответствующими его природе.
Ваши желания отчасти исполнены; они будут исполнены также благодаря различным актам, которые я должен передать вам по повелению его величества. Таким образом, вы примете с благодарностью это новое доказательство его доверия к Сенату и его любви к народам и поспешите, согласно желанию его величества, внести их в ваши протоколы.
Первый из этих актов содержит постановления, которые касаются гражданского состояния императорской фамилии и определяют обязанности принцев и принцесс, входящих в ее состав, по отношению к императору. Вторым актом Венецианская область присоединяется к Итальянскому королевству. Третий акт передает неаполитанский трон принцу Жозефу».
Затем следуют довольно длинные похвалы по адресу этого нового короля и восхваляется сама мера, которая сохраняет за ним титул высшего сановника Империи.
«Четвертый акт содержит передачу герцогств Клевского и Бергского принцу Мюрату. Пятый передает Гастальское княжество принцессе Боргезе и ее супругу. Шестой передает маршалу Бертье Невшательское княжество. Это трогательное доказательство расположения императора к его товарищу по оружию, к его соратнику, столь же храброму, как и просвещенному, не может не вызвать сочувствия со стороны всякого человека с добрым сердцем и просвещенным умом.
Седьмой акт устанавливает в герцогстве Парма и Пьяченца три титула, важное значение которых будет поддерживаться большими суммами, собранными с этих провинций по повелению его величества.
Благодаря этим условиям, заключающимся в декретах, которые относятся к Венецианской области, Неаполитанскому королевству и княжеству Лукке, его величество создал достойные награды для многих из своих подданных, которые оказали большие услуги во время войны или содействовали благу государства, занимая видные места. Эти титулы становятся собственностью тех, кто их получит, и будут передаваться по мужской линии старшему в роду. Эта великая мысль является для Европы доказательством того, как высоко ценит его величество подвиги храбрецов и верность тех, кому поручает важнейшие дела; она представляет блеск, окружающий выдающихся людей, придает им известный авторитет в глазах народа: они могут давать советы и служить примером, чем монарх может иногда с выгодой заменить обычное действие властей. Эти же люди являются вместе с тем и ходатаями за народ перед троном.
Вот на каком базисе император желает основывать великую политическую систему, мысль о которой внушена ему Божественным Провидением, благодаря чему постоянно усиливаются чувства любви и восхищения, которые вы разделяете со всеми французами».
После этой речи были прочитаны некоторые декреты. Вот самые замечательные статьи.
Декретом, устанавливающим гражданское состояние членов императорской семьи, принцам и принцессам запрещалось вступать в брак без разрешения императора. Дети, рожденные от брака, заключенного без его согласия, не пользовались никакими правами, существующими для так называемых морганатических браков.
Развод в императорской фамилии был запрещен; раздельное жительство супругов разрешалось с согласия императора. Опекуны для детей назначались императором. Члены императорской фамилии не имели права усыновлять детей без разрешения императора.
Архиканцлер Империи выполнял при императорской фамилии все обязанности, предписываемые законами гражданским чинам. Устанавливалась должность статс-секретаря императорской фамилии, избираемого из среды министров или Государственного совета.
Был точно установлен церемониал свадеб и рождений.
Архиканцлер должен был получить духовное завещание императора, продиктованное последним статс-секретарю в присутствии двух свидетелей. Это духовное завещание должно было храниться в Сенате.
Император регулировал все, что касалось воспитания принцев и принцесс императорской семьи, назначал и сменял воспитателей. Все принцы, получающие по рождению права наследства, должны были воспитываться вместе во дворце, удаленном от резиденции императора больше чем на двадцать лье. Образование начиналось с семи лет и заканчивалось в шестнадцать; дети лиц, выдающихся своими заслугами, могли, по распоряжению императора, также пользоваться благами этого образования. Если какой-нибудь из принцев вступал по праву наследства на иностранный трон, он должен был посылать в этот дворец своих детей мужского пола, достигших семилетнего возраста.
Принцы и принцессы не могли ни уехать из Франции, ни удалиться на расстояние тридцати лье без разрешения императора.
Если кто-нибудь из членов императорской семьи забывал свое достоинство и свои обязанности, император мог посадить его в наказание на год под арест, удалить от своей особы или отправить в ссылку. Он мог исключить из числа членов своей семьи лиц, казавшихся ему подозрительными.
В некоторых случаях император мог в присутствии семейного совета, на котором председательствовал сам, а также архиканцлера назначать в качестве наказания двухлетнее заключение в государственной тюрьме.
Важные сановники и герцоги также были подчинены действию этих последних пунктов.
За первым декретом шли следующие:
«Мы назначаем герцогствами, великими феодами нашей Империи следующие провинции:
Мы предоставляем право передавать названные феоды по наследству по нисходящей мужской линии. В случае пресечения рода названные феоды возвращаются нашей императорской короне.
Пятнадцатая часть доходов, получаемых Итальянским королевством с этих провинций, будет связана с названными феодами, и ее будут получать те лица, кому мы дадим эти провинции; с этой же целью мы оставляем за собой право распоряжения тридцатью миллионами дохода с находящихся в этих же провинциях государственных имуществ.
Вклады в «Mont Napoleon»[121] будут вноситься до тех пор, пока не сложится ежегодная рента в миллион двести тысяч франков, которые будут выплачиваться генералам, офицерам и солдатам, оказавшим услуги родине и императорской короне, при непременном условии не употреблять упомянутых доходов в течение десяти лет на что-либо другое без нашего разрешения.
До тех пор, пока в Итальянском королевстве не будет собственной армии, мы дадим ему французскую армию, которая будет содержаться на средства нашей императорской казны. Для этого наша королевская казна в Италии будет вносить ежемесячно в императорскую казну сумму в два миллиона пятьсот тысяч франков в течение всего того времени, пока наша армия будет пребывать в Италии, что продолжится шесть лет. Предполагаемым наследным принцем Италии будет венецианский принц.
Чтобы поддержать спокойствие в Европе, мы должны упрочить судьбу населения Неаполя и Сицилии, которыми мы овладели по праву завоевания и которые составляют часть нашей великой Империи; поэтому мы объявляем королем Неаполя и Сицилии нашего брата Жозефа Наполеона (Бонапарт заставил своих братьев принять имя Наполеон), великого электора Франции. Эта корона будет наследственной по мужской нисходящей линии; в том случае, если у него не будет сыновей, престол этот перейдет к нашим законным детям мужского пола, а в случае их отсутствия – к детям нашего брата Луи Наполеона. В том случае, если наш брат Жозеф умрет, не оставив детей мужского пола, мы оставляем за собой право назначить наследником названной короны одного из принцев нашего дома, или даже приемного ребенка, если только найдем его достойным занять этот престол в интересах наших подданных и той великой системы, основать которую мы должны по воле Божественного Провидения.
В названном королевстве установлено шесть больших феодов с герцогским титулом и теми же прерогативами, как и в других, которые будут всегда раздаваться по назначению нашему или наших наследников.
Мы предоставляем себе право получать с Неаполитанского королевства миллион франков ежегодного дохода для раздачи генералам, офицерам и солдатам нашей армии на тех же самых условиях, какие были установлены нами для «Mont Napoleon». Неаполитанский король всегда будет высшим сановником Империи, и мы предоставляем себе право создать звание принца великого электора.
Мы признаем, что неаполитанская корона, которую мы возлагаем на голову принца Жозефа и его наследников, отнюдь не нарушает их права наследовать престол Франции[122]. Точно так же мы постановляем, чтобы короны Франции, Италии, Неаполя и Сицилии никогда не соединялись в одних руках.
Герцогства Клевское и Бергское отданы нашему зятю принцу Иоахиму и его наследникам по мужской линии. В том случае, если у него не будет наследников, названные герцогства перейдут к нашему брату Жозефу, а если и у него не будет детей мужского пола, – к нашему брату Луи, но они никогда не могут быть присоединены к короне Франции. Герцог Клевский и Бергский останется генерал-адмиралом, а мы можем назначать вице-адмирала».
Наконец, княжество Гастальское было отдано принцессе Боргезе, и принц получил титул принца Гастальского; а если бы у них не было детей, то император мог бы располагать княжеством по своему усмотрению. Такие же условия были установлены и относительно Невшательского княжества.
Княжество Лукка было увеличено, так как к нему присоединили некоторые области, отделенные от Итальянского королевства; оно должно было платить за это ежегодно двести тысяч франков, предназначенных на вознаграждение военных. Часть имущества в герцогстве Парма и Пьяченца была предназначена для той же цели.
Я считаю возможным привести почти целиком текст этих декретов, которые кажутся мне заслуживающими внимания. Эта картина дает понятие о желании Бонапарта сохранить власть Франции над теми странами Европы, которые она мало-помалу подчиняла себе благодаря своим победам, а также и о власти, которую он желал сохранить лично для себя.
Нетрудно представить себе, что эти новые назначения вызвали в Европе беспокойство и не допускали и мысли о том, что мир будет продолжителен. Наконец, можно понять, почему Италия, стремившаяся получить независимость, на которую она, по-видимому, могла надеяться благодаря единству управления, вскоре была лишена этой надежды, так как получила второстепенное значение, находясь в полной зависимости от императора. Несмотря на все старания принца Евгения, несмотря на его кроткое, справедливое управление, итальянцы вскоре обнаружили себя подчиненными властелину, который только пользовался всеми ресурсами, доставляемыми их прекрасной страной. Они должны были содержать у себя и за свой счет иностранную армию. Из их доходов брали самые крупные суммы в казну Франции. Заботились гораздо меньше об их собственных интересах, чем о выгодах Империи – выгодах, которые вскоре были сведены к успехам честолюбивых замыслов одного человека. И этот человек без всякого стеснения требовал от Италии таких жертв, каких он не решился бы требовать от Франции. Часто вице-король просил некоторого смягчения по отношению к итальянцам, но его редко слушали. Однако итальянцы сумели в течение некоторого времени понять характер принца Евгения и не приписывали ему лично тех суровых мер, которые он вынужден был проводить; они ставили ему в заслугу и то, что он пытался для них сделать и делал. Но в конце концов, когда потребности и распоряжения Бонапарта сделались еще более настоятельными, этот народ не мог больше оставаться справедливым и стал относиться ко всем французам, с принцем Евгением во главе, с такой же ненавистью, какую он питал к императору. Мне самой приходилось слышать, как вице-король, который всегда верно служил Бонапарту, не имея никаких иллюзий на его счет, говорил при мне своей матери, что император завидует любви к нему итальянцев. Поэтому Бонапарт нарочно предписывал ему бесполезные и жестокие меры, чтобы подорвать доброе расположение итальянцев, которого он боялся.
Вице-королева сначала также старалась завоевать сердца в пользу своего супруга. Красивая, очень добрая, благочестивая и щедрая, она нравилась всем окружающим. Она импонировала Бонапарту своим тоном, полным достоинства и при этом довольно холодным. Однако он не любил, чтобы ее хвалили, и она очень недолго прожила в Париже.
Значительная часть пунктов этих декретов не была приведена в исполнение. Новые обстоятельства вызвали новые желания, новые страсти и создали новые фантазии. Недоверие заставило изменить некоторые решения. Правительство Бонапарта во многом похоже на тот дворец Законодательного корпуса, где теперь собирается Палата депутатов (Бурбонский дворец. – Прим. ред.). Ничего не разрушая в старом здании, но желая сделать его более внушительным, удовольствовались тем, что пристроили к нему фасад, который действительно не лишен величия, если смотреть на него со стороны реки; однако, обойдя его кругом, нельзя найти в нем ничего, что было бы связано с этим фасадом. Так, часто, и в своей политической, законодательной и административной системе Бонапарт возводил одни только фасады.
После всех этих сообщений Сенат провозгласил благодарность императору; затем были отправлены депутации к Каролине, новой королеве Неаполя, которая приняла их со своей обычной простотой, а также к двум принцессам. Мюрат уже уехал, чтобы вступить во владение своим герцогством, и газеты не преминули сообщить, что он был встречен с энтузиазмом. Точно так же газеты рассказывали о радости неаполитанцев; но из частных писем было известно, что пришлось продолжать войну, а Калабрия будет еще долго сопротивляться. У Жозефа было в характере много мягкости, и нигде он не вызвал личной ненависти; но ему недоставало умения взяться за дело, и он никогда не бывал на высоте положения, в которое его ставили. По правде сказать, роль королей, созданных Бонапартом, всегда была довольно трудна.
Урегулировав эти великие дела, император перешел к более веселым занятиям. Седьмого апреля в Тюильри совершилось обручение юной пары, о которой я говорила в предшествующей главе. Эта церемония происходила вечером в Галерее Дианы; двор был многочисленный и блестящий; новобрачная надела платье, вышитое серебром и украшенное розами. Свидетелями Стефании были Талейран, Шампаньи и Сегюр; со стороны принца присутствовали баварский наследный принц, обер-камергер курфюрста Баденского и барон Дальберг, баденский министр.
На следующий день вечером совершилась торжественная церемония бракосочетания. Тюильри был иллюминован, на площади Людовика XV, названной тогда площадью Согласия, был устроен фейерверк.
Казалось, двор, несмотря на обычную роскошь, старался выказать в этот день особенную пышность. Императрица, в платье, вышитом золотом различных оттенков, надела на голову, кроме императорской короны, красивейшее украшение из жемчуга. Принцессу Боргезе украшали все фамильные бриллианты дома Боргезе и ее собственные, которым не было цены. На госпоже Мюрат красовались тысячи рубинов, наряд госпожи Луи Бонапарт был покрыт бирюзой с бриллиантами; неаполитанская королева, худенькая и невысокая, почти склонялась под тяжестью драгоценных камней.
У меня никогда не было желания казаться одной из самых блестящих придворных дам, но я помню, что, в свою очередь, была одета в платье, заказанное специально для этой церемонии и стоившее мне шестьдесят луидоров. Это было платье из розового крепа, затканное серебром и сплошь украшенное гирляндами жасмина. Голову я украсила жасмином с вплетенными бриллиантовыми колосьями. Хотя мои драгоценности стоили от сорока до пятидесяти тысяч франков, но были гораздо скромнее тех, которыми было украшено большинство дам.
Принцесса Стефания получила драгоценные подарки от своего супруга и еще больше подарков от императора. На голове у нее была бриллиантовая диадема, над которой возвышался венок из флердоранжа. Платье было из белого тюля, затканное серебряными звездами и также украшенное флердоранжем. Она стояла у алтаря с необыкновенной грацией и так преклонила колена, что снова очаровала императора и всех присутствующих, а ее отец, стоящий в толпе сенаторов, прослезился. Мне казалось, что во время этой церемонии его положение было очень странным; испытываемые им чувства должны были быть довольно сложными. Ему пожаловали баденский орден.
Церемонию бракосочетания совершал кардинал Капрара. После церемонии перешли из капеллы в парадные апартаменты – в том же порядке, как пришли в капеллу: принцы и принцессы открывали шествие, императрица шла в сопровождении всех придворных дам, рядом с ней баденский принц, а император шел под руку с новобрачной. Он был в мундире, предназначенном для торжественных церемоний; я уже говорила, что этот мундир очень шел ему. Если чего-нибудь и не хватало в этом торжественном шествии, то это несколько большей медленности. Бонапарт всегда старался идти быстро, и это заставляло всех нас идти скорее, чем следовало. Пажи несли шлейфы принцесс, королевы и императрицы. Что же касается нас, то нам невозможно было развернуть наши шлейфы, потому что их необыкновенная длина задержала бы императора.
Величие церемоний при нашем дворе слишком часто нарушалось тем, что камергеры, идущие впереди императора и сзади нас, беспрерывно повторяли вполголоса: «Скорее, скорее, дамы! Двигайтесь скорее».
Графиня д’Арберг, которая жила при дворе эрцгерцогини Нидерландов и привыкла к немецкому этикету, принимала эти резкие заявления с огорчением, заставлявшим нас смеяться, так как мы уже привыкли к этому. Она говорила, шутя, что нас следовало бы называть придворными курьерами и одевать в короткие платья вместо длинных, совершенно нам ненужных. Этот обычай сильно раздражал еще и Талейрана, который должен был в качестве обер-камергера идти впереди императора, а он с трудом ходил даже и медленно.
Что касается императрицы, то в этом пункте она никогда не уступала воле своего супруга. У нее была очень грациозная походка, и она не желала отказываться ни от одного из своих преимуществ, а потому ничто не могло заставить ее торопиться, и только сзади нее начиналась толкотня.
Я вспоминаю, что в тот момент, когда следовало начать шествие, император, не привыкший ходить под руку с женщинами, очутился в некотором затруднении: он не знал, какую руку, правую или левую, следует предложить юной принцессе. Решить это пришлось ей самой.
В этот же день в дворцовых апартаментах состоялся большой раут; сначала устроили концерт, а затем балет, после которого был ужин. Так как неаполитанская королева должна была следовать за императрицей, то Бонапарт посадил приемную дочь по правую руку от себя, отдав ей предпочтение перед своей матерью. Госпожа Мюрат была, как обычно, сильно огорчена тем, что вошла в залу только после юной принцессы Баденской.
На другой день двор отправился в Мальмезон, а через несколько дней устроился в Сен-Клу. Двадцатого апреля все вернулись в Париж, чтобы присутствовать на великолепном балу, данном в честь бракосочетания. Император, желавший показать свой двор Парижу, разрешил пригласить значительное число дам и кавалеров из разных классов общества. Апартаменты были заполнены громадной толпой[123]. Устроились две кадрили; одна из них, под руководством госпожи Луи Бонапарт, танцевала в Зале маршалов; я участвовала в этой кадрили. Шестнадцать дам в белом, в венках из разноцветных цветов, в платьях, украшенных цветами, и с бриллиантовыми колосьями на голове, танцевали с шестнадцатью кавалерами в белых атласных, застегнутых наглухо фраках, с шарфами, подобранными к цвету венков их дам. Когда мы окончили наш балет, император и его семья перешли в Галерею Дианы, где госпожа Мюрат руководила другой кадрилью – из дам и кавалеров, одетых в испанские костюмы. Потом было разрешено танцевать всем без исключения, и придворные смешались с городскими жителями. В громадном количестве были предложены мороженое и прохладительные напитки. Император уехал в Сен-Клу, побыв на балу один час и поговорив со многими из присутствующих, то есть спросив у каждого кавалера или дамы их имена. После его отъезда танцевали до самого утра.
Быть может, я слишком детально остановилась на этих подробностях, но мне кажется, что это дает возможность несколько отдохнуть от серьезных рассказов о важных делах, о которых мне приходится говорить и которые порой несколько утомляют мое женское перо.
Создавая и смещая королей, по выражению Фонтана, выдавая замуж свою приемную дочь, предаваясь развлечениям, о которых я уже говорила, император очень усердно продолжал посещать заседания Государственного совета; было написано множество постановлений, относящихся к торговле, и сессия закончилась утверждением бюджета, который указывал на цветущее положение наших финансов. С народа не требовали ни одного лишнего су, сообщили о множестве оконченных и предстоящих работ, о громадной и хорошо сформированной армии и о долге, не превышавшем сорока восьми миллионов; пенсий было на тридцать пять миллионов, а доходов – на восемьсот миллионов.
Между тем раздражение императора против английского правительства все увеличивалось. Кабинет министров, который изменился по составу, не изменил своих намерений по отношению к Франции и объявлял войну прусскому королю в наказание за нейтралитет во время последней войны и за захват Ганновера.
Вдруг в «Мониторе» появилась длинная статья о европейской политике. Автор этой статьи старался доказать, что Англия, благодаря такому разрыву, ускорит введение системы, которая закроет ей северные порты, тогда как южные уже закрыты, и это укрепит связь Франции с континентом. После этого он распространялся о положении Голландии. Великий пенсионарий (одно из высших должностных лиц в Республике. – Прим. ред.) Шиммельпеннинк, говорилось в этой статье, ослеп. Что же будут делать голландцы? Известно, что император не придавал большого значения переменам, совершившимся в государственном строе этой страны, только сказал, что «благосостояние и свобода народа могут быть гарантированы двумя системами правления – конституционной монархией или республикой, основанной на свободе. В Голландии великий пенсионарий оказывает большое влияние на выбор членов Законодательного корпуса, и это составляет основной недостаток Конституции. Однако не всем народам может принадлежать право выбирать своих представителей, и если можно опасаться действий народного собрания, то следует прибегнуть к принципам разумной и справедливой монархии. Быть может, это и случится с голландцами. Они сами должны понимать свое положение и выбрать одну из двух систем, которая может лучше содействовать прочному установлению общественной свободы и благосостояния». Эти слова достаточно ясно говорили о том, что готовилось для Голландии.
Принц Невшательский вынужден был закрыть швейцарскую торговлю для англичан[124].
Упоминалось также, что австрийский император старается залечить свои раны и намерен установить долгий мир. У русских, все еще встревоженных английской политикой, произошли новые осложнения в Далмации, так как они не хотели покидать страну, расположенную близ залива Каттаро и занятую ими; но присутствие Великой армии, возвращение которой было отложено, принудило их наконец выполнить условия последнего договора.
Папа удалял из Рима всех подозрительных интриганов, англичан, русских и сардинцев, присутствие которых беспокоило французское правительство.
Неаполитанское королевство было почти совершенно подчинено; Сицилию защищало только небольшое количество англичан; Франция находилась в тесном союзе с Портой: турецкое правительство, менее продажное и менее невежественное, чем думали, признавало, что присутствие французов в Далмации могло быть ему очень полезно, так как спасало от покушения со стороны русских; наконец, наша армия была значительнее, чем когда-либо, и могла противодействовать попыткам составления четвертой коалиции, в которой Европа в конце концов не была особенно заинтересована.
Эта картина нашего положения по отношению к Европе могла успокоить только тех, кто буквально понимал слова, которые были так хорошо подобраны и исходили из такого источника. Но тому, кто сохранял хотя бы некоторое недоверие, было нетрудно понять, что народы не были так подчинены, как нас хотели заставить думать, что мы начинали требовать от них жертвовать своими интересами, что Англия, раздраженная своими неудачами, с еще большим ожесточением старается создать для нас новых врагов, что прусский король продает нам свой союз, а Россия все еще угрожает нам. Теперь не доверяли более мирным намерениям, о которых распространялся император во всех своих речах. Но во всех его планах было что-то внушительное; его военное искусство было всеми признано; он придавал Франции такое величие, что эта самая Франция, жертва своей собственной славы, не осмеливалась не признать себя соучастницей; вынужденная повиноваться, она позволяла себя очаровывать. Притом казалось, что внутреннее благосостояние страны развивается, а налоги не увеличиваются, что все соединилось для того, чтобы ослеплять нас, и никто из нас, постоянно торопясь, по предписанию Бонапарта, не мог найти ни времени, ни желания над этим задуматься. «Роскошь и слава, – говорил император, – всегда опьяняли французов».
Вскоре после этого нам было объявлено, что в Гааге состоялся совет представителей Батавии и обсуждались дела, имеющие первостепенное значение. Стали распространяться слухи об основании новой голландской монархии.
В это время английские газеты были полны рассуждений о том, как развивается в Европе императорская власть. «Если Бонапарту удастся установить систему федеративной империи, – говорилось в них, – Франция сделается властительницей почти всего континента». Император с радостью принял это предсказание и неуклонно старался осуществить его.
Талейран, который пользовался в то время большим влиянием в Европе, старался употребить его для привлечения иностранных министров. Он добивался того, чтобы государи назначали именно тех посланников, которые подчинялись его влиянию. Так, например, Пруссия назначила посланником маркиза Луккезини, который с этих пор действовал в интересах Франции и фактически в ущерб интересам своего государя[125]. Это был человек умный, но порядочный интриган. Он родился в Лукке, но любовь к путешествиям привлекла его еще в молодости в Берлин, где он был принят Фридрихом Великим. Фридрих, которому нравились беседы с маркизом и его философские принципы, оставил его при себе, – так началась карьера Луккезини, он сделался важным лицом и благодаря удаче и ловкости надолго сохранил свое влияние. Женат он был на пруссачке. Чета приехала во Францию, где они оба сблизились с Талейраном. Прусский король очень поздно заметил, что его посланник вовлечен в составившийся против него заговор, и только через несколько лет посланник впал в немилость. Тогда он удалился в Италию и, устроившись при дворе великой герцогини Тосканской, снова нашел широкое поприще для своего честолюбия, так как приобрел на нее большое влияние. События 1814 года повлекли за собой его падение вслед за падением его государыни. Маркиза Луккезини, которая обладала известной наклонностью к кокетству, была в Париже одной из самых близких подруг госпожи Талейран.
Пятого июня император принял чрезвычайного посла Порты, который передал ему поздравление и выражение дружбы со стороны султана. Это посольство сопровождалось великолепными подарками в виде бриллиантов, жемчужного колье ценой в восемьдесят тысяч франков, духов, бесчисленного множества шалей и арабских лошадей со сбруей, украшенной драгоценными камнями. Император отдал колье своей жене; бриллианты и шали были распределены между придворными дамами. Самые лучшие из шалей императрица взяла себе, но их осталось еще достаточно, чтобы убрать ими будуар в Компьене; императрица Жозефина очень заботилась о его отделке, но воспользовалась им только императрица Мария Луиза.
В тот же день посланные из Голландии объявили, что в Гааге после долгого обсуждения признали конституционную монархию единственно подходящей отныне формой правления, так как она соответствует принципам, распространенным сейчас в Европе. Для того чтобы утвердить эту форму правления, они просили Луи Наполеона быть ее основателем.
Бонапарт отвечал, что эта монархия действительно полезна для общей европейской системы, что она рассеивает его собственное беспокойство и дает ему возможность отдать голландцам сильные крепости, которые он до сих пор удерживал за собой. Обращаясь к брату, он посоветовал ему заботиться о народах, которые поручал ему. Эта сцена была очень хорошо разыграна, Луи отвечал соответствующим образом. По окончании аудиенции, точно так же, как и в эпоху Людовика XIV, во время принятия испанского наследства, двери отворили настежь и перед собравшимся двором провозгласили имя нового голландского короля.
Тотчас же архиканцлер доложил Сенату новый декрет императора и произнес обычную в этих случаях речь.
Император гарантировал своему брату нераздельность владений; они должны были переходить по наследству по нисходящей линии, но короны Франции и Голландии никогда не должны были соединиться в одних руках. В случае несовершеннолетия наследника регентство принадлежало королеве, а в случае ее смерти император французов, в качестве постоянного главы императорской фамилии, должен был назначить регента, избранного из принцев королевской фамилии или из голландцев. Голландский король оставался коннетаблем Империи. Мог быть назначен и вицеконне – табль, если бы этого пожелал император.
Вместе с тем Сенату было объявлено, что Дальберг, его светлость архиканцлер Священной Римской империи, просил папу о назначении кардинала Феша своим помощником и преемником; его святейшество сообщил об этой просьбе императору, и император дал свое согласие.
«Наконец, – говорилось в этом декрете, – так как герцогства Беневент и Понтекорво служат предметом спора между неаполитанским и римским дворами, то для прекращения этого спора мы оставляем за собой право вознаградить эти дворы, а герцогства обращаем в непосредственные фонды Империи: мы отдаем их нашему обер-камергеру Талейрану и нашему кузену Бернадотту в качестве вознаграждения за услуги, оказанные родине. Они будут носить титул герцогов, дадут нам клятву в том, что будут служить нам верой и правдой, и, если у них не останется потомства, мы оставляем за собой право располагать этими герцогствами».
Бонапарт не выказывал большого расположения к маршалу Бернадотту; похоже, он считал нужным возвысить его потому, что Бернадотт женился на Дезире Клари, свояченице Жозефа, и императору казалось подходящим, чтобы сестра королевы стала по крайней мере принцессой.
Кажется, будет совершенно лишним говорить о том, что Сенат одобрил эти новые назначения.
На другой день после этой церемонии, которая вводила в семью Бонапартов нового короля, мы завтракали с императрицей. Вдруг с очень веселым видом входит ее муж, держа за руку маленького Наполеона, и обращается к нам всем со следующими словами:
– Дамы, вот маленький мальчик, он расскажет вам басню Лафонтена, которую я заставил его выучить сегодня утром, и вы увидите, как хорошо он ее говорит.
В самом деле, ребенок начал декламировать басню «Лягушки, просящие царя», а император хохотал в каждом месте, где находил какие-нибудь намеки. Он стоял за креслом госпожи Луи Бонапарт, сидевшей за столом напротив матери, и дергал ее за уши, беспрестанно повторяя:
– Что вы скажете об этом, Гортензия?
Ему почти ничего не отвечали. Я улыбалась, заканчивая свой завтрак, а император, который явно пребывал в прекрасном расположении духа, сказал, смеясь:
– Я вижу, госпожа Ремюза находит, что я даю Наполеону хорошее воспитание.
Это назначение Луи открыло брату его печальное семейное положение. Вступая на трон, жена Луи проливала обильные слезы. Неблагоприятный климат, от которого должно было еще больше расстроиться ее слабое здоровье, страх, который внушало ей пребывание наедине со строгим мужем, отчуждение, которое он проявлял по отношению к ней, нисколько не уменьшая при этом своей ревности и лишая ее какого бы то ни было оправдания, – все это заставило ее признаться во всем императору. Она открыла ему свое горе, чтобы подготовить его к тем огорчениям, которые, вероятно, ей придется еще испытать. Она просила у него защиты и добилась обещания никогда не судить ее, не выслушав сначала оправданий. Она сказала ему, что, зная заранее о предстоящих ей преследованиях, решила – в ту минуту, когда почувствует, что чаша страданий переполнилась, – удалиться от мира, жить в монастыре и отречься от венца, предвидя его шипы.
Император просил ее быть мужественной и терпеливой и обещал ей свою поддержку. Он просил ее предупредить его прежде, чем решиться на какой-либо окончательный шаг. Я могу сказать, что эта несчастная женщина готовилась к вступлению на трон как к новой жертве.
Глава XXI 1806 год
Мое путешествие в Котрэ – Голландский король – Мнимое спокойствие во Франции – Меттерних – Новый катехизис – Рейнская конфедерация – Польша – Смерть Фокса – Объявление войны – Отъезд императора – Паскье и Моле – Заседание Сената – Первые столкновения – Двор – Принятие в Академию кардинала Мори
В июне 1806 года я уехала на воды в Котрэ и отсутствовала три месяца. Мое здоровье было тогда в ужасном состоянии, и я хотела отдохнуть от множества ежедневных волнений, от которых уставала душой и телом. Моя семья, то есть мой муж, мать и дети, устроились в Отейле, откуда Ремюза мог часто ездить в Сен-Клу, и лето они провели тихо и спокойно. Наш двор был тогда довольно пустынным. Голландские король и королева уехали, семья Бонапартов устроилась в другом месте: лето давало возможность многим наслаждаться свободой. Император, обеспокоенный грозой, которая надвигалась на Европу, отдавался упорному труду, его жена посвящала свой досуг украшению Мальмезона.
В «Мониторе» помещались одни только рассказы о триумфальных въездах новоявленных правителей в их государства. В Неаполе, Берге, Бадене и Голландии энтузиазм, как говорили, царил необычайный, и повсюду народ был в восторге от полученных им даров. Часто приводились речи принцев и королей, и все они обращались к своим подданным с пышными похвалами по адресу великого человека, посланниками которого были. Не подлежит сомнению, что сначала Луи Бонапарт имел у голландцев большой успех. Его жена разделяла этот успех; она была так кротка и приветлива, что вскоре ее странный супруг стал завидовать чувствам, которые проявляли по отношению к ней голландцы, – это я узнала от французов, сопровождавших королевскую чету в Голландию. В характере Луи была привычка требовать, чтобы все зависело исключительно от него. Подобно своему брату, он боялся малейшей независимости. Сначала он потребовал, чтобы королева держала блестящий двор, но потом изменил свое распоряжение и заставил ее вести самую уединенную жизнь; это отдалило ее от народа, над которым она должна была царствовать.
Если верить рассказам лиц, не имевших никаких причин для фантазий, Луи, руководимый своими ревнивыми подозрениями, стал снова применять систему шпионства, предметом которого всегда приходилось быть королеве. Эта молодая женщина, больная и глубоко несчастная, заметила, что ее муж не желает, чтобы она разделяла с ним чувства, которые он хотел внушить голландцам. Из-за постоянных огорчений она сделалась равнодушной ко всякому успеху и стала жить в своем дворце уединенно, почти затворницей, занимаясь искусствами, которые любила, и страстно отдаваясь беспредельной нежности к своему старшему сыну. Этот ребенок, очень развитой для своего возраста, горячо любил свою мать, что возбуждало сильную ревность его отца. Порой он старался добиться предпочтения чрезмерной снисходительностью, а порой пугал сына резкими сценами, и ребенок гораздо больше любил мать, подле которой находил покой.
Наемные угодники определенного сорта, каких всегда можно найти при дворе, должны были следить за королевой и доносить обо всем, что делалось вокруг нее. Письма, которые она писала, распечатывались из опасения, как бы она не написала чего-нибудь о том, что совершалось в государстве ее мужа. Она уверяла меня, что не раз находила свой письменный стол открытым, а свои бумаги в беспорядке, и, если бы она только захотела, ей нетрудно было бы обнаружить агентов подозрительности короля. Вскоре при дворе заметили, что можно скомпрометировать себя, оказывая королеве какое бы то ни было внимание, и тотчас же она была всеми покинута. Несчастный, который обратился бы к ней, желая добиться какой-нибудь милости, сам вызвал бы подозрение; министр, который поговорил бы с ней о каком-нибудь неважном деле, навлек бы на себя неудовольствие.
Сырой климат Голландии увеличивал страдания королевы. Она таяла как воск, что замечали все окружающие, один только король сначала не хотел видеть этого. Однажды она говорила мне, что жизнь ее в то время была крайне тяжела и казалась ей совершенно безнадежной. Поселившись на одной из вилл недалеко от моря и видя, что безусловное господство на нем принадлежало английским судам, она страстно желала, чтобы какой-нибудь случай привел хоть одно из них к берегу, чтобы была сделана частичная высадка и ее взяли в плен. Наконец доктора объявили, что ей необходимы воды Ахена, и король, также не совсем здоровый, решил отправиться вместе с ней.
Голландии приходилось сильно страдать от запретительной системы, которой император подчинял все, что зависело от его власти. Луи Бонапарт – нужно отдать ему справедливость, – вскоре стал соблюдать интересы вверенных ему народов и по мере сил старался протестовать против тех тиранических мер, которых требовала императорская политика. Бонапарт упрекал его в этом, но король оставался тверд и боролся так, что сумел привязать к себе голландцев. В этом отношении они были к нему справедливы.
Швейцария также вынуждена была порвать все торговые сношения с Англией, и повсюду со всей строгостью стала применяться конфискация английских товаров. Эти меры усиливали в Лондоне партию, желавшую во что бы то ни стало поднять против Франции новые войны в Европе. Но Фокс, бывший в то время премьер-министром, казалось, склонялся к миру и не отказывался от попыток прийти к мирному соглашению. Русские все еще спорили с нашими войсками из-за некоторых частей Далмации. Великая армия не возвращалась во Францию, и объявленные празднества все откладывались. Прусский король, по-видимому, также склонялся к миру, но его красивая молодая жена, принц Людвиг и часть двора старались внушить ему желание воевать. Ему рисовали будущее освобождение Польши, увеличение территории Саксонии, опасность готовящейся Рейнской конфедерации.
Надо признать, что поведение императора оправдывало беспокойство в Европе. Английская политика мало-помалу начинала оказывать все большее влияние на русского императора. Воронцов был послан в Лондон, англичанам удалось договориться с ним, и вскоре континент пережил новое потрясение. Русский император отправил в Париж Убри для переговоров о мире. В самом деле, 20 июля мирный договор был подписан им и Талейраном, но не был ратифицирован в Петербурге.
Глубочайшее спокойствие царило во Франции. С каждым днем желания императора встречали все меньшее сопротивление. Управление ровное, твердое, строгое и довольно справедливое – по крайней мере в том отношении, что оно было равно для всех, – регулировало как саму власть, так и способы подчинения ей. Рекрутский набор производился со всей строгостью; но если народ и роптал, то еще очень слабо. Французы не были еще пресыщены наслаждением славой, как это случилось впоследствии, и притом блестящая перспектива выдвинуться на военном поприще привлекла молодежь, и она повсюду стояла за Бонапарта. Даже в дворянских семьях, где считали своим долгом или своей обязанностью быть в оппозиции, дети начинали отступать от воззрений своих отцов, а отцы втайне ничего не имели против того, чтобы самим немного отступить от них под предлогом родительской снисходительности.
День 15 августа стал днем святого Наполеона, и министр внутренних дел составил циркуляр, обращенный ко всем префектам, предписывая им праздновать этот день должным образом, что освятит память одновременно об императоре и об эпохе восстановления религии. «Никакой праздник, – говорилось в этом циркуляре, – не может вызвать более глубокого чувства, чем день, когда великий народ гордится своими победами в полном сознании своего счастья и празднует день рождения государя, которому обязан своим благоденствием и своею славой».
Мне кажется, нужно всегда повторять и не забывать, ради будущих поколений, ту истину, что и народы, и короли очень ошибаются, когда верят кажущемуся спокойствию, наступающему после великих потрясений революции. Если это спокойствие не создает такого порядка вещей, какой соответствовал бы потребностям народа, то несомненно, что спокойствие является только отсрочкой, созданной более или менее настойчивыми обстоятельствами; искусный человек легко воспользуется этой отсрочкой, но воспользуется ею разумно только в том случае, если сумеет осторожно направить необдуманные поступки доверившихся ему. Бонапарт же был далек от этого; сильный и властный, он открыл широкую брешь для французской революции. Ему всегда казалось, что эта брешь закроется с его смертью, которую он считал единственным возможным концом своих успехов. Он овладел французами в такое время, когда они сбились с дороги и теряли надежду достигнуть цели, к которой все еще стремились; тогда их энергия, немного неопределенная, превратилась в военное рвение, а это, конечно, самый опасный путь, наиболее противоречащий гражданскому духу. Бонапарт долго пользовался этим в своих целях, но не предвидел того, как трудно управлять нацией, которая стала боязливо относиться к своим собственным поступкам, но сохранила потребность великой реставрации; надо было, чтобы каждая война сопровождалась победой, потому что неудачи могли вызвать в умах такие размышления, которые были бы слишком опасны для императора.
Мне кажется, что он сам был увлечен теми обстоятельствами, которые порождались текущими событиями. Но император решился обуздать нарождающуюся свободу, чего бы это ни стоило, и пользовался с этой целью всеми средствами. Часто говорили и в эпоху Империи, и после падения императора, что он изучил лучше, чем кто бы то ни было, науку власти. Это верно, если под ней подразумевают знание способов добиться повиновения; но если слово «наука» обозначает «ясное и точное знание, основанное на принципах, очевидных по существу или ставших очевидными благодаря доказательствам»[126], – то несомненно, что Бонапарт не включал в систему управления те принципы, которые доказывают уважение правителя к подданным. Он совершенно не признавал одного необходимого условия: что человек, желающий долго господствовать над другими людьми, должен заранее дать им некоторые права, из опасения, как бы они не потребовали их сами, почувствовав наконец утомление от своей умственной бездеятельности.
Он не умел возбуждать благородных стремлений, не умел понять или пробудить добродетели, не умел возвыситься сам, возвышая человеческую природу.
Но следует ли без всякого снисхождения признать французов виноватыми в том, что они были очарованы подобным господином? Обвинит ли их потомство за неосторожное доверие? Я так не думаю. Бонапарт безразлично пользовался и хорошим и дурным в зависимости от того, что было ему полезно; он был слишком умен, чтобы не понять, что ничего нельзя основать во время потрясений, – поэтому он начал с водворения порядка, а это и привязало нас всех к нему – нас, бедных путников, переживших столько бурь! То, что он сделал для своей собственной выгоды, мы приняли с благодарностью. Первым его благодеянием, гарантией всех остальных его даров мы считали общественное успокоение, сделавшееся той почвой, на которой он строил здание своего деспотизма. Мы думали, что тот, кто восстанавливал нравственность, религию, цивилизацию, кто покровительствовал литературе и искусствам, кто хотел водворить общественный порядок, носит сам в душе благородные побуждения – признак истинного величия. Быть может, в конце концов надо признать, что наши заблуждения, несомненно, печальные, так как они слишком долго содействовали планам Бонапарта, доказывают скорее благородство наших чувств, чем нашу неосторожность. Сознавая слабости, которые ведут человечество к заблуждению, можно утешиться мыслью, что те, кто желают подчинить себе людей, начинают с того, что притворяются добродетельными.
До самого момента объявления прусской войны не произошло ни одного выдающегося события. В течение этого лета в Париж приехал австрийский посланник Меттерних. Он играл в Европе довольно значительную роль, принимал участие в очень важных событиях и составил себе, наконец, громадное состояние, хотя, как говорят, его таланты не возвышались над интригами второстепенной политики. В то время он был молод, имел приятную наружность и всегда добивался успеха у женщин. Несколько позднее он, по-видимому, привязался к госпоже Мюрат, и это чувство надолго сохранило ее мужу неаполитанский трон и, быть может, и ныне поддерживает ее в избранном ею убежище в Австрии.
В августе месяце был обнародован декрет, определяющий новый катехизис галликанской церкви. Он был назван «катехизисом Боссюэ». Наряду с учением, заимствованным, и в самом деле, из катехизиса епископа Мо, в декрет было вставлено несколько замечательных фраз об обязанностях французов по отношению к императору. К примеру, на странице 55 находим:
«Вопрос: – Нет ли особенных причин, по которым мы должны быть сильнее привязаны к Наполеону I, нашему императору?
Ответ: – Да, потому что Бог возвысил его при трудных обстоятельствах для восстановления общественного богослужения согласно со святой верой наших отцов и для того, чтобы он был ее защитником. Он восстановил и сохранил общественный порядок благодаря своей глубокой и заботливой мудрости; своей твердой рукой он защищает государство, он стал помазанником Божиим, так как посвящен главой католической церкви, папою».
Во времена правления Фокса Бонапарт сумел достичь заключения мира с Англией, может быть, потому, что у него были для этого какие-нибудь особенные данные, или же потому, что политика этого лидера оппозиции была совершенно противоположна политике его предшественника. Помимо того, что император находил в этом очевидные выгоды, его тщеславие всегда страдало от того, что английское правительство не признавало его императорского достоинства. Титул генерала, который давали ему английские газеты, всегда оскорблял его самолюбие. Когда Фокс заболел, в «Мониторе» было сказано, что его серьезная болезнь внушает опасение, как бы английская политика не вернулась к своей обычной запутанности.
Между тем была создана Рейнская конфедерация. В обширном феодальном плане императора значилась и эта система; она увеличивала собою число феодалов Французской империи; она как будто распространяла революцию в Европе. Великие герцогства Германии были отделены от Священной Римской империи, и император французов был объявлен их протектором. Договорившиеся стороны, то есть Империя и союзные государства, обязывались вооружаться, в случае столкновения должно было быть выставлено 63 тысячи человек, Франция должна была доставить 200 тысяч.
Курфюрст, великий канцлер Священной Римской империи, становился примасом Конфедерации, а после его смерти император должен был назначить ему преемника. Кроме того, император возобновлял декларацию, по которой обязывался не переносить границы Франции за Рейн, но вместе с тем объявлял, что сделает все возможное для освобождения морских путей. Эта декларация появилась в «Мониторе» 25 июля.
Честь образования этой Конфедерации должна быть в значительной мере приписана Талейрану. Он пользовался тогда громадным влиянием: казалось, что он должен был привести в организованную систему обширные проекты, созданные честолюбием императора. В то же самое время Талейран не переставал заботиться и об увеличении своего состояния. Германским принцам пришлось заплатить за некоторые преимущества, которые они получили в результате этого соглашения. Имя Талейрана приобретало в Европе все большее и большее значение.
Его излюбленной идеей, казавшейся всегда разумной и полезной, была идея о том, что французская политика должна освободить Польшу от чужеземного ига и создать из нее преграду для России – с целью поддержания равновесия с Австрией. Талейран старался содействовать этому плану всеми своими советами. Я часто слышала от него, что все спокойствие Европы зависит от Польши; кажется, император думал так же, но он не был достаточно последователен, чтобы достичь осуществления этого проекта, и ему мешали случайные обстоятельства.
Бонапарт часто жаловался на страстный, но поверхностный характер поляков. «С ними, – говорил он, – нельзя проводить никакой определенной системы». О них надо было постоянно заботиться, а Бонапарт мог о них думать только мимоходом. Притом, император Александр был слишком заинтересован в том, чтобы мешать проведению французской политики в этом направлении, и не мог оставаться спокойным зрителем подобных попыток с французской стороны. Таким образом, в Польше действовали непоследовательно, и вся партия была проиграна.
В начале сентября Жером Бонапарт вернулся в Париж. Все колониальные попытки не удались, и император навсегда отказался от каких бы то ни было морских предприятий.
Тогда он решил женить своего младшего брата на какой-нибудь европейской принцессе, требуя, чтобы первый брак считался недействительным.
Создавая Рейнскую конфедерацию, Бонапарт объявил, что сохранит свободу ганзейских городов. Когда речь заходила о свободе, казалось, что император предоставляет ее всегда только как временный дар, и все решения по этому поводу еще больше волновали прусскую политику. Королева и дворянство возбуждали прусского короля к войне. Вот почему в бюллетенях кампании, которая открылась вскоре после этого, королева Луиза сделалась предметом оскорблений, часто очень грубых. Сначала ее сравнивали с Армидой, которая с факелом в руке старалась поднять против нас врагов. В противоположность этому сравнению, до известной степени поэтическому, несколько ниже можно было прочесть следующую фразу, в совершенно ином и очень вульгарном стиле: «Какая жалость! Ведь говорят, что прусский король – вполне порядочный человек!»
Фокс умер в сентябре; партия английского кабинета министров, которая склонялась к войне, снова усилилась; русский кабинет тоже перестроился; национальное движение волновало прусское дворянство, и народ начинал ему отвечать. Гроза надвигалась, и гроза разразилась: поводом послужило то, что царь вдруг отказался ратифицировать договор, подписанный в Париже его уполномоченным Убри. С этого момента все было решено: хотя официального объявления войны не было, о ней громко говорили.
В начале месяца я вернулась из Котрэ и очень радовалась тому, что опять нахожусь со своей семьей, как вдруг Ремюза получил приказание отправиться в Майнц, куда через несколько дней император должен был приехать. Я была глубоко огорчена этой новой разлукой. Не получая никаких почестей, которые вознаграждают некоторых женщин за страдания, переживаемые ими из-за брака с военными, я с трудом переносила разлуку с мужем, которому приходилось постоянно уезжать. Помню, что после отъезда Ремюза император спросил, почему у меня грустный вид, и, когда я ответила, что скучаю по мужу, стал смеяться надо мной.
– Ваше величество! – сказала я ему тогда. – Я совершенно не понимаю той радости, которую могут доставить геройские подвиги, и лично для себя полагаю всю свою славу только в счастье.
Он начал смеяться.
– Счастье! О да, счастье играет большую роль в наш век!
Я снова виделась с Талейраном перед его отъездом в Майнц, он выказал мне свою дружбу и уверял меня, что ничто так не полезно для нашего будущего, как назначения Ремюза во все путешествия. Но видя, что слушаю я его со слезами на глазах, Талейран продолжал говорить серьезно, и я была ему благодарна за то, что он не шутил над огорчением, которое было серьезным только для одной меня и, в сущности, должно было казаться легким по сравнению со страданиями многих женщин, мужья и сыновья которых подвергались все новым и новым опасностям. В характере, или, вернее, в наклонностях Талейрана всегда был известный такт, очень тонкий, поэтому с каждым он говорил тем языком, который ему подходил. В этом и заключалось необыкновенное обаяние его личности.
Наконец император вдруг собрался и 25 сентября уехал, не уведомив Сенат никаким посланием о причине своего отъезда[127]. Императрица, всегда расстававшаяся с ним против своего желания, сначала не могла добиться от него разрешения ехать вместе с ним, но так настаивала в последний день его пребывания в Сен-Клу, что около полуночи Бонапарт уступил ее настояниям и посадил в свою карету в сопровождении одной только камер-фрау. Весь императорский дом последовал за ней только через несколько дней. О моем участии во всех этих поездках не могло быть и речи, так как этого не позволяло мне мое здоровье.
Мне кажется, что императрица, уже привыкшая к мелким тщеславным радостям, которые доставило ей вступление в ее двор некоторых дам, имевших гораздо большее значение, чем я, теперь, вернувшись к своим прежним привязанностям, немного сожалела обо мне. Что касается императора, то он не придавал мне большого значения и был прав. Женщина при его дворе не значила ничего, а больная женщина – меньше, чем ничего.
Госпожа Бонапарт часто рассказывала мне, что ее муж начал эту прусскую кампанию с неким отвращением. Роскошь и комфорт уже оказывали на него влияние, суровая лагерная жизнь пугала его. При этом его беспокоило еще и то, что прусская армия пользовалась громкой репутацией; много говорили о превосходстве прусской кавалерии; наша же кавалерия еще не внушала большого доверия, и военные ожидали сильного сопротивления со стороны неприятеля. А потому небывалый и столь быстрый успех в битве при Йене является одним из тех чудес, которые расстраивают все человеческие предположения. Этот успех озадачил всю Европу и доказал как счастье Бонапарта, так и его искусство, а вместе с тем и храбрость французов.
Бонапарт пробыл в Майнце недолго: пруссаки вступили в Саксонию, надо было спешить, чтобы догнать их. В начале этой кампании император сформировал две роты конных жандармов, и одной из них командовал виконт де Монморанси. Этот своего рода призыв к дворянам давал им возможность разделить славу Франции и привлекал привилегиями. И в самом деле, некоторые из дворян вступили в состав этого корпуса.
В то время, когда готовились великие события, было решено, что императрица останется в Майнце с частью сопровождающих ее придворных. Ремюза находился при ней, управляя всем двором, и Талейран должен был также оставаться в Майнце до получения новых приказаний.
В тот момент, когда император покидал город, моему мужу пришлось быть свидетелем зрелища, которое сильно его поразило. Талейран был в кабинете императора; Ремюза, который находился тут же, получал последние приказания. Наступил вечер, экипажи были готовы, император попросил моего мужа сходить за его женой; через минуту Ремюза привел ее, она обливалась слезами. Император, тронутый ее горем, долго сжимал жену в объятиях и, казалось, сильно страдал от предстоящей разлуки. Он был заметно взволнован, Талейран также казался озабоченным. Император, прижимая жену к себе, подошел к Талейрану, протянул ему руку, обнял их обоих вместе и, обращаясь к Ремюза, сказал: «Однако очень тяжело расставаться с двумя людьми, которых любишь больше всех». Он повторял эти слова, и его нервное волнение так усилилось, что по лицу полились слезы; через минуту у императора начались конвульсии, которые вызвали приступ тошноты. Пришлось посадить его и дать выпить флердоранжевой воды; Бонапарт продолжал рыдать. Затем он овладел собой и, вставая, пожал руку Талейрану. Потом поцеловал в последний раз жену и сказал Ремюза: «Экипажи поданы, не правда ли, скажите об этом свите и пойдемте!»
Когда мой муж описал мне эту сцену, она доставила мне некоторую радость. Открытие, что естественные человеческие чувства могли оказывать влияние на Бонапарта, казалось мне как бы победой, в которой должен был быть заинтересован каждый из нас. Он уехал из Майнца 2 октября в 9 часов вечера.
Сенату еще не было ни о чем объявлено, но все ожидали жестокой войны. Со стороны пруссаков это была война национальная; и в самом деле, объявляя ее, король уступал горячему желанию всего своего дворянства и значительной части народа. Притом слухи о создании Польского королевства беспокоили государей. Необходимо было составить Северную лигу из государств, не вошедших в состав Рейнской конфедерации. Молодая королева оказывала влияние на своего супруга; она с большим доверием относилась к прусскому принцу Людвигу, который искал случая отличиться. Этот принц был храбр, любезен, имел большую склонность к искусствам; его рвение передавалось всему молодому дворянству. Прусская армия, прекрасная и сильная, внушала этой новой коалиции полное доверие к своей силе; прусская кавалерия считалась лучшей в Европе. Зная теперь, с какой легкостью все это было рассеяно, надо признать, что вожди этой армии были очень неискусны, а старый герцог Брауншвейгский и во второй раз так же плохо направил благородную отвагу состоявших под его командой солдат[128].
Уже в начале этой кампании нетрудно было заметить, что во Франции несколько утомлены непрерывными изменениями судьбы – как общей, так и частных лиц. Недовольство сказывалось в грустном выражении лиц, и было ясно, что императору надо совершить чудо, чтобы снова подогреть остывающий энтузиазм. Напрасно газеты наполнялись статьями, изображавшими радость рекрутов, набиравшихся во всех департаментах; никто не верил этой радости и даже считал излишним притворяться. Париж снова впал в ту угрюмую печаль, в которую ввергает столичные города всякая война, пока она длится. Благодаря выставке, о которой я уже говорила, восхищались успехами нашей промышленности, но национальное чувство нельзя поддерживать одной только любознательностью; и когда граждане совершенно чужды поступкам своего правительства, они являются простыми зрителями даже тех его распоряжений, которые содействуют успеху прогресса.
Я помню, что писала мужу во время этой кампании: «Положение вещей, настроение умов сильно изменились. Чудеса храбрости, выказанные в этом году, далеко не производят такого впечатления, как в прошлом. Я уже не вижу теперь того энтузиазма, который был вызван битвой при Аустерлице»[129]. Сам император заметил это и, возвратившись в Париж после Тильзитского договора, говорил: «Военная слава быстро тускнеет для современников. Пятьдесят битв производят не больше впечатления, чем пять или шесть. Для французов я всегда буду больше человеком Маренго, чем Йены и Фридланда».
Проекты императора относительно Европы расширялись и требовали от него все большей и большей централизации в управлении, так, чтобы радиусы его воли, исходящие из одного центра, могли быстро дойти до того места, куда он желал их направить. Более или менее уверенный в послушании Сената, уменьшая с каждым днем значение Законодательного корпуса, несомненно, желая при первом удобном случае освободиться от Трибуната, он придал большую власть Государственному совету, который был составлен из людей хоть и отличавшихся умом, но склонных подчиняться его непосредственному влиянию. По этому поводу был издан новый декрет: в Государственном совете создавалась комиссия петиций, составленная из советников, докладчиков и аудиторов. Эта комиссия собиралась три раза в неделю, и ее решения должны были докладываться императору. Моле и Паскье, докладчики, были назначены членами этой комиссии. Оба они поступили на службу одновременно, и хотя и были совершенно различных возрастов, составили себе хорошее имя в магистратуре и мало-помалу выдвинулись при этом новом правительстве. Однако император уже и тогда относился лучше к Моле. Он пользовался молодостью последнего, так как, несмотря на всю серьезность, Моле был склонен к энтузиазму. Император был доволен тем, что направлял его мысли по своему желанию; но вместе с тем он пользовался и парламентскими способностями Паскье. «Я эксплуатирую одного, – говорил он иногда, – и создаю другого». Я привожу эти слова для того, чтобы еще раз доказать, как Бонапарт любил анализировать свои поступки по отношению ко всем окружающим.
Осенью этого года в Париже проводились скачки, заведенные самим императором, когда он был еще консулом. В самом деле, Франция сделалась в то время как бы одним большим собранием зрителей, перед которыми давались всевозможные представления, но при условии, чтобы публика всегда аплодировала.
Наконец, 4 октября был созван Сенат. Архиканцлер, как это делалось прежде и как было установлено на будущее, объявил о войне и произнес торжественную, но бессодержательную речь. Затем он прочел письмо императора, на котором стоял адрес его главной квартиры. В этом письме прусский король объявлялся виновником войны, выражалось сожаление о том, что гений зла вечно смущает покой Франции, и говорилось, что захват Саксонии заставил императора быстро двинуться вперед. Это письмо сопровождалось официальным донесением министра иностранных дел. Он не мог указать никакой разумной причины войны, удивлялся, почему свобода, дарованная ганзейским городам, могла обеспокоить прусское правительство, и приводил ноту Кнобельсдорфа, нового посланника Пруссии. Незадолго до этого распространились слухи, будто Луккезини, преданный Англии, напугал двор безосновательными донесениями о проектах всемирной монархии, создаваемых французским правительством. Император, узнавший эти новости, потребовал отозвать Люккезини. Его заменил Кнобельсдорф, но эта перемена ни к чему не привела, вражда между обоими кабинетами усиливалась; император уехал; прусский посланник получил последнюю ноту от своего государя, который требовал, чтобы французские войска очистили всю Германию.
Кнобельсдорф послал эту ноту Талейрану еще в Майнц, а Талейран отправил ее императору уже в Бамберг. В первом бюллетене, содержащем отчет о начале этой кампании, говорилось следующее: «7-го император принял курьера из Майнца, который привез ноту Кнобельсдорфа и письмо прусского короля на двадцати страницах, представляющее из себя плохой памфлет в том духе, в каком заказывает памфлеты английское правительство своим писателям за 500 фунтов стерлингов в год. Император не дочитал его до конца и сказал окружающим: «Я сожалею о своем брате прусском короле: он не понимает по-французски, он, вероятно, не прочел этой «поэмы»». Затем он сказал маршалу Бертье: «Маршал! Нам назначают честный поединок на 8-е число, француз никогда от этого не откажется. Говорят, у них есть красивая королева, которая желает быть свидетельницей сражения; в таком случае будем любезны и двинемся, не переночевав, к Саксонии»».
Боевые действия в самом деле начались 8 октября 1806 года. Воззвание императора к солдатам, подобно всем остальным его воззваниям, отличалось страстностью, составлявшей особенность Наполеона.
«Вперед! – воззвал он. – Так как умеренность с нашей стороны не вывела пруссаков из их странного опьянения, пусть прусская армия испытает ту же участь, какой она подверглась четырнадцать лет назад. Пусть же они узнают, что если можно достигнуть увеличения власти и территории благодаря дружбе с великим народом, то вражда этого народа, вызванная только отказом от всякого благоразумия и здравого смысла, будет ужаснее всяких бурь на океане!»
В это самое время голландский король Луи Бонапарт возвратился в Гаагу, чтобы собрать Генеральные штаты и добиться от них принятия закона, повелевающего уплатить поземельный налог за год до срока. Добившись этого закона, он перенес свою главную квартиру на границу государства. Таким образом, голландцы, которым обещали благоденствие в награду за потерю свободы, в первый же год очутились под страхом войны, удвоенных налогов и континентальной блокады, парализовавшей их торговлю.
Госпожа Луи Бонапарт приехала к матери в Майнц и, казалось, вздохнула свободно, очутившись среди близких. Приехала также и юная принцесса Баденская. В то время ее отношения с мужем были еще очень холодными. Примас и некоторые из государей Конфедерации нанесли визиты императрице. Жизнь, которую она вела в Майнце, была довольно пышной, так как ее присутствие привлекло в город нескольких выдающихся людей. Она предпочла бы повсюду следовать за императором, чтобы следить за ним; но когда она писала о своем желании приехать к нему, он отвечал: «Я не могу призвать тебя к себе, потому что я раб положения вещей и силы обстоятельств; подождем, к чему они приведут»[130].
Императрица, взволнованная опасностью, снова угрожавшей ее мужу, не находила вокруг себя никого, кто бы мог посочувствовать ее беспокойству. Она привезла с собой дам, сохранивших, благодаря своему имени, те воспоминания, которые они вправе были сохранить и при новом дворе; а эти дамы позволяли себе выражать протест против начинавшейся войны и относились с совершенно понятной симпатией к прекрасной королеве, которая подвергалась оскорблениям в каждом бюллетене. Смерть принца Людвига Прусского[131] (я расскажу о ней позже), которого знали некоторые из придворных дам, когда-то бывших эмигрантками, огорчила их, и вокруг нашей государыни образовалась известного рода оппозиция, во главе нее охотно встала госпожа де Ларошфуко.
Ремюза постоянно выслушивал жалобы императрицы, которая жила праздно и слишком прислушивалась к тому, на что не должна была бы обращать внимания. Ремюза советовал ей не беспокоиться и ничего не сообщать императору, который придал бы этому слишком большое значение. Но госпожа Бонапарт, оскорбленная речами своих дам, написала обо всем мужу. А позднее Талейран, присутствовавший при этих бурях, которые легко было усмирить, захотел позабавить этим императора, но император совсем не принял шутку.
Во всяком случае, эта беспокойная и пустая, хотя и деятельная жизнь при дворе сильно надоела моему мужу. Он старался развлечься изучением немецкого языка, «для того чтобы, – как писал он, – пополнить день хоть каким-нибудь полезным занятием». Вместе с тем он все больше и больше ценил общество Талейрана, который старался сблизиться с ним и выказывал ему доверие и действительную дружбу. Всякий раз, когда Талейрану приписывают малейшее проявление чувства, приходится подтверждать это каким-нибудь решительным словом, предвидя возникающие сомнения. Суждения общества о Талейране слишком строги, или по крайней мере слишком категоричны. А я знаю, что он был способен на привязанности, и решаюсь сказать, что, если бы он обманывал меня в этом отношении, я не могла бы так искренно привязаться к нему.
В это время я очень спокойно жила в Париже с матерью, сестрой и своими детьми; у меня бывало изысканное общество и немало писателей (благодаря авторитету моего мужа в театральном деле).
Принцесса Каролина, герцогиня Бергская, требовала, чтобы ей оказывали некоторое внимание. Она жила на Елисейских Полях и содержала довольно большой штат. Ей наносили визиты, так же как и архиканцлеру Камбасересу; время от времени двор съезжался к ним, а остальное время жили спокойно.
Уверенность в том, что полиция всегда наблюдала за всеми салонами, мешала делать какие бы то ни было заключения о состоянии дел, поэтому ограничивались тайными предположениями, и все держались особняком, что как раз и нужно было императору.
Впрочем, во время этой кампании произошел маленький инцидент, который занял Париж и позабавил его в течение нескольких дней. Двадцать третьего октября кардинал Мори был избран на место Тарже во Французской академии. Когда зашла речь о его приеме, кто-то вздумал спросить, будут ли к нему обращаться «ваше высокопреосвященство». Это вызывало сильную оппозицию. Однажды подобный спор уже подымался – перед революцией, и тогда д’Аламбер и современная ему Академия настаивали на необходимости всеобщего равенства в этом святилище литературы; и эта же Академия теперь, в 1806 году, примкнув к правой партии, настаивала на титуле «ваше высокопреосвященство» в противоположность другой партии, во главе которой стояли Реньо, Арно, Шенье и другие. Спор принял резкую форму, и кардинал объявил с раздражением, что не примет избрания, если ему не будет оказано подобающее его сану уважение. Принять свободно какое-либо решение было слишком трудно, поэтому решили донести обо всем императору, и об этом тщеславном споре ему было сообщено на поле битвы.
Между тем кардинал, встречая кого-нибудь из членов Института, принадлежащих к оппозиционной партии, нападал на них в самых резких выражениях. Однажды, когда он обедал у госпожи Мюрат, между ним и Реньо завязалась довольно забавная ссора; мне пришлось быть ее свидетельницей. Как только были сказаны первые слова, кардинал попросил Реньо перейти в другой салон. Реньо согласился, но с условием, чтобы туда же перешли и некоторые из присутствующих. Раздраженный кардинал начал сильно горячиться:
– Неужели вы не помните, как в Учредительном собрании я называл вас мальчишкой?!
– Это не может служить причиной для того, – отвечал Реньо, – чтобы теперь мы оказывали вам знаки уважения.
– Если бы я был Монморанси, – продолжал кардинал, – я посмеялся бы над вами; но мне открыл двери Академии только мой талант, и если бы я вам услужил относительно титула «ваше высокопреосвященство», то на следующий же день вы стали бы обращаться со мной по-товарищески.
Реньо напомнил ему о том, что один раз Французская академия действительно уступила обычаю относительно этого титула – с Дюбуа, который был принят Фонтенелем.
– Но, – прибавил он, – времена очень изменились. Признаюсь, что, глядя на кардинала Мори, я думаю, что люди не очень изменились.
Наконец спор сделался крайне резким. О нем сообщили императору, который приказал академикам называть кардинала «высокопреосвященством». Тотчас же все подчинились и перестали говорить об этом.
Глава XXII 1806 год
Смерть принца Людвига Прусского – Битва при Йене – Император и революция – Придворная жизнь в Майнце – Жизнь в Париже – Маршал Брюн – Взятие Любека – Принцесса Хатцвельдская – Аудиторы в Государственном совете – Бедствия армии – Саксонский король – Размышления императора – Битва при Эйлау
Император покинул Бамберг и поспешил на помощь саксонскому королю Фридриху Августу I. Наша армия и на этот раз была мобилизована с той удивительной быстротой, которая разрушила все комбинации неприятеля. Первые столкновения произошли при Заальфельде между маршалом Данном и авангардом принца Гогенлоэ под командой принца Людвига Прусского. Принц Людвиг, отважный до безрассудства, бился как простой солдат. Сражаясь бок о бок с простым вахмистром и отказываясь сдаться, он упал сложил голову на поле битвы. Его смерть поколебала уверенность пруссаков и воодушевила наших солдат. «Если последние минуты своей жизни он провел как плохой гражданин, – говорилось в императорском бюллетене, – то смерть покрыла его славой и достойна сожаления. Он умер так, как должен желать умереть каждый храбрый солдат».
Я не знаю, думали ли в Пруссии, что этот принц предпочел свою собственную славу интересам родины, возбуждая эту войну. Быть может, было неосторожно начинать ее в то время; без сомнения, начать ее следовало во время составления коалиции – в прошлом году; однако значительная часть прусского народа разделяла чувства принца Людвига.
В течение следующих дней бюллетени давали отчет о нескольких больших стычках, которые были только прелюдией к великому сражению 14 октября. В бюллетенях говорилось, что прусский двор находится в большом смятении, и мимоходом, в деспотическом духе, давался совет тем государям, которые впадают в колебания, советуясь с толпой относительно серьезных политических вопросов, стоящих выше понимания этой толпы. Как будто народы, в том положении, в каком они теперь находились, могли доверить своим правителям деньги, собранные с них, и людей, взятых из их среды, не спрашивая, на что будет употреблено и то, и другое!
Четырнадцатого октября армии встретились, и эта знаменитая битва в несколько часов решила участь прусского короля. Кавалерия, которой так божись, не могла устоять против нашей инфантерии. Неразбериха в приказаниях спутала и военные действия. Громадное количество пруссаков было убито или взято в плен. Генералы остались на поле битвы; герцог Брауншвейгский был тяжело ранен, король бежал; поражение оказалось полным[132]. Наши бюллетени были полны похвалами маршалу Даву, который и в самом деле очень содействовал успеху дня, и император не побоялся признать это.
Вечером, в день сражения, произошел забавный случай с Евгением Монтескье, вестовым офицером. Император послал его к прусскому королю с письмом, о котором я скажу ниже. Монтескье на целый день задержали в прусской главной квартире: пруссаки не сомневались в поражении французов и хотели, чтобы он оставался взволнованным зрителем происходящих событий. Генералы, в особенности Блюхер, подчеркивали свои распоряжения в его присутствии. К вечеру этот молодой человек смог сбежать и отправился вдогонку за нашей армией. Во время бегства он встретил двух французов, которые присоединились к нему.
Они втроем захватили в плен восемнадцать пруссаков, отбившихся от армии, и с триумфом привели их к императору. Этот маленький захват очень позабавил Бонапарта.
За битвой при Йене последовал один из тех ускоренных маршей, которые Бонапарт умел так хорошо предписывать своей армии после победы. Никто не мог лучше него пользоваться победой: он ошеломлял неприятеля, он не давал ему передышки. Эрфурт сдался 16 октября. Фридриху Августу I был сделан выговор за то, что он уступил прусскому королю, дав ему возможность пройти через свое государство и приняв в войне участие на первых порах, но пленных ему возвратили. Генерал Кларк был назначен губернатором Эрфурта.
Бюллетени этого времени замечательнее всех остальных. Бонапарт был раздражен тем, что император Александр обманул его; он думал, что может рассчитывать на постоянный нейтралитет Пруссии; его задевало английское влияние на континенте; и это раздражение сквозило в каждой продиктованной им фразе. Бонапарт поочередно нападал то на английское правительство, то на прусское дворянство, которое хотел очернить в глазах народа, то на молодую королеву, то на женщин вообще и т. д.[133] Прекрасные, полные величия фразы терялись среди грубых и вульгарных оскорблений. Мы начинали привыкать к военным чудесам, и критика старалась прицениться, если можно так выразиться, к той форме, в какой они нам передавались. В конце концов внимание, с которым народы относятся к словам королей, совсем не так наивно, как это думают. Характер государей часто лучше выражается в их словах, чем в их поступках, а для подданных характер государя имеет большое значение.
Прусский король, преследуемый по пятам французами, просил перемирия, в котором ему было отказано; тем временем был взят город Лейпциг. Французы перешли поле сражения при Росбахе, и колонна, напоминавшая о наших поражениях, была снята и отослана в Париж.
Двадцать второго октября Луккезини приехал в нашу главную квартиру с письмом от прусского короля, которое не могло быть опубликовано по дипломатическим соображениям.
Все решения императора, от самых важных до самых мелких, казалось, всегда опирались на причину, которая выражена в басне Лафонтена: «Потому что я Лев». Вот его слова: «Пруссаки удивляются быстроте преследования. Вероятно, эти господа привыкли к военным действиям эпохи Семилетней войны». Когда побежденные запросили три дня для погребения убитых, император отвечал: «Думайте о живых и предоставьте нам хоронить мертвых; для этого не нужно перемирия».
Двадцать четвертого октября Бонапарт переехал в Потсдам. Конечно, он посетил Сан-Суси, и в бюллетенях появились воспоминания о Фридрихе Великом. Новости читались в театре, но вызывали только слабые аплодисменты. «Война! Вечная война! Вот на что мы обречены!» – эти слова, произносимые с большей или меньшей горечью, расстраивали привязанных к императору людей, и на них нечего было возразить.
Двадцать пятого октября сдалась крепость Шпандау.
Ко всем этим сообщениям присоединили письмо, написанное будто бы каким-то солдатом из одного города в герцогстве Брауншвейгском. В нем с энтузиазмом восхвалялась храбрость французов и высказывалось предположение, что она была следствием военной системы, введенной в нашей армии. «Очень естественно, – говорилось в письме, – что солдат, который способен себе сказать: «Нет ничего невозможного в том, что я сделаюсь маршалом Империи, принцем или герцогом, подобно другим», – вдохновляться этой мыслью. При Росбахе было не так. Тогда во главе французской армии стояли выдающиеся люди, которые были обязаны своим положением только своему рождению или покровительству какой-нибудь Помпадур. Они командовали солдатами, после поражения которых нашли только сетки для волос и пороховницы»[134].
Наконец 27 октября император вступает в Берлин под громкие приветствия толпы и тотчас же высказывает свое неудовольствие прусским вельможам, которые спешат ему представиться. «Мой брат прусский король, – сказал Бонапарт, – перестал царствовать в тот день, когда не приказал повесить принца Людвига за то, что тот осмелился бить окна его министров». (Молодой принц позволил себе эту солдатскую выходку против графа Гаугвица, который возвратился из Франции и стоял за мир.)
Бонапарт обратился также к вельможам со следующими словами: «Я сделаю высшее дворянство таким незначительным, что оно станет низшим». Произнося и публикуя эти жестокие слова, император не только хотел выместить свой гнев на подстрекателях этой войны, но и как бы выполнял свои обязательства по отношению к революции. Хотя он был решительным противником революции, но ему приходилось время от времени отдавать дань тем идеям, которые возвысили его.
Неопределенное желание равенства, благородное стремление к свободе были причинами наших гражданских смут, и Бонапарт это знал. Но он жаждал власти и боялся содействовать установлению свободы, которая, если достигнута, делается лучшим завоеванием времени; поэтому, в виде компромисса, он ограничивался провозглашением равенства. Никогда и нигде он не решился признать истинные права народов, и скромная аристократия ума и благородной просвещенности, в сущности, не нравилась ему гораздо больше, чем аристократия титулов и привилегий, которую он эксплуатировал по своему желанию.
Двадцать девятого октября Талейран уехал из Майнца, чтобы явиться по вызову к императору. Ремюза был крайне огорчен его отъездом, – монотонная праздность придворной жизни делала их общение необходимым обоим.
Аристократ по своим вкусам, взглядам и по положению в свете, Талейран не считал дурным то, что Бонапарт сдерживал революцию в ее крайностях, но ему хотелось, чтобы неукротимый характер и страстная воля Бонапарта не сбивали его с пути, по которому министр старался направить его своими советами. Знающий детально политическое положение Европы, более сведущий в правах человека, чем в правах народов, Талейран очень ясно представлял себе ход дипломатии, которого желал достигнуть. С этого времени он начал бояться влияния, которое могла получить в Европе Россия; он высказывался за то, что нужно создать независимое государство между нами и русскими, и поэтому покровительствовал несколько смутным, но страстным желаниям поляков. «Нужно создать, – твердил он, – Польское королевство. Вот оплот нашей независимости; но нужно довести дело до конца». Всецело проникнутый этой мыслью, Талейран поехал к императору, твердо решив посоветовать ему воспользоваться своей блестящей удачей.
После его отъезда Ремюза писал мне, что сильно скучает. Придворная жизнь в Майнце была строго регламентированной и монотонной. Императрица была здесь, так же, как и в других местах, кроткой, корректной и праздной; она не решалась действовать, потому что, находясь и рядом со своим мужем, и вдали от него, она всегда боялась навлечь на себя его неудовольствие. Дочь ее, счастливая тем, что вырвалась из своей печальной семейной обстановки, проводила дни в странных развлечениях, слишком ребяческих для занимаемого ею положения и ее достоинства. Так же, как и мать, ее радовали счастливые способности сына, в то время жизнерадостного, красивого и очень развитого для своего возраста мальчика[135].
Германские принцы приезжали к майнцскому двору. Устраивались парадные прогулки, все блистали нарядами и ждали хоть каких-нибудь новостей. Двор желал возвратиться в Париж, императрица просила разрешения отправиться в Берлин, – здесь, как и везде, все оставалось прикованным к воле одного человека.
В Париже жизнь была скучна, но спокойна. Отсутствие императора как будто приносило некоторое облегчение. Говорили не больше, чем прежде, но, казалось, дышали свободнее, и это облегчение замечалось особенно среди тех, кто был тесно связан с правительством.
Армия принца Евгения продвигалась вперед по Венецианской Албании, а маршал Мармон не уступал русским, которые начали двигаться со своей стороны. Была издана новая прокламация императора к своим солдатам. Эта прокламация объявила о разрыве с Россией и о намерении идти вперед, обещала новые успехи и заявляла о любви императора к своей армии. Маршал Брюн командовал резервом, оставшимся в Булони; он издал по этому случаю странный приказ, который был напечатан в «Мониторе»:
«Солдаты, вы в течение двух недель будете читать прекрасную прокламацию Его Величества, короля и императора, к Великой армии. Вы выучите ее наизусть. Каждый из вас в умилении будет проливать слезы мужества и проникнется тем непреодолимым энтузиазмом, который внушает героизм». В Париже никто не был тронут этими словами, и это привело нас в ужас.
Между тем император оставался в Берлине, где и устроил свою главную квартиру. Он говорил в бюллетенях, что большая и сильная прусская армия рассеялась как осенний туман и он поручил наместникам окончательное завоевание Прусского государства. Потребовали контрибуции в 150 миллионов; все города мало-помалу сдавались: Кюстрин, Штеттин и, несколько позднее, Магдебург. Любек, долго не сдававшийся, был взят приступом и страшно разграблен; сражались на всех улицах, и я помню, что принц Боргезе, принимавший участие в штурме, рассказывал о жестокостях, которые позволяли себе солдаты в этом несчастном городе. «Зрелище, свидетелем которого мне пришлось стать, – говорил он нам, – дало мне представление о кровавом опьянении, охватывающем солдат сначала при противодействии, а затем после победы. В подобный момент все офицеры становятся солдатами. Я сам был вне себя, испытывая, подобно всем остальным, какое-то безотчетное стремление проявлять свою силу везде и всюду. Сегодня мне стыдно вспомнить об этих бессмысленных ужасах. При подобной опасности, когда пробиваешь себе дорогу саблей, в дыму огня, уничтожающего все у тебя на глазах, когда гром пушек или беспрерывная ружейная пальба смешиваются с криками толпы, когда толкаются, ищут друг друга, бегут друг от друга на узкой улице, – голова идет кругом. Нет такого жестокого поступка, такого безумия, на которые не окажешься способен. Тогда начинается совершенно бесполезное разрушение, тогда всех охватывает какая-то лихорадка, которая возбуждает самые низменные инстинкты».
После взятия Любека маршал Бернадотт оставался там некоторое время в качестве губернатора и именно тогда заложил основание своего будущего возвышения. Он выказал необыкновенную справедливость и большую заботливость, чтобы смягчить все ужасы, причиненные войной; он поддерживал в своей армии замечательную дисциплину; таким образом, он всех очаровал, внес утешение мягкостью обращения и вызвал в этой стране глубокое восхищение и настоящую привязанность к себе.
В то время, когда император жил в Берлине, принц Хатцвельд, оставшийся там и считавший себя губернатором города, вел тайную переписку с прусским королем и сообщал в ней о движении нашей армии. Одно из его писем было перехвачено, император приказал арестовать его и отдать под суд Военной комиссии. Его жена, которая была беременна и, совсем отчаявшись, старалась добиться свидания с императором и, получив аудиенцию, бросилась к его ногам. Он показал ей письмо принца, и эта несчастная женщина впала в такое отчаяние, что император был тронут; он поднял ее и сказал: «У вас в руках подлинный документ, на основании которого ваш муж может быть приговорен к смерти. Послушайте меня, воспользуйтесь моментом и сожгите его, и тогда я буду лишен возможности осудить его». Принцесса не заставила его повторять эти слова и бросила письмо в огонь, обливая слезами руки императора. Этот рассказ произвел в Париже большее впечатление, чем все победы[136].
Наш Сенат отправил в Берлин депутацию, чтобы принести поздравление по поводу такой блестящей кампании. Император поручил посланным отвезти в Париж шпагу Фридриха Великого, орден Черного Орла, который он носил, несколько знамен, в числе которых были знамена, вышитые руками прекрасной королевы, красавицы столь же роковой для прусского народа, какой была Елена для троянцев.
Наши генералы каждый день покоряли какую-нибудь новую страну. Голландский король продвинулся до Ганновера, который наши войска снова заняли, как только узнали, что Луи Бонапарт возвратился в свое государство, потому ли, что он не любил вести войну только как наместник своего брата, или же потому, что Бонапарт предпочитал, чтобы победы одерживали его собственные генералы. Маршал Мортье взял Гамбург 19 ноября, и тогда же на множество английских товаров, которые в нем находились, был наложен строгий секвестр. Из Парижа отправили молодых аудиторов Государственного совета, которые были назначены интендантами Берлина и других городов. С помощью этих молодых и деятельных аудиторов завоеванные государства управлялись так, что это доставляло выгоду победителю, и тотчас же вслед за победой в них устанавливался порядок, который извлекал пользу из этой победы. Император умел привязать к себе молодежь разных классов общества тем, что предоставлял возможность действовать, создавать и проявлять абсолютную власть. Часто он говорил: «Я могу решиться на всякое завоевание, потому что с помощью моих солдат и аудиторов буду владеть и управлять всем миром». Если мы обратим внимание на деспотические привычки и идеи, которые эти молодые люди должны были перенести в свою собственную страну, то станет понятно, какими опасными стали эти привычки, когда им было поручено управление некоторыми французскими провинциями, и как трудно было большинству из них управлять иначе, чем в завоеванных странах. Наконец, эта молодежь, слишком рано призванная к таким важным делам, оставшись теперь без занятий и лишившись своих надежд по причине уменьшения нашей территории, грызет с нетерпением удила праздности, и состояние Франции доставляет немало затруднений современному правительству.
Завоевание Пруссии закончилось, и наши войска вошли в Польшу. С русскими войсками еще не встречались, хотя знали, что они приближаются. Все предвещало трудную кампанию. Суровые холода еще не наступили, но движение наших солдат затруднялось в болотистой стране грязью, в которой вязли люди, пушки, экипажи. Нельзя было без ужаса слушать подробности о том, что переносила наша армия. Часто целые батальоны проваливались в болота и оставались погруженными по пояс, так что невозможно было спасти солдат от ожидавшей их медленной смерти. Император почувствовал необходимость дать своим войскам некоторый отдых и охотно принял предложение прусского короля о перемирии, которое задержало бы нас на одном берегу Вислы, пока пруссаки оставались на другом. Или предложенные им для этого перемирия условия были слишком строги, или пруссаки предложили перемирие только для того, чтобы выиграть время и соединиться с русскими, – но переговоры затянулись.
А император, узнав о продвижении русского генерала Беннигсена, 26 ноября вдруг уехал в Берлин, объявив своей армии о новой опасности и о новых успехах. Его прокламация заканчивалась красноречивой фразой: «Кто же даст право русским разрушить столь справедливые планы? Разве и мы, и они не воины Аустерлица?»
В то же самое время появился знаменитый берлинский декрет (21 ноября 1806 года. – Прим. ред.), в котором объявлялась блокада Британских островов; декрету было предпослано длинное рассуждение, в котором перечислялось около двадцати пунктов неудовольствия. Этот декрет был только ответом на обычные приемы Англии, которая во время войны всегда объявляет всеобщую блокаду и разрешает своим кораблям захватывать все суда, встречающиеся в каком бы то ни было море. Берлинский декрет делил весь мир пополам, противопоставляя континентальную державу – морской. Всякий англичанин, живущий во Франции, в завоеванном нами или в подчиненном нам государстве, становился военнопленным, и этот жестокий закон был предписан всем нашим союзникам. Стало ясно, что борьба, которая завязалась между деспотической властью во всей ее широте и, надо признать, во всем ее искусстве и силой английской конституции, может кончиться только полным поражением одного из двух противников. Деспотизм пал, и, чего бы нам это ни стоило, надо благодарить Провидение, так как это дало спасение народам и послужит уроком будущим поколениям.
Двадцать восьмого ноября Мюрат вступил в Варшаву; французы были с энтузиазмом встречены поляками, которые надеялись, что плодом наших побед станет освобождение Польши. В бюллетене, опубликованном по поводу этого вступления, было написано: «Будет ли восстановлен польский трон? Один Бог, который держит в руках весь ход событий, может разрешить эту великую политическую задачу».
С этого времени члены семьи Бонапарта стали мечтать о польском троне. Его брат Жером имел некоторую надежду получить его. Мюрат, который проявлял в этой кампании свои блестящие достоинства, первым был послан в Варшаву и явился туда в своем несколько театральном костюме, который напоминал костюм польских вельмож. Мюрат, говорю я, предвидел возможность, что эта великая страна будет когда-нибудь подчинена ему. В Париже его жена получила по этому поводу поздравления от некоторых лиц, что, может быть, поколебало намерение императора, который не любил, чтобы его опережали в чем бы то ни было. Я заметила, что императрица надеялась на польский трон для своего сына.
Позднее, когда у императора родился незаконный сын, о судьбе которого я теперь ничего не знаю, поляки обратили свои взоры на этого ребенка. Люди, лучше меня знающие тайны европейской дипломатии, могут объяснить, почему Бонапарт только наметил, но не привел в исполнение свои планы в Польше, несмотря на собственное желание и влияние Талейрана. Может быть, потому, что события слишком быстро следовали одно за другим и было отдаться всецело этому предприятию со всем старанием и всеми усилиями, которых оно требовало.
После прусской кампании и Тильзитского трактата император часто раскаивался в том, что не довел свои нововведения в Европе до смены всех династий.
«Ничего не выигрываешь, – говорил он, – создавая недовольных, которым оставляешь еще известную долю власти. Полумеры никогда не приводят к полезным результатам, и старые колеса плохо служат в новых машинах. Надо было сделать всех государей соучастниками моего величия, но притом так, чтобы они не могли противопоставить мне величия своих предшественников. Моя доброта по отношению к народам, которые пострадали бы в этом случае, какой-то страх произвести полный переворот – все это сдерживало меня, и это большая ошибка, за которую, может быть, мне придется дорого поплатиться».
Когда император говорил таким образом, он старался опираться на необходимость все восстановить, необходимость, вызванную силой революции. Но, как мне приходилось уже говорить, в глубине души он считал, что расквитался с нею, изменив границы государств и сменив правителей. Буржуазный король, взятый из его семьи или из его армии, как ему казалось, должен был удовлетворить своим быстрым возвышением все буржуазные классы современного общества. Но надо признать, что, каков бы ни был деспот, он меньше оскорбляет человеческую гордость, если опирается на воспоминания о величии своих предков и осуществляет свою власть в силу прав, освященных древней славой, или даже таких, источник которых теряется во тьме времен.
Как бы то ни было, но Польша в конце войны получила свободу только в той части, которой владела Пруссия. Заключение трактата с русским императором, необходимость отдыха, страх вызвать недовольство Австрии, затронув ее владения, – все это изменило планы Бонапарта.
Много говорилось о выгодах и невыгодах континентальной системы, об отношении к англичанам. Я не сумею точно передать все возражения против этой системы, так же, как и слова в ее защиту со стороны людей, казавшихся в ней незаинтересованными. Тем более я не решусь делать заключения на основании поверхностного взгляда. Эта система предписывала союзникам французов условия, совершенно противоречащие их интересам; покровительствуя развитию континентальной промышленности, выгоды которой могли выявляться довольно медленно, она стесняла удовлетворение некоторых повседневных потребностей и казалась проявлением деспотизма. Притом эта система заставила всех англичан относиться к Бонапарту с той ненавистью, какую он внушал британскому правительству, потому что, действуя против торговли, эта система подрывала самые существенные основы английской жизни. Это придало борьбе англичан против нас вполне национальный характер, и в самом деле с этих пор попытки развязать войну со стороны англичан сделались очень решительными.
Впрочем, я слышала от очень сведущих лиц, что последствия этой кампании нанесли бы роковой удар английской конституции и было выгодно атаковать именно с этой стороны. Английское правительство, вынужденное действовать с той же быстротой, с какой действовал его противник, мало-помалу захватывало национальные права, и общины не протестовали против этого, так как были убеждены в необходимости сопротивления. Парламент, менее ревностно охранявший свою свободу, не решался демонстрировать какую бы то ни было оппозиционность; национальный долг увеличивался, так как необходимы были расходы на коалицию и на национальную армию. Таким образом, то вынужденное и напряженное состояние, в котором император держал все правительства, подрывало английскую конституцию; и если бы континентальная система просуществовала еще долго, англичане могли бы вернуть себе права только резкими требованиями или восстаниями. Этим-то и гордился втайне император, провоцируя восстание в Ирландии. Поддерживая на континенте всякую абсолютную власть, он, насколько возможно, поддерживал в Англии оппозицию, и подкупленные им английские газеты постоянно призывали общины к сохранению своей свободы.
Позднее Талейран, в ужасе от этой борьбы, говорил мне с горячностью, совершенно несвойственной ему при выражении своих мыслей: «Трепещите, безумцы, за успехи императора по отношению к англичанам! Если английская конституция будет нарушена, – поймите это хорошенько, – цивилизация будет поколеблена до самого основания».
Перед отъездом из Берлина император издал несколько декретов, которые доказывали, что, находясь в военном лагере, он имел время и силы думать не об одних только сражениях. Таковы были декреты, содержащие некоторые назначения префектов, декрет об организации морских бюро и декрет, согласно которому место на бульваре, где находился храм Святой Магдалены, предназначалось для установки памятника в честь французской армии. Повсюду был разослан циркуляр министра внутренних дел, которым назначался конкурс на проект этого памятника. В армии многие получили повышения, и были розданы кресты.
Двадцать пятого ноября император отправился в Познань. Ему не удалось воспользоваться каретой из-за плохих дорог, и он поехал в местной телеге; между тем коляска гофмаршала двора опрокинулась, и он сломал себе ключицу. С Талейраном произошел подобный же случай, и хоть и обошлось без повреждений, но он провел на дороге целые сутки, пока не придумали другого способа перевезти его. В это время он нашел возможность ответить на мое письмо: «Я отвечаю вам, сидя среди болот Польши. Быть может, в будущем году я буду писать вам среди песков бог весть какой страны. Поручаю себя вашим молитвам. Что касается самого императора, то он склонен пренебрегать этими препятствиями, в жертву которым приносит часть своей армии». Приходилось идти дальше: русские двигались вперед, и Наполеон желал дожидаться их в Пруссии.
Второго декабря был созван Сенат; архиканцлер передал письмо императора, который давал отчет о своих победах и обещал новые победы, требуя издания сенатус-консульта, устанавливающего организацию рекрутского набора 1807 года. Этот набор должен был производиться в обычное время, только в сентябре месяце. Для соблюдения формы была созвана комиссия, которая рассмотрела требование за одно утро, и на другой же день, то есть 4-го числа, сенатус-консульт был издан.
Почти в то же время произошло разрешение спора между Академией и кардиналом Мори. По воле императора вопрос был исчерпан, Мори был вновь зачислен в состав Академии, а в «Мониторе» появилась довольно длинная статья. Она заканчивалась следующими словами: «Академия, конечно, не захочет лишить прав человека, выдающиеся таланты которого особенно проявились в эпоху наших гражданских смут; его принятие было бы новым шагом к водворению согласия и к полному забвению прошлых событий. Вот подлинная суть вопроса, казавшегося очень незначительным; но огласка, которую хотели ему придать, наводит на серьезные размышления. Ясно видно, каким колебаниям мы могли бы быть подвергнуты снова, если бы, к счастью, судьба государства не была вверена кормчему с твердой рукой, который ведет корабль неуклонно к одной цели: счастью родины».
Заставляя солдат переносить все тяготы войны, Бонапарт не упускал случая показать свой интерес к делам мирным. Из Великой армии был прислан следующий приказ: «Йенский университет, профессора, доктора и студенты, его имущество и все доходы отданы под специальную охрану лиц, командующих французскими или союзными войсками. Лекции будут продолжаться. Студентов приглашают возвратиться в Йену, которую император желает пощадить, насколько это возможно».
Саксонский король, подчиненный власти победителя, разорвал союз с Пруссией и подписал трактат с императором. Этот государь в течение долгого царствования наслаждался благами мира и порядка, его обожали подданные, он был поглощен заботами об их счастье, и нужна была вся сила ужасного урагана, чтобы опустошить мирные поля его государства. Фридрих Август I был слишком слаб, чтобы отразить удар, а потому подчинился и старался спасти свою страну, приняв все условия победителя. Но его верность союзу не спасла Саксонию от необходимости стать театром, на котором разыгрывалась борьба окружавших ее могущественных государей.
Между тем в Париже настроение становилось все более и более грустным. В бюллетенях печатались только неясные сведения о кровавых сражениях и незначительных результатах. Нетрудно было угадать, какой суровой оказалась зима, какие препятствия приходилось преодолевать нашим солдатам и какие страдания они переносили. Частные письма, очень сдержанные – так как иначе они не могли бы дойти до места назначения, – отличались тревожным и грустным настроением. Малейшие действия нашей армии старались представить как победы, но императору приходилось встречаться с большими трудностями даже в случае успеха. Тем не менее старались постоянно поддерживать энтузиазм: в театрах торжественно прочитывались бюллетени; как только получали известия из армии, на площади Инвалидов стреляли из пушек; поэты наспех сочиняли оды, победные гимны, интермедии, которые разыгрывали на сцене Оперы в великолепных постановках, а на другой день в статьях, также написанных по заказу, рассказывалось о громких аплодисментах[137].
Императрица, в постоянном волнении и в бездействии скучающая в Майнце, писала императору множество писем, прося разрешения приехать в Берлин. Император уже готов был уступить ее настояниям, и я очень огорчилась, когда Ремюза написал мне, что, вероятно, они уедут еще дальше: наступление русских и необходимость показаться в Польше заставили Бонапарта изменить свое намерение. Он приказал жене вернуться в Тюильри и вести обычную роскошную жизнь. Все мы получили приказ веселиться до упаду[138].
В это время, после нескольких небольших стычек, император решился стать на зимние квартиры; но русские, больше привыкшие к суровому климату, не дали ему этого сделать. После того как противники померились силами в нескольких кровавых сражениях, обе армии сошлись близ деревни Прейсиш-Эйлау, давшей название этой кровопролитной битве. Волосы становятся дыбом при рассказах об этом ужасном дне. Был сильный холод, снег шел не переставая, и неблагоприятная погода только увеличивала дикую храбрость солдат с обеих сторон. Сражались в течение двенадцати часов так, что ни одна из сторон не могла приписать себе победы. Потери были громадны. К вечеру русские отступили в полном порядке, оставив на поле битвы значительное число раненых. Оба государя, русский и французский, приказали отслужить благодарственные молебны.
Дело в том, что эта ужасная бойня не привела ни к какому результату, и император говорил потом, что если бы русская армия атаковала его на другой день, то очень возможно, что он был бы разбит. Но это заставило его еще громче трубить о своей победе. Он написал о ней епископам и сообщил Сенату, опроверг в газетах сообщения иностранных газет и по мере возможности постарался скрыть понесенные нами потери. Рассказывали, что Бонапарт сам посетил поле битвы и это ужасное зрелище произвело на него очень сильное впечатление. Этому можно поверить, так как бюллетень, дающий отчет об этом сражении, очень прост и непохож на все другие, где император обыкновенно придавал себе несколько театральное величие.
По возвращении во Францию Бонапарт заказал Гро прекрасную картину, которая изображала его среди раненых и умирающих: он поднимал глаза к небу, как бы покоряясь воле Божьей при виде этого ужасного зрелища. Выражение лица, которое придал ему художник, действительно прекрасно; я часто смотрела на картину с волнением и всей силой души желала, чтобы император был действительно таким, каким его изобразили.
Денон, директор Музея, бывал с императором во всех кампаниях для того, чтобы выбирать в побежденных городах редкости, способные обогатить большую и прекрасную коллекцию Музея. Он исполнял свою роль с точностью, которая, как говорили, граничила с хищничеством, и его обвиняли в том, что он при этом грабеже не забывал и себя. Наши солдаты прозвали его «оценщиком».
Денон послал в Париж поэтический рассказ о том, как император посещал раненых после битвы при Эйлау. Многие говорили, что эта картина изображала только ложь, подобную посещению чумных в Яффе. Но почему нужно думать, что Бонапарт никогда не испытывал человеческие чувства? Этот сюжет был предложен на конкурс лучшим художникам; многие представили свои рисунки, но все голоса были за рисунок Гро, которому и была заказана эта картина.
Битва при Эйлау произошла 10 февраля 1807 года.
Глава XXIII 1807 год
Возвращение императрицы в Париж – Императорская фамилия – Жюно – Футе – Голландская королева – Рекрутский набор 1808 года – Придворные спектакли – Письмо императора – Осада Данцига – Смерть австрийской императрицы – Смерть сына королевы Гортензии. Деказ – Бессердечие императора
После битвы при Эйлау обе армии, вынужденные приостановить дальнейшее движение вследствие беспорядка, который был вызван ужасной оттепелью, расположились на зимних квартирах. Наша армия была расквартирована близ Остероде.
Императрица возвратилась в Париж в конце января. Она приехала туда немного грустная, с чувством смутной тревоги в душе и с некоторым недовольством той частью двора, которая сопровождала ее в Майнце. Кроме того, ее, как обычно, снедал страх из-за того, как император отнесется к малейшим ее поступкам в его отсутствие. Она встретила меня самым дружеским образом, со своей обычной приветливостью. Некоторые из окружавших императрицу лиц полагали, что известную долю ее грусти следует приписать неясному чувству, которое она испытывала уже в течение года к одному молодому шталмейстеру императора, бывшему вместе с ним в отсутствии. Я ничего не знала по этому поводу, а она сама мне ничего не сообщала; напротив, я видела, как она беспокоится, узнав в Париже о связи императора с одной молодой полькой.
Чувство, которое она питала к своему мужу, сильно осложнялось боязнью развода и, кажется, говорило в ней сильнее всех других ее чувств. Иногда в своих письмах к нему императрица старалась вставить два-три слова по этому поводу, но не получала никакого ответа[139]. Во всяком случае, она старалась исполнять желания императора. При всем своем беспокойстве, она давала и посещала различные празднества, так как удовольствие показать всем свои роскошные наряды несколько отвлекало ее от ее забот. Она обращалась со своими золовками холодно, но осторожно; всегда очень любезно принимала много народа и обращала на себя внимание ничего не значащими, но благосклонными словами.
Однажды я предложила императрице поехать в театр, чтобы немного развлечься. Но она отвечала мне, что эти развлечения не доставляют ей столько удовольствия, чтобы она отправилась туда инкогнито, а показаться публично в театре она не решается.
– Но почему же, ваше величество? – спросила я ее. – Мне кажется, что приветствия, которыми вас встретят, будут приятны императору.
– Вы мало его знаете, – сказала она. – Если меня встретят слишком хорошо, он станет завидовать подобному триумфу, которого не может разделить. Когда меня приветствуют, он любит получать свою долю в моем успехе, и я оскорбила бы его, если бы искала такого случая.
Императрица начинала беспокоиться, как только замечала сближение кого-нибудь из окружающих ее лиц; ей всегда казалось, что они сходятся только для того, чтобы вредить ей. Бонапарт сумел внушить ей некоторую долю своего обычного недоверия. Императрица нисколько не боялась жены Жозефа Бонапарта, которая скромно жила в Люксембургском дворце, хотя была уже неаполитанской королевой: она не хотела терять своего спокойствия ради престола. Оба принца, архиканцлер и верховный казначей Империи, робкие и сдержанные, почтительно ухаживали за императрицей и не внушали никаких подозрений. Принцесса Боргезе, болезненная женщина, любящая, однако, чтобы перед ней преклонялись, если и участвовала в каких-нибудь интригах, то только из подражания другим членам семьи.
Но великая герцогиня Бергская возбуждала зависть и тревогу невестки. Она жила со всей роскошью в Елисейском дворце Бурбонов, была в полном расцвете красоты, соединенной с необыкновенным изяществом, была настойчива в своих требованиях, но любезна в обращении, когда это казалось ей нужным, и даже ласкова с людьми, которых желала очаровать, не стеснялась в выдумках, когда хотела повредить кому-нибудь. Госпожа Мюрат ненавидела императрицу, но прекрасно умела владеть собой и действительно могла возбуждать ее беспокойство. В это время она мечтала, как я уже говорила, занять польский трон и старалась завязать с видными представителями правительства такие сношения, которые были бы ей полезны.
Генерал Жюно, губернатор Парижа, был страстно влюблен в нее. Было ли это действительной привязанностью или простым расчетом, – но эта любовь послужила тому, что в своих письмах к императору губернатор самым лестным образом отзывался о великой герцогине Бергской.
Другой полезной связью, где любовь, впрочем, не играла никакой роли, стала связь с Фуше. Фуше был уже почти в ссоре с Талейраном, которого госпожа Мюрат также не любила. Она старалась поддержать свое положение и в особенности возвысить мужа, даже помимо его желания. Она часто внушала министру полиции, будто Талейран мечтает удалить ее, и привязывала Фуше к себе множеством не имеющих важного значения откровенных признаний. Эта близость, которую моя бедная императрица замечала каждый день, заставляла ее бояться принцессы и тщательно следить за малейшими ее словами и поступками.
Парижское общество не было посвящено в эти маленькие тайны двора и, надо признаться, нисколько не интересовалось лицами, входившими в его состав. Все мы казались, да и были на самом деле, как бы живой декорацией вокруг императора, придавая ему ту пышность, которая нам же казалась необходимой. Все были убеждены, что на него нельзя повлиять, поэтому толпа мало беспокоилась об интригах: каждый заранее знал, что все и всегда кончится так, как пожелает этого император.
Спокойствие в Неаполитанском королевстве было нарушено восстанием в Калабрии, и этого оказалось достаточно, чтобы новое правительство насторожилось. Король, весьма склонный к удовольствиям, был далек от твердого выполнения плана императора относительно созданных им государств. Наполеон часто жаловался на своего брата Луи, но это недовольство скорее делало честь последнему.
Впрочем, семейная жизнь Луи становилась с каждым днем все более и более тяжелой. Госпоже Луи, пользовавшейся некоторой свободой в Майнце, конечно, трудно было возвратиться под тягостный для нее надзор мужа. Может быть, ее грусть, которую она не умела скрыть, раздражала его еще сильнее; взаимно ожесточаясь, они закончили тем, что стали жить во дворце раздельно. Она заперлась с двумя или тремя придворными дамами, а он предался своим докладам и не скрывал недовольства женой: нельзя было допустить, чтобы голландцы высказывались о его семейном разладе не в его пользу. Неизвестно, до чего довело бы их обоих подобное положение, если бы не случилось несчастья, которое сблизило их и соединило в сожалении о понесенной утрате.
В конце этой зимы в Париж был прислан приказ императора – напомнить во всех газетах лицам, которые занимают выдающееся положение в области науки и литературы, что по закону, изданному в Ахене 11 сентября 1804 года, десятилетние награды должны были присуждаться через год и восемь месяцев. Вообще же десятилетние награды планировали вручать каждые десять лет, считая с 18-го брюмера, а жюри должно было состоять из нескольких членов Института.
Это учреждение могло иметь большое значение, но дальше мы увидим, что оно не было приведено в исполнение из-за перемены в настроении Бонапарта.
В марте у вице-королевы Италии родилась дочь, и императрице было очень приятно стать бабушкой маленькой принцессы, находившейся в родстве с самыми могущественными правителями в Европе.
Суровая зима прекратила войну с обеих сторон, но император принимал все меры к тому, чтобы весной его армия стала грознее, чем когда бы то ни было. Итальянское и Неаполитанское королевства посылали солдат нового набора.
Люди, рожденные в цветущем климате этой прекрасной страны, были вдруг перенесены к пустынным берегам Вислы и, вероятно, удивлялись трудностям этого перехода до той минуты, пока не вынуждены были выйти пешком из Кадикса, чтобы идти умирать под стенами Москвы. Этот переход, требовавший больших усилий, доказывает, какой силой и каким мужеством может обладать человек и до какой степени может дойти могущество человеческой воли.
В армии были проведены реформы. Газеты пестрели списками военных, произведенных в высшие чины; любопытно, что среди военных декретов был один декрет, которым назначались на свободные кафедры епископы – как во Франции, так и в Италии.
Но, несмотря на победы, а может быть, именно из-за них, наша армия понесла значительные потери. Притом чрезвычайно сырой климат стал причиной многих болезней. Россия, по-видимому, решилась на самые отчаянные усилия; император чувствовал, что эта затянувшаяся кампания должна была иметь решающее значение, а между тем находил, что присланные ему многочисленные батальоны еще не гарантировали успеха. Поэтому, рассчитывая на свою власть и на наше подчинение, он в апреле потребовал от Сената нового рекрутского набора – 1808 года, так же, как в декабре 1806-го требовал набора 1807 года. В донесении принца Невшательского, напечатанном в «Мониторе», было сказано, что благодаря последним двум наборам армия увеличилась в течение года на 160 000 человек, 16 000 получили отставку по болезни или старости. При этом считалось, что потери за всю кампанию равнялись только 14 000 человек.
Таким образом, в действительности армия увеличилась только на 130 000 человек, и предусмотрительность требовала, чтобы 80 000 рекрутов 1808 года были собраны и обучены в тех самых департаментах, откуда были взяты. «Позднее, – говорилось в донесении, – потребуется, чтобы они без задержки отправлялись в поход; но если они будут собраны за полгода до выступления, то будут сильнее, лучше обучены и сумеют лучше защищаться».
Послание императора Сенату должен был передать государственный советник Реньо де Сен-Жан д’Анжели; он остановился в своей речи на этом месте донесения и указал сенаторам на отеческую доброту императора, который не желал, чтобы новобранцы подвергались всем тяжестям войны, не привыкнув к ним заранее.
В письме император сообщал, что вся Европа снова вооружается; рекрутский набор в Англии достигает двухсот тысяч человек; император провозглашал желание мира, но при условии, чтобы англичане видели свое благополучие не только в нашем унижении.
Сенат издал требуемый декрет и проголосовал за поздравительный и благодарственный адрес императору. Вероятно, последний улыбнулся, получив его.
Душа правителя, обладающего абсолютной властью, должна быть наделена большим великодушием, чтобы устоять перед искушением этой властью, тем более что искушение вполне оправдывается повиновением, которое он встречает. Если Бонапарт видел, что люди отдают свою жизнь и собственность для удовлетворения его ненасытного честолюбия, видел, что просвещенные представители нации соглашаются восхвалить пышными фразами акт порабощения человеческой воли, – мог ли он представлять себе весь мир иначе, чем полем деятельности, открытым для первого, кто захочет его использовать? Не нужно ли было обладать величием истинного героя, чтобы заметить, что льстивые слова говорились только по принуждению, что точно таким же вынужденным было повиновение граждан, которые были отчуждены один от другого его деспотическими учреждениями? Однако надо признать, что при отсутствии великодушных чувств у Бонапарта имелись здравый рассудок и наблюдательность, и он мог бы понять, что энтузиазм и покорность, с которыми французы шли по его приказу на поле битвы, были только результатами заблуждения. Призыв к свободе пробудил благородные стремления, но беспорядок, последовавший за этим, внушил страх и отбил охоту довести до конца все предприятие. Император ловко воспользовался этим колебанием, чтобы эксплуатировать его для своей славы.
Становилось очень тяжело служить ему, если у человека еще сохранялась способность предчувствовать душевные волнения, которые ему придется пережить. Сколько печальных мыслей появлялось у нас с мужем посреди всей роскоши и благосостояния, доставляемого нам нашим положением, которому, может быть, немало завидовали! Как я уже говорила, мы были бедны, когда заняли наше положение при Первом консуле, а благодаря его щедрости, милостям, которые он скорее продавал, чем давал, мы были теперь окружены роскошью, которой он требовал. Я была еще молода и могла удовлетворять потребности, свойственные моему возрасту, и наслаждаться своим блестящим положением. Я жила в красивом доме, носила бриллиантовые украшения, могла ежедневно менять изящные туалеты, приглашать к своему столу изысканное общество; мне были доступны представления во всех театрах; не было в Париже такого празднества, на которое я не была бы приглашена.
И при всем том с этого времени надо мной точно нависло какое-то темное облако. Часто по возвращении из Тюильри после блестящего раута, еще одетая в роскошное придворное платье, как в ливрею, – быть может, прибавлю я, в ливрею рабства, – я серьезно говорила со своим мужем обо всем, что совершалось вокруг нас. И меня, и мужа угнетали тайное беспокойство относительно будущего и постепенно возраставшее недоверие к нашему господину. Еще хорошенько не зная, чего боимся, мы начинали признаваться себе в том, что надо было чего-то бояться. Смутное сознание того, что следовало бы стремиться к более благородным целям, омрачало направление мыслей, к которому влекло нас наше фальшивое положение. «Я не создан для этой праздной и узкой придворной жизни», – говорил мне мой муж. «Я не могу, – говорила я ему, – восхищаться тем, что стоит стольких слез и крови». Военная слава не удовлетворяла нас, более того, нас приводила в ужас неумолимая жестокость, какую она внушала тем лицам, которых венчает; и, может быть, отвращение, которое она внушала нам, было как бы предчувствием того, что мы дорого заплатим Бонапарту за величие Франции.
Ко всем этим тягостным чувствам присоединялась еще боязнь, свойственная каждой прямой натуре, когда невозможно любить того, кому приходится постоянно служить. Это было причиной моих душевных страданий. Я восхищалась императором с пылом, свойственным моему возрасту и воображению, и мне хотелось бы сохранить это восхищение; я искренне старалась обмануть себя на его счет, искала случая найти в нем то, чего от него ожидала. Это была тяжелая и неравная борьба, но когда она кончилась, я страдала еще сильнее.
В 1814 году многие удивлялись горячности, с которой я желала падения того, кто был основателем моего благосостояния, и возвращения тех, которые должны были разрушить его. Они называли неблагодарностью наш быстрый разрыв с императором и удивлялись покорности, с которой мы переносили свое полное разорение. Но они не могли читать у нас в душе и не знали, какие впечатления накопились в ней с давнего времени. Возвращение короля было для нас разорением, но успокаивало наши мысли и чувства. Мы предвидели для нашего сына такое будущее, которое даст ему возможность отдаться благороднейшим стремлениям своей молодости. «Может быть, мой сын будет беден, – говорил мне его отец, – но он не будет чувствовать себя связанным и стесненным, подобно нам». В свете строго урегулированном и искусственном, не имеют понятия о той радости, какую испытывает человек в положении, дающем возможность развить свои наклонности и полную свободу мысли.
В день святого Иосифа[140] принцессы – Боргезе и Бергская – пожелали устроить небольшой праздник в честь императрицы. Сыграли маленькую комедию, или водевиль, с куплетами в честь императора, в которых восхвалялись также доброта и изящество чествуемой особы.
Обе принцессы были прекрасны, как ангелы. Они изображали пастушек; генерал Жюно играл роль военного, возвратившегося из армии и влюбленного в одну из молодых девушек. Казалось, это очень подходило к обстоятельствам – как в пьесе, так и в жизни.
Но обе сестры Бонапарта, несмотря на то, что сделались принцессами, пели очень фальшиво. Они замечали это по отношению друг к другу и смеялись одна над другой. Мы с сестрой также играли роли в пьесе, и меня во время репетиций очень забавляли натянутые отношения между двумя сестрами, явно недолюбливавшими друг друга, а также неловкое положение, в которое попали автор комедии и композитор. Оба они придавали большое значение своим произведениям и огорчались, что так искажают их стихи и музыку, но не осмеливались жаловаться и трепетали, делая замечания; окружающие сейчас же советовали им замолчать.
Понятно, что представление не имело успеха. Императрица нисколько не была тронута теми похвалами, с которыми обращались к ней без особенного чувства ее золовки, и вспоминала, что несколько лет тому назад, на этой же сцене, видела чудесных детей, веселых и любезных; они тронули самого Бонапарта, когда поднесли ему букеты. Императрица призналась мне, что это воспоминание преследовало ее в течение всей пьесы.
В этом году она была в разлуке с императором, беспокоилась за него, волновалась за свою судьбу, находясь вдали от сына и дочери. Она с горечью замечала, что в прожитой со дня вступления на престол жизни ей уже было о чем пожалеть.
Ко дню ее рождения император написал ей нежное письмо. «Я очень соскучился, находясь вдали от тебя, – писал он, – суровый климат этой страны сильно влияет на мое настроение; все мы мечтаем о Париже, о том Париже, о котором все сожалеют и ради которого постоянно ищут славы. С наступлением весны я надеюсь задать русским хорошую головомойку, а затем, дамы, мы пойдем к вам, а вы увенчаете нас».
Вскоре началась осада Данцига. Бонапарт вздумал одарить славой (по его собственному выражению) Савари. Вообще этот последний не пользовался в армии громкой военной славой, но служил императору иным способом. Император предвидел необходимость дать ему орден, чтобы иметь возможность при случае воспользоваться его услугами. Он приписал Савари какую-то победу над русскими и вручил ему орден Почетного легиона. Военные не одобряли этой милости, но Бонапарт поступал против их желаний, так же, как и против желаний всех остальных, а в особенности старался сохранить независимость в признании заслуг.
Если он уезжал из Финкенштейна в Остероде, то только для того, чтобы осмотреть другие квартиры; в основном же он много работал в замке, составляя всевозможные декреты. Он написал[141] Шампаньи, министру внутренних дел, письмо, в котором предписывал сообщить Институту, что на его территории будет поставлена статуя д’Аламбера, французского математика, который более всего содействовал развитию науки[142].
В бюллетенях публиковались отчеты о состоянии армии и о здоровье императора, которое, как указывалось в них, было превосходно. Часто он проезжал верхом сорок лье в день.
В армии постоянно случались повышения, о которых «Монитор» сообщал вперемешку с объявлениями о назначениях некоторых епископов.
В это время умерла австрийская императрица Мария-Тереза; ей было тридцать четыре года. После нее остались дети – четыре принца и пять принцесс.
Принцы Баварский, Баденский и некоторые другие принцы Рейнской конфедерации находились в армии, неподалеку от императора. По окончании своих занятий Бонапарт присутствовал на концертах, которые давал для него музыкант Поэр. Император нашел его в Берлине и, приманив ко двору в качестве придворного музыканта, привез в Париж.
Талейран, присутствие которого было очень нужно императору, часто уезжал от него и жил в Варшаве с большой роскошью, стараясь прийти к согласию с дворянством и поддерживая его надежды. В Варшаве он вел от лица императора переговоры с посланниками Порты и Персии, там же было подписано перемирие со Швецией.
Когда вопрос о титуле «монсеньор» был решен, кардинал Мори был принят в Институт и произнес вступительную речь. На этом заседании было чрезвычайно много народу, но кардинал не удовлетворил интереса собравшейся публики. Его речь была длинна и скучна, из чего вывели довольно верное заключение, что его талант совершенно иссяк. Пастырские послания и проповедь, которую Мори произнес затем на Страстной неделе, подтвердили это мнение.
Пятого мая императрицу постигло сильное горе: смерть ее внука Наполеона. Родители потеряли ребенка в несколько дней вследствие болезни, которую называют «крупом». Невозможно представить себе, в какое отчаяние впала голландская королева. Ее пришлось силой отрывать от трупа сына. Луи Бонапарт, огорченный и испуганный состоянием жены, ухаживал в это время за ней с нежной любовью, и это привело к их сердечному сближению, которое, однако, было только временным.
Порой казалось, что королева сошла с ума: она громкими криками звала к себе своего умершего сына и не узнавала никого из окружающих. Когда к ней возвращалось сознание, она хранила глубокое молчание и оставалась безучастной ко всему тому, что ей говорили. Однако порой она тихонько благодарила мужа, как будто сожалея, что только это горе изменило их отношения. В один из таких моментов Луи, верный своему странному и ревнивому характеру, находясь у постели жены, обещал ей в будущем постараться утешить ее, однако просил сознаться в неверности, которую подозревал. «Откройте мне ваши слабости, – говорил он ей, – я вам прощаю их; мы начнем новую жизнь, которая заставит забыть о прошлом». Королева отвечала ему со всей торжественностью, которую придавали ее словам скорбь и надежда на скорую смерть, что, готовясь отдать свою душу Богу, она не может найти за собой ни тени какой-либо вины перед ним.
Король, все еще не веря ей, просил ее дать клятву, но и добившись клятвы, не мог ей поверить и возобновлял свои странные требования, и так настойчиво, что его жена в изнеможении от раздирающей сердце скорби, от тех слов, которые надо было говорить, и от этой пытки чувствовала, что с ней сейчас сделается обморок, и говорила: «Дайте мне отдохнуть, я не уйду от вас, мы поговорим об этом завтра». Говоря так, она снова теряла сознание[143].
Как только в Париже было получено известие об этой смерти, к императору послали курьера. Госпожа Мюрат тотчас же поехала в Гаагу, и через несколько дней императрица отправилась в Брюссель, куда Луи привез свою жену и своего младшего сына, чтобы поручить их заботам императрицы. Он все еще выказывал глубокую скорбь и очень заботился о королеве Гортензии, которая пока не пришла в полное сознание.
Было решено, что после того, как она отдохнет немного в Мальмезоне, ее отправят на несколько месяцев в Пиренеи, куда позднее приедет к ней ее царственный супруг. Пробыв сутки в замке Лекен близ Брюсселя, король возвратился в Голландию, а императрица, ее дочь со вторым сыном и великая герцогиня Бергская, не особенно расположенная утешать двух особ, которых ненавидела, возвратились в Париж. Ремюза, сопровождавший императрицу во время этого печального путешествия, рассказывал мне по возвращении о той заботливости, которую выказывал Луи по отношению к своей жене, и говорил, что, как ему казалось, это не нравилось госпоже Мюрат.
Госпожа Луи Бонапарт прожила в Мальмезоне две недели очень замкнуто и в подавленном настроении. В конце мая она уехала на воды в Котрэ. Королева казалась ко всему равнодушной; у нее не было ни слез, ни сна; она не произносила ни слова и только пожимала руку тем, кто говорил с ней; ежедневно в тот час, когда умер ее сын, с ней делался сильный припадок. Я никогда не видела такого ужасного страдания. Она была бледна, неподвижна, с остановившимся взглядом; ее вид вызывал слезы; тогда она обращалась со следующими немногими словами: «Почему вы плачете? Он умер, я это знаю; но уверяю вас, что я нисколько не страдаю, я ничего не чувствую»[144].
Во время этого путешествия страшная гроза сильно потрясла королеву, и это вывело ее из оцепенения: в день смерти ее сына также случилась гроза, и, когда теперь раздался гром, она внимательно прислушалась. Удары усиливались, и это вызвало у нее сильный нервный припадок, за которым последовали потоки слез; с этой минуты к ней вернулась способность страдать и чувствовать, и она предалась сильному горю, которое с тех пор никогда не могло совсем затихнуть.
Она старалась бежать от самой себя, утомляя себя постоянной ходьбой; находясь всегда в состоянии крайнего возбуждения, она проходила долины в Пиренеях, взбиралась на скалы, отваживалась на самые опасные восхождения. Случай свел ее в Пиренеях с Деказом, тогда еще молодым, неизвестным[145] и, подобно королеве, переживавшим тяжелую утрату. Он потерял свою молодую жену[146], был болен и печален. Они встретились и поняли друг друга в своем горе. Возможно, госпожа Луи, слишком несчастная для того, чтобы соблюдать приличия, не желала сближаться с людьми, для нее безразличными, и была доступнее для человека, который страдал так же, как и она сама. Деказ был молод и довольно красив, – праздная жизнь на водах и желание посплетничать привели к тому, что их отношениям придали известное значение. Королева была в слишком исключительном положении, чтобы замечать что бы то ни было. При ней были молодые, преданные ей со времен пансиона придворные дамы, которые заботились только о ее здоровье и желали хоть чем-нибудь облегчить ее страдания. Между тем в Париж были отправлены письма, в которых имелись намеки на королеву и Деказа.
В конце лета король Луи поехал к своей жене на юг Франции. Кажется, он был растроган при виде бедной матери и единственного сына, оставшегося у нее в живых. Свидание было сердечным с обеих сторон. Супруги, которые с давних пор жили совершенно отчужденно, сблизились, и в результате этого у них родился третий сын[147]. Возможно, что, если бы Луи тотчас же возвратился в Гаагу, это сближение было бы продолжительным, но он возвратился со своей женой в Париж, а это сближение задело и обеспокоило госпожу Мюрат. В этот период я часто слышала от императрицы, что дочь ее была глубоко тронута огорчением своего мужа и повторяла, что, страдающий и расстроенный, он создал между ними новую связь и она могла бы простить ему прошлое. Но госпожа Мюрат заронила новое беспокойство в душу своего брата, – так, по крайней мере, думала императрица на основании достоверных сообщений. Госпожа Мюрат передала Луи, как будто бы сама ничему не веря, все сплетни о встречах королевы с Деказом; она дошла до того, что сообщила ему о подозрениях относительно причины ее новой беременности. Этого было более чем достаточно, чтобы вызвать ревнивую подозрительность Луи. Я не могу сказать теперь, видел ли он Деказа в Пиренеях или ему говорила о нем жена; не придавая никакого значения этой встрече, она часто рассказывала при свидетелях, что была тронута этим горем и состояние несчастного человека внушало ей сожаление.
В то же время императрица, испуганная худобой своей дочери, боясь ее утомления от новой дороги и вредного климата Голландии, настаивала на том, чтобы император, возвратившись в Париж, добился от брата разрешения королеве родить в Париже. Император действительно добился этого – приказом. Луи, недовольный, раздраженный, несчастный от того, что вынужден был возвращаться один в свое печальное, туманное королевство, и подстрекаемый своей природной недоверчивостью, снова сделался подозрительным и недовольным и снова стал мучить жену. Она сначала не могла догадаться о причине его подозрений, но когда обнаружила себя предметом новых оскорблений, то поняла, что ее горя не уважают и считают ее способной на любовную интригу – в то время, когда она думала только о смерти, – и впала в полное отчаяние. Равнодушная к настоящему, к будущему, ко всему – как к уважению, так и к ненависти, – она стала относиться к мужу с презрением, которое, может быть, было слишком заметно, и думала только о том, как бы добиться возможности жить с ним раздельно. Все то, о чем я рассказываю, произошло осенью 1807 года. Когда я дойду до этого времени, то могу возвратиться к некоторым подробностям относительно этой несчастной женщины.
Императрица пролила много слез из-за смерти своего внука. Помимо того, что она была очень привязана к этому ребенку, который обещал быть добрым и приветливым, она видела, что из-за этой смерти поколебалось и ее собственное положение. Ей казалось, что дети Луи должны были загладить ее вину перед императором, сам факт того, что у нее не было детей; и этот ужасный развод, который так часто бывал предметом ее беспокойства, казался императрице менее сомнительным после этой утраты. Она рассказала мне о своих тайных волнениях, и мне удалось успокоить ее только с большим трудом.
До сих пор помнят впечатление, которое произвела прекрасная речь Фонтана: он сумел очень красиво связать это несчастье с одним из самых благородных и самых замечательных деяний Бонапарта[148]. Император повелел, чтобы захваченные в этой кампании знамена и шпага Фридриха Великого были с большой торжественностью принесены в церковь Дома Инвалидов. Приказано было отслужить благодарственный молебен и произнести речь в присутствии сановников, министров, Сената и самих инвалидов. Церемония 17 мая 1807 года была величественной, а речь Фонтана является памятником, увековечившим для нас воспоминание об этой благородной добыче, впоследствии взятой обратно ее прежним владельцем. Восхищались тем, что оратор возвеличил своего героя, не оскорбляя при этом побежденного, а его похвалы относились к тому, что было действительно героическим. Прибавляли, что эти похвалы, в сущности, могли быть поняты как советы; и всеобщее подчинение и страх были так велики, что Фонтана считали храбрым.
В заключение речи Фонтан изображал героя, окруженного ореолом своих побед, но забывающего о них в скорби о смерти ребенка.
Но герой не плакал. Сначала эта смерть произвела на него тяжелое впечатление, но он постарался избавиться от него по возможности скорее. Талейран рассказывал мне впоследствии, что на другой же день после этого известия император уже болтал с кем-то весьма непринужденно. Поскольку Бонапарт должен быть дать аудиенцию придворным вельможам, приехавшим из Варшавы, чтобы выразить ему свое сочувствие по поводу утраты, Талейран вынужден был предупредить его, чтобы он принял грустный вид, и даже позволил себе упрекнуть его в слишком большой беззаботности. Император ответил, что у него «нет времени забавляться тем, чтобы чувствовать и жалеть, подобно другим людям».
Глава XXIV 1807 год
Герцог Данцигский – Полиция Футе – Битва при Фридланде – Ламет – Тильзитский трактат – Возвращение императора – Талейран – Министры – Епископы
Между тем в Польше мало-помалу становилось теплее, и все возвещало возобновление военных действий. Бюллетень от 16 мая объявлял нам о возвращении русского императора в армию, и умеренные выражения, в которых говорилось о двух государях, так же, как и эпитет «храбрецы», данный русским солдатам, заставляли думать, что наша армия ожидает решительного сопротивления. Маршалу Лефевру была поручена осада Данцига. Произошло несколько сражений на аванпостах; наконец 24 мая город Данциг сдался. Император тотчас же отправился туда и, желая вознаградить маршала, дал ему титул герцога Данцигского и прибавил к этому большое денежное вознаграждение. Это было первое подобное назначение. В письме к Сенату, написанном по этому поводу, император разъяснял все выгоды такого назначения, причем старался опираться на мотивы, которые успокаивали сторонников равенства, так как имели в виду их предубеждение. Император опирался, во-первых, на необходимость вознаграждать за большие заслуги так, чтобы это не было обременительно для государства, во-вторых, на необходимость удовлетворить тщеславие французов и, наконец, на необходимость окружить себя верными людьми, подобно другим государям Европы. «Свобода, – говорил он, – нужна немногочисленному и привилегированному классу, стоящему по своей природе и по своим более развитым способностям выше среднего уровня людей. Поэтому ее можно безнаказанно стеснять. Равенство, наоборот, нравится толпе. Я нисколько не нарушаю его тем, что даю титулы одним или другим, не обращая внимания на устаревший вопрос о происхождении. Я поступаю как монарх, вводя наследственность, но остаюсь сторонником революции, потому что мое дворянство не является исключительным. Те титулы, которыми я награждаю, являются чем-то вроде гражданской награды, – их можно заслужить делами. Притом искусные люди умеют двигать людей, которыми управляют, в том же направлении, в каком двигаются сами. Я двигаюсь всегда вверх, нужно, чтобы подобное же движение направляло и нацию».
Однажды, развив всю эту систему своей жене в моем присутствии, он вдруг остановился, когда прохаживался, по обыкновению, по комнате. «Нельзя сказать, чтобы я не сознавал, – произнес он, – что вся эта знать, особенно все эти герцоги, которых я создал и которым даю такое громадное вознаграждение, сделаются несколько независимыми по отношению ко мне. Увенчанные наградами и разбогатевшие, они постараются ускользнуть от меня и, вероятно, усвоят себе то, что называется «духом, свойственным их положению». – И, думая об этом, он продолжал расхаживать по комнате, храня молчание в течение нескольких минут. Потом вдруг, быстро повернувшись к нам, сказал с такой улыбкой, значение которой я не сумею передать: – «О, они не будут в состоянии бежать так скоро, чтобы я не мог их нагнать».
Хотя военные заслуги, в сущности, украшали и внушали уважение к дворянским грамотам, которые давал император и к которым он прикладывал печать на поле битвы, при всем том насмешливость парижан прежде всего проявилась по отношению к новому герцогу. В нем было что-то вульгарное и солдатское, что и давало некоторый повод к насмешкам. Жена его, старая и в высшей степени буржуазная дама, была предметом бесчисленных насмешек[149]. Она очень забавно говорила о том, что отдает предпочтение материальной стороне милостей императора, и когда она признавалась в этом в салоне в Сен-Клу, то, услышав ее наивные речи, некоторые из нас начали смеяться; тогда госпожа Лефевр, вся красная от гнева, без всякого стеснения, сказала императрице: «Ваше величество, пожалуйста, прикажите всем вашим тараторкам, чтобы они замолчали». Понятно, что от подобной выходки нам стало еще смешнее.
Императору очень хотелось прекратить распространение подобных шуток, но это было не в его власти, а так как все знали, что это очень задевает его, то пользовались столь легким и удобным случаем, чтобы отомстить ему за притеснения. В городе распространялись остроты и каламбуры; их сообщали в армию; раздраженный император делал строгие выговоры министру полиции за плохое наблюдение; этот последний отвечал в духе какого-то снисходительного либерализма, что нужно оставить праздным людям эту забаву. Однако если министр полиции узнавал, что в каком-нибудь из парижских салонов велись насмешливые или проникнутые недоброжелательством разговоры, он немедленно вызывал к себе хозяина или хозяйку салона и предупреждал их, советуя внимательнее наблюдать за собравшимся у них обществом, и они уходили от него в смутной тревоге, думая, не будет ли опасным поддерживать прежние связи.
Позднее император нашел способ примирить старое дворянство с наградами, даваемыми новому: он призвал старых дворян разделить эти награды. И так как раздача старому дворянству новых привилегий, как бы ни были они незначительны, значила, что за ним признавали и старые, дворянство не отказывалось от этой уступки.
Между тем наша армия сделалась снова очень сильной. В ее состав входили все наши союзники. Испанцы прошли через Францию для того, чтобы идти сражаться с русскими на берегу Вислы. Ни один из государей не осмелился отказаться от повиновения приказам императора. Бюллетень от 12 июня объявлял о возобновлении военных действий. Впрочем, в нем сообщалось и о попытках заключить мир. Этому содействовал Талейран, а может быть, не прочь был заключить мир и сам император. Но английское правительство отказывалось; молодой царь льстил себя надеждой, что заставит забыть об Аустерлице; Пруссия, которая тяготилась подчинением Франции, требовала возвращения своего прежнего государя; Бонапарт как победитель диктовал слишком суровые условия, – и война возобновилась. Произошло несколько небольших стычек, которые были удачны для нас; мы снова проявили обычную энергию. Обе армии сошлись под Фридландом, и мы снова одержали большую победу. Несмотря на успех, император понимал, что теперь, когда ему придется иметь дело с русскими, надо ожидать жестокой борьбы и судьба континента будет решена только им и Александром.
В день Фридландской битвы значительное число наших генералов были ранены. Поведение моего зятя Нансути было достойно похвалы: чтобы содействовать передвижению армии, он выдерживал со своим дивизионом тяжелой кавалерии неприятельский огонь, вдохновляя собственным примером своих солдат, которым приходилось оставаться в очень тяжелом бездействии, почти таком же кровопролитном, как и само сражение. Принц Боргезе был послан с поля битвы в Сен-Клу, чтобы объявить императрице об успехе сражения. Он дал вместе с тем надежду на то, что за этим успехом вскоре последует мир, и слух об этом немало содействовал радости по поводу победы.
За победой при Фридланде последовал скорый марш нашей армии. Император подошел к городку Тильзит на берегу Немана. Река разделяла армии. Перемирие было предложено одним из русских генералов и принято нами. Начались переговоры.
Я в это время отправилась на воды в Ахен, где вела спокойную жизнь и ожидала, как и вся Европа, конца этой ужасной войны. Префектом там был Александр Ламет, который обратил на себя внимание в начале революции, потом эмигрировал, просидел долгое время в австрийской тюрьме, одновременно с Лафайетом, и наконец вернулся во Францию. Его услугами воспользовался император, и Ламет был назначен префектом в нескольких департаментах, которыми прекрасно управлял[150].
Воспитание, которое я получила, взгляды моей матери и ее круга внушали мне большое предубеждение против взглядов, которые в 1789 году способствовали осуществлению революционных замыслов. Я видела в Ламете только крамольника, неблагодарного по отношению ко двору, человека, который играл роль члена оппозиции, чтобы обратить на себя внимание, так как это льстило его честолюбию. Меня особенно укрепляло в этом убеждении то, что Ламет был большим поклонником Бонапарта, который, однако, правил Францией по системе, далеко не представлявшей собой порождения Учредительного собрания. Однако могло быть и так, что, подобно большинству французов, он после всех потрясений несколько охладел к свободе, купленной такой дорогой ценой, и искренне приветствовал деспотизм, восстановивший порядок.
Как бы то ни было, это знакомство дало мне возможность составить свое представление о правах граждан, равновесии властей, необходимой свободе, и эти взгляды поразили меня. Ламет защищал намерения Учредительного собрания, а у меня не было никаких причин спорить с ним из-за этого пункта, да это было бы и бесполезно в современную нам эпоху. Затем он оправдывал поведение депутатов в 1789 году, и хотя я не в состоянии была возражать ему, но смутно чувствовала, что он неправ и что Учредительное собрание не выполнило своей задачи с достаточным беспристрастием и справедливостью. Однако я прониклась убеждением, что для народа необходимо, чтобы его правительство опиралось на более прочные учреждения. В этом отношении те слова, которые говорились с известной горячностью, в соединении с тяжелым чувством, вызываемым бесконечными войнами, заронили в мою душу семена некоторых здравых и благородных идей, а последующие события окончательно развили их.
В конце концов, что бы тогда ни думали, разум или инстинкт должны были смолкнуть перед блестящей судьбой Бонапарта, которая привела его тогда к апогею славы. О нем нельзя было судить, походя к нему с обыкновенной меркой. Счастье так неизменно сопутствовало ему, что, доходя до самых блестящих успехов или до самых ужасных крайностей, он, по-видимому, только повиновался своей судьбе.
Однако великие политические события давали повод в Ахене, как и в Париже, к всевозможным слухам: будто бы создается Польское королевство, будто его отдают Жерому Бонапарту; при этом его женили на дочери австрийского императора; говорили даже о разводе нашего императора. В умах, возбужденных грандиозными событиями, все более и более усиливалась жажда чего-нибудь необычайного, чем так умел пользоваться император, чтобы увлекать людей за собой. И в самом деле, как было не ожидать чего угодно, зная о том, что госпожа д'Удето, которая была еще жива в то время, говорила о Бонапарте: «Он умаляет историю и расширяет воображение».
После битвы при Фридланде император написал прекрасное послание к епископам. В нем, между прочим, встречается следующая фраза: «Эта победа ознаменовала собой годовщину битвы при Маренго, годовщину того дня, когда мы, еще не успев стряхнуть с себя пыль с поля битвы, прежде всего подумали о восстановлении мира и порядка в церкви и во Франции»[151].
В Париже был отслужен молебен, и город был иллюминован.
Двадцать пятого июня оба императора отплыли от противоположных берегов Немана, каждый в присутствии некоторой части своей армии, одновременно подплыли к павильону, устроенному на пароме посредине реки. Встретившись, они поцеловались и провели наедине два часа. Императора Наполеона сопровождали обер-гофмаршал Дюрок и обер-шталмейстер Коленкур, царя – его брат Константин и несколько придворных, занимавших видное положение (генералы Беннигсен и Уваров, князь Лобанов-Ростовский и граф Дивен). Во время этого свидания мир был решен бесповоротно. Бонапарт согласился возвратить прусскому королю часть его владений, хотя тайным желанием императора было совершенно изменить положение побежденных стран. Однако ему пришлось, заключая мир, отказаться от некоторой части своих планов. Царь еще мог быть опасным врагом. Наполеон знал, что Франция утомлена войной, что она требует его присутствия. Продолжительная война вовлекла бы армию в такие предприятия, исхода которых нельзя было предвидеть. Пришлось на время отказаться от известной части грандиозного плана и снова остановиться.
Поляки, которые рассчитывали на совершенное освобождение, обнаружили, что только та часть Польши, которая принадлежала прежде Пруссии, сделалась герцогством Варшавским, отданным саксонскому королю как бы на хранение. Данциг сделался вольным городом, а прусский король обещал закрыть свои порты для Англии. Русский император предложил свое посредничество, чтобы попытаться заключить мир с англичанами. Бонапарт льстил себя надеждой, что влияние, которым пользовался посредник, прекратит войну. Он часто говорил с тех пор, как в Тильзите почувствовал, что когда-нибудь вопрос о владычестве на континенте будет решаться между ним и царем, и что великодушие Александра, восхищение, которое выказывал по отношению к нему этот молодой государь[152], неподдельный энтузиазм, который охватывал царя в его присутствии, покорили его и заставили желать не окончательного разрыва, а прочного союза, который в конце концов привел бы к разделению всего континента между двумя великими государями.
Двадцать шестого числа прусский король также явился на паром, и после совещания все три государя отправились в Тильзит, где оставались все время, пока продолжались переговоры; они посещали друг друга каждый день, давали один другому обеды, делали смотры войскам и были, по-видимому, в полном согласии между собой. Бонапарт старался выказать все лучшие стороны своего характера; он очень следил за собой, льстил молодому императору и совершенно очаровал его. Талейран довершил эту победу той полной изящества ловкостью, с какой он всегда умел поддержать политику своего господина, придавая ей известную окраску. Александр проявлял по отношению к нему большую дружбу и оказывал ему необыкновенное доверие.
Прусская королева также появилась в Тильзите; Бонапарт старался необыкновенной любезностью загладить резкость своих бюллетеней[153]. Ей не на что было жаловаться, так же, как и ее мужу, королю. Оба они, лишенные трона, должны были принимать с благодарностью все то, что им возвращали из их владений. Эти царственные побежденные сдерживали свое горе, а императору казалось, что он привлек их на свою сторону тем, что восстанавливал на раздробленном троне, с которого мог совершенно свергнуть. Впрочем, даже заключив договор, император всегда мог наблюдать за ними, так как оставлял французские гарнизоны во владениях некоторых второстепенных государей, как, например, Саксонского, Кобургского, Ольденбургского и Мекленбург-Шверинского.
Часть армии еще оставалась на северном берегу, так как шведский король пока, по-видимому, не желал принять участия в договоре. Наконец, благодаря этой войне было создано новое государство, составленное из Вестфалии и части Прусского государства. Это новое королевство было отдано Жерому Бонапарту, и было решено женить его на принцессе Екатерине Вюртембергской.
Два дипломата, Талейран и князь Куракин, подписали этот договор 9 июля 1807 года. Затем Наполеон отправился к русскому императору, вручил ему орден Почетного легиона, сам был награжден русским орденом Св. Андрея. Французский император пожелал увидеть того из русских солдат, кто наиболее отличился во время этой кампании, и собственноручно вручил ему орден Почетного легиона. Оба государя снова поцеловались и расстались, пообещав друг другу вечную дружбу. Придворным обоих дворов были розданы ордена. Прощание Бонапарта с прусским королем происходило также с большой пышностью, и на континенте опять воцарился мир.
Такие громкие события, конечно, оказали сильное влияние на враждебное настроение, которое, ничем не проявляя себя, все время существовало в Париже. Невозможно было не восхищаться подобной славой; но теперь, несомненно, к ней относились гораздо холоднее, чем прежде. Все замечали, что для нас это было чем-то вроде позолоченного ярма, и так как начинали понимать Бонапарта и не доверять ему, то боялись последствий опьянения, которое могло вызвать у него сознание своего могущества. Наконец, преобладание военных также возбуждало беспокойство; хвастовство подвигами, которое предвидели заранее, оскорбляло гордость других лиц. К восхищению примешивалась тайная грусть. Это грустное настроение замечалось особенно среди тех, кто по своему положению или занимаемому месту должны были стоять близко к Наполеону. Начинали спрашивать себя, не проявится ли его обычный деспотизм еще резче в повседневных поступках; при нем каждый видел себя униженным, и все знали наперед, что он даст почувствовать это унижение еще сильнее. Каждый с тревогой оглядывался на себя, желая найти, чем именно мог быть недоволен в его поведении этот строгий господин.
Жена, семья, сановники, министры, весь двор испытывали, в большей или меньшей степени, эту тревогу, и императрица, которая знала своего мужа лучше других, выражала очень наивное свое беспокойство, говоря: «Император теперь так счастлив, что, наверное, будет многим недоволен». Великодушие королей возвышает души окружающих, изливая на них часть своего нравственного величия. Но Бонапарт, от природы завистливый, всегда отдалял всех от себя и боялся делиться с кем бы то ни было. После этой кампании раздавали щедрые награды, но было ясно, что он платит за услуги, чтобы не слышать о них больше, и, казалось, расчет был вполне закончен.
Во время свидания в Тильзите в Париже не происходило ничего примечательного, кроме торжественного перенесения в собор Парижской Богоматери тела юного принца Наполеона, погребенного в Сен-Лё, в долине Монморанси, во владениях принца Луи. Архиканцлер встретил тело в соборе и передал его архиепископу Беллуа до той поры, когда будут окончены работы в Сен-Дени и это даст возможность перенести его туда. В то время перестраивали склепы, где находились когда-то останки наших королей. В разных местах были собраны эти останки, которые не пощадили в эпоху террора, и император приказал построить искупительные алтари, чтобы загладить кощунство над многими знаменитыми умершими. Эта прекрасная идея, в сущности, монархическая, очень возвысила его и справедливо была прославлена некоторыми из поэтов нашего времени.
Когда Бонапарт возвратился во Францию, императрица жила в Сен-Клу и очень осторожно держала себя во всем, вплоть до мелочей. Мать его жила спокойно в Париже со своим братом, кардиналом Фешем. Госпожа Мюрат по-прежнему располагалась в Елисейском дворце и очень ловко руководила множеством мелких интриг. Принцесса Боргезе вела тот образ жизни, который ей нравился, и единственный, который она признавала. Луи и жена его вместе жили в Пиренеях, оставив своего ребенка у императрицы. Жозеф Бонапарт правил в Неаполе с большой кротостью и даже слабостью, защищая Калабрию от инсургентов, а свои порты – от англичан. Люсьен жил в Риме; он отдыхал и занимался искусствами.
Жером получил корону Вестфалии. Мюрат, страстно желавший сам получить ее, очень враждебно относился к Талейрану, которого считал своим врагом. Он очень сблизился с государственным секретарем Маре, который втайне завидовал министру иностранных дел, а также очень поощрял близость своей жены с Фуше. Все четверо знали, что император в глубине души часто составляет проект развода и второго брака с какой-нибудь принцессой. Они искали способ уничтожить последние остатки привязанности, благодаря которой госпожа Бонапарт еще оставалась на троне; желая угодить императору, помогая ему в осуществлении этого плана, хотели отдалить всех Богарне, помешать Талейрану сохранить право на доверие императора, оказывая влияние на последнего во всей этой истории.
Талейран в течение нескольких лет старался приобрести европейскую известность, в сущности, вполне заслуженную. Не подлежит сомнению, что ему не раз приходила в голову мысль о разводе императора, но он желал, прежде всего, чтобы этот развод привел Бонапарта к браку с какой-нибудь царственной особой, и притом ему хотелось быть посредником в этом деле. Поэтому, не будучи уверен в том, что ему удастся достигнуть цели, он умел сдерживать императора, доказывая ему, что в этом случае самое главное – выбрать момент. Когда министр возвратился после кампании, император, по-видимому, выказывал ему больше доверия, чем когда бы то ни было. Талейран был очень полезен ему в Польше и при заключении каждого договора. Желая вознаградить его за это, император сделал его вице-электором. Этот титул давал Талейрану право заменять Жозефа повсюду, где последний должен был являться в качестве великого электора; но вместе с тем Талейран должен был отказаться от портфеля министра иностранных дел, так как это было ниже его теперешнего достоинства. Тем не менее Наполеон продолжал выражать ему полное доверие во всех иностранных делах и обсуждал их с ним чаще, чем с настоящим министром. Некоторые лица, очень догадливые, считали, что Талейран переменил в то время прочное положение на другое, более блестящее, но менее устойчивое. Наполеон сам иногда проговаривался, что по возвращении из Тильзита был недоволен тем, что его министр имеет такое большое влияние в Европе, и его оскорбляет установившееся мнение, будто этот министр ему необходим.
Изменив его положение и используя его только для того, чтобы с ним советоваться, император на самом деле извлек из этого выгоду для себя, оставляя за собой возможность отстранить Талейрана или перестать следовать его советам, как только они не будут соответствовать его собственным желаниям. Я вспомнила по этому поводу довольно пикантный анекдот. Шампаньи, человек с очень ограниченным умом, был переведен из министерства внутренних дел в министерство иностранных дел. Талейран, представляя ему служащих, которые должны были работать теперь под его начальством, сказал ему: «Вот лица, которых можно рекомендовать, которыми вы будете довольны. Вы найдете их преданными, умелыми, аккуратными, но благодаря моим стараниям они совсем не отличаются рвением». При этих словах Шампаньи выразил удивление. «Да, – продолжал Талейран, притворяясь совершенно серьезным, – за исключением некоторых мелких экспедиторов, которые, может быть, спешат заклеивать свои конверты, все здесь сохраняют полное спокойствие и совершенно отвыкли от поспешности. Когда вы должны будете решать с императором судьбы Европы, вы увидите, как важно не спешить прикладывать печать и слишком быстро отправлять его приказания». Талейран рассмешил императора рассказом об этой истории и о том, какой расстроенный и удивленный вид был у его преемника[154].
Может быть, здесь будет уместным упомянуть о том, какое жалованье получал тогда Талейран:
Позднее к этой сумме были прибавлены денежные награды. Считалось, что личные доходы Талейрана составляют почти триста тысяч ливров; впрочем, я никогда не знала точной цифры. Различные договоры доставляли ему значительные суммы и великолепные подарки. Он жил на широкую ногу, давал большие пенсии своим братьям; купил в Берри прекрасное имение Балансе, которое обставил с необыкновенной роскошью. В то время, о котором я говорю, у него была страсть к книгам, и он собрал превосходную библиотеку. Император приказал Талейрану жить как можно роскошнее и купить такой дом, который соответствовал бы его княжескому достоинству, пообещав лично заплатить за него. Талейран купил дворец Монако на улице Варенн, расширил его значительными пристройками и очень украсил. Император, поссорившись с ним, не сдержал своего слова и поставил Талейрана в затруднительное положение, так как последний должен был сам заплатить за этот дворец.
Чтобы закончить рассказ об императорской семье, я должна сказать, что принц Евгений весьма разумно правил тогда своим прекрасным королевством, Италией, был очень счастлив любовью своей жены и рождением маленькой дочери, которую она ему только что подарила.
Архиканцлер Камбасерес, хитрый и по натуре, и по расчету, держался в Париже с той представительностью, которую разрешал ему император и которая удовлетворяла его мелочное тщеславие[155]. Он также с большой осторожностью председательствовал в Государственном совете, разумно руководил прениями и в строгом порядке наблюдал за тем, чтобы они не выходили из надлежащих границ. Главный казначей Лебрен мало вмешивался в дела; он жил хорошо, наживал себе состояние и не возбуждал ничьей зависти, не пользуясь никаким влиянием. Министры ограничивались исполнением своих прямых обязанностей; при таком господине они были чем-то вроде главных приказчиков, послушных и внимательных, руководящих тем делом, которое было им поручено, в однообразной системе, основанием которой были воля и интерес хозяина[156].
Каждому из них был передан один лозунг: быстрота и подчинение. Министр полиции позволял себе говорить свободнее, чем другие, и старался поддерживать сношения с якобинцами, гарантируя императору их спокойствие. Благодаря этому он был независимее, так как у него все-таки имелась своя партия. Ему было известно все до малейших подробностей, он стоял во главе различных отделов полиции, наблюдавших за Францией. И Фуше, и Бонапарт часто могли лгать друг другу, но, конечно, не обманывались один насчет другого.
Шампаньи, герцог Кадорский, бывший министр внутренних дел, получил место министра иностранных дел; его преемником стал член Государственного совета Крете. Шампаньи был человеком небольшого ума, но хорошим работником и очень точным исполнителем, а только это и требовалось императору.
Верховный судья Ренье, который стал впоследствии герцогом Массавским (о нем я говорила раньше), управлял юстицией весьма посредственно. Император очень заботился о том, чтобы у этой юстиции не было ни авторитета, ни независимости.
Принц Невшательский был военным министром, и притом хорошим министром. Генерал Дежан заведовал хозяйственной частью в этом министерстве. Оба они находились под непосредственным наблюдением императора.
Годен, разумный министр финансов, поддерживал в получении налогов и доходов такой порядок, который придавал ему цену в глазах императора, но ни во что другое он не вмешивался. Впоследствии император назначил его герцогом Гаэтским.
Мольен, министр Государственного казначейства, сделавшийся впоследствии графом, проявлял больше ума и больше знаний в области финансов.
Порталис, министр вероисповеданий, человек умный и талантливый, поддерживал согласие между властью и духовенством. Нужно сказать, что священники, которые были очень благодарны Бонапарту за то, что он упрочил их положение и внушал уважение к их сану, проявляли по отношению к нему преданность и покровительствовали деспотизму. Когда император потребовал рекрутского набора 1808 года, он приказал, по своему обыкновению, чтобы епископы уговаривали крестьян подчиниться, и пастырские послания были примечательны. В пастырском послании епископа Кемперского было написано следующее: «Кто из французов не благодарит с восторгом от всего сердца Божественное Провидение за то, что оно сделало императором и королем этой прекрасной Империи, уже готовой похоронить себя под окровавленными развалинами, единственного человека, который может прекратить все бедствия и покрыть своей славой те эпохи, которые ее обесславили?»
Порталис умер в 1807 году, и его заменил член Государственного совета Биго де Преамене, сделавшийся позднее графом, человек очень честный, но менее просвещенный, чем Порталис.
Наконец, морской министр мог сделать очень немного, с тех пор как Бонапарт, потерявший надежду превзойти Англию и недовольный своими морскими предприятиями, совсем перестал заниматься ими. Декре был человек очень умный и совершенно в духе своего господина. Грубоватый в поведении, он льстил императору в тех случаях, где тот этого не ожидал. Он придавал мало цены общественному уважению и соглашался принять на свой счет все несправедливости, которые обрушивались со стороны императора на французский флот, но так, что это казалось независимым от его воли. Декре принял на себя с неустрашимой преданностью ненависть всех своих прежних товарищей. Впоследствии император назначил герцогом и его.
В это время двор был холоден и молчалив. Именно здесь особенно чувствовалось внутреннее убеждение в том, что права каждого зависят только от воли господина, а так как у этой воли были свои фантазии, то затруднение в том, как их предугадать, заставляло каждого бояться какого бы то ни было поступка и оставаться в более или менее ограниченном кругу своей должности. Женщины действовали еще меньше других и не решались искать никаких других успехов, кроме тех, которые доставляли им их роскошь и красота.
В городе все мало-помалу становились совершенно равнодушными к движению колес машины, результаты которого видели, силу которого чувствовали, сознавая притом, что сами не будут принимать никакого участия в этом движении, – жили общественной жизнью, которая не лишена была удовольствий. Французы умеют веселиться, когда наступит для них время отдыха. Но доверия было мало, национальный интерес ослабел, все великие чувства, которые украшают жизнь, были до известной степени парализованы. Серьезные люди должны были страдать, истинные граждане должны были сознавать, что они живут без пользы. Как бы вознаграждением за это была приятная и разнообразная общественная жизнь. Прогресс распространялся благодаря роскоши, которая хотя и ослабляет умственные способности, но в то же время делает все личные отношения приятными. Это доставляло светским людям некоторые мелкие радости, которые почти всегда удовлетворяли их; в конце концов никто не стыдится того, что умеет приспособляться ко всему, перенеся много политических потрясений. Эти потрясения были еще очень живы в нашей памяти, и они-то придавали цену эпохе блестящего рабства и изящной праздности.
Глава XXV 1807 год
Придворные сплетни – Талейран – Генерал Рапп – Генерал Кларк – Сессия Законодательного корпуса – Речь императора – Праздник 15 августа – Женитьба Жерома Бонапарта – Смерть Лебрена – Аббат Делиль – Шатобриан – Роспуск Трибуната – Поездка в Фонтенбло
Когда император возвратился в Париж – 27 июля 1807 года, – я находилась еще в Ахене, где начинала с беспокойством думать о настроении, в котором он приедет. Я не могла ничего узнать, потому что никто не решался сообщать своих секретов в письмах. Поэтому только после его возвращения мне удалось выяснить некоторые подробности.
Император возгордился своим непостижимым счастьем. Тотчас же заметили, что благодаря своему воображению он еще больше увеличил расстояние между собой и всеми другими лицами. Притом он раздражался больше, чем когда бы то ни было, тем, что называл «речами Сен-Жерменского предместья». Как только Наполеон увидел Ремюза, он стал упрекать своего камергера за то, что тот в своих письмах к обер-гофмаршалу Дюроку не сообщал последнему никаких подробностей о разных лицах парижского общества.
«Вы должны, – говорил он ему, – благодаря вашим связям знать то, что говорится в различных салонах. В ваши обязанности входит давать мне об этом отчет. Я не могу признать не имеющих никакой цены соображений, которые вас удерживают». Ремюза отвечал, что может заметить очень немногое, так как вполне естественно, что при нем сдерживаются, и он не придавал бы большого значения пустым разговорам, которые могут повести к печальным последствиям для тех, кто их вел – часто без всяких враждебных намерений. Тогда император пожимал плечами, поворачивался спиной и говорил Дюроку или Савари: «Мне очень жаль, но Ремюза не может выдвинуться, потому что он не так предан мне, как я этого желаю».
Из этого можно было бы по крайней мере вывести заключение, что честный человек, готовый скорее повредить своей карьере, чем заплатить за нее своей деликатностью, мог бы после этого считать себя в безопасности от тех сплетен, которые во множестве плодятся и при дворе, и в городе. Но на деле было не так: Бонапарт не признавал ни для кого покоя и прекрасно умел компрометировать тех, кто особенно старался жить спокойно.
Вероятно, читатели помнят, что во время пребывания императрицы в Майнце некоторые придворные дамы, с госпожой де Ларошфуко во главе, позволили себе довольно резко бранить прусскую королеву, и без того жестоко оскорбленную. Императрица, недовольная всеми этими вольностями, написала о них своему мужу, настойчиво прося его никогда не говорить, что это она сообщила ему о таких речах. Она рассказала об этом и Ремюза, который хоть и упрекнул ее, но сохранил все сказанное ею в тайне.
Талейран, приехав к императору, также рассказал ему о том, что говорилось в Майнце, больше с целью позабавить его, чем из вражды к придворной даме, к которой он был совершенно равнодушен. У Бонапарта накопился, таким образом, довольно большой запас недовольства против госпожи де Ларошфуко, и как только он увидел ее, то со своей обычной резкостью упрекнул за взгляды и разговоры. Госпожа де Ларошфуко, смущенная сценой, которой вовсе не ожидала, за неимением других оправданий, стала отрицать все то, в чем ее обвиняли.
Император стоял на своем и, когда она спросила, кто сделал ему это донесение, тотчас же назвал Ремюза. Услышав это, она была поражена, поскольку всегда была расположена к моему мужу и ко мне, ей казалось, что она может доверять нашей сдержанности, и она часто поверяла нам свои тайные мысли. Поэтому госпожа де Ларошфуко почувствовала крайнее изумление и справедливое недовольство, тем более что сама была искренней и неспособной на такую низость, в которой обвиняли моего мужа.
Предупрежденная таким образом, она не стала требовать объяснений, но приняла по отношению к Ремюза холодный и принужденный вид, причины которого мой муж долго не мог угадать. Только несколько месяцев спустя, когда обстоятельства, связанные с разводом императора, вызвали разговоры между нами и госпожой де Ларошфуко и она спросила моего мужа о том, о чем я только что рассказала, выяснилась вся правда. Когда госпожа де Ларошфуко нашла возможным свободно поговорить с императрицей, последняя не постаралась ее разуверить и оставила в подозрении относительно моего мужа, только добавив, что Талейран мог рассказать больше, чем он. Госпожа де Ларошфуко была довольно близким другом Сегюра, обер-церемониймейстера; она рассказала ему о своей неприятности, и это внесло некоторое охлаждение между ним и нами, а вместе с тем восстановило Сегюра против Талейрана. Острота насмешек последнего, порой довольно ядовитых, вооружала против него и сближала всех посредственных людей, над которыми он насмехался самым безжалостным образом. Они отомстили за это, как только представился случай.
Император не ограничивался упреками, сделанными придворным, он жаловался также и на высшее парижское общество. Он упрекал Фуше за отсутствие постоянного надзора, изгонял женщин, угрожал выдающимся людям, и для того, чтобы избежать последствий его гнева, нужно было по крайней мере загладить прежние неосторожные речи такими поступками, которые докажут признание его могущества. После такого вызова с его стороны многие лица сочли необходимым представиться ко двору, некоторые – под предлогом своей безопасности, и благодаря этому пышность двора увеличилась.
Так как Бонапарт любил ознаменовать свой приезд особенным образом, то не пощадил и своей собственной семьи. Строго, хоть и совершенно бесплодно, бранил свою сестру Боргезе, относился к ней, или делал вид, что относится, совершенно равнодушно. Он не скрыл от своей сестры Каролины, что знает ее тайные честолюбивые желания. Каролина перенесла с обычным искусством неизбежный шквал гнева и мало-помалу довела императора до признания того, что она не так уж виновата, если и желает возвышения, ведь в ее жилах течет кровь. Оправдываясь, она пустила в ход свои обычные приемы для того, чтобы покорить Бонапарта.
«Разбудив», как он говорил, таким образом окружающих, император остался доволен тем, что вызвал этот маленький террор, а затем, казалось, забыл обо всем, что произошло, и стал жить своей обычной жизнью.
Талейран, который возвратился после него, выразил Ремюза большое удовольствие по поводу того, что вновь видит его. Именно в это время у него вошло в привычку приходить ко мне довольно часто, и наши отношения сделались более близкими. Я вспоминаю, что сначала, несмотря на расположение к нему, я довольно долго испытывала некоторую неловкость в его присутствии. Талейран пользовался заслуженной репутацией весьма умного человека; он был очень важным лицом; но говорили, что он слишком требователен и притом насмешлив. Его манеры, всегда чрезвычайно вежливые, заставляли собеседника чувствовать себя стоящим несколько ниже его. Однако во Франции, где общественные нравы признают значение женщин и дают им свободу, дамы могли бы, несмотря на различие их положения в обществе, держать себя свободнее с Талейраном. Но многие из них не делали этого. Часто дамами овладевало желание нравиться ему, и они жили в каком-то рабстве, что можно охарактеризовать общепринятым выражением: они его очень избаловали.
Наконец, так как Талейран мало кому доверял, был во многом разочарован, равнодушен по отношению к другим, редко бывал чем-нибудь тронут, то тот, кто пожелал бы покорить его, остановить на себе его внимание или даже просто занять его, поставил бы себе трудную задачу.
Все, что я раньше знала о нем и что узнавала, видя его, стесняло меня в его присутствии. Я была тронута его дружбой, но не смела сказать ему этого; я боялась говорить с ним о том, что постепенно начинало тревожить меня, так как мои чувства должны были, как мне казалось, вызвать только насмешки. Я никогда не расспрашивала его ни о личных делах, ни о делах вообще, чтобы он не мог считать меня любопытной. Немного стесняясь в его присутствии, я испытывала умственное напряжение, так что иногда уставала от этого. Я слушала его очень внимательно, и если не всегда могла удачно ответить ему, то мне хотелось по крайней мере доставить ему удовольствие сознавать, что его хорошо понимают, и, признаюсь, мое небольшое тщеславие было удовлетворено тем, что я, казалось, нравлюсь ему. Вспоминая об этом теперь, я нахожу, что было приятно испытывать волнение и вместе с тем удовлетворение, когда отворялись обе половинки моей двери и мне докладывали: «Князь Беневентский».
Иногда у меня выступал крупными каплями пот от усилий сделать мои слова остроумными; и, вероятно, как это бывает всегда, когда себя принуждаешь, я была гораздо менее любезной, чем тогда, когда бывала естественной. Оставаясь естественной, сохраняешь то преимущество, которое дают правдивость и гармония жестов, слов и манеры держать себя. Обыкновенно серьезная и склонная сильно чувствовать, я старалась принуждать себя, чтобы попадать в тон той легкости, с какой он переходил от одного предмета к другому. По натуре добродушная, противница всякого злоречья, я всегда заставляла себя улыбаться при всех его «остротах». Таким образом, он начал оказывать на меня свое обычное влияние, и, если бы наши отношения продолжались в том же духе, я показалась бы ему одной из тех женщин, которые составляли нечто вроде двора вокруг его особы, тех женщин, которые готовы были восхищаться его недостатками и поощрять проявление худших сторон его характера. Вероятно, он кончил бы тем, что отдалился бы от меня, потому что я не особенно удачно выполняла бы ту роль, которая так мало мне подходила. Позднее я расскажу о печальном событии, которое вернуло меня к моему обычному настроению и дало мне возможность выказать Талейрану искреннюю привязанность, которую я сохранила по отношению к нему навсегда.
При дворе скоро заметили эту новую близость. Сначала император не выразил по этому поводу никакого неудовольствия. Талейран имел на него некоторое влияние, и мнение, которое он выразил, говоря о Ремюза, принесло нам пользу: мы заметили по некоторым признакам, что наше личное положение улучшилось. Императрица, вечно чего-нибудь опасавшаяся, стала со мной ласковее, думая, что я могу защитить ее интересы благодаря дружбе с Талейраном. Враги, которые имелись у него при дворе, следили за нами, но так как он имел большую силу, то нам оказывали самое большое внимание. Многочисленное окружавшее Талейрана общество стало с любопытством смотреть на человека простого, кроткого, обыкновенно молчаливого, никогда не льстившего, неспособного к интригам, которого Талейран хвалил за его ум и, по-видимому, искал его общества.
Наблюдали также и за двадцатисемилетней женщиной, недурной наружности, холодной и сдержанной в обществе, ничем особенно не выдающейся, ведущей незапятнанную, нравственную жизнь, женщиной, которую выдвигал этот важный сановник.
Надо думать, что Талейран, скучавший в это время, находил нечто новое и даже, может быть, пикантное в том, что старался приобрести расположение двух людей, столь чуждых того круга идей, которые руководили им в жизни. Утомленный тем положением, в котором ему приходилось постоянно принуждать себя, он чувствовал некоторое облегчение, сознавая прочность наших отношений. А когда его постигла опала, поколебавшая и наше положение, чувство преданности, которое мы открыто выражали по отношению к нему, превратило в прочную дружбу связь, поначалу казавшуюся ему только новой забавой. Тогда я стала чаще бывать у него в доме, куда мы ездили раньше, и там я познакомилась с той частью общества, которой прежде не знала.
У Талейрана можно было встретить очень большое общество: множество иностранцев, которые перед ним заискивали, знатных вельмож старого режима и нового, которые были очень удивлены этой встречей, людей, пользующихся популярностью, какова бы она ни была, которая не всегда совпадала с хорошей репутацией, женщин, также известных с этой стороны, о которых надо сказать, что Талейран чаще был их любовником, чем другом, и которые сохраняли с ним отношения, наиболее ему нравившиеся.
В его салоне можно было встретить прежде всего его жену, красота которой увядала с каждым днем вследствие чрезмерной полноты. Она была всегда роскошно одета, занимала по праву центральное место, но была совершенно чужой в этом обществе. Талейран как будто бы никогда не замечал ее присутствия; он не обращался к ней, совсем не слушал, что она говорит, и, как мне кажется, внутренне страдал, но примирялся с тем ярмом, которое надел на себя по своей слабости. Она редко бывала при дворе: император принимал ее очень плохо, и она не пользовалась уважением у придворных; Талейрану и в голову не приходило жаловаться, и он не обращал внимания на обвинения в том, что она развлекалась от скуки своей праздной жизни ухаживаниями со стороны некоторых иностранцев. Бонапарт иногда подсмеивался по поводу этого над Талейраном, но тот отвечал с такой беспечностью, что тотчас же разговор об этом прерывался.
У госпожи Талейран было в обычае ненавидеть всех друзей своего мужа – как женщин, так и мужчин. Вероятно, она не делала никакого исключения и для меня; но я всегда держала себя с ней так сдержанно, с такой вежливостью и так мало вмешивалась в ее личные дела, что у нас не могло случиться никаких столкновений.
Я встречала в этом же салоне некоторых из старых приятельниц Талейрана; сначала они смотрели на меня с таким любопытством, которое казалось мне забавным. Это были: герцогиня де Люинь и княгиня де Вадемон – прекрасные женщины, любящие его и очень искренние по отношению к нему, которые очень хорошо отнеслись ко мне, так как заметили, что наши отношения были очень просты и далеки от какой бы то ни было интриги; виконтесса де Лаваль, которая беспокоилась больше, чем они, относилась ко мне с недоброжелательством и судила обо мне довольно строго; княгиня Лисневич, сестра князя Понятовского. Эта последняя познакомилась с Талейраном в Варшаве и приехала за ним в Париж. Бедная женщина, несмотря на свои сорок пять лет и стеклянный глаз, имела несчастье питать к нему страстное чувство, которое, казалось, ему надоело; она ревниво следила за всеми его симпатиями. Возможно, она делала мне честь тем, что немного ревновала его ко мне. Позднее от этого же недуга страдала и княгиня, потому что любить Талейрана было действительно болезнью.
Здесь можно было встретить и герцогиню де Флери, очень умную женщину, которая разошлась к тому времени с Монтроном. Этот Монтрон, профессиональный игрок, очень остроумный, забавлял Талейрана, но вредил ему своими близкими отношениями с ним: он был всегда против правительства, и император изгнал его, а Талейран защищал его с упорством, достойным лучшего применения.
Герцогиня де Флери умерла, вернув себе свое девичье имя Эме де Куаньи. Андре Шенье написал в ее честь оду «Молодая узница».
Часто можно было видеть госпожу Белльгард, которая прославилась в обществе только тем, что позволяла себе говорить все без стеснения, госпожу К., за которой Талейран ухаживал для того, чтобы поддержать связь с обер-шталмейстером, госпожу де Бриньоль, придворную даму, очень милую и изящную генуэзку, госпожу де Суза, бывшую госпожу де Флаго, умную женщину, у которой была связь с Талейраном еще в ранней юности и которая сохраняла его дружбу, – она была автором нескольких романов и, в это время, женой де Суза, португальского посланника, – наконец, жен всех посланников, иностранных принцесс, которые приезжали в Париж, и бесчисленное множество людей, занимающих выдающееся положение в Европе.
Меня забавляло это подобие волшебного фонаря. Но так как я инстинктивно чувствовала, что здесь у меня не завяжется никакой дружбы, то всегда сохраняла церемонный тон и всегда предпочитала видеть Талейрана у своего скромного очага. Мое общество было несколько удивлено тем, что он стал посещать меня чаще, чем прежде; могу сказать даже, что некоторые из моих друзей были обеспокоены этим. Талейран обыкновенно внушал недоверие. Вовлеченный в очень важные дела, он сам подвергался опасности и при своем падении мог увлечь и нас за собою. Но мы не особенно, может быть, не в достаточной мере разделяли подобные предчувствия. Благодаря тому, что Ремюза занимал место камергера, он должен был находиться в постоянных сношениях с Талейраном, и для нас было удобнее, чтобы эти отношения между нами и им были хорошими; мы не вмешивались ни в какие серьезные дела и не думали пользоваться его влиянием. Бескорыстные люди всегда ошибаются в этом случае. Им кажется, что другие должны угадать или по крайней мере видеть то, что происходит в их душе; так как в их поступках нет никакого расчета, они не думают, что их могут заподозрить в этом. Конечно, было большой ошибкой сохранить иллюзию, что о тебе будут судить правильно.
Увидев в Сен-Клу второго сына Луи, Бонапарт нежно ласкал его, и императрица снова стала надеяться, что он сделает его, подобно первому, своим наследником. Император, пораженный тем, что смерть так скоро похитила мальчика, назначил конкурс для исследования крупа, обещая солидную награду победителю.
Замирение Европы не привело к немедленному возвращению всей армии во Францию. Прежде всего шведский король Густав IV, увлеченный английским правительством, несмотря на оппозицию со стороны нации, объявил о прекращении перемирия с нами. Через тринадцать дней после того, как в Тильзите был подписан договор, произошла небольшая война в Померании. Маршал Мортье командовал в этом походе; он вторгся в Штральзунд и заставил шведского короля сесть на корабли и обратиться в бегство. Англичане послали значительный флот в Балтийское море и, напав на Данию, осадили Копенгаген, которым овладели несколько позднее. Эти события были сообщены в «Мониторе» вместе с примечаниями, где, по обыкновению, нападали на англичан, а в Европе было объявлено о том, что шведский король лишился рассудка.
Говоря о субсидиях, выдаваемых англичанами шведам на ведение войны, император высказывался следующим образом: «Храбрые и несчастные шведы, вот деньги, которые причиняют вам столько зла! Если бы Англия должна была заплатить за весь тот ущерб, который она наносит вашей торговле, вашей чести, за кровь, которой она вам стоила, которой она вам стоит! Но вы понимаете, вас надо жалеть за то, что вы потеряли все ваши преимущества, ваше положение и оказались без защиты, без органа управления, будучи подчинены фантазиям больного государя!»
Генерал Рапп был оставлен с гарнизоном в Данциге в качестве губернатора. Это был очень храбрый и хороший человек, немного солдафон по своим манерам, преданный императору, прямой, равнодушный к тому, что происходило вокруг него, к тому, что не имело никакого отношения к получаемым им приказаниям. Он служил своему господину с большой преданностью и несколько раз готов был пожертвовать за него жизнью, причем был на волосок от смерти; ему никогда не приходило в голову разбирать, какие достоинства и какие недостатки были в характере у этого господина.
Император считал себя обязанным поддерживать новую конституцию, установленную в Польше саксонским королем, с помощью значительного гарнизона, который был присоединен к польскому. Маршал Даву командовал этим гарнизоном. Оставляя, таким образом, свои войска в Европе, Бонапарт импонировал своим союзникам, держал солдат в напряжении и избавлял Францию от присутствия стольких вооруженных людей, которые возвратились бы на родину. Его политика захвата заставляла его всегда быть наготове; притом ему важно было держать солдат вдали от их домов, чтобы иметь их всецело в своем распоряжении. Ему вполне удалось так изменить свою армию, что она была беззаветно предана ему, потеряла всякое национальное чувство и не признавала ничего, кроме своего вождя, победы и того духа хищничества, который скрашивает всякую опасность. И мало-помалу эта армия навлекла на родину, которой больше не признавала, месть и ненависть, вызвавшие в Европе крестовый поход, и мы все стали его жертвами в 1813-м и 1814 году.
По возвращении император снова был окружен лестью. Изо всех сил старались найти выражения для похвал, которые он слушал с пренебрежительным превосходством. Впрочем, нельзя сомневаться в том, что это равнодушие было напускным, так как он любил похвалы, из чьих бы уст они ни исходили, и даже несколько раз становился жертвой этих похвал. Были люди, которые имели над ним некоторое влияние только потому, что были неутомимы в своей лести. Постоянное восхищение, даже выраженное глуповато, всегда имело успех.
Десятого августа Бонапарт объявил Сенату о возведении Талейрана в сан вице-электора, а маршала Бертье – в сан вице-коннетабля. Генерал Кларк занял место Бертье в военном министерстве, где нашел возможность еще красноречивее выражать то восхищение, о котором я говорила выше. Обычная заботливость императора обо всем, что касается войны, знания, которые вносил в военное дело маршал Бертье, хорошее управление генерала Дежана, заведующего хозяйственной частью, – все это делало излишним какой-либо талант со стороны Кларка, у которого и не было таланта. Точный, неподкупный, умеющий вполне подчиняться, он выполнял то, чего от него требовали.
Между тем каждое утро узнавали о новых производствах в армии, о распределении наград, о новых местах, словом, обо всем том, что держит в напряжении честолюбие, алчность и тщеславие.
Открылись заседания Законодательного корпуса. Фонтан, избранный, как и всегда, председателем, произнес, по обыкновению, прекрасную речь о положении Франции, которое было действительно цветущим.
Бесчисленное множество регулирующих законов было представлено на утверждение этого собрания, также был представлен и бюджет, который доказывал отличное состояние финансов, и, наконец, список работ всякого рода повсюду в Империи – проектируемых, начатых или законченных. Деньгами, получаемыми в виде контрибуции в Европе, оплачивалось все, и Франция беспрерывно украшалась без всякого повышения налогов. Император, говоря с Законодательным корпусом и обращаясь к французам, дал отчет о своих победах, говорил о 5179 офицерах и 123 000 унтер-офицеров и солдат, взятых в плен во время этой войны, о полном завоевании Пруссии, о солдатах, расположившихся лагерем на берегу Вислы, о падении английского могущества, которое должно было явиться результатом таких успехов, и заканчивал тем, что он доволен нацией, которая так верно служила ему, чтобы доставить столько триумфов. «Французы, – сказал он, – я доволен: вы – великий, добрый народ».
Открытие Законодательного корпуса всегда было соединено с великолепной церемонией. Залу роскошно убирали, костюмы депутатов и придворных, окружавших императора, были великолепны, а сам он в этот день блистал золотом и бриллиантами. Хотя Бонапарт всегда вносил в церемониал некоторую поспешность, пышность, которую он любил, могла заменять величие, которого недоставало в случае такой поспешности. Во время церемонии, направляясь к приготовленному для него трону, Бонапарт всегда как будто бросался к нему. Это был не тот законный государь, который спокойно садился на королевский трон по праву, унаследованному им от предков, но это был могущественный властелин, который, возлагая на свою голову корону, всякий раз как будто вспоминал итальянский девиз, произнесенный им однажды в Милане: «Горе тому, кто осмелится прикоснуться к ней!»
Что вредило Бонапарту, когда он был на глазах у всех, так это обычные недостатки произношения. Как правило, он заставлял редактировать речи, которые желал произнести. За это брался обыкновенно Маре, иногда Виньо или даже Фонтан. Затем император старался выучить их наизусть, но это плохо ему удавалось, потому что малейшее принуждение было для него невыносимо. Наконец, он решался читать свою речь, которую ему переписывали очень крупными буквами, так как он не привык читать написанное и не разобрал бы того, что написал сам. Затем он старался произносить слова четко, но когда начинал читать, забывал все уроки и читал свою речь каким-то глухим голосом, едва раскрывая рот и с акцентом, скорее странным, чем иностранным, в котором было что-то неприятное, даже вульгарное. Я часто слышала от многих лиц, что они не могли отделаться от неприятного впечатления, слушая, как он говорит публично. Из-за его акцента, бывшего неоспоримым доказательством иностранного происхождения, его речь неприятно поражала и ухо, и ум. Иногда я сама испытывала это невольное чувство.
Пятнадцатого августа празднества были великолепны. Во дворце придворные, блистающие драгоценностями, присутствовали на концерте и на балете, который последовал за концертом. Залы Тюильри, заполненные сверкающей золотом толпой народа, посланники и самые знатные вельможи всей Европы, принцы, несколько королей, которые, несмотря на недавнее происхождение своего сана, так сияли, что могли придать еще больше торжественности празднеству, женщины, блистающие нарядами и красотой, первые музыканты в мире, то, что было самого изящного в балете Оперы, великолепный ужин, – все это представляло собой совершенно восточную роскошь.
В Париже были устроены общественные игры и удовольствия. Жители Парижа, веселые от природы, когда они собираются вместе, спешащие туда, где можно найти общество, теснились на улицах, при иллюминации, вокруг фейерверков и проявляли повсюду веселье, внушаемое удовольствием и прекрасной погодой. Но нигде не слышно было криков в честь императора. Казалось, о нем и не думали, пользуясь теми удовольствиями, которые он доставлял; но каждый принимал в них участие согласно своему характеру и своим личным склонностям, а этот характер и эти склонности делают из французов самый легкомысленный, но самый милый народ в мире.
Я видела, как англичане присутствовали на подобных празднествах и удивлялись порядку, откровенной веселости и согласию, которое устанавливалось в такие дни между всеми классами общества. Каждый, занятый своими развлечениями, старается не мешать соседу; никаких ссор, никакого недовольства, никакого опасного и отвратительного опьянения. Женщины и дети безопасно находятся в толпе, и о них заботятся. Помогают друг другу, чтобы вместе веселиться; делятся своим весельем, не зная друг друга; поют и смеются вместе те, кто никогда раньше не встречался друг с другом. В такие дни не особенно наблюдательный король легко может ошибиться. Это веселье, вполне зависящее от темперамента, вызванное на короткое время внешними предметами, может быть принято им за выражение чувств счастливого и преданного народа. Но если государи, которым суждено править Францией, не хотят заблуждаться, они должны больше прислушиваться к голосу своей совести, чем к народным крикам, чтобы знать, внушают ли они сами любовь и доставляют ли счастье своим подданным.
Впрочем, лесть придворных по этому поводу еще удивительнее. Сколько приходилось мне видеть людей, которые рассказывали императору об этом веселье народа в публичных местах в Париже, и они старались представить ему это как свидетельство благодарности! Я не решусь сказать, что император никогда не давал ввести себя в обман. Однако большей частью он казался тронутым этой благодарностью. Бонапарт не особенно доверял сообщениям посторонних лиц, а ему самому радость была так чужда!
В этом же месяце (августе) ко двору прибыло довольно много германских государей. Некоторые из них являлись для того, чтобы видеть императора, другие – чтобы добиться каких-нибудь милостей или какого-нибудь права для своих маленьких государств. Дальберг, князь-примас Рейнской конфедерации, также приехал в это время; он должен был совершить обряд венчания принцессы Екатерины Вюртембергской. Она приехала 21 августа. Ей исполнилось уже, кажется, двадцать лет; у нее была приятная наружность, но ее чрезмерная полнота, казалось, предвещала, что она будет в отца, который был так толст, что не мог садиться иначе, как на специально предназначенные для него кресла, и всегда обедал за столом, в котором был вырезан полукруг для живота. Вюртембергский король Фридрих I, человек очень умный, считался самым злым государем в Европе. Его подданные ненавидели его; говорили даже, что они несколько раз пытались отделаться от него. Теперь он уже умер.
Свадьба этой принцессы и короля Вестфальского совершалась в Тюильри с большим великолепием. Гражданская церемония проводилась в Галерее Дианы, так же, как и свадьба принцессы Баденской. В воскресенье, 23-го, обряд венчания совершили в капелле Тюильри в присутствии всего двора.
Принц и юная принцесса Баденская также приехали в то время в Париж. Мы все нашли, что она похорошела; император, кажется, совсем не занимался ею; я расскажу о ней немного ниже. Король и королева Голландские приехали в конце августа. Они казались пребывающими в добром согласии, но были еще очень грустны после понесенной ими утраты; королева была чрезвычайно худа и страдала от начинающейся беременности. Вскоре после ее приезда в Париж нашлись люди, которые постарались снова заронить семена беспокойства в душу ее мужа. Они не побоялись очернить жизнь, которую вела эта несчастная женщина на водах; ее горе, ее слезы, которые она все еще проливала, ее убитый вид, состояние здоровья не обезоружили ее врагов. Она рассказывала о своих экскурсиях в горах и о том облегчении, которое доставляло ей зрелище дикой природы. Она говорила и о встрече с молодым Деказом, и об отчаянии, в котором он находился, и о том, как он жалел ее. Эти рассказы были просты и наивны, но клевета подхватывала их и снова будила подозрительность Луи. У него возникло желание вполне естественное, но несколько эгоистичное – отвезти свою жену и сына в Голландию; госпожа Луи выказывала по отношению к нему полное подчинение, которого он требовал; но императрица, испуганная плохим состоянием здоровья своей дочери, пригласила на консультацию докторов, которые объявили, что климат Голландии может еще больше повредить здоровью беременной женщины, у которой уже затронуты легкие.
Император решил, что до нового приказания удержит при себе свою падчерицу и ее маленького ребенка. Король подчинился этому очень неохотно и поставил в вину своей жене решение, которого она не добивалась, но которое удовлетворяло ее тайным желаниям, – и согласие этой четы было снова нарушено. Гортензия, на этот раз действительно оскорбленная новыми подозрениями своего ревнивого мужа, навсегда потеряла интерес к нему и стала его ненавидеть. «С этих пор, – говорила она мне, – я поняла, что моему несчастью ничем нельзя помочь; моя жизнь стала казаться мне совершенно испорченной; мне были противны величие и трон; я часто проклинала то, что люди называли моим счастьем; мне были чужды все радости жизни, все иллюзии, я как бы умерла для всего, что совершалось вокруг меня».
Примерно в это время Академия потеряла двух своих выдающихся членов: поэта Лебрена, который оставил после себя две прекрасные оды и пользовался репутацией замечательного поэтического таланта, и Дюро де ла Моля, переводчика Тацита, о котором все были высокого мнения, человека умного, близкого друга аббата Делиля. Он жил тихо, пользуясь своим небольшим достатком, окруженный друзьями; он был желанным гостем в обществе; сам император дал ему возможность жить спокойно и свободно, отказавшись от надежды подчинить его себе. Время от времени де ла Моль печатал свои произведения и находил во всеобщей симпатии награду за свою кротость и тихую жизнь, которую никогда не смущали никакая печальная мысль, никакой враждебный поступок.
Делиль, профессор в College de France, получал жалованье по кафедре литературы, созданной для него Легуве. Это был единственный дар, который поэт принял от Бонапарта. Он сохранил почтительное воспоминание о той, которую называл своей благодетельницей[157]. Было известно, что Делиль писал поэму, где говорил о ней, о короле, об эмигрантах, и никто не вменял ему этого в вину. Правительство, всегда стремящееся изгладить подобные воспоминания, уважало их и не решалось запятнать себя постыдным преследованием милого старика, благодарного и всеми любимого.
Вопрос о двух местах в Академии на минуту занял парижские салоны. Немного говорили о Шатобриане. Император был раздражен против него, и молодой писатель, держась того направления, которое давала ему известность и опора на одну партию, не подвергая его притом действительной опасности, примкнул к оппозиции. Французская академия, проникнутая в то время принципами неверия, немного революционного, а главным образом философского, в духе прошлого века, также была против избрания человека, который сделал знаменем своего таланта знамя религии. Однако люди, знавшие Шатобриана, говорили, что его обычная жизнь не вполне соответствует тем проповедям, которыми он украшает свои произведения. Ему ставили в упрек чрезмерную гордость. Женщины, восторженно относившиеся к его таланту, несколько странным манерам, прекрасной наружности и к его репутации, любезничали с ним, и он не казался равнодушным к их авансам. Это крайнее тщеславие, это самомнение заставляли думать, что если бы император был с ним поласковее, то мог бы привлечь его к себе, но только заплатив очень дорогую цену[158].
Заседания Законодательного корпуса продолжались; на них утверждались мало-помалу все законы, издаваемые Государственным советом, и административная организация императорской власти завершалась без всякой оппозиции. Благодаря своему гению и умению членов Государственного совета император был уверен, что сумеет править Францией с тем внешним видом законности, который заставлял ее молчать и который нравился его собственному уму, склонному к порядку. В том, что оставалось от Трибуната, он видел только очаг оппозиции, который, несмотря на свою слабость, мог иногда стеснять его, и император решил довершить его уничтожение, которое уже было начато в эпоху Консульства, когда значительно было уменьшено число его членов. Бонапарт заставил Сенат издать постановление, по которому все трибуны переходили в Законодательный корпус, – и тотчас же его сессия закончилась.
Речи, произнесенные на последнем заседании Трибуната, довольно замечательны. Порой удивляешься, что люди соглашаются играть друг перед другом известного рода комедию; впрочем, надо признаться, что к этому привыкли и это не особенно поражало. Сначала Беранже, член Государственного совета, появился с несколькими из своих коллег и, начав с напоминания о том, какие услуги Трибунат оказал Франции, сказал затем, что новое постановление придаст Законодательному корпусу полноту и значение, которые послужат гарантией прав народа. Председатель ответил от лица всего Трибуната, что его члены принимают это решение с доверием и уважением, так как прекрасно понимают его прямые выгоды. Затем трибун (Каррион-Низа) предложил составить адрес с выражением благодарности императору за доказательство уважения и благосклонности к Трибунату. Он прибавил, что считает себя выразителем настроения каждого из своих коллег и предлагает принести к подножию трона, как последний акт благородной деятельности, адрес, который поразит народ той политической идеей, что трибуны приняли акт Сената без сожаления, без всякого беспокойства за судьбу родины и в их душе вечно будет жить чувство любви к монарху. Это предложение было принято единодушно. Председатель Трибуната Фабр де л’Од был назначен сенатором.
В это время император учредил Государственное казначейство; его недовольство против Барбе-Марбуа прошло, он снова назначил его председателем Казначейства.
В сентябре этого года австрийский император женился во второй раз – на своей двоюродной сестре, дочери покойного эрцгерцога Фердинанда Миланского (Марии Людовике Моденской. – Прим. ред.). Вскоре после этого его брат, Фердинанд III, великий герцог Вюрцбургский и Тосканский, приехал в Париж.
Двор увеличивался с каждым днем благодаря приезду значительного числа знатных лиц. К концу сентября было решено отправиться в Фонтенбло, где желали продемонстрировать большую пышность. Хотели устроить празднества в честь свадьбы короля Вестфальского и принцессы Екатерины; туда должны были отправиться лучшие актеры и музыканты Парижа; двор получил приказание быть в самых лучших нарядах. Каждый из принцев и принцесс императорской фамилии должен был иметь отдельный стол, так же, как и те из министров и сановников, которые сопровождали императора.
Двадцать первого сентября Бонапарт уехал с императрицей, а вскоре в Фонтенбло приехали голландская королева, король и королева Вестфальские, великий герцог и великая герцогиня Бергские, принцесса Полина, мать императора, великий герцог и великая герцогиня Баденские, князь-примас, великий герцог Вюрцбургский, принцы Мекленбургский и Саксен-Кобургский и множество других лиц. А также Талейран, который должен был заведовать двором вместе с князем Невшательским, министр иностранных дел, государственный секретарь Маре, главные чины императорского двора, министры Итальянского королевства, известная часть маршалов, назначенных для этого путешествия, Ремюза, несколько камергеров, статс-дамы, фрейлины и некоторые из придворных дам.
Я возвратилась в это время из Ахена, и так как мое имя стояло в этом списке, то, проведя несколько дней в Париже, чтобы повидаться с матерью и детьми и приготовить свои туалеты, я отправилась в Фонтенбло, чтобы присоединиться к придворным и моему мужу.
Двадцатого сентября маршал Данн был назначен командиром Швейцарского полка.
Глава XXVI 1807 год
Могущество императора – Противодействие англичан – Жизнь императора в Фонтенбло – Спектакли – Тальма – Король Жером – Принцесса Баденская – Великая герцогиня Бергская – Камбасерес – Иностранные государи – Испанские дела – Предчувствия Талейрана – Ремюза назначен директором театров – Богатство и стесненное положение маршалов
Если мы представим себе, что человек, которому не были известны предшествующие события, вдруг очутился перед великолепием этой королевской резиденции и поражен властным видом государя и рабски-почтительным отношением к нему окружающих его знатных лиц, то он увидел бы (или ему казалось бы, что он видит) государя, спокойно занимающего самый великий трон во всем мире в силу тех прав, какие дают ему могущество и законность[159].
Бонапарт был в то время королем для всех и для себя; он забыл о прошлом и не боялся будущего; он шел твердым шагом вперед, не предвидя никаких препятствий, или по крайней мере с уверенностью, что легко преодолеет те, что встретит на своем пути. Ему казалось, да и нам всем также, что он не может пасть иначе, как в результате какого-нибудь неожиданного и странного события, которое непременно произведет катастрофу, и катастрофу всеобщую, так как его должно было поддерживать множество интересов, связанных с порядком и спокойствием, которые как будто бы были предназначены для этой цели свыше. В самом деле, господин или друг всех континентальных королей, союзник многих из них благодаря договорам и бракам, заключенным в иностранных государствах, уверенный в Европе благодаря произведенным им разделам, поставивший вплоть до самых отдаленных границ многочисленные гарнизоны, которые гарантировали ему исполнение его воли, абсолютный обладатель всех средств во Франции, владеющий огромным богатством, человек, находящийся в полном расцвете сил[160], которым восхищались, которого боялись и, в особенности, которому повиновались, – казалось, он преодолел все препятствия.
Но при всей его славе в глубине его души скрывался гложущий червь – угрызения совести. Единственное в своем роде событие в истории, Французская революция, не для того создало всеобщий подъем, чтобы утвердить деспотическую власть. Просвещение века, развитие правильных понятий, дух свободы вели борьбу против него и должны были разрушить это великолепное сооружение власти, созданное в противоположность неопределенному наступательному движению человеческой мысли. Очагом этой свободы была Англия. К счастью для народов, Англия была защищена такой преградой, которую не могли преодолеть военные силы Бонапарта. Несколько лье моря послужили защитой для цивилизации, не допустили, чтобы эта цивилизация, повсюду стесняемая, уступила место тому, кто никогда не мог бы победить ее окончательно, но задержал бы ее развитие, может быть, на целое поколение.
Английское правительство, завидующее такому могуществу, колоссальному несмотря даже на неудачу многих предприятий, всегда побежденное, но никогда не впадавшее в уныние, постоянно находило новые средства для борьбы с императором в патриотическом чувстве, воодушевлявшем всю нацию. Эта нация видела себя затронутой в своих интересах и в своем первенстве. Гордость Англии была раздражена, и ее промышленности наносился ущерб теми препятствиями, которые воздвигали против нее; она готова была на все жертвы, которых требовали от нее министры. Были вотированы огромные субсидии для того, чтобы увеличить морские силы, что должно было повести к блокаде всего континента. Короли, страшившиеся силы нашей артиллерии, подчинялись запретительной системе, которой мы от них требовали. Но народы страдали: удовольствия, доставляемые общественной жизнью, потребности, порождаемые благосостоянием, постоянно усиливающееся стремление к материальным благам – все это говорило во всех государствах в пользу англичан. Роптали в Петербурге, на всех берегах Балтийского моря, в Голландии, в портовых городах Франции; и недовольство, которое не осмеливались выразить, сдерживаясь под влиянием страха, пускало в умах корни – и тем глубже, чем больше они должны были окрепнуть, прежде чем это недовольство обнаружится.
Однако кое-что проявлялось, через известные промежутки, в тех угрозах и упреках, с которыми наше правительство вдруг обращалось к своим союзникам. Замкнутые во Франции, не зная решительно ничего из того, что происходило за ее пределами, не имея никаких сношений, по крайней мере духовных, с другими нациями, не доверяя статьям, написанным по приказу и помещенным в наших бесцветных газетах, мы, однако, могли иногда заключить из некоторых строчек «Монитора», что воля императора иной раз бывала нарушена ради потребностей народа. Император горько упрекал своего брата Луи в том, что тот слишком слабо исполняет его приказания в Голландии. Он отослал Луи туда, требуя, чтобы брат повиновался ему во всех мелочах.
«Голландия, – говорилось в «Мониторе», – после всех принятых мер не будет больше поддерживать сношений с Англией. Нужно, чтобы для английской торговли был закрыт весь континент и чтобы эти враги народов были поставлены вне законов. Существуют народы, которые могут только жаловаться; нужно уметь мужественно переносить страдания и принимать все меры, чтобы вредить общему врагу и заставить его признать принципы, которыми руководствуются все народы на континенте. Если бы Голландия приняла эти меры со времени блокады, то, может быть, Англия уже заключила бы мир».
В другой раз старались очернить в глазах всех то, что называли захватом нашей континентальной свободы. Английское правительство сравнивали за его политику с Маратом. «Что этот последний сделал самого ужасного? – говорилось в «Мониторе». – Дал миру зрелище беспрерывной войны. Олигархи, которые руководят английской политикой, кончат тем же, чем кончают все неистовые люди, фанатики. Они сделаются позором для своей страны и предметом ненависти других народов».
Когда император диктовал подобные оскорбления олигархического правительства, он знал, что льстит демократическим идеям, которые тайно существуют в народе. Пользуясь некоторыми из наших фраз революционной эпохи, он надеялся удовлетворить и те идеи, которыми они были внушены. Равенство, одно только равенство – вот тот лозунг, который сближал его с революцией. Он не боялся последствий этого равенства для себя; знал, что возбуждает тщеславие, которое может изменить самые благородные побуждения; он отворачивался от свободы, старался сбить с толку все партии, извращал все слова, запугивая умы. Его верховная власть давала ему громадную силу, но он поддерживал ее еще и с помощью софизмов и доказывал, что сознательно изменяет ход событий, направляемый развитием идей, причем пользовался силой слова для того, чтобы ввести нас в заблуждение.
Но что делает Бонапарта одним из самых выдающихся людей, которые когда-либо существовали, или что ставит его в особенное положение, выше всех могущественных людей, призванных править другими людьми, – это то, что он превосходно знал дух своего времени и всегда преодолевал его. Он добровольно избрал трудный путь, противный духу времени, и не скрывал этого; он часто говорил, что он один остановил революцию, соединился с нею, чтобы сдержать ее, а после него она будет продолжаться. Но Бонапарт слишком понадеялся на свою силу. Эта революция искусно сумела вернуть себе свои завоевания, победить и оттолкнуть его.
Англичане в это время были встревожены той угодливостью, с какой царь, скорее очарованный, чем убежденный, примкнул к системе, развиваемой императором; они внимательно следили за смутами, начинавшимися в Швеции, и были обеспокоены преданностью, которую выказывала по отношению к нам Дания и которая должна была привести к закрытию для нас пролива Зунд. Поэтому они вооружили большое число кораблей и соединили свои силы для того, чтобы бомбардировать Копенгаген; им удалось даже взять город. Наследный принц, сильный любовью своего народа, доблестно защищался и боролся с неприятелем даже и после того, как потерял свою столицу. Англичане вынуждены были ограничиться здесь, как и в других местах, общей блокадой континента. Тогда оппозиция в Англии заявила протест против этого похода. Император, который не имел понятия об английской конституции, льстил себя надеждой, что довольно бурные дебаты в парламенте принесут ему пользу. Не привыкший к оппозиции, он думал, что она так же опасна в Англии, как была бы опасна во Франции, если бы проявлялась с такой же резкостью, какую он замечал в лондонских газетах. Часто, читая с досадой резкие фразы в «Морнинг Кроникл», он думал, что английское правительство близко к падению, но всегда обманывался в своих надеждах.
Оппозиция гремела; заявления недовольства рассеивались как дым, и министры постоянно находили новые способы продолжать борьбу. Ничто не вызывало такого гнева у императора, как эти дебаты в парламенте и порожденные свободой печати резкие нападки на него. Напрасно он сам пользовался этой свободой, чтобы подкупать лондонских писателей, которые печатали так же безнаказанно то, что ему хотелось; эта чернильная война ни к чему не приводила: на оскорбления отвечали оскорблениями, которые доходили до Парижа. Их приходилось переводить и подавать ему; тот, кто подавал их императору, дрожал от страха; и разражался ли его гнев или он сдерживал его, – гнев казался одинаково страшным; горе тому, кому приходилось иметь с императором дело тотчас же после того, как он прочел английские газеты!
Мы всегда замечали это раздражение по некоторым признакам. Тогда приходилось особенно жалеть тех, кто должен был устраивать для него развлечения. Именно тогда и начиналось мучение для Ремюза. Я расскажу об этом подробнее, когда буду говорить о той жизни, какую он вел в Фонтенбло. Как только собрались все, кто участвовал в этой поездке, их познакомили со своего рода уставом, которому они должны были подчиняться. Вечера в разные дни недели следовало проводить у различных знатных лиц. Раз в неделю император принимал вечером у себя. На этих вечерах слушали музыку, а затем играли в карты. Два раза в неделю давали спектакли, один раз вечером устраивали бал у великой герцогини Бергской, затем один раз – бал у принцессы Боргезе, наконец, раут и игра в карты у императрицы. Принцы и министры должны были устраивать обеды и приглашать по очереди причисленных к свите лиц. Обер-гофмейстер также должен был давать каждый день обед на двадцать пять персон; то же было устроено и у статс-дамы; за третьим столом обедали те, кто не получил приглашения. Принцы и короли могли обедать у императора не иначе, как по приглашению: он сохранял за собой свободу обедать вдвоем с женой и приглашал того, кто ему нравился.
В определенные дни охотились, и точно так же получали приглашение участвовать в охоте верхом или в очень изящных колясках. Император хотел, чтобы у дам непременно были охотничьи костюмы. Императрица с готовностью согласилась на это. Знаменитый продавец модных костюмов Леруа был приглашен для совещания, и совместно выбрали самый роскошный костюм. У каждой принцессы был свой цвет для себя и для своего двора. Костюм императрицы был сделан из малинового бархата и вышит золотом, к нему надевался ток, вышитый золотом и украшенный белыми перьями; все придворные дамы были также в малиновых бархатных костюмах. Голландская королева выбрала голубой цвет с серебром, госпожа Мюрат – розовый, также с серебром, принцесса Боргезе – лиловый цвет, также с серебряной вышивкой. Костюм представлял собой нечто вроде короткой бархатной туники или короткого редингота, надетых на белое атласное платье с шитьем; к этому костюму надевались бархатные ботинки такого же цвета, как платье, и ток, кроме того – белый шарф. Император и все мужчины надевали зеленые костюмы с золотыми или серебренными галунами. Эти великолепные наряды очень эффектно смотрелись в прекрасных лесах Фонтенбло.
Император любил охоту не столько за удовольствие, которое она доставляла, сколько за то, что она заставляла его делать моцион. Он не всегда преследовал оленя по правилам охоты, но часто пускал лошадь в галоп и несся во весь опор по расстилавшейся перед ним дороге. Иногда он забывал о цели и, дав полную свободу своей лошади, ездил по извилистым лесным тропинкам, погруженный в свои мечты, что продолжалось довольно долго. Бонапарт привык ездить верхом, но у него не было грациозной посадки. Для него седлали арабских лошадей, которых он предпочитал, потому что они сразу останавливаются, и если он вдруг трогался с места не держа поводьев, то мог бы упасть без необходимых мер предосторожности. Он любил спускаться галопом с крутых склонов, отчего рисковали сломать себе шею те, кто за ним следовал. Несколько раз император падал с лошади, но об этом никогда не говорили, потому что это было бы ему неприятно.
Раньше он любил править сам – коляской или кабриолетом. Тогда он не мог быть уверен, что не вылетит из экипажа, потому что был неосторожен на поворотах и не объезжал трудных для проезда мест. Ему казалось, что он может преодолеть всякое препятствие, и ему было бы стыдно отступать. Однажды в Сен-Клу он вздумал править четверней с длинными вожжами и так неловко проехал в воротах, что лошади понесли и карета, в которой сидела императрица с другими лицами, опрокинулась; хорошо, что не случилось никакого несчастья. Сам Бонапарт отделался тем, что целых три недели ходил с вывихнутой кистью руки. С тех пор он перестал править сам и говорил со смехом, что каждый должен делать только свое дело, даже в мелочах. Хотя он и не выказывал особенного интереса к успеху охоты, но порядком ворчал, если не удавалось захватить оленя. Еще и сердился, если ему доказывали, что, изменив маршрут, он сам сбил с толку собак; малейший неуспех всегда удивлял и раздражал его.
Бонапарт много работал в Фонтенбло, так же, как и повсюду. Он вставал в семь часов, принимал разных лиц, завтракал один и в те дни, когда не было охоты, оставался в своем кабинете, где совещался до пяти или до шести часов. Министры и члены Государственного совета приезжали из Парижа, точно это было все равно, что приехать в Сен-Клу; император не очень принимал во внимание расстояние, и дошло до того, что он выразил желание, чтобы ему представлялись в воскресенье после обедни, как это делалось в Сен-Клу. Поэтому из Парижа выезжали ночью, чтобы прибыть в назначенный час в Фонтенбло. Приехавшие ждали императора в одной из галерей дворца, по которым он пробегал, если у него являлось такое желание; ему и в голову не приходило поблагодарить людей словом или хотя бы взглядом за то, что им пришлось терпеть различные неудобства во время подобного путешествия.
В то время как он проводил утро в кабинете, императрица, всегда изящно одетая, завтракала с дочерью и придворными дамами и затем оставалась в своем салоне, где принимала тех лиц, которые жили в замке. Те из нас, кто любил работать, могли заниматься какой-либо работой, и это было нелишним, так как помогало переносить скуку праздных и пустых разговоров. Императрица не любила оставаться одна, и у нее не возникало желания чем-нибудь заняться. В четыре часа все уходили от нее; она занималась тогда своим туалетом, а мы – нашим, и это всегда было важным делом. Многие из парижских купцов привозили в Фонтенбло свои лучшие товары и, появляясь в наших апартаментах, скоро распродавали их.
Между пятью и шестью часами император часто приходил в апартаменты своей жены и отправлялся вдвоем с ней в экипаже прокатиться перед обедом. Обедали в шесть часов, затем шли на спектакль или к тем лицам, которые должны были в этот вечер позаботиться об удовольствиях.
Принцы, маршалы, придворные чины или камергеры, которые имели право свободного входа к императору, могли являться и к императрице. Стучали в дверь, дежурный камергер докладывал, император говорил: «Пусть войдет!» – и тогда входили. Если это была дама, она садилась молча; если же мужчина, то он становился у стены позади тех лиц, которых уже заставал в салоне. Император обыкновенно ходил взад и вперед по комнате, иногда молча и задумавшись, не обращая внимания на окружающих; иногда он задавал вопросы, на некоторые получал краткие ответы или сам заводил разговор, причем говорил почти один, потому что как-то стеснялись отвечать ему, и в особенности в описываемое мною время. Он не умел и, кажется, не желал сделать так, чтобы все держали себя непринужденно, потому что боялся малейшей фамильярности и внушал каждому страх услышать от него при свидетелях что-нибудь нелюбезное. То же самое было и на раутах. Вокруг него скучали, и он сам скучал. Он часто жаловался на это, вменяя в вину каждому это тоскливое и принужденное молчание, которое сам вызвал. Иногда император говорил: «Странное дело, я собрал в Фонтенбло большое общество, я хотел, чтобы всем было весело, я устроил так, чтобы были всевозможные развлечения, – а у всех вытянутые лица, усталый и печальный вид». Талейран отвечал ему: «Это потому, что удовольствие нельзя создать по барабанному бою; а здесь, как и повсюду, у вас такой вид, как будто вы хотите сказать каждому из нас: «Ну, господа и дамы, вперед, марш!»» Император не рассердился на него за эти слова, – он был тогда в приподнятом настроении. Талейран проводил с ним долгие часы, и император позволял ему говорить все. Но в салоне, где было сорок человек, Талейран хранил такое же глубокое молчание, как и все остальные.
Из всех придворных заботы об удовольствиях императора, без сомнения, больше всего беспокоили Ремюза. Устройством празднеств и спектаклей заведовал обер-камергер, и Ремюза в качестве первого камергера должен был взять на себя весь этот труд. Это самое подходящее слово в данном случае, так как настойчивая и капризная воля Бонапарта делала занятие такого рода довольно трудным. «Я жалею вас, – говорил ему Талейран, – вам приходится забавлять того, кого ничем нельзя позабавить».
Император желал, чтобы спектакли давались два раза в неделю и всегда были разнообразными. Участвовали только артисты из «Комеди Франсез», иногда бывали представления итальянской оперы. Играли обыкновенно одни трагедии, чаще всего Корнеля, некоторые из пьес Расина и изредка Вольтера, пьесы которого Бонапарт не любил. Заранее одобрив репертуар, составленный для этой поездки, и объявив решительно, что он желает, чтобы в Фонтенбло были лучшие артисты труппы, император требовал вместе с тем, чтобы представления в Париже не прерывались; для этого были приняты необходимые меры.
И вдруг, скорее по капризу, чем по желанию, император нарушал порядок, который сам же одобрил, требовал другой пьесы или другого артиста, и притом утром, в тот самый день, когда надо было все это устроить. Он никогда не слушал никаких замечаний, чаще всего раздражался, и было счастьем, если он говорил, улыбаясь: «Ну вот еще! Если вы приложите немного труда, вам это удастся; я этого хочу, а вы должны найти способ это исполнить». Как только император произносил свое непреложное «я хочу», – слово это повторялось эхом по всему дворцу. Дюрок и особенно Савари произносили его таким же тоном; Ремюза повторял его всем актерам, старавшимся припомнить роль и сбитым с толку внезапной переменой. Курьеры скакали сломя голову, чтобы разыскать необходимых людей или необходимые предметы. День проходил в каком-то бессмысленном волнении из-за пустяков, в страхе из-за какого-нибудь случая или болезни, которые могли бы помешать исполнить данное приказание; а мой муж, заходя ко мне в комнату, чтобы отдохнуть на минуту, вздыхал, думая о том, почему разумный человек должен истощать свое терпение и тратить изобретательность своего ума на такие пустые вещи.
Нужно пожить при дворе, чтобы знать, до какой степени становятся важными самые незначительные мелочи и как неприятно переносить неудовольствие господина, даже в том случае, если дело касается пустяков. Короли любят выказывать это неудовольствие перед всеми, а выслушивать обвинение или резкие слова в присутствии стольких людей, которым служишь зрелищем, – просто невыносимо.
Наконец удавалось с большим трудом удовлетворить императора, но не нужно думать, что он когда-нибудь выражал это довольство. Самым красноречивым выражением удовольствия становилось его молчание, с чем надо было примириться. Часто он являлся на спектакль озабоченный, раздраженный чтением английских газет или утомленный охотой, задумывался или засыпал. При нем не аплодировали; представление без аплодисментов выглядело необыкновенно холодным. Двору страшно надоели эти вечные трагедии; молодые женщины засыпали, слушая их; после спектакля все расходились скучающие и недовольные. Император замечал это впечатление, раздражался, нападал на своего первого камергера, бранил артистов, требовал, чтобы нашли других, хотя у него были самые лучшие, и приказывал поставить в последующие дни другие пьесы, которые постигала почти такая же участь. Очень редко бывало иначе, и надо признаться, что все это было действительно неприятно. В день спектакля в Фонтенбло я всегда испытывала беспокойство, которое становилось для меня некоторого рода мучением, повторявшимся без конца; это, в сущности, невозможное дело связано было с важными последствиями, что делало его еще более тягостным.
Император любил игру Тальма. Он убеждал себя, что очень любит его; но мне кажется, ему скорее было только известно, что Тальма великий артист, а сам он не понимал этого. Ему недоставало образования, кроме того, он слишком был поглощен своим реальным положением, чтобы обращать внимание на то, что совершается в какой-либо пьесе, или на развитие вымышленной страсти. Порой Бонапарт казался растроганным какой-нибудь сценой или словом, сказанным так, что в нем слышался талант; но это волнение мешало остальному удовольствию, потому что ему хотелось, чтобы оно продолжалось, не утрачивая своей силы, и он уже не обращал никакого внимания на второстепенные или менее яркие впечатления, которые возникают благодаря красоте стиха или той гармонии, какую придает целой роли талант артиста.
В общем, Бонапарт находил наш французский театр холодным, наших артистов – слишком сдержанными и всегда ставил в вину другим то, что не мог получить никакого удовольствия там, где толпа находила развлечение. То же самое надо сказать и относительно музыки. Бонапарт мало понимал в искусствах, но, зная им цену благодаря своему уму, требовал от них большего, чем они могли дать, и жаловался, что неспособен почувствовать то, чего не понимает.
Ко двору были приглашены первые певцы Италии. Он щедро платил им и удовлетворял свое тщеславие тем, что отнимал их у других государей, но слушал их скучая и редко с интересом. Ремюза придумал оживить концерты тем, что вводил в них нечто вроде представлений, в которых исполнялись арии. Концерты давались иногда в театре. Они были составлены из лучших мест итальянских опер. Певцы исполняли их в костюмах и действительно играли; декорации представляли место действия. Все это было поставлено очень тщательно, но, как и все остальное, не производило должного впечатления.
Эти же рассеянность и неудовлетворенность, которые император проявлял повсюду, омрачали рауты и балы в Фонтенбло. Около восьми часов вечера весь двор в самых роскошных нарядах отправлялся к той из принцесс, которая принимала в этот день. Все становилось кругом и молча глядели друг на друга, ожидая их величеств. Императрица появлялась первая, с большой грацией обходила салон, затем садилась и, подобно всем другим, молча ждала появления императора. Наконец он входил и садился подле нее, смотрел, как танцуют, но в лице его не было ничего, что располагало бы к веселью, да его и не было на подобных собраниях. Во время контрдансов он прохаживался иногда между рядами дам и обращался к ним с ничего не значащими словами, которые большей частью оказывались не особенно деликатными шутками насчет их туалетов. Почти тотчас же он исчезал, и вскоре после его ухода все также расходились по своим апартаментам.
Во время поездки в Фонтенбло при дворе появилась очень красивая особа, которой император немного увлекся. Это была итальянка, которую Талейран увидел в Италии и уговорил императора устроить ее при императрице в качестве лектрисы; ее муж был назначен главным сборщиком налогов. Императрица, сначала немного испуганная появлением этой красавицы, скоро решившейся принимать участие в развлечениях, от которых ей невозможно было долго отказываться, и на этот раз закрыла глаза на то, что происходило. Эта лектриса скорей подчинялась, чем была довольна. Она уступила своему господину как бы по убеждению, что ему не следовало противиться; она не выставляла напоказ своего успеха и не предъявляла никаких претензий; она даже сумела сочетать в душе глубокую привязанность к госпоже Бонапарт с уступчивостью по отношению к прихоти ее мужа, благодаря чему приключение это произошло без шума и без огласки. Она была в то время самой заметной при дворе, где было немало красивых женщин. Я никогда не видела таких прекрасных глаз, таких тонких черт лица, такой гармонии во всей наружности. Она была высокого роста, изящно сложена, но ей не мешало бы быть немного полнее[161].
Император никогда не увлекался ею слишком сильно, он скоро признался в этом своей жене и успокоил ее, поведав ей тайну этой холодной связи. Он так устроил эту даму в Фонтенбло, что она могла являться к нему, как только он ее звал; сообщали друг другу по секрету, что вечером или она приходила к нему, или он шел в ее комнату; но на раутах он говорил с нею не больше, чем с другими, и двор не заметил никакой перемены. Талейрану, который первый внушил Бонапарту мысль выбрать ее в фаворитки, приходилось выслушивать откровенные признания последнего, говорившего ему о большем или меньшем удовольствии, какое она ему доставляла. И этим все кончалось.
Если бы какой-нибудь любопытный человек спросил у меня, случались ли, по примеру императора, другие связи во время безделья в подобном собрании, то я затруднилась бы ответить утвердительно. Служба императору требовала слишком большого подчинения, чтобы оставить мужчинам время для ухаживаний, а женщины слишком беспокоились о том, что он мог сказать им, а потому были осторожны. В этом собрании, таком холодном и таком корректном, никто никогда не осмеливался позволить себе ни одного слова, ни одного жеста, которые отличили бы его от других; поэтому не было заметно никакого кокетства, и всякие соглашения происходили в молчании и так быстро, что ускользали от постороннего взгляда. Женщин предохраняло еще и то, что мужчины нисколько не старались казаться любезными, они проявляли только желание победы и не теряли времени на настоящую любовь. Поэтому вокруг императора создавались только мимолетные связи, и было ясно, что обе стороны спешили порвать их.
Притом Бонапарт стремился к тому, чтобы его двор был серьезным, и ему казалось бы неприличным, если бы женщины возымели при дворе хоть малейшую власть. Он хотел оставить за собой право на полную свободу, терпел дурное поведение некоторых членов своей семьи, потому что видел невозможность запретить такое поведение и знал, что всякий шум придаст ему еще большую огласку. Та же самая причина заставила бы его скрыть недовольство, если бы его жена позволила себе какое-нибудь развлечение. Но в это время она, казалось, совсем не была расположена к этому. Я совершенно не знаю, что было у нее в душе, но всегда видела, что она почти исключительно занята была своим положением и боялась не угодить мужу. В императрице не было никакого кокетства. Она держала себя прилично и сдержанно, говорила с мужчинами только для того, чтобы узнать, что происходит; а развод, который висел у нее над головой, являлся предметом ее постоянных и самых тревожных забот.
В конце концов женщины при этом дворе были вполне правы, следя за своим поведением, потому что как только император узнавал о какой-нибудь интрижке (а он всегда узнавал), то потому ли, что это забавляло его, или по какой-либо другой причине, но он обыкновенно сообщал о ней мужу, хотя и запрещал ему поднимать шум и жаловаться. Таким образом, мы узнавали, что он сообщил С. о некоторых приключениях его жены и так строго приказал ему не проявлять своего гнева, что С., всегда подчиняющийся ему во всем, согласился быть обманутым и, частью из угождения, а частью по собственному желанию, кажется, кончил тем, что перестал верить и тому, что было известно всем.
Впрочем, во время этой поездки мы видели другую любовь, сначала довольно сильную. Жером, как я уже говорила, женился на принцессе Екатерине. Эта молодая особа очень привязалась к нему, и тотчас же после свадьбы он дал ей повод к сильной ревности. Юная принцесса Баденская была очень привлекательна и очень холодна по отношению к своему мужу, принцу. Кокетливая и немного легкомысленная, веселая и остроумная, она пользовалась громадным успехом. Жером влюбился в нее, и ее, по-видимому, забавляла эта страсть, она танцевала с ним на всех балах. Принцесса Екатерина, слишком располневшая, совсем не танцевала и сидела, грустно глядя на то, как веселились эти двое молодых людей, которые проходили взад и вперед мимо нее, не обращая внимания на ее печаль. Однажды вечером, когда эти близкие отношения стали уже очень заметны, мы вдруг увидели, как новая королева Вестфалии побледнела, расплакалась, склонилась на своем стуле и, наконец, совершенно лишилась чувств. Бал был прерван. Ее перенесли в соседний салон; императрица, в сопровождении некоторых из нас, поспешила ей на помощь; император обратился к своему брату с резкими словами и затем удалился.
Жером подошел к жене и, посадив ее к себе на колени, старался привести в чувство нежными ласками. Принцесса, придя в себя, все еще плакала и, казалось, не замечала тех, кто окружал ее. Я смотрела на нее молча, и меня охватило сильное волнение; я видела, что этот самый Жером, возведенный на трон благодаря обстоятельствам, совершенно не зависящим от его личных достоинств, сделался предметом страсти принцессы и, приобретя право быть любимым своей женой, пренебрегал теперь ею. Я не могу передать, что я испытывала, видя, как она фамильярно сидит у него на коленях и, склонив голову к нему на плечо, принимает его ласки.
Через несколько минут супруги удалились в свои апартаменты. На другой день Бонапарт приказал своей жене сделать строгий выговор его молодой племяннице, и мне также поручили образумить ее. Принцесса Баденская приняла меня очень любезно, внимательно слушала, как я доказывала ей, что она может скомпрометировать все свое будущее, что ее долг, так же как и ее интерес, требуют, чтобы она жила в согласии с принцем Баденским, что она должна жить не во Франции, а в другой стране, а в Германии ей могут поставить на вид легкомыслие, которое прощалось в Париже, и она должна стараться не давать повода к клевете, которую непременно будут распространять в обществе на ее счет. Принцесса Стефания призналась мне, что не раз упрекала себя за неосторожность в обращении, но в глубине души у нее только одно желание – развлекаться; что в конце концов она отлично поняла: вся ее жизнь зависит исключительно от того, что она – принцесса Баденская, и что при французском дворе с ней обращались уже не так, как прежде.
В самом деле, император, у которого уже не было прежнего расположения к ней, изменил весь церемониал; он позабыл о предписаниях, которые сам сделал относительно ее места во время свадьбы, перестал обращаться с ней как с приемной дочерью и оказывал ей только то внимание, какое следовало оказывать принцессе, принадлежащей к Рейнской конфедерации, а это ставило ее гораздо ниже королев и принцесс императорской фамилии. Наконец, она сознавала себя причиной беспокойства, а юный принц, не смея выказать своего неудовольствия, выражал его только тем, что был очень печален.
Наша долгая беседа и ее собственные размышления сильно подействовали на принцессу. Прощаясь, она поцеловала меня и сказала: «Вы будете довольны мною». В самом деле, вечером во время бала она подошла к своему мужу, ласково поговорила с ним и держала себя сдержанно, что было замечено всеми.
В этот же вечер она подошла ко мне и необыкновенно мило спросила, одобряю ли я ее поведение. Начиная с этого дня и до конца нашего пребывания в Фонтенбло, нельзя было сделать ни одного замечания на ее счет. Она не выразила никакого сожаления по поводу возвращения в Баден; там она вела себя очень хорошо. Позже у них родились дети, и она жила с принцем душа в душу много лет, завоевав любовь своих подданных.
Теперь она вдова, у нее две дочери, и ее очень уважают знать и русский император, который неоднократно выражал свою симпатию к ней. Что же касается Жерома, то он вскоре возвратился в свое Вестфальское королевство, где его поведение не раз заставляло принцессу Екатерину проливать слезы, которые, однако, не охладили ее привязанности, так как после революции 1814 года она продолжала делить с ним изгнание.
В то время как в замке Фонтенбло предавались удовольствиям, соблюдая при этом этикет, несчастная королева Голландии жила там настолько уединенно, насколько это было возможно; она невыносимо страдала от тяжелой беременности, постоянно вспоминала о сыне, беспокоилась за свое будущее, потеряла всякую надежду и жаждала только покоя. Именно в это время она часто говорила со слезами на глазах: «Если я еще дорожу жизнью, то лишь ради счастья моего брата. Когда я думаю о нем, то радуюсь нашему возвышению; но лично для меня это – мучение». Император относился к ней с уважением и любовью и именно ей поручал советовать императрице, когда находил это нужным.
Госпожа Бонапарт была дружна со своей дочерью, но они слишком мало походили одна на другую и не могли понять друг друга до конца. Гортензия испытала столько горя, что не могла вполне сочувствовать своей матери, беспокойство которой казалось ей легким по сравнению с тем, что пришлось перенести ей самой. Поэтому, когда императрица рассказывала ей о ссоре, произошедшей между ней и императором из-за каких-нибудь безумных трат, или о какой-нибудь мимолетной ревности, или даже о страхе перед разводом, дочь ее грустно улыбалась и отвечала на это: «Разве это горе?»
Император, который в глубине души, кажется, больше любил госпожу Луи Бонапарт, чем своего брата, однако не был чужд известного семейного духа, и если и вмешивался в ссоры этой супружеской четы, то с некоторой осторожностью. Он согласился на то, чтобы его невестка оставалась у него до тех пор, пока не родит, но всегда говорил о своем желании, чтобы она возвратилась в Голландию. Она уверяла его, что не хочет возвращаться в страну, где умер ее сын и где ее ожидают только огорчения. «Моя репутация запятнана, – говорила она императору, – мое здоровье потеряно, я уже не жду счастья в жизни; прогоните меня от вашего двора, если хотите, заприте меня в монастырь; я не желаю ни трона, ни богатства. Дайте покой моей матери, выдвиньте Евгения, как он того заслуживает, а мне позвольте жить в уединении и спокойно».
Когда голландская королева рассуждала таким образом, ей удавалось тронуть императора; он утешал ее, ободрял, обещал свою поддержку, говорил ей, что со временем все уладится, но не хотел и слышать о разводе между нею и Луи. Часто он подумывал о своем собственном разводе, но сознавал, что было бы что-то смешное в частом повторении одного и того же события в его семье. Госпожа Луи подчинялась и выжидала, твердо решившись не уступать и не идти на новое сближение, которого божась, да, кажется, и сам король не желал его. Раздраженный против своей жены более, чем когда бы то ни было, он любил ее не больше, чем она его, и громко осуждал ее в Голландии, так как ему хотелось разыграть роль жертвы. И многие верили этому, – королям нетрудно найти легковерные уши. Верно одно: и муж, и жена были очень несчастны; но мне кажется, что Луи страдал бы повсюду из-за своего собственного характера, тогда как в характере Гортензии было много того, что могло бы сделать жизнь спокойной и ясной, так как в ней не было ни малейшего признака какой бы то ни было страсти: ее сердце и ум склоняли ее к глубокому спокойствию.
Великая герцогиня Бергская старалась быть любезной со всеми, кто жил в Фонтенбло. У нее был довольно веселый характер, и порой она умела казаться добродушной. Герцогиня жила в замке на свой собственный счет, довольно роскошно, и у нее всегда был богатый стол. Все подавали на позолоченной посуде, чего не было даже у императора. Герцогиня приглашала всех обитателей дворца, принимала очень любезно даже тех, кого не любила, и, казалось, думала только об удовольствии, однако на самом деле не теряла времени даром. Как я уже упоминала, она часто виделась в это время с австрийским посланником Меттернихом. Меттерних был молод и красив; казалось, он обратил внимание на сестру императора. Она сейчас же это заметила и с тех пор из кокетства или, вернее, из тщеславия, соединенного с предусмотрительностью, начала принимать ухаживание министра, который, как говорили, пользовался влиянием при дворе и впоследствии мог быть ей полезен. Была ли у нее заранее такая мысль или нет, но она воспользовалась этой поддержкой.
Кроме того, сознавая влияние Талейрана, она старалась сблизиться с ним, скрывая, насколько возможно, свои сношения с Фуше, который виделся с ней с большими предосторожностями. Мы видели, как она прельщала Талейрана в салоне Фонтенбло, говорила с ним больше, чем с другими, улыбалась его остроумным замечаниям, смотрела на него, когда могла сказать что-нибудь такое, что не осталось бы незамеченным.
Талейран стал, со своей стороны, искать сближения. Тогда беседы сделались несколько более серьезными. Госпожа Мюрат не скрыла от Талейрана, что видит в себе силу держать в руках скипетр; она упрекала Талейрана в том, что он мешал этому. Талейран возражал ей, что у Мюрата нет достаточной широты ума, он шутил на его счет, и эти шутки не были встречены враждебно. Напротив, принцесса охотно отдавала своего мужа на посмеяние, но говорила, что не взвалила бы на него одного бремя власти. Мне кажется, мало-помалу она добилась того, что Талейран, до известной степени очарованный ею, стал относиться к ней менее враждебно.
В то же самое время она была очень ласкова с Маре, который в тяжеловесных выражениях твердил императору о замечательном уме его сестры. Император сам был о ней довольно высокого мнения, и это мнение подкреплялось еще целым рядом похвал, а эти похвалы, как он хорошо знал, произносили люди, которые не могли сговориться между собой. Он стал относиться к сестре с большим уважением. Мюрат, который терял от этого, иногда оскорблялся и жаловался; тогда происходили семейные сцены, в которых муж желал вернуть свои права и свое положение. Он дурно обращался с принцессой, и это немного пугало ее; наконец, отчасти хитростью, отчасти угрозами, то ласковая, то надменная, умея очень искусно показать себя покорной женой или сестрой, она сбивала своего мужа с толку, возвращала себе прежнее влияние и доказывала Мюрату, что своим поведением приносит пользу ему самому. Кажется, такие же бури происходили и тогда, когда она жила в Неаполе, и тщеславный Мюрат иногда относился к ней с недоверием, от которого страдал сам; но все согласны в том, что если он делал ошибки, то именно тогда, когда переставал слушаться ее советов.
Я уже говорила о том, что во время этой поездки при дворе блистали иностранцы. С князем-примасом можно было кое о чем поговорить. Он был вежлив, остроумен и любил вспоминать дни своей юности, связи в Париже со всеми представителями литературы того времени. Великий герцог Вюрцбургский, который оставался в Фонтенбло, все время был очень добродушен, и каждый чувствовал себя с ним очень хорошо. Он страстно любил музыку; у него был голос соборного певчего, но когда ему давали какую-нибудь партию в какой-либо музыкальной пьесе, никто не решался улыбнуться, чтобы не испортить его удовольствия.
Кроме этих двух лиц, больше всего проявляли внимания к двум принцам Мекленбургским. Оба они были молоды, очень вежливы и даже чересчур предупредительны по отношению ко всем. Император открыто симпатизировал им. Великолепие его двора ослепляло их, и, покоренные его могуществом и поражавшей их роскошью, которую выставляли напоказ, они беспрестанно восхищались и уделяли внимание всем, до последнего камергера включительно. Карл Мекленбург-Стрелицкий, сводный брат прусской королевы, глуховатый молодой человек, с трудом выражал свои мысли; но Фридрих Людвиг Мекленбург-Шверинский, также молодой и довольно красивый, выказывал постоянную любезность. Он приехал, чтобы добиться ухода французских гарнизонов, которые занимали его государство, и император утешал его обещаниями; принц выражал свои желания императрице, которая принимала его очень любезно. Постоянная приветливость, которой она отличалась, ее милое лицо, прекрасная фигура, изящество всего ее существа произвели впечатление на принца. Заметили или предположили, что он несколько увлекся нашей государыней. Она смеялась над этими предположениями, и они немного забавляли ее.
Бонапарт сначала тоже смеялся, а позднее стал раздражаться. Это случилось после его возвращения из небольшого путешествия в Италию, которое он совершил в конце осени. Несомненно, к концу пребывания обоих принцев в Париже с ними стали обращаться хуже. Не думаю, чтобы Бонапарт серьезно беспокоился, но он не желал быть предметом ни малейших насмешек. Принц, вероятно, не забыл императрицу, так как она рассказывала мне, что во время развода император предложил ей выйти замуж за принца Мекленбургского, если она того желает, а она отказалась. Я не помню хорошенько, говорила ли она мне, что принц писал ей, предлагая свою руку.
Принцы, как и множество других, менее значительных лиц, не обедали за столом императора ежедневно. Их приглашали, когда это было ему угодно; в другие дни они обедали у королевы, министров, обер-гофмейстера или у статс-дамы. У госпожи де Ларошфуко были большие апартаменты, где собирались все иностранцы. Она принимала весьма любезно, и у нее довольно приятно проводили время.
Мы в целом представляли собой странное зрелище. При дворе встречаешь самых выдающихся людей из самого высшего общества, предполагаешь, что у каждого из них существуют серьезные интересы, и, однако, молчание, требуемое обычаем и осторожностью, заставляет всех держаться в пределах самых незначительных разговоров; часто вельможи и принцы, не решаясь казаться взрослыми людьми, держат себя словно дети. Об этом приходилось размышлять в Фонтенбло чаще, чем где бы то ни было. Всех этих иностранных принцев заставляла приезжать ко двору необходимость. Все они были более или менее побежденными или лишенными трона и появлялись, чтобы просить милости или справедливости; находясь в каком-нибудь углу салона и зная, что решается их участь, они притворялись веселыми и беззаботными, отправлялись на охоту и делали все, чего от них требовали; а за неимением лучшего и для того, чтобы не смущать их и не отвечать им, от них требовали, чтобы они танцевали, играли в жмурки и т. п.
Как часто приходилось мне в салоне госпожи де Ларошфуко играть по ее просьбе итальянские танцы, которые входили в моду благодаря присутствию красивой итальянки, о которой я рассказывала выше! Я видела, как вокруг меня танцуют вперемешку принцы, курфюрсты, маршалы или камергеры, победители или побежденные, дворяне или буржуа. Я часто серьезно думала про себя о том, что видела перед собой, но не решилась бы рассказать кому-либо или посмеяться над своими сотоварищами. «Вот наука придворных! – сказал Сюлли. – Они, надев на себя самые грубые маски, сговорились между собою, что не будут казаться смешными друг другу». Он сказал также: «Истинно великий человек умеет быть поочередно, в зависимости от обстоятельств, всем, чем нужно быть: господином или равным, королем или гражданином. Он ничего не теряет, понижаясь таким образом в известном обществе, лишь бы он оставался, несмотря на это, одинаково способным к политическим и к военным делам; придворный всегда помнит о своем господине».
Император не имел никакого желания согласиться с этой истиной и по расчету, так же, как и по собственной склонности, никогда не освобождался от своего королевского величия. Может быть, вообще узурпатор не сумел бы сделать этого так безнаказанно, как кто-нибудь другой.
Когда наступало время прекратить детские игры, чтобы явиться к императору, непринужденность сбегала со всех лиц. Снова становясь серьезными, все направлялись, медленно и церемонно, к парадным апартаментам. Входили и здоровались в передней императрицы. Один из камергеров докладывал. Через некоторое время принимали, иногда тех, кто должен был явиться, а иногда и всех. Выстраивались в молчании, как я говорила раньше, выслушивали бесцветные немногие слова, с которыми император обращался ко всем. Заскучав так же, как и мы, он приказывал поставить столы для игры в карты; все рассаживались для приличия, и вскоре после этого император исчезал. Почти каждый вечер он звал к себе Талейрана и засиживался с ним до поздней ночи.
Предметом их бесед в такое время было положение Европы, да и в другое время обыкновенно говорили о том же. Поход англичан в Данию сильно раздражал императора. Невозможность помочь этому союзнику, пожар в датском флоте, блокада, которую повсюду устанавливали английские суда, – все это побуждало его искать, со своей стороны, способ вредить им, и он требовал, строже, чем когда бы то ни было, чтобы его союзники жертвовали собою, чтобы мстить его врагам.
Русский император, который сделал несколько попыток к установлению всеобщего мира, встретил враждебное отношение со стороны английских министров и всецело предался интересам Бонапарта. Двадцать шестого октября он издал манифест, в котором объявлялось, что он прерывает всякие сношения с Англией до того момента, пока не заключит с нами мир. Вскоре после этого в Фонтенбло приехал его посланник граф Толстой; он был встречен с большими почестями и причислен к свите.
В начале этого месяца произошел разрыв между нами и Португалией. Принц Жуан, регент этого королевства[162], не подчинился континентальной системе, которая оказалась слишком тяжела для народа. Бонапарт рассердился. В наших газетах появились резкие статьи против Брагантского дома, посланники были отозваны; наша армия вступила в Испанию, чтобы направиться к Лиссабону. Командование армией было поручено Жюно. Несколько позднее, то есть в ноябре, принц-регент решился эмигрировать из Европы и царствовать в Бразилии, так как видел, что не может дать отпора подобному нашествию. Он сел на корабль 29 ноября.
Испанское правительство не протестовало против того, что французские войска проходили через его территорию. Тогда начались бесконечные интриги между дворами Мадрида и Франции. С давних пор велась вражда между князем Мира[163] и Мюратом. Этот князь, имевший безграничное влияние на своего короля, был заклятым врагом наследника престола, инфанта Фердинанда; он перешел на сторону Бонапарта и ревностно служил ему. Князь постоянно обещал Мюрату исполнять все то, чего тот потребует, а Мюрат обещал ему за это корону, какое-то королевство Альгарвию (южная провинция Португалии. – Прим. ред.) и сильную поддержку с нашей стороны.
Множество интриганов, частью французов, частью испанцев, вмешивалось во все это. Они обманывали Бонапарта и Мюрата относительно истинного настроения умов в Испании и тщательно скрывали, насколько там ненавидят князя Мира. Французы посчитали себя хозяевами страны и по этой причине впали в заблуждение, за которое им пришлось поплатиться.
Относительно этих дел император не всегда советовался с Талейраном или же не всегда доверял ему. А между тем последний, лучше осведомленный, чем Мюрат, часто говорил императору о настоящем положении вещей; но его подозревали в зависти по отношению к князю Бергскому. Мюрат утверждал, что Талейран, только желая повредить ему, сомневался в успехе, за который ручался князь Мира, а Бонапарт давал себя опутывать подобными интригами.
Говорили, что князь Мира делал Мюрату громадные подарки, что Мюрат надеялся получить испанский трон, после того как ему удастся обмануть испанского министра, вызвать разрыв между испанским королем и его сыном и, наконец, довести дело до желанной революции. Ослепленный этой перспективой, он нисколько не сомневался в том, что ему сообщали, чтобы угодить его страстному желанию.
Случилось так, что в Мадриде неожиданно составился заговор против короля. В донесениях королю указывалось, что в него сумели вовлечь и принца Фердинанда. Соответствовало ли это действительности или интриговали против молодого принца, но все это было обнародовано тотчас же после открытия заговора и произвело большой шум. Испанский король отдал сына под суд; затем он был обезоружен извинительными письмами, которые инфант написал из страха, письмами, которые открывали его вину, действительную или воображаемую, и двор пребывал в ужасном волнении. Король был чрезвычайно слаб и совершенно запуган своим министром, который руководил королевой со всей властью господина и прежнего любовника. Королева ненавидела своего сына, которого народ любил, прежде всего благодаря ненависти, вызываемой князем Мира.
Все это благоприятствовало политике императора и льстило его надеждам. К этому надо прибавить и состояние самой страны: незначительность вырождающейся аристократии, невежество народа, влияние духовенства, тьма суеверия, жалкое положение финансов, влияние, какое желало оказывать английское правительство, занятие Португалии французскими войсками, – и тогда станет ясно, что подобное положение угрожало беспорядками в будущем.
Я часто слышала, как Талейран говорил Ремюза о положении дел в Испании. Однажды, беседуя с нами об утверждении династии Бонапартов, он сказал: «Для нас плохим соседом является принц из дома Бурбонов, и я не думаю, чтобы Бонапарт мог это так оставить». Но в это время, в 1807 году, Талейран считал, что не следует вести интриги с помощью такого незначительного человека, каким был князь Мира, а надо изгнать его и тем привлечь к себе нацию. Если же король не согласится на это, надо воевать с ним, идти против него ради его народа и в зависимости от текущих событий или совершенно лишить престола всю династию Бурбонов, или же скомпрометировать ее в пользу Бонапарта, женив принца Фердинанда на какой-нибудь из принцесс императорской фамилии. Талейран склонялся в пользу этого последнего мнения и, надо отдать ему справедливость, предсказывал Бонапарту, что из всего другого выйдут только затруднения.
Одним из главных недостатков ума Бонапарта – кажется, я уже говорила об этом раньше, – было то, что он совершенно не понимал людей, меряя всех по своему шаблону, и не верил в те различия характеров, которые создаются нравами и обычаями. Он судил об испанцах как о всякой другой нации. Зная, что во Франции развитие неверия привело к равнодушию по отношению к духовенству, он воображал, что если за Пиренеями говорили языком философии, который предшествовал Французской революции, то среди испанцев произойдет то же движение, что и среди французов. «Когда я начертаю на своем знамени, – говорил он, – слова: «свобода», «долой суеверия», «уничтожение дворянства», меня встретят так же, как встречали в Италии, и все истинно национальные классы общества будут на моей стороне. Я выведу из состояния инерции этот некогда благородный народ, я покажу испанцам успехи промышленности, которые умножат их богатства, и вы увидите, что на меня будут смотреть как на освободителя Испании». Мюрат передал некоторые из этих выражений князю Мира, который продолжал уверять, что подобный результат в самом деле возможен. Талейран говорил напрасно, – его не слушали. Это был первый удар, нанесенный его влиянию, который поколебал его, пока незаметно, но этим тотчас же воспользовались его враги. Маре старался говорить то же, что Мюрат, видя, что это льстит императору. Министр иностранных дел, недовольный тем, что на его долю оставалась деятельность, лучшая часть которой была отнята Талейраном, считал необходимым держаться другого мнения, чем бывший министр. Император, введенный таким образом в заблуждение, дал себя обмануть и через несколько месяцев пустился в это несчастное и обманчивое предприятие.
Живя в Фонтенбло, я стала гораздо чаще видеться с Талейраном. Он приходил в мою комнату, его забавляли мои замечания относительно нашего двора, и он делился со мной своими собственными, которые были очень насмешливы. Иногда наши беседы принимали серьезный характер. Талейран приходил усталый или даже недовольный императором, тогда он становился откровеннее и говорил о его более или менее скрытых недостатках, и, когда он просвещал меня, сообщая эти роковые для меня сведения, мои все еще колеблющиеся взгляды становились более определенными, и я сильно страдала.
Однажды вечером, когда он был откровеннее, чем обыкновенно, Талейран рассказал мне несколько анекдотов, которые я передала в этих тетрадях; в них он особенно подчеркивал то, что называл плутовством нашего господина, изображая его неспособным к каким бы то ни было благородным чувствам. Талейран был поражен тем, что слушая его, я проливала слезы.
– Что же это? – сказал он. – Что с вами?
– А это то, – отвечала я, – что вы причиняете мне истинное страдание. Вам, политикам, не нужно любить тех, кому вы желаете служить; но что должна делать я, несчастная женщина, если ваши рассказы вызывают во мне отвращение, и что со мной будет, если мне придется остаться на своем месте, не имея возможности сохранить прежние иллюзии?
– Какой же вы ребенок! – сказал Талейран. – Вы желаете непременно отдаваться всем сердцем тому, что делаете! Послушайте меня, не компрометируйте себя привязанностью к этому человеку, но знайте, что при всех своих недостатках этот человек теперь еще очень нужен Франции, которую он сумеет поддержать, и что каждый из нас должен заботиться о том же, по мере своих сил. Однако если он будет слушать те советы, которые ему дают теперь, – я не смогу ни за что отвечать. Прекрасная политика для императора – явиться в страну, имея близкую связь с министром, которого ненавидят! Я хорошо знаю, что он обманывает этого министра и избавится от него тотчас же, как только заметит, что с ним нечего делать; но он мог бы избегнуть этой гнусной измены. Император не желает видеть, что был призван своей судьбой быть всегда и повсюду господином народов, автором всевозможных полезных нововведений. Вернуть Франции религию, нравственность и порядок, приветствовать цивилизацию в Англии, сдерживая свою политику, укрепить свои границы посредством Рейнской конфедерации, сделать из Италии королевство, независимое и от Австрии, и от него самого, держать царя взаперти в его стране, создав естественную преграду из Польши, – вот в чем должны были бы всегда состоять планы императора, и именно к этому и направлялись все заключенные мной договоры. Но честолюбие, гнев, гордость и некоторые глупцы, которых он слушает, часто ослепляют его. Он становится подозрительным, как только я говорю об умеренности, а если он перестанет верить мне, то когда-нибудь вы увидите, какими неосторожными глупостями он скомпрометирует и себя, и нас. Однако я буду следить за этим до конца. Я дорожу его властью; я хотел бы, чтобы это был мой последний труд; и до тех пор, пока я буду ясно видеть какой-либо успех моего плана, я не откажусь от него.
Доверие, с которым начинал относиться ко мне Талейран, очень льстило мне. Вскоре он должен был убедиться в том, что не ошибся, питая ко мне доверие, и что благодаря моей склонности и моим привычкам наша дружба сделается прочной.
Таким образом, мне удалось доставить ему удовольствие высказываться без всякого беспокойства и только тогда, когда он сам желал этого, так как я никогда не вызывала его на откровенность и останавливалась на том, на чем он сам хотел остановиться. Так как Талейран наделен был очень тонким тактом и вскоре понял мою сдержанность и мое молчание, то это стало новым связующим звеном между нами.
По мере того как Талейран стал относиться ко мне лучше, я держала себя с ним непринужденнее и становилась сама собой; маленькое предубеждение, о котором я говорила выше, исчезло, и я отдавалась удовольствию, которое имело для меня тем больше цены, что я находила его в стенах дворца, где заботы, страх и посредственность соединились, чтобы уничтожить всякую близость между людьми, которые жили в нем.
В конце концов, эта близость была для нас очень полезна в то время. Талейран, как я уже говорила, рассказывал о нас императору и убедил его в том, что мы можем держать открытый дом и принимать достойным образом иностранцев, которые, конечно, будут наводнять Париж. Тогда император решил дать нам возможность устроиться в Париже блестящим образом. Он увеличил жалованье Ремюза с условием, что по возвращении в Париж тот будет жить открыто. Он назначил его директором императорских театров. Талейрану было поручено объявить нам об этих милостях, и я была очень счастлива, что мы обязаны этим ему. Вскоре мы начали выслушивать много любезностей и испытали первое и единственное удовольствие придворной жизни – приобрели некоторое значение.
Среди всего этого император не переставал работать и почти ежедневно издавал декреты. В числе этих декретов были и полезные; так, например, он увеличил количество вспомогательных отделений в департаментах, стал больше платить священникам, восстановил общины сестер милосердия. Он заставил Сенат издать постановление, в силу которого судьи были объявлены несменяемыми по истечении пяти лет. Император старался покровительствовать малейшим проявлениям таланта, особенно если они были направлены к его прославлению. В Опере давали «Триумф Траяна»; либретто этой оперы было написано Эсменаром, который получил вознаграждение и в качестве композитора. Сюжет этой оперы касался в том числе момента, когда Траян сжигает собственноручно бумаги, в которых заключается тайна одного заговора. Это напоминало то, что сделал Наполеон в Берлине. Сам триумф был представлен с большой роскошью, декорации были превосходные; триумфатор появлялся на колеснице, запряженной четырьмя белыми конями. Весь Париж сбежался на этот спектакль; аплодировали очень много, и это привело в восторг императора.
Вскоре после этого поставили оперу Жуй «Весталка», музыка Спонтини. Это произведение с прекрасно составленным либретто было замечательно с музыкальной точки зрения и также изображало триумф, который хорошо удался; авторы этой оперы тоже получили награду.
Во время пребывания в Фонтенбло император назначил Коленкура посланником в Петербург. Ему очень трудно было уговорить Коленкура принять это назначение; последнему тяжело было расставаться с госпожой К., которую он любил (я о ней рассказывала), и бедняга решительно отказывался. Но Бонапарту удалось уговорить его при помощи ласковых слов и обещания, что эта почетная ссылка продлится не более двух лет.
Новому посланнику была ассигнована громадная сумма на расходы по устройству. Он должен был получать от семисот до восьмисот тысяч франков содержания. Император требовал, чтобы он затмил своей роскошью всех других посланников. По приезде в Петербург Коленкур встретился на первых порах с большими затруднениями. Преступление – смерть герцога Энгиенского – горело на его лбу. Императрица-мать не пожелала видеть его; многие дамы не обращали внимания на его ухаживания. Царь принял его хорошо, мало-помалу стал относиться к нему с симпатией, а впоследствии – и с самым дружеским чувством; по его примеру другие также стали относиться к Коленкуру не так строго, как прежде. Когда император узнал, что подобное воспоминание повлияло на положение посланника, он был очень удивлен. «Странно, – говорил он, – неужели еще помнят эту старую историю?»
Эти слова вырывались у него каждый раз, когда он видел, что ее действительно не забыли, – а это случалось много раз. Часто он прибавлял: «Какое ребячество! Однако то, что совершилось, – совершилось»[164].
Принц Евгений был государственным обер-канцлером. Талейран, которому поручили заменить его во всех функциях, связанных с этим местом, собрал вокруг себя довольно большое число маршалов и генералов, готовых создавать состояния, которые казались громадными. Действительно, некоторые получали значительные доходы, становились владельцами крупных имений в Польше, Ганновере или Вестфалии. Но были и серьезные затруднения в получении контрибуций. Покоренные страны неохотно отдавали их. Посылали поверенных, которые встречали большие трудности. Приходилось соглашаться на мировые сделки и довольствоваться частью обещанной суммы. Между тем желание угодить императору, любовь к роскоши и неосторожная доверчивость по отношению к будущему приводили к тому, что многие увеличивали свои расходы за счет предполагаемых и ожидаемых доходов. Долги росли; стесненное положение пробивалось сквозь это мнимое богатство; общество предполагало громадные состояния там, где видело чрезвычайную роскошь, но в основе всего этого не было ничего верного, реального. Мы постоянно видели, как большинство маршалов, теснимых кредиторами, являются к императору просить помощи и он дает ее в зависимости от собственной фантазии или из желания привязать к себе кого-нибудь из них. Требования были громадные, и, быть может, желание удовлетворить их могло служить одной из причин последующих войн.
Маршал Ней купил дом; покупка и обстановка стоили ему больше миллиона, и он часто жаловался на то, в какое стесненное положение поставлен такими затратами. То же самое произошло и с маршалом Даву. Император приказал им всем купить дома, что потребовало огромных расходов. Богатые ткани, дорогая мебель украшали эти жилища, посуда на столах блестела, жены сверкали драгоценными камнями; экипажи, туалеты – все соответствовало одно другому. Это великолепие нравилось Бонапарту, удовлетворяло маршалов, ослепляло всех, увеличивало зависимость и как нельзя лучше соответствовало намерениям того, кто был виновником всего этого.
Старое французское дворянство жило скромно, не чувствуя себя ни к чему обязанным, с гордостью говорило о своей крайней бедности, мало-помалу возвращало себе свои имения и восстанавливало те состояния, какие мы видим у него теперь. Я вспоминаю, что Годен, министр финансов, рассказывал однажды при мне, как император спросил его, на каком классе во Франции лежит больше всего долгов; министр ответил, что по-прежнему на старом дворянстве. Бонапарт был этим как будто испуган и сказал ему: «Но ведь этого следовало бы остерегаться».
Во время Империи создавалось довольно большое количество средних состояний; многие, особенно военные, у которых раньше ничего не было, имели теперь десять, пятнадцать или двадцать тысяч ливров годового дохода, так как те, кто оставались подальше от глаз императора, могли жить по своему собственному вкусу и внести порядок в свои денежные дела.
И моя семья в это время получила некоторую долю милостей императора. Мой зять, генерал Нансути, был удостоен ленты Почетного легиона. Прежде он был обер-камергером императрицы, а сейчас был назначен обер-шталмей-стером и заменил Коленкура в его отсутствие. Он получил имение в Ганновере, которое было оценено на бумаге в тридцать тысяч франков, и сто тысяч франков на покупку дома.
Глава XXVII 1807–1808 годы
Проект развода
Мне казалось необходимым сделать отдельную главу из всего того, что происходило в это время в Фонтенбло в связи с вопросом о разводе. В течение последних лет император напоминал своей жене об этом намерении только в такое время, когда был с нею в ссоре, а это происходило редко, благодаря ловкости и сдержанности императрицы. Но весьма вероятно, что его никогда не покидала мысль прибегнуть когда-нибудь к этой крайней мере. Смерть старшего сына Луи поразила его; а между тем победы Бонапарта, увеличивая его могущество, содействовали развитию в нем идеи власти; из политических расчетов, так же, как и из тщеславия, ему выгодно было заключить союз с каким-нибудь из государей Европы.
Сначала распространились слухи, что Наполеон имеет виды на дочь саксонского короля, но брак с этой принцессой (Марией-Августой) не мог доставить ему таких родственных связей, которые увеличили бы его власть на континенте. Саксонский король царствовал только потому, что его уполномочила на это Франция. Притом его дочери было по меньшей мере лет тридцать, и она была совсем не красива. Бонапарт, по возвращении из Тильзита, говорил о ней своей жене в таком тоне, что это должно было совершенно успокоить последнюю. Тильзитское свидание могло до известной степени возбудить гордость Наполеона. Склонность, которую почувствовал к нему молодой царь, согласие его с некоторыми планами императора, в особенности с раздроблением Испании, его внимательное отношение к желаниям своего нового союзника – все это могло содействовать тому, что в голове императора зародились планы более тесного сближения. Несомненно, он открылся Талейрану, но я не думаю, чтобы об этом было хоть что-нибудь сообщено царю. И все планы откладывались до более или менее отдаленного будущего, в зависимости от обстоятельств.
Император возвратился во Францию. Сблизившись с женой, он испытывал некоторого рода привязанность, которую она ему действительно внушала. Это чувство порой стесняло его, и он испытывал какую-то неловкость в тех случаях, когда сильно огорчал ее.
Однажды, говоря с императрицей о размолвках между голландским королем и его женой, о смерти маленького Наполеона и о слабом здоровье единственного их сына, оставшегося в живых, Бонапарт сообщил ей о том, что, может быть, ему придется когда-нибудь найти жену, которая даст ему детей. Сообщая об этом плане, он испытывал некоторое волнение и прибавил: «Если бы что-нибудь подобное случилось, Жозефина, ты должна была бы помочь мне принести эту жертву. Я рассчитывал бы на твою любовь, чтобы спасти меня от всего ужаса этого вынужденного разрыва. Ты возьмешь на себя инициативу, не правда ли, и, входя в мое положение, будешь мужественна и решишься удалиться?»
Императрица слишком хорошо знала характер своего мужа, чтобы каким-нибудь неосторожным словом заранее облегчить ему поступок, которого она всеми силами старалась не допустить. Поэтому во время всего разговора не давая ему никакой надежды на то, что постарается смягчить подобный удар своим поведением, она уверила его, что исполнит его приказание, но никогда не возьмет на себя инициативу. Императрица ответила тем спокойным, полным достоинства тоном, который она как нельзя лучше умела сохранить, говоря с Бонапартом, и который производил на него известное впечатление.
«Ваше величество, – сказала она (надо заметить, что с тех пор, как он стал царствовать, она привыкла говорить с ним даже с глазу на глаз в церемонных выражениях), – вы – господин, и вы решаете мою судьбу. Когда вы прикажете мне покинуть Тюильри, – я немедленно исполню ваше приказание, но только в том случае, если вы мне решительно прикажете сделать это. Я ваша жена, я была коронована вами в присутствии папы; это такие почести, с которыми не расстаются по собственной воле. Если вы разведетесь со мной, вся Франция узнает, что меня прогнали, ей будут известны как мое повиновение, так и мое глубокое горе». Подобный ответ, не оскорбляя императора, даже как будто тронул его; возвращаясь неоднократно к этому вопросу, он часто проливал слезы и казался действительно взволнованным противоречивыми чувствами.
Госпожа Бонапарт, которая так умела владеть собой в его присутствии, рассказывая все это мне, выказывала сильное беспокойство. Порой она горько плакала, в иные минуты возмущалась неблагородством такого поступка. Императрица вспоминала, что, когда она вышла замуж за Бонапарта, он считал этот союз большой честью для себя, и находила, что поистине ужасно отталкивать ее ради возвышения после того, как она согласилась разделить с ним его скромную участь.
Иногда воображение доводило ее до того, что она выражала опасения за свою жизнь. «Я никогда не уступлю ему, – говорила она. – Конечно, я буду держать себя как его жертва, но если я буду слишком стеснять его, кто знает, на что он способен и устоит ли он против желания отделаться от меня?» Я всячески старалась охладить ее разгоряченное воображение, которое, конечно, увлекало ее слишком далеко. Хотя я знала, что Бонапарт никогда не останавливался перед политической необходимостью, я совсем не думаю, чтобы он был способен на те ужасные планы, в которых она тогда его подозревала. Но он так поступал в некоторых случаях и столь часто использовал такие слова, что это могло дать повод и к подобным предположениям; и хотя я, положа руку на сердце, заявлю, что в глубине своей совести не могла допустить, чтобы он когда-нибудь решился на подобный способ выйти из затруднения, но, видя сильное беспокойство императрицы, сумела ответить только: «Поверьте, ваше величество, что он неспособен дойти до этого».
Я удивлялась в душе, что женщина, настолько разочаровавшаяся в своем муже, снедаемая ужасным подозрением, потерявшая всякое чувство любви, довольно равнодушная к славе, могла так сильно дорожить радостями такого непрочного трона. Но видя, что ничто не может отвратить ее от этого, я по-прежнему довольствовалась тем, что советовала ей хранить глубокое молчание и держать себя в присутствии императора спокойно, с грустным, но решительным видом, так как это было единственным способом не допустить грозы или отдалить ее наступление. Бонапарт знал, что жена его всеми любима; с каждым днем общественное мнение становилось все враждебнее к нему, и он боялся еще больше вооружить его против себя.
Императрица, рассказывая о своем горе дочери, как я уже говорила, не встречала в ней человека, способного понять ее. Со времени смерти сына голландская королева еще больше, чем прежде, удивлялась страданиям своей матери; постоянным ее ответом были слова: «Как можно жалеть о потере трона?» Госпожа де Ларошфуко, с которой госпожа Бонапарт также вела откровенные беседы, была, как я говорила, несколько легкомысленна и ко всему относилась легко. Поэтому вся тяжесть признаний императрицы падала на меня. Император догадывался об этом и в то время, о котором я говорю, не ставил мне этого в вину. Я знаю даже, что он сказал Талейрану: «Надо согласиться с тем, что императрице дают хорошие советы». Когда его чувства уступали место разуму, он судил здраво даже о тех поступках, которые стесняли его, лишь бы они стесняли его не слишком сильно.
Как раз в это время состоялась поездка в Фонтенбло. Празднества, присутствие иностранных принцев и особенно та драма, которую Бонапарт готовил Испании, отвлекли его от вопроса о разводе, и сначала все было спокойно. Моя близость с Талейраном укреплялась, и императрица радовалась этому, так как надеялась, что это может при случае принести ей победу или по крайней мере будет для нее удобным. Я уже говорила, что в то время велись какие-то интриги между герцогом и герцогиней Бергскими и министром полиции Фуше. Госпожа Мюрат всегда умела поссорить с императрицей тех, кто приближался к ней, и пользовалась для этого своими связями и даже интригами. Талейран и Фуше с некоторым подозрением и завистью относились друг к другу, а в этот момент громадное значение Талейрана держало всех остальных в тени.
За две или за три недели до отъезда из Фонтенбло туда однажды утром приехал министр полиции. Он долго оставался в кабинете императора, а затем был приглашен к нему обедать, что случалось с немногими лицами. Во время обеда Бонапарт был очень весел. Я не помню теперь, каким развлечениям был посвящен вечер. Около полуночи все разошлись; но вдруг один из лакеев императрицы постучал в мою дверь. Моя горничная сказала, что я уже в постели, но Ремюза еще не ушел из моей комнаты. Этот человек ответил, что мне не нужно вставать, но императрица просит моего мужа сойти к ней. Ремюза тотчас же отправился и застал ее растрепанной, полуодетой, на ней не было лица. Она отослала женщин из комнаты и воскликнула, что погибла. При этом императрица подала моему мужу длинное письмо на листе очень большого формата; письмо было подписано самим Фуше. Он начинал послание с того, что уверял ее в своей старой преданности и говорил, что именно вследствие этого чувства решается раскрыть перед ней положение ее и императора. Он представлял императора могущественным, в апогее славы, верховным властелином Франции, но указывал, что Наполеон, обязанный Франции своим теперешним положением, является ответственным перед страной за ее будущее. «Не следует скрывать от себя того, ваше величество, – писал он, – что политическому будущему Франции вредит отсутствие у императора наследника. В качестве министра полиции я должен знать общественное мнение и знаю, что все беспокоятся о том, кто будет наследником подобной империи. Представьте себе, каким могущественным был бы теперь трон его величества, если бы он опирался на сына!» Эта выгода была пояснена подробно и искусно, что и в самом деле могло быть верным.
Далее Фуше писал о том, что супружеская нежность императора совершенно противоречит его политике, и предвидел, что император никогда не решится потребовать такой тяжелой жертвы; потому он осмелился посоветовать госпоже Бонапарт сделать самой мужественное усилие, примириться с этим и принести себя в жертву Франции. И затем министр рисовал очень трогательную картину впечатления, которое произведет этот поступок на всех в настоящем и в будущем. Наконец, письмо заканчивалось уверением в том, что император не знает о его существовании; боялись даже, что это не понравится императору, и императрицу просили сохранить все в глубокой тайне.
Можно представить себе, что письмо это было украшено более или менее красноречивыми фразами, обдумано и очень тщательно написано.
Первое, что подумал Ремюза, – это что Фуше мог решиться на подобную попытку только по соглашению с императором. Но он не сообщил этого предположения императрице, которая явно старалась подавить закравшееся подозрение.
– Что мне делать? – воскликнула она. – Как предотвратить эту угрозу?
– Я советую вам, – отвечал ей Ремюза, – сейчас же пойти к императору, если он еще не спит, или пойти к нему завтра рано утром. Поймите, вы не должны показать, что советовались с кем-нибудь. Дайте ему прочесть это письмо, наблюдайте за ним, если можете; но, как бы то ни было, покажите, что вы раздражены этим косвенным советом, и снова объявите ему, что послушаетесь только прямого приказания, отданного лично им.
Императрица согласилась с этим и просила моего мужа рассказать все Талейрану и передать ей, что он посоветует. Так как было уже поздно, она отложила разговор с императором до завтрашнего дня.
Когда она показала письмо императору, он выказал сильнейший гнев. Он уверял, что действительно ничего не знал об этом поступке, что Фуше проявил совершенно нежелательное усердие, что если бы министр не уехал в Париж, он устроил бы ему хороший нагоняй; говорил, что накажет Фуше, если императрица этого желает, что готов даже лишить его места министра полиции, если она этого потребует. Бонапарт сопровождал эти слова ласками, но все же его манера держать себя не успокоила императрицу, и она говорила мне потом, что он как будто чувствовал себя неловко во время этого объяснения.
Однако муж мой и я, поделившись друг с другом своими мыслями, ясно увидели, что Фуше руководствовался в своем поступке приказанием свыше, и если император серьезно решился на развод, то едва ли Талейран будет против этой решительной меры. Но каково было наше удивление, когда выяснилось, что все обстоит совсем иначе. Талейран выслушал нас очень внимательно, как человек, ничего не знающий о том, что произошло. Он нашел, что письмо Фуше неприлично и смешно; он прибавил к этому, что проект развода казался ему совершенно не нужным. Талейран был одного мнения со мной; он высказался за то, чтобы императрица отвечала министру полиции свысока, что он не должен вмешиваться в подобные дела и если она когда-либо согласится на это, то без посредников.
Императрица была восторге от этого совета; она составила вместе со мной сухой и полный достоинства ответ. Талейран прочел его, одобрил и посоветовал показать императору, который, по его словам, не решится не одобрить его. Действительно, так и случилось, и Бонапарт, еще ни на что не решившийся, продолжал играть ту же роль. Он проявлял все возраставший гнев, разражался такими резкими угрозами, так часто повторял жене, что сместит министра полиции, если она этого желает, что императрица мало-помалу успокоилась и, снова обманутая, перестала сердиться на того, кого больше не боялась. Поэтому она отказалась от удовлетворения, которое ей предлагали, и отвечала мужу, что министр ему полезен и достаточно его хорошенько разбранить.
Через несколько дней Фуше возвратился в Фонтенбло. В присутствии госпожи Бонапарт ее муж постарался держать себя с ним довольно сухо; но министр нисколько не казался сконфуженным, что еще более убедило меня в том, что его поддерживали в этом поступке. Фуше повторил императрице все, что написал; император рассказал жене, что он и ему говорил то же самое. «Это слишком большое усердие, – заявлял Бонапарт, – но, в сущности, не следует сердиться на него за это. Достаточно и того, что мы решили отвергнуть его советы, чтобы ты поверила, что я не могу жить без тебя»[165]. Эти слова Бонапарт повторял своей жене днем и ночью. Он приходил к ней ночью чаще, чем это бывало прежде, и в самом деле был взволнован, сжимал ее в объятьях, плакал, клялся в самой нежной любви и во время этих сцен, которые он разыгрывал, кажется, преднамеренно, невольно увлекался и кончал тем, что действительно оказывался взволнован и растроган.
Между тем мне откровенно рассказывали обо всем, что он говорил, я передавала все это Талейрану, который обыкновенно советовал, как следует себя вести. Все его советы были нацелены на то, чтобы отдалить возможность развода, и он очень хорошо направлял госпожу Бонапарт.
Я не могла не выразить ему удивления по поводу того, что он противится этому, в сущности, политическому плану и принимает во внимание чисто семейные интересы. Талейран ответил мне, что это дело не настолько семейное, как мне кажется. «Никто в этом дворце, – говорил он мне, – не может не желать того, чтобы эта женщина оставалась подле Бонапарта. Она кротка, добра, владеет искусством его успокаивать, входить в положение каждого. Императрица является нашим прибежищем во многих случаях. Если сюда явится какая-нибудь принцесса, то вы увидите, что император порвет со всеми придворными и мы все будем уничтожены». Приводя мне эти соображения, Талейран умел убедить меня в своей искренности; однако он не говорил со мной откровенно и не открывал мне всей своей тайны.
Повторяя, что нужно сговориться, как избежать развода, он часто спрашивал меня, что я буду делать, если император разведется с женой. Я отвечала ему, что, не колеблясь ни минуты, разделю судьбу моей государыни.
– Но любите ли вы ее настолько, чтобы решиться на это? – говорил он мне.
– Конечно, – отвечала я, – я привязана к ней, но я знаю ее хорошо, знаю, что она легкомысленна, неспособна на прочную привязанность, и в этом случае я буду руководствоваться не столько сердечной склонностью, сколько приличием. Я призвана к этому двору благодаря госпоже Бонапарт; в глазах всех я считаюсь ее близким другом, и поэтому на мою долю выпали тяжелые заботы и обязанность выслушивать ее приказания, и хотя она любит меня, она не раз отворачивалась от меня и снова сближалась; общество, которое, конечно, не может понять все наши отношения и которому я их и не открою, удивилось бы если бы я не разделила ее изгнание.
– Но это значило бы, – продолжал Талейран, – поставить себя добровольно в положение неприятное и для вас, и для вашего мужа; может, вам придется расстаться с ним, столкнуться с тысячью мелких затруднений, за которые она, конечно, не отплатит вам.
– Я знаю ее так же хорошо, как и вы, – возразила я, – это очень живая особа и даже несколько изменчивая. Я знаю, что в этом случае она сначала будет довольна моей преданностью, потом привыкнет к ней и кончит тем, что совсем не будет о ней думать. Но ее характер не может мне помешать следовать моему собственному, и я сделаю то, что буду считать своим долгом, не ожидая ни малейшей награды.
В самом деле, говоря в то время о возможности развода, я обещала императрице покинуть двор, если она когда-нибудь его покинет. Мне показалось, что ее очень тронуло это обещание, которое я дала ей, искренно взволнованная и со слезами на глазах. В самом деле, она должна была бы удержаться от подозрений, которые позднее имела против меня и о которых я скажу в свое время и в своем месте[166].
Я ставила только одно ограничение в своем обещании. «Я не буду придворной дамой при другой императрице, – говорила я. – Если вы уедете в какую-нибудь провинцию, я за вами последую и буду счастлива разделить ваше одиночество, и расстанусь с вами только в том случае, если вы уедете из Франции». В сущности, никто не знал, что придет в голову императору; иногда он говорил своей жене: «Но если ты покинешь меня, я не хочу, чтобы ты лишилась своего ранга; будь уверена, что ты будешь где-нибудь царствовать, быть может, даже в Риме». Нужно заметить, что, когда он говорил таким образом, папа правил еще в этом самом Риме и ничто не предвещало, что он собирается его покинуть. Но самые важные события казались Наполеону очень простыми, одно какое-нибудь слово могло показать внимательному слушателю, какие планы вертелись у него одновременно в голове.
Ремюза относился к моим поступкам так же, как и я. Он не скрывал от себя, какие затруднения поступок этот вызовет для нас обоих, но эти затруднения не останавливали его, и он повторил императрице, что никогда не изменит своего отношения к ней, даже и в том случае, если над нею разразятся какие-нибудь несчастья. Позднее читатели увидят, что она не надеялась на слово, которое было дано ей с самой безупречной искренностью.
Именно в это время и по поводу всего этого дела у нас было несколько свиданий с госпожой де Ларошфуко; в этих беседах выяснилось то, о чем я говорила раньше, и Ремюза смог понять, что произошло между ними после прусской кампании. Это усилило тягостное впечатление, которое на нас и так производило дальнейшее знакомство с характером императора.
Я уже говорила о том, что Фуше, несколько очарованный госпожой Мюрат, считал себя, благодаря этому, обязанным порвать с интересами Богарне. Я не знаю, насколько он действительно желал этого, но надо согласиться с тем, что когда кто-нибудь вмешивается в интриги, в которых участвуют женщины, то нелегко знать, на чем можно остановиться, потому что с этим связано столько пустых слов, мелочных отношений, мелких доносов, что все это как будто окутывает человека. Госпожа Мюрат, которая терпеть не могла свою невестку, старалась свергнуть ее с престола. По своей гордости она считала выгодным для себя быть в союзе с какой-нибудь европейской принцессой и часто старалась ради этого опутать императора лестью. Фуше думал, что для новой династии было бы полезно опираться на прямого наследника. Он слишком хорошо знал императора и прекрасно понимал, что рано или поздно государственный интерес возьмет верх над всеми другими соображениями, а потому боялся, что ему не придется принять участия в этом деле, что это будет совершено с помощью Талейрана, и хотел отнять у него честь и выгоды.
Ему удалось прямо пойти к императрице с таким важным вопросом. Видя, что император поддается ему, он представил целый ряд причин, которые нетрудно было подобрать, и сумел добиться того, что ему была предписана или по крайней мере предоставлена роль посредника в переговорах между императором и императрицей. Но при помощи полиции Фуше пошел дальше: он заставил заговорить об этом общественное мнение. На нескольких собраниях в Париже по его инициативе стали говорить о разводе. В некоторых кофейнях вдруг начали обсуждать необходимость иметь прямого наследника. Эти разговоры, внушенные Фуше, доходили до императора благодаря самому Фуше и другим сотрудникам полиции, и императору казалось, что общество больше занято данным вопросом, чем это было на самом деле. По возвращении из Фонтенбло Фуше даже сказал императору, что, очевидно, народ в Париже очень взволнован, если целые группы собираются под его окнами и требуют от него второго брака. Император сначала был поражен, но Талейран сумел очень искусно отвлечь его от этой мысли.
Талейран в глубине души не относился враждебно к разводу, но ему хотелось добиться этого по-своему, в свое время, с пользой и величием. Он очень скоро заметил, что старания Фуше клонились к тому, чтобы отнять у него пальму первенства, и не мог допустить, чтобы в его дело вмешался кто-либо другой. Франция заключила дружеский союз с Россией, но Талейран прекрасно знал положение дел в Европе и думал, что не следует упускать из вида Австрию, что союз еще и с этой державой может быть для нас полезнее союза с Россией. Притом он знал, что императрица-мать не разделяет иллюзий царя и не отдаст ни одной из своих дочерей Бонапарту. Поэтому могло случиться, что за внезапным разводом не последовало бы столь же поспешное заключение брака, и это поставило бы императора в неприятное положение. Притом это было такое время, когда должны были разрешиться испанские дела. Европа внимательно прислушивалась, и невозможно было одновременно заниматься двумя предприятиями, каждое из которых требовало тщательного отношения.
Вот что, по всей вероятности, заставило Талейрана противодействовать Фуше и перейти на время на сторону интересов госпожи Бонапарт. Ни она, ни я не имели в то время возможности проникнуть в его мотивы, и я узнала о них только впоследствии. Ремюза меньше меня доверял преданности Талейрана, которой нам хотелось владеть и которая очаровывала меня. Но он думал, что все-таки надо пользоваться ею, и все мы действовали совершенно согласно, хотя и с различными побуждениями.
Таким образом, в то время, когда император был в Париже, между двумя короткими путешествиями в Италию и в Байонну, Фуше постоянно передавал ему разговоры, которые будто бы можно было слышать среди народа; но Талейран выбрал подходящий момент, чтобы доказать императору, что в этом отношении министр полиции направляет его по ложной дороге.
«Он всегда был и навсегда останется человеком революции, – говорил Талейран. – Всмотритесь хорошенько, он хочет революционным путем заставить вас совершить акт, который нужно совершать только с чисто монархическим спокойствием. Он желает, чтобы чернь, собравшаяся, может быть, по его приказанию, начала шуметь и требовать у вас наследника такими же криками, какими она требовала у Людовика XVI бог знает каких уступок, в которых он не умел ей отказать. Если вы приучите народ вмешиваться в ваши дела подобным образом, у него может появиться охота повторять эти попытки, и вы не знаете, чего он станет у вас затем требовать. Притом эти собрания никого не обманут, и вас будут обвинять в том, что вы сами их собирали».
Эти замечания поразили императора, который заставил Фуше замолчать. С этих пор в кофейнях перестали заниматься разводом, и желание народа, по-видимому, охладело. Император заставил свою жену обратить внимание на это молчание, и она как будто немного успокоилась. При всем том император продолжал выказывать большое волнение; в их разговорах чувствовалась какая-то натянутость, они прерывались вдруг продолжительным молчанием. Затем он снова возвращался к тому, что ему недостает прямого наследника, чтобы основать династию, говорил, что не знает, на что решиться, и, несомненно, в нем происходила сильная внутренняя борьба.
Бонапарт чаще всего доверялся Талейрану, который рассказывал мне о некоторых из их разговоров. «Если я расстанусь со своей женой, – говорил император, – то прежде всего откажусь от того очарования, которое она вносит в мою внутреннюю жизнь. Мне придется изучить вкусы и привычки новой, молодой супруги. Эта приспосабливается ко всему и прекрасно меня знает. Наконец, я отплачу ей неблагодарностью за все, что она сделала для меня. Она является связующим звеном между мною и очень многими; она связывает меня с известной частью парижского общества, от которой придется отказаться». После подобных сожалений начинались разговоры об интересах государства, и на основании их Талейран уверял моего мужа в том, что, по его убеждению, все эти сами по себе прекрасные колебания в конце концов уступят место политике. Он говорил, что можно замедлить дело развода, но нельзя надеяться избежать его, и заканчивал тем, что сам нисколько не содействует этому и императрица хорошо сделает, если будет держаться раз принятой системы.
Мы дали друг другу слово, Ремюза и я, держать в секрете от госпожи Бонапарт первую половину этого разговора, который мог бы снова возбудить в ней подозрения до такой степени, что она способна была совершить несколько неправильных поступков. Но прежде всего нам казалось бесполезным внушать ей недоверие к Талейрану, который в то время совсем не желал вредить ей, но, может быть, и стал бы это делать, если бы у нее, в раздражении против него, вырвались какие-нибудь неосторожные слова. Я решила выжидать, не стараясь предугадать будущее, и давала советы, которые приходилось давать, руководствуясь при этом осторожностью и чувством достоинства. Это было необходимо по отношению к той, на кого смотрели сотни глаз, которую слушали сотни ушей, для того чтобы повторять все, что она говорила. Именно в это время император сказал Талейрану, что его жене дают хорошие советы.
Незадолго до отъезда в Байонну произошло еще одно объяснение, которое рисует противоположные настроения, увлекавшие императора, при всей его силе и властном характере. Однажды утром Талейран, при выходе из кабинета императора, встретил Ремюза и, направляясь к своей карете, сказал ему: «Мне кажется, что вашей жене придется раньше, чем она думает, пережить то горе, которого она боится. Я вижу, что император снова волнуется из-за вопроса о разводе; он говорил мне о нем как о деле почти решенном, и нам всем следует считать это высказанным и не демонстрировать бесполезного противодействия». Муж мой передал мне эти слова, которые меня очень взволновали.
Вечером при дворе было собрание. Я только что лишилась матери[167] и не показывалась в обществе. Ремюза возвратился во дворец, чтобы наблюдать за спектаклем, который давался в дворцовом театре. Апартаменты были полны народа. Принцы, посланники, придворные – все долго ждали. Наконец было дано распоряжение начать спектакль, не дожидаясь их величеств, которые не будут присутствовать, потому что, как говорили, император был немного нездоров. Собрание было невеселое, и каждый поспешил удалиться пораньше. Талейран и Ремюза перед уходом зашли во внутренние апартаменты дворца и узнали, что император с восьми часов лег в постель со своей женой, запер комнату и запретил входить в нее до следующего дня.
Талейран ушел с легким выражением неудовольствия. «Это черт знает что за человек! – сказал он. – Он вечно отдается своему первому побуждению и сам никогда не знает, что будет делать. Э, пора ему быть решительней и не делать нас игрушкой в своих руках, мы, право, не знаем, как себя держать с ним!»
Императрица на другой день приняла моего мужа и рассказала ему следующее. В шесть часов она явилась к Бонапарту, чтобы вместе с ним обедать; он был печален, молчалив и в течение всего обеда не проронил ни одного слова; после обеда она ушла от него, чтобы заняться своим туалетом, и затем стала ожидать того времени, когда нужно было отправиться в собрание, но за ней пришли и сказали, что император почувствовал себя нездоровым. Она явилась к нему и убедилась, что он действительно страдал сильными болями в желудке и был в возбужденном, нервном состоянии. Увидев ее, он не мог сдержать слез, и, привлекая ее на свою постель, куда бросился, не обращая внимания на ее изящный костюм, стал сжимать ее в своих объятиях, повторяя: «Бедная моя Жозефина, я не могу расстаться с тобой!» Она прибавила, что такое состояние внушило ей больше жалости, чем волнения, и она беспрестанно повторяла ему: «Ваше величество, успокойтесь, решите, чего вы желаете, и прекратим подобные сцены». Но эти слова еще ухудшили состояние Бонапарта, и это состояние было настолько тяжелым, что она уговорила его не показываться в обществе и лечь в постель. Наконец он согласился на это, но лишь при условии, что она ляжет вместе с ним, и ей пришлось сейчас же снять свой туалет и улечься рядом. Он заливался слезами и повторял: «Они опутывают меня, они мучают меня, они делают меня несчастным!» Ночью ласки сменились беспокойным сном. Впоследствии император взял себя в руки и не проявлял больше подобных волнений.
Таким образом, императрица переходила от страха к надежде; она не доверяла этим патетическим сценам, считая, что Бонапарт слишком быстро переходит от нежных сцен к ссорам из-за любовных интриг, в которых ее подозревал, или к другим жалобам, что он хочет измучить ее, сделать больной, может быть, даже еще хуже того; я уже говорила, что она была в состоянии вообразить себе все что угодно. Справедливо то, что «из расчета или благодаря своим собственным переживаниям», он расстраивал ее всевозможными способами и она дошла до того, что и в самом деле начала плохо себя чувствовать.
Что же касается Фуше, то он начал громко говорить о разводе императрицы – мне, всем окружающим, и повторял, что его могут сместить, но не могут запретить ему советовать то, что полезно. Талейран слушал его с презрительным и насмешливым молчанием и допускал, чтобы в обществе думали, что сам он против развода. Бонапарт видел все это, но не порицал поведения ни того, ни другого, ни кого бы то ни было[168]. Наш двор старался молчать еще больше, чем обыкновенно, так как ничто не указывало, на сторону которого из этих важных лиц надо было встать. Среди этого волнения разразились трагические события в Испании, и развод был, по-видимому, оставлен совершенно в стороне.
Глава XXVIII 1807–1808 годы
Возвращение из Фонтенбло – Путешествие императора в Италию – Молодость Талейрана – Празднества в Тюильри – Император и артисты – Мнение императора об английском правительстве – Свадьба мадемуазель Ташер – Граф Румянцев – Женитьба маршала Бертье – Майораты – Университет – Испанские дела
Приблизительно в это время Моле был назначен префектом Кот-д’Ора. Император отметил его выдающийся ум, приблизил его к себе и решил возвысить. Молодой человек все больше привлекал к себе императора своими разговорами, а Бонапарт вообще очень хорошо умел очаровывать молодежь. Моле не скрывал того, что ему не хотелось уезжать из Парижа, где он очень хорошо устроился со своей семьей. «Не нужно никого пугать слишком быстрым возвышением, – сказал ему император. – Притом вы приобретете некоторую опытность в управлении делами, и это будет вам полезно. Я продержу вас в Дижоне не больше года, а затем вы возвратитесь и будете довольны мной». Он сдержал свое слово.
Поездка в Фонтенбло закончилась в середине ноября, к великому удовольствию каждого из нас, так как все устали от празднеств, отличавшихся таким принужденным характером.
Иностранные принцы по большей части возвратились к себе, ослепленные великолепием, которое было выказано, если можно так выразиться, с крайней расчетливостью, так как император требовал самой строгой экономии в своих собственных делах. Он был очень доволен, когда Ремюза попросил у него для расходов по устройству празднеств и спектаклей всего только 150 000 франков. В самом деле, если сравнить эту сумму с результатом, то станет понятно, до какой степени следовало быть расчетливым при расходах. Император, который желал все знать, припомнил по этому случаю, сколько стоили в прежние времена подобные поездки[169]; это сопоставление удовлетворило его тщеславие, и надо сказать, что этим действительно стоило гордиться. Обер-гофмаршал держал придворную прислугу очень строго, нанимал ее и платил ей, – все было в порядке и очень точно урегулировано. Дюрок умел замечательно хорошо управлять императорским дворцом, но отличался притом большой строгостью, которая всецело зависела от строгости самого господина. Служба происходила по правилам самой суровой дисциплины; наказания были серьезными, и требовательность никогда не уменьшалась; и при этом каждый всегда был на своем месте, все шло без противоречий и правильно. Следили за тем, чтобы не было никаких злоупотреблений; жалованье прислуге было заранее вычислено и определено. В буфетах всякая мелочь – простой бульон или стакан сахарной воды – давалась не иначе, как с разрешения обер-гофмаршала или по его записке. Во дворце вообще не происходило ничего, о чем бы он не знал. Но обыкновенно он молчал и говорил обо всем только одному императору, который осведомлялся обо всех мелочах.
Бонапарт уехал из Фонтенбло, чтобы совершить небольшое путешествие в Италию. Он хотел опять увидеть Милан, показаться в Венеции и повидаться со своим братом Жозефом, но главным образом, как мне кажется, он хотел принять окончательное решение относительно королевства Италии, думая этим решением успокоить Европу и показать королеве Этрурии, дочери испанского короля, что ей придется покинуть свое королевство. Втайне готовясь захватить Испанию, он знал, что соединение этих корон – Франции и Италии – в одних руках часто пугало Европу. Призывая Евгения занять в будущем итальянский трон, он объявил, что это соединение не будет вечным, и предполагал, что эта уступка будет принята, так как она не лишала его власти и ставила известные границы власти его наследника.
Мюрат, который видел большие выгоды для себя в том, чтобы не прерывать отношений со своим шурином, добился разрешения сопровождать его, к большому неудовольствию Талейрана, предвидевшего, что его отсутствием воспользуются, чтобы все более отстранять его планы.
Император уехал 16 ноября, а императрица возвратилась в Париж. Князь-примас пробыл там еще некоторое время, так же, как и принцы Мекленбургские. Они приезжали в Тюильри каждый вечер, играли в карты, немного разговаривали, слушали музыку; но императрица, по-видимому, говорила с принцем Мекленбург-Шверинским немного больше, чем с другими. Это заметили, как я говорила, но только смеялись и придавали этому так мало значения, что шутили с самой императрицей. Однако некоторые лица приняли эти шутки за правду и вновь написали об этом императору; по возвращении он очень сердился.
Бонапарт привык легко прощать себе самому всевозможные фантазии, но был строг к другим. Однажды в этот период в Париже в одном из маленьких театров давали водевиль, который имел громадный успех и который всем хотелось посмотреть. У госпожи Бонапарт возникло такое же желание, как и у других. Она поручила Ремюза взять для нее маленькую ложу; одевшись просто и сев в карету без гербов, она инкогнито отправилась в этот театр в сопровождении нескольких дам и обоих принцев Мекленбургских. Об этом пустяке написали императору в Милан; император, со своей стороны, написал грозное письмо и, возвратясь в Париж, упрекал свою жену в том, что она не умела сохранить своего достоинства. Я вспоминаю также, что в своем недовольстве он указывал ей на то, как сильно повредила себе некогда французская королева, которая вела себя недостойным образом, забывая о своем положении и позволяя себе подобные легкомысленные поступки.
Во время отсутствия Бонапарта императорская гвардия с триумфом вступила в Париж; ее приветствовал префект, и в честь нее были устроены празднества.
Я говорила уже и о том, что были снова восстановлены общины сестер милосердия. Министр внутренних дел собрал сестер милосердия у императрицы-матери и в ее присутствии вручил им медали. Император желал, чтобы его мать стояла во главе всех благотворительных учреждений; но в ее манере держать себя не было ничего, что могло бы сделать ее популярной, и она неохотно и неумело выполняла то, что было на нее возложено.
Император, по-видимому, был доволен администрацией в Италии и объехал все это королевство. Он отправился в Венецию, где к нему присоединились Жозеф, а также король и королева Баварские, которые хотели нанести ему визит, и госпожа Баччиокки, желающая добиться некоторого увеличения своих владений.
В это время Россия порвала все сношения с Англией, а некоторая часть нашей армии, находившаяся еще на севере Германии, начала угрожать шведскому королю. Бернадотт вел в Гамбурге переговоры с недовольными шведами и приобрел себе хорошую репутацию, которую старался сохранить всеми способами, тратя деньги, чтобы создать себе приверженцев. Впрочем, трудно предположить, чтобы у него тогда уже зародилась мысль о том, что с ним произошло впоследствии. Но честолюбие, хотя еще довольно смутное, заставляло его пользоваться случаем, каков бы он ни был, а в это время можно было, в сущности, при известных обстоятельствах на все решиться и на все надеяться.
Принц Бразильский уехал из Лиссабона 29 ноября, и через несколько дней после этого туда вступил генерал Жюно с нашей армией, объявив, по обычаю, что мы пришли освободить португальцев от английского ига. В конце этого месяца император, собрав в Милане Законодательный корпус, объявил, что торжественно усыновляет Евгения, который становится наследником итальянской короны вследствие отсутствия прямых наследников у императора. Вместе с тем император разрешил ему носить титул принца Венецианского, а маленькой новорожденной принцессе дал титул принцессы Болонской. После этого, 1 января 1808 года, он возвратился в Париж.
В то время я была погружена в очень печальные занятия. По возвращении из Фонтенбло я застала свою мать больной. Ее болезненное состояние сначала не внушало мне беспокойства. Хотя она сильно страдала, но была очень довольна улучшением в нашем положении, и в начале ее болезни я поставила наш дом на очень широкую ногу, как этого желал император. К концу декабря состояние моей матери стало настолько опасным, что мы могли думать только об уходе за ней, и наш дом был закрыт. Через три недели после этого нас постигло большое горе: мы лишились ее, и я лишилась, таким образом, одной из главных радостей.
Мать моя была выдающейся личностью во всех отношениях. Она обладала большим умом, отличалась серьезным отношением к жизни и приветливостью, пользовалась в обществе вполне заслуженным уважением. Она была нам полезна и дорога каждую минуту. Все очень жалели о ней. Эта утрата повергла нас в отчаяние; муж мой оплакивал ее как настоящий сын. Нас очень жалели, даже при дворе, потому что все знали ей цену. Сам император отозвался на это горе и надлежащим образом выразил это Ремюза, когда снова увидел его, но я уже говорила, что уединенная жизнь, которую заставило меня вести мое горе, а кроме того, приличие противоречили его планам, и через три или четыре месяца он отнял у нас ту часть доходов, которую назначил на расходы, требуемые пышной жизнью, так как теперь эти расходы были нам как бы не нужны. Таким образом, он поставил нас в очень затруднительное положение из-за долгов, которые сам заставил нас сделать.
Я провела эту зиму очень печально: горько оплакивала мать, была в разлуке со своим старшим сыном, которого мы поместили в учебное заведение, – нам хотелось, чтобы он развивал те счастливые способности, которые свидетельствовали о его выдающемся уме. Здоровье мое было слабым, и я впала в глубокое отчаяние.
Несомненно, мое общество не могло доставить большого развлечения Талейрану, но, несмотря на это, он не пренебрегал мной в несчастье. Талейран был одним из тех, кто особенно старался меня утешить. Он знал мою мать раньше и теперь много говорил о ней со мной и слушал мои воспоминания о ней. Тяжелое горе, которое я переживала, уничтожило все мои старания казаться перед ним умной, и я не удерживала слез в его присутствии. Часто проводя время втроем, со мной и моим мужем, он не подавал вида, что ему наскучили и мое горе, и нежные утешения Ремюза. Когда я вспоминаю об этом, мне кажется, что он нас наблюдал с известного рода любопытством. Вся его жизнь прошла так, что он был лишен естественных привязанностей; мы представляли для него невиданное зрелище, которое его немного трогало. Казалось, он в первый раз убедился в том, что взаимная любовь, основанная на нравственных чувствах, дает отраду и мужество в трудные минуты жизни. То, что происходило в моей комнате, давало ему отдохнуть от того, что происходило в другом месте, может быть, даже от его собственных воспоминаний, так как он не раз говорил мне в то время о себе с сожалением, даже с известным отвращением, если можно так выразиться.
Наконец, тронутые его заботами, мы платили Талейрану благодарностью, которая исходила из глубины сердца; он приходил к нам все чаще и чаще и оставался надолго; говоря с нами, он теперь уже не позволял себе шуток и насмешек над другими. Верная себе, я открывала ему свою душу, живую и нежную благодаря тому, что я привыкла наслаждаться счастьем. Теперь, переживая свое горе, свою глубокую печаль и забывая обо всем том, что происходило кругом, я переносила его в незнакомую ему область; и казалось, что знакомство с этой областью доставляет ему удовольствие. Мало-помалу я достигла того, что могла свободно говорить ему все; он предоставил мне право бранить его, судить о нем, и часто довольно строго. По-видимому, моя искренность нравилась ему, так что между нами создалась внутренняя связь, которая была приятна нам обоим. Когда мне удавалось его тронуть, я гордилась этим как победой, и он ставил мне в заслугу то, что я затронула его душу, которая часто была погружена в какую-то дремоту – благодаря привычке, системе или равнодушию.
Однажды, удивленная противоречиями в его характере, я дошла до того, что сказала ему: «Господи! Как жаль, что вы вечно себя портили; право, мне кажется, вы лучше, чем вы есть».
Талейран улыбнулся. «То, как прошли наши первые годы, – сказал он мне, – влияет на всю нашу жизнь, и если бы я поведал вам, как провел свою юность, то многое не показалось бы вам удивительным». И он рассказал мне, что, будучи старшим в семье и вместе с тем калекой, он обманул надежды и даже нарушил приличия, которые в эпоху, предшествующую революции, требовали, чтобы старший сын в дворянской семье был военным; его оторвали от семьи и отправили в провинцию к старой тетке. Затем он уже не вернулся к родным, и его отдали в духовную семинарию, внушив, что он должен поступить в духовное звание, к чему у него не было никакой склонности.
В течение тех лет, которые он провел в Сен-Сюльписе, Талейран был вынужден почти всегда оставаться один в своей комнате, так как его физический недостаток не давал ему возможности участвовать в каких-либо развлечениях. Тогда он впал в глубокую меланхолию, составил себе плохое мнение об общественной жизни, раздражаясь тем, что его хотели заставить сделаться священником, и решил, что не должен с точностью исполнять обязанности, наложенные на него без его согласия. Он прибавлял, что в нем возникло глубокое отвращение к жизни, сильное раздражение против предрассудков, и ему удалось избегнуть отчаяния только потому, что он выработал в себе полное равнодушие ко всему и ко всем.
Когда он вернулся к отцу и матери, его встретили как что-то неприятное, с ним обращались крайне холодно, никогда он не слышал ни одного ласкового слова или какого-нибудь утешения. «Вы сами видите, – говорил он мне, – что в подобном положении надо было умереть с горя или сделаться бесчувственным, так, чтобы не думать о том, чего мне недоставало. Я сделался бесчувственным, но готов согласиться с вами, что был неправ. Может быть, лучше было бы, если бы я страдал и сохранил способность сильно чувствовать, так как это душевное безразличие, в котором вы меня упрекаете, часто вызывало во мне самом отвращение. Я недостаточно любил других; но я не особенно любил и самого себя и не слишком интересовался собой[170].
Однажды я был выведен из этого равнодушия очень сильной страстью к Шарлотте де Монморанси. Она также сильно любила меня. Я раздражался больше, чем когда бы то ни было, против того препятствия, которое мешало мне на ней жениться, и сделал много, чтобы освободиться от ненавистных обетов. Мне кажется, я достиг бы своей цели, если бы не разразилась революция, которая помешала папе разрешить мне то, чего я желал. Вы понимаете, что в том положении, в каком я находился, я должен был с радостью встретить эту революцию. Она разрушила принципы и обычаи, жертвой которых я был; мне казалось, что она разобьет мои цепи, она мне нравилась; я со страстью отдался делу, и с этих пор мной руководили текущие события».
Когда Талейран говорил со мной подобным образом, я жалела его от всей души, потому что понимала, до какой степени эта бесцветная молодость должна была повлиять на всю остальную его жизнь. Но тем не менее я сознавала в глубине души, что если бы у него был более твердый характер, то он воздержался бы от того заключения, к которому пришел. Я не скрывала от него своего огорчения, что он испортил жизнь подобным образом.
Очень возможно, что роковое равнодушие к добру и злу было основной чертой натуры Талейрана, но, нужно отдать ему справедливость, он никогда не возводил в принцип безнравственность. Он признавал добродетель у других, уважал ее и никогда не старался испортить ее какой-либо системой порока. Кажется, ему доставляло даже некоторое удовольствие наблюдать ее.
Я часто слышала, как он хвалил поступки, которые являлись горькой критикой его собственных; в разговоре он никогда не бывал безнравственным или противником религии; он уважал приличных священников, любил их хвалить; он был добр и справедлив в душе, никогда не применяя к себе того, что ценил в других; он держался в стороне. Талейран был слаб, холоден и с давних пор до такой степени ко всему равнодушен, что нуждался в развлечениях, подобно тому как притупившийся вкус нуждается в пикантной пище.
Серьезные мысли по вопросам нравственности или естественных чувств были ему неприятны, так как приводили к размышлениям, которых он опасался, и посредством шутки он старался отделаться от того, что чувствовал. Множество различных обстоятельств привело к тому, что он был окружен людьми испорченными и легкомысленными, которые поощряли его во многих ничтожных делах; эти люди были удобны ему, потому что не давали задуматься, но они не могли спасти его от глубокой тоски, которая овладевала им из-за настойчивой потребности делать какое-нибудь большое дело. Подобные дела не утомляли его, потому что он отдавался им всецело, редко отдаваясь чему-нибудь всей душой.
Талейран обладал незаурядным умом, часто бывал справедлив, ясно видел правду, но поступал как человек слабый. В нем была какая-то мягкость и то, что называют разнузданностью; он постоянно обманывал надежды всех вокруг, очень нравился, но никогда не удовлетворял, и в конце концов внушал к себе какое-то сожаление, к которому у людей, часто видевших его, присоединялась искренняя привязанность.
Мне кажется, что в то время, когда между нами существовала близость, она принесла ему пользу. Мне удавалось пробудить в нем дремавшие чувства, вызвать возвышенные мысли; я старалась заинтересовать его целым рядом переживаний, или новых для него, или забытых им; он был обязан мне новыми волнениями и ставил мне это в заслугу. Талейран часто приходил ко мне; признаюсь, что я не всегда ценила это, так как он не находил во мне никакой снисходительности к своим способностям, и я говорила с ним таким языком, какого он давно не слышал.
В то время его все больше и больше оскорбляло то, что замышляли против Испании. Истинно дьявольские хитрости, которые готовил император, оскорбляли если не его нравственность, то по крайней мере приличие, которое Талейран всегда вносил как в политику, так и в общественные дела. Он предвидел, какие из этого выйдут результаты, предсказывал мне их в то время и однажды заявил: «Несчастный хочет поставить на карту свое положение!» Талейран всегда хотел, чтобы испанскому королю (Карлу IV. – Прим. ред.) была объявлена открытая война, если не удастся добиться от него желаемого, чтобы ему предложили выгодные условия, прогнали князя Мира и посредством брачного союза сблизились с инфантом Фердинандом. Но император противился подобному ходу дела, являясь на этот раз жертвой интриг, которыми его окружали. Мюрат и князь Мира, как я говорила о том раньше, льстили себя надеждой получить два трона. У императора не было желания доставить им это удовольствие; но он обманывал их и слишком охотно верил, что ему будет легко достичь своей цели. Таким образом, все хитрили в этом деле, и вместе с тем все были обмануты.
Зимой отделка прелестной залы в Тюильри была окончена. В дни раутов давали спектакли, чаще всего итальянские, иногда французские. Двор показывался во всем своем блеске; билеты для входа в верхние галереи раздавали жителям города: мы представляли для них весьма интересное зрелище. Всем хотелось присутствовать на этих представлениях.
Старались выказывать необыкновенную роскошь. Давались балы и даже маскарады. Это было для императора новым развлечением, и он охотно ему предавался. Некоторые из министров, его сестра, Мюрат и князь Невшательский получили приказание принимать у себя большое общество из числа придворных и городских жителей. Мужчины бывали в домино, а женщины – в изящных костюмах, и на этих собраниях почти единственным удовольствием была возможность замаскироваться, – так как все знали, что присутствует сам император, и страх встретить его заставлял собравшихся молчать. Сам же он, замаскированный с головы до ног, хотя его легко было узнать по манерам, проходил по апартаментам Тюильри, обыкновенно опираясь на руку Дюрока. Он приставал к женщинам, и его слова были не особенно приличны, но если кто-нибудь обращался к нему и не был тотчас же узнан, то Бонапарт срывал с него маску, выдавая себя этим невежливым проявлением могущества. Ему доставляло удовольствие, замаскировавшись, мучить некоторых мужей правдивыми или ложными рассказами об их женах. Между тем, если он узнавал, что эти разоблачения повлекли за собой некоторые последствия, то раздражался, так как не хотел, чтобы к нему было отнесено выражение неудовольствия, вызванного им самим.
Отдаваясь всем этим удовольствиям, он продолжал много работать, и его очень занимала его личная борьба с английским правительством. Ему нравилось отвечать газетными статьями на всеобщее недовольство по поводу поднятия цен на сахар и кофе и по поводу того, что народ оказался лишен английских товаров. Бонапарт покровительствовал всевозможным изобретениям. Он надеялся, что свекловичный сахар и другие изобретения, как по части некоторых производств, так и относительно красок, избавят нас от потребности в иностранных продуктах. По его требованию министр внутренних дел сделал ему публичный доклад на основании писем от торговых палат, полученных через префектов. В них одобрялась континентальная система, которая должна была предписать временные лишения, чтобы утвердить в будущем систему свободных морей.
Англичан повсюду преследовали; их арестовывали в Вердене, конфисковали их имущество в Португалии, заставляли Пруссию вступить в коалицию против них; угрожали Швеции, так как шведский король упрямо оставался их союзником. Струна натягивалась и готова была порваться. Было совершенно ясно, что только смерть одного из противников положит конец этой распре, и благоразумные люди начинали уже серьезно беспокоиться. Но так как нас обманывали относительно всего, что совершалось, то закрадывалось недоверие и при чтении газет. Их читали, но им не верили. Император употреблял в этом случае все свои силы, но никого не мог убедить. Такое недоверие раздражало его, и он с каждым днем относился к парижанам все с большим и большим предубеждением. Император старался убедить их из тщеславия; ему казалось, что он не в достаточной мере проявляет свое могущество, если оно не распространяется на умы; самый верный способ понравиться ему заключался в том, чтобы казаться доверчивым. «Вы любите Бертье, – говорил ему Талейран, – потому что он верит в вас».
Иногда в газетах, в виде отдохновения от политических статей, помещали рассказы, в которых приводились слова и повседневные поступки императора. Например, сообщалось о том, что он пожелал увидеть картину Давида, изображавшую церемонию его коронования, привел в восторг и заинтересовал художника многими тонкими и удивительными замечаниями, а уходя от него, снял шляпу, чтобы проститься с ним и выказать ему благоволение, которое выказывал всем художникам.
Это напоминает мне, как однажды он упрекнул Люсея, одного из своих дворцовых префектов, которому тогда было поручено управление Оперой, в том, что тот несколько высокомерно принимал артистов, когда им приходилось иметь с ним дело. «Знаете ли вы, – сказал он префекту, – что талант, в какой бы области он ни был, есть истинная сила и что я сам, принимая Тальма, всегда снимаю шляпу?» В его словах имелось некоторое преувеличение, но верно то, что он был благосклонен к выдающимся артистам и поощрял их своими щедротами и похвалами. Однако император и требовал, чтобы они всегда готовы были посвятить свое искусство его удовольствию и похвалам в его адрес, так как его пугала выдающаяся репутация, независимая от его воли; его раздражала слава, которую не он сам создал.
Двадцать первого января 1808 года Сенат дал согласие на то, чтобы собрать 80 000 солдат из рекрутского набора 1809 года.
Член Государственного совета Ренье, обычный оратор в подобного рода случаях, указывал, что, подобно тому, как предшествующие наборы привели к достижению мира на континенте, этот набор приведет к освобождению морских путей; и никто не возразил против подобных рассуждений. Все знали, что сенатор Ланжюине и некоторые другие пытались иногда представить Сенату свои соображения по поводу этих рекрутских наборов, столь частых и столь строгих, но все рассуждения рассеивались как дым и ничего не меняли в принятых заранее решениях. Сенат, робкий и покорный, не внушал народу никакого доверия, и мало-помалу все привыкли смотреть на него с некоторого рода презрением. Люди строги по отношению друг к другу. Они не прощают один другому слабостей и готовы восхищаться в других добродетелями, которые часто бывают для них недоступны. Наконец, какова бы ни была тирания, общественное мнение всегда мстит за себя в большей или меньшей степени, если только желают его слушать. Нет ни одного деспота, который не знал бы того, что о нем думают и за что его порицают. Бонапарт прекрасно знал, чем он был, по мнению французов, как в хорошем, так и в дурном смысле, но он льстил себя надеждой, что сумеет стать выше всего этого.
В докладе, сделанном военным министром генералом Кларком по поводу нового рекрутского набора, мы читаем буквально следующее: «Политика в народном духе была бы бедствием для Франции, так как сделала бы несовершенными те великие результаты, которые вы подготовили». Никто не обманывался относительно этой формулы; однако можно было спросить себя, как в комедии: «Кого это здесь обманывают?» Но все молчали, и этого было достаточно.
Кажется, что в тот момент, когда открылся английский парламент, император еще надеялся на несогласие между английским правительством и народом. Дебаты были довольно оживленные, и оппозиция, по своему обыкновению, гремела. Император помогал ей всеми силами, в «Мониторе» печатали громоподобные статьи. Некоторым английским журналистам платили деньги, и с их помощью над ежись вызвать беспорядки. Английский кабинет, в сущности, шел по пути, который был хоть и трудным, но почетным для страны, и одерживал верх. При каждой новой подаче голосов император испытывал новый прилив гнева и признавался, что ничего не понимает в этой форме правления, «казалось бы, либеральной, но где голос народа не имеет никогда никакого значения». Иногда Бонапарт с какой-то парадоксальной смелостью замечал: «Во Франции, в сущности, гораздо больше свободы, чем в Англии, так как для народа всего ужаснее иметь право высказывать свое мнение, которое никто не слушает. В конце концов, это только оскорбительная комедия, подделка под свободу. Что касается меня, то не может быть, чтобы от меня скрывали положение Франции, я сам знаю все, я получаю точные донесения, и я не так безрассуден, чтобы делать то, что шло бы вразрез с интересами или характером французов. Все сведения доходят до меня как до общего центра. Я поступаю согласно этим сведениям, между тем как у наших соседей не отказываются поддерживать олигархию какой бы то ни было ценой. А в нынешнем веке люди предпочитают скорее повиноваться человеку искусному, с абсолютной властью, чем унизительной силе всюду выродившейся аристократии».
В начале февраля отпраздновали свадьбу мадемуазель Таше, креолки, родственницы госпожи Бонапарт. Ее сделали принцессой, и голландская королева выдала ее замуж. Семья ее мужа (герцога Аренберга) была преисполнена радости и выказывала замечательную угодливость, надеясь на большое возвышение. Развод совершенно разочаровал семью, и родственники поссорились с молодой принцессой.
В то время в Париже находился граф Румянцев, министр иностранных дел России. Это был человек с умом и душой; он явился в Париж, восхищенный императором и воодушевленный искренним энтузиазмом своего молодого государя. Но он умел владеть собой и стал внимательно наблюдать за императором, заметив, в каком стесненном положении находятся парижане, принимая славу, но не приписывая ее себе. Граф был поражен некоторыми противоречиями и составил себе об императоре довольно невысокое мнение, которое впоследствии могло, конечно, повлиять и на царя. Император спросил его:
– Как вы находите мой способ управления Францией?
– Слишком строгим, ваше величество, – ответил Румянцев.
Бонапарт назначил генерал-губернатором по ту сторону Альп князя Боргезе, который был послан в Турин со своей женой. Князь вынужден был продать императору все лучшие статуи виллы Боргезе, которыми украсили наш Музей. В то время это была восхитительная коллекция всех лучших произведений искусства в Европе, собранных с такой заботливостью и выставленных с таким изяществом в Лувре. Подобного рода победой Бонапарт очень хорошо умел действовать на тщеславие и вкус французов.
Комиссия, во главе которой стоял Бугенвилль, сделала на заседании Государственного совета доклад об успехах в науке, литературе и искусствах с 1789 года. Выслушав доклад, император ответил следующим образом:
«Я желал выслушать вас по поводу успехов человеческого ума в эти последние годы, так как мне хотелось, чтобы сказанное вами было услышано всеми народами и заставило замолчать хулителей нашего века, которые стремятся задержать развитие человеческого ума, желая совершенно подавить его. Мне хотелось знать, что нужно сделать, чтобы поощрить ваши труды, так как я не могу иначе содействовать их успеху. Благо моих подданных и слава моего трона одинаково заинтересованы в процветании наук. Мой министр внутренних дел сделает мне доклад обо всех ваших нуждах; вы всегда можете рассчитывать на мое покровительство».
Таким образом, император занимался всем в одно и то же время и искусно соединил все человеческие успехи с блеском и славой своего царствования.
Я уже говорила о том, что он очень желал создать вокруг себя династии, которые увековечили бы память о тех наградах, которые он давал своим избранникам. Он был оскорблен противодействием со стороны Коленкура, который уехал в Россию, объявив очень решительно, что так как он не может жениться на госпоже К., то не женится никогда. Император старался победить и другую оппозицию, которую встречал со стороны человека, особенно им любимого, – князя Невшательского, маршала Бертье. В течение многих лет этот последний был сильно привязан к одной итальянке, которая отличалась поразительной красотой, хотя ей было далеко за сорок, к княгине Висконти. Она пользовалась громадным влиянием на Бертье, и ей прощались многочисленные развлечения, которые она разрешала себе у него на глазах, так как умела представить их в желаемом свете или же добиться прощения. Маршал Бертье, которого мучил император, часто просил у своего господина, как награды за свою верность, чтобы он простил его за эту дорогую его сердцу слабость. Император раздражался, насмехался, снова принимался за свое, но не мог преодолеть этого упорного сопротивления, которое продолжалось несколько лет. Однако своими словами и просьбами он наконец сломил упорство своего любимца, и Бертье, проливая искренние слезы, согласился жениться на принцессе из Баварского дома, которая была с этой целью привезена в Париж. Их обвенчали в присутствии императора и императрицы. Принцесса была некрасива и не могла заставить своего мужа позабыть о привязанности, которую он сохранил до конца жизни.
Принцесса была очень милой особой, довольно бедной. Ей нравилось быть при французском дворе, и она считала, что сделала хорошую партию. Князь Невшательский, осыпанный дарами императора, пользовался огромными доходами, и эта семья жила в полном согласии. Принцесса осталась жить в Париже и после Реставрации, а также и после смерти маршала, который заболел горячкой по возвращении Бонапарта и, потрясенный этим событием, бросился или упал из окна[171].
В это время император выказал еще яснее, чем прежде, какие монархические идеи развивались у него в голове: он установил майорат. Одни хвалили, а другие порицали этот институт; ему завидовали в известных классах, и в общем он довольно скоро был принят во многих семьях, которые ухватились за эту возможность придать особенное значение старшему в роде и увековечить свое имя.
Архиканцлер передал декрет в Сенат. В своей речи он доказывал, что наследственные привилегии составляют сущность монархии и доставляют новый источник для того, что называют во Франции честью, и что наш национальный характер заставляет нас принять их с радостью.
Затем, чтобы успокоить сторонников Революции, он произнес несколько слов о том, что граждане не перестанут быть совершенно равными перед законом и привилегии, даруемые без различия всем, не вызывают при этом зависти. Сенат принял это новое решение со своим обычным одобрением и отправил императору адрес с выражением восхищения и благодарности. Когда по поводу этого учреждения был издан закон со всеми подробностями, то нашли, что он составлен хорошо. Талейран очень хвалил это новое учреждение, так как вовсе не признавал монархии без аристократии.
Был учрежден совет государственной печати для наблюдения за тем, чтобы при учреждении майората подчинялись установленным для этого законам. Паскье, бывший в то время докладчиком, был назначен главным контролером. Тем, кто имел известные обязанности и занимал видные места в государстве, были даны некоторые титулы. Сначала это вызывало насмешливое удивление. Однако к новшеству быстро привыкли, и, в сущности, все, надеясь получить какое-нибудь отличие, охотно примирялись с этими титулами у других и одобряли их. Мне приходилось тогда слышать, до какой изобретательности дошел император, чтобы доказать всем партиям, что они должны одобрить все, что им создано. Он не пренебрегал никакими фразами. «Я стараюсь упрочить Революцию», – говорил он одним. «Эта промежуточная каста, которую я создаю, вполне демократична, потому что каждый может быть включен в нее в любое время», – говорил он другим. «Она будет поддерживать трон», – уверял он знатных вельмож. Тем людям, которые представляли собой остатки настоящих якобинцев, он говорил: «Радуйтесь, ведь старая аристократия окончательно уничтожена». А к старой аристократии обращался со словами: «Получая новые титулы, вы воскрешаете свои прежние и увековечиваете ваши старые права». Его слушали, ему еще хотели верить. Притом он не давал нам много времени на размышление и увлекал нас всевозможными обольщениями. Когда это бывало нужно, он действовал даже путем насилия, и это можно признать искусной мерой, так как иные люди любят, чтобы на них действовали принуждением.
Вслед за этим учреждением последовало другое, которое казалось внушительным и грандиозным. Я хочу сказать об Университете. Народное просвещение было облечено в твердую и широкую систему, и все относившиеся к нему декреты были результатом великой идеи, как говорили в то время. Позднее с Университетом произошло то же, что и со всем остальным. Бонапарт, при своем деспотизме, скоро сам испугался той силы, которую создал и которая могла бы сделаться препятствием для осуществления того или другого из его требований. Министр внутренних дел, префект, верховная администрация, то есть вся эта система абсолютной власти, вмешивались во все, что касалось университетской корпорации, противодействовали ей, уничтожали ее постановления, когда им казалось, что в этих постановлениях проявлялся хоть малейший дух независимости. И в этом отношении мы являемся скорее красивым фасадом, чем настоящим зданием. Фонтан был назначен ректором Университета. Этот выбор, который все одобрили, вместе с тем наиболее удовлетворял императора, который желал сохранить свою власть над всем и всеми.
Фонтан, который пользовался большим уважением благодаря своему прекрасному, благородному таланту и считался очень образованным человеком, отличался вместе с тем довольно слабым характером: он был немного беззаботен, ленив и нерешителен в своих действиях; все это указывало на то, что он неспособен бороться, когда это бывает нужно. Я могу отнести и его к числу фасадов, о которых только что говорила. Но при всем том народное просвещение во Франции все-таки выигрывало благодаря этому созданию императора. В систему образования был внесен порядок, были усилены занятия наукой, – юношество оказалось занятым.
Говорили, что в эпоху Империи образование в лицеях носило чисто военный характер, но это неверно. В них очень много занимались литературой, были усилены занятия древними языками, математикой и искусствами; обращали внимание на нравственность, установили строгий надзор за учениками. Но образование не было ни в достаточной мере религиозным, ни в достаточной мере национальным, а между тем это было время, когда требовалось, чтобы оно отличалось и тем и другим. В этих заведениях нисколько не старались дать молодым людям политические и нравственные знания, которые создают хороших граждан и готовят их к участию в работе правительства. Однако могущество знания, соревнование для получения наград и дух времени оказали большое влияние на многих из них, и в настоящее время французская молодежь, которая хоть и не стоит так высоко, как могла бы стоять, тем не менее достигла замечательного развития.
Можно заметить громадную разницу между теми, кто держался вдалеке от общественного образования, открытого для всех, и теми, кто им воспользовался. Приверженность старым порядкам, недоверие, некоторого рода беспокойство заставили французское дворянство и часть обеспеченного класса держать детей дома; их воспитывали со множеством всяких предрассудков, тяжесть которых им приходится теперь нести. Юношество, воспитывавшееся в лицеях, достигло известной силы благодаря всемогуществу общественного образования. Быть может, оно заблуждалось порой и давало заманить себя обаянием блестящего ореола славы, окружавшего Бонапарта. Но энтузиазм юных душ всегда имеет своим источником благородные чувства; он охватывает их, при этом не развращая; в двадцать лет люди бывают так доверчивы, что впоследствии никакая перемена не заставит их краснеть. Можно было восторгаться Бонапартом и потом возвратиться к любви, к родине и к свободе. Пожилые люди не имеют этого преимущества: так как в их одобрении предполагают больше сознательности, то им бывает стыдно от него отказаться; нужно много мужества, чтобы почувствовать и признать свои ошибки, и упрямое тщеславие часто заставляет сохранить бесполезные предрассудки.
В конце концов учреждение Университета было встречено с большим одобрением. Но случилось так, что последующие события привели его сначала в упадок, а потом и разрушили, как и все остальное.
Немного позднее, 23 марта 1808 года, двор переехал в Сен-Клу. Император всегда старался по возможности скорее выехать из Парижа: Тюильри ему не нравился, потому что там невозможно было много гулять, и притом чем дальше он шел вперед, тем больше его стесняло присутствие парижан. Он не любил никакого принуждения, а в городе все очень быстро узнавали о вспышках его гнева или словах, которые порой у него вырывались. Он возбуждал любопытство, которое его раздражало; его холодно встречали в обществе, о нем рассказывали тысячи анекдотов, так что он вынужден был постоянно сдерживаться. Поэтому его пребывание в Париже становилось все более и более коротким, и поговаривали о том, что двор переедет в Версаль. Было решено реставрировать дворец, и Бонапарт говорил не раз, что, в сущности, ему надо жить в Париже только во время сессии Законодательного корпуса.
Когда он выезжал за город и на обратном пути должен был проезжать через ту или другую заставу, то всегда говорил: «Ну вот, мы опять в великом Вавилоне». Иногда он мечтал о перенесении столицы в Лион; только его воображение могло навести его на мысль о таком проекте, но это нравилось ему и было его любимой мечтой. Парижане хорошо знали, что Бонапарт не любил их, и мстили ему каламбурами и анекдотами, едкими и часто злыми. Они выказывали ему покорность, но относились к нему холодно и насмешливо.
Придворные вельможи усвоили себе антипатию господина и, говоря о Париже, всякий раз прилагали к нему какие-нибудь бранные эпитеты. Наконец, у императора нередко вырывалось грустное замечание: «Они все еще не простили мне пушек, которые я навел на них 13-го вандемьера».
Собрание замечаний Бонапарта относительно его собственного поведения было бы очень полезной книгой для многих государей и для тех, кто решается давать им советы. Мне часто приходится слышать от людей, которые еще совсем недавно познакомились с искусством управлять, что нет ничего легче, чем заставить с помощью силы признать свою волю и при помощи штыков принудить народ подчиняться какому угодно режиму; и я вспоминаю, что говорил император о тех затруднениях, которые были результатами первых его шагов на политическом поприще, о неудобствах, вытекавших из того, что он употреблял силу против граждан, о трудностях, которые тотчас же возникли после того, как он вынужден был использовать подобные средства. Я помню, что он говорил своим министрам, как только в совете решались на какие-нибудь резкие меры: «Ручаетесь ли вы за то, что народ не восстанет?» И малейшее народное волнение казалось ему важным и неприятным. Он с удовольствием рассказывал или слушал рассказы о различных волнениях, переживаемых на поле битвы, но бледнел, когда говорили о крайностях, на которые бывает способен народ во время восстаний. Наконец, если во время верховых прогулок по улицам Парижа какой-нибудь рабочий бросался к нему, чтобы просить о милости, он тотчас же пугался и осаживал лошадь.
Гвардейским генералам было приказано избегать столкновений между народом и солдатами. «Я не могу оправдать этих последних», – говорил Бонапарт. И если случайно происходило какое-нибудь столкновение между военными и горожанами, то, обыкновенно, наказывали и удаляли военных, которым затем вручали денежные награды.
Между тем север Европы был в тревожном состоянии. Шведский король был слишком предан той политике, которой требовало от него английское правительство, что не совсем соответствовало интересам его подданных; он навлекал на себя все большее и большее осуждение со стороны шведов, и его поведение зависело от экзальтированного состояния ума. Русский император объявил ему войну и в то же время начал кампанию против Финляндии; тогда Алопеус, русский посланник в Стокгольме, был вдруг арестован в своем доме, что явилось нарушением международного права.
По этому поводу в «Мониторе» говорилось: «Бедный шведский народ! В какие руки ты попал? Твой Карл XIII был, конечно, немного не в своем уме, но он был храбр, а король, который явился забиякой в Померании [Густав IV Адольф], пока длилось перемирие, первым бежал, когда оно окончилось, хоть сам его и нарушил».
Подобные слова предвещали приближение грозы. В начале марта умер датский король Христиан VII. На престол вступил, под именем Фридриха V, его сын, который давно был регентом и которому было сорок лет. Примечательно то, что в этот беспокойный век, когда взволнованные народы особенно нуждались в просвещенных государях, многие троны в Европе были заняты монархами, которые едва владели своим умом или же совсем были лишены его. Примером могут служить короли Англии, Швеции, Дании и королева Португалии.
Но вскоре все были отвлечены от событий, совершавшихся на севере, той драмой, которая происходила в Испании. Туда был послан великий герцог Бергский, который взял на себя командование нашей армией, двинувшейся к берегам Эбро. Испанский король, слабый, боязливый, руководимый своим министром, нисколько не противодействовал движению французских войск, которое старались представить нападением на Португалию.
Национальная партия Испании, во главе которой стоял принц Астурийский, возмутилась этим нашествием, так как видела, к каким последствиям это может повести, и считала себя принесенной в жертву честолюбию князя Мира. Вскоре против министра разразилось восстание; король и королева готовы были покинуть Испанию (откуда их хотел изгнать император, желая затем лишить престола и принца Астурии). Я уже говорила, что Мануэль Годой, привлекаемый данными ему обещаниями, был предан политике императора; Наполеон совершал страшную ошибку, вводя французское влияние через министра, которого все ненавидели.
Между тем мадридская чернь бросилась в Аранхуэс и разграбила дворец министра, который вынужден был спрятаться, чтобы избежать ярости толпы. Король и королева, испуганные и огорченные опасностью, угрожавшей их фавориту, потребовали, чтобы он подал в отставку, а 16 марта 1808 года и сам король, на которого воздействовали со всех сторон, отрекся от престола в пользу своего сына, объявив, что его здоровье заставляет его жить в другом климате. Этот поступок, совершенный королем по его слабости, привел к прекращению восстания.
Принц Астурии принял имя Фердинанда VII; первым проявлением его власти была конфискация имущества князя Мира. Но в его натуре недоставало твердости для того, чтобы вполне воспользоваться этим трудным положением. Испуганный разрывом с отцом, он стал колебаться в то время, когда надо было действовать. С другой стороны, король и королева бросились под защиту Наполеона и призывали к себе на помощь французскую армию. Великий герцог Бергский отправился к ним в Аранхуэс и обещал им свою, опасную для них, помощь. Колебания власти, страх, который внушала наша армия, интриги князя Мира, жестокие меры, принимаемые Мюратом, – все это внесло смятение и беспорядок в Испанию, и несчастная царствующая семья вскоре обнаружила, что распря ведет лишь к выгоде вооруженного посредника, который становился ей судьей.
«Монитор» давал отчет об этих событиях, оплакивая несчастного Карла IV, и вскоре после этого император уехал из Сен-Клу под предлогом путешествия на юг Франции. Императрица через несколько дней последовала за ним в сопровождении блестящего двора.
Талейран, которого я видела часто, в то время был всем недоволен. Он громко осуждал все, что делали и хотели сделать, и отдавал Мюрата на суд общественного мнения. Он громко кричал о коварстве, умывал руки во всем этом деле и повторял, что если бы он был министром иностранных дел, то не дал бы своего имени подобным хитростям. Императора раздражало это порицание, высказываемое так свободно; он видел, что одобрение общества склоняется на сторону Талейрана. Бонапарт слушал доносы на своего министра, и их прежняя близость начинала рушиться. Он часто говорил, что Талейран советовал ему начать это дело в Испании, а теперь отказывается от него, предвидя неудачу. Я могу засвидетельствовать, что Талейран все это время резко порицал вышеупомянутое дело и с такой запальчивостью говорил о нарушении международного права, что я советовала ему умерить резкость своих слов. Не могу передать в точности, чего он хотел и что он советовал, потому что он никогда не открывал этого вполне, но достоверно то, что общественное мнение в это время было на его стороне. «Это низкая интрига, – говорил он, – это предприятие против желания народа; это значит совершенно не понимать своего положения и объявить себя врагом народов; это такая ошибка, которой нельзя будет поправить»[172]. В самом деле, будущее показало, что Талейран не ошибся, и с этого момента можно наблюдать моральное падение того, кто заставлял дрожать всю Европу.
Почти в то же самое время кроткая и скромная королева Неаполитанская (Мария-Каролина Австрийская) отправилась к своему мужу Фердинанду IV в Испанию, чтобы занять трон, на котором ей недолго пришлось оставаться.
Глава XXIX 1808 год
Испанская война – Князь Мира – Принц Астурийский – Отречение короля Карла IV – Отъезд императора и его пребывание в Байонне – Письмо императора принцу Астурийскому – Приезд принца во Францию – Рождение сына голландской королевы – Отречение принца Астурийского
Второго апреля 1808 года император отправился в путешествие под предлогом осмотра южных провинций; но на самом деле он хотел узнать, что делается в Испании.
Я постараюсь рассказать об этом периоде, по возможности, самым кратким образом[173].
Известно, на какие сделки со всеми правительствами Франции после Революции вынужден был соглашаться испанский король Карл IV. В 1793 году испанцы сделали бесполезную попытку спасти жизнь Людовику XVI после войны, которая была начата с известным благородством, но велась неумело; испанцы признали право победителя, и французское правительство стало постоянно вмешиваться, в большей или меньшей степени, в их дела. Во главе страны стоял тогда Мануэль Годой. Известен способ, которым он добился успеха; обладая самым посредственным умом, не отличаясь никакими талантами, он достиг того, что стал управлять испанцами благодаря склонности, которую питала к нему королева. Годой достиг всевозможных почестей, титулов и богатства, каких никогда не достигал ни один фаворит. Он родился в 1767 году, происходил из дворянской семьи и очень рано вступил в гвардию телохранителей. Королева стала отличать его, он быстро возвысился до генерал-лейтенанта, получил титул герцога Алькудийского, а в 1792 году стал министром иностранных дел. В 1795 году он получил титул князя Мира – благодаря миру, не особенно для него почетному, который он заключил с Францией.
Годой вышел в отставку в 1798 году, но не переставал руководить делами и на всю жизнь сохранил громадное влияние на короля Карла IV, который так странно разделял увлечение своей жены. Князь Мира был женат на племяннице короля Карла III (Марии-Терезе де Бурбон у Валлабрига. – Прим. ред.).
Казалось, ничто не нарушало доброго согласия между Францией и Испанией, как вдруг, в тот момент, когда началась прусская кампания, князь Мира задумал вооружить испанцев, чтобы они воспользовались событиями и свергли иго французов. Он составил прокламацию, в которой призывал всех испанцев записываться в рекруты. Эта прокламация была доставлена Наполеону на поле битвы при Йене, и многие говорили, что с этого момента он поклялся рассеять испанские войска по всей Европе, и князь Мира добился его покровительства, только всецело подчинившись его политике. Бонапарт часто повторял, что в 1808 году, в Тильзите, царь одобрил его проекты относительно Испании; и в самом деле, состоявшееся тотчас же после свержения Карла IV дружеское свидание двух императоров в Эрфурте заставляет верить, что они пришли к взаимному соглашению по поводу своих проектов, у одного – относительно севера, у другого – относительно юга. Но чего я не знаю хорошенько – это насколько Бонапарт обманывал русского императора; не сообщил ли он ему только о том, что желает разделить владения Карла IV? Быть может, он и сам еще не имел в виду совершенно лишать его трона. Но вполне достоверно, что Талейран не разделял этой идеи.
Как бы то ни было, Мюрат в переписке с князем Мира обольщал его тем, что он получит часть Португалии, королевство Альгарвию. Другая часть Португалии должна была принадлежать королеве Этрурии, а Этрурия перейдет королю Карлу IV, который сохранял американские колонии, а после заключения всеобщего мира должен был получить титул императора обеих Америк. Во время путешествия 1807 года на этих основаниях в Фонтенбло был заключен мир, без участия Талейрана и против его желания, и князь Мира разрешил нашей армии пройти через Испанию для завоевания Португалии. Император из Милана послал приказание королеве Этрурии вернуться к своему отцу, Карлу IV Испанскому.
Между тем испанский народ начинал все враждебнее относиться к князю Мира, а принц Астурийский и вовсе его ненавидел. Принц, воодушевленный своими собственными чувствами, а также мнениями окружающих его лиц, обеспокоенный все усиливавшимся несогласием со своей матерью, слабостью отца и вступлением наших войск, доведенный до крайности тем, что князь Мира хотел его заставить заключить брак с сестрой своей жены, решил написать Бонапарту и сообщить ему обо всех неудовольствиях испанцев против фаворита, просить его поддержки и руки кого-либо из членов его семьи. Эта просьба, которая могла быть внушена французским посланником, сначала осталась без ответа.
Вскоре после этого на принца Астурийского донесли как на заговорщика, он был арестован, а его друзья были высланы. У него нашли множество заметок, которые выдавали вымогательства князя Мира. На всем этом и было построено обвинение в заговоре. Королева преследовала своего сына с ожесточением, и принца Астурийского должны были судить, как вдруг от Бонапарта были получены письма, из которых следовало, что он не желал во время процесса упоминания о браке принца Астурийского. Так как именно на этом пункте желали построить главное обвинение в заговоре, то от суда пришлось отказаться. Князь Мира хотел показать свою снисходительность, поэтому просил и добился прощения принца Астурийского. Карл IV написал императору обо всем этом деле и о своей линии в нем, и Бонапарт сделался судьей и советчиком в распрях, которые до сих пор с успехом содействовали его проектам.
Все это произошло в октябре 1807 года.
Между тем наши войска вступили в Испанию. Испанцы, удивленные этим нашествием, довольно громко роптали и жаловались на слабость своего государя и на измену со стороны фаворита. Спрашивали себя, почему испанские войска были посланы на границу Португалии, так далеко от центра королевства, который был оставлен без всякой защиты. Мюрат шел к Мадриду. Князь Мира послал к нему в Фонтенбло курьера, чтобы получить последние инструкции. Этот человек повидался с Талейраном, который сообщил ему о заблуждении князя Мира и дал ему понять, что трактат, только что подписанный в Фонтенбло, совершенно уничтожает испанское могущество. Посланник, пришедший в ужас от всего того, что узнал, тотчас же возвратился в Мадрид и своим рассказом открыл глаза князю Мира, который понял, как был обманут. Но было слишком поздно.
Тогда призвали обратно войска и хотели последовать примеру принца Бразильского и покинуть континент. Двор отправился в Аранхуэс; но эти приготовления не могли быть совершены в такой тайне, чтобы о них не узнали в Мадриде. Брожение в городе усилилось при известии о приближении Мюрата и возможном бегстве короля. Вскоре это брожение разразилось восстанием; народ толпами направлялся к Аранхуэсу. Король был арестован в своем дворце, дом князя Мира был разграблен, этот последний посажен в тюрьму; с большим трудом ему удалось спастись от ярости толпы. Короля Карла IV заставили удалить своего фаворита и изгнать его из Испании. На другой же день испуганный король отрекся от престола в пользу своего сына – потому ли, что считал себя слишком слабым, чтобы управлять страной, или, может быть, потому, что оппозиционная партия ловко сумела принудить его к этому.
Все произошло в нескольких лье от Мадрида и в присутствии Мюрата, который расположил здесь свою главную квартиру. Это событие изменило все проекты Бонапарта. Он увидел, что может лишиться плодов интриги, которая велась в течение шести месяцев. В Испании должен был править молодой принц, который, по-видимому, был способен на решительный поступок. Казалось, испанский народ ревностно будет служить государю, который, несомненно, поставил своей целью освобождение Испании. Наши войска были встречены в Мадриде с неудовольствием. Мюрат был вынужден прибегать к строгим мерам для поддержания порядка; надо было изменить тактику и, прежде всего, приблизиться к театру, где разыгрывались все эти события, чтобы лучше судить о них.
Именно поэтому император решился приехать в Байонну. Он уехал из Сен-Клу 2 апреля, довольно холодно расставшись с Талейраном и не сообщив ему ничего о своих проектах. В «Мониторе» было сказано, что император желает посетить южные департаменты, и только 8 апреля, не давая никаких подробностей о том, что совершалось в Испании, нам сообщили, что императора желали видеть и даже ожидали в Мадриде.
Императрица, любившая путешествовать и не желавшая расставаться с мужем, добилась позволения поехать вслед за ним и присоединилась к нему в Бордо.
Мне было ясно, что Талейран озабочен и недоволен этим путешествием. Я склонна верить, что уже давно, из ненависти к Мюрату и из-за каких-то планов, которых я не знала, он содействовал партии, руководящей принцем Астурийским, и видел, что его отстранили, что в первый раз Бонапарт старается обойтись без него.
В Париже ничего не понимали из всего того, что происходило; официальные статьи в газетах были мрачны. От императора можно было ожидать всего, но он начинал пресыщать даже любопытство; притом испанский правящий дом не возбуждал большого интереса. Поэтому сначала очень мало беспокоились и просто ждали, что время прольет некоторый свет на происходящие события. Франция слишком привыкла к тому, что Бонапарт пользуется ею только ради своей собственной политики и своего тщеславия.
Между тем Мюрат, знавший о некоторых проектах императора и видевший, что из-за отречения Карла IV рухнули многие его планы, стал действовать в Мадриде с вероломной ловкостью. Он не признал принца Астурийского и немало содействовал тому, чтобы старый король стал думать о возвращении своей короны.
Испанцы признали отречение своего короля и радовались освобождению от ига князя Мира. В Мадриде особенно были раздражены присутствием французов и их сухими отношениями с юным государем, и Мюрату удалось сдержать зарождающееся брожение только при помощи строгости, которая была нужна в его положении, но сделала нас окончательно ненавистными.
Император, приехав в Байонну, остановился в замке Маррак, расположенном в четверти мили от этого города. Он не был еще уверен в том, что получится из его интриги, надеялся на поездку в Мадрид как на последний ресурс, но твердо решил не уступать возможности воспользоваться плодами затеянного предприятия. Никто из его окружения не был посвящен в его тайну, он заставлял всех действовать, не открывая ничего никому. В рассказе аббата де Прадта о революции в Испании можно найти любопытные заметки и справедливые наблюдения относительно того, до какой степени император умел окружать тайной все свои планы. Аббат был в то время епископом Пуатье. Проезжая мимо этого города, император увез его со свитой, зная, что у аббата есть склонность и способности к интригам, и надеясь, что сумеет его использовать.
Я слышала от лиц, участвовавших в этом путешествии, что пребывание в Марраке было очень скучным и все желали одного – чтобы все поскорее закончилось и можно было бы возвратиться в Париж.
В Мадрид был тотчас послан Савари с приказанием привезти принца Астурийского любой ценой. Он исполнил свое поручение с точностью, которая была ему свойственна и которая не позволяла размышлять о приказаниях и способах их исполнения. Седьмого апреля Савари посетил принца Астурийского в Мадриде и объявил ему о поездке императора в Мадрид как о верном факте, а затем стал вести себя как посланник, который явился, чтобы приветствовать нового короля, обещая именем своего государя, в случае дружеских отношений, не вмешиваться ни в какие дела Испании. Затем он начал говорить, что переговоры сильно подвинутся вперед, если принц пойдет навстречу императору, который, как уверял Савари, вскоре приедет в Мадрид. Современников очень удивило, как, вероятно, удивит и последующие поколения, то, что Савари удалось убедить принца Астурийского и его двор в необходимости этого путешествия. Говоря правду, невозможно сомневаться в том, что этот совет сопровождался угрозой и несчастный принц был завлечен в западню посредством самых многочисленных козней, и притом с разных сторон. Ему, несомненно, дали понять, что он может купить свою корону только этой ценой; его заманивали надеждой. Сначала не было и речи о том, чтобы перейти границу.
Принц Астурийский был вовлечен событиями в предприятие, которое несколько превышало его силы, он являлся скорее агентом, чем главой партии, которая возвела его на трон, и ему было трудно привыкнуть к положению сына, восставшего против отца. Наконец, его стесняло присутствие наших войск; он не смел ручаться испанцам за спасение родины, если бы стал протестовать. Его советники сами были смущены. Савари давал советы, но вместе с тем угрожал ему, и этот несчастный принц, под влиянием целого ряда различных чувств, решился на поступок, который должен был в самом скором времени погубить его. Я слышала от Савари, что раз ему удалось заманить принца на дорогу к Байонне и у него были такие определенные приказания, то он твердо решил не дать ему возвратиться. И, так как верные слуги предупредили пленника, Савари следил за ним на таком близком расстоянии, что было ясно: никакая человеческая сила не может его похитить. Чтобы наблюдать за этой интригой, столь же коварной, сколь и хитросплетенной, император написал письмо, которое было вручено принцу Астурийскому, пока он был в Витории, и которое я приведу здесь, потому что оно помогает понять ход событий.
«Байонна, апрель 1808 года.
Любезный брат мой, я получил письмо от Вашего Королевского Высочества. Ваше Высочество, вероятно, нашло в бумагах, полученных от отца, доказательство интереса, который я всегда обнаруживал по отношению к нему. Ваше Высочество разрешит мне, при теперешних обстоятельствах, говорить с ним с полной откровенностью и законностью. Приезжая в Мадрид, я надеялся склонить моего высокопоставленного друга к некоторым реформам, необходимым для государства, и к некоторому удовлетворению общественного мнения. Отставка князя Мира казалась мне необходимой для счастья Вашего Высочества и Ваших подданных. Однако северные дела задержали мое путешествие, и тут произошли события в Аранхуэсе. Я не судья тому, что произошло, и поведению князя Мира, но что я хорошо знаю, так это то, как опасно для королей приучать народ проливать кровь и оправдывать себя. Я молю Бога, чтобы Вашему Королевскому Высочеству не пришлось когда-либо испытать подобного. Не в интересах Испании причинять зло князю, женатому на принцессе королевской крови. У него нет больше друзей. Если Ваше Королевское Высочество будет в несчастье, – у Вас тоже не будет друзей. Люди охотно мстят за почести, которые они нам оказывают. Притом как можно начать процесс против князя Мира, не затрагивая королеву и Вашего отца, короля? Этот процесс даст пищу разного рода вражде и тайным страстям; результат его будет губителен для Вашей короны. Ваше Королевское Высочество обладает только теми правами, какие Вам передала Ваша мать; если процесс скомпрометирует ее, Ваше Высочество этим самым уничтожит свои права.
Ваше Высочество должно закрывать глаза на плохие или вероломные советы; оно не имеет права судить князя Мира. Его преступления, если их можно вменить в вину, теряются в правах престола. Я часто выражал желание, чтобы князь Мира был удален от дел. Дружба с королем Карлом часто заставляла меня молчать и закрывать глаза на его снисходительную привязанность. Несчастные люди! Слабости и ошибки – вот наш девиз. Но все это можно уладить: пусть князь Мира будет удален из Испании, я дам ему убежище во Франции.
Что касается отречения короля Карла IV, то оно произошло в то время, когда мои войска наводняли Испанию, и в глазах Европы и будущих поколений создастся впечатление, что я послал так много войск только для того, чтобы свергнуть с престола моего друга и союзника. Естественно, что как государь соседней страны я должен все знать, чтобы признать это отречение. Я говорю Вашему Королевскому Высочеству, испанцам и всему миру: если отречение короля Карла IV произошло по его собственному побуждению, если его не принудили к этому восстание и бунт в Аранхуэсе, я не буду чинить никаких препятствий, чтобы признать это отречение и признать Ваше Высочество королем Испании. Я желал бы поговорить с Вашим Высочеством по этому поводу. Осторожность, с какой я в течение месяца отношусь к этому делу, может служить Вашему Высочеству гарантией. Когда король Карл IV сообщил мне о последних октябрьских событиях, я был сильно поражен ими и мог содействовать своими намеками благополучному окончанию дела в Эскуриале. Ваше Королевское Высочество сильно виновато, – доказательством мне может служить письмо, которое я получил от него и которое я всегда хотел игнорировать.
Став, в свою очередь, королем, Ваше Высочество поймет, как связаны права трона. Всякий поступок по отношению к иностранному государю – преступен. Ваше Королевское Высочество не должно доверять внезапным переменам в чувствах народа. Можно, конечно, убить некоторых из моих солдат, но результатом этого будет разорение Испании.
Ваше Королевское Высочество знает все, что я думаю; Вы видите, что я колеблюсь между различными мыслями, и нужно на чем-нибудь остановиться. Ваше Высочество может быть спокойно, что я всегда буду общаться с ним, как с его отцом, королем. Верьте, что я желаю все устроить и найти возможность дать Вам доказательство моей привязанности и моего полного уважения».
Из этого письма видно, что император оставлял за собой право судить о том, действительным ли было отречение короля Карла IV. Впрочем, кажется, Савари говорил молодому королю о более решительном одобрении, чем то, которое было выражено в этом письме, между тем как Мюрат исподтишка советовал Карлу IV отказаться от отречения. Написав подобным образом принцу Астурийскому, император оставлял за собой возможность спасти князя Мира, если это будет нужно, защитить короля Карла IV и, наконец, осудить первую попытку восстания принца Астурийского против своего отца. Однако в то время знали, что французский посланник внушил принцу мысль жениться на особе императорской фамилии – предложение, которое составляло в глазах фаворита главное преступление принца.
Принц Астурийский покинул Мадрид 10 апреля; по дороге он получал от своего народа выражения преданности; повсюду проявляли озабоченность, видя, что он приближается к границе. В Бургосе совет принца начал беспокоиться; двинулись к Витории. Здесь народ выпряг лошадей принца; гвардии пришлось проложить ему дорогу, и это произошло до известной степени против желания самого принца, который все больше и больше терял надежду.
– В Витории, – рассказывал мне впоследствии Савари, – одну минуту я думал, что мой пленник ускользнет от меня; но затем я привел все в порядок – я напугал его.
– Но если бы он противился, – возразила я, – неужели бы вы его убили?!
– О нет, – ответил он, – но ручаюсь вам, что не дал бы ему возвратиться.
Советников принца успокаивала уверенность в том, что женитьба принца все устроит, и, не понимая грандиозных планов императора, они думали, что появится возможность заключить мир; если будет устроен подобный союз, пожертвуют несколькими людьми и свободой торговли.
Наконец уступили настойчивым требованиям Савари и перешли границу. Двадцать первого апреля кортеж вступил в Байонну. Лица, окружавшие императора, поняли тогда по тому, как изменилось его настроение, насколько приезд инфанта был важен для осуществления его проектов. До тех пор он казался очень озабоченным: не говорил никому ни слова, но посылал одного курьера за другим.
Бонапарт пригласил к себе старого короля, и этот последний, так же, как его жена и фаворит, не мог сделать ничего лучшего. Но казалось вполне естественным, что новый король воспользуется восстанием, готовым вспыхнуть в Испании, и возбудит энтузиазм во всех классах населения, чтобы добиться освобождения родины. Поэтому до того момента, пока принц не перешел Пиренеи, император считал свои планы до известной степени неосуществимыми. Позднее он говорил, что со времени этой ошибки уже не мог считать короля Фердинанда способным управлять страной.
Двадцатого апреля у голландской королевы родился сын, которого назвали Луи.
Аббат де Прадт рассказывает все подробности о приезде Карла IV и инфанта, свидетелем которого он был, я отсылаю читателя к его труду, не считая нужным все это здесь переписывать.
Он рассказывает, как император приехал из Маррака в Байонну, что он обращался с принцем Астурийским как с равным, в тот же день он пригласил его обедать, а вечером, когда принц возвратился к себе, к нему пришел Савари, чтобы передать планы Бонапарта. Эти планы заключались в том, чтобы низвергнуть всю правящую династию и возвести на ее место собственную, потребовав отречения всей королевской фамилии. Аббат де Прадт справедливо удивляется всей той комедии, которую разыгрывал в течение дня император; и в самом деле, трудно понять, как он мог утром изображать из себя лицо, имевшее совершенно противоположные намерения, чем это было вечером.
Каковы бы ни были его мотивы, можно понять весь ужас испанцев и их сожаление о том, что они сами отдали себя в руки врага, который с этой минуты был непоколебим. Тогда они попробовали не бежать, так как это, конечно, было невозможно, а сообщить Испанскому совету, заседавшему в Мадриде, о том, что они являются пленниками, и о решении Бонапарта свергнуть последних Бурбонов. Большинство посланных было арестовано, однако некоторым удалось пробраться в Мадрид и вызвать там негодование, так же, как и по всей Испании; в отдельных городах народ поднял восстание. В Мадриде нельзя было ручаться за безопасность французской армии. Мюрат удвоил суровые меры и сделался предметом ненависти и страха всех жителей Испании.
Теперь все знают, до какой степени император ошибался относительно положения Испании и характера испанцев. В это ужасное предприятие он внес два заблуждения, свойственных его уму и характеру, которые вовлекли его в крупнейшие ошибки. Это, во-первых, его стремление к решительной борьбе и желание, чтобы ему немедленно повиновались, которые заставляли его избегать посредников, что иногда не проходит безнаказанно. Во-вторых, это твердое убеждение в том, что в других странах мало что меняется от смены правительств и что национальные особенности имеют мало значения, а потому можно поступать совершенно одинаково на севере и на юге, с немцами, французами и испанцами. Позднее император признавался, что сильно ошибся в этом. Узнав, что в Испании существует высший класс, сознающий, что его правительство плохо управляло им, и желающий некоторых конституционных изменений, Бонапарт не сомневался в том, что народ легко поймается на удочку революции, подобной той, которая произошла во Франции. Он думал, что в Испании, как и в других местах, легко поднять народ против влияния духовенства, игнорируя посредников, о которых я только что говорила. Со свойственной ему быстротой ума он понял, что движение, вызвавшее беспорядки в Аранхуэсе, передало власть в руки государя слабого и совершенно неспособного ни поднять, ни сдержать революцию; поэтому, забегая вперед, он представил себе возможные препятствия, инциденты и решил, что как только пошатнутся испанские учреждения, так все совершенно изменится. Он был уверен, что окажет испанскому народу известного рода услугу, предупреждая события, овладевая заранее революцией и направляя ее туда, куда, как ему казалось, она должна привести.
Но если бы даже и можно было убедить целый город и заставить его принять как результат верной предусмотрительности то, что ему удается понять только после пережитого опыта несчастий, то ненависть ко всем мерам императора бросила на его поведение тень, которая скомпрометировала его в глазах всего народа. Иностранное иго пробудило национальную гордость испанцев. Все затеянные хитрости, захват в плен государей, слишком явное пренебрежение к христианским верованиям, угрозы, экзекуции, которые за ними последовали, вымогательства и все жестокости войны – все это помешало какому бы то ни было доброму согласию.
Вскоре обе враждебные стороны, настроенные друг против друга, увидели, что между ними возможна только самая жестокая война, вызванная желанием друг другу противодействовать и друг друга уничтожить. Сам император все принес в жертву своей страсти – ни в чем не уступать. Он жертвовал и людьми, и деньгами только ради того, чтобы оставаться наиболее сильным, и результатом его оскорбленной гордости явились самая кровавая война, самое ужасное опустошение. Ему удалось создать в Испании только анархию. Народ, который обнаружил, что у него нет армии, счел, что сам обязан защитить родину, а Бонапарт, который видел всю свою силу и гордость в том, что он народный избранник, ведущий войну только с королями, через несколько лет наблюдал, как у него ушла из-под ног почва, на которой он построил все свое могущество.
Однако предвидя некоторые неудобства, Бонапарт продолжал все же идти по тому торному пути, на который вступил. Отказ принца Астурийского от отречения причинил ему сильнейшее беспокойство. Боясь, как бы принц не ускользнул от него, Бонапарт заставил держать его под присмотром; он испробовал по отношению к нему все средства очарования или насилия, и все окружающие видели его волнение. Дюроку, Савари, аббату Прадту было поручено привлечь на свою сторону, убедить или напугать всех советников принца. Но как можно убедить людей в том, что им необходимо лишиться власти? Соглашаясь с мнением императора, что все члены правящей семьи были людьми одинаково посредственными и неумелыми, надо, однако, признать, что было бы разумнее оставить им трон и власть; необходимость действовать в такое трудное время заставила бы их совершить множество ошибок, которыми мог бы воспользоваться их неприятель. Но оскорбляя их нарушением человеческих прав, парализуя их волю, обрекая их на роль жалких и трогательных жертв, Бонапарт до такой степени облегчал и предначертывал им то, что они должны были делать, что к ним был привлечен всеобщий интерес.
Между тем, так как ему хотелось выйти из этого неприятного положения, он решил вызвать Карла IV в Байонну и принять сторону низвергнутого государя. Бонапарт предвидел, что этот поступок вызовет войну, но льстил себя надеждой, что эта война будет похожа на все остальные. «Да, – говорил он, – я сознаю: то, что я делаю, дурно, но пусть они объявят мне войну!» Ему говорили, что трудно ожидать объявления войны от людей, лишенных своей родной почвы и свободы; он отвечал: «Зачем же они явились? Эти люди не знают, что такое французские войска. Пруссаки были такие же, и все увидели, что из этого вышло. Верьте мне, это скоро кончится. Я не хочу никому делать зла, но когда моя грандиозная политическая машина пущена в ход, нужно, чтобы она двигалась. Горе тому, кто попадется на ее пути!»
В конце апреля в Байонну приехал князь Мира, которого Мюрат освободил из плена в Мадриде. Юнта, под председательством дона Антонио, брата Карла IV, неохотно выпустила его; но прошло время, когда можно было протестовать. Фаворит потерял надежду на будущее могущество, притом он был скомпрометирован в Испании, его единственным прибежищем стало покровительство императора, поэтому было ясно, что он согласится на все, чего от него потребуют. Ему приказали руководить Карлом IV на том пути, по которому желали его направить, и он согласился без малейшего возражения.
Я не могу удержаться, чтобы не передать одного замечания аббата де Прадта, которое мне кажется основательным и которое здесь можно привести очень кстати.
«В это время, – говорит он, – та часть проекта, которая заключала в себе перевод Жозефа в Мадрид, еще не была объявлена, и Наполеон не давал об этом ни малейшего понятия. В переговорах, которые мне пришлось вести с Наполеоном благодаря сношениям с Эскоикисом[174], император об этом не проронил ни слова, желая, чтобы время само обнаружило ту или другую часть плана, который он вынашивал в своем сердце в течение многих дней, не облегчая откровенностью тяжесть своей тайны. Это, конечно, очень печальное применение силы воли, показывающее большое умение владеть собой со стороны человека, который может сдерживать себя до такой степени даже в минуты гнева».
Карл IV приехал в Байонну 1 мая со своей женой, младшим сыном, дочерью князя Мира и королевой Этрурии, в сопровождении инфанта; несколько позднее приехал и дон Антонио, который был вынужден покинуть Юнту и присоединиться ко всей своей семье.
Послесловие Поля Ремюза
Здесь заканчиваются мемуары моей бабушки, и я думаю, что многие пожалеют, конечно, о том, что смерть помешала ей продолжить их по крайней мере до момента развода императора, который навис с первых же дней, точно угроза, над головой Жозефины, такой очаровательной, такой приветливой, но, в сущности, малоинтересной. Трудно дополнить то, чего здесь недостает; даже письма того же автора дают мало разъяснений относительно политики последующего времени. В последние дни своей жизни она уже редко говорила о том, что тогда видела и перенесла.
Этот последний период, столь изобилующий ужасными для политической истории картинами, мало что даст простому наблюдателю внутренней политики. Вокруг правительства собирались тучи, и никогда еще Франция так мало не сознавала, что с ней делают, как в то время, когда ее вели к гибели, разыгранной в простой игре в кости. И, однако, можно еще найти поучительные картины того, как многие сердца и беспокойные умы являлись возмущенными и покорными, огорченными и успокоенными, разочарованными, беспечными, подавленными, и все это по очереди, а иногда и одновременно, так как деспотизм, который всегда кажется счастливым, плохо подготавливает народ к несчастью и верит в мужество только тогда, когда удается его обмануть.
Иллюстрации
Первый консул
Жозефина в Мальмезоне
19 брюмера
Евгений Богарне
Августа-Амалия Баварская
Гортензия Богарне
Луи Наполеон
Королева Гортензия с сыном
Жозеф Бонапарт
Иоахим Мюрат
Каролина Мюрат
Жером Бонапарт с Екатериной Вюртембергской
Люсьен Бонапарт
Полина Бонапарт
Шарль-Морис Талейран
Госпожа Гранд
Маршал Дюрок
Жозеф Фуше
Маршал Бертье
Луи Фонтан
Юг Бернар Маре
Арман де Коленкур
Фердинанд, принц Астурийский
Луиза Прусская
Александр I
Встреча Наполеона и Александра на Немане
Госпожа де Сталь
Жан-Виктор Моро
Герцог Энгиенский
Рене Шатобриан
Император Наполеон
Императрица Жозефина
Примечания
Наполеон III (1808–1873) – сын Гортензии Богарне (королевы Голландии), император французов с 1852-го по 1870 год.
Имеются в виду Франко-Прусская война и Сентябрьская революция 1870 года.
Лепид, римский политический деятель (около 89–13/12 гг. до н. э.). В 43 году вместе с Октавианом и Антонием образовал Второй триумвират.
Речь идет о знаменитой сцене во дворце, 28 января 1809 года, когда император в буквальном смысле слова с кулаками набросился на Талейрана, обвиняя его в лицемерии и предательстве.
Тьер А. «История Консульства и Империи».
Легитимизм – политическая теория, выдвинутая Талейраном на Венском конгрессе в целях обоснования и защиты территориальных интересов Франции, которые состояли в сохранении границ, существовавших на 1 января 1792 года. По заявлению Талейрана, основной потребностью Европы было изгнание навсегда мысли о возможности приобретения прав одним завоеванием и восстановление священного принципа легитимности.
Мари де Рабютэн-Шанталь, баронесса де Севинье (1626–1696) – французская писательница, автор знаменитых «Писем».
Этьен Дени Паскье, барон (1767–1862) – префект полиции во времена Империи, несколько раз министр (юстиции, иностранных дел) во времена Реставрации. «Его семья, его воспитание, его прошлые воззрения – всего этого было достаточно для того, чтобы человек, более склонный к подозрительности, чем Наполеон, не доверял ему» (из воспоминаний графа Лас-Каза).
5 сентября 1816 года по настоянию министра полиции графа
Деказа была распущена ультрароялистская палата депутатов.
«Современницы» – роман, или, вернее, серия маленьких романов или портретов, написанных Ретифом де ла Бретонном. «Граф Дуглас» – роман мадам Д'Онуа.
Фердинанд VII (1784–1833) – сын Карла IV; конфликтовал с отцом и имел репутацию вождя национальной партии, оппонирующей Наполеону.
Аббат де Прадт рассказывает, что однажды после гневной сцены император подошел к нему и спросил: «Вы думаете, что я очень разгневан? Разуверьтесь: у меня гнев никогда не идет дальше этого», – и он провел рукой по шее, показывая, что волнение желчи никогда не смущает его ума (П.Р.).
Корвисар Жан Никола (1755–1821) – лейб-медик Наполеона.
По фамилии Год ой, который пользовался влиянием на испанского короля Карла IV.
Госпожа Вержен была очень близка с Шанорье, который жил в Круасси на берегу Сены; это был богатый и умный человек, распространивший во Франции разведение мериносов. Живя здесь, госпожа Вержен с дочерьми сделала несколько визитов по соседству – в Мальмезон и возобновила с госпожой Бонапарт отношения, которыми была связана с госпожой Богарне.
Евгений Богарне был женат на Августе (1788–1851), принцессе Баварской, которая родила ему семерых детей.
Может быть, страницы этих мемуаров, относящиеся к королеве Гортензии, вызовут удивление. Моя бабушка жила и умерла в убеждении, что, говоря так, она отдает дань истине. Но преобладало противоположное мнение, и оно закреплено сыном королевы, императором Наполеоном III, который оказывал знаки особенного внимания герцогу де Морни. (Речь здесь идет о романе Гортензии Бонапарт, жены Луи, с Шарлем де Флао, внебрачным сыном Талейрана. У них родился сын Шарль-Огюст, будущий герцог де Морни.) Возможно, как это часто случается, все это было верно в известную эпоху. В молодости – невинность и страдание, немного позднее – утешение.
Незачем говорить, что я сохраняю текст мемуаров в том виде, как они написаны рукой самого автора.
Предполагается, что именно вследствие перенесенного в молодости венерического заболевания Луи страдал тяжелой формой артрита и с трудом владел руками и ногами.
Мюрат был женат на Каролине Бонапарт, самой младшей из сестер Наполеона.
Мари-Мадлен Маре (урожд. Лежеас), жена Юга Бернара Маре, герцога де Бассано.
Госпожа де Талуэ, де Люрсе, де Лористон и я.
Элиза Бонапарт (1777–1820) – в замужестве Баччиокки, великая герцогиня Тосканская, княгиня Луккская и Пьомбинская, старшая из сестер Наполеона.
Полина Бонапарт (1780–1825) – средняя и самая любимая сестра Наполеона. В Сан-Доминго ее мужа, генерала Леклерка, отправили в 1802 году на подавление Гаитянской революции.
Отец мой, родившийся в 1797 году, был совсем ребенком в эпоху, описываемую в этих мемуарах. Он сохранил, однако, очень точное воспоминание об одном визите, который его мать заставила его сделать во дворец, и вот как он о нем рассказывал: «По воскресеньям меня водили иногда в Тюильри, чтобы я мог видеть из окна в комнате прислуги смотр войска. Большая гравюра Изабе дает точное представление о том, что было особенно любопытного в этом зрелище. Однажды после парада мать моя пришла за мной (кажется, она провожала госпожу Бонапарт до дверей Тюильри) и взошла со мной на лестницу, наполненную военными, которых я рассматривал не спуская глаз. Один из них заговорил с ней. «Кто это такой?» – спросил я, когда он прошел. Это был Луи Бонапарт. Потом я увидел молодого человека в очень известной форме флигельмана (флангового солдата). Что касается этого, то мне не нужно было спрашивать его имя: дети того времени различали значки чинов и корпусов армии, а кто не знал, что Евгений Богарне был полковником флигельманов?
Наконец мы дошли до салона госпожи Бонапарт. Там находились только она, одна или две дамы и мой отец в красном костюме, вышитом серебром. Меня поцеловали, вероятно, нашли, что я вырос, и больше мной не занимались. Вскоре вошел офицер из консульской гвардии. Он был маленького роста, худ, держался плохо, или, по крайней мере, небрежно (не стесняясь). Я был достаточно приучен к этикету, чтобы найти, что он много двигается и поступает бесцеремонно. Между прочим я был поражен, видя, что он уселся на ручку кресла и оттуда, издали, говорил с моей матерью. Мы были как раз напротив него, и я заметил его исхудалое лицо, почти истощенное, с оттенком желтоватым и бурым. Вдруг он взял меня за оба уха и потянул довольно сильно. Он сделал мне больно, и, если бы это было не во дворце, я закричал бы. Потом, обращаясь к моему отцу, он спросил: «Учит ли он математику?» Вскоре меня увели. «Кто же этот военный?» – спросил я свою мать. – «Это Первый консул!»»
Таков дебют моего отца в жизни придворного. Впрочем, он видел императора еще только один раз при подобных же обстоятельствах, будучи ребенком (П.Р.).
Речь идет о маленьком Наполеоне Шарле Бонапарте (1802–1807) – старшем сыне Гортензии Богарне и Луи Наполеона; это был любимец Наполеона, который не раз выражал желание усыновить ребенка, много играл с ним и был к нему искренне привязан.
Вот письма, которые писал император по поводу смерти этого ребенка в мае 1807 года. Он был в Финке штейне и писал императрице Жозефине: «Я понимаю все горе, какое должна тебе причинить смерть бедного Наполеона; ты можешь понять мое огорчение. Я хотел бы быть около тебя, чтобы ты была сдержанна и благоразумна в своем горе. Ты счастлива тем, что никогда не теряла детей; но это одно из условий и одно из страданий, связанных с нашими человеческими несчастиями. Как бы я хотел узнать, что ты была благоразумна и что ты хорошо себя чувствуешь! Хотела ли бы ты усилить мое огорчение? До свидания, друг мой».
Несколько дней спустя, 20 мая, он писал голландской королеве: «Дочь моя, все, что я узнаю из Гааги, заставляет меня думать, что вы неблагоразумны. Как ни законно ваше горе, оно должно иметь пределы. Не губите вашего здоровья, развлекайтесь и знайте, что жизнь усеяна такими подводными камнями и может быть причиной таких страданий, что смерть еще не самое большое из них».
В тот же день он писал Фуше: «Потеря маленького Наполеона для меня очень чувствительна. Я бы хотел, чтобы его отец и мать получили от природы столько же мужества, как и я, чтобы уметь переносить все страдания в жизни. Но они моложе меня и менее могли размышлять о непрочности всего в здешнем мире».
Луи Марселей де Фонтан (1757–1821) – французский поэт и политический деятель.
«Le Temple de Gnide» («Книдский храм») – одно из малоизвестных сочинений Монтескье, стилизованная поэма в прозе.
Дюси задался мыслью ввести Шекспира на французскую сцену и с этой целью переделал «Гамлета», «Отелло», «Ромео и Джульетту» и «Короля Лира», руководствуясь переводами Лапласа и Летурнера (сам он не знал английского языка).
Вот какое воспоминание сохранил о соперничестве и таланте этих двух знаменитых актрис мой отец: «Связь императора с госпожой Жорж наделала шума. Общество, как я сам это помню, было очень взволновано этим спором о достоинствах трагических актрис. Спорили живо после каждого представления. Знатоки и в общем салоны были за госпожу Дюшенуа. Но, в сущности, ее небольшому таланту не хватало тонкости. В то же время в ней было много страсти, чувства, трогательный голос, который заставлял плакать. Кажется, это для нее было придумано театральное выражение «иметь слезы в голосе». Моя мать и тетка стояли за госпожу Дюшенуа до такой степени, что способны были бросать копья в моего отца, который был вынужден, по самой своей административной роли, держаться беспристрастно.
Говорили, что одна из них так же хороша, как красива, а другая так же красива, как хороша. Эта последняя, еще очень молодая, надеясь на силу своего очарования, мало работала, а не особенно гибкий голос и известная тяжеловесность в произношении не давали ей достигнуть эффекта обработанной дикции. Мне кажется, однако, что, в сущности, она была умнее своей соперницы и, расточая свой талант в самых различных драматических жанрах, одновременно и губила его, и развивала, и заслужила известную долю той репутации, которую старались создать ей в старости» (77. Р).
Аббат Морелле (1727–1819) – экономист, в свое время деятельный сотрудник «Энциклопедии» Дидро.
Очевидно, что известная часть суждений, выраженных здесь, носит личный характер или же представляет общественное мнение в тот момент нашей истории. Отвечая за все, что я печатаю, я не вполне солидарен со взглядами автора, и нет никакой необходимости противопоставлять по всякому случаю одно мнение другому или какой-либо новый документ впечатлению современника событий. Так, например, вот что отец мой думал о Маре: «…Большая склонность к труду, легкость в выражениях, быстрое и довольно верное понимание материальной и поверхностной стороны дела, память точная в мелочах, привычка заниматься одновременно многим, наконец, способность забыть себя, чтобы вполне слиться с идеей или даже с чувством того, что ему диктовали, – делали из него полезное, или, вернее, удобное орудие, и он хорошо мог бы занимать второе или третье место в министерстве. Он не любил по натуре ни зла, ни несправедливости. Насилие по отношению к людям было не в его вкусе; утверждают, что он и помешал некоторым из таковых проявлений. Наконец, он был действительно привязан к императору и не старался, насколько я его знаю, вызвать никакой низостью несчастья, какие позднее эта привязанность навлекла на него. Но, полный доверия к самому себе, жадный к милостям, ревниво относящийся к своему влиянию, возгордившийся своим положением и властью, он видел врагов в достоинстве, независимости, во всем том, что могло навлечь на него тень, во всем том, что не служило его честолюбию, не льстило его тщеславию или величию. Сохранение своего положения при императоре стало его единственной мыслью и как бы его главной обязанностью. Угождать ему во всем было единственной работой и всей его политикой. Наполеонова система, как ее исповедовал император, была для него официальной, а официальная правда была для него единственной правдой. Он не понимал ничего другого, а если бы и понимал, то ничего бы не говорил об этом».
А вот что пишет о нем Беньо в своих мемуарах: «Маре обладает прекрасным сердцем, он склонен по натуре ко всему доброму. Его ум развит, и если бы его дела не отвлекали от литературы, он был бы уважаемым писателем, если не перворазрядным. Его главный талант заключается в особенной легкости передавать мысли другого; он так его упражнял в редактировании «Монитора» и других текстов подобного же рода, что его ум как бы замкнулся в нем. Вначале Маре не понравился Первому консулу, особенно благодаря свойствам, которые позднее сделались столь ценными для него, – его услужливость, его старание, его готовность стушеваться перед умом других. По мере того как Первый консул сосредоточил в своих руках власть и привык пользоваться ею неделимо, он примирился с секретарем консульства. Деспотизм одного и возвышение другого росли пропорционально».
Эти мнения различные, хотя и не противоречивые, показывают, что влияние герцога Бассано не всегда было полезно с общественной точки зрения, но он был из числа тех, кто думает, что неприятные сообщения или советы, которые не нравятся, более вредны тому, кто их дает, чем полезны тому, кто их получает. Они делают своим законом щадить больше слабости, чем положение своих господ, и служить больше их страстям, чем их интересам. Конечно, эти льстецы отвратительны, но первый источник их ошибок – абсолютная власть. Ведь именно потому, что монарх всемогущ, так опасно ему не нравиться. Все низменное, как и все справедливое, зависит от короля (П.Р.).
Бонапарт, зная, что в Бельгии будет иметь дело с религиозным народом, взял с собой в путешествие кардинала Капрара, который был ему чрезвычайно полезен.
Люсьен к этому времени уже женился на госпоже Жубертон и поссорился с братом.
10 августа 1792 года Людовик XVI был окончательно свергнут и заключен под стражу.
Иаков II (1633–1701) – брат Карла II, был низложен в 1689 году в результате Славной революции.
Эта пьеса никогда не была ни сыграна, ни даже напечатана (П.Р.).
Талейран говорил однажды императору: «Хороший вкус – ваш личный враг. Если бы вы могли избавиться от него пушечными выстрелами, его давно не существовало бы».
В трагедии «Фанатизм, или Пророк Магомет» сын шейха Мекки, Сеид, убивает своего отца, подчиняясь уговорам Магомета.
Амаликитяне – арабский народ, весьма могущественный в период между Исходом израильтян из Египта и правлением царя Саула (ок. 1020 г. до н. э.). Согласно Библии, один из основных и постоянных врагов израильтян.
Герцог Ровиго знал, до какой степени мы, мой муж: и я, были связаны с Талейраном, и желал в тот момент, чтобы, если это возможно, я была ему полезной.
Герцоги Полиньяки (Арман и Жюль) и маркиз де Ривьер состояли адъютантами графа д’Артуа и входили в число заговорщиков.
Кипарис всегда служил эмблемой печали у древних греков и римлян: кипарисовые ветви клались в гробницы, ими в знак траура украшались дома, на могилах сажались кипарисовые деревца.
Шарлотта Луиза де Роган (1767–1841) – жена герцога Энгиенского, с которой он обвенчался за месяц до смерти.
Мой отец слышал от Мунье, сына знаменитого члена Собрания в эпоху революции, что во время кампании 1813 года Коленкур, сопровождая императора с частью, увидел бомбу, взрывающую землю около Бонапарта. Он пустил свою лошадь между императором и бомбой, и в результате ее засыпало осколками, которые, к счастью, никого не ранили. Вечером Мунье, ужиная в главной квартире, говорил с ним об этом акте преданности, которым он подвергал свою жизнь опасности, чтобы спасти своего господина. «Это правда, – отвечал герцог Виченский, – и, однако, я не поверю в существование Бога на небе, если этот человек умрет на троне» (П.Р.).
В то время комендант Парижа.
Меня уверяли потом, что он был огорчен.
Наполеон назначал генерала Гюллена на должности, где более всего требовались преданность и твердость: в 1805 году он был губернатором Вены, в 1806-ом – Берлина, а уезжая в Москву, Наполеон оставил его комендантом Парижа.
Баччиокки был в то время полковником драгун и оставался совершенно чужд общественных дел. У него обнаружилась страсть к скрипке, и он целыми днями музицировал.
Анри де Ла Тур д’Овернь, виконт де Тюренн (1611–1675) – знаменитый французский полководец, маршал Франции; в начале Фронды выступал против кардинала Мазарини совместно с принцем Конде.
Николя Катина (1637–1712) – знаменитый маршал конца царствования Людовика XIV.
Убийство герцога Энгиенского является неисчерпаемым сюжетом для споров между защитниками Наполеона и противниками Империи. Но последние и самые серьезные показания историков и авторов мемуаров ни в чем не противоречат этому рассказу, который носит притом характер искренности и правдивости. Первый консул признал необходимым и приказал совершить убийство, Савари и военная комиссия его исполнили, а Коленкур был бессознательным орудием. Вот выдержка из «Замогильных записок» Шатобриана, которую мне кажется интересным привести здесь, хотя эта книга не принадлежит к числу лучших произведений этого автора и не заслуживает полного доверия. Однако отставка Шатобриана на следующий день после преступления делает, конечно, ему честь. «По поводу ареста герцога Энгиенского состоялось постановление Совета. Камбасерес в неизданных мемуарах утверждает, и я ему верю, что противился этому аресту, но, сообщив о том, что он сказал, он не говорит, что ему отвечали. Притом «Мемориал Святой Елены» отрицает прошения о милосердии, поданные Бонапарту. Пресловутая сцена, когда Жозефина на коленях просила помилования герцога Энгиенского, хватаясь за полы сюртука своего мужа, представляет из себя мелодраматическую сцену, какие придумывают наши баснописцы. Жозефина 19 марта вечером не знала, что герцог Энгиенский должен быть судим; она знала только, что он арестован. Она действительно обещала госпоже Ремюза принять участие в судьбе принца. Только 21 марта Бонапарт сказал жене: «Герцог Энгиенский расстрелян» (П.Р.).
Знаменитые слова Боле о том, что «это хуже чем преступление, это ошибка», – относились как раз к убийству герцога Энгиенского.
После Люневильского трактата (1801 год) Тоскана была превращена в королевство Этрурию и отдана сыну герцога Пармского. После смерти короля в 1803 году престол перешел к его вдове Марии Луизе, дочери Карла IV, а в 1807 году это маленькое королевство было присоединено к Империи, чтобы быть отданным в 1809 году госпоже Баччиокки, которая приняла титул великой герцогини Тосканской.
Наполеон-Ахилл был старшим сыном Мюрата.
Впечатление, полученное обществом, было не так просто, как впечатление обитателей дворца в Сен-Клу. Эти последние привыкли ко множеству вещей, к которым общественное мнение не было приготовлено. Придворные и, в частности, автор этих мемуаров со своими друзьями, не будучи страстными антиреволюционерами, не были также преданы интересам революции и не питали особенного уважения к ее обещаниям. Не будучи роялистами, они были скорее монархистами, чем республиканцами, наконец, они привыкли, благодаря практике, видеть в лице избираемого главы Республики всегдашнего господина, которому надо было повиноваться и нравиться. Для этих переход к Империи был очень легок.
Но Франция была в другом положении. Она была более республиканской в своих идеях, привычках и нравах, чем это думали во дворце. Реакция, страсть к порядку, недоверие к бурям свободы – всё это чувствовали, но считали возможным удовлетворить все эти чувства без монархии, и в особенности без монархии торжественной, наследственной, абсолютной, украшенной импровизированной аристократией и двором из проходимцев.
Было бы наивным отрицать, что тогда совершалось движение против республики и свободы. А между тем новая Франция гордилась новым блеском, который ей доставили победы генерала Бонапарта. Она чувствовала себя поднявшейся после всего того, что во время революции заставляло ее краснеть, она не испытывала ни малейшего желания показываться миру под другим именем. Никакая реальная нужда, никакое угрожающее несчастье, даже никакая фантазия этой изменчивой нации не призывала империи, и успех этого учреждения, которое казалось несколько рискованным фрондирующей и либеральной буржуазии Парижа, был сомнителен до сражения при Аустерлице. Тогда рабство казалось приемлемым, и свободу продали ценой славы (П.Р.).
Это размышление покажется странным, если не вспомнить, что в эпоху Реставрации мало кто решался произносить такие слова, как «империя», «император», даже «Наполеон».
Во времена Реставрации Эмилия Луиза де Лавалетт проникла в тюрьму к мужу, обвиненному в государственной измене, обменялась с ним платьем и осталась в камере. Ему удалось выйти на свободу, а она еще долго оставалась в тюрьме, где сошла с ума. Только в 1822 году Людовик XVIII помиловал беглеца и разрешил ему возвратиться во Францию.
Кажется, автор мемуаров в этой главе, как и в предшествующей, не особенно осведомлен о причине смерти генерала Пишегрю. Сомнение в его самоубийстве было очень распространено, а императору приходилось отвечать за последствия убийства герцога Энгиенского. Со времени этого преступления ему готовы были приписать и другие, на что прежде не отважились бы и самые решительные из его врагов. Однако никак не могли объяснить, почему Наполеон мог желать, чтобы обвиняемый не появлялся перед судом. Тьер определенно доказал, что присутствие Пишегрю при разбирательстве было необходимо. Преступление его было совершенно очевидно, он, несомненно, был бы обвинен и казался вполне заслуживающим осуждения. Пишегрю был человеком, которого можно было бояться. Говорили, правда, что компетентные лица с медицинского факультета доказывали невозможность самоубийства в тех условиях, которые описывали: будто бы он сделал веревку из шелкового галстука, а рычаг – из деревянной подошвы. Но судебная медицина семьдесят лет назад была наукой, основанной на догадках, а последние исследования показали, что самоубийство посредством удушения очень легко и требует очень малых усилий и времени (П.Р.).
С установлением Империи популярная парижская газета Journal des Débats («Журналь де Деба») получила, по распоряжению Наполеона, название Journal de l’Empire («Журналь де л’Ампир»).
Карл Теодор фон Дальберг (1744–1817) – князь-епископ и государственный деятель Священной Римской империи.
Карл Фридрих Баденский (1728–1811) – курфюрст Бадена, великий герцог Баденский.
Этот второй сын королевы Гортензии, Наполеон-Людовик, внезапно умер от кори, не оставив наследника, в 1831 году. Третий сын королевы, Наполеон III, родился 2 апреля 1808 года.
Жозефине был в то время сорок один год.
Карл Людвиг Фридрих (1786–1818) – наследный принц, великий герцог Баденский с 1811 года.
«Я есмь Сущий», слова Господа, обращенные к Моисею. Исход, 3:14.
Речь здесь и далее идет о госпоже Дюшатель (1782–1860), супруге статского советника Дюшателя. Долгое время в мемуарах современников ее имя держалось в секрете.
Послание звучало следующим образом: «…Из всех актов нашей воли ни один не был столь приятен нашему желанию. Евгений Богарне оказался достойным следовать примерам и урокам, какие мы ему давали, и когда-нибудь, с Божьей помощью, даже превзойти их. Хотя он еще молод, но, так как мы испытали его в самых важных обстоятельствах, мы считаем его отныне опорой нашего трона и одним из самых искусных защитников родины. Среди забот и горечей высокого ранга, в который мы возведены, наше сердце нуждается в нежной привязанности и утешительной дружбе этого приемного сына; утешение это, конечно, необходимо всем людям, но особенно нам, так как каждая минута нашей жизни отдана делам народов. Наше отеческое благословение будет сопровождать юного принца на пути всей его карьеры, и с помощью Провидения он когда-нибудь станет достойным одобрения потомства» (П.Р.).
В тот момент, когда я пишу, то есть в сентябре 1818 года, мой муж состоит префектом Северного департамента.
Вот каким образом император объявлял о возвращении своего брата морскому министру вице-адмиралу Декресу:
«Господин Декрес, Жером приехал. Мадемуазель Паттерсон возвратилась в Америку. Он сознается в своей ошибке, не признает эту особу своей женой и обещает творить чудеса. Пока я послал его в Геную на некоторое время».
Салембени, который любил писать письма, довольно свободно писал об Италии, но больше о скандальной хронике двора, чем о политике. Эти письма были распечатаны и показаны императору, который приказал ему уехать в двадцать четыре часа. Эта опала причинила некоторые неприятности моему дедушке. К тому же, хотя в переписке автора этих мемуаров с мужем чувствуется некоторое стеснение, а отдельные фразы как будто специально предназначены для удовлетворения ревнивой подозрительности господина, возможно, и эта переписка была признана слишком свободной (П.Р.).
Это недоверие между обер-камергером и первым камергером, вызываемое и поддерживаемое императором, понемногу сглаживалось, но, несмотря на доброе желание и здравый смысл обоих, близость установилась позднее, в следующем году, во время путешествия в Германию. После первых шагов со стороны Талейрана дедушка написал своей жене письмо из Милана от 7 мая 1805 года: «Талейран здесь уже с неделю. От одного меня зависит считать его своим лучшим другом. Он держится именно так. Я бываю у него довольно часто; он берет меня под руку, говорит со мной в течение двух или трех часов подряд, говорит притом вещи, носящие характер откровенности, интересуется моей судьбой, расспрашивает меня о ней, желает, чтобы я был выделен среди других камергеров. Скажи же, дорогой друг мой, действительно ли он хорошо ко мне относится или желает как-нибудь повредить мне?» Спустя совсем немного времени обо всем этом говорилось уже совершенно иначе, и связь между ними сделалась очень тесной и очень дружеской (П.Р.).
Речь идет о счастливом выступлении генерала Вильнёва, который, подняв парус 30 марта, смог выйти из Тулонского порта, не встретив английского флота.
Жан Зефирен Мори (1746–1817) – депутат от духовенства, лидер правых в Учредительном собрании; про него острили, что это гренадер, переодевшийся семинаристом; одна из его знаменитых фраз: «Господа священнослужители, вас придется побрить; будете слишком вертеться – порежетесь!»
Несмотря на этот совет, конечно, никто не удивится, что я не выпустил этих подробностей частного характера, которые придают рассказу естественность и особенный интерес (П.Р.).
Мон-Сени и Симплон – высокогорные перевалы в Альпах; с 1801-го по 1810 годы по приказу императора через перевалы были построены дороги, соединяющие с Италией соответственно французскую Савойю и долину Роны.
Откровенность или неосторожность Салембени не были единственными причинами беспокойства, которое испытывали мои дедушка и бабушка во время его путешествия по Италии. Вот письмо деда с более серьезными разоблачениями, на которые в мемуарах имеется только намек:
«Милан, 7 июня 1805 года.
Я не желаю, дорогой друг мой, чтобы Корвисар уехал, не взяв письма к тебе. Он счастливее меня, так как увидит тебя через восемь или десять дней, а я могу надеяться на это удовольствие не раньше, чем через пять недель. Сохрани в тайне то, что я говорю о времени своего приезда, потому что император желает, чтобы думали, что он приедет в Париж только через два месяца; но верно то, что он рассчитывает вернуться в Фонтенбло не позднее 22-го или 23-го будущего месяца. У меня есть еще причина писать тебе через Корвисара: дело в том, что все наши письма читают или могут прочитать, и это очень стесняет меня, когда мне хочется поговорить с тобой. Письмо Салембени, найденное в одном из моих пакетов и прочитанное на почте, и было причиной того, что его выслали. Это помешало мне писать тебе откровенно и сделало меня несчастным.
Мне хотелось предупредить тебя, дорогой друг мой, что тебя опять оклеветали перед императором в донесениях из Парижа, обвиняя в том, будто ты принимала участие в насмешках де Дама относительно поездки в Италию и братьев императора. Его величество не говорил мне об этом, но был поражен и обсуждал это с другими несколько раз. Кажется, он хочет потребовать, чтобы ты окончательно порвала с этой семьей. Ты понимаешь, что я мог ответить тем, кто говорили мне от лица императора, не разрешая, однако, объясниться с ним лично. Ты, конечно, знаешь, что я не поверил ни одному слову этой нелепой клеветы, но мне хотелось узнать, кто был доносчиком. Мне ничего не ответили, потому что, как я уверен, это происходит от М., который постоянно интригует из-за деликатного ремесла, которым он занимался всю эту зиму.
Хотя не годится, чтобы ты писала об этом императору или императрице, но ты можешь, однако, повидать Фуше и попросить, чтобы он оказал тебе услугу и откровенно сказал, этот ли человек обвинял тебя в своих донесениях. Если ты напишешь императрице, это будет хорошо, потому что ты недостаточно часто ей пишешь и могла бы, не говоря ничего определенного, рассказать кое-что о своей жизни. Мне пришло в голову, что, быть может, твоя сестра, которая чаще бывает у Дама, подала повод к какому-нибудь недоразумению. Отнесись к этому со своим здравым смыслом и обычной способностью рассуждать и постарайся воспользоваться тем, что я могу наконец сообщить тебе совершенно безопасно.
Впрочем, не думай, что из-за этого со мной плохо обращается мой господин. Он мог бы относиться лучше, но у меня нет повода жаловаться. Что касается императрицы, то она говорит со мной только о себе и о том, что ее интересует, – невозможно быть более занятой собой, чем она теперь. Однако ей доставляет удовольствие хвалиться твоими письмами, и она всегда читает их императору».
Катрин Ноэль Верле (1761–1834), дочь французского офицера Жана Пьера Верле, родилась в Индии, в Пондишери, где ее отец тогда проходил службу. Вышла замуж за Джорджа Фрэнсиса Гранда, английского офицера, служившего в Калькутте, однако вскоре оставила своего мужа и перебралась в Лондон, а затем в Париж, где вела образ жизни дамы полусвета.
Талейран инициировал декрет о национализации церковных земель, а затем, хотя уже не был епископом, провел церемонию посвящения в сан вновь избранных «конституционных» епископов Кемпера, Суас-сона и Парижа. В результате папский престол счел его главным виновником религиозного раскола и в 1792 году отлучил от церкви.
Выражение «Ты этого хотел, Жорж Данден!» («Ти l’as voulu, Georges Dandin!») – искаженная цитата из пьесы Мольера «Жорж Данден, или Одураченный муж» – стала крылатой фразой, означающей «сам виноват в своих бедах».
Это сближение с Талейраном, которое началось во время пребывания дедушки в Милане, сделалось еще более тесным. Вот что писала бабушка своему мужу 28 сентября 1805 года: «Я в самом деле довольна министром. В маленькой аудиенции, которую он мне дал, он по-своему проявил дружбу ко мне. Ты можешь передать ему, что он был очень мил и что я тебе об этом написала. Это никогда не повредит.
Я сказала ему, смеясь: «Любите моего мужа. Это не доставит вам много затруднений, а мне доставит удовольствие». Он уверил меня, что любит тебя, и я поверила. Ему кажется, что мы все слишком скучаем при дворе, чтобы не сделаться несколько легкомысленными, но я, по его словам, – немного позднее других, потому что еще не совсем глупа, а ум – наилучшая защита. Мне хотелось ему ответить, что сам он тоже служит доказательством этого…»
В самом деле, эта фраза встречается в 6-м бюллетене Великой армии из Эльхингена (от 18 октября 1805 года).
Необыкновенная любезность клира по отношению к императору, однако, не удовлетворяла его, если судить по письму, написанному им Фуше 25 декабря 1805 года: «Я предвижу затруднение по поводу чтения бюллетеня в церквях; я не считаю это чтение удобным. Оно может только придать священникам больше значения, чем следует: оно дает им право делать комментарии, и, если будут плохие известия, они, конечно, станут делать к ним комментарии. Вот почему никогда нельзя иметь точных принципов: то совсем не нужно священников, то слишком нужно…»
В окончательной редакции трактата Тироль, как известно, был отдан Баварии, это совпало по времени с браком принцессы Августы и Евгения Богарне, вице-короля Италии.
Слова императора здесь несколько смягчены. Истина заключается в том, что, когда Ремюза подошел к императору и напомнил о его намерении, подавая ему шпагу, император воскликнул: «Оставьте меня в покое! Это дурак!» (П.Р.).
«Эта характеристика герцога Фриульского, – пишет мой отец, – совершенно согласна с мнением всех его просвещенных современников. Редко кто из людей был так холоден, так сух, так занят только собой, без всяких дурных страстей, направленных против других. В то же время его справедливость, его честность, его верность были несравненны. Это был очень хороший администратор. Но весьма любопытно, что моя мать, по-видимому, не знала известного теперь факта: Дюрок не любил императора, или, по крайней мере, строго судил его. В последнее время он был измучен характером своего господина и в особенности его системой, и об этом слышали другие, и даже сам император, накануне или в день смерти Дюрока. Маршал Мармон, хорошо знавший его, изобразил его очень верно».
Однако у императора было к Дюроку какое-то особенное чувство, почти чувство дружбы, редкое для такого человека, как он; вот что писал он 7 июня 1813 года госпоже де Монтескье: «Смерть герцога Фриульского огорчила меня. В течение двадцати лет он в первый раз не угадал, что могло бы доставить мне удовольствие» (П.Р.).
Это чувство по отношению к королеве Гортензии сохранилось у моей бабушки очень надолго. Вот что она писала своему мужу несколько лет спустя, 12 июня 1812 года: «Говоря о королеве, я не могу выразить тебе, какое удовольствие доставляет мне ее общество. Это действительно ангельский характер; это личность совершенно иная, чем обыкновенно думают. Она так правдива, так чиста, так чужда зла, в глубине души ее так много кроткой меланхолии! Она много читает и, по-видимому, желает исправить недостатки своего образования в некоторых отношениях. Наставник ее детей заставляет ее серьезно работать, ей доставляет удовольствие сама работа, и она права. Однако мне хотелось бы, чтобы ее занятиями руководил кто-нибудь более образованный. В известном возрасте нужно учиться больше для того, чтобы думать, чем для того, чтобы знать, и в двадцать пять лет история должна представляться не так, как в десять» (П.Р.).
Заменили стих: «Следовать за Бурбонами – значит идти к славе», – стихом: «Следовать за французами – значит идти к славе».
Этот Жюно, сын торговца, выдвинувшийся благодаря счастливой судьбе, был от природы очень умен. Однажды, когда ему говорили о предубеждении со стороны старинного французского дворянства, он заметил: «Почему же все эти люди так завидуют нашему возвышению? Единственное различие между нами заключается в том, что они являются потомками, а я – предком».
Дело в том, что один из сыновей Людовика XIV и госпожи де Монтеспан, Луи-Огюст де Бурбон, женился на Анне Луизе Конде, дочери принца Конде.
Вот каким образом император сообщал Евгению Богарне о его браке в письме от 31 декабря 1805 года: «Сын мой, я приехал в Мюнхен и устроил ваш брак с принцессой Августой, он объявлен сегодня утром. Принцесса нанесла мне визит, и я очень долго говорил с ней. Она очень красива. Вы найдете ее портрет на прилагаемой чашке, но она гораздо лучше».
Привязанность, которую император питал к вице-королю Италии, он всецело перенес на эту принцессу. С первого дня он отнесся к ней благосклонно, и его письма наполнены заботами о ее здоровье и счастье. Так, он писал ей из Штутгарта 17 января 1806 года:
«Дочь моя, ваше письмо так же мило, как и вы сами. Чувства, которые я к вам питаю, только усиливаются с каждым днем. Я чувствую это по тому удовольствию, с каким вспоминаю ваши прекрасные качества, и по тому, что испытываю потребность часто слышать от вас самой, что вы всем довольны и счастливы с вашим мужем. Среди всех моих дел самым дорогим для меня всегда будет то, что сможет упрочить счастье моих детей. Поверьте, Августа, я люблю вас как отец и надеюсь, что и вы будете ко мне относиться со всей нежностью дочери. Берегите себя в путешествии и в новом для вас климате, достаточно отдыхая. Вам пришлось слишком много двигаться в течение месяца; подумайте хорошенько, я не хочу, чтобы вы были больны».
Наконец, через несколько месяцев он писал принцу Евгению: «Сын мой, вы слишком много работаете, ваша жизнь слишком монотонна. Это хорошо для вас, потому что труд должен быть для вас отдыхом, но у вас есть молодая беременная жена. Мне кажется, вы должны устраиваться так, чтобы проводить с ней вечер и принимать у себя небольшое общество. Отчего вы не бываете в театре раз в неделю в ложе? Мне кажется также, что вам следовало бы иметь маленький охотничий экипаж, чтобы вы могли охотиться хоть раз в неделю; охотно назначу на это известную сумму в бюджет. Нужно, чтобы у вас в доме было веселей; это необходимо для счастья вашей жены и для вашего здоровья. Можно делать много дел в короткое время. Я веду такую же жизнь, как и вы, а у меня старая жена, я ей не нужен, чтобы развлекаться, притом у меня больше дел; но я, однако, сказать правду, развлекаюсь больше, чем вы. Молодой женщине необходимо развлечение, особенно в таком положении, в каком она находится. Вы прежде любили удовольствия; нужно вернуться к старым вкусам. То, что вы не стали бы делать для себя, вы должны сделать для принцессы. Для принцессы было бы хорошо, если бы вы ложились спать с ней в одиннадцать часов; если вы будете заканчивать работать в 6 часов вечера, у вас оставалось бы 10 часов на работу, если бы вы вставали в 7 или в 8 часов» (П.Р.).
Речь идет об Андриенне-Ире-Луизе де Карбоннел де Канизи (1785–1876), фрейлине императрицы.
Фердинанд I был внуком Филиппа V, основателя испанской линии Бурбонов.
Вот эта прокламация, действительно написанная в духе, указанном в этих мемуарах, но в гораздо более резких выражениях: «Солдаты! В течение десяти лет я делал все, чтобы спасти неаполитанского короля, но он делал все, чтобы погубить себя. После битвы при Дето, Мондови, Лоди он мог только слабо сопротивляться мне. Я поверил словам этого короля. Я был великодушен по отношению к нему.
Когда вторая коалиция была разбита при Маренго, неаполитанский король, первый начавший эту несправедливую войну, покинутый в Люневиле своими союзниками, остался одиноким и беззащитным. Он обратился ко мне с мольбой, и я простил ему во второй раз. Несколько месяцев тому назад вы были у ворот Неаполя. У меня имелось достаточно законных причин подозревать готовившуюся измену и отомстить за нанесенное мне оскорбление. Я был опять великодушен. Я признал нейтралитет Неаполя, приказал вам очистить это королевство, и в третий раз неаполитанский трон был утвержден и спасен.
Простим ли мы в четвертый раз? Доверимся ли мы в четвертый раз двору без совести, без чести, без разума? Нет, нет! Неаполитанская династия перестала царствовать; ее существование несовместимо с покоем Европы и честью моей короны.
Солдаты, идите! Бросьте в море эти жалкие батальоны морских тиранов! Покажите миру, как мы наказываем клятвопреступление. Постарайтесь поскорее сообщить мне, что вся Италия подчиняется моим законам или законам моих союзников, что самая прекрасная страна в мире освобождена от ига самых вероломных людей, что святость трактатов отомщена и тени моих храбрых солдат, убитых в портах Сицилии по возвращении из Египта, после того, как они избежали опасности бурь, пустынь и сражений, наконец успокоились».
Принц Карл был сначала женихом принцессы Августы Баварской, которая позже вышла замуж за итальянского вице-короля.
Первая промышленная выставка была устроена в 1802 году, так что эта была уже второй по счету.
Речь идет о Марии-Антуанетте Неаполитанской, королеве Обеих Сицилий (1784–1806), жене Фердинанда VII, которая руководила действиями мужа и постоянно интриговала за его спиной.
Жозефина-Луиза Бальби, графиня де Комон (1763–1836), любовница графа Прованского, будущего Людовика XVIII, была известной интриганкой.
В «Мемориале Святой Елены» читаем воспоминания Бонапарта: «Прекрасные итальянки напрасно старались явить все свои прелести, я был недоступен их чарам. Они вознаграждали себя с моей свитой. Одна из них, графиня С., когда мы проходили Брешию, оставила Луи такой залог, о котором он будет долго помнить» (П.Р.).
Ясно, что автор решил дать эту характеристику генерала Кларка, герцога де Фельтра, из-за той роли, какую Кларк играл в первое время Реставрации, и того впечатления, какое произвела его смерть в 1818 году, в то самое время, когда были составлены эти мемуары. Генерал Кларк, родившийся в Ландреси в 1763 году, военный министр в 1807 году, пэр Франции в 1814-м, наконец, маршал Франции – в 1817-м, был одним из главных орудий реакции 1815 года. Он был в 1818 году предметом страстных сожалений правой партии, которая с энтузиазмом сравнивала его с его преемником, маршалом Гувьон-Сен-Сиром. За несколько лет до этого, когда он был министром императора, Кларк обращал на себя внимание старанием понравиться своему господину, что сделало его непопулярным и заставляло ставить на одну доску с Маре. Однако у него была репутация честного человека, не злого и не вероломного; и несмотря на то, что он преданно служил обоим режимам, генерал оставил после себя хорошую память как частное лицо.
Племянника аббата Монтескье.
Герцог Фезензак и в самом деле в 1813 году, будучи еще очень молодым, сделался бригадным генералом. Умер он в 1867 году. Мы все знали его в последние годы его жизни. Это был человек искренний, добросовестный и кроткий, обладающий удивительной памятью. Он оставил целый том интересных воспоминаний, которые правдиво и пикантно изображают известные стороны жизни императорской армии (П.Р.).
У госпожи де Шеврез действительно были рыжие волосы, и император как-то поставил ей это в вину. «Возможно, это и так, – отвечала она, – но ни один человек еще никогда меня этим не упрекал».
Матье Моле (1584–1656) – первый президент парижского парламента в 1641–1653 гг., видный государственный деятель, автор известных «Мемуаров».
Подробности, которым посвящена эта глава, могут показаться мелочными, но, чтобы сохранить характер этих мемуаров, не следует ничего упускать. Подобные рассказы всегда были приняты в свете, и знаменитые историки XVII века давали нам возможность проникнуть в самые интимные – я чуть было не сказал: самые низменные – подробности повседневной жизни Людовика XIV и главнейших персонажей его времени. Впрочем, надо заметить, что моя бабушка была тем более ослеплена воспоминанием о великолепии Империи, что в течение первых лет Реставрации Франция обеднела, а возраст принцев, их вкусы и привычки придавали двору характер скромности, который составлял полный контраст с великолепием прежних лет. Это великолепие было впоследствии так превзойдено, что все, описанное здесь как большая роскошь, может показаться простотой нашим современникам (П.Р.).
Эти награды зависели обыкновенно от склонности Наполеона к артистам. Несколько раз он выплачивал долги Тальма, которого знал и любил; дарил ему иногда единовременно суммы в двадцать, тридцать или сорок тысяч франков.
Министр Фуше составил свое состояние доходами с карт; Савари получал с них тысячу франков в день.
Речь идет о жене маршала Ланна, Луизе-Антуанетте Геэнек (1782–1856). После женитьбы на эрцгерцогине Марии Луизе император назначил мадам Ланн, которую очень ценил, гоф-дамой новой императрицы. Женщины быстро нашли общий язык и были неразлучны.
Бывший отель Лонгвиль на площади Карусель. Нечего и говорить о том, что конюшни и отель были снесены для постройки Лувра.
Это были кашемировые шали, которые вошли в моду благодаря египетской кампании и последовавшей за ней склонности к восточному стилю.
Речь идет о браке герцога Абенберга, Проспера Людвига (1785–1861) со Стефанией Таше де да Пажери (племянницей Жозефины).
Фанни де Богарне (урожд. Мария-Анна-Франсуаза Мушар, (1738–1813) – имела литературный салон. Это о ней как-то сказал Лебрен: «У нее две маленькие странности – она сочиняет себе лицо и не сочиняет стихов».
Четвертого марта Сенату было объявлено о свадьбе в следующих выражениях: «Сенаторы, желая дать доказательство нашей любви к принцессе Стефании Богарне, племяннице нашей возлюбленной супруги, мы помолвили ее с принцем Карлом, наследным баденским принцем, и сочли нужным при данных обстоятельствах удочерить названную принцессу Стефанию Наполеон. Этот союз, результат дружбы, связывающей нас в течение нескольких лет с баденским курфюрстом, показался нам также соответствующим нашей политике и благу наших подданных. Наши рейнские департаменты будут рады союзу, который послужит новой причиной поддерживать торговые и дружеские отношения с подданными курфюрста. Достоинства принца Карла Баденского, особенно расположение, которое он проявлял по отношению к нам во всех обстоятельствах, являются для нас верной гарантией счастья нашей дочери. Привыкнув к тому, что вы всегда разделяете все наши интересы, мы сочли необходимым не медлить долее с тем, чтобы сообщить вам о союзе, очень для нас приятном».
Жак Делиль, Шатобриан, госпожа де Сталь и госпожа де Жанлис.
Франсуа де Малерб (1555–1628) – основоположник классицизма во французской поэзии.
В частности, Наполеон был взбешен появлением произведения Неккера «Последние взгляды на политику и финансы», в котором автор писал: «Я не верю, чтобы даже Наполеону с его талантом, гением, со всем его могуществом удалось, наконец, в современной Франции основать умеренную наследственную монархию».
Взгляд на главнейшие события Французской революции» (П.Р.).
Госпожа де Жанлис многие годы была воспитательницей детей в доме герцога Орлеанского.
Как, например, Эсменар, Парсоваль, Лука де Лансиваль, Кампенон, Мишо и пр.
Вот что писал мой отец по поводу этой главы историко-литературного характера: «Суждения моей матери относительно литературы и искусства могут показаться несколько необоснованными. Действительно, в этом отношении у нее сохранилось больше всего, осмелюсь сказать, предрассудков воспитания. Она предвзято восхищалась Людовиком XIV, придерживаясь вместе с тем политических убеждений, которые были бы бессмысленными, если бы правление Людовика XIV было идеальным. Так же точно ей нравилась несколько холодная и притворная правильность литературных произведений этого царствования, это казалось ей признаком красоты; а между тем, когда ее классическую совесть заставали врасплох, моей матери нравились особенно сильные и живые произведения, естественные и смелые.
В ранней юности она больше всего любила Руссо. Только заинтересовавшись политикой, она с энтузиазмом стала относиться к госпоже де Сталь; новые произведения Шатобриана очаровали ее. Она видела, как загоралась заря романтизма, и страшно увлекалась романами Вальтер Скотта, «Паризиной» и «Чайльд Гарольдом» Байрона и трагедиями Шиллера. Однако ей казалось, что литература революционной эпохи беспорядочна, и она приветствовала в эпоху Империи возвращение точного и правильного стиля; ей казалось, что она присутствует при возрождении искусства самого высшего свойства.
Мать говорит о Шатобриане несколько сухо, недостаточно дает понять, как ей нравился его талант. Правда, его произведения с 1815-го до 1820 года ее возмутили, а так как характер этого человека никогда ей не нравился, то она зашла слишком далеко в своей строгости по отношению к нему.
Мать моя жила вдали от госпожи де Сталь, и у нее были против этой дамы предубеждения круга и воспитания. Она слышала о госпоже де Сталь главным образом от Талейрана, который насмехался над ней и дурно к ней относился. Так как наши впечатления гораздо больше зависят от наших предвзятых взглядов, чем следовало бы, это сначала помешало моей матери оценить талант и ум госпожи де Сталь. Она не то что не любила «Коринну» и «Дельфину», но боялась их любить и только с известными колебаниями и ограничениями решалась восхищаться произведениями, где думала найти влияние философии или революции.
Все это изменилось в 1818 году. Но в том, как моя мать судит о личности и даже о произведениях госпожи де Сталь, можно еще видеть ярко выраженные следы старой точки зрения. Я не могу удержаться от легкой улыбки, видя, как она считает покой необходимым условием таланта. Это одна из идей XVII века, или, вернее, та точка зрения, с которой риторы той эпохи заставляли нас судить о XVII веке» (Я.Р.).
Фонд «Mont Napoleon» был создан из ежегодных доходов, получавшихся с королевства Италии.
Жозеф Бонапарт настаивал на включении этого последнего пункта.
На этом балу присутствовало две тысячи пятьсот человек; ужин был подан в зале Государственного совета.
Город Базель, напуганный угрозами французского правительства, порвал торговые сношения с Англией. Королева Этрурии, неуверенная в своем положении в государстве, сделала то же.
На основании этих строк можно подумать, что Луккезини сделался посланником только в это время. Однако он уже был посланником на момент заключения Амьенского мира. Он не всегда поддерживал интересы Франции и, хотя был в близких отношениях с Талейраном, принадлежал скорее к английской партии, как об этом говорится немного дальше, в главе XXI. Луккезини вызывал своими донесениями тревогу в Пруссии и враждебное отношение в этой стране по отношению к нам.
Это определение взято из «Энциклопедии».
Эти отъезды и долгое отсутствие императора были так часты, что теперь это трудно себе представить. Ни один государь не жил в своей столице так мало, как Бонапарт. Существует интересная книга: «Путешествия Наполеона и хронологические данные, указывающие, день за днем, те места, где бывал Наполеон и что он там делал». Из этой книги, очень точной, в особенности относительно периода величия Империи, можно заключить, что Наполеон со времени вступления на трон до отречения в 1814 году провел в Париже только 955 дней, то есть меньше трех лет из десяти лет царствования. Он находился если не за пределами Франции, то по крайней мере вдали от Парижа и от дворцов больше 1600 дней, то есть больше четырех лет, а несколько раз его отсутствие продолжалось шесть месяцев подряд.
В сентябре 1792 года австро-прусские войска под командованием герцога Брауншвейгского были разбиты при Вальми.
Письма моей бабушки в самом деле показывают, какая громадная перемена произошла в общественном мнении относительно военных успехов императора. Вот, например, что пишет она своему мужу через два месяца после битвы при Йене и перед битвой при Эйлау: «12 декабря 1806 года. Это еще новое горе, что мы даже не можем свободно высказываться на расстоянии, но нужно примириться со всеми жертвами и верить, что эта последняя жертва доставит нам долгий мир. Мир! Его совсем не ждут. У нас господствует какое-то уныние, какое-то общее недовольство. Люди страдают и громко жалуются. Эта кампания не производит и четверти того впечатления, какое производила предшествующая. Никакого восхищения, ни даже удивления, потому что все пресыщены чудесами. В театрах не аплодируют при получении бюллетеней. Общее впечатление очень тягостное. Я скажу даже, что оно совершенно несправедливое, потому что, наконец, бывают же случаи, когда события увлекают даже самых сильных людей дальше, чем они того хотели бы, и не могу понять, как человек с выдающимся умом не желает другой славы, кроме военной. Прибавь к этому рекрутский набор и новое постановление относительно торговли. Недоброжелательство пользуется всем и судит неразумно; в этих мерах не желают видеть ничего, кроме раздражения. Я не решаюсь судить о них, но чувствую, что у меня все еще есть потребность восхищаться и доверяться власти, от которой зависит судьба всего, что мне дорого».
Это письмо не было отправлено по почте, его передал один из друзей. Но и в письмах, посылаемых по почте, не сдерживались в проявлении недоверия, даже ужаса, который внушал подобный режим (П.Р.).
Этого письма нет в корреспонденции Наполеона, напечатанной в эпоху Второй империи. Но письма, относящиеся к этому времени, и по форме, и по содержанию очень похожи на только что приведенное. Впрочем, это было обычное содержание писем императора к Жозефине во время всех его походов. Вот, например, что писал он ей из Варшавы несколько месяцев позднее, 23 января 1807 года: «Я получил твое письмо от 15 января. Совершенно невозможно, чтобы я позволил женщинам совершать подобное путешествие: плохие дороги, опасные и грязные. Вернись в Париж, будь веселой и довольной. Может быть, и я скоро туда приеду. Я посмеялся над твоими словами, что ты вышла замуж, чтобы быть всегда с мужем; а я, при своем невежестве, думал, что жена создана для мужа, а муж – для родины, семьи и славы. Прости мне мое невежество, мы всегда учимся у наших прелестных дам. Прощай, друг мой. Поверь, что мне дорого стоит отказаться от твоего приезда. Скажи себе: «Это доказывает, как я дорога ему»» (П.Р).
В сражении при Заальфельде принц Людвиг во главе 8300 человек атаковал части 5-го корпуса маршала Ланна. Отряд принца был практически полностью уничтожен, а сам он заколот штыком.
Вот каким образом император описывал императрице битву при Йене в письме, посланном с поля сражения 15 октября 1806 года: «Друг мой, я удачно действовал против пруссаков и одержал вчера большую победу. Их было 150 тысяч человек, я взял 20 тысяч пленных, сто пушек и знамена. Я был очень близко от прусского короля. Мне не удалось взять его в плен, так же, как и королеву. Я стою бивуаком в течение двух дней, чувствую себя чудесно. Прощай, друг мой, будь здорова и люби меня. Если Гортензия в Майнце, передай поцелуй ей, а также Наполеону-маленькому».
Бюллетень от 17 октября: «Королева – красивая женщина, но не особенно умная…» Позднее: «В Берлине говорят: «Королева была так добра, так кротка! Но после рокового свидания с красавцем императором – как она переменилась!»».
Подразумевается главнокомандующий французской армией во время Семилетней войны Шарль де Роган, принц де Субиз (1715–1787) – адъютант Людовика XV; обе фаворитки короля открыто поддерживали принца.
Нетрудно заметить, что королева Гортензия и ее придворные дамы забавлялись как пансионерки, это было следствием дружеских отношений, установившихся в доме госпожи Кампан. Шарль Луи Бонапарт (или Наполеон III), по-видимому, унаследовал кое-что из этого. Он очень любил, даже в немолодые годы, всевозможные невинные игры, жмурки, шутки, что кажется немного странным. Только это, как говорили, могло развеселить его, позабавить и придавало ему некоторую приветливость, каковой ему недоставало и в обществе, и в политике (П.Р.).
Вот как император рассказывал об этой сцене императрице: «Я получил письмо, где ты, кажется, сердишься за то дурное, что я говорю о женщинах. Несомненно, я больше всего ненавижу женщин-интри-ганок. Я привык к женщинам добрым, кротким, сговорчивым, и именно таких я люблю. Если они испортили меня, то в этом виноват не я, а ты. Впрочем, ты увидишь, что я был очень добр к одной из них, чувствительной и кроткой, к госпоже Хатцвельд. Когда я показал ей письмо ее мужа, она сказала мне, рыдая, с глубоким чувством и наивностью: «Да, это его почерк!» Выражение, с которым она читала это письмо, проникало в душу. Мне стало жаль ее, и я сказал: «Ну, мадам, бросьте это письмо в огонь, и тогда мне уже нельзя будет наказать вашего мужа». Она сожгла письмо и показалась мне очень счастливой. Муж ее теперь совершенно спокоен, а ведь тогда он мог погибнуть через два часа. Итак, ты видишь, что я люблю женщин добрых, наивных и кротких, но это потому, что только такие женщины похожи на тебя. Берлин, 6 ноября 1806 года, 9 часов вечера».
Эти рассказы согласуются один с другим. Однако в то же время говорили, что император, желавший применить строгие меры, заметил, что письмо написано до того момента, когда оно, по военному закону, могло быть рассмотрено как акт шпионства, и в таком случае вся эта сцена была разыграна ради драматического эффекта. Другие говорили, что сама госпожа Хатцвельд, взглянув на письмо, показала императору его дату, тогда он тотчас же воскликнул: «О, в таком случае сожгите это!»
Император часто ставил эту поспешность в упрек тем, кому было поручено праздновать его славу в парижских театрах. Так, он писал из Берлина Камбасересу 21 ноября 1806 года: «Если армия старается по мере своих сил прославить нацию, то нужно признать, что писатели делают все, чтобы ее обесславить. Вчера я читал плохие стихи, которые пели в Опере. В самом деле, это настоящая насмешка. Как вы можете допускать, чтобы в Опере распевали экспромты? Это годится только в водевиле. Передайте мое неудовольствие Люсею. Он и министр внутренних дел могли бы, кажется, позаботиться о том, чтобы было создано что-нибудь порядочное. Но для этого надо играть пьесу только через три месяца после того, как она заказана. Смешно заказывать поэту эклогу так, как заказывают кисейное платье».
По этому поводу Талейран говорил: «Дамы, император не шутит: он желает, чтобы вы веселились».
Переписка императора, напечатанная в правление Наполеона III, знакомит нас с некоторыми из его ответов, которые императрица Жозефина не показывала даже своей поверенной. Вот, например, отрывок из письма от 31 декабря 1806 года: «Я много смеялся, получив твои последние письма. Ты себе представляешь польских красавиц так, как они того не заслуживают. Я получил твое письмо в плохом сарае, где грязь, ветер и солома заменяли мне постель». Несколько дней спустя, 19 января 1807 года, император писал из Варшавы: «Друг мой, я в отчаянии от тона твоих писем и от того, о чем слышу. Я запрещаю тебе плакать, огорчаться и беспокоиться, я хочу, чтобы ты была весела, любезна и счастлива» (П.Р.).
19 марта 1807 года.
То есть продиктовал. Бонапарт писал очень плохо и никогда не брал на себя труда написать хотя бы самое короткое письмо.
Вот письмо императора: «Господин Шампаньи, мы желаем поставить в Институте, в зале заседаний, статую д’Аламбера, того из французских математиков, который в течение последнего века наиболее содействовал развитию этой главной из всех наук. И мы желаем, чтобы вы сообщили это решение первому отделению Института, который увидит в этом доказательство нашего уважения и постоянного желания награждать и поощрять труды этого общества, столь важные для благоденствия и благосостояния нашего народа. Остероде, 18 марта 1807 г.».
Сама королева рассказывала мне об этом.
Это описание страданий королевы Гортензии нисколько не преувеличено. Вот что писал мой дедушка своей жене из Брюсселя, куда он сопровождал императрицу 16 мая 1807 года: «Вчера вечером приехали король и королева. Свидание с императрицей было тяжело только для королевы, да и могло ли быть иначе? Представь себе, друг мой, что она хоть и здорова, но находится в таком состоянии, в каком представляют на сцену Нину. Она думает только об одном – о своей потере, она говорит только о нем. Ни одной слезы, но холодное спокойствие, почти остановившийся взгляд, почти абсолютное молчание; а если она говорит, то ее слова раздирают душу тех, кто ее слушает. Если она видит кого-нибудь из тех, кто был когда-либо с ее сыном, она смотрит на него ласково и с интересом и говорит тихим голосом: «Вы знаете, он умер». Приехав к матери, она сказала ей: «Недавно он был здесь со мною, я держала его на коленях». Через несколько минут, заметив меня, она делает мне знак приблизиться. «Помните ли вы Майнц? Он играл в комедии вместе с нами». Она слышит, как бьет десять часов, и, обращаясь к одной из своих придворных дам, говорит: «Ты знаешь, он умер в десять часов». Вот какими словами прерывает она свое молчание. Вместе с тем она добра, умна, рассудительна: она прекрасно сознает свое состояние, даже говорит о нем. Она счастлива, «что впала в бесчувственное состояние, иначе страдала бы еще больше». Ее спросили, взволновала ли ее встреча с матерью. «Нет, – отвечала она, – но я довольна, что вижу ее». Ей сказали, что мать очень огорчена ее равнодушием при свидании. «Боже мой, – вздохнула королева, – пусть она сердится, уж я такая». На все вопросы, не касающиеся ее горя, она отвечает: «Мне все равно, как хотите». Ей кажется, что она должна переносить свое горе в одиночестве, но она не желает снова увидеть те места, которые напоминают ей о сыне». Я предоставляю понимающим людям разобраться в этом и решить, не было ли некоторой аффектации в этом выражении горя со стороны бывшей воспитанницы госпожи Кампан. Как бы то ни было, это горе должно было тронуть всякого (П.Р.).
Луи Бонапарт сам назначил Деказа на довольно незначительную должность при дворе Мадам Мер. Его никогда не видели ни при дворе, ни в большом свете. Кто сказал бы тогда, что через несколько лет Деказ станет пэром Франции и любимцем Людовика XVIII.
Элизабет Мюрер, дочь президента кассационного суда.
Шарль Луи Наполеон Бонапарт (1807–1873) – будущий Наполеон III.
Эта речь и ее заключение приведены в первой части книги. Мне казалось, что не следует избегать этого повторения, потому что приводимые здесь новые подробности очень интересны. Чтобы лучше познакомить читателя с семейной жизнью короля и королевы Голландии, я прибавлю к этим подробностям письмо, написанное королю его братом из Финкенштейна 4 апреля 1807 года, приблизительно за месяц до смерти ребенка: «Слухи о ваших ссорах с королевой распространяются в обществе. Проявляйте в своей семейной жизни тот отеческий и слабый характер, который вы проявляли в управлении, а в делах будьте так же строги, как в своей семье. Вы обращаетесь с молодой женщиной как с военным отрядом… У вас самая лучшая, самая добродетельная из жен, а вы делаете ее несчастной. Пусть она танцует, сколько хочет, – это естественно в ее возрасте. Моей жене сорок лет, а я пишу ей с поля битвы, чтобы она отправлялась на бал. Вы же хотите, чтобы двадцатилетняя женщина видела, как проходит ее жизнь, в которой она еще не разочаровалась, жила бы как монахиня или кормилица, которая только и занимается тем, что купает своего ребенка! Вы слишком много требуете в вашей семейной жизни и слишком мало в администрации.
Я бы не высказал вам всего этого, если бы не относился к вам с участием. Сделайте счастливой мать своих детей; для этого существует один способ: выказывайте побольше доверия и уважения. Если бы ваша жена была кокеткой, она сумела бы провести вас. Но у вас гордая жена, которая возмущается и огорчается от одной мысли, что вы, может быть, о ней дурного мнения. Вам бы нужно было иметь одну из таких жен, каких я знаю в Париже. Она бы держала вас под башмаком, и вы были бы у ее ног. Я часто говорил это вашей жене».
Остроумные или по крайней мере комичные реплики жены маршала Лефевра переходили в обществе из уст в уста. Сохранился, к примеру, анекдот о поисках очень красивого бриллианта, который исчез во дворце герцога Данцингского. Заподозрили полотера, который находился в помещении один, искали очень тщательно, но ничего не нашли. «Эх, дети мои! Ничего-то вы в этом не понимаете! – заявила жена маршала, присутствовавшая при обыске. – Если бы вам пришлось, подобно мне, видеть за работой комиссаров Конвента, которым чуть не ежеминутно приходилось обыскивать солдат, сержантов и даже полковников, мародерствовавших среди населения, тогда вы знали бы, что для мошенников существуют другие тайники, кроме карманов, чулок и шляп. Ну-ка, пустите меня!» И затем с обычной бесцеремонностью она принялась лично обыскивать раздетого донага полотера и вскоре вытащила украденный бриллиант из такого интимного отверстия, где полицейскому даже в голову не пришло искать.
Муж ее также был известен фразами, которые цитировали, и некоторые из них отличались солдатским красноречием. Когда один из товарищей детства стал надоедать ему, недоброжелательно и с завистью говоря о его богатстве, титулах и роскоши, маршал сказал ему: «Ну что ж, пойдем с тобой в мой сад, я шестьдесят раз выстрелю в тебя, и, если ты останешься жив, все это великолепие будет твоим».
Вот что писала моя бабушка из Ахена своему мужу 4 июля 1807 года: «Префект очень любезен, но теперь это уже не тот изящный, любимый в обществе человек, каким ты описывал его мне. Он уже немолод, с красноватым цветом лица; говорит только о своем департаменте, вечно им занят, ничего не знает о том, что делается вне Ахена, не открывает ни одной книги и занимается только своей должностью. Кажется, его здесь любят; живет он очень просто». Вскоре после этого, 17 июля, она писала: «Мне нравился бы префект – у него много благородной вежливости, хорошего тона, – но он слишком холоден, и в нем слишком чувствуется префект… Ты видишь, что это не прежний Ламет. Замечательно то, что он всегда сводит разговор на прошедшие события и любит напоминать о своей близости к старому двору и о милости, которой пользовался при нем. Впрочем, я нахожу, что префект стал любезнее; иногда он наносит мне утренние визиты, но сидит недолго. Через несколько минут он сводит разговор к началу революции, к Учредительному собранию, к идеям о возрождении, к надеждам на реформы…» (П.Р.).
Прежде часто обсуждали вопрос, каковы были взгляды императора на религию, бессмертие души, существование Бога. Всем хочется знать, что думают гениальные люди об этих проблемах, которые они разрешают не лучше нас. Я часто спрашивал своего отца, могли ли его родители или кто-либо из обычных собеседников Наполеона сказать ему по этому поводу что-нибудь определенное. Но он также вынужден был ограничиваться одними догадками. Мать его, когда он ее спрашивал, отвечала, что не помнит, чтобы император говорил о религии серьезно или вполне определенно. Он не нападал на догматы и не смеялся над ними. Он не любил неверующих философов, но отвращение, которое он питал к их социальным воззрениям, было достаточным, чтобы объяснить его суровое к ним отношение. Однако он говорил о священниках без особенного уважения. Намекая на прошлое кардинала Феша, он уверял, что склоняется к тому, чтобы не верить искренности и усердию священника.
У Бонапарта не было никакой склонности к набожности, никакого понятия о том, что составляет она для многих. Казалось, он никогда и не встречал ее и считал лишь народным предрассудком. Фактически он был неверующим, но не по убеждению или склонности. Религия была ему чужда. Он совсем не употреблял таких слов, как «Провидение» и даже «Бог», но это зависело скорее от привычек, создавшихся в его время, чем от предвзятых взглядов. Подобно многим людям конца XVIII века он, в сущности, никогда не думал о религии. Больше, чем всякий другой, он должен был считать потерянным время, посвящаемое ей, за исключением тех моментов, когда он уделял религии внимание, чтобы расположить к себе мусульманские народности или угодить населению Бельгии или Вандеи (П.Р.).
В то время царю было тридцать лет, он был очень красив и необыкновенно изящен.
Император писал императрице: «Тильзит, 8 июля 1807 г. Прусская королева была действительно очаровательна; она очень кокетничала со мной; но не ревнуй: я стреляная птица, и все это только скользит по мне. Мне слишком дорого бы обошлось ухаживание за ней».
Несмотря на замечание, высказанное на предыдущей странице, я должен по справедливости указать на ошибку Талейрана, которую он сделал, покидая министерство иностранных дел, и пожалеть о ней, особенно если он сделал это по собственному желанию, независимо от императора. Как не понял он, насколько ухудшится его положение и с какими затруднениями ему придется встретиться, чтобы изменить настроение императора относительно дел Испании или какой-либо другой страны? Ведь теряют большую силу, оставляя министерский портфель, то есть деятельность, и ограничиваясь ролью советчика. Правда, Талейран сделался тогда высшим сановником Империи, был возведен в княжеское достоинство, а, будучи настоящим вельможей, он был неравнодушен к блеску, пусть и без власти. Иначе нельзя объяснить себе эту политическую ошибку. С этого времени Талейран мог высказываться только тогда, когда его звали, и его советы могли иметь вес только тогда, когда их просили. Правда, что его преемник был человеком кротким и скромным, и Талейран, вероятно, надеялся руководить им; но Шампаньи скорее повиновался своему господину – императору, чем своему предшественнику, впавшему в немилость (П.Р.).
Как важный государственный сановник он получал триста тысяч франков содержания, т. е. треть миллиона, ассигнованного французским принцам. Император добавлял ему шестьсот тысяч, которые он получал, будучи консулом. Главный казначей Лебрен получал пятьсот тысяч франков.
Министры получали обыкновенно двести десять тысяч франков содержания; министр иностранных дел получал больше.
О королеве Марии-Антуанетте.
Шатобриан продолжал печатать в газетах отрывки из своего «Путешествия», которые читали с интересом. Они были хорошо приняты благодаря тому, что в них партийный дух соединялся с изяществом. Получалось нечто вроде маленькой войны, которую он вел с Бонапартом и которая не нравилась последнему, как всякого рода оппозиция.
Эта поездка в Фонтенбло представляет собой один из интереснейших эпизодов придворной жизни в эпоху Империи. Кажется, император никогда не посвящал так много времени подобной жизни, со всеми ее удовольствиями, со всем ее блеском; по крайней мере здесь, а не в каком-либо другом месте, в это время императорский двор был в первый раз настоящим двором. Во всех других местах то, что называли двором, было только парадом, церемонией, где люди фигурировали больше для того, чтобы показать свои мундиры, а не самих себя. Здесь так же, как при Людовике XIV или Людовике XV, жили общей жизнью, и, несмотря на строгий этикет и на страх перед господином, должны были проявиться естественные склонности. Тут были интересы, страсти, интриги, слабости, измены – одним словом, это был настоящий двор. Я не хочу судить о таланте автора в описании всех этих деталей и ограничиваюсь ролью издателя – делаю примечания для объяснения, а не для похвалы. Но так как публика доказала своим интересом к книге, как ценит она эти мемуары, то меня извинят, если я скажу, что отец мой предвосхитил суд общественного мнения, так как решался сравнивать произведение своей матери с самыми лучшими литературными образцами.
Вот что думал он об описании жизни в Фонтенбло: «Эта глава, не заключающая в себе никаких событий, является, бесспорно, одной из самых замечательных глав этого произведения.
В некоторых частях этой главы слишком много рассуждений, которые повторяются. Если бы моя мать пересмотрела это произведение, она сократила бы его и многое выбросила. Однако я убежден, что текст должен остаться таким, каков он есть, и что эта глава, бесспорно, заслуживает похвалы. Так же, как и у Сен-Симона, точное, основанное на наблюдении описание людей и событий, нравов, форм, поступков, отношений, – все это овладевает мыслью и как бы переносит читателя в то общество, которое описывает автор…»
Император родился 15 августа 1769 года, то есть ему было тогда 38 лет. О его возрасте забывали, так как все были ослеплены его славой. Но когда читаешь его биографию, то невольно вспоминаешь о том, что это был человек, и притом молодой человек (П.Р.).
Речь идет о Карлотте Гаццани, прекрасной генуэзке тридцати двух лет, дочери танцовщицы.
Мария I, его мать, была еще жива, но сошла с ума.
Министр Годой, получивший титул князя Мира за подписанный им мирный трактат.
Не думая, подобно императору, что такое событие следует забыть, те, кого оно смущало, помнили, что со времени убийства прошло только три с половиной года.
Император написал Фуше из Фонтенбло 5 ноября 1807 года следующее письмо: «Господин Фуше, вот уже две недели, как вы делаете глупости; пора положить этому конец, и вы должны перестать вмешиваться, прямо или косвенно, в дела, которые вас совершенно не касаются; такова моя воля».
Бабушка и в самом деле сохранила постоянную верность императрице, и во время развода у нее не было ни малейшего колебания относительно того, что ей следует делать, хотя даже королева Гортензия советовала ей хорошенько подумать, прежде чем на это решиться. Вот письмо, где она сообщала об этом решении моему дедушке, который поехал с императором в Трианон: «Мальмезон, декабрь 1809 г. Сначала я надеялась, друг мой, что ты поедешь с императором вчера и я тебя увижу. Независимо от удовольствия повидать тебя, я хотела и поговорить с тобой. Меня встретили здесь с истинной любовью; здесь очень грустно, как ты можешь себе представить. Императрица, которой не нужно больше принуждать себя, совсем убита, она постоянно плачет, и на нее тяжело смотреть. Ее дети не теряют бодрость духа; вице-король весел, он ее поддерживает, насколько это в его силах; они очень утешают ее.
Вчера у меня был разговор с голландской королевой, который я передам по возможности кратко. «Императрица, – сказала она мне, – очень тронута тем, что вы решились разделить ее участь, я этому не удивляюсь. Но затем, из дружбы к вам, я советую вам еще подумать. Так как ваш муж находится при императоре, то не на его ли стороне все ваши чувства? Не будете ли вы часто в ложном или затруднительном положении? Можете ли вы отказаться от удовольствия быть при дворе молодой царствующей императрицы? Подумайте хорошенько, я даю вам дружеский совет, и вы должны подумать об этом».
Я очень благодарила ее и отвечала, что не вижу для себя ничего неудобного в возможности выбрать то, что мне кажется наиболее подходящим. Если императрица считает неудобным иметь при себе жену человека, связанного с императором, то я удалюсь, но если это не так, то я предпочитаю остаться с нею. Конечно, я сознаю, что есть много преимуществ в положении лиц, оставшихся при большом дворе, но это лишение будет вознаграждено сознанием, что я исполняю свой долг и буду заботиться об императрице в том случае, если она оценит мои заботы. Я сказала также, что император, как мне кажется, не будет недоволен моим поведением, и т. п. и т. п. «Только одно обстоятельство, – продолжала я, – еще могло бы заставить меня пожалеть о моем поступке. Я скажу вам об этом вполне откровенно. Не может быть, чтобы при этом маленьком дворе не было бы какой-нибудь сплетни, какого-нибудь неосторожного разговора, который мог бы быть передан императору и вызвать у него, хоть на короткое время, неудовольствие. Императрица, при всей своей доброте, бывает иногда недоверчивой; я не знаю, докажет ли преданность, которую я ей выказала, что я могу быть вне всяких мимолетных подозрений, которые очень огорчили бы меня. Я признаюсь вам, что, если когда-нибудь заподозрят меня или моего мужа в том, что мы что-либо передавали оттуда или отсюда, я тотчас же покину императрицу».
Королева отвечала мне, что я права и она надеется на благоразумие своей матери. Она поцеловала меня, сказала, что императрице, в сущности, хотелось бы, чтобы я осталась с нею. Ты знаешь мой характер и знаешь, что не нужно большого для того, чтобы я решилась. Я вижу, друг мой, что ты думаешь. Я вполне сознаю, что мое положение часто будет затруднительным; но в конце концов – разве нельзя все удалить с помощью благоразумия и искренней привязанности?
Прими все это в расчет, подумай и решай. Впрочем, у нас есть время, так как нам дан срок до 1 января.
Нужно много счастья для того, чтобы это жилище было веселым в это время года: на дворе ужасный ветер и постоянный дождь. Но это не мешает тому, что здесь целый день бывает громадное общество. Каждый новый визит вызывает у нее новые слезы. Впрочем, нет ничего дурного в том, что эти впечатления постоянно возобновляются: отдых наступит позднее. Я думаю, что останусь в Мальмезоне до субботы, и мне хотелось бы, чтобы и ты вернулся к этому времени, так как нам надо повидаться и побыть немного вместе».
«Вторник, 19 декабря 1809 года. У меня не было утром случая отослать это письмо; надеюсь, что случай представится сегодня вечером. Императрица провела ужасное утро. Она принимает посетителей, и это снова вызывает страдания, и каждый раз, когда что-нибудь приходит от императора, она бывает в ужасном состоянии. Надо сделать так, чтобы обер-гофмейстер или князь Невшательский уговорили императора умерить выражения его сожалений в письмах к императрице. В самом деле, когда он передает ей таким образом слишком сильную свою печаль, она впадает в настоящее отчаяние и, кажется, совсем сходит с ума. Я забочусь о ней, насколько могу. Мне страшно больно за нее. Она кротка, несчастна, нежна, – одним словом, в ней соединяется все, чтобы надрывать сердце. Стараясь тронуть, император ухудшает это состояние. И, однако, среди всего этого у нее не вырывается ни одного лишнего слова, ни одной резкой жалобы, она и в самом деле кротка, как ангел.
Я гуляла с ней сегодня утром, – хотела, чтобы она устала телом и отдохнула душой. Она не противилась; я говорила с ней, расспрашивала, волновала ее, она позволяла мне все это делать и, по-видимому, была мне благодарна, несмотря на свои слезы. Через час, признаюсь тебе, я так устала, что едва не упала в обморок, и чувствовала себя почти такой же слабой, как и она. «Мне иногда кажется, – говорила императрица, – что я умерла и у меня сохранилась только смутная способность чувствовать, что я больше не существую».
Постарайся, если можешь, дать понять императору, что он должен писать ей так, чтобы ее ободрить, и присылать письма не вечером, так как тогда она проводит ужасные ночи. Она не знает, сможет ли перенести его сожаления; конечно, ей еще труднее было бы переносить его холодность, но ведь есть середина. Я вчера видела ее в таком состоянии после письма императора, что хотела сама написать в Трианон. До свидания, дорогой друг; я не говорю тебе много о своем здоровье, ты знаешь, какое оно слабое, а все это действует на него еще больше. После этой недели мне необходимо немного отдохнуть возле тебя. Чтобы испытать некоторую долю радости, мне необходимо вернуться к моему другу».
В сущности, опасения моей бабушки не сбылись, по крайней мере по поводу того, что касается болтовни и сплетен при дворе; но ей и ее мужу пришлось разделить опалу Талейрана. Правда, дед мой остался первым камергером даже и тогда, когда князь Беневентский был лишен места обер-камергера, но он не вернул себе, да и не искал, ни милостей при дворе, ни откровенности со стороны императора. Что касается бабушки, то она была, как мне кажется, всего один раз в Тюильри, чтобы представиться новой императрице, а в другой раз – чтобы получить от императора несколько приказаний.
Этот последний факт заслуживает того, чтобы я рассказал о нем. Это случилось в конце 1812-го или в начале 1813 года. Герцог Фриульский пришел к ней с визитом, к большому удивлению и дедушки, и самой бабушки, так как он никогда не делал визитов. Герцог передал приказание императора госпоже Ремюза явиться ко двору еще раз. Отец мой не описывал подробностей этого свидания, он знал только, что император желал, чтобы моя бабушка уговорила императрицу удалиться из Парижа. Какие были у него мотивы? Долги Жозефины, затем разговоры, которые велись в ее салоне. Не думаю, чтобы были более серьезные жалобы, и император не казался раздраженным. Что касается самой бабушки, то император не отнесся к ней ни хорошо ни дурно, но ни одним словом не вызвал на разговор о самой себе, и она ничего не сказала. Там она видела его в последний раз.
Затем пришлось исполнить данное ей поручение. Это было довольно трудно. Впрочем, она написала длинное письмо, так как императрица находилась тогда, кажется, в Женеве. Поручение было тем более трудным, поскольку нельзя было подать виду, что совет исходит от императора. Отец мой думал, что письмо это встретило дурной прием и было даже напечатано в мемуарах, в сопровождении более или менее неприятных для автора замечаний (П.Р.).
В начале 1808 года страдания госпожи Вержен, которая была уже давно больна, очень усилились. Она была больна ревматизмом и умерла 17 января 1808 года от гангренозного воспаления горла. Это было большим горем для ее дочери и большой переменой в жизни ее детей. Мой отец навсегда сохранил глубокое и живое воспоминание об этой оригинальной и умной женщине, хотя в то время ему не было еще одиннадцати лет. Положение госпожи Вержен в обществе было довольно значительно, так что ей посвятили некролог в «Публицисте», и это было тогда гораздо менее принято, чем в наше время (П.Р.).
Впрочем, император продолжал для виду, и когда считал это полезным, распекать Фуше за его болтливость. Он писал ему из Венеции 30 ноября 1807 года: «Я уже сообщил вам свое мнение о ваших безрассудных поступках в Фонтенбло, относящихся к моей семейной жизни. Прочитав ваш бюллетень от 19-го и зная о ваших разговорах в Париже, я могу только подтвердить вам, что ваш долг – следовать моим взглядам, а не поступать по вашему капризу. Если вы будете вести себя иначе, вы только введете в заблуждение общественное мнение и сойдете с того пути, которого должен держаться каждый человек».
Подобные же увеселения при Людовике XIV – например, его последняя поездка в Фонтенбло, – стоили около двух миллионов.
Среди рассказов о молодости Талейрана я не могу забыть одного, который передал мне мой отец, наверное, слышавший его от своей матери. Талейран изучал богословие и однажды, выходя после проповеди из церкви Сен-Сюльпис, встретил на ступенях лестницы молодую изящную даму приятной наружности; эта дама была в большом затруднении: вдруг пошел дождь, и она не знала, как от него спастись. Он предложил ей руку и один из тех маленьких дождевых зонтиков, которые начали тогда входить в моду. Она согласилась, и он проводил ее домой. Дама пригласила его к себе, и они познакомились. Это была мадемуазель Люзи, которая играла в «Комеди Франсез». Дама рассказала ему о своей набожности и о том, что не имеет никакой склонности к театру и посвятила себя этому делу против своего желания и по принуждению родителей. «Совершенно так же, как я, – отвечал он ей. – У меня нет никакой склонности к семинарскому учению и к церкви, и меня также принуждают мои родители». Они поняли друг друга сразу, и это взаимное признание сблизило их так сильно, как люди сближаются в двадцать лет (П.Р.).
Смерть князя Невшательского соединена с трагическими и таинственными обстоятельствами. Одни уверяют, что он действительно бросился из окна в припадке горячки, другие – что он был убит и выброшен на улицу толпой людей в масках. Он одним из первых среди маршалов покинул императора и признал новое правительство даже раньше отречения в Фонтенбло.
Граф Беньо приводит в своих мемуарах почти такой же разговор с Талейраном. «Победы, – говорил ему князь, – недостаточно для того, чтобы стереть подобные следы, потому что в этом есть что-то низкое, что-то вроде обмана, мошенничества. Я не могу сказать, каковы будут результаты, но вы увидите, что этого ему никто не простит».
Мне кажется необходимым напечатать и эту главу, последнюю, написанную моей матерью, хоть она и не закончена и в ней нет ничего, кроме краткого исторического рассказа о том, что произошло в Аранхуэсе и Байонне. Вероятно, она считала необходимым опираться на факты, приводя свои размышления о политических и нравственных последствиях этих событий, о разрыве между императором и Талейраном, а также о влиянии этого разрыва на ее собственное положение и на положение ее мужа. Притом этот рассказ превосходно согласуется с рассказом Тьера о тех же событиях, и она сгущает краски не сильнее, чем это сделал Тьер. Самый главный пункт у Тьера, т. е. роль Савари в интриге с принцем Астурийским, вполне подтверждает все, что говорится в этих мемуарах.
Дон Хуан Эскоикис (1762–1820) – один из советников Карла IV, воспитатель Фердинанда VII.

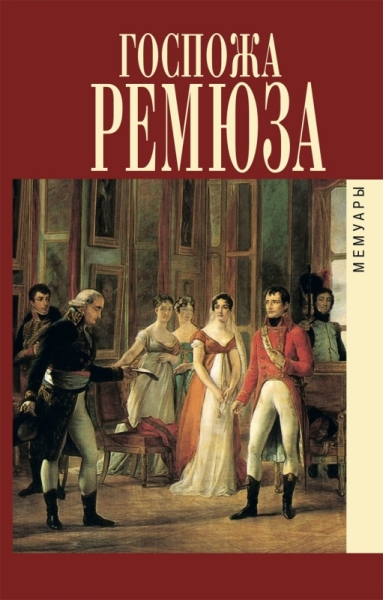




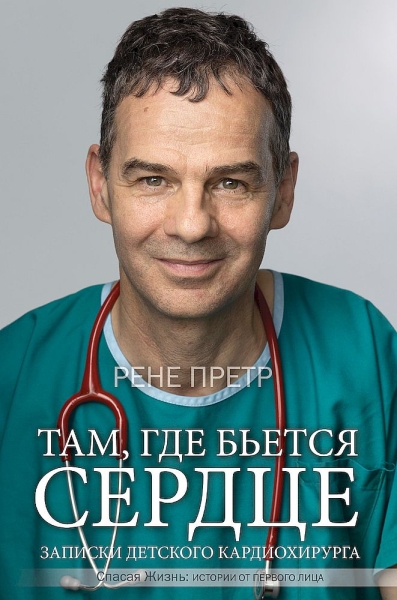
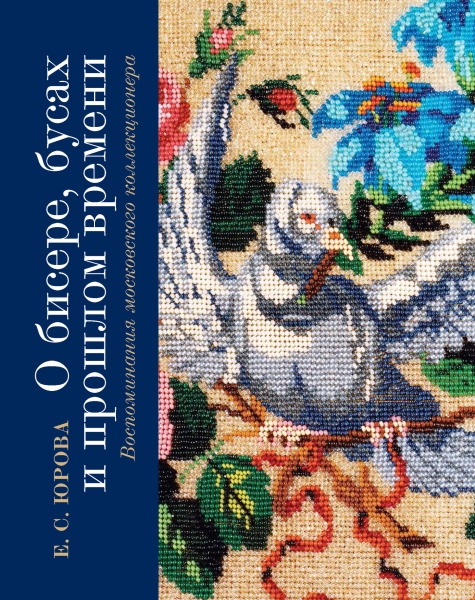



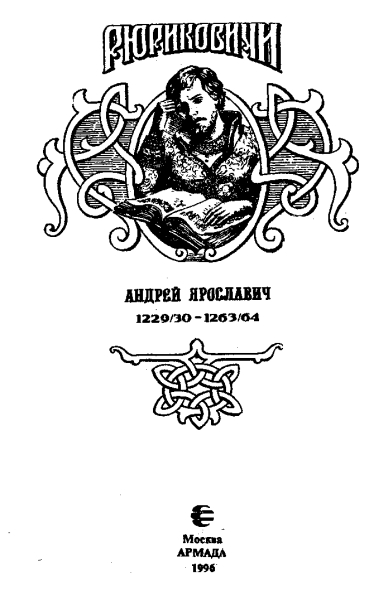

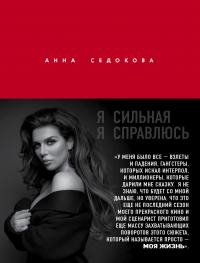
Комментарии к книге «Мемуары госпожи Ремюза», Клара Ремюза
Всего 0 комментариев