Как ломали замок границы Евгений Крушельницкий
Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну.
Всеобщая декларация прав человека
(Принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 дек. 1948 г.)
Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию.
Конституция РФ
(Принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г.)
Тем, кто не дождался этих слов в нашей Конституции, посвящается.
Благодарности:
Автор благодарит всех, чьи материалы использованы в этой книге. Некоторые факты взяты с сайта: Особая благодарность Александру Шатравке (иллюстрация для обложки взята из его книги «Побег из Рая»), а также Олегу Софянику и Льву Бруни.
© Евгений Крушельницкий, 2020
ISBN 978-5-4498-4245-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Предисловие
В наши дни стали привычными небрежные рассуждения на тему, а не съездить ли на новогодние каникулы в Альпы, погонять на лыжах, да и воздухом Европы подышать… Всего-то и надо, что о загранпаспорте позаботиться. А не в очень уж далёкие времена подобные желания просто не воспринимались всерьёз. И даже вызывали некоторую настороженность: ведь все прекрасно знали, что даже обыкновенная турпоездка получится далеко не у каждого.
Прежде чем отправляться в Швейцарию, куда, кстати, и путёвок-то не было, следовало сначала отметиться в Болгарии или Польше, а уж потом заикаться о «капстране». Но и для Болгарии требовалось обзавестись хорошей профсоюзной характеристикой, из которой бы следовало, что человек, который будет представлять свою страну за рубежом, не только обладает высокими моральными качествами и пользуется на работе авторитетом, но и политически грамотен и скромен в быту. Её подписывал «треугольник»: местком, партком и директор, после чего заверенный печатью документ поступал на рассмотрение и согласование в райком партии, хоть вы членом этой единственной в стране партии могли и не быть. Потом состав туристов утверждала специальная комиссия, тоже партийная. А ещё анкеты, с перечисление всех родственников, живых и умерших. При этом вы легко могли оказаться «невыездным» — это если уполномоченные на то органы сочтут ваше путешествие «нецелесообразным». Кому удавалось просочиться и через этот фильтр, тех ждал подробный инструктаж, как себя вести за границей. Владимир Высоцкий даже песню сложил, как инструктор «дал прочесть брошюру, как наказ, чтоб не вздумал жить там сдуру, как у нас».
На эту тему в июле 1979 года собрался секретариат ЦК КПСС, после чего разослал под грифом «совершенно секретно» выписку из протокола, где были такие слова: «Утвердить «Основные правила поведения советских граждан, выезжающих в социалистические страны» и «Основные правила поведения советских граждан, выезжающих в капиталистические страны».
В поездке обязательно присутствовал человек (и не один), который внимательно следил, как эта инструкция выполняется. Потому что «государственные, партийные и общественные организации, направляя советских граждан за границу, оказывают им большое доверие. Советские люди обязаны его оправдать примерным выполнением служебных обязанностей и безупречным поведением». Ну, а для нарушителей самых лёгким наказанием было просто попасть в «невыездные».
Наконец, ваши деньги обменяют на зарубежные — причём, не столько, сколько захотите, а сколько положено. И если решитесь что-то купить из тамошнего непривычного многообразия товаров, то придётся сэкономить на еде. По городу самостоятельно разгуливать вы тоже не будете, даже если время позволит. Только в группе, и с надёжным товарищем. В известной кинокомедии «Бриллиантовая рука» знаменитая фраза одного из героев «Руссо туристо! Облико морале!» напоминает и об обязательном инструктаже, и о наших познаниях в иностранных языках, и о неизбежных групповых прогулках.
Как видим, фантазии насчёт альпийских катаний были реальны, пожалуй, только для тех товарищей, которые принимали окончательные решения. Кто жил в СССР, знал с детства: наши границы не замке. Имелось в виду, что это для коварных врагов, которые норовят проникнуть и шпионить, а то и взорвать что-нибудь важное. И никаких вопросов не возникало. Тем более что все слышали о легендарном пограничнике Никите Карацупе, который со своим таким же известным Индусом (всего их было пять, причём все — Индусы; официальный вариант Ингус потом придумали из дипломатических соображений) лично задержал, как сообщает энциклопедия, 338 нарушителей границы, да ещё и пристрелил на месте 128… Потому что у советских пограничников была инструкция: «При невозможности задержать нарушителей — применить оружие, прежде чем они смогут перейти на территорию капиталистического государства». И ещё картинка, где страж границы с колена расстреливает неудачливых беглецов.
Однако сам Никита Федорович, незадолго до смерти работавший в Центральном музее погранвойск, рассказывал, что количество задержанных им на границе составляет более полутора тысяч. Дело в том, что более тысячи попались по дороге… из Советского Союза.
Тёзка пограничника, композитор Никита Богословский, вспоминал свою встречу на банкете с прославленным следопытом. Оказались за одним столиком, познакомились, выпили, и композитор восхищенно упомянул о неимоверном количестве задержанных нарушителей. Карацупа только вздохнул: «Знали бы вы, в какую сторону многие из них бежали…»
И это — труды только одного человека за 12 лет службы на одной погранзаставе у китайской границы, неподалёку от Уссурийска. Конечно, далеко не все стремились навсегда уйти в такой же «свободный» Китай, многие просто промышляли контрабандой, но всё равно количество желающих пересечь границу в одну и ту же сторону, впечатляет.
О том же писал в своих воспоминаниях и Олег Калугин, генерал-майор КГБ в отставке: «Моё регулярное общение с пограничниками убедило, что основной объём их работы заключался в том, чтобы не допустить побега через границу собственных граждан. Иностранцы перелезали через колючую проволоку очень редко, да и то в большом подпитии». Речь шла уже не о китайской границе, а о финской, но суть та же.
Да и послеперестроечная статистика подтверждает: с 1989 по 2015-й, по данным Росстата, Россию покинуло примерно 4,5 млн человек. Эта цифра существенно расходится с зарубежными, и, по мнению независимых аналитиков, её нужно увеличить в 3—4 раза. Причём, согласно опросам, число тех, кто был бы не прочь это сделать, идёт на десятки миллионов, особенно среди образованной молодёжи. Так что верно говорят: уезжают золотые головы, а приезжают золотые зубы…
Но как такие настроения выглядят с точки зрения патриотизма?
Телеведущий Владимир Познер на вопрос о том, считать ли предательством переезд «туда, где лучше», ответил так: «В одном лишь ХХ веке переехали из стран, в которых они родились и выросли, в другие страны десятки, если не сотни миллионов людей. И что, они все предатели?! Это глупость, а то и тупость. А может быть, ещё и зависть». И посоветовал: «Хочется вам куда-то уехать — уезжайте и ни о чем не думайте!»
Ему хорошо советовать — сегодня, да ещё и со своими тремя гражданствами. А в прежние времена если и находились смельчаки, готовые идти против несправедливого закона, то им предстояло сразиться с государственной машиной в лице специалистов, обученных охоте на людей.
Правда, эти люди нарушали закон. А ведь все слышали крылатые выражения вроде «закон суров, но это закон», «пусть погибнет мир, но свершится правосудие»… Получается, всё справедливо?
Но здесь ключевое слово — «правосудие», потому что закон может быть неправосудным. Маркс, бывший когда-то большим авторитетом в нашей стране, сказал среди прочего, что с помощью закона можно узаконить самое страшное беззаконие. И оказался прав, хотя вряд ли предполагал, что в нашем веке его слова подтвердятся не столько в «мире наживы», сколько в стране, построенной по его теориям.
Из нашей страны бежали с первых дней советской власти. У многих это получалось, у большинства — нет. Были и нашумевшие истории, но о неудачных побегах часто оставались в памяти лишь скупые факты, ставшие известными спустя много лет.
Охоту к путешествиям начали отбивать сразу же после революции. Если в 1920 году для получения загранпаспорта уже требовалась виза особого отдела ВЧК, то вскоре надо было получить особое разрешение наркомата иностранных дел. Поскольку всю заграницу объявили «враждебным капиталистическим окружением», то с разрешениями никто не торопился. Особенно закрутили гайки после голодомора 1932—33 годов, опасаясь массового исхода за границу. В 1935-м за побег начали расстреливать, причём серьёзно доставалось не только родственникам беглецов, но и всем, кто знал, но не донёс. Документ подписал «всесоюзный староста» М. Калинин. После смерти вождя расстреливать за такие дела перестали, но всё равно сажали надолго.
В идеале справедливость воплощается в нормах права. Но неправовой закон в отличие от правового не воплощает справедливость. Особенно этим грешат тоталитарные режимы. Ведь в нацистской Германии тоже были свои законы, которые привели самих законодателей на скамью подсудимых, а то и на виселицу. Но нам лучше обратиться к отечественной истории. Не отменён же до сих пор петровский указ: доносить о всяком, кто, запершись, пишет…
Многие несправедливые законы потом отменяют. А пока они действуют, то успевают кое-кому испортить жизнь. Большинству — пассивно, требуя лишь не высовываться. Кто пытается спорить — тем по полной программе, предусмотренной статьей. Покажется мало — усилят и статью. За валютные операции, привычные в наши дни, но запрещенные в хрущёвские времена, Яну Рокотову сначала дали законный максимум — 8 лет. Хрущёв рассердился и зачитал на пленуме ЦК письмо ленинградских рабочих, «возмущённых мягкостью приговора». «Это же настоящие враги, а вы им всего по восемь лет? За такие приговоры самих судей судить надо!» — кричал он. Дело пересмотрели и получилось уже 15. Опять мало… Тогда спешно издали указ «Об усилении уголовной ответственности за нарушение правил валютных операций», пересмотрели дело в третий раз и Рокотова с подельниками благополучно расстреляли.
Как видим, закон часто суров, это правда, но вот справедлив — уже реже. Что и побуждало некоторых сограждан покидать страну не рейсовым транспортом, а бежать, много чем рискуя.
Судьбы беглецов разные, их мотивы — тоже. Одни не могли мириться с ложью и несправедливостью, другие не справились с мечтой посмотреть мир, хотя телевизор давал им такую возможность. А кто-то не желал ни того, ни другого, а просто хотел сменить гражданство и жить в другой стране, считая, что сможет там добиться большего. Это тоже считалось преступлением. И, конечно, далеко не все собирались кого-то предавать и выдавать гостайны. Многие не знали никаких секретов и хотели только уехать. Именно этого и старались не допустить охранники государственных рубежей. Но разве можно предать охранников? Их можно только обмануть. Или восстать, только это уже совсем другие сюжеты.
Сюда не вошли истории, когда оказавшись за границей — в служебной командировке или по турпутёвке — человек просил у властей убежища. Таким беженцам не приходилось опасными тропами добираться по болотам до вспаханной пограничной полосы, ни плыть сутками в открытом океане. А бывало, что власти и сами выдворяли неугодного гражданина, пусть даже он и не собирался никуда ехать. Но это не значит, что провинившегося ожидает долгая жизнь на чужбине. Ведь Родина не прощает изменников, от Троцкого и Раскольникова до Литвиненко и Скрипаля.
Бежали по-разному, как могли. Проще всего это было сделать лётчикам на своём самолёте. Если самолёта не было — сооружали самодельный (мотодельтапланы тогда ещё не изобрели). Бежали по сточной трубе, по балтийскому льду на снегоходах и автомобилях, по Чёрному морю на плоту, а то и просто вплавь. Прыгали в океан с круизного лайнера в кишащий акулами океан. Травились во время рейса, чтобы только попасть в иностранную больницу и уже не возвращаться.
Да и приблизиться к границе было непросто: с 1934 года в СССР существует пограничная зона шириной в десятки километров. В 1970-е годы в неё входили огромные территории: Дальний Восток (Приморский край, Сахалинская область, Камчатка, Магаданская область, Чукотский полуостров), всё северное побережье (включая даже Норильск, от которого до Карского моря — час самолётом).), большие полосы на западе (включая, например, Кронштадт, Севастополь), большая часть территории Киргизии, Тувы… этот перечень длинный и скучный. Чтобы туда попасть, надо было получить пропуск в отделении милиции, а выдавали его только тем, кому положено. Кто не собирался в командировку и не имел приглашения от родственников, мог путешествовать в тех местах только на карте. А если кто-то всё-таки туда и проникал, местные жители исправно сообщали куда надо обо всех незнакомцах.
Несмотря на изобретательность беглецов, большинство историй кончалось внезапным появлением вооружённых пограничников. Или их собак. Или патрульного катера.
Ближайшая граница — это калитка в заборе иностранного посольства. Если уж кому и удавалось прорваться сквозь милицейские заслоны (или хотя бы попытаться это сделать), то их зачастую ждала карающая рука государства в лице услужливых психиатров. Люди в белых халатах не только умели превращать здоровых людей в больных, но делали это долго и мучительно, закалывая «лекарствами», после которых разрушается личность. Держали, сколько хотели: «будешь сидеть, пока не подохнешь».
Беглецов выдавали с чужой территории, с чужих кораблей, из посольств. Обманывали, сажали, лечили, расстреливали. А почему? Потому что серьёзные мужчины, которых мы знали в лицо по первомайским портретам, решили, что уехать обычным путём, как делают свободные люди, — это предательство.
Сегодня можно смело планировать свой отпускной маршрут по миру, не думая ни о каких комиссиях и инструкциях. Но выход из-за колючей проволоки прокладывали те, кто в своё время ломал пограничные замки. Прошли десятилетия, и теперь в интернете появляются такие комментарии о тех временах: «Страна, из которой человек не мог просто уехать, а должен был бежать — это всё, что нужно знать об СССР». Так власти сами плодили антипатриотов на долгие годы вперёд.
Эту предвоенную шапкозакидательскую песню на стихи Лебедева-Кумача перестали петь уже в начале войны, когда стало не до похвальбы. И всё же именно в этих трёх стихиях ещё долго продолжалось неравное соперничество могучей и суровой родины со своими неверными детьми, которые всеми силами стремились её покинуть и готовились совсем к другому походу.
На земле, в небесах и на море
Борис Бажанов
Он был, конечно, далеко не первым, кто решил покинуть страну после революции. Из общего потока беженцев его выделяет то, что молодой человек (ровесник века) за десять лет проделал путь от идейного коммуниста до столь же идейного антикоммуниста, стоило лишь ему поработать вместе с партийными вождями. И хоть двадцатые годы особо благостными не назовёшь, но по сравнению с последующими свершениями — коллективизацией, голодомором и террором — как говорится, грех жаловаться.
Да и вообще в жизни ему везло. Родился в семье врача, потом гимназия, физмат Киевского университета. Вскоре революционеры эту колыбель науки закрыли, студенты, понятное дело, вышли на демонстрацию, где Борис получил свою пулю от новой власти. Но на его политических симпатиях это не отразилась: вернулся в родные места, подлечился и вступил в партию большевиков. И вскоре был избран секретарём уездной организации. А когда гражданская война кончилась, молодой человек уехал в Москву и был принят в Высшее техническое училище, которое со временем получит имя Баумана. И всё бы хорошо — и учёба ладится, и избрали секретарём партийной ячейки, — если бы не голодный паёк. К зиме 1922-го парень настолько отощал и ослабел, что решил всё бросить и вернуться домой. Хорошо, друг надоумил: мол, я полдня учусь, а полдня работаю в ЦК партии. Там аппарат расширяется и грамотные нужны.
Так было принято судьбоносное решение, и Бажанов оказался в орготделе ЦК, которым заведовал Каганович. Партийцы быстро поняли, что у них появился ценный кадр. Прекрасно, что он может написать за малограмотного начальника руководящую статью в журнал. Когда же этому начальнику он предложил проект нового устава партии (как известно, в своё время партия разделилась на большевиков и меньшевиков из-за спора по первому пункту устава), то дело не только быстро дошло до самого Сталина, но даже было всеми одобрено. Появилась Комиссия по пересмотру устава, и в том же 1922-м окончательный текст утвердили везде, где надо.
Словом, карьера развивалась более чем успешно, и её подробности
Бажанов потом опишет в книге «Воспоминания бывшего секретаря Сталина». В ней немало любопытных деталей из жизни партийного серпентария, благодаря которым коммунистическим взглядам сталинского помощника, которые не смогла поколебать даже пуля, пришёл конец. Но нас интересует не его партийная карьера, а то, как молодой человек её завершил, чтобы начать новую, только уже за пределами советской страны.
Побег обычно начинается с размышлений над картой. Польская граница — самая близкая и самая недоступная: ряды колючей проволоки и пограничники с собаками. Румынская не лучше. Другое дело финская, где леса и болота. Но там просторная приграничная зона, где обязательно на кого-нибудь наткнёшься, и потом придётся как-то объяснять недоверчивым людям, что ты тут делаешь. В общем, выбор пал на Туркмению, чья столица — Ашхабад — всего в двадцати километрах от границы. И вот, удивив коллег желанием отправиться в глубинку (мол, оторвался от жизни, надо бы попробовать себя на низовой работе), уехал на восток, прихватив с собой платного агента ГПУ Максимова, приставленного за ним следить. Дело в том, что секретарь Сталина мог позволить себе презирать главного гэпэушного начальника Ягоду и не скрывать этого. Тот платил, чем мог. Так что лучше уж иметь дело со знакомым сексотом, чем с неизвестным энтузиастом.
Лёгкий характер и отсутствие карьерных амбиций москвича понравились аборигенам. Сдружились с начальником пограничной заставы, который, узнав, что новый друг — страстный охотник (на самом деле эту забаву он ненавидел), распорядился прислать два карабина и два пропуска в погранзону (стукача тоже не забыли). А в откровенных беседах стали выясняться любопытные вещи, причём довольно неприятные.
— Граница совсем рядом и, наверное, часто убегают отсюда? — спрашивает обеспокоенный Бажанов.
— Нет, — объясняет терпеливый начальник. — Конечно, за всей границей не уследить, но ведь чтобы до неё добраться, сначала нужно попасть в определённый населённый пункт, и вот за ним-то мы постоянно наблюдаем.
— Ну, а если, это, скажем, ответственный партийный работник, который имеет право находиться где угодно?
Оказывается, это тоже не проблема. О таком работнике тут же поступает сигнал от своих людей и его хватают прямо в Персии. А тамошние власти всё понимают правильно.
Что ж, в таких делах приходится рисковать. И ещё раз предварительно всё просчитать. Причём выбрать правильную дату: 1 января 1928 года. «Если я сейчас жив и пишу эти строки, этим я обязан решению перейти границу именно 1 января», — напишет он, вспоминая те дни.
Новогодним утром Бажанов вместе со своим соглядатаем отправился на охоту и у пограничного столба посвятил спутника в ближайшие планы. Тот расстроился:
— Меня же расстреляют за то, что я вас упустил…
Пришлось пойти навстречу и взять его с собой.
В персидской деревушке Люфтабад беглецам, хоть и не сразу, удаётся отыскать местное начальство, но оно такие серьёзные вопросы не решает, и в административный центр дистрикта, за двадцать километров, был отправлен гонец. Он вернулся поздно вечером и сообщил, что русским надо ехать в центр. Сопровождать их на ночь глядя никто не взялся, и пришлось ночевать здесь же. Между тем, местный информатор уже сгонял на погранзаставу, но безуспешно: трезвых там не было, и объяснить, что к чему, удалось только на следующий день. На это и рассчитывали беглецы, которые к тому времени были уже в центре. Но и там гостей могли только отправить в столицу провинции. Причём по дороге их уже ждал обещанный сюрприз: отряд чекистов с автомобилем и возвращение на родину. Оставался только один путь: напрямик, через горы, по занесённым снегом тропинкам.
Каково ходить напрямик, то и дело рискуя сорваться в пропасть и полагаясь только на привычных к такой жизни горных лошадок, — отдельная история. Когда измученные путники на пятый день вышли на дорогу и сели в грузовик, который там работал автобусом, то успели вовремя занять задние места, потому что за ними уже следовали два чекиста. Те, правда, опасались, что беглецы вооружены и вели себя смирно.
Автобус довёз до гостиницы, где путников первым делом угостили кофе. И если недавний агент ни на что не обращал внимания и уже приготовился расслабиться, то Бажанов почувствовал сильный запах горького миндаля: так пахнет цианистый калий. Так что обошлись без ужина. Да и гостиничный номер оказался с сюрпризом: без замка и даже хоть какой-нибудь задвижки. Пришлось забаррикадироваться и только после этого, наконец, прилечь. Но дрёма длилась недолго, её сменил грохот в дверь: «Полиция!» От неё-то беглецы и узнали, что происходит. На покинутой родине началась большая суматоха, и хозяин гостиницы — советский агент — получил от своего куратора револьвер и яд, чтобы покончить с предателями. Когда с ядом не получилось, хозяин направился с револьвером к незапертому номеру, но полиция вовремя надела на него наручники.
Да только и на этот случай был запасной вариант: напротив полиции, где гостей поселили ради их же безопасности, расположились курдские всадники, нанятые большевиками. В их задачу входило при выходе «объекта» из полиции, налететь, зарубить и ускакать. Хоть и этой опасности удалось избежать, до финиша было ещё далеко. Из Тегерана поступил приказ привезти русских туда. Причём перспективы выглядели мрачно: советское правительство изо всех сил давило на южного соседа, обещая за выдачу беглецов уступки по некоторым важным вопросам — например, о принадлежности богатого нефтью пограничного района.
И тут очень помог… губернатор Хоросана. Он благожелательно отнёсся к бажановской просьбе: подобрать охрану из неграмотных. В стране, где четыре пятых населения не умело ни читать, ни писать, это сделать нетрудно, и четыре солдата, включая унтер-офицера, не смогли возразить подконвойному, когда тот на одной из развилок, сославшись на сопроводительное письмо, настоял свернуть не на Тегеран, а на приграничный городок: мол, про Тегеран говорили, чтобы сбить с толку большевиков. И пока там местные власти запрашивали столицу и разбирались в ситуации, Бажанов сумел найти человека, который отвёз их на ту сторону границы с Индией. С персидской стороны границу не охраняли, потому что впереди простиралась пустыня, а индийские рубежи стерегло племя белуджей. С ними-то и удалось успешно договориться. Впереди было ещё несколько дней путешествия с караваном верблюдов через пустыню.
В Индии тоже оказалось не просто, но спустя месяцы ожидания французский консул поставил беглецам постоянную визу. И вот, сев в Бомбее на пароход, вскоре они сошли на берег в Марселе.
Мемуары стали едва ли не главным делом Бориса Георгиевича. В парижской эмигрантской газете он подробно описал то, что видел и знал: «то, что Москва тщательно скрывала, в частности, механизм власти и те события, свидетелем которых я был». Как работала законодательная и карательная машина, что за человек был Сталин и как он принимал решения. Кстати, сам вождь был, пожалуй, самым внимательным читателем своего недавнего помощника. Выходившие статьи ему немедля доставляли самолётом.
Впервые книгу воспоминаний опубликовали на французском языке в Париже в 1930 году, а вскоре переиздали и на других языках. По-русски её прочитали только в 1990-м.
Но спокойная европейская жизнь не наступала ещё долго. У людей с горячими сердцами были очень длинные руки. В следующем году после неудачной попытки устроить Бажанову автоаварию со смертельным исходом, в Париж приехал сам Блюмкин — революционер, террорист, а заодно и советский чекист. Нашёл Максимова и уверил его, что ГПУ на него зла не держит и всё простит, если только тот поможет убрать своего бывшего подопечного. Для начала в Москву снова пошли доносы. С покушением что-то не заладилось, из поезда выбросили кого-то другого, но Блюмкин доложил, что задание выполнил. Сталин распустил слух, что предатель получил по заслугам, однако попытки убить беглеца продолжались. Правда, такие же неудачные. Бажанов умер в 1982 году в Париже, и похоронен на кладбище Пер-Лашез.
А вот Максимову не повезло. В 1935 году эмигрантская газета написала, что русский беженец Аркадий Максимов то ли упал, то ли прыгнул с площадки Эйфелевой башни. Газета предположила, что он покончил жизнь самоубийством, хотя у Бажанова на этот счёт остались серьёзные сомнения.
Иван, Юрий и Борис Солоневичи
Это отец, сын и брат. Иван Лукьянович — публицист, писатель, спортсмен и общественный деятель, — самый известный из этой троицы, которой в 1934 г. удалось бежать из Соловецкого лагеря в Финляндию. Его книга «Россия в концлагере» издана на многих языках.
Иллюзий по поводу пролетарской власти у них не было. Да и сами строители нового мира своих взглядов не скрывали. Когда в 1922 году в немецкий Штеттин потянулись «философские пароходы» с оппозиционной интеллигенцией, Лев Троцкий, тогдашний председатель Реввоенсовета, откровенничал: «Мы этих людей выслали потому, что расстрелять их не было повода, а терпеть их было невозможно».
Или такой большевистский деятель, как Дмитрий Мануильский, в то время первый секретарь компартии Украины. С ним Солоневич встретился в качестве корреспондента и в разговоре высказал мысль, что большевизм обречён, потому что ему не сочувствуют массы. Ответ был по-партийному принципиален:
— Да на какого же нам чёрта сочувствие масс? Нам нужен аппарат власти. И он у нас будет. А сочувствие масс? В конечном счёте — наплевать нам на сочувствие масс.
Иван начинал работу журналиста с заметок на спортивные темы. Потом перешёл на публицистику, и в Петрограде работал в газете «Новое время», которую большевики закрыли на второй день после революции. Серьёзно занимался спортом — борьбой, боксом, тяжёлой атлетикой, играл в футбол, что потом ему не раз поможет в жизни.
Одновременно учился в университете на юридическом, а в голодные дни вместе с друзьями пытался работать грузчиком, зарабатывая впятеро больше, чем в редакции. Да только наладить отношения с профессионалами не вышло: те восприняли отказ студентов от денатурата как оскорбление…
Когда большевики окончательно захватили власть, пришлось бежать на юг, чтобы эвакуироваться вместе с врангелевской армией. Но жена с пятилетним сыном добралась до места только когда последний корабль уже ушёл.
На этом берегу осталось немало единомышленников. Были и встречи, и разговоры, которые не прошли мимо ушей бдительной соседки. Так вся семья оказались в одесской ЧК. Однако погибать им было ещё рано, и вскоре случилось чудо: улики из дела исчезли (не без помощи друга-чекиста) и семью отпустили.
Чтобы не голодать, Иван с братом организовали «бродячий цирк», разъезжая по сёлам. Устраивали силовые представления, борцовские и боксёрские поединки. Выступали даже с легендарным Иваном Поддубным. Плату брали продовольствием.
В нэповские времена Иван с семьёй переехал в Москву. Занимался спортивной журналистикой, писал книги на эту тему. Жил на главной улице столицы — на Тверской. Правда, в коммуналке, где на восемь семей приходилось семь комнат, и потому ванная тоже была заселена. Солоневичам «повезло» — Бориса сослали на Соловки, и его комната освободилась. Дело в том, что ещё с ранних лет Борис участвовал в международном скаутском движении. Дети вместе со взрослыми играли в разведчиков, а попутно приобретали много ценных навыков, стараясь быть полезными и людям, и природе.
Большевики объявили скаутинг реакционным, буржуазным явлением и придумали пионерское движение, где кое-что взяли от скаутов, однако главным стало уже другое: быть готовым к борьбе за дело коммунистической партии. Вот за это своё прежнее увлечение Борис и получил восемь лет Соловков, но вскоре из-за болезни лагерь заменили ссылкой.
Властям было наплевать было не только на сочувствие масс, но и на сами массы. Голодомор начала 1930-х с миллионами погибших приближался, и мысль о побеге не оставляла семью. Жена Ивана Лукьяновича Тамара оформила фиктивный развод, вышла замуж за немца, тоже фиктивно, и уехала в Германию уже всерьёз. Что ж, на войне, пусть даже с собственными властями, обмана нет, а есть военная хитрость. Вот и приходилось хитрить.
Между тем, Иван основательно готовился к побегу. Во время журналистских командировок побывал в нескольких приграничных районах. Вариант с персидской границей вскоре отпал: семья такой маршрут пройти бы не смогла. А в сентябре 1932-го попытались бежать через Карелию целой группой: отец с сыном и брат с женой. «Туристы-охотники» рассчитывали добраться за неделю, но оптимистический прогноз московского метеобюро подвёл: внезапно похолодало, начались дожди. Мало того, что заблудились, попав в зону магнитной аномалии, так ещё и Иван, несмотря на завидное здоровье, заболел. Побег отложили до весны, но снова не повезло — у сына аппендицит.
Осенью сорвётся и третья попытка, на этот раз — с серьёзными последствиями. Группа стала обрастать друзьями и подругами, не всегда проверенными. И вот одна из подруг привела с собой ещё и любовника, который по совместительству служил чекистам под кличкой Прицельный. Дальше всё шло уже по чужому плану. В поезде Москва — Мурманск их вагон оказался последним, места — в разных купе, причём пересаживаться проводник запретил. А попутчики — все 36 бойцов невидимого фронта — были готовы скрутить этих спортсменов, мастеров джиу-джитсу. И скрутили. В итоге вагон отцепили, поезд с ничего не заметившими пассажирами отправился дальше, а неудачливые беглецы остались в Ленинграде, в доме предварительного заключения на Шпалерной. И опять им повезло: до расстрельной статьи за такие дела оставалось меньше года. Братьям дали по 8 лет, а Юре, по малолетству, всего трёшку.
Если на Соловках многие не знали, за что сидят, то Солоневичи — знали. И по-прежнему не оставляли уже полупризрачные мысли о побеге.
Борис работал по специальности — врачом, а Ивану очень помогли известность и прежние связи. Так он попал в лагерное спортивное общество (было и такое), а когда замаячила перспектива отправки на дальний участок, предложил начальству провести «вселагерную олимпиаду», обещая всё организовать. Успех сулил не только статьи в газетах, но и ордена чекистам — мастерам «перековки». Идея понравилась, руководство горячо поддержало.
Началась активная работа. Иван Лукьянович оформляет командировки для себя и сына. Борис должен был бежать в тот же день — в полдень 28 июля 1934 года, из другого места, из Лодейного Поля, столицы Свирьлага.
За несколько дней до побега газета «Правда» напечатала постановление Совнаркома: за попытку побега за границу — расстрел. На это Солоневич-старший заметил: «Не меняет положения», а младший презрительно пожал плечами…
С разницей в три часа отец и сын покинули лагерь и встретились в условленном месте. Конечно, это не была спокойная прогулка. О чём только не подумал Иван Лукьянович, когда с тяжёлым рюкзаком, рассчитанным совсем не на командировку, встретил на дороге красноармейский патруль… На этот раз все неожиданности (а долгая дорога по болотам и бездорожью была ими полна) щадили беглецов: пули пограничников в них не попали, собака потеряла след, случайный встречный поверил складной выдумке и не поспешил с доносом. Вот и тут патрульные узнали спортивного активиста, прежде чем автор пособия для НКВД «Самооборона и нападение без оружия» пустил в ход свои навыки.
Им повезло: на шестнадцатый день отец и сын стояли на финской земле. В домике, к которому они вышли, их радушно встретили и проводили к пограничникам. Вскоре выяснилось, что брат был уже в Финляндии. Он пришёл на два дня раньше, едва не утонув в карельском болоте.
Несмотря на доброжелательных людей, жизнь в стране для эмигрантов была непростой. Двойной успешный побег навёл финскую полицию на размышления, что беглецы — всего лишь агенты НКВД. Русский общевоинский союз, созданный бароном Врангелем, который объединял участников Белого движения и их единомышленников, тоже присматривался к Солоневичам с подозрением. Только у агентуры НКВД, которыми кишело зарубежье, вместо сомнений было искреннее желание уничтожить всех троих.
В эмиграции Солоневич пытался рассказать местной благодушной публике — прежде всего русской эмиграции — о той России, из которой бежал. Там задавали тон отставные политики вроде Павла Милюкова. Тот в своё время возглавлял партию кадетов, был министром иностранных дел во Временном правительстве и в конце концов благополучно осел в Париже. А в 1936 году выдал оптимистический прогноз, что-де советская власть эволюционирует в лучшую сторону и призвал эмигрантскую молодёжь вернуться на родину. Горе-политику не приходило в голову, что он зовёт людей на смерть. В ответ Солоневич, по его словам, «устроил скандал неприличного размера»: «Я основал свою газету. Я опубликовал в ней личное письмо П. Милюкову. Я выражался так, как в приличной прессе выражаться не принято и не было принято. Но я спас эту молодежь от возвращения в Россию и от отправки на Соловки».
Начал печатать в газете свой главный труд «Россию в концлагере». Его голос из Финляндии слышался плохо, но европейские державы пускать к себе смутьяна не хотели. Ведь в те времена ещё очень многие «шагали не в ногу» с Солоневичем — от советских и европейских руководителей до обывателей по обе стороны границы. В лучшем случае — просто травили, в худшем — пытались убить. С трудом перебрался в Болгарию. И вот однажды на его адрес пришла посылка. Секретарь взялся открывать, жена Солоневича Тамара стояла рядом. Посылка взорвалась, оба погибли.
Пришлось переехать в более спокойную в то время Германию. Там, кстати, он был уже известен благодаря вышедшей «России в концлагере» (её напечатали под названием «Потерянные: хроника неизвестных страданий». Книга стала популярна, в том числе и у партийного руководства. Ею заинтересовался сам Гитлер, а Геббельс в своих дневниках писал: «С ужасом читаю вторую часть „Потерянных“ Солоневича. Да в России просто кромешный ад. <…> Ужасно, ужасно, ужасно! Мы должны защитить Европу от этой чумы».
Да только уже очень скоро в самой Германии будет не лучше. Но что может быть хуже такой антирекламы для советских идеологов? Ведь по их логике, в грязных делах повинны не их творцы, а те, кто об этом рассказал и тем самым «лил воду на мельницу врагов»… В России издадут эту книгу только на исходе столетия.
А пока Солоневича на его родине самого объявили фашистом. Ещё ж не знали, что утром 24 августа 1939-го, через два дня после подписания исторического пакта с Гитлером, наш вождь поднимет бокал с шампанским за самого главного фашиста (точнее — нациста) и скажет: «Я знаю, как немецкий народ любит своего фюрера. Поэтому я хочу выпить за его здоровье». И сменится ещё целое поколение, прежде чем на весь мир прозвучат солженицынские слова: «Если режим безнравственен — свободен подданный от всяких обязательств перед ним».
Между тем, Иван Лукьянович смотрит, сравнивает, анализирует. Гитлер вместо Сталина, гестапо вместо НКВД, Дахау вместо Соловков… Но что больше всего его поразило — сходство самих революционеров: «общность того человеческого типа, который делает революционную эпоху, той „массы“, которая вздымается на гребне революционной волны — и прёт к своей собственной гибели». Арийцы или пролетарии, призванные спасти якобы заплутавшее человечество, — «оба мессии на практике превращаются в рабочее быдло, и бюрократия поставляет им всё для быдла необходимое: ярмо, кнут и корм — корма меньше, чем чего бы то ни было другого».
В результате появилась книга «Диктатура сволочи». Написана в 1939 году, когда и коммунисты, и нацисты успели себя проявить.
Такие выводы устраивали далеко не всех. Европейские кабинетные либералы поспешили назвать книгу клеветнической. Да и на родине о нём не забыли: снова взорвалась бомба, теперь уже под машиной. И снова спасла случайность (впрочем, верующие объясняют это иначе).
Когда началась война, Солоневича не оставляла надежда изменить немецкую политику в отношении России. Он пытался убедить вождей, что попытки её покорения самоубийственны, и единственная возможность победы над большевизмом — это война вместе с русским народом против коммунистов.
Немцы, в свою очередь, пытались переманить его на свою сторону и предложили работу в оккупационной администрации Белоруссии, откуда Солоневич родом. Он отказался и направил на имя Гитлера меморандум, где изложил свою позицию и заявил, что война против России окончится разгромом и гибелью Германии. В результате в октябре 1941 года его вызвали в гестапо и приказали в трёхдневный срок покинуть Берлин и поселиться в Померании. А заодно запретили заниматься политической деятельностью, включая журналистику.
Солоневич для своей ссылки предпочёл Темпельбург (теперь это польский Чаплинек неподалёку от Щецина). Однако в середине января 1944 года Солоневичу вместе с сыном и его семьёй пришлось бежать из ссылки под угрозой советского плена. Смерш наступал на пятки, и спасла только аргентинская виза. Туда и уехали.
И всё бы ничего, если б не активность публициста. Тамошнему правителю Перону, который вёл страну по собственному пути — третьему, между капитализмом и социализмом, не понравились отзывы эмигранта о социалистических идеях, и он предписал Солоневичу-старшему в трёхдневный срок покинуть страну. Тот перебрался в Уругвай, где его и настигла последняя болезнь. Врачи помочь не смогли, и Иван Лукьянович умер на 62-м году своей насыщенной жизни. Той же весной, что и Сталин, пережив вождя на полтора месяца. Но если диктатора ждали хула и вынос из мавзолея, то Солоневич в 1989 году был реабилитирован военной прокуратурой Ленинградского округа. Вместе с братом.
Оба дорого заплатили за свою свободу. Если у Ивана жена погибла от взрыва, то жену Бориса Ирину расстреляли в 1938-м, а судьбы детей остались неизвестны. Не пощадили и прочую родню, включая брата жены. Погиб и отец, Лукьян Михайлович, белорусский историк и журналист.
Пётр Пирогов и Анатолий Барсов
9 октября 1948 года эти лётчики перелетели на бомбардировщике Ту-2 с авиабазы в западноукраинской Коломые на американскую авиабазу в Австрии, около города Линца. Оба офицеры, участники войны, орденоносцы.
К тому времени отношения с союзниками успели ухудшиться. Два года назад Черчилль, уже не премьер союзной Великобритании, а частное лицо, выступил в американском Фултоне и констатировал, что после войны прежде немногочисленные коммунистические партии восточноевропейских государств «дорвались до власти повсюду и получили неограниченный тоталитарный контроль. Полицейские правительства преобладают почти повсеместно». Отметив, что «это, конечно, не та освобождённая Европа, за которую мы боролись», призвал англосаксонские нации объединиться и отстаивать ценности свободы и демократии. Сталин в долгу не остался и в интервью «Правде» поставил Черчилля в один ряд с Гитлером. Так началась холодная война. Одним из её эпизодов стал и этот побег.
Технической стороной дела занялся Пирогов. Лететь пришлось без карты: предусмотрительное начальство, предвидя такие истории, изъяло с карт территории сопредельных государств. Топлива, рассчитанного на учебный полёт, не хватало. Хоть лётчики и схитрили при заправке, всё равно горючее кончилось в воздухе. Но тут заметили аэродром и дотянули-таки до полосы. Когда увидели на одном из зданий пятиконечную звезду, занервничали: неужели прилетели к своим?! Только эта звезда была чья надо звезда: символ военной авиации США.
Первыми словами Пирогова были две фразы на недоученном английском: «Я русский пилот. Где Линц?»
Вскоре подъехали и представители советского командования и предложили лётчикам добровольно вернуться обратно. Кроме Пирогова и Барсова там был ещё и бортовой стрелок, сержант (имени его история не сохранила). Он поначалу был вообще не в курсе этой затеи и вернулся, а офицеры отказались, хоть им и объяснили, чем такое может кончиться.
Американские оккупационные власти предоставили беглецам убежище, но были в некоторой растерянности, потому что их законодательство не поспевало за подобными сюрпризами. И на официальное требование советских властей вернуть лётчиков вместе с самолётом ответили уклончиво: самолёт — хоть сейчас, а вот к людям применять силу они не будут.
Конечно, лётчики на боевых самолётах после войны бежали к союзникам и раньше, но такие случаи старались не афишировать. А этот побег стал сенсаций, особенно после того, как Пирогов написал книгу «Почему я сбежал».
И действительно — почему? Чего не хватало?
Пирогов потом пояснил. Если он вступал в партию верным ленинцем, то постепенно пришло разочарование. В рядах армии-победительницы царил страх. Когда из немецкого плена бежали наши лётчики Пучкин и Иванов, самостоятельно разыскали свою часть и вернулись, то тут же были арестованы бдительными контразведчиками. Или сослуживец из соседнего полка, который женился на польке, а она оказалась набожной и настояла на венчании. Этого жениха через два дня после свадьбы вызвали «в Москву» и больше его не видели. А как готовились к параду Победы, в котором Пирогов участвовал… Меры безопасности были невиданные. Многих знакомых отстранили не только от участия в параде, но и на всякий случай посадили. Пирогов увидел, что недоверие к собственному народу со стороны власти и боязнь его после войны только усилились. А бесклассовость общества? Если сослуживцы, вплоть до комдива, курили махорку в газетной обёртке, то особисты и смершевцы являли собой пример сытой тыловой жизни и покуривали «Кэмел». При этом на политзанятиях вдалбливали что-то о «загнивающем капитализме», «угнетённом рабочем классе» Америки и строго запрещали слушать по радио лживые зарубежные «голоса».
Пирогов был из Тамбовской губернии, из крестьянской семьи, и многие его родственники попали под раскулачивание. Не повезло с происхождением и Барсову: его отец, кстати, был вовсе не Барсов, а потомственный дворянин Порфирий Борзов, почтмейстер из Чистополя, и сын был вынужден всю жизнь это скрывать. Характер имел взрывной, часто высказывал начальству то, что думает, поэтому имел репутацию «политически несознательного». Для обоих военная карьера была чуть ли не единственным способом выбраться из нужды.
Заприметили друг друга, вместе слушали запрещённое радио и вскоре приняли решение, что делать дальше. Но дату не выбирали, улететь решили по настроению. Просто если один дозреет и скажет второму: «На курсе!», тот ответит: «На глиссаде!» Значит — пора.
За пару месяцев до побега в Нью-Йорке случилась громкая история, о которой друзья узнали из «Голоса Америки». Оксана Касенкина, учительница химии в школе для детей советских дипломатов, бежала, выпрыгнув из окна советского генконсульства. Хоть осталась жива, но лечиться пришлось. Этот случай ещё больше укрепил их в своём решении.
Сталин опасался таких офицеров — прошедших войну, возмужавших, посмотревших Европу. Да ещё и разговорчивых (о разговорах тут же становилось известно, где надо). Так что у Пирогова с Барсовым были все шансы попасть в лагерь.
Когда журналисты выспрашивали беглецов, что их больше всего поразило на американской земле, Пирогов ответил: «То, что все спрашивают, чем могут нам помочь в налаживании новой жизни». А американские офицеры заметили, что гостей очень поразила ванная комната: такого они ещё не видели и радовались, как дети новой игрушке.
Впрочем, двери Америки открывались со скрипом. Поскольку Пирогов был кандидатом в члены ВКП (б), то действовавшие в США ограничения для бывших коммунистов мешали получить гражданство. Конгрессу пришлось принял закон «О предоставлении Петру А. Пирогову постоянного жительства в США». Он поначалу работал маляром, таксистом, активно изучал английский. А когда пригласили писать тексты передач для радио «Освобождение», то дела пошли куда лучше. Со временем окончил университет, стал лингвистом и преподавал там же, в Джорджтауне. Женился на русской, из семьи дореволюционных эмигрантов, которая родила ему троих дочерей.
А вот у его старшего товарища Барсова дела шли всё хуже. Привык жить по уставу, когда всё решает начальство, и внезапно свалившаяся свобода привела лишь к пьянству и депрессии. Тут ещё и сладкие речи советского посла, а заодно и генерал-майора госбезопасности Панюшкина, который «лично гарантировал» беглецу амнистию, если он вернётся с другом, и максимум два года тюрьмы — если в одиночку. Пирогов от бесед с генералом уклонился, но в нашем посольстве уже изготовили для обоих советские паспорта. Когда Барсов уже решил возвращаться и переселился в посольство, он назначил другу встречу в ресторане неподалёку. Пирогов пришёл, предупредив о своей культурной программе сотрудников ФБР. И не зря: его там попытались похитить, только ничего не вышло.
Между тем, Барсов «прозревал» и писал в дневнике покаянные строки: «Рабочий класс имеет свою коммунистическую партию и отчаянно борется за власть народа… Какая тут грязь, какая ложь, какая бюрократия. Какая жажда делать деньги». Что касается лжи, то впереди его ждал серьёзный урок. Ведь Пирогов как прокомментировал его рассказ об обещаниях дипломата-гэбэшника? «Пристрелят они тебя, Толя, как собаку». Так и вышло.
Сначала идейного возвращенца держали в таганской пересыльной тюрьме и усиленно допрашивали, а когда тот рассказал всё, что знал, то весной 1950-го расстреляли. Втихую, конечно, потому что надежды на «прозрение» Пирогова не покидали дипломатов. И вот семь лет спустя с Пироговым встретился второй секретарь посольства Геннадий Макшанцев и принёс беглецу радостную весть: после смерти Сталина страна стала другой и бояться больше нечего. В доказательство принёс письмо от Барсова. Но подделка оказалась грубой. Хоть с почерком и поработали, а мелочи подвели: литературный стиль никак не напоминал малообразованного Барсова. Он просто не умел писать «красиво» и без ошибок. Да и подписывался в частной переписке иначе, настоящей фамилией — Борзов.
Пирогов сообщил о своих подозрениях властям, и те выслали Макшанцева за попытки склонить бывших советских граждан к возвращению с использование подложных документов.
Спектакль имел продолжение: спустя два месяца в Москве устроили пресс-конференцию, где перед иностранными журналистами предстал… Анатолий Барсов. И рассказал складную историю, как он пять лет отбыл в Омске и Воркуте, работал электромонтёром и получал неплохие деньги. Ему даже разрешили воссоединиться с семьёй. Срок истёк, но семья решила задержаться в Воркуте, потому что и работа и зарплата главе семейства нравились. А в СССР он решил вернуться потому, что насмотрелся на безработицу и ужасы капитализма. Журналисты поняли так: эта затея понадобилась, чтобы оправдать Макшанцева. Ну, а лжебарсов и его рассказы — вообще клубная самодеятельность.
Однако выводы из этой истории были сделаны серьёзные. С поиском виноватых у нас проблем никогда не было, потому что официально действовал круговая порука, и за изменников отвечали их родственники и члены семей. В Военно-воздушных силах ненадёжных переводили подальше от границы, а то и вовсе отстраняли от полётов. Истребители не смогли отреагировать на этот побег, потому что аэродром был рядом с границей. Промах учли, аэродромы задвинули вглубь страны. Заодно постарались глушить западное радио так, чтобы до нестойких ушей не доносилось ни слова. Ну и досталось, конечно, всевозможным оперативникам разного уровня: ведь были же сигналы о «моральном разложении» Пирогова, но мер-то не приняли…
Так что ошибки исправили (как мы ещё увидим — не все), и когда в 1956-м пытались угнать такой же бомбардировщик в ту же Австрию, то ничего не получилось, истребители успели вовремя.
Пётр Патрушев
Он сумел безо всякого специального снаряжения переплыть из Батуми в Турцию. Летом 1962 года молодой человек преодолел около 35 километров только в ластах и в плавках. В то время это был первый успешный побег пловца-одиночки на такое расстояние. Только через три года Владимир Комиссаров повторил его путь.
За этот заплыв родина заочно приговорила парня к расстрелу. Свои мемуары он потом так и назовёт: «Приговорён к расстрелу». Вот как Пётр описывал в ней последние батумские дни накануне побега:
«— Позолоти ручку, красавчик! — цыганка бесцеремонно схватила меня за руку и начала говорить что-то о моих «сердечных делах». Я ответил, что мне это неинтересно, и попытался вырваться. Не тут-то было! Она посмотрела на меня своими сверлящими карими глазами и произнесла нечто, отчего мурашки забегали по спине:
— Ты в смертельной опасности. Можешь кончить в казённом доме, если не поостережешься. Позолоти ручку рублём, и я скажу тебе твою судьбу.
Почти против своей воли я вынул из бумажника пятирублёвку и отдал ей.
— Одна из твоих дорог ведёт в казённый дом, другая — за кордон. Ты станешь богатым и знаменитым, если выберешь вторую.
Меня охватила паника. Кто эта женщина — провокатор, агент КГБ? Или на самом деле цыганка, прочитавшая мои тайные мысли? С того момента, как я ступил на землю Грузии, я не мог избавиться от чувства, что за мной кто-то наблюдает, — случайные прохожие, кассирша из газетного киоска, вездесущие пионеры… Пыталась ли она таким образом намекнуть, что догадывается об истинной цели моего приезда в этот приграничный город? Или сама Судьба подавала мне знак через неё?»
Петр родился в сибирской деревне. Отец погиб на фронте за месяц до рождения сына, а мать растила троих детей. Учился в томском техникуме, занимался плаванием и даже были шансы попасть в олимпийскую сборную на токийскую Олимпиаду 1964 года. Но вместо Токио его призвали в армию, где определили в армейский спортклуб в Новосибирске, который называли фабрикой будущих чемпионов.
Прав был американец Дейл Карнеги, когда говорил, что наши успехи больше зависят от отношений с другими, чем от наших талантов. Директор бассейна, бывший соратник Берии, сосланный за свои проделки подальше от столицы, невзлюбил парня и его тренера за своеволие и вольнодумство. Один звонок в КГБ — и Пётр уже в обычной воинской части. С её дедовщиной и бесправием. Защитил друга, которого избивал старшина — и вот уже у самого появилась реальная перспектива быть покалеченным, а то и убитым. Пришлось хитрить, чтобы скрыться в больнице, пусть даже и психиатрической. Но тамошние эскулапы, неспособные отличить симулянта от больного, собрались лечить его всерьёз, а после такого лечения человек если и выживал, то здоровье терял. Так что спасения не было и там.
Зато у этой лечебницы имелся один серьёзный плюс: из неё Петру удалось бежать. Скрывался у друзей, и пациента найти не удалось. Главврачу лишние хлопоты были не нужны, он уговорил брата беглеца взять ответственность за Петра, пообещав на прощание:
«Ваш брат или сумасшедший, или симулянт. Так или иначе, мы с ним еще увидимся. Но пока он — на вашей ответственности».
Вскоре симулянт получил паспорт и военный билет со специальной отметкой, которая означала: «шизофрения, с посттравматической гипертонией». Свежевыданный паспорт давал возможность поселиться в любом месте страны. Такая возможность у большинства советских граждан была раз в жизни. А парень уже решил бежать и поехал в Батуми.
Сам по себе приезд в приграничный город никаких судьбоносных перемен не означал. Чтобы прописаться там, надо было устроиться на работу, а чтобы работать требовалась прописка. И это вовсе не недомыслие чиновников. Наоборот, всё было хорошо продумано: на словах — езжай, куда хочешь, а на деле ничего у тебя не выйдет. Помогли спортивные успехи, к которым в то время в стране относились очень трепетно: честь города, республики, страны защищали именно такие спортивные парни.
Что касается Петра, он в то время видел себя таким: «Мне только что исполнилось двадцать лет. Я был дерзким, упрямым, независимым и довольно начитанным молодым человеком, хотел путешествовать, изучать языки, читать закрытую от нас литературу, увлекался историей, философией, психологией, медициной, занимался йогой, гипнозом и психотехниками, пробовал писать. Меня не устраивала безысходность, в которой мы все тогда жили; не прельщала перспектива быть покалеченным в армии… Сказалось, быть может, что я вырос в Сибири и привык сам себе выбирать дорогу».
И цитировал любимого Мандельштама:
Если в психбольнице избегали лишних хлопот, то КГБ от работы не бегал и объявил Патрушева в розыск. Тучи сгущались даже в Батуми, и о спортсмене уже наводили справки. Но и тот времени зря не терял. Сухопутный вариант побега отпадал, там пограничный патруль тормозил каждого, кто устремлялся из города на юг. От прожекторов, шаривших по морю, могли прикрыть только волны. Так что надо было выбрать подходящую погоду, чтобы выдержать это невероятное испытание. Дело не только в сильных течениях: предстояло обойти сети, расставленные против несознательных граждан, остаться незамеченным для прожекторов, камер наблюдения, патрульных катеров, вертолётов, обойти военные базы подлодок…
И вот наступил решающий вечер. Солнце садилось. «Море для моей цели выглядело превосходно: волны около трети метра высотой, спокойно катящиеся, стабильные, насколько хватал глаз, — пишет Патрушев. — Такой же прогноз погоды дали на ближайшую пару дней.
Я сполз в пахнущую тиной воду оросительного канала. Вода была солоноватой — канал соединялся с морем. Нырнул и тихо поплыл, гребя руками брассом, ногами в свободном стиле. Проплыл таким способом метров сто, едва показываясь из воды, затем осторожно высунул голову наружу. Огоньки сигарет и голоса были позади. <…>
Теперь я остался с опасностью наедине, без всякой подстраховки. Включился первый прожектор. Он хлестнул море подобно щупальцу гигантского осьминога. Я глубоко нырнул, чувствуя, как растёт давление в ушах. Все мои тренировки, испытания на пляже будто бы испарились. Вынырнул на поверхность, задыхаясь. Если так реагировать на каждый прожектор, далеко не уйти. Напомнил себе: просто лежать чуть-чуть под поверхностью воды, распластавшись, как медуза, чтобы сберечь силы и не быть обнаруженным. Почти тотчас же луч прожектора опять прошёл надо мной. Я нырнул, на этот раз не столь глубоко. «Медуза, — повторял себе, — медуза». В промежутках между ныряниями быстро плыл, чередуя свободный стиль и движение на спине».
То, что сделал Пётр, было настолько невероятно, что турки ему не поверили и полтора года держали в тюрьме, добиваясь признания, что он советский шпион. Следствие вели по полной программе, от конвейерных допросов без сна и еды до имитации расстрела. О чём можно думать в таких условиях? Пётр взялся за турецкий язык, имея в руках русско-турецкий словарь и несколько бульварных журналов. В словаре было 30 тысяч слов, и узник поставил цель запоминать по триста слов ежедневно. То есть программу рассчитал на три месяца. Он всегда ставил себе почти невыполнимые задачи. И скоро уже мог разговаривать со следователем по-турецки…
Что ж, в конце концов и чиновников порой удаётся убедить в своей правоте. Патрушева отпустили. А он к тому времени овладел ещё и английским языком, и со временем стал гражданином Австралии. Через шесть лет после побега вёл передачи Би-би-си в Лондоне, а потом на радио «Свобода» в Мюнхене. Причём языком овладел так, что работал даже переводчиком-синхронистом на многих международных конгрессах и симпозиумах. Именно он переводил встречи австралийского премьера с Горбачёвым, а потом и Путиным.
В 1990 году, когда в России наступили перемены, Пётр Егорович приехал на родину. Только что в стране отменили смертную казнь, и он надеялся, что и его расстрельный приговор тоже отменили.
Но после прилета его задержали в Шереметьеве на несколько часов, не разрешая ни с кем встречаться. Потом освободили безо всяких объяснений. На прощанье только сказали: «Видите, перестройка работает».
После этого он ещё не раз приезжал в новую Россию. Один из визитов совпал с провалившимся путчем 1991-го, и Патрушев присоединился к толпе защитников Белого дома. Однако надежды не оправдались. «Наш закрепощенный народ, не привыкший к самостоятельному принятию решений, не нашёл сил справиться с этой свободой… Одна надежда: Россия всегда славилась талантами», — написал он в своих мемуарах.
До последних дней (он умер в 2016-м) Патрушев работал переводчиком, писал книги и статьи. В Россию возвращаться не собирался, несмотря на заманчивые предложения: «С годами моя судьба все теснее срослась с Австралией. Привыкший ездить без визы или с минимальными формальностями по всему миру, я не смог бы привыкнуть к российским бюрократическим ограничениям. В последнюю поездку, несмотря на приличные деньги, заплаченные за визу и её оформление, я должен был три дня мотаться по паспортным столам и жэкам Москвы».
Жил с женой Алисой и сыном Андреем на берегу красивого тихоокеанского залива, где резвятся дельфины. И вспоминал слова китайского философа: «Когда обувь по ноге, забываешь о ноге, когда пояс по талии, забываешь о животе, когда сердце на месте, уходят сомнения».
Владимир Комиссаров
Летом 1965 года 26-летний чемпион страны по пятиборью уплыл с батумского пляжа в Турцию, повторив путь Петра Патрушева.
Родился он в Ленинграде, из блокадного города удалось выбраться вместе с матерью, попали в Новосибирск. Потом судьба забросила в столицу. Там десятилетний мальчик увлёкся спортом. Записался в секцию плавания, появились первые успехи. Со временем пригласили в пятиборье. Спортсмен быстро добился хороших результатов, и в 1959 году стал чемпионом Советского Союза.
Начались поездки за границу вместе с командой в страны соцлагеря, где парень увидел другую жизнь. Как ему показалось — более свободную. И решил бежать из страны. Но ведь если ты уже за границей, то надо не бежать, а просто остаться… Такой вариант его не устроил: «Не хотел никого подводить из моих руководителей, из моих товарищей». И был совершенно прав, потому что неплохим людям, много лет помогавшим спортсмену стать чемпионом, власти серьёзно испортили бы жизнь.
Пять лет искал подходящий вариант. Хорошему пловцу приглянулся такой: от Батуми до Турции всего два десятка километров по воде… Прикинул силы и начал готовиться к главному соревнованию. С пограничниками. Он — в открытом море, они — на катерах и вертолётах.
И вот в 1965-м вместе с двумя приятелями он поехал на соревнования в Батуми. Соревнования местные, можно было и не ездить, но желание ещё и отдохнуть — причина вполне уважительная. Соревнования, конечно, выигрывал, повергая местных в недоумение: зачем чемпиону такая глушь? Спортсмен совмещал заплывы с длинными прогулками по городскому пляжу, с которого и предстояло стартовать к границе.
Выяснились полезные вещи. Отплывать от берега больше чем на полсотни метров здесь нельзя, а после девяти вечера в воду и вовсе запрещено заходить. Днём уплывать вообще невозможно — очень следят. Как, впрочем, и ночью. В хорошую погоду под водой стоят подводные лодки с выключенными моторами, и там есть специальные приборы, которые учёные используют для обнаружения рыбных косяков. Пограничники приспособили эти локаторы для охоты на нарушителей: когда человек плывет, его дыхание можно услышать издалека. Поэтому решил плыть ночью, во время шторма — там уж никакого дыхания не услышать.
В тот вечер шторм был вполне подходящий, четырёхбалльный. Владимир и двое друзей отправился на пляж. Там было всё ещё многолюдно — люди любовались морем. На берег вышли с дальнего входа, и с центральной площадки были видны только силуэты.
Зачем нужны провожающие? Дело в том, что если человек войдёт в море и не вернётся, то на это могут обратить внимание и появятся совершенно ненужные спасатели. А тут двое обнялись, третий шёл чуть поодаль, и издали это выглядело как два силуэта. Но шторм, который должен был помочь, пока только мешал, и трижды выбрасывал беглеца на берег. Четвёртая попытка удалась. В море вошли трое, а вернулись двое.
Спортсмен уплыл примерно на два километра в открытое море — что-то ему подсказывало, что там безопаснее. Потом поплыл вдоль берега. Но прожектора, расставленные через каждые два-три километра, легко доставали беглеца. Светили сначала на берег, проверяя, нет ли там кого, а потом направляли на море. За это время пловец успевал сориентироваться и нырнуть.
Плыть мешал небольшой мешочек, в котором были припасены нейлоновые штаны, рубашка и теннисные тапочки. Пришлось его выбросить. Через четверть часа случилась более серьёзная неприятность — судороги в ногах. Так нервы давали себя знать. Владимир использовал старый морской способ — булавкой уколол несколько раз в ногу, мышцы расслабились и больше судорог не было.
Он плыл восемь часов, преодолев на всякий случай несколько лишних километров. И не был уверен, турецкий ли это берег или всё ещё наш, но в шесть утра надо было выбираться в любом случае: над водой начинали летать пограничные вертолёты, вылавливая беглецов.
Расчёт оказался верным, и Владимир благополучно вышел на чужой берег. Там, впрочем, его встретили вполне дружелюбно, и беглец успел прожить несколько месяцев, ожидая решений на высоком уровне. Между тем, соотечественники не теряли надежду уговорить его вернуться. Турецкие власти настояли на встрече с советским консулом. Встреча состоялась, и тот начал прочувствованную речь: «Твои мама, папа, твой брат и твоя сестра очень хотят, чтобы ты вернулся». Видно, речь была универсальная, поэтому не обошлось без конфуза. Владимир спросил: «Извините, а где вы мне сестру нашли? У меня сестры-то нет». На этот раз дипломата подвела профессиональная выдержка, и он, как вспоминал потом его собеседник, смутился и даже покраснел. В общем, всё сразу стало ясно, и встреча получилась недолгая.
Вскоре беглец переехал из Стамбула в США, где неплохо устроился. В техасском городе Сан-Антонио преподавал в нескольких школах — фехтование, плавание, футбол. Чемпион по пятиборью легко собирал группы желающих. Когда подучил английский, решил, что нужно получить американское образование. Захотел стать специалистом по русской литературе и преподавать в университете, поступил в аспирантуру. А ещё была мечта открыть своё дело, здесь одно другому не мешает. В Америке любят хорошо поесть, и ресторанный бизнес — дело перспективное…
Олег Соханевич и Геннадий Гаврилов
Два приятеля-художника в одну из летних ночей 1967 года покинули круизный теплоход «Россия», а заодно и страну, чтобы через девять суток оказаться на надувной лодке у турецкого берега.
Соханевичу было 32 года. По его меркам — вполне достаточно, чтобы задуматься о смысле быстротекущей жизни. После киевской художественной школы учился в Ленинградской академии художеств.
И что дальше? «Три года прошло после Академии, а я все ещё здесь. Советский художник-абстракционист. Картина грустная. Перспектив никаких. Нельзя сказать, чтобы я сидел сложа руки, но результатов пока нет, всё по-прежнему, и с каждым годом трудней, — ведь, помимо всего прочего, природа подарила мне талант, а это совсем уж неудобно тут, если ты честолюбив и знаешь, что работаешь хорошо. Просто хоть бросай всё к чёрту!» — сетовал он потом в своих воспоминаниях, которые назвал «Только невозможное».
Мечтал путешествовать по свету, встречаться с зарубежными коллегами, единомышленниками, удивлять своими творениями. Однако такие вопросы у нас решали уполномоченные на то люди: «Когда я пытался выехать за рубеж, чтобы посмотреть мир, меня не пускали. Я считал, что это очень-очень несправедливо. Кроме того, я был человеком упрямым».
Несмотря на отказы, он продолжал собирать документы для поездки. Хлопот много, а толку ноль: «Чего-то не хватало, что-то якобы терялось. А без какой-то „потерянной“ бумажки нужно было начинать все снова. Меня это очень разъярило, хотя я держал эмоции под контролем. А однажды мне прямо сказали: „Чего ты стараешься, мы же таких не пускаем“. Я спокойно заявил: „Вы делаете ошибку“. И в эту минуту я точно решил, что сделаю всё возможное, чтобы покинуть страну».
И начал действовать. Море любил с детства, с ним же связывал и надежды на успешный побег. Съездил в Батуми на разведку, изучил пляж, присмотрелся к наблюдательным вышкам. Плавал не столько для удовольствия, сколько привыкая нырять, подолгу оставаясь под водой. И понял, что далеко уплыть не удастся, потому что сильное прибрежное течение обязательно вернёт его на родину. Тогда и появилась мысль бежать с корабля в открытом море. На резиновой лодке.
Единомышленник нашёлся быстро. Сибиряк Геннадий Гаврилов с отличием окончил ту же академию и уже успел проявить свои таланты. Расписал фойе в Театре комедии, и его взяли на должность главного художника. Неплохой старт. Но и ему было невмоготу в атмосфере, которую создала в стране руководящая и направляющая сила.
Купили лодку, компас, запаслись консервами, флягами с водой… в общем, всем, что понадобится в дороге длиной в три сотни километров. С таким грузом и сели на теплоход «Россия», который направлялся из Ялты в Новороссийск. Заранее перенесли вещи на палубу, и ночью — рюкзак за борт, а потом и сами. Всё сделали быстро, никто ничего не заметил.
Надули лодку ручным насосом — и на вёсла. Это даже приятно, если лодка в городском пруду, а грести сутками да нередко и в штормовом море — тут можно сильно захандрить. Что Гена и сделал. В результате Олег сидел на вёслах, а напарник работал вперёдсмотрящим. И чуть не погубил всё дело. «У меня вдруг появилось сильное ощущение тревоги, — вспоминал Соханевич. — Я оглядываюсь и вижу корабль, который прёт точно на нас. Когда он подошел поближе, стало понятно, что это советское судно. Я обалдел от такого дела. А мой партнер сидит на корме, смотрит мимо меня и помалкивает. Я подумал, что он сошел с ума».
Орудуя веслами, Олег едва успел увести лодку из-под нависшего носа. И опять повезло, моряки их не заметили. Но потрясение было таким сильным, что Олег не простил этого приятелю. А испытания только начинались. Стёртые в кровь руки, болезнь, а тут ещё изменилось сознание и преподнесло сюрприз: в лодке появился кто-то третий и завёл беседы о вечности… Шли только шестые сутки.
И вот на десятое утро показалась земля. У маяка — три фигуры. Беглецы машут руками, те спускаются к лодке, и вскоре моторка останавливается неподалёку: «Парле ву франсе? Ду ю спик инглиш?» Но наши соотечественники предпочитают объясняться жестами: мол, где пристать? Лодка уходит вперёд, беглецы — за ней.
Вышли на мелководье, но только ноги уже не держат тридцатилетних мужчин… Для местной публики это сенсация: на лодке… через море… не верится.
Турки гостей не выдали. Несколько месяцев беглецы находились на военной базе. Затем Стамбул, пресс-конференция. И поток непривычных впечатлений: «Наши физиономии в стамбульских газетах. Босфор, вереница судов. Несколько раз проходили корабли с красной полосой на трубе, совсем рядом. Теперь это только забавно, уже не страшно».
Вскоре беглецы оказались в США, где и прожили оставшуюся жизнь. Соханевич писал стихи, занимался абстрактной живописью и графикой, путешествовал. Открыл в себе и талант скульптура. Создал жанр «напряженной скульптуры» — это такие композиции из напряженного металла — согнутого, растянутого, сжатого… В общем, наполненного скрытой силой. Искусство это на любителя, и художник, которого природа тоже наделила немалой силой, на жизнь зарабатывал грузчиком на квартирных переездах. Хоть его произведения и выставлялись в самых престижных галереях Америки, покупать их не спешили.
Умер художник в Нью-Йорке, прожив 83 года. Со своим приятелем больше не общался с самой Турции, не простив ему той давней слабости.
Гаврилову подрабатывать не приходилось. Он писал в академической манере картины для старой русской аристократии. Рисовал портреты знаменитостей (однажды даже жена президента Форда заказала ему портрет мужа). Денег хватало и на собственную виллу. К сожалению, прошлая слабость оказалось не единственной: шальные деньги и кутежи подорвали здоровье. После инсульта парализованный старик доживал в бедном латиноамериканском квартале того же Нью-Йорка. И до последних дней вспоминал тот побег с тёплым чувством: «Это было моё дело. Я его сделал. И в нём я нашёл себя как человека. Этот побег — самое главное событие в моей жизни».
Отец и сын Бразинскасы
15 октября 1970 г. пассажирский самолёт Ан-24 с 46 пассажирами вылетел из Батуми в Сухуми. Передние места заняли офицер с подростком. Это был Пранас Бразинскас с 15-летним Альгирдасом. В отличие от всех, они собирались лететь не в Сухуми, а в турецкий Трабзон. Офицером Пранас не был, и форму надел только ради театрального эффекта. Через пять минут после взлёта он протянул бортпроводнице Надежде Курченко конверт и приказным тоном распорядился передать командиру экипажа: «Я от генерала Крылова. С этой минуты на борту советской власти нет».
В конверте лежала записка от имени этого неведомого генерала. В ней было три пункта: лететь по указанному маршруту, прекратить радиосвязь, а за неисполнение — смерть.
Пассажирам скомандовал:
— Никому не вставать, иначе взорвём самолёт!
Проводница бросилась к пилотской кабине с криком: «Нападение!» Эти двое двинулись за ней, и когда она попыталась помешать им ворваться в кабину, раздался выстрел из обреза. Курченко упала, а «офицер» начал пальбу по членам экипажа.
Командиру корабля Георгию Чахракии пуля попала в позвоночник, и у него отнялись ноги. Были ранены бортмеханик и и штурман. Не пострадал только второй пилот Сулико Шавидзе. Пассажиры было попытались помочь лётчикам, но мальчишка пригрозил взорвать самолёт (кроме обреза и пистолета имелась и граната). Старший тем временем продолжал угрожать и требовал лететь в Турцию.
Пилот сумел не только удержать машину в воздухе, но и незаметно подать сигнал «SOS». И вдобавок попытался обмануть угонщиков и посадить самолёт неподалёку, на военный аэродром в Кобулети. Однако Пранас заметил уловку и предупредил, что пилота пристрелит, а самолёт взорвёт. Угонщики были настроены решительно. Пранас продолжал держать под прицелом пилотов, а Альгирдас — пассажиров.
Командир потом вспоминал: «Надя без движения лежала на полу в дверях нашей кабины и истекала кровью. Рядом лежал штурман Фадеев. А за спиной у нас стоял человек и, потрясая гранатой, выкрикивал: «Держать берег моря слева! Курс на юг — на Трабзон! В облака не входить! Слушаться, а не то взорвём!»
Самолёт бросало из стороны в сторону: лётчик жаловался на рану, но на самом деле старался сбить угонщиков с ног:
— Я бандитам сказал: «Я ранен, у меня парализовало ноги. Только руками могу управлять. Мне должен помочь второй пилот», — рассказывал потом командир корабля. — А Бразинскас ответил: «На войне всё бывает. Можем и погибнуть». Я тут же второму пилоту сказал: «Если потеряю сознание, ведите корабль по требованию бандитов и посадите. Надо спасти самолёт и пассажиров!»
От Батуми до границы 15 км, а до Трабзона по прямой — 176, немного дальше, чем до Сухуми. И если полёт обычно занимал всего полчаса, то в этом случае в воздухе держались около полутора. Когда подлетали к Трабзону, горючего почти не осталось, и Шавидзе готов был сажать самолёт на воду. Но с воздуха разглядели аэродром, сделали круг и пустили зелёные ракеты, прося освободить посадочную полосу. Пилот открыл передние двери, ворвались турецкие спецназовцы, однако угонщики сопротивляться не собирались и сдались. Самые серьёзные испытания остались позади. А в самолёте — убитая бортпроводница и трое раненых. И 24 пулевые пробоины.
Несмотря на пальбу, у Бразинскасов хватило времени и духу затянуть в полёте на литовском песню «лесных братьев» (в 1940—50-х годах они на территории прибалтийских республик боролись с советской властью):
Бразинскас-старший знал о тех событиях не понаслышке. Он родился в независимой Литве, и в 1940-м, когда она стала советской, ему было шестнадцать. Как и большинство литовцев, новую власть не принял, а через четыре года немцы принудительно мобилизовали его в армию. Служил во вспомогательных войсках (бригада сооружала понтонные мосты). Людей с такой биографией в тех местах было много, и власти потом на эту тему претензий к нему не предъявляли.
После войны, по его собственным словам, участвовал в сопротивлении — снабжал «братьев» (в Литве их называли партизанами) деньгами и продуктами, но в операциях не участвовал. Когда отец, который тоже партизанил, погиб, Пранас от борьбы отошёл и занялся совсем другими делами. Заведовал складом хозтоваров, но за дело взялся с такой капиталистической предприимчивостью, что вскоре оказался в колонии. Причём сам считал, что его заслуги вполне тянули на расстрел: «Такие дела я воротил». Вышел досрочно, с женой развёлся, как он говорил, «по политическим мотивам». Женившись второй раз, взял фамилию жены и уехал с сыном в узбекский Коканд. Там возможности для теневого бизнеса были получше, чем в Литве, и единомышленники нашлись быстро. Бразинскас возил с родины запчасти для автомобилей, люстры и тому подобный ширпотреб, который быстро уходил на местном чёрном рынке. То есть занялся тем, что через четверть века станет вполне легальным бизнесом на территории всех когда-то союзных республик. Так появился неплохой по советским меркам капитал. И всё бы хорошо, если бы не вездесущий КГБ. Припомнили и службу в вермахте, партизан и пытались даже обвинить в расстрелах евреев. Хоть по последнему пункту криминала и не нашли, но дело и без него могло повернуться очень плохо. Тогда Пранас всерьёз задумался о бегстве на Запад. Сын поддержал, и начали готовиться: купили оружие, военную форму и, конечно, валюту. Потом ненадолго полетели в Вильнюс — проститься с близкими, побывать на родных могилах. А поскольку для побега решили захватить самолёт, то заодно и проверили, удастся ли пронести оружие на борт. Всё прошло без неожиданностей.
Заложники спустились на землю, неся с собой тело стюардессы. Ей было всего 19 лет. Год назад приехала из Удмуртии и устроилась на работу в Сухумский авиаотряд. До собственной свадьбы она не дожила всего месяц. Вместо этого её с почестями похоронили в Сухуми и посмертно наградили орденом.
Турецкие власти немедленно оказали членам экипажа медицинскую помощь и предложили всем желающим остаться там навсегда. Желающих не нашлось, и на следующий день пассажиров отправили домой на специально прилетевшем самолете.
Выдавать угонщиков, как того требовал СССР, турки не стали. Там была другая логика: мол, мужчина вынужденно пошёл на крайние меры из-за того, что ему не оставили выбора. А тот, кто хочет выйти из клетки — не террорист. Если же для этого придётся сражаться с охранниками… что ж, таковы условия этой задачи.
А по миру уже разнеслась сенсация: в СССР впервые угнали самолёт! Если точнее, то это была лишь первая успешная попытка. Впервые с угонщиками у нас столкнулись ещё в 1954 году. Самолёт Ли-2 летел по маршруту Минск — Таллин — Ленинград, а вооружённая пара собралась в Финляндию. Но там бортпроводник оказался крепким мужчиной, и самолёт сел в Таллине.
Мириться с тем, что преступникам всё сойдёт с рук, Советский Союз не собирался. Брежнев возмутился, вызвал к себе министра обороны и спросил, можно ли вернуть бандитов силой. И Гречко дал приказ ГРУ выкрасть Бразинскасов. Уже на следующий день спецназовцы из Главного разведывательного управления добрались до границы, где наши пограничники пропустили их на ту сторону. Через сутки нелегальная группа была в аэропорту Трабзона, но ей пришлось вернуться ни с чем: угонщики уже сидели в городской тюрьме в полной безопасности.
Вскоре Бразинскасов судили. Турки сочли угон вынужденным, а стрельбу непреднамеренной и вынесли мягкий приговор — старший получил восемь лет тюрьмы, а младший два года. В 1974-м объявили амнистию по случаю юбилея республики, и узникам заменили тюрьму на домашний арест. Это не помешало им вскоре попытать счастья в американском посольстве как политическим беженцам. Конечно, такое скандальное нарушение режима обернулось дипломатическим отказом. Зато в посольстве Венесуэлы, куда они тоже заглянули спустя несколько дней, отнеслись к делу гораздо благосклоннее. В эту страну они тайком и отправились, хоть и ненадолго. Купили там билет до Канады, и во время промежуточной посадки в Нью-Йорке нелегально остались на территории США. Такая самодеятельность грозила неприятностями, но их поддержала литовская диаспора, и уже в 1976-м Бразинскасы получили американские паспорта, Пранас стал Фрэнком Уайтом, а Альгирдас — Альбертом Виктором, тоже Уайтом.
Занялись малярными работами в калифорнийской Санта-Монике, где самая большая литовская община. Сын окончил университет, стал финансистом в крупной фирме, женился, и даже обнародовал книжку о побеге, где не пожалел места для описания роли своей семьи в «борьбе за свободу Литвы». Но когда сбылась их мечта и Литва стала независимой, на родину не поехали, а Пранас заявил: «Пока не расстреляют последнего коммуниста и работника ГУЛАГа, ноги нашей в Литве не будет».
Между тем, отец приторговывал оружием, в котором знал толк. Да только вот у старика с возрастом настолько испортился характер, что он мог в приступе бешенства гоняться с пистолетом за соседскими детьми. Альгирдас содержал полусумасшедшего отца и ухаживал за ним, но тот и с ним не церемонился: однажды направил на него пистолет и пригрозил застрелить, если сын его бросит. Причём сказал это настолько убедительно, что тут же получил в порядке самозащиты попавшейся под руку гантелью по голове. На этом жизнь 77-летнего старика закончилась, а у сына началась совсем другая, в тюрьме. Присяжных смутил тот факт, что сын вызвал полицию только через сутки. Адвокат подводил дело к самообороне и напирал на шоковое состояние обвиняемого, но всё равно его подзащитный получил 16 лет.
Хоть это была и не первая попытка угона, серьёзных выводов раньше не делали. Потребовалось кровь девушки, чтобы что-то изменилось. Сегодня действовать следует уже совсем не так, как это происходило в 1970-м: «Убедившись в наличии у нарушителей оружия или других предметов явной угрозы, воздерживаться от разговоров и действий, которые могут раздражать нарушителей или спровоцировать их к агрессивным действиям». Это из правил для экипажа. А вот для пассажиров: «Главное — сохраняйте спокойствие, терпеливо выполняйте то, что вам говорят, и сохраняйте веру в то, что вас спасут. Героизм проявлять в такой ситуации опасно не только для вас, но и для всех пассажиров и экипажа. Доверьте операцию по спасению профессионалам, которые совершат силовое освобождение заложников так, чтобы никто при этом не пострадал».
Жизнь потом не раз подтверждала эти правила. Когда три года спустя угнали Ту-104, летевший из Москвы в Читу, то милиционер, сопровождавший самолёт, метко выстрелил в спину угонщика. А у того в руках была бомба. Преступник погиб сразу, а спустя минуты — ещё 81 человек. Стало ясно, что меткая стрельба в таких случаях может и погубить.
Между тем, удачный побег кое для кого стал примером: сразу же после батумской истории захватили ещё один самолёт. Угонщиков тоже было двое, и собирались они в ту же Турцию. Повторить успешный сценарий не удалось, но теперь уж в газетах не появилось ни строчки: власти поняли, что дурные примеры заразительны. Зато стали проводить предполётный досмотр, экипаж получил оружие, на приграничных рейсах появились вооруженные сопровождающие в штатском, а в уголовном кодексе — новая статья: «Угон воздушного судна».
Статистику на этот счёт приводят такую: за всю историю отечественной гражданской авиации было совершено 117 попыток угона самолётов, из них почти четверть — удачных. 111 пассажиров погибли, зато 17 угонщиков убито. Впрочем, цифры приводят разные, и насколько они точны — сказать трудно. Несомненно лишь то, что угоны породила запертая на замок граница.
И вообще в этой истории, о которой писали сотни раз, далеко не всё ясно. Бразинскас говорит, что его отец расстрелян НКВД? А у нас другая версия: погиб от пули своих же «братьев». Борец за свободу Литвы? Да нет, обыкновенный спекулянт. И тут, и там — лишь слова, и потому вопрос остаётся открытым. Причём не только этот. Например, почему в салоне разразилась такая пальба? 24 пробоины, а ведь стреляли, согласно официальным данным, только угонщики. И зачем было стрелять в пилотов, если без них всем грозила верная смерть? Угонщики были неудачливыми самоубийцами? Как выяснилось, даже второй пилот уцелел случайно: пуля просто застряла в спинке кресла. Между тем, Бразинскас-старший утверждал, что стрельбу открыли агенты в штатском, которые были на борту, а стюардесса случайно погибла в перестрелке. И при этом ни одна пуля не задела самих нападавших. Что же это были за стрелки?
Верится, конечно, с трудом, но эту версию подхватили не только на Западе. Даже академик Сахаров говорил: «Большинству советских граждан до сих пор неизвестно, что Курченко не была убита Бразинскасами, а погибла от случайной пули советского охранника». Неужто это лишь со слов угонщика? Ведь известно, что в том году ещё не было ни досмотров, ни охранников. Но известно и другое: у властей есть давняя привычка скрывать неудобные факты и врать, отрицая очевидное. В результате им перестали верить даже тогда, когда говорят правду. Такая вот репутация…
Страна была возмущена этим громким преступлением. Трудящиеся требовали выдать воздушных пиратов и, конечно, расстрелять отщепенцев. Полвека спустя многое изменилось, и новое поколение рассуждает на эту тему на интернетовских форумах гораздо спокойнее: «Если у тебя есть расхождения с властью, так ты сразу становишься отщепенцем. А была бы возможность спокойно выехать, никто бы геройски не пострадал, и пусть едут куда хотят».
Раненые лётчики выздоровели и продолжали летать. Не повезло только командиру корабля. Он почти два года был парализован, перенёс несколько операций, но так и остался инвалидом. А их самолёт после ремонта перевели на один из маршрутов в Узбекистане, В кабине пилотов висела фотография погибшей стюардессы.
Павел Дудников и команда «Вишеры»
В 1972 году из страны навсегда уплыл корабль «Вишера» во главе с капитаном Дудниковым.
Инициатором операции был тоже он. Фронтовик, после войны закончил мореходку, плавал за рубеж. Видел тамошнюю жизнь, сравнивал, критиковал наши привычные безобразия. Долго критиковать ему не дали, с работы выгнали и зарубежную визу аннулировали. Вот тогда он и решил пересечь границу самостоятельно.
Дудников переехал в Сухуми и попытался устроиться в рыбколхоз. Это было непросто после прежних приключений, но руководству понравились профессионализм и работоспособность моряка. Так он стал капитаном рыболовецкого сейнера.
Команда подобралась слаженная, хоть с точки зрения «сознательности» образцовой не была. Старший помощник капитана Георгий Колосов уже побывал в лагере, власть ненавидел и думал о побеге. Другой помощник, Валерий Дюсов, с интересом слушал западное радио и мысли его были очень далеко. У литовца Ромаса Гадляускаса во время войны отец сражался с новой властью и погиб в тюрьме. Так что когда капитан подал мысль о побеге, то воздержавшихся не было.
Старенькое судно отправили в Керчь на ремонт, после чего предстоял обратный путь, в Сухуми. Вот тут-то Дудников и решил бежать. Рацию отключили и взяли курс на Босфор. Через двое суток «Вишера» миновала пролив и оказалась в Мраморном море. Плыть решили в Грецию, где правили «черные полковники». Отношения с СССР они разорвали и уж назад беглецов не вернут.
Успешный побег можно и отпраздновать. Бросили якорь, капитан созвал всех в салон и поздравил команду при полных бокалах шампанского. Команда ликовала. Но радовались не все. Старший механик Цхадая, как рассказывал Дудников, «был ярый коммунист, фанатик, притом дурковатый. Я объявил, что судно будет следовать дальше в Грецию, потому что турки часто с Москвой устраивают сделки и выдают перебежчиков. Цхадая умолял меня не идти в Афины, потому что его как коммуниста засадят за решетку. Я ответил, что его не тронут, так как греки соблюдают международные правила. Но до него не доходила никакая истина. И вот у порта Чанакалле, когда к борту подошёл турецкий служебный катер, Цхадая бросается на катер и устраивает шум — трясет в объятиях турецких представителей, а они его не понимают. Турки подумали, что это советский перебежчик и отошли от борта, а мне махнули рукой — следуйте. И я продолжил рейс в порт Пирей. После я узнал у греческих властей, что турки в Чанакалле не могли найти переводчика целые сутки, а когда узнали от него, что бежало судно, а его требуют возвратить его в СССР, то наш след к этому времени пропал. Ну, а когда Цхадая вернулся в Сухуми, то мне писали друзья, что над ним смеялся и потешался весь город».
12 августа «Вишера» прибыла в греческий порт Пирей. Там беглецов встречали как героев. Их назвали «счастливой восьмёркой», брали интервью, показывали по телевидению, устраивали праздничные банкеты. Грекам льстило, что беглецы прибыли именно в Грецию, а не во враждебную Турцию.
После побега команда разъехалась по разным странам. Часть осталась в Европе, а Дудников и Колосов выехали в США.
Трагическая судьба ждала только матроса Павла Сиордию. Он этнический грек и остался жить в Греции. Спустя год затосковал по родным и решил вернуться. В Москве его арестовали прямо у трапа самолёта. Через четыре года погиб в Днепропетровской спецпсихбольнице, не выдержав пыток нейролептиками. Ему было 28 лет.
Так сложилось, что об этой истории знают мало. Дудников снимал побег на кинокамеру — стоянка в Сочи, Керчь, переход через Черное море, Босфор, банкет в Мраморном море. С хроникой ему не повезло: во Флориде угнали машину, а с ней пропала и камера с пленками. О его побеге готовил книгу наш эмигрант Сергей Крикорьян, да неожиданная смерть помешала завершить работу. Американские киношники взялись было снимать фильм, и опять что-то не вышло. Капитана приглашали на различные встречи, конференции, интервью. Дудников отказывался и хотел лишь скромно жить в новом, свободном мире. Работал на Аляске, в Калифорнии. Он прожил долгую и насыщенную жизнь, воспоминаний не писал и скончался в 1996-м во флоридском городе Голливуде.
Отметили его и на родине. Каждому члену сбежавшей команды заочно дали по 15 лет, а капитана приговорили к расстрелу.
Слава Курилов
Его побег уникален. Бежав в декабре 1974 года с круизного лайнера, он плыл в океане почти трое суток, преодолев около сотни километров. И всё это — без сна, еды и питья.
Это первый и единственный побег через борт. Когда он прыгал с кормы корабля, высотой с пятиэтажку, то трезво оценивал перспективы: «С точки зрения здравого смысла мои шансы добраться до берега живым выглядели так: если во время прыжка я не разобьюсь от удара о воду, если меня не сожрут акулы, если я не утону, захлебнувшись или от усталости, если меня не разобьет о рифы, если хватит сил и дыхания выбраться на берег и если к этому времени я всё ещё буду жив — то только тогда я, может быть, смогу поблагодарить судьбу за небывалое чудо спасения».
Лайнер был совершенно не рассчитан на то, чтобы с него прыгали. Построен в Германии в двадцатые годы, при нацистах носил имя «Ганза», во время войны подорвался на мине затонул. При дележе добычи достался Советскому Союзу, так же был и назван. Но когда его продали в Гонконг на металлолом, то пришлось переименовать в «Тобольск»: ведь тут же найдутся шутники на тему списанного «Советского Союза»…
Так вот: выбраться через иллюминатор нельзя, потому что они вращались на оси, проходившей посередине отверстия. Прыгнуть с палубы? Борт от палубы шёл не вниз, а закруглялся бочонком, поэтому просто перемахнуть за ограждение было недостаточно. А под водой у судна были ещё и металлические крылья, о которые тоже ничего не стоило разбиться. Разбежаться как следует и нырнуть ласточкой? Хоть 38-летний мужчина был в хорошей форме, но на такой трюк не решился.
Где же выход? Оставалась только одна возможность: прыгать с кормы, где кончаются крылья и вращаются лопасти гигантского винта. Если не попадёшь под винт, то начало побега можно считать удачным.
…Воды Слава не боялся, к ней у него всегда было особое отношение. По семейной легенде, первое его слово было не «мама», а «вода». Она стала его настоящей страстью. Мать это заметила и купаться в Иртыше запрещала: река большая, мало ли что… Но десятилетний мальчишка на спор переплыл реку (больше двухсот метров), после чего из последних сил вернулся назад.
Такое увлечение не могло остаться без последствий. Начитавшись всякой приключенщины вроде «Острова сокровищ», и «Робинзона Крузо», однажды услышал внутренний голос (который потом ещё не раз ему помогал): «Брось читать и начни действовать». И пятнадцатилетний отрок сбежал в Ленинград, чтобы стать матросом и отправиться в кругосветку. Тут же выяснилось, что Слава неправильно представлял себе устройство современного мира. Сборам в кругосветку мешали сразу три причины: отсутствие визы, прописки и юный возраст. Зато паренёк впервые увидел море. Он вошел в одежде в Финский залив и поклялся вернуться.
Окончил школу и вернулся, но мечта ближе не стала. Теперь уже из-за близорукости: «О море даже не мечтайте», — сказали ему. А Слава, как мы заметили, привык не мечтать, а действовать. В гидрометеорологический институт на океанографов брали даже слегка подслеповатых. А быть в море в качестве учёного ничуть не хуже, чем матросом.
И Курилов с головой ушёл в любимую работу. Изучал возможности организма при запредельных погружениях на Чёрном море, продолжал эту тему во Владивостоке. Знаменитый француз Жак-Ив Кусто предложил присоединиться к его исследованиям у побережья Туниса. Но компетентные органы, которые плотно опекали науку, на такое пойти не могли. Дело в том, что сестра Курилова вышла замуж за иностранца и уехала в Канаду, сделав брата в глазах упомянутых органов потенциальным невозвращенцем. Логика была проста: иметь возможность и не остаться? Как это?
Запретами добились противоположного результата. «Пожизненное заключение без малейшей надежды на свободу» убило в учёном всякий страх: «Никакие патриотические обязательства меня больше не связывали. Я почувствовал себя пленником в этой стране, а ведь только святой может любить свою тюрьму. Невозможно смириться с тем, что, родившись на этой чудесной голубой планете, ты пожизненно заперт в коммунистическом государстве ради каких-то глупых идей. Выход был один — бежать».
Вот так он и оказался в ту ночь на корме «Советского Союза», путешествуя «из зимы в лето». Правда, без захода в иностранные порты и старательно обходя сушу в ночное время.
Но всего учесть так и не удалось. Без компаса, небо затянуто тучами и звёзд не видно, да ещё и течение сносит совсем в другую сторону… Куда плыть? Он не знал, что вместо намеченных восемнадцати километров проплыть придётся впятеро больше.
На исходе вторых суток надежда, которая якобы умирает последней, иссякла. «Я подумал о смерти, — вспоминал беглец. — Мне казалось, что бессмысленно продлевать жизнь ещё на несколько мучительных часов — я уже не надеялся встретить рассвет. Я решил умереть. В эту минуту пожалел, что не взял с собой нож. Оставалось только два способа: один — наглотаться воды, сбросив всё плавательное снаряжение, другой — нырнув, задержать дыхание, пока не кончится воздух в легких. Второй способ казался мне менее мучительным и более надежным». Мысленно простился с женой: «Эта мысленная концентрация была настолько сильной, что я ясно ощутил её присутствие здесь, в океане, прямо передо мной. Между нами произошел короткий диалог. Я помню, это было сильное и строгое дружеское внушение за мою слабость».
В такой ситуации остаётся надеяться только на чудо. Слава на него не надеялся, но оно произошло: «Потом меня окутало облако любви и покоя. Трудно сказать, сколько времени это продолжалось. Когда это ощущение исчезло, я почувствовал себя как после длительного блаженного отдыха. Боль в мышцах прошла, прекратился озноб. В моём нынешнем состоянии убить себя было совершенно невозможно, мысли о смерти исчезли сами собой. Я снова мог плыть. Некоторое время я продолжал двигаться на мигающие огни, но потом тихий, но ясный голос внутри меня произнес: „Плыви на шум прибоя“. Никакого шума прибоя я не слышал и сам себе никак не мог бы этого сказать. Но голос или, может быть, ясная мысль снова отчетливо появилась в сознании. Я прислушался — действительно, уже некоторое время вдали, где-то слева, был слышен глухой рокот, на который я раньше не обращал внимания. Внутренний голос настойчиво повторял, чтобы я плыл именно на шум прибоя. Я повернул влево и поплыл на этот отдаленный шум».
Что это было? Верующим не в Бога, а в галлюцинации полезно почитать учебник психиатрии, там есть и про шизофрению, и про разные интересные синдромы. Чего там нет, так это внятных объяснений того, что случилось с Куриловым. Поэтому лучше уж послушать его самого: «По тому, как люди говорили о Боге, я мог определить, имели они религиозное переживание или нет. Когда мы пошли в церковь, я почувствовал, что Бог присутствует там, но люди его не замечают и ведут себя, как слепые котята. Мне хотелось замереть и постоять очень тихо, почти не дыша, но суета в церкви сильно мешала этому». Вот в этом всё и дело — в личном переживании. Иначе получится лекция глухого о музыке.
И всё же на третью ночь он ступил на землю филиппинского острова Сиаргао. Его прыжок не заметили на корабле, под винт не попал, даже встречные медузы лишь слегка обожгли, не став доводить дело до печального конца. Эту цепочку удач материалисты объяснят везением, Слава — помощью свыше. Но заметим, что небеса тоже не стали бы помогать абы кому. Ещё в учебной лаборатории института профессор ставил студентов в трудные ситуации. Время на размышления давалось в пределах задержки дыхания. Иначе лучше вовсе не соваться в море, говорил наставник.
А ещё он самостоятельно занимался йогой, причём очень серьёзно, заставив тело быть сильным и выносливым. Мог обходиться без пищи. Его личный рекорд — 36 дней без еды и полмесяца без воды.
Наконец, главный рекорд, когда смертельно уставший пловец, облепленный светящимися водорослями, выбрался на берег. Немного придя в себя, он почувствовал себя счастливейшим человеком: мечта сбылась.
Что делают люди в такие минуты? Славе захотелось танцевать. Сиртаки. Положил руки на плечи воображаемых друзей — и, громко хохоча, пошёл по кругу. Он не учёл, что вышел из океана рядом с кладбищем, выглядел страшновато и аборигены могли заподозрить нехорошее. Так и случилось. Но любое недоразумение можно объяснить, если только тебя захотят слушать. В конце концов беглеца приняли очень радушно, хоть и поместили на первых порах в тюрьму: порядок есть порядок. Там он себя чувствовал как в гостинице и вёл дружеские беседы с начальником тюрьмы, который по вечерам брал его на обход города. Осматривали местные бары, рестораны и кабачки, кое-где задерживались, чтобы выпить рюмку и потанцевать. Возвращались под утро.
А на лайнере, как вспоминали потом очевидцы, после побега Курилова веселье кончилось и началось нечто невообразимое: всех собрали, пересчитывали по головам, сверяли по спискам. Одного туриста не хватило, зато обнаружилось много зайцев — друзья организатора круиза активно использовали приятную возможность.
Тем временем на родине его успели заочно судить и дали десятку за измену. Но беглеца всё это вряд ли интересовало. Вскоре он перебрался к сестре в Канаду и начал с рабочего в пиццерии. Потом продолжал заниматься любимым делом в океанографических фирмах. Искал полезные ископаемые у Гавайев, работал в Арктике. В Израиле познакомился с будущей женой. Там и остался, продолжив занятия океанографией.
Он погиб в 1998-м в Израиле, на озере Кинерет во время водолазных работ. Том самом Галилейском море, где рыбаки в библейские времена забросили сеть за богатым уловом по слову Христа. А Славу сети погубили. Он работал вместе с напарником, и тот запутался в рыболовных сетях. Коллега бросился его спасать и сам застрял. Воздуха в баллонах не хватило, его достали из воды ещё живым, но спасти не удалось.
Ему был 61 год. Похоронили его в Иерусалиме. На скромной могильной плите написано: «Слава Курилов». И трёхмачтовый парусник на белом мраморе.
Но почему Слава? Он же Станислав…
Дело в том, что Славой его звали не только друзья, но и сам он себя так называл. И на обложке его книги «Один в океане» — тоже Слава. Может, это потому, что не любил надувать щёки и держался очень демократично. В его облике до самых последних дней было что-то юношеское. Возможно, это и помогало ему принимать нестандартные решения, прожить нестандартную жизнь. Кто знает, решился бы Станислав на побег, взвесив некоторые за и многие против. А вот у Славы — получилось.
…Писатель-эмигрант Василий Аксенов, который работал в те годы на «Голосе Америки», заметил по поводу этой истории: «Что же за государство такое, если даже смерть не может остановить человека, чтобы сбежать?»
Александр Шатравка
Вместе с братом Михаилом и двумя друзьями в 1974 году он успешно перешёл финскую границу. Финны их выдали, Александр с братом оказались в психиатрической лечебнице, а друзья — в тюрьме. Несмотря на долгое лечение ему удалось дожить до перестройки и уехать в США.
По сути, они шли маршрутом Солоневичей. Тем хоть и пришлось нелегко, но Финляндия 1970-х сильно отличалась от предвоенной и отправляла перебежчиков назад. Парни об этом знали и хотели добраться до Швеции (что означало около трёх сотен лишних километров). Но это оказалось труднее, чем пробираться по карельским болотам, и в десяти километрах от границы их нашли финские пограничники. Власти не собирались ссориться с агрессивным соседом, пообещавшим, что «если беглецов не вернут, мы сделаем это сами».
Финский следователь пытался понять, что заставило молодых людей влезть в эту историю с печальным финалом. Шатравка объяснял, как мог: «Советские границы охраняют меня, как заключенного, только заключенные в лагерях находятся по решению суда, а мне вынесен приговор без всякого суда — прожить здесь всю жизнь. Я — раб, принадлежащий КПСС, обязан принудительно работать, получая взамен подачки, и до смерти должен быть благодарен им за это. Там даже одеваться и причёску иметь, как тебе нравится, нельзя» (ну вот нравились ему длинные волосы…)
Никита Хрущёв был в своё время генеральным секретарём нашей коммунистической партии. А поскольку партия была единственная и к тому же правящая, то он правил заодно и страной. Однажды этот государственный муж изрёк такую мысль: «Не любить социализм могут только сумасшедшие». Психиатры восприняли это не только как руководящее указание, но и как научный прорыв, и взялись лечить. Собственно, многие из них так и думали. Тем более, что СССР и сам напоминал в некотором роде психбольницу, где существовало много запретов, и от граждан (пациентов) требовалось безоговорочное послушание. Но если в стране существовали некие формальные процедуры перед заранее известным наказанием, то в больнице достаточно было позвать санитаров и дать указание медсестре.
Братьев подвело незнание: они слышали, что за попытку побега дают три года тюрьмы, а психов всего лишь полгода лечат. Выбрали полгода и сильно ошиблись. «Лечили» симулянтов около пяти лет. А их друзья решили иначе и не прогадали. Один просто не знал, как надо симулировать, а другой надеялся объяснить суду, что всего лишь хотел развлечься. Через три года оба были на свободе.
И дело тут вовсе не в размерах вины, а в направленности мысли. Психи ведь тоже разные бывают. Например, Иван Вудич, бывший милиционер, был женат четыре раза. Прожив недолго с женой, он её убивал, потом скрывался по поддельным документам — и всё сначала. Так четыре раза. Зато был приятен в общении, никому не доставлял неприятностей. И что? Через четыре года персонал поздравлял его с выпиской. Получилось по году за человека. Не то что антисоветчик Дима Шапоренко. Только через шесть лет врачи поверили, что больше он не будет писать крамольные листовки. Тут разница принципиальная: если убийцу надо просто наказать, не особо усердствуя, то смутьяна необходимо сломать.
Шатравку держали до тех пор, пока он не нашёл правильных ответов на врачебные вопросы. Глава врачебной комиссии, окружённый врачами, его спрашивает:
— Как здоровье?
— Нормально.
— За границу больше не пойдёшь?
— Ну иди. Ты свободен.
Такой искренний ответ наконец-то перевесил пугающие формулировки эпикриза: «Начиная с периода учёбы в мореходном училище стал высказывать восхищение западным образом жизни, постоянно заявлял о своём желании уехать в какую-нибудь капиталистическую страну, отказывался от службы в армии. Высказывания носили нелепый, обиженный, демонстративный характер. Суждения отличаются незрелостью, паралогичностью. Желание жить в станах Запада неконкретны, не имеют под собой реальной почвы». Но: благодаря проведённому лечению «сверхценные идеи потускнели, потеряли для больного актуальность. Сожалеет о содеянном».
Об эффекте этого наукообразия лучше всего судить по результату: идеи в конце концов обрели реальную почву, а заодно и продемонстрировали, насколько они «потеряли актуальность».
Правда, до результата оставалось ещё семь лет, заполненных активными действиями, за которые Александр получил три года за «клевету на советскую действительность». А за полгода до освобождения ему подсунут пакет с марихуаной, добавят ещё два с половиной и переведут на зону строгого режима. Да только в 1986-м уже задули свежие ветры, и КГБ счёл за благо организовать Шатравке вызов в Израиль, откуда тот благополучно перебрался в США. А его брату Михаилу не повезло: «лечения» не выдержал, долго болел и в 33 года его не стало.
Вот такой пришлось проделать путь, прежде чем в кассе Шереметьева человек в длинном черном плаще и в шляпе купил супругам Шатравка билеты на самолёт Москва — Вена.
В Америке они создали транспортную компанию, её грузовики перевозят товары по всему континенту. А сами супруги могут путешествовать по миру и охотно это делают. Но самое главное для Александра Ивановича вот что: «Мне никто не указывает в этой стране как жить и что делать. Я делаю то, что мне нравится и так, как считаю правильным. Моё счастье в Америке зависит от меня, и я могу назвать себя счастливым человеком потому, что я добился всего, о чём мог только мечтать в той стране».
Через 30 лет после неудачного побега он (единственный, чья мечта об американской жизни сбылась) приезжает с киносъемочной группой в Финляндию, Карелию и на Украину, чтобы вспомнить о тех событиях и встретить живых свидетелей. Кроме снятого фильма вскоре появилась и увлекательная книга воспоминаний «Побег из Рая».
Книга не столько о побеге, сколько о последующих злоключениях, нашей карательной психиатрии и людях, с которыми довелось встретиться. Были среди них и незаурядные личности, и сильные характеры. Такие, как Юрий Ветохин, его лечили после первого неудачного побега, и о нём отдельный рассказ. Или математик Леонид Плющ, которого безуспешно исцеляли от инакомыслия, но вынуждены были освободить: игнорировать активную международную поддержку властям было трудно. Автора прежде всего интересовали единомышленники, которые либо пытались уехать, либо успели пожить за рубежом, хотя в конце концов все оказались в одной больнице.
Вот несколько историй из этой книги.
Владимир Корчак был судовым механиком на кораблях дальнего плавания. Как отличного специалиста его отправили в Швецию — знакомиться с зарубежным судовым оборудованием. Когда пришла пора возвращаться домой, он решил остаться и стал работать на шведском корабле механиком. Через несколько лет корабль зашёл в Онежский порт на Белом море загрузиться лесом. Капитан предупредил: «Главное, не сходи на берег». А парня потянуло на родину… До отхода корабля гулял по Онеге, да и в КГБ сказали, что наказывать его не за что, и он может ехать домой, на Украину. Но только корабль отдал швартовые, как моряк оказался за решёткой, а медики признали его невменяемым.
Шли месяцы, а его всё лечили. Когда он снова наведался в КГБ, чтобы узнать, когда ж на волю, его отправили в больницу построже, и всё началось сначала. Да ещё на свою беду решил повеситься. Из петли его успели вынуть, но потом принялись лечить так, что сил повеситься уже не оставалось. От «сухого брома» — так называлось обычное избиение санитарами до вязки в мокрую смирительную рубашку, которая потом сохла, сжимая всё тело тисками. И в довершение ещё воткнут иглу с галоперидолом, чтобы ослушника наизнанку выворачивало. Вот тебе Швеция!
Михаил Васильевич Иваньков-Николов был начальником радиостанции на танкере «Туапсе», о котором в пятидесятые годы сняли нашумевший фильм «Чрезвычайное происшествие». В Черняховской психбольнице, где его и встретил Шатравка, кино тоже показывали.
О фильме Иваньков высказался кратко: «Там и сотой доли правды нет». Задержали судно законно, потому что вёз стратегический груз — керосин — в Китай. В тюрьму не сажали, голодом не морили, родину предавать не заставляли. Москва тем временем использовала инцидент для раздувания антитайваньской истерии, совершенно не заботясь о возращении моряков. Тем более, что и дипломатических отношений с Тайванем не было. Лишь спустя несколько месяцев благодаря посредничеству французов начались переговоры и половина советских граждан отправилась домой, больше года пробыв на чужбине. Остальных отправили в США. «Оказавшись в нью-йоркском аэропорту, мы были встревожены, что нас никто не встретил из советской миссии, — рассказывал Иваньков. — Несколько человек решили остаться в Америке, опасаясь репрессий на родине».
Опасались совершенно справедливо, потому что с цветами, как в фильме, их бы там никто не встречал. Но у Иванькова в СССР остались жена с двумя сыновьями. Ни в какую Америку их, понятно, не выпускали. Нервы моряка не выдержали, он пришёл в советское посольство. Там наш соотечественник встретил его с пониманием и сказал: «Давно вам, Михаил Васильевич, пора возвращаться на Родину, хватит вам на капиталистов работать! У нас в стране большие изменения произошли. Разоблачили культ Сталина, детям в школах бесплатно молоко дают. А вам лично нечего бояться, вы же здесь ничего против Советского Союза не совершили. Возвращайтесь, Родина вас ждёт».
А родина после возвращения тут же отмерила ему высшую меру за измену. Иваньков растерялся: в чём измена? «За границей оказался не по собственной воле, ни разу плохого слова не сказал о Советском Союзе, правда, меня никто и не спрашивал. Решил я под дурака „гнать“. Суд признал меня дураком до излечения, а затем к стенке поставить». И определили его в психбольницу. Туманная формулировка «до излечения» обернулась более чем двумя десятками лет. Но ведь не расстреляли же…
Валентин Соколов ещё в школе писал такие стихи, по которым легко можно было предсказать его судьбу:
Свои стихи он так и подписывал «Валентин Зэка». Из своих 55 в лагерях и больницах он провёл 28. В психбольнице и умер. От стихов его вылечить не смогли, и он успел прочитать некоторые из них Шатравке.
Игорь Пинаев попал по картёжным делам. Проигравший расплатился с ним магнитофоном, а потом обвинил в краже. Вместо трёх лет отсидки кто-то из «бывалых» надоумил его, что лучше полгода полечить голову. Когда понял, куда попал, побежал к врачу: «Доктор, от чего меня лечить и зачем? Ведь я здоров. Отправьте меня на суд». И слышит в ответ: «Раз ты сейчас здоров, мы сделаем тебя больным, а потом вылечим, и тогда ты будешь здоров и на суд поедешь». Чудак, он не знал, что удивить психиатра здоровьем невозможно, — в палате таких хватает. Эскулап ещё и обидится, что симулянт его обманул.
Таксист Будко из Новороссийска своим видом напоминал Шатравке об угонщиках самолёта Бразинскасах. Он поехал с пассажирами в Сухуми и проезжал мимо похоронной процессии. Хоронили Надежду Курченко, погибшую во время перестрелки. Таксист возьми да и прокомментируй: «Нечего соваться, когда стреляют». От каждого из этих четырёх слов его лечили по два года.
Славик Гонин, с детства пытался удрать на Запад, но тогда всё обходилось детским приёмником-распределителем. Подрос и решил выбраться через Финляндию. В Ленинграде в кассе на вокзале у него спросили пропуск, чтобы оформить билет в приграничный Выборг. У паренька ничего не было, и его задержали. От неожиданного крушения планов он наговорил милиционерам лишнего, и вот теперь вместо зарубежных впечатлений у него не проходящая боль в ягодицах от щедрого курса сульфазина.
…«Судебная психиатрия, по моему глубокому убеждению, является шарлатанством даже там, где она не является преступлением». Валерия Новодворская, прошедшая через такие заведения, знала, о чём говорила.
Виктор Беленко
6 сентября 1976 года военный лётчик первого класса, старший лейтенант Беленко в 6:45 вылетел с аэродрома Соколовка в Приморском крае для выполнения полётного упражнения на перехватчике МиГ-25П. Баки, вместо дозволенной половины, заправил полностью, сказав механику, что полетает чуть подольше.
Летели в паре. Беленко отстал от ведущего, потом резко пошёл к земле, снизившись до трёх десятков метров. Теперь никакие радары были не страшны. Уже в воздушном пространстве Японии вышел на прежнюю высоту. Японские истребители поднялись на перехват нарушителя, но встреча не состоялась: у советского самолёта кончалось топливо, и он уже садился на ближайший аэродром на острове Хоккайдо…
Если не считать того, что полоса гражданского аэропорта была короче привычной и самолёт выкатился за её пределы, то посадка прошла вполне благополучно. Выбравшись из кабины, лётчик дважды пальнул из пистолета в воздух — то ли привлекая внимание, то ли салютуя в честь удачной операции. Что касается внимания, то его привлекать было не надо: японцы уже собирались возле самолёта — и аэродромный персонал, и зеваки со стороны соседней автотрассы.
В 9:15 японское радио передало, что самолёт, пилотируемый советским лётчиком, совершил посадку в аэропорту Хакодате.
Вскоре японские власти сообщили, что Беленко попросил политического убежища, и через три дня он летел в США, уже на другом самолёте. А советский перехватчик, наполненный секретными новинками, специалисты разобрали, изучили и вернули в СССР. Там он больше не летал, а стоял в Даугавпилсе, в военном авиаучилище в качестве пособия.
Покинутая Родина постаралась замять неприятную историю, и потому официальные источники обрушили на мир густой поток лжи: Беленко-де приземлился в Японии вынужденно, в Штаты его увезли насильно и т. п. Всякие разговоры о побеге были названы «кампанией пропаганды», а официальный представитель МИД Крылов решительно заявил: «Всё это ложь, от начала и до конца».
Учтём также, что этот старший лейтенант всегда был на хорошем счету, а если и повторял порой буржуазные выдумки насчёт того, что, мол, американские лётчики живут лучше советских и служится им легче, то ведь, между нами говоря, это правда… Да и сам беглец потом решительно отвергал корыстные мотивы, делая упор на политические.
И какие же у образцового офицера могли быть политические мотивы?
Биография — не подкопаешься. Родился в рабочей семье. Когда ребёнку было всего два года, родители развелись. Сначала его воспитывали родственники, а потом отец с мачехой. Работал, учился в вечерней школе, которую окончил с серебряной медалью. Занимался в аэроклубе, но поступил в Омский мединститут. Всё же тяга к небу оказалась сильнее, и молодой человек окончил Армавирское высшее военное авиационное училище лётчиков. Служебные характеристики положительные: член КПСС, избирался в комсомольское и партийное бюро. Потом попросился на Дальний Восток, в истребительный авиационный полк. Правда, там возникали конфликты с командованием. Однажды даже подал рапорт о «нежелании служить под началом командиров, злоупотребляющих алкоголем». Да и карьера могла быть успешнее: звание капитана командование задерживало, равно как и отдалялась обещанная должность начальника штаба эскадрильи. А должность эта давала право на поступление в академию, куда он очень стремился (может, не надо было рапорты писать?..) Да только и без его рапорта при первой же проверке, которые после побега пошли лавиной, выяснилось немало интересного. Руководящая верхушка жила своей жизнью, не особенно задумываясь о «тяготах службы» своих подчинённых. А потому часто норовила превратить выходные дни в рабочие, чтобы потом блеснуть результатами. Вскоре выговоры и понижения в должности получили многие, кого признали ответственными за появление в голове лётчика крамольных мыслей.
Но эти кары выглядели не так уж и сурово на фоне, так сказать, профилактических мероприятий. Первым делом от полётов отстранили всех холостых, разведённых и прочих «морально неустойчивых». Таких отправили подальше от границы на роли технического и обслуживающего персонала. Как написал потом в своих воспоминаниях один из сослуживцев беглеца, «требования к лётчикам были подняты на заоблачную высоту. Казалось, что они должны быть чище, чем сам Иисус Христос, и не могут посещать даже туалет».
Ещё более серьёзные последствия наступили для оружейников. Американцы убедились, что наше чудо техники тоже не без недостатков, а достоинства учли в доработке своих самолётов. Советскому Союзу пришлось потратиться на переоснащение авиации новыми системами вместо рассекреченной аппаратуры. Но нет худа без добра: на смену МиГ-25 раньше срока пришёл МиГ-31, заметно лучше прежнего.
Советское руководство пыталось надавить на японцев, требуя немедленно вернуть самолёт вместе с лётчиком. При этом грозили прекратить экономическое сотрудничество. Угрозу выполнили, хотя кто от этого пострадал больше — вопрос спорный. Самолёт японцы через пару месяцев отдали и выставили счёт в 40 тысяч долларов за стоянку и обслуживание. Платить, конечно, никто не стал, но осадок в отношениях остался надолго.
Тогдашний директор ЦРУ Джордж Буш-старший уже сказал и о побеге, и о «крупной разведывательной удаче», а в Москве вовсю разворачивался пропагандистский театр: в столицу привезли жену беглеца и его мачеху, которые слёзно молили его вернуться, называя патриотом, любящим мужем и сыном. И при этом авторитетно заявили журналистам, что он «будет помилован, даже если допустил ошибку». Официальный представитель МИДа поддакнул: «соответствующие официальные гарантии были даны компетентными советскими органами».
Но гарантии были совсем другие. Некоему Садовникову (агенту КГБ под дипломатическим прикрытием) в США разрешили встретиться с Беленко. Тот сказал перебежчику: «Правительство знает, что вы сбились с курса, вас заставили совершить посадку, а затем применили наркотики. Я пришел, чтобы помочь вам вернуться домой к любимым жене и сыну». Летчик его прервал: «Не нужно меня агитировать. Я прилетел в Японию добровольно». Тогда агент шепнул на прощанье: «У нас предателей не любят. Рано или поздно мы тебя найдем».
Через некоторое время в нашей печати появилось сообщение, что-де перебежчик погиб в автокатастрофе. Потом Беленко вспоминал встречу в США с нашим космонавтом Игорем Волком: «Он говорит: „Ты же вроде бы умер!“ — Я ответил: „Не так быстро“. КГБ распространил слухи о моем убийстве, чтобы отбить охоту у других».
И хоть катастрофы не случилось, зато до сих пор остаётся в силе решение Военной коллегии Верховного суда СССР, заочно приговорившей беглеца к расстрелу.
В интервью корреспонденту «Голоса Америки» Беленко сказал: «Дайте мне десять минут эфирного времени, и через неделю будет ещё как минимум шесть самолётов». При этом речь не шла о рекламе мира капитала: лётчик всего лишь хотел посоветовать, как обойти советские радары и добраться до ближайших японских аэродромов.
Однако в этом ему отказали, потому что такая массовость могла обернуться серьёзными расходами для американских налогоплательщиков. И без того в том же 1976-м после Беленко из СССР и Сирии на советских самолётах улетели три лётчика, в том числе Валентин Зосимов, о котором мы ещё поговорим отдельно. Кроме того, переманивать к себе граждан других стран — не в американских традициях. Не зря же таким радиостанциям, как «Голос Америки» и «Свобода», было предписано не провоцировать свою аудиторию к бегству из соцлагеря и не позволять удачливым перебежчикам давать практические советы.
В Америке советскому человеку, каким Беленко и был, предстояло ещё одно серьёзное испытание. Дело в том, что из общества победившего социализма он попал в мир капитала с множеством известных нам в то время пороков. И они обрушились на него в полной мере с первых же дней. Если нас уже давно не удивляет изобилие товаров в магазинах, то в 1976-м такое зрелище могло с непривычки шокировать. Вот что он потом рассказывал: «Первое посещение супермаркета происходило под присмотром людей из ЦРУ, и я думал, что это была инсценировка. Я не верил, что этот магазин может быть настоящим. Мне казалось, что раз я необычный гость, то они могли меня разыграть. Ведь это было такое красивое просторное здание с невероятным количеством товаров и без очередей! …Впоследствии я понял, что супермаркет настоящий.
В России трудно было найти хорошие консервы, я ежедневно покупал самые разные консервированные продукты. Однажды приобрел с виду обычную баночку и поджарил её содержимое с картошкой, луком и чесноком — получилось вкусно. Наутро приятели сказали мне, что я съел куриные консервы для кошек… Но они оказались лучше тех, что у нас делали для людей!»
Первым делом лётчику хотелось узнать, как живут коллеги, и он попросил две вещи: посмотреть американскую авиабазу и побывать на борту авианосца. Но только чтоб без показухи, а как на самом деле. И вот он уже на авиабазе ВВС «Ленгли». Потрясли не только неформальные отношения рядовых, сержантов и офицеров друг с другом, но и бытовые условия: в коттеджном посёлке авиабазы обитали рядовые вместе с семьями. Сравнивать с дальневосточными бараками за колючей проволокой, по 50—60 человек, где самоубийства были не редкость, даже не хотелось. Неизвестно, знали ли об этом американцы, но вот что касается внутреннего устройства советских «мигов», окутанного тайной для наших же лётчиков, ему охотно показали пачку фотографий на эту тему.
После увиденного он лишь сказал: «Если бы в моём полку поглядели хоть пять минут на то, что я видел сегодня, началась бы революция».
Свозили его и на авианосец «Джон Кеннеди», не скрывая ничего, вплоть до корабельного карцера, где сидели нарушители тамошних уставов. Сравнение снова оказалось не в пользу дальневосточных штрафников. Но больше всего офицера впечатлило зрелище взлёта-посадки самолётов, и он заметил, что никогда не видел «столь согласованных и профессиональных действий технического состава, без чьих-либо приказаний и без того, чтобы кто-то на них орал». По этой причине даже уклонился от ночёвки в каюте и провёл ночь прямо на палубе, наблюдая за ночными полётами. Ему казалось, что увиденное днём было подстроено специально для него, но к утру пришёл к выводу, что затевать такое шоу на целые сутки было бы слишком хлопотно. Тогда напрашивался вывод, что на занятиях по технике и вооружению иностранных армий и флотов политруки лгали и напрасно высмеивали американские авианосцы.
Без дела в Америке ему сидеть не пришлось — читал лекции в военных вузах, консультировал авиастроительные компании, даже в рекламе снимался. Потом занялся бизнесом. Наладилась и личная жизнь: женился снова, родилось трое детей… В интервью говорит, что ни о чём не жалеет.
Так ли это на самом деле — не нам судить. А вот его российская супруга Людмила вспоминает не без грусти:
— Пять лет мы прожили душа в душу, у нас рос сын. Теперь он уже давно взрослый. Когда спрашивал об отце, я от него ничего не скрывала, но всегда говорила, что его папа был лучшим на свете.
Юрий Ветохин
Слава Курилов, как мы помним, бежал в декабре 1974-го с круизного лайнера «Советский Союз», во время путешествия «из зимы в лето». Юрий Ветохин сделал это пять лет спустя, в сентябре 1979-го, с теплохода «Ильич», который тоже катал туристов из зимы Владивостока в экваториальное лето.
Перед этим у Юрия были две неудачи и потом девять лет «лечения» от подобных попыток. В 1963-м стартовал ночью, во время шторма, дождя и тумана, с батумского пляжа. Но до Турции так и не доплыл — помешало встречное течение. Под утро повернул назад и вышел на берег в Поти. Человека без одежды, который к тому же плохо ориентировался в здешней географии, тут же забрала милиция, а послушав рассказ насчёт заплыва из Батуми, до которого 60 километров, передала в КГБ. Ветохин упорно выдавал себя за спортсмена и все обвинения отрицал. Серьёзных улик не нашлось, и пловца пришлось отпустить.
Через четыре года Юрий Александрович повторил заплыв, прихватив на этот раз и надувную лодку. Отплыл километров десять от крымского берега, лодку надул — и вперёд, к турецкому берегу… А навстречу — наш военный корабль. На этот раз беглецу припомнили всё и упрятали в Днепропетровскую специальную психиатрическую больницу (СПБ) до наступления выздоровления. Только вместо СПБ в послевоенные годы говорили ТПБ — тюремная, а потом этого слова стали стесняться. Но суть осталась та же. Только заключение бессрочное, до конца или «болезни», или пациента.
Эту больницу Ветохин в своих воспоминаниях «Склонен к побегу» для краткости называет концлагерем, потому что цена человеческой жизни и тут, и там была одинакова. Ведь в такие специфические места персонал часто подтягивается по призванию, любители мучить людей. Все слышали о нацистских врачах-садистах, но о наших отечественных знают в основном те, кто попадал в их руки. Свидетельств много, но единомышленники мучителей требуют: «А где документы? Докажите!» Теперь есть и документы. Недавно в психбольнице Днепра (так теперь называют украинцы бывший Днепропетровск) комиссия украинского минздрава нашла свидетельства карательной психиатрии времён СССР. (В частности, в секретном архиве обнаружены медицинская карточка и письма правозащитника Леонида Плюща. Активная международная поддержка заставила власти отпустить его за рубеж, и когда самолет приземлился в Париже, Плюща вынесли на носилках. Он не мог ни идти, ни разговаривать). Документы помогут ответить на много вопросов: кого сюда направляли, какие диагнозы им ставили? В каких условиях они находились, как их «лечили» и пытали?
Ветохин попал в специальное отделение, которым в те времена заведовала некая Нина Бочковская. Она хорошо знала, как сделать жизнь пациентов невыносимой. Под её опекой Ветохин прошёл полный курс нейролептиков плюс всего остального, что могло сломать любого. «Ну что, вы всё ещё против советской власти?» — спрашивала она после очередных пыток медикаментами.
— Мне вводили лекарства, и я думал, что не выживу, загнусь от сердечных приступов и постоянных обмороков. Врач положила меня в надзорную палату к сумасшедшим-хроникам и назначила галоперидол, превратив в лежачего больного, — рассказывал Юрий Александрович.
Смысл лечения заключался лишь в том, чтобы заставить пациента отказаться от своих убеждений. Почти девять лет спустя после начала «лечения» Ветохин, уже на грани жизни и смерти, написал заявление, где признал себя психически больным и пообещал больше не пытаться никуда бежать. Ему тут же отменили все уколы. «Самое смешное то, — недоумевал он, — что после того, как я признал себя больным, врачи наотрез отказались оформлять мне пенсию и инвалидность».
Вскоре его выписали. Лечащий врач сказал на прощанье:
— Ну, Юрий Александрович, вам очень повезло! Суд заменил вам режим, вы переводитесь в больницу общего типа. Хочу вам сказать, что вы очень легко отделались на этот раз, но смотрите, если попадёте сюда повторно, вам из этих стен не выйти больше никогда.
Как он выдержал эти годы?
— Выдержал потому, что верую в Бога, и я имел цель, поэтому не сошёл с ума и не покончил самоубийством, как сделали другие. Физически я не был уничтожен вследствие невероятных ухищрений, к которым я прибегал, чтобы эти яды не попали в организм.
У пациента было время посчитать, сколько всего в него пытались впихнуть: 22 с половиной тысячи таблеток и 721 укол…
Следующие годы ушли на то, чтобы привести в порядок здоровье. Никаких санаториев, понятно, не предвиделось, а была только комната в коммуналке и работа грузчиком. Так заплатил бывший морской офицер, бывший главный инженер научного института за настойчивое желание уехать из своей страны.
Тело восстанавливал в общественном бассейне и на лыжах. Время от времени под видом отдыхающего ездил в Крым и на Кавказ, чтобы подготовить новый побег. На этот раз неудача исключалась, потому что означала медленную и мучительную смерть под наблюдением медиков.
Время бежит быстро, и вот однажды Ветохин присмотрел в ленинградском бюро путешествий турпутёвку, которая позволяла прокатиться на теплоходе из Владивостока до экватора и обратно. Стоила недёшево — 580 рублей, при средней зарплате инженера 150 (грузчика — и того меньше). Плюс дорога самолётом до Владивостока.
Пришлось заняться сбором грибов и клюквы и продавать их. Эта работа, описание которой уместилось здесь в одном предложении, потребовала немало поездок за десятки километров от Ленинграда, чтобы найти товар, за который будут платить. А потом ещё продать на рынке, где хватает конкурентов. И это только для того, чтобы попасть на другой конец страны.
К тому же, Владивосток — город пограничный, нужен пропуск. Шансов немного, но смелым везёт: к удивлению Юрия, пропуск ему выдали, резонно рассудив, что теплоход не только не заходит ни в какие порты, но даже к островам не подходит ближе, чем на 40 километров. Да и лекторы потом на теплоходе долдонили своё: «Никакой пловец в тропическом море не проплывет и ста метров без того, чтобы его не съели акулы».
Пока всё шло по плану, и ленинградец, способный проплыть в открытом море 60 километров, прилетел во Владивосток и поднялся на борт «Ильича». Что ещё требовалось? Звёзды для ориентировки, отсутствие встречного течения. Не испугает даже небольшой шторм, баллов четыре-пять. И вот ночью 9 декабря, на экваторе, когда проплывали Молуккский архипелаг, Юрий остался один в каюте. Он надел пёструю красную рубашку, на ноги — женские капроновые чулки и носки, чтобы сберечь тепло. Приладил спасательный жилет — не потому, что боялся утонуть, а чтобы при прыжке не уйти глубоко под воду и не попасть под винт. Оставалось вылезти через иллюминатор и держать курс в сторону ближайшего острова (нужное направление запомнил ещё с вечера).
Плавать его научил отец в раннем детстве. Потом занялся этим спортом всерьёз, плавал на длинные дистанции. Ему ещё не было и тридцати, когда в 1957-м принял участие в групповом марафонском заплыве между крымскими посёлками. А два десятка километров — это обычная тренировочная дистанция. Поэтому когда через несколько лет понял, что жить в СССР больше не может, то самым реальным вариантом стало море.
Ему было на кого равняться. В том же, 1979-м, тридцатилетняя американка Диана Наяд проплыла в океане 102 километра за 28 часов, это был мировой рекорд среди женщин и мужчин. (Потом, в 2013-м, когда ей будет 64, она ещё проплывёт 180 км от Кубы до Флориды). Правда, ей было всего 30 лет, а не 51, как Ветохину, и ей не гробили здоровье в психбольнице. Да и плыла она под прицелами кинокамер, совсем не думая об акулах. И всё же с точки зрения своих возможностей Ветохин ставил себе вполне реальную задачу. Только теперь победа для него была куда важнее любого спортивного рекорда.
Примерно через четырнадцать часов пловец приблизился к острову Бацан. Чтобы на него ступить, потребовалось ещё полдня: сильное береговое течение уносило пловца в сторону. Наконец показалось дно. Обессилевший беглец, проплыв около 45 километров, выбирался на необитаемый берег на четвереньках, на большее уже не было сил.
Как потом оказалось, это был не самый близкий остров, но он гористый, а остальные, равнинные, с моря пловцу не видны. Вскоре невдалеке показалась лодка с соседнего острова, и Юрий оказался в индонезийской деревне, где его тепло встретили местные жители.
На следующий день — беседа с властями:
«Переводчик, не дожидаясь вопроса полисмена, спросил сам:
— Откуда вы появились на нашем острове?
— Я приплыл на остров с советского теплохода.
— А почему вас не съели акулы?
— Потому что мне помог Господь, — ответил я и перекрестился.
— Конечно, Господь! — воскликнул переводчик убежденно и тоже перекрестился».
Для Ветохина это была вовсе не дежурная фраза. Вот что он написал в своей книге:
«В жизни случаются события, которые не только абстрактно, но и материально подтверждают существование Бога. У меня было несколько таких случаев.
Во время блокады Ленинграда я не погиб потому, что был вовремя вывезен из города моим дядей, который воевал на Ленинградском фронте.
В 1956 году я попал под трамвай. Он прошёл надо мной, не причинив никаких повреждений.
Я не умер от голода и пыток в Днепропетровском концлагере, хотя пробыл там 9 лет.
В 1979 году я двадцать часов плыл в море рядом с акулами. Я видел их, но не был атакован ими.
Из всего этого я делаю вывод, что Богу было угодно сохранить мою жизнь, чтобы я поделился своим опытом с другими людьми. Бог ждёт от нас дел. Всякий раз, как только я начинал действовать, Он всегда помогал мне».
Нравы индонезийцев с тех пор, как их описал Слава Курилов, ничуть не изменились, и беглеца встречали с прежним гостеприимством. Вскоре самолёт унёс его в Сингапур, а оттуда — в США.
Сейчас Юрию Александровичу уже за девяносто, он живёт в Калифорнии. Когда в Днепропетровске нашли документальные подтверждения пыток пациентов-диссидентов, Ветохина пригласили в качестве свидетеля. Юрий Александрович ответил, что посещать больницу, где прошли самые страшные годы жизни, у него желания нет. Да и силы не те. Но вот если бы ему на глаза попались его мучители, то силы, скорее всего, нашлись бы…
Лилиана Гасинская
В январе 1979 года с круизного лайнера «Леонид Собинов», стоявшего в австралийском порту, сбежала 18-летняя официантка Лилиана Гасинская. Она вплавь добралась до берега и попросила политического убежища. На ней был только купальник, поэтому журналисты тут же окрестили ее «девушкой в красном бикини».
Родилась она на Украине в Алчевске, промышленном городке на Луганщине. Отец — музыкант, мать — актриса. Родители старались дать дочери хорошее образование, она училась в школе с углублённым изучением английского. После этого открывалась дорога в иняз, но после 8 класса Лиля поступила в Одесское ПТУ морского туристического сервиса и стала судовой официанткой. Профессию выбирала осознанно: выпускники училища получали шанс работать на международных судах. Потом она расскажет журналистам, что задумала сбежать ещё в четырнадцать лет, потому что ненавидела советскую систему, «основанную на лжи и пропаганде». Впрочем, думается, что в те годы её куда больше расстраивали магазины с их очередями и убогим выбором, которые она назвала «скучными».
Её взяли на лайнер «Леонид Собинов». Хоть профессию она выбрала и непрестижную, но на такие места всегда много желающих и отбор строгий. И тут очень помогли отличные оценки плюс английский язык. Первый рейс после училища — круиз по Полинезии и Австралии.
14 января судно встало на якорь в бухте Сиднея. Январь в тех местах пожарче нашего июля, холоднее 22 градусов вода если и бывает, то очень редко. В тот вечер на корабле намечалась шумная вечеринка. Лиля в одном бикини протиснулась наружу через иллюминатор и поплыла к берегу. Минут через сорок, выбравшись на сушу, она увидела мужчину, гулявшего с собакой, и обратилась к нему за помощью. Это был преподаватель сиднейского университета Билл Грин. Сказала, что ей нужна помощь: «Я сбежала с советского корабля, за мной гонятся. Мне надо в полицию!»
Он привёл её домой, там её напоили кофе и допоздна беседовали. А утром пошли в полицейский участок. Погони не было, но на теплоходе подняли тревогу, а утром к розыску подключился советский дипкорпус, требуя вернуть гражданку СССР на корабль. Однако первыми беглянку нашли газетчики из «Дейли Миррор». Они выкрали Гасинскую из полиции, обеспечили ей укрытие в доме своего фотографа (в обмен на интервью и фотосессию в бикини). Скоро о ней написали все газеты, «девушка в красном бикини» стала главной знаменитостью континента и миллионы людей следили за её судьбой. Газеты писали: мол, русские готовы бежать из советского рая чуть ли не голыми…
Но зачем ей было плыть? Разве не устраивали экскурсий по городу?
Много лет спустя некая переводчица, которой тоже довелось поплавать на таких лайнерах, описала подробности, а опус свой назвала эмоционально и красноречиво: «Сволочь в красном бикини». Оказывается, Лилю подвёл язык — не английский, а русский. Что-то она там не то высказала, и соседки по каюте доложили помполиту. А это именно тот ответственный человек, который составлял списки на увольнение: кому, куда и с кем идти. Моряков отпускали на четыре часа, группами по три-четыре человека. И вот в группу с Гасинской поставили двух крепких мужчин с наказом следить за ней повнимательнее. И те уследили. Во время похода по магазинам заметили, что та норовит потеряться. Допустить этого было никак нельзя, потому что такое означало подозрение в сообщничестве и лишение визы на загранплавание. Лилю доставили на корабль, а помполит приказал запереть её в каюте. Вот оттуда она и выскользнула в океан. Хоть акул там и много, но бояться их не стоило, они сами боялись летающих туда-сюда катеров. Но девушка об этом не знала и старалась не думать о плохом.
Так чем же она так расстроила эту переводчицу? Ведь она и работала-то на другом корабле, а историю услышала со слов старшего помощника капитана с того «Собинова», потому что весь экипаж, начиная с капитана, после побега расформировали за плохую воспитательную работу и рассовали по другим судам, по большей части грузовым. Оказывается: «Попасть плавать на пассажирский корабль — это попасть в морскую элиту. Это значит ходить в загранплавания, повидать мир, купить желанные вещи, иметь хорошую зарплату. И вот всего лишаешься из-за какой-то сволочи. У всех моряков ведь семьи, дети, так что пострадали тут многие».
Да, потеря по тогдашним меркам серьёзная. На это читатели ей возразили: в том, что пострадал экипаж, виновата система, а не девушка. Не она систему создавала, не она наказывала непричастных. Когда из немецких концлагерей узники бежали на волю, а оставшихся наказывали, то, получается, виноваты беглецы, что не сидели смирно?
А вот статус беженки Гасинская получила с трудом, потому что не смогла толком объяснить властям, как именно её преследовали на родине. Девушку даже предлагали депортировать, как обычно и поступали с нелегальными мигрантами. Тем временем события стремительно развивались. Упомянутый фотограф ради русской беженки бросил жену с тремя детьми, и дело шло к свадьбе. Шумиха ли помогла или звёзды (в том числе и газетные) иногда влияют на политику, но девушке разрешили остаться в Австралии.
Гасинская присматривалась к карьере актрисы или модели. А вскоре заключила контракт на 15 тысяч долларов с эротическим журналом «Пентхауз». Вскоре там появились её снимки под заголовком «Девушка в красном бикини — без бикини». Лилиана потом рассказывала, что, как пьяная, ходила по магазинам с этими деньгами и покупала все подряд… Её возлюбленный вовремя остановил подругу. Зато подтолкнул на старте в шоу-бизнесе, и Лиля пробовала себя в разных ролях — работала моделью, диджеем, снималась в сериалах. Правда, с фотографом она через несколько лет рассталась и вышла замуж за миллионера. При этом не забывала оставшихся в Союзе родственников, слала им деньги, подарки и, конечно, фотографии австралийского счастья.
Однако далеко не всё в её жизни шло гладко. Косметический бизнес прибыли не приносил, а мужниных миллионов оказалось недостаточно для счастливой жизни. В общем, рассталась и с ним, после чего переехала в Лондон. Там, в отличие от австралийских времён, живёт скромно, интервью не даёт. Газеты о ней почти не пишут, разве что упомянули о давней художественной выставке в Лондоне, где она представляла русское и африканское искусство.
Снова вышла замуж, родила двух сыновей, они уже студенты (фото счастливого семейства появилось-таки в печати). Забрала к себе своих украинских родителей. Но, в общем, старается жить незаметно. Да и то: разве Овидий не говорил давным-давно, что хорошо прожил тот, кто хорошо спрятался?..
Виктор Шеймов
Побег летом 1980-го главного шифровальщика КГБ выделяется из общего ряда двумя обстоятельствами. Во-первых, сбежал очень информированный и соответственно охраняемый сотрудник спецслужб. Кроме того, он отбыл за рубеж средь бела дня из центра столицы, использовав при этом разные специфические приёмы своих коллег, чтобы уйти от погони. Чем сильно их посрамил.
С самого начала всё у него складывалось благополучно. Родился в Москве, отец — военный инженер, мать — врач. После школы поступил в Московское высшее техническое училище им. Баумана, стал конструктором космической техники. Но технику конструировал недолго, потому что вскоре попал на Лубянку, где специализировался на системах защиты информации в советских посольствах за границей и в зарубежных резидентурах КГБ. Дело в том, что к тому времени он уже успел проявить свои незаурядные способности в электронике. Когда в китайской резидентуре заподозрили прослушку, то Шеймова послали разобраться. И хоть за эту задачу уже безуспешно брались и другие неглупые люди, решить её удалось только ему. Репутация молодого гения обеспечила быстрый карьерный рост, и вскоре он стал одним из самых молодых майоров КГБ.
И всё бы хорошо, если бы не мелочь: не хватало… мира в душе. Покорным служакой он стать не успел, и когда видел что-то неправильное, чувствовал себя оскорбленным. Его направили в подразделение, где готовили справки для самого высокого начальства — партийного политбюро. Опытные коллеги знали, как и что подать, чтобы «там» были довольны. А майора это почему-то возмущало. Первая реакция: может, я чего-то не понимаю? Пошёл в здешнюю библиотеку и попросил почитать историю КПСС. Сотрудница была, мягко говоря, удивлена: такого в её жизни ещё не было. Она даже попросила у майора удостоверение, потому что в этой организации все странности должны быть выяснены. Шеймов сделал вид, что заинтересовался другой книгой и быстро ушёл.
Он не зря избегал не только конфликтов, но и дискуссий. Когда его друг и коллега, молодой и здоровый парень, внезапно умер, у Виктора появился ещё один повод серьёзно подумать о царящих тут нравах. Дело в том, что этот друг (отец его, кстати, был членом ЦК партии), был не только молод, но и прям и недальновиден. Партийное руководство называл «мерзкой шайкой» даже в присутствии отца. И вообще в дружеском кругу своих взглядов не скрывал. Но всё тайное когда-нибудь становится явным, особенно на Лубянке. И парня не стало. Однако и эта тайна продержалась недолго: вскоре Шеймов узнал, что тут не обошлось без вмешательства головорезов из КГБ. И он, начальник отдела, курирующий шифровальную связь наших посольств, замсекретаря партийной организации, поклялся отомстить.
Как? Для начала — бежать из страны, причём всей семьёй. Если самому и приходилось время от времени выезжать за рубеж, то такое путешествие с женой и дочкой категорически исключалось. Более того: майор, допущенный к самым сокровенным секретам страны, не мог, в отличие от простых смертных, разгуливать где угодно даже по собственной столице и находился под постоянным наблюдением. А в таких условиях без посторонней помощи задача не решается.
Как же установить контакт с иностранцами, да так, чтобы никто не узнал? Часами искал машину с американскими дипломатическими номерами. Даже подумывал устроить небольшую аварию и под шумок передать дипломату записку. Однажды даже увидел ехавшую навстречу нужную машину, пытался столкнуться, да опытный шофер вовремя среагировал.
Впрочем, это была ещё не самая трудная задача в работе офицера спецслужбы. В 1979 году оказался в командировке в Варшаве. Там в центре города возвышается знаменитый Дворец культуры и науки, смахивающий на Московский университет (немудрено: архитектор тот же). Есть и кинозал на первом этаже, куда Шеймов и отправился, как водится, с сопровождающим офицером. Во время сеанса, сославшись на проблемы с желудком, отлучился в туалет. Оттуда умудрился выбраться на улицу, остановить такси и домчаться до расположенного неподалёку американского посольства.
Американцы задали ему несколько вопросов, убедились, что он действительно тот, за кого себя выдаёт и были настолько изумлены, что предложили начать путь в США немедленно. Шеймов объяснил, что сначала надо вернуться в Москву за семьёй, а уже оттуда… Чем ошарашил зарубежных коллег ещё раз, потому что у них пока ещё не было опыта подобных операций в Советском Союзе. И договорились о московской встрече.
В кинотеатр он вернулся за десять минут до конца сеанса, заметив сопровождающему коллеге: «Вы бы лучше следили, что они там кладут в вашей столовой». Тот в ответ понимающе улыбнулся.
Конечно, серьёзные дела за несколько минут не решаются, даже если речь идёт о главном шифровальщике Союза. Были ещё встречи в Москве. Американцы хотели убедиться в шеймовских возможностях и снабдили специальным фотоаппаратом. Когда отснятую плёнку проявили, то сомнений уже не оставалось. СССР устанавливал по всему миру новое шифровальное оборудование, причём информации у Шеймова было столько, что никаких тайников не хватило бы, чтобы её передать.
Однако информация ценна до тех пор, пока власти не знают, что она похищена. Иначе достаточно только поменять коды… И вот в московской резидентуре взялись за операцию под названием «Вперёд», самую дерзкую за всю историю ЦРУ.
Он хотел не просто убежать, но и убедить комитет, будто семья погибла. Это избавит от попыток найти и убить изменника, убережёт родственников от репрессий. Да и людям в погонах это на руку: не придётся ни отвечать за провал, ни принимать защитных мер. Ведь от случайности никто не застрахован…
Только вот как предупредить родителей, которым вскоре предстоит услышать трагическую новость? Напрямую нельзя: отец — убеждённый коммунист, ничего не поймёт. Одной матери тоже не скажешь, такая тайна будет невыносима. И вот сын в день своего рождения заехал к родителям и вскользь сказал: «Мама, мне предстоит командировка… Сложная, даже опасная. Если услышишь, что я погиб, — не верь, пока не увидишь мой труп». Мать, конечно, удивилась, но расспрашивать не стала: к секретной работе сына она уже привыкла.
Выбрали пятницу: на работе не хватятся до понедельника. В холодильнике осталось полно еды, в раковине — немытая посуда, даже пыль на антресолях нетронута. А соседке в разговоре жена вскользь обронила: мол, едем на выходные на дачу. И вот майским вечером они остановили такси и доехали до метро «Варшавская». В такие дни здесь особенно многолюдно: на юг идут пригородные электрички через множество дачных станций, а на север — к Павелецкому вокзалу, тоже загруженному. Не говоря уж о сотнях автомобилей, которые подбирают попутчиков в начале этой южной автотрассы.
Семья села в метро, в угол головного вагона. Яркие спортивные сумки поставили одну на другую и прикрыли собой. Сумки, кроме самого необходимого, скрывали ещё и, так сказать, театральный реквизит. На станции «Площадь Свердлова» (так в те времена называлась «Театральная») сели на последнюю скамейку. Она удобна тем, что, как и остальные, укрыта в каменной нише. Интервал между поездами — две минуты. Через тридцать секунд платформа полностью опустела. Оставалось ещё несколько, чтобы сбросить чёрные плащи, и вот уже по платформе идут мужчина в красной куртке, женщина в бордовом жакете и мальчик в зелёной курточке. Сумки в руках оказались уже другого цвета. А для четырёхлетней Лены это была игра: «Ты одета как мальчик, тебя зовут Алёша. Если ты будешь вести себя, как мальчик и сможешь обмануть всех, то ты выиграла».
Потом ещё раз вышли на «Белорусской», там скамейки тоже укрыты в нишах. Теперь на Ольге был неприметный коричневый свитер, распущенные волосы закрывали лоб почти до самых глаз. Виктор — в поношенном свитере и кепке, а дочка в серой кофте и шапочке, как у мальчика. Осталось только перейти на кольцевую и доехать до «Киевской».
И вот полдевятого вечера поезд Москва — Ужгород начал свой путь. Полторы тысячи километров, ехать меньше суток. На следующее утро, когда оставалось совсем уже недалеко, пересели на пригородную электричку, которая и довезла до конечной станции. Дочка уже спала после снотворного. Быстро ушли со станции со спящим «мальчиком» на руках, избегая милицейских глаз, и сели на скамейке у площади. Выйти на место встречи предстояло минута в минуту..
Кстати, о снотворном. Маленькая девочка одним неосторожным словом могла погубить всё дело. Поэтому ещё в Москве главе семейства передали пять разных таблеток, чтобы он экспериментально подобрал для неё лучшее средство. Потом он составлял графики дыхания и пульса дочери, чтобы выбрать ту самую таблетку для Ужгорода. Прощаясь с куратором, Шеймов сказал: «Всё время, что мы встречались, я не был уверен, что вы действительно из ЦРУ. В том, что вы не из КГБ, я убедился, когда мне передали снотворное. КГБ не стал бы церемониться. Мне бы просто дали таблетку и сказали: „Вперёд“. Когда вы дали пять пилюль, я понял, что работаю с гуманной организацией».
Между тем, серая «волга» уже стояла у тротуара с открытым багажником. Забросили туда сумки, Ольга села рядом с водителем Войтеком (по легенде она была его русской подругой, живущей теперь в Варшаве). А Виктор быстро лёг вместе с дочкой на двойное дно и закрыл крышке сиденья.
Потом было петлянье по городу. Нет, они не уходили от хвоста: просто нужно было в нужную минуту оказаться в другом месте, теперь уже на пограничном пункте, куда вот-вот заступит на дежурство знакомый сержант. От него требовалось совсем немного, всего лишь временного отсутствия служебного рвения и инициативы. В благодарность он будет слушать кассету Билли Джоэла.
На чешской стороне и вовсе никаких неожиданностей не было. И Виктор, наконец, мог со всё ещё спавшей дочкой выбраться из укрытия.
Очередная стыковка — в нескольких километрах от границы, где их уже поджидал «мерседес» с агентами ЦРУ. Они и вывезли семью через австрийскую границу в Вену, на явочную квартиру. Ну, а там уже было проще: торговый самолет до Нью-Йорка, потом на маленьком двухмоторном — до Вашингтона.
Путь до «дачи» пролегал через семь часовых поясов. Хоть и выглядел всего лишь как далёкое, довольно утомительное путешествие, но потребовал слаженной работы многих людей. Только одна оплошность любого из них означала полный провал.
Летом 1980-го в КГБ началась суматоха. И не только в КГБ. По всей стране разлетелись фото без вести пропавшего семейства. По факту исчезновения возбудили уголовное дело. Как и предполагалось, упор был сделан на самую удобную версию. Тем более что к ней подтолкнуло совсем другое уголовное дело.
Полгода спустя милиционеры из охраны метрополитена задержали на станции «Ждановская», а затем убили майора КГБ Афанасьева. Убийц вскоре нашли, они во всём признались. Выяснилось, что натворить успели немало, причём один даже обмолвился об убийстве какой-то семьи. Версия оказалась как нельзя более кстати, оставалось только найти трупы. Но несмотря на титанический труд (полк солдат бурил скважины во всех возможных местах захоронения) ничего не нашли. Однако этой версии держались ещё долго.
Правду узнали опять-таки благодаря предателям, на этот раз американским. В 1985 г. завербовали Эймса из ЦРУ (он же выдал и Олега Гордиевского), который кое-что знал, а окончательное подтверждение получили три года спустя от сотрудника ФБР Ханссена.
Филипп Бобков, бывший зампред КГБ, в своих воспоминаниях пишет: «К великому нашему стыду, вскоре было установлено: ни в Москве, ни в стране Шеймова и его семьи нет. Выехали. Сами они, конечно, этого сделать не смогли бы. Всех троих вывезли, очевидно, с их согласия… Провели тщательное расследование. И снова нас ждал удар… Итак, Шеймова с женой и дочерью вывезли. Каким образом? Контрразведка на этот вопрос ответить не могла, да, по-видимому, не очень и стремилась — трудно признавать свои провалы!»
В конце концов наших разведчиков озарила новая версия. Писатели из комитета изложили события так: «В пятницу в 22 час. 30 мин. из Внуково стартовал военно-транспортный самолет НАТО, накануне прибывший в Москву, чтобы забрать из американского посольства отработавшую свой ресурс радиоаппаратуру. На место второго пилота сел загримированный и переодетый в военную форму Виктор Шеймов. Жену и дочь доставили к самолету в контейнерах…»
Аргументов в пользу этих откровений никаких. Наверное, чтобы не раскрывать «нелегальные источники». Да и зачем аргументы? Чекисты обманывать не будут. К тому же, версия хороша тем, что из неё следует, будто наших бойцов тайного фронта не одурачили, а злоупотребили дипломатическим статусом, обманули доверие.
Подробности о своей работе в КГБ и побеге Шеймов описал в книге «Башня секретов», которая вышла в США в 1993 г. В Америке он много лет сотрудничал с Агентством национальной безопасности США. А со временем вместе с бывшим директором ЦРУ Джеймсом Вулси и резидентом в Москве, тоже бывшим, Дэвидом Ролфом, который и организовал побег семьи, создал совместную компанию. Она специализируется на вопросах безопасности передачи информации, в чём её устроители знают толк.
Марина и Алекс Ворфингтон
Эта история началась в 1983 году. В один из столичных вузов приехали учиться по студенческому обмену несколько американцев. Среди американских студентов-филологов был Алекс Ворфингтон, который сразу же приглянулся москвичке Марине.
Он был не похож на советских студентов. «Мне Алекс запомнился каким-то очень светлым человеком, — рассказывает Светлана, бывшая однокурсница. — Он все время улыбался, занимался пробежками, ходил с плейером. Улыбался абсолютно всем. Это как-то было не по-советски. Марине он понравился сразу».
Но до пылкой любви ещё далеко. Во-первых, Марина была воспитана в отечественных традициях, которые предписывают некоторую настороженность по отношению к иностранцам. (Напомним, что браки с иностранцами у нас запретили ещё в 1947 году. Объяснили это… заботой о женщинах: «наши женщины, вышедшие замуж за иностранцев и оказавшиеся за границей, в непривычных условиях чувствуют себя плохо и подвергаются дискриминации»… На самом деле власти беспокоились о другом. В Европе находилось огромное количество наших войск, и попытки бывших медсестер, связисток и летчиц остаться там со своими возлюбленными расценивались как классовая незрелость. Впрочем, не теряли времени и многие мужчины. Запрет отменили только в 1956-м).
Во-вторых, гостей тут же поселили в специальном секторе общежития, куда юным советским коллегам доступ был закрыт. И за этим зорко присматривали специальные люди из комитета комсомола.
Так бы, наверно, все и закончилось, но студентов послали на картошку. Так раньше называлась принудительная командировка людей, не имеющих никакого отношения к сельскому хозяйству, но зависимых (школьники, студенты, служащие) на уборку картофельного урожая. Посылать могли и на день, и до конца уборочной страды. Иностранец, конечно, не имел права отъезжать более чем за 40 километров от места учебы. Для Алекса сделали исключение: он писал диссертацию по фольклору. И хоть днём приходилось опасаться стукачей, зато после отбоя можно было найти уголок и пообщаться всласть.
Вскоре, конечно, про роман узнали, и Марине пригрозили серьезными комсомольскими неприятностями. Почему? Ведь такие браки давно разрешены? Ну, вот так, по инерции, на всякий случай.
Алекса комсомольцы не трогали, им занимался КГБ. Марину не раз вызывали туда на задушевные беседы: «Как вы считаете, мистер Ворфингтон и вправду занимается филологией? Вы ни разу не замечали за ним никаких странностей?» А потом американцу не продлили визу.
И вот через полгода после знакомства пара решила срочно пожениться, надеясь, что штамп в паспорте многое изменит. А в загсе очередь, на два месяца. Но у нас, слава Богу, не Америка, и хорошая взятка решила дело. Только не до конца: визу Алекс так и не получил и отбыл на родину.
Тогда Марина принялась оформлять документы, надеясь, что имеет полное право поехать к мужу. Эх, молодёжь… Ведь во главе страны стоит недавний глава КГБ Андропов, на улицах и даже в кинотеатрах идёт отлов всех, кто не на рабочем месте, так что тут не забалуешь. Через пару месяцев пустых хлопот ей всё объяснили, кратко и многозначительно: «Напряженные отношения между СССР и США».
Действует и Алекс. Обращается к сенаторам, но у тех есть дела и поважнее. Журналистам тоже эта история неинтересна: нужно что-то погорячее. А погорячее Алекс не хочет, опасаясь неприятностей у Марины (он был прав: за психбольницей дело бы не стало). Но она своё и так получила: из комсомола исключили, из университета тоже, да вдобавок и на работу нигде не берут. Письма от мужа приходят вскрытыми, звонки прослушиваются. На какие средства жить? Продавать вещи, которые присылал Алекс? Но в СССР это называют фарцовкой, и такие дела могут кончиться очень плохо.
Так продолжалось два года и Марина не выдерживает, решив бежать из страны. Находит дальнобойщика, который ездит через финскую границу, и договаривается с ним. Тот звонит Алексу из Финляндии и сообщает: он должен ждать жену в такой-то день в таком-то финском приграничном городе.
Затем дальнобойщик доставляет Марину из Москвы в Карелию, поближе к границе. Там её уже ждёт проводник, который специализируется на контрабанде: туда — спиртное, оттуда — весёлые журнальчики. Да и перебежчикам не раз помогал.
Марина отдает за рискованные услуги немалые деньги, тоже с риском накопленные, а с собой берёт рюкзак, приготовленный к дороге — сухари, консервы, компас… И, конечно, зелье, сбивающее собак со следа.
Два дня они добираются до границы. Это вовсе не прогулка. Последняя часть пути проходит через болота, да ещё и нужно опасаться пограничников с обеих сторон, потому что финны обязаны выдавать перебежчиков.
Марине повезло, она благополучно добралась до городка, где её ждал Алекс. После долгожданной встречи — американское консульство, откуда она вышла со свидетельством о предоставлении политического убежища.
А университет всё-таки окончила, но уже в США. Работала в гольф-клубе, а Алекс читал студентам лекции по русской литературе. (Их сюжет войдёт в литературу позже: по мотивам этой истории ещё напишут книгу). И вместе растили детей. Такой банальный финал, но за него им пришлось побороться.
Супруги потом несколько раз приезжали в Россию, к родным и друзьям. Когда Марину спросили, где теперь её родина, она ответила: «Там, где любимый».
Роман Свистунов
В мае 1987-го нашу границу проверили на прочность с обеих сторон. 27 мая — Роман Свистунов, а на следующий день, в День пограничника — немец Матиас Руст. Граница оказалась дырявой, за что министр обороны поплатился своим креслом.
Бывший пилот Роман Свистунов на самолёте Ан-2, известном также как «кукурузник», улетел в Швецию. Бывшим он стал потому, что за пару лет до угона уволился из гражданской авиации, где работал пилотом сельскохозяйственных самолётов и предпочёл работать в колхозе. А ведь ещё не так давно 24-летний молодой человек из украинского Николаева был лейтенантом ВВС. Довольно странная карьера…
Итак, за пару недель до угона Роман приехал в Латвию к своему другу-сокурснику. Появились и новые друзья, в том числе и сторож, который, стерёг лётное поле латышского колхоза «Друва». В ту летнюю ночь они хорошо выпили, и когда собутыльник захмелел, то выдававшего себя за авиамеханика Романа потянуло заняться техобслуживанием. Под этим предлогом он ранним утром двинулся на поле, залез в пустующий «кукурузник» и запустил двигатель. Сторож выбежал с ружьём и даже стал прицеливаться, но угонщик, рассудив, что недавний друг не будет палить в друга, спокойно пошёл на взлёт. И направился в сторону моря.
Он был не первым, кто догадался бежать в Швецию таким образом. За четыре года до него пилот из Риги угнал такой же самолёт и долетел на нём до острова Готланда. Шведы самолёт вернули, а лётчик остался. Поэтому светлые головы в министерстве гражданской авиации решили самолёты на сельхозработах заправлять не полностью. И когда этот лайнер пролетел три с половиной сотни километров, двигатель зачихал, а потом и вовсе остановился. Пришлось садиться на воду. Шведские истребители ринулись на перехват, но самолёт-нарушитель уже шёл ко дну. А вот лётчик выплыл, благо до Готланда оставалась какая-то сотня метров. И даже успел залезть в чей-то дом и переодеться в сухое. Там его и задержал пилот вертолёта Ларс Флемстрём, потому что рыбаки уже сообщили куда надо об аварии.
Скоро Роман сидел в офисе полиции, отвечал на вопросы и просил убежища. Заодно рассказал, что из армии его выгнали из-за антисоветчицы-мамы (как он туманно объяснял, мать «крайне критически» относилась к советской власти). И вообще попал в немилость и потому решил бежать. Незадолго до побега развёлся с женой, оставив двоих дочек.
На следующий день пришли вести с родины: Свистунова обвинили в угоне самолёта, а от Швеции потребовали вернуть угонщика вместе с самолётом. Сотрудники посольства захотели срочно увидеться с беглецом, но тот был не менее решительно против.
Тем временем наша печать начала раскрывать истинное лицо предателя: нетрудовые доходы, чёрный рынок… Выходило так, что из гражданской авиации его попросили из-за невозвращённого долга коллегам, и по этому делу даже был суд, который кончился не в пользу должника. Чтобы не платить, тот и сбежал. Что же касается увольнения из вооружённых сил, то когда шведы отправили запрос на эту тему, ответа не последовало.
Выдавать угонщика Швеция не стала, но суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно, и вскоре он получил вид на жительство. Несколько лет проработал в пиццерии, а потом уехал с острова и работал за рубежом уже шеф-поваром.
Самолёт со временем достали с морского дна, восстановили и поставили в музее обороны Готланда. К одной из годовщин побега там открыли выставку, посвящённую советскому прошлому.
На церемонии открытия был и Роман. Он вышел из толпы и обнял Ника Стенстрёма — одного из тех, кто восстанавливал самолёт. Когда спросили, думал ли он, когда летел над морем, что через три десятка лет самолёт станет музейным экспонатом, бывший угонщик ответил: «Я ни о чём не думал. Я просто хотел выжить».
А развод его, похоже, был фиктивным, потому что когда Советского Союза не стало, Роман съездил на родину, забрал семью и снова вернулся в Швецию.
Олег Гордиевский
В 1985 году полковнику КГБ Гордиевскому, как и Шеймову за пять лет до него, удалось бежать из нашей столицы в Англию. Хотя ещё недавно он, резидент КГБ в Лондоне, жил там вместе с женой и двумя дочерьми.
Он всегда хотел служить только в КГБ. «Для 22-летнего человека это была романтика. Разведка! Иностранные языки! Работа в Европе! — говорит он. — Во-вторых, в Советском Союзе шла либерализация. Я верил, что всё либерализуется, комитет преобразуется… Кстати, в короткий период в 60-х годах он был немножко лучше, и было тревожно наблюдать, как он после 1968-го начал превращаться в прежний НКВД».
Гордиевский родился в семье сотрудника НКВД, окончил институт международных отношений, после чего выдержанного, ответственного и пунктуального выпускника пригласили на работу в КГБ. Там он попал в подразделение нелегальной разведки. Заграничные командировки (Дания, Великобритания), звание полковника… Что ещё надо человеку его круга? Но передовик государственной безопасности ещё в 1956 году выбрал путь, который приведёт его к расстрельному приговору.
Выступление Хрущёва на партийном съезде с эмоциональным разоблачением сталинских преступлений заставило задуматься о противоречиях между словами и делами строителей нового общества.
В 1961-м он видел, как строили берлинскую стену, разделившую западную и восточную части города. Без неё разница в качестве жизни была очень уж наглядна, и многие восточные немцы работали там, где выше зарплата и в магазинах есть что купить. «Я видел, как люди прыгали с четвертого этажа домов по ту сторону строящейся стены, а на той стороне стояли западноберлинские добровольцы и держали натянутое полотнище. Видел, как жители ГДР разгонялись на своих маленьких „трабантах“ и врезались в колючую проволоку перед Бранденбургскими воротами, стараясь проникнуть в Западный Берлин. Автоматчики ГДР в черной форме прохаживались, как нацисты, и производили жуткое впечатление. А в прилегающих к стене переулках на всякий случай стояли советские танки», — рассказывал Олег.
А в 1968 году было и восстание в Праге, подавленное теми же «дружескими» танками… Тогда он окончательно решил бороться с советским строем всеми доступными способами. Как? «Узнать как можно больше о том, как работает советская система, чтобы потом передать эту информацию англичанам». Зачем? «Мне хотелось помочь им понять сущность советского коммунистического режима. А задачей КГБ всегда было создание тотального механизма доносительства, который пронизывал всё общество. Число таких агентов было огромным при Сталине, слегка сократилось при Брежневе и вновь увеличилось при Путине».
Если шпион под дипломатическим прикрытием (а Гордиевский именно им и был) захочет договориться с коллегой из враждебной службы, то это не потребует больших трудов. Тем более что англичане уже им интересовались. И вот начались встречи, сначала в маленьких пивных, а потом и на конспиративной квартире. В 1974-м он уже работал на МИ-6, британскую разведку, передавал секретные сведения о делах и планах советского правительства. Кому он нанёс ущерб, а кому очень помог — об этом мы ещё поговорим, а пока о том, почему пришлось бежать не в Лондоне, просто выйдя за ворота посольства, а из Москвы.
За рубежом тоже нашлись свои гордиевские, но только с противоположными целями. В 1985 году КГБ завербовал в США высокопоставленного сотрудника ЦРУ Олдрича Эймса. (Как и Гордиевский, он получил от родины высшую меру — пожизненное заключение, — но не заочно, а очно, и сейчас сидит). Вот он-то и передал своим кураторам сведения, которые помогли вычислить «крота». Его фамилии Эймс не знал, поэтому кое-какие сомнения оставались, чем и объясняется некоторая нерешительность наших чекистов в отношении изменника.
Дальше действовали по отработанной схеме. Чтобы не спугнуть агента, повысили по службе, назначив на должность резидента, и пригласили в Москву якобы для консультаций. Отвезли в загородный дом КГБ и несколько часов допрашивали с применением психотропных препаратов, которые подавляют волю и развязывают язык. Видно, доза оказалась мала, потому что с волей резидента ей справиться не удалось. Олег всё отрицал, после чего его отправили в ведомственный санаторий и установили негласное наблюдение. Семью из Лондона вывезли, и о возвращении туда речь уже не шла. Зато всё реальнее становился скорый арест.
То, что шпионов рано или поздно ловят, знали не только в Москве, и план нелегального вывоза ценного агента был разработан британской разведкой заранее. В случае опасности оставалось только подать условный сигнал. Для этого надо было стоять в условленное время на тротуаре Кутузовского проспекта и обменяться взглядом с проходившим мимо англичанином. Операция началась.
Если в двух словах, то его маршрут выглядит простым и нетрудным: на поезде до Ленинграда, оттуда до Зеленогорска и ещё автобусом до условленного места. Там его подберёт дипломатическая машина — и прощай, родина. На самом же деле каждый шаг был чреват неожиданностями, и их надо было обязательно иметь в виду. И ничего, что дорога в Англию начиналась с Ленинского проспекта, где жил Гордиевский, пролегала через Ленинград, куда надо было купить билет на Ленинградском вокзале. Сотрудник КГБ мистиком не был, о назойливой связи побега с именем бывшего вождя не думал, а вот тружеников созданного им «карающего меча революции» приходилось опасаться всерьёз. О том, чтобы просто вот так взять и съездить на вокзал, не могло быть и речи. Сначала пришлось сбить со следа топтуна, который не выпускал «объект» из виду, а ведь он тоже был неплохим профессионалом. Но когда билет появился в руках, он тут же стал неопровержимой, смертельной уликой. В ту ночь Олег спал с забаррикадированными дверями, положив рядом на металлический поднос коробку спичек и этот билет. И повторял эту процедуру до самого дня отъезда, до пятницы 19 июля.
В тот день он оделся по-спортивному, будто собрался на обычную пробежку, прихватил с собой полиэтиленовый пакет с какой-то мелочью и направился в соседний лесопарк. Машина наблюдения стояла неподалёку от пешеходной дорожки, но в лесу такая техника не годится. Скрывшись за деревьями, Гордиевский побежал и через несколько минут был с другой стороны парка, где и затерялся у оживлённого торгового центра. То и дело проверяя, нет ли хвоста, отправился на вокзал. Вечером поезд благополучно отошёл.
Не обошлось без опасных приключений. После дневной нервотрёпки хотелось побыстрее заснуть, и беглец выпил двойную дозу успокоительного. Утром обнаружил себя не на верхней полке, а на нижней, в ссадинах и крови. Оказывается, ночью он свалился с полутораметровой высоты. Дело могло кончиться вызовом милиционера, но судьба была всё ещё благосклонна к нему.
Очередная ошибка: вместо того, чтобы доехать до приграничного Выборга, а оттуда двигаться назад, вглубь страны, Олег вышел в Зеленогорске и поехал на автобусе к границе. Мало того, что в таких местах действуют агенты КГБ, которые высматривают возможных беглецов, так ещё словоохотливых попутчиков может потянуть на разговор. Дружелюбный водитель автобуса, которому Олег назвал свою остановку, удивился: «Чего ради вы туда собрались? Там на километры вокруг нет ничего». Дискуссия с местным жителем на тему географии могла плохо кончиться, но пришлось рискнуть. Олег хитро подмигнул: «Да вы просто ничего не знаете! Там в лесу несколько дач, и в одной из них меня ждёт милая женщина». Тот понимающе заулыбался.
У английских дипломатов были свои заботы. От самой Москвы они ехали под неусыпным наблюдением наших агентов. И кого они могут подобрать по дороге?.. Однако неожиданности хороши тем, что могут не только погубить, но и помочь. Например, железнодорожный переезд с длинным товарняком дал пару минут, чтобы ненадолго оторваться от хвоста. Наконец, на всю эту операцию надо было получить личное разрешение премьер-министра Маргарэт Тэтчер. И оно было дано.
И вот на пустынной дороге, после нескольких часов ожидания, показались две машины и остановились в условленном месте. Из них вышли двое мужчин и две женщины. Беглец быстро скрылся в багажнике одной из них и накрылся алюминиевым экран-одеялом, если вдруг кому-то из пограничников придёт в голову направить на машину инфракрасный детектор тепла.
Машины остановились, донеслась русская речь. Таможня. Но рядом послышалось повизгивание и сопение собак. Одна из спутниц кормила их картофельными чипсами, чтобы отвлечь внимание от машины. Олег хорошо представлял, что будет в случает провала: британцы изобразят изумление, как этот незнакомец оказался в багажнике, и объявят это провокацией. У него же не было никаких других планов, кроме полной капитуляции.
Наконец, машина тронулась, и вскоре вместо поп-музыки зазвучал Сибелиус. Это Финляндия. Но путь до Лондона лежал через Швецию и Норвегию. Там было уже проще.
В сентябре 1985 года правительство Великобритании объявило персонами нон грата три с лишним десятка советских шпионов, действовавших под дипломатическим или журналистским прикрытием. Информация о них была получена от Гордиевского. Последовал «зеркальный ответ», и 25 британских дипломатов отправились на родину. А самого предателя вскоре заочно приговорили к расстрелу, отложив процедуру из-за отсутствия осуждённого.
Великобритания совсем иначе оценила труды советского шпиона-перебежчика: его наградили престижным орденом Святого Михаила и Святого Георгия, а «железная леди» написала ему личное письмо, в котором есть и такие слова: «Я очень ценю ваше личное мужество и вашу приверженность свободе и демократии». На Западе считают, что Гордиевский предотвратил обмен ядерными ударами между СССР и НАТО в самый разгар «холодной войны». Известно, что советское руководство сильно опасалось «звёздных войн», а натовские манёвры подлили масло в огонь, поставив мир на опасную грань. Гордиевский сумел убедить в этом западных лидеров, и в учения были внесены коррективы, которые снизили градус напряжённости. Да и вообще его информация помогла лучше понять ход мыслей наших руководителей, не всегда понятный за рубежом. А если речь идёт о вооруженных противниках, то ясно, что кончиться это непонимание может очень плохо.
Сейчас он живёт в одном из живописных городков неподалёку от Лондона, получает пенсию. Вспоминая прошлое, говорит: «Нисколько не жалею о том, что решился работать на англичан против советского коммунизма. Я испытываю разочарование лишь в одном: слишком недолгой была эта работа».
Но ведь известно, что Москва не прощает изменников. Гордиевский — не исключение (расстрельный приговор ему не отменили даже когда СССР не стало). По этому поводу он сказал журналистам:
— Никаких мер безопасности я не принимал, хотя британцы думали, что опасность существует, и поначалу меня маскировали. Никакой охраны у меня не было. Охрана была только, когда я приехал в Америку. На второй день я попросил её убрать.
Он ведёт активную жизнь: часто ездит в США, участвует в семинарах, консультирует, выступал с публичными лекциями, его принимал президент. Написал книгу «Следующая остановка — расстрел», где рассказал о том, что видел и знает. Она издана и у нас. И туда не вошёл эпизод, случившийся уже после её написания, в 2007 году…
В начале ноября он потерял сознание у себя дома. Его отвезли в госпиталь, где около двух суток оставался без чувств. Бывший полковник расценил это как покушение, в котором заподозрил российские спецслужбы. И даже обвинил МИ-6 в попытке препятствовать расследованию. Потом следствие возобновили, но найти информацию о результатах не удалось. Во всяком случае, по телевидению он потом выступал в гриме. И адрес свой не афиширует. Во-первых, чтобы не было ажиотажа в городке. Да и на всякий случай: «Если узнают, где я живу, КГБ пошлёт агентов выяснять мой образ жизни: куда я езжу, куда хожу, как охраняют, не охраняют? Будут это делать, вне всякого сомнения. А вот будет ли само убийство? Может быть, и нет».
Александр Зуев
Этот капитан, 28-летний военный лётчик первого класса, в 1989 году угнал в Турцию истребитель МиГ-29.
У него была репутация квалифицированного пилота. Мечтал учиться в престижной школе летчиков-испытателей и, по мнению сослуживцев, упорный и целеустремлённый офицер имел хорошие шансы. Приезжал в город Жуковский, готовился к поступлению. Не повезло: на следующий, 1988-й, набора не было, надо было ждать ещё год.
Как поётся в старой песне, первым делом самолёты, но находилось время и для других дел. Хорошо пел, играл на гитаре, участвовал в самодеятельности. Нравился женщинам, женился на дочери начальника штаба авиадивизии.
Однако многое из того, что происходило в стране, ему не нравилось. По его словам, последней каплей стал разгон митинга оппозиции в Тбилиси. А до этого, в 1983-м, сбили южнокорейский пассажирский «Боинг», потом была Чернобыльская авария… Это уж не считая того, что и вокруг хватало поводов задуматься о том, что происходит в стране развитого социализма. Капитан собирался уйти из вооружённых сил, даже подавал рапорт об увольнении по состоянию здоровья, однако начальству удалось его переубедить. А тут ещё неудача с поступлением в школу лётчиков… В конце концов офицер решился на отчаянный шаг: на истребителе — в соседнюю Турцию.
Уже после скандала наша пресса на все лады расписывала его неприглядный моральный облик: якобы так переживал неудачу со школой, что крепко запил, разругался с женой, завел любовницу, был временно отстранен от полетов на «из-за низких морально-нравственных качеств» и т. д.
Однако капитану, похоже, удавалось справиться с неприятностями. С женой хоть и развёлся, но вскоре женился на той самой любовнице, которая ради него бросила мужа. А когда супруга уехала рожать к родственникам на Украину, то Зуев решил это использовать.
Досрочно объявил о рождении сына и пригласил сослуживцев отметить это событие (сын действительно родился, но только через несколько дней). Радоваться со спиртным на авиабазе не позволял сухой закон, а вот против хорошего торта собственной выпечки возражений не было. На самом же деле эти торжества были первым шагом к побегу.
«Счастливый отец» купил в аптеке снотворное, начинил им торт и, заступив на вечернее дежурство, угостил всех, кто был в помещении. Вскоре после чая собравшихся потянуло прилечь… А капитан направился к одному из самолетов дежурного звена. Часовой его не пропустил: не положено. Зуев спорить не стал, дождался смены наряда. Сменщик офицера знал и даже подпустил к себе, но дальше пройти не давал. Капитан попытался вырвать у солдата автомат, началась борьба. Терять беглецу было уже нечего, он выхватил пистолет и ранил часового. Тот в ответ выпустил в него весь автоматный рожок, и почти все пули мимо. Если не считать простреленной руки, препятствий у Зуева больше не было. Оставалось убрать колодки, сдёрнуть чехол с фонаря-кабины и запустить двигатели.
Через несколько секунд самолёт был в воздухе. Включил форсаж, снизился до полусотни метров и ушёл в сторону морского побережья.. Он на всякий случай расстрелял бы остальные самолёты звена, чтобы не перехватили, но в спешке забыл снять блокировку с пушки. Опасения были напрасны, потому что когда через десять минут истребители бросились за угонщиком, он был уже на турецкой земле. От Сенаки до Трабзона 250 километров, что для «мига», который может мчаться со скоростью до 2450 километров в час, — сущие пустяки.
К самолёту подбежали турецкие охранники, и Зуев сказал: «Я — американец!» Он хотел, чтобы о нём как можно скорее узнали в посольстве США. В итоге с американцами всё кончилось хорошо, они вскоре предоставили убежище беглецу.
Самолёт турки вернули на следующий же день, а вот пилота судили, обвинив в угоне. Но оправдали, учтя политические мотивы.
Хоть добраться до секретов новейшего истребителя чужаки не смогли, знания лётчика тоже чего-то стоили. Зуев консультировал американских военных перед началом операции «Буря в пустыне», когда многонациональные силы освобождали Кувейт (иракские пилоты летали на советских «мигах»). В 1992 году написал книгу о своём побеге.
Он погиб в авиакатастрофе летом 2001 года, разбившись на учебно-тренировочном самолёте. Через месяц ему исполнилось бы сорок.
Олег Михайлов
Короткой июньской ночью 1991-го из Беловежской пущи взлетел мотодельтаплан и взял курс к границе. Через час, оставив позади 80 километров, он летел уже над Польшей. Был ли это самый последний побег из СССР — сказать трудно, но ясно, что один и последних, потому что ровно месяц назад «железный занавес» рухнул и Верховный Совет принял закон о порядке выезда и въезда в СССР. Только помочь 43-летнему пилоту дельтаплана Олегу Михайлову он не мог, поскольку этого гражданина активно разыскивал КГБ.
Начало его биографии вполне пристойное: окончил среднюю школу, серьёзно занимался спортом. Поступил в институт физкультуры, стал мастером спорта по тяжёлой атлетике. Отслужил в стройбате, потом работал в школе учителем физкультуры. При этом критиковал советский строй, за что был уволен с работы и помещён в психбольницу. Ненадолго выпустили и в 1973-м посадили снова, потому что недавний пациент отказался от советского гражданства и пригрозил сжечь себя на Красной площади.
После лечения Олег твёрдо решил бежать из страны, для чего по его плану предстояло угнать самолёт. Однако такое дело требовало расходов, и энергичный молодой человек занялся фарцовкой, валютными операциями и быстро заработал неплохие по тем меркам деньги. Познакомился с пилотом, и тот за двухлетнюю зарплату советского инженера научил его управлять самолётом.
Угонять лайнер лучше с помощником, и Михайлов пригласил бывшего политзэка принять участие, сочтя его подходящим кандидатом. Но тот принял его за провокатора и подробно изложил ситуацию в КГБ. За измену родине незадачливый угонщик получил 13 лет мордовских лагерей и несколько лет ссылки. Срок ссылки в данном случае значения не имеет, потому что Олег Васильевич из неё бежал. Больше сотни километров проехал в кузове лесовоза на 30-градусном морозе, потом на товарняке доехал до Томска. Оттуда с поддельным паспортом — в столицу, где в марте 1990-го явился в американское посольство (к тому времени граждане могли посещать чужие посольства безнаказанно). Имел беседу с третьим секретарём. Похоже, с такими документами, как у беглеца, речь об эмиграции не заходила, и дело ограничилось тем, что гость передал дипломату длинный текст с советами по развалу советской политической машины.
Мысль о бегстве ещё жила. Теперь мужчина решил сделать это на дельтаплане. Закончил курсы планеристов, в военно-воздушной академии имени Жуковского помогли сделать аппарат. И тут непредвиденная осечка: деньги очень нужны, а при попытке сбыть украденные иконы Михайлов попал в милицейскую облаву. На допросе избили так, что пришлось задержанного отправить в травматологию. Несмотря на травмы, он бежал из больницы, выпрыгнув со второго этажа. Скрывался у приятеля, лечился, а потом уехал в уже фактически независимую Литву.
Первая попытка улететь была неудачной: упал и сломал рёбра. Через месяц снова вышел на старт. Собирался лететь к западным немцам, опасаясь, что поляки его выдадут, да только дельтаплан окончательно развалился над польской территорией, у городка Хайнувка, в полусотне километров от границы. Снова не обошлось без травм, но в общем всё закончилось благополучно: местные поляки нашли ему убежище и помогли добраться до Варшавы. Там представители Хельсинкского комитета по правам человека укрывали беглеца, а «Газета выборча» опубликовала с ним интервью под названием «Икар».
Состоялась и пресс-конференция. Михайлов пояснил польским журналистам ход своих радикальных мыслей: «В этой схватке с дьяволом я побеждаю при любом исходе. Или я удачно перелетаю границу, и я в свободном мире, или я погибаю, но поскольку душа бессмертна, я обретаю свободу в вечности».
Через несколько месяцев Михайлов был уже в Германии, а оттуда выехал в США. Закончил университет, занялся ювелирным бизнесом. И часто летает в Россию. На «Боинге», как и все нормальные люди.
Коротко о том же
Выигрышный ход
Игорь Иванов — советский шахматист. Среди его соперников был и тогдашний чемпион мира Анатолий Карпов, который проиграл ему в 1979 г. на Спартакиаде народов СССР.
Побед, кроме этой, было немало, благодаря чему год спустя спортсмену разрешили принять участие в мемориале Капабланки на Кубе. На обратном пути, когда самолёт сел на дозаправку в канадском аэропорту, Иванов выбежал из самолёта на взлётную полосу, имея при себе только одежду и карманные шахматы, и попросил политическое убежище.
Он поселился в Монреале и четырежды побеждал в чемпионатах страны. В начале 1990-х переехал в США, несколько раз выигрывал Гран-при Шахматной федерации США, и ему было присвоено звание гроссмейстера.
Бег с препятствиями
Фамилия этого простого украинского туриста, поехавшего посмотреть Северную Корею, осталась неизвестной. Но он сумел прославиться во время одной из экскурсий по достопримечательностям этой народно-демократической страны.
Туристов привезли посмотреть на демаркационную линию — границу с капиталистическим Югом: «Там уже наши враги. Реакционная клика. Видите, как они близко?»
Было действительно настолько близко, что украинец бросился к врагам, огибая часовых, со скоростью, на которую только был способен. И всё у него получилось. Зато пограничникам, оказавшимся не готовыми к такой ситуации, пришлось отвечать по всей строгости северокорейских законов.
Сигнал бедствия услышан
Весной 1970-го советское рыболовное судно, проходившее в сотне миль от Нью-Йорка, передало береговой охране сигнал бедствия: на борту умирает молодая официантка, срочно требуется госпитализация. Когда прилетел вертолет, 25-летняя латышка Дайна Палена была без сознания. Как потом выяснилось, девушка приняла сверхдозу лекарств только ради того, чтобы оказаться на американском берегу.
Она провела в больнице десять дней, где её неусыпно опекали сотрудники советской дипмиссии. С помощью латышской диаспоры девушка обратилась к властям: «О серьезности моих намерений говорят те меры, которые я приняла, чтобы попасть на берег и попросить политического убежища», — сказала она.
Разобравшись в обстоятельства дела, американцы вскоре выполнили её просьбу.
Труба зовёт…
В начале семидесятых некий парнишка прополз чуть не километр по дренажной трубе из Карелии в Финляндию. Перед этим проделал серьёзную работу: замерял время прохода пограничного наряда, чтобы определить длину своей трассы. Спилил решётку с советской стороны. Потом разделся, обмазался солидолом для лучшего скольжения — и вперёд, не забыв привязать к ноге мешочек с одеждой и ножовку. Так в ручейке ледяной родниковой воды и перешёл границу. Там была своя решётка, но она уже не могла его остановить.
На вопросы ошарашенных журналистов о причинах побега он потом отвечал, что очень хотелось сходить когда-нибудь на яхте в кругосветку, но в СССР таких шансов не было.
Жаль, что в наши перестроечные времена, когда эта история просочилась в интернет, уже не у кого спросить: и что, финны его не выдали? Ведь в те времена это была нормальная практика.
Проверенным маршрутом
Про этого безымянного ленинградского инженера-электронщика рассказывают такую анекдотическую историю (или легенду?), но похожую на правду. Он взял корзину и направился в приграничный лес за грибами. Кроме сбора грибов, присматривался и к местности, стараясь не выходить на открытые участки. Словом, и выбирал дорогу, и примечал, отчего устал сильнее, чем обыкновенный грибник. А когда оказался уже на финской территории, то расслабился, корзинку выбросил и отправился прямиком в Хельсинки. В советское посольство. Там он рыдал и просился домой: ну заблудился же! И начисто забыл, как шёл, хотя об этом его спрашивали особенно дотошно и в Хельсинки, и на родине. В конце концов, посмеялись и отпустили: ну бывают же и такие чудики… Пограничников, правда, наказали.
Только грибник оказался не таким уж и чудиком: через месяц он ушёл уже проверенным маршрутом, прихватив, что нужно: документы, деньги и, конечно, что-то перекусить в дороге. Говорят, вроде бы всё прошло по плану. По его плану.
Компас указал на запад
Литовец Йонас Плешкис, морской офицер, в ночь на 7 апреля 1961 года шёл на самоходной барже из Клайпеды в Таллин. Но на самом деле он рассчитывал доплыть до Швеции. Для этого переориентировал судовой компас и направил судно к шведскому острову Готланд. Ему повезло дважды: тихоходную посудину проморгали и наши стражи границы, и шведские.
Однако шведы неприятностей не хотели, и дело шло к тому, чтобы отправить баржу под конвоем эсминца на родину. Тогда лейтенант Плешкис попросил политическое убежище. История получилась громкая, и властям пришлось пойти ему навстречу. Правда, команда — десяток матросов — к такому шагу была не готова и предпочла вернуться.
В СССР его заочно приговорили к расстрелу, но офицеру удалось выехать в Гватемалу. Потом переехал в США, работал программистом в Кремниевой долине. А в 90-х годах побывал и на родине, в независимой Литве.
О тех, кому не повезло
Марк Дымшиц, Эдуард Кузнецов и другие
У ленинградца Марка Дымшица бывшего летчика-истребителя и майора ВВС в отставке, в 1969 году возникла мысль бежать за границу. Ну, скажем, арендовать дачу на Карельском перешейке, построить там воздушный шар и улететь в Финляндию.
С чего бы серьёзному человеку пришла в голову такая идея? Ведь после смерти Сталина ручеек еврейской эмиграции в недавно созданный Израиль всё расширялся: в 1953-м выпустили 53 еврея, в следующем году — вдвое больше, а в 1956-м — аж 753… Арабские соседи, не дававшие покоя Израилю с момента его создания, упорно призывали друг друга «сбросить евреев в море», уничтожив их как нацию. Изначально хорошие отношения с Израилем (СССР первым признал эту страну) быстро испортились: мало того, что Советский Союз чинил препятствия евреям, желавшим уехать, так ещё и помогал арабским террористам. И ещё затеял «дело врачей» — опять-таки евреев.
После смерти Сталина стало получше, но лишь временно. СССР активно помогал врагам Израиля и одновременно вёл антиизраильскую пропаганду. Когда пять арабских стран дружно проиграли евреям Шестидневную войну несмотря на поддержку великой страны, отношения снова прекратились аж до 1991 года. Зато широко развернулась антиеврейская пропаганда под видом борьбы с сионизмом, который у нас толковали как «форму расизма и расовой дискриминации», хотя на самом деле речь шла об объединении еврейского народа на исторической родине.
В 1968 году председатель КГБ Юрий Андропов и министр иностранных дел Андрей Громыко предложили установить квоту на выезд в Израиль в размере до полутора тысяч евреев в год. Партия поддержала, но такая узкая щель никак не могла пропустить всех, желавших эмигрировать. Выезд был крайне затруднён, а сионистов подвергали преследованиям и репрессиям.
Дымшиц стал искать варианты. Вообще в его жизни были разные проблемы, и он привык их решать. Во время блокады города лишился родителей и рос в детском доме. После военного летного училища служил в Бухаре, но мириться с процветавшим в армии антисемитизмом не захотел и демобилизовался. В гражданской авиации для него места не нашлось, и он окончил сельхозинститут, работал в Ленинграде инженером.
Идея с воздушным шаром лопнула, потому что такое серьёзное дело нельзя доверять случайным ветрам. И если уж лететь, то не в Финляндию, с которой у СССР имелся договор о взаимной выдаче преступников.
Может, захватить Ту-104, а там в Швецию? Чтобы не вмешивать посторонних, выкупить все места. А чтобы обилие еврейских лиц не вызвало подозрений, придумали легенду: летим в Мурманск на свадьбу. И операция получила кодовое название «Свадьба». Но нерешённые вопросы оставались. Например, что делать с экипажем? Это ведь семь человек…
К тому времени в Ленинграде уже существовала подпольная сионистская организация, объединяющая желающих эмигрировать. Через неё связались с израильскими властями, предложили варианты и поинтересовались их мнением. Вскоре получили ответ по телефону: «Консилиум врачей признал первое лекарство недопустимо сильным, а применение другого оставляет на ваше усмотрение». Первое лекарство — это угон самолёта. Маленькая страна не хотела сотрудничать с террористами. Второе — это пресс-конференция для западных журналистов с рассказом о положении евреев в СССР. В результате решили не рисковать и от захвата самолета отказаться.
Во все эти события были посвящены жёны, дети, знакомые, и скоро до КГБ дошли слухи, что евреи «собираются купить самолёт и улететь в Израиль». Про отказ от этой идеи тоже узнали. Но не одобрили, потому что разваливалось громкое и нетрудное дело с показательным процессом в финале. Тогда предложили наживку в виде удобного рейса небольшого «кукурузника» Ан-2, который вдруг начал летать с аэродрома Смольное под Ленинградом прямо в Приозёрск, что в пяти минутах лёта от границы. А Дымшиц летал на таких самолётах и знал, что топлива хватит на 600 км… В общем, наживка сработала, и Дымшиц стал искать сообщников.
Познакомился с Эдуардом Кузнецовым, который к тому времени уже успел отсидеть «за антисоветскую деятельность». Вместе с членами семей и друзьями набралось 16 человек. Из них всего двое русских — Юрий Федоров и Алексей Мурженко, с которыми Кузнецов познакомился в Дубравлаге. Они туда угодили за участие в подпольной студенческой группе «Союз свободы и разума». Когда перед выездом на аэродром стало известно, что КГБ в курсе событий и арестует всех ещё до посадки, Кузнецов им сказал: «Ясно, что улететь не удастся. Вы не евреи, зачем вам подставлять себя ради еврейской проблемы эмиграции в Израиль? Мы не будем обижаться на вас, если вы сейчас не выступите с нами». Но те ответили: «Раз мы пошли с вами, — пойдём до конца».
В 12-местный Ан-2 сразу все не помещались, и оставшаяся четвёрка должна была сесть в Приозёрске, в уже захваченный самолёт. Экипаж состоял всего из двух пилотов, причем после посадки один из них выходил в салон, чтобы открыть дверь для выхода пассажиров. В этот момент было решено накинуться на экипаж и связать пилотов. Но только чтобы не причинить им вреда: аккуратно упаковать в спальные мешки и оставить на поле под тентом. Теперь управлять самолётом должен был Дымшиц. Предполагалось на малой высоте перелететь границу, приземлиться в Швеции и сдаться властям. А потом устроить пресс-конференцию о положении евреев в СССР в надежде, что это заставит советские власти изменить политику.
15 июня 1970 года заговорщики с билетами на рейс до Приозёрска выехали на аэродром. Слежку заметили ещё по дороге, но ничего отменять не стали. И вот на поле вышли пассажиры предыдущего рейса. Все молодые, коротко подстриженные, с одинаковыми чемоданчиками в руках. Когда объявили посадку, то не успела еврейская «свадьба» подойти к самолёту, как эта молодёжь покидала свои чемоданы, набросилась на несостоявшихся угонщиков и быстро их скрутила. Тут же подъехали чёрные «волги», по одной на каждого пассажира, в них рассовали задержанных. То же самое проделали и в Приозёрске с напрасно ожидавшей четвёркой.
Дело осложнило и такое обстоятельство: в октябре того же года отец и сын Бразинскасы угнали самолет в Турцию, убив при этом стюардессу. ООН приняла резолюцию о борьбе с угонами самолетов. Хоть суть дела тут совершенно разная, но советский народ был настроен против всевозможных террористов-угонщиков. Вот на этом фоне в середине декабря начались слушания по «Ленинградскому самолетному делу». Посторонних в зал суда не пускали, что-либо записывать запрещалось.
Записи запрещали не зря, потому что было что скрывать. Суд признал всех виновными (точнее, двенадцать: детей и кое-кого из женщин отпустили) в измене Родине, хищении государственного имущества в крупном размере (имелось в виду похищение самолета), участии в антисоветской организации и антисоветской агитации. Похоже, что в уголовный кодекс не заглядывали. Между тем, статья 64 УК РСФСР определяет измену Родине как «деяние, умышленно совершенное гражданином СССР в ущерб: а) государственной независимости, б) территориальной неприкосновенности или в) военной мощи СССР». Ясно, что «деяния» угонщиков, которые и к делу-то приступить не успели, никак не угрожали целостности, независимости и военной мощи страны.
Хищение имущества? Самолёт как имущество никому не был нужен. И его бы, конечно, вернули. Но на такие формальности судьи внимания не обращали. Что же касается антисоветчины, то под эту статью часто шла всякая самодеятельность, не одобренная властями. Да и задача юристов была далека от правосудия: предстояло отбить охоту к таким делам у всех, желающих уехать. Ничего, что преступление так и не совершилось — зато свершится наказание.
Но намерение-то было? О намерении — чуть позже, хотя судили не за него. А пока Дымшица и Кузнецова приговорили к расстрелу, а остальных — к большим срокам заключения. Фёдорова и Мурженко, как ранее судимых, признали особо опасными рецидивистами и дали 15 и 14.
Мир внимательно следила за процессом. На следующий день президент США Ричард Никсон звонил Брежневу с просьбой отменить казнь. Но решающую роль сыграл… испанский диктатор Франко. В конце 1970-го суд в Мадриде приговорил к смерти двух баскских террористов. Премьер-министр Израиля Голда Меир направила Франко личное письмо, в котором напомнила ему о его еврейских предках, поблагодарила за спасение десятков тысяч евреев в годы Второй мировой войны и попросила помиловать осуждённых, полагая, что СССР не захочет быть кровожаднее «кровавого диктатора».
Так и вышло. Через неделю Верховный суд спешно рассмотрел кассационные жалобы, заменил смертные приговоры на 15 лет строгого режима, а остальным немного укоротил сроки.
И всё же «самолётный процесс» дал совсем не тот результат, на который рассчитывали в КГБ. В Израиле, США и Западной Европе стали проходить демонстрации с требованием разрешить советским евреям свободный выезд из СССР. К тому же призывали и западные политики. И советское руководство дрогнуло. Уже в начале 1970-х выездные визы получили десятки тысяч евреев.
Да и почти всех угонщиков освободили досрочно. В 1978 году в США приговорили к 50 годам тюрьмы двух провалившихся советских шпионов. Через год их обменяли на пятерых диссидентов, в том числе Дымшица и Кузнецова. Досрочно освободили и выслали из страны большинство «самолетчиков». Но больше всех досталось Федорову и Мурженко. Пока мировая общественность боролась за решение еврейских проблем, про русских просто забыли. Они отсидели своё полностью, а Мурженко ещё и добавили пару лет «за нарушение режима надзора»: не отметился вовремя в отделении милиции.
Спустя 17 лет после несостоявшегося угона все участники операции оказались, наконец, за границей. Их приветствовали десятки тысяч наших эмигрантов, которым проложил дорогу тот так и не взлетевший «кукурузник». Как заметил израильский политик и бывший советский политзаключённый Натан Щаранский, Дымшицу не удалось поднять самолет, но удалось «поднять большую армию из Советского Союза».
Впрочем, сами «самолётчики» утверждали, что угон самолёта был вовсе не главной их целью, потому и на конспирацию внимания не обращали: «Это была акция, нацеленная на привлечение внимания Запада к запрету эмиграции из СССР. И она оказалась успешной — после международного скандала, вызванного смертным приговором Марку Дымшицу и мне, Кремль сильно попятился в вопросе о выезде из страны. Именно тогда и началась массовая эмиграция евреев и русских немцев», — говорил Эдуард Кузнецов. Потом добавил: «Угона не было. И намерения такого не было… Устроили показуху, переиграли КГБ».
Судя по результатам, так оно и было.
Валентин Зосимов
Его побег, в общем, удался. Тем более, что сделать это, имея под рукой самолёт, было не так уж и трудно. Но потом в дело вмешались политики, и тут уж беглец не мог повлиять на ход событий.
Зосимов служил лётчиком-истребителем в звании старшего лейтенанта. Потом за какой-то проступок, который власти держат в секрете, его разжаловали до лейтенанта, отправили в запас и перевели вторым пилотом в гражданскую авиацию. Так он оказался в авиапочте и счёл это унижением. 23 сентября 1976 года, взлетев с аэродрома в Азербайджане на почтовом самолёте Ан-2, он перелетел в Иран и сел на аэродроме вблизи города Ахара. После приземления попросил политическое убежище.
Первыми о побеге сообщили зарубежные новостные агентства. Наше посольство в Иране подтвердило факт побега, но без подробностей. А потом посол Владимир Ерофеев заявил официальную ноту протеста иранскому правительству и потребовал возвращения перебежчика как военного дезертира.
Подобное случалось и раньше, но на этот раз угрозы со стороны и СССР и давление на Иран было небывалым. Чтобы другим было неповадно, советские руководители пренебрегли дипломатическим этикетом и перешли к угрозам.
Дело в том, что Зосимов бежал через семнадцать дней после успешного побега старшего лейтенанта Виктора Беленко, который получил убежище в США. Наше руководство посчитало, что это опасный прецедент, а побег Зосимова уже намекал на систему, которую надо пресечь на корню.
Чтобы предотвратить эпидемию побегов, власти пригрозили поддержать деньгами и начать поставки оружия сепаратистам в Иране (азербайджанским и курдским) и повстанцам-оппозиционерам. Один из высокопоставленных дипломатов намекнул шаху, что «советско-иранская граница слишком длинная, чтобы предотвратить случаи её перехода в ту или иную сторону местными партизанами». А наши приграничные войсковые части были приведены в повышенную боевую готовность.
Шах Ирана Мохаммед Реза Пехлеви оказался между двух огней. С одной стороны, в соответствии с советско-иранским договором о борьбе с преступлениями на авиационном транспорте иранские власти были обязаны выдать Зосимова как угонщика воздушного судна. С другой стороны, согласно международной Конвенции о статусе беженцев, которую подписал и Иран, ему должны были предоставить политическое убежище. Причём конвенция считалась важнее, поскольку она не двусторонняя, а международная.
За Зосимова заступились несколько международных правозащитных организаций, Верховный комиссар ООН по делам беженцев, а дочь Сталина Светлана Аллилуева написала открытое письмо шаху с призывом не допустить возврата лётчика в СССР.
Шах, взвесив все за и против, счёл за благо уступить советским требованиям, упаковав это решение в пристойные дипломатические формулировки. Уступку щедро оценили: торговое соглашение на миллиарды долларов, «пустяки» вроде электрификации иранских железных дорог и строительство теплоэлектростанций и даже вещи посерьёзнее — например, передача технологий по созданию собственного ракетного оружия. И ещё много чего.
Что же касается издержек, то ООН осудила действия иранского правительства, а верховный комиссар в ноте протеста заявил, что он «глубоко сожалеет».
Шаху же его прагматичная политика не помогла: через три года монарха свергли, и он успел бежать с семьёй за границу до того, как его приговорили к смерти. Потом кочевал по чужим странам, лечился и через год умер.
А Валентин пережил шаха. Его судили, дали 12 лет, которые отбывал в пермской колонии. По свидетельству сидельцев, вёл себя достойно, участвовал в массовой голодовке и забастовке политзаключённых в поддержку товарища, которому отказали в медицинской помощи после обострения болезни. Дальше следы Зосимова теряются (власти, как водится, на запросы журналистов отвечают, что «не в курсе»). В 1985-м он ещё был в колонии, а срок истекал в 1988-м. Ему было бы всего 49 лет.
Семья Овечкиных
8 марта 1988 года джазовый ансамбль «Семь Симеонов» (семь братьев Овечкиных, а ещё их три сестры и мать, Нинель Сергеевна) сел в самолет Ан-154, который собирался лететь по маршруту Иркутск — Курган — Ленинград. Симеоны собирались лететь дальше, в Лондон. Если б они знали, что мать и четырёх братьев через несколько дней похоронят под номерами в деревушке Вещево неподалёку от Выборга, то, наверное, выбросили бы обрезы и бомбу тут же, а аэропорту. Но никаких вещих озарений перед тем рейсом так и не произошло, и все решения они принимали сами, без давления потустороннего разума. А когда спустя годы оставшиеся родственники приезжали в Вещево, то не нашли даже могил.
Это была самая громкая и самая кровавая попытка угона пассажирского самолёта. Погибли 9 человек, 19 ранены. Из этих девяти пятеро угонщиков застрелились сами и убили стюардессу. Остальные жертвы — дело рук спасателей.
В то время опыта таких операций не было, и дело поручили милиционерам, привыкшим бороться с хулиганами. И вот они проникли в кабину пилотов, резко распахнули дверь в салон и начали беспорядочно стрелять. В угонщиков не попали, зато ранили трёх пассажиров. А музыканты ответным огнём ранили двоих спецназовцев, и тех через окно вытащили из самолёта. Другая группа проникла в багажное отделение и начала палить через пол. Ранили самого младшего из «Симеонов», девятилетнего Серёжу, который ещё недавно умилял зрителей игрой на банджо… Он так и не понял, что происходит.
Они требовали лететь в Лондон, но самолёт был заправлен только до Ленинграда. Бортинженер Ступаков вышел в салон и убедил Овечкиных, что нужно дозаправиться на территории Финляндии. Те согласились, не зная, что оперативный штаб всего лишь пытался схитрить. Через несколько минут это решение обернётся первыми трупами. Садиться было решено на военном аэродроме, в двух десятках километров от Выборга. Командир запрашивает землю: какие рекомендации? И слышит: «Тянуть время!» Тянуть его предстояло Тамаре Жаркой. Когда самолёт стал разворачиваться чуть ли не в обратную сторону, угонщики сильно забеспокоились. Но Тамара им объяснила, что это манёвр перед посадкой в финском городе Котка. Сели. И тут Овечкины увидели бегущих к самолёту солдат. Советских. Людей, поставивших на карту не только свои жизни, такая ложь возмутила, и бортпроводница стала их первой (и единственной) жертвой.
Когда выяснилось, что их обманули, братья стали ломать дверь пилотов и требовали немедленно взлетать. Но штурм уже начался…
Положение Овечкиных стало безвыходным. Братья окружили 19-летнего Сашу, который держал в руках бомбу, в надежде погибнуть от взрыва. Но самодельная пиротехника подвела и погиб лишь сам взрывник. Тогда остальные начали убивать себя сами.
Первым выстрелил Дмитрий. Затем Олег. Тогда обрез зарядил старший, 26-летний Василий. Мать любила его больше всех. Только ему прощала когда-то шалости и капризы, только на него надеялось в самолёте. И только ему доверила выстрелить в себя. Сын это сделал и застрелился сам.
Из взрослых угонщиков самым младшим был Игорь. Умирать в семнадцать лет он не хотел. А когда увидел, как у матери от выстрела развалился череп, то убежал и заперся в туалете. (Потом на суде у него всё добивались, почему не застрелился. А он по молодости лет и не знал, что ответить).
Начался пожар, а на аэродроме, который предусмотрительные спасатели выбрали для операции, была всего одна пожарная машина. Пассажиры сумели открыть спасательный люк и начали прыгать на бетонную полосу с четырёхметровой высоты, ломая ноги. Спасения не было и там, потому что люди в военной форме уложили всех на землю и приказали не шевелиться. Один шевельнулся, но быстро перестал — ему тут же прострелили позвоночник. И били всех, в то числе и женщин. На всякий случай: ведь среди них могли оказаться угонщики.
Лупили сапогами по головам, прикладами и крепко матерились, потому что дело серьёзное. Пока из Выборга приехали пожарные, самолет успел сгореть. Кто мог, те спаслись. А в салоне потом нашли девять обугленных трупов — пятерых Овечкиных, стюардессы и трёх пассажиров, нечаянно попавших под пули группы захвата.
Через год снимали фильм об этих событиях и съёмочная группа попросила полковника Быстрова, который в тот день командовал оперативным штабом, прокомментировать ход операции. Тот ответил по-военному чётко и кратко:
— Зачем я буду вам что-то комментировать? Что за дела? Я сейчас в обком позвоню. Ясно вам или нет?
Ясно, что спасатели не имели опыта и не были готовы к работе. Со временем опыт появился. Вот цифры:
1995 г. — в Будённовске погибло 129 человек погибли, 415 ранены.
2002 г. — теракт на Дубровке в Москве — 130 человек погибло, ещё 119 скончались в больницах.
2004 г. — Беслан — 333 погибли, более 800 ранено.
Законодатели опыт учли и приняли закон «О противодействии терроризму». Чтобы делу не мешали разные прекраснодушные знаменитости, вроде депутатов, артистов и журналистов, переговоры доверили людям, специально на то уполномоченным. Причём ни о каких политических требованиях террористов речь идти не может (во всех этих случаях требование было именно политическим — прекращение войны).
Если спасатели оказались непрофессионалами, то и сами угонщики были откровенными дилетантами. План придумали вроде бы безобидный: показать оружие, припугнуть… Не будут же из-за каких-то Овечкиных рисковать жизнями пассажиров. Вот тут-то они и ошиблись. Психологический расчёт в аэропорту оправдался, там были всем знакомые «Симеоны», а в небе — нет. На земле имели дело с абстрактными «террористами» и такими же безымянными пассажирами.
Да и куда собрались лететь угонщики? В Лондоне за такие дела дают пожизненное, а в лучшем случае могли отправить назад.
И всё же у пилотов в инструкции для подобных случаев был и такой пункт: «в исключительных случаях выполнить требования угонщиков». Вот народный заседатель на суде и спросила у командира корабля:
— Вы пытались выполнить их требования?
— Я не понимаю, зачем их требования было выполнять.
— Как зачем? Ну, может, не было бы такого результата.
— Я считаю, что лучший исход был сесть в своей стране, на своем аэродроме, — сказал Куприянов.
Чем обернулся этот «лучший исход» мы уже видели. Зато добились главного: показали, кто хозяин на земле и в небе. И чтоб другим неповадно было. 9 трупов и 35 человек ранено — зато ни один предатель не покинул родину.
Да и опыт всё-таки был. Помните, что сказал восемнадцать лет назад командир корабля Георгий Чахракия, которому пуля Бразинскаса попала в позвоночник? «Если потеряю сознание, ведите корабль по требованию бандитов и посадите. Надо спасти самолёт и пассажиров!»
Но в восьмидесятых думали уже иначе. В адрес суда приходили гневные письма трудящихся:
«Не судить, а привязать на площади к верхушкам берез и разорвать на части» — пишет педагог (напомним: из 11 Овечкиных — пятеро несовершеннолетних).
«Всех расстрелять с показом по телевизору» — это воин-интернационалист.
«Просим вынести высшее наказание расстрел, чтобы знали, что такое Родина» — письмо парторга по поручению партсобрания.
Суд не прислушался к просьбам и дал смехотворные сроки: 17-летнему Игорю — восемь, а беременной Ольге всего шесть (она, кстати, была против угона и безуспешно пыталась отговорить остальных). Да и то вышли досрочно: в девяностые страна становилась другой.
Что же не устраивало угонщиков?
Нинель Сергеевну не устраивало многое. Лишилась родителей, когда ей не было и шести. Отец погиб на фронте, мать осталась одна с пятью детьми. А через год пьяный сторож застрелил её на колхозном поле, откуда она пыталась вынести несколько картофелин. Росла в детском доме, откуда вышла деспотичной и нацеленной на выживание. Работала продавщицей. Вышла замуж, через год на свет появилась Людмила. Вторая дочка родилась мертвой, и мать поклялась: «Никогда не убью в себе ни одного ребенка. Буду рожать всех». За четверть века родились ещё десять.
Муж пил. Сосед вспоминает: «Мужа своего, Митьку, сильно терроризировала. Стоило мужику выпить 50 грамм, так ору было на всю округу. Он, хотя алкашом не был, выпивал иногда крепко». Учтём, что «крепко» — это даже по сибирским меркам. Потом умер, оставив одиннадцать детей.
Это была семья, где младшие подчинялись старшим, а все вместе — матери. С её одобрения мальчики пошли в музыкальную школу, а девочки — по материнским стопам, в торговлю. Хотя у старшей, Людмилы, поначалу были другие планы — журналистика, даже писать пробовала… Но мать мыслила рационально: «Выбрось эту дрянь из головы и займись-ка лучше огородом».
Людмила вышла замуж и жила отдельно. О планах побега, похоже, не знала, и на суде выступала свидетелем. (Она же и стала опекать четырёх малолетних сестёр и братьев. Потом и племянницу, Ольгину дочку. Вдобавок к своим троим).
Между тем, материнские планы сбывались. Им дали две трёхкомнатные квартиры, но дом с участком на окраине Иркутска пустовал, хозяйства уже не было, и денег не хватало. Выступать за плату не разрешали, хотя на сцену приглашали охотно. Зато ансамбль побеждал на музыкальных конкурсах, о нём писали и снимали кино. Даже в Гнесинское училище приняли, но не заладилось. Способности у всех оказались разные, старания — тоже. В общем, бросили это дело. Да и зачем, когда впереди гастроли…
Однажды даже в Японию съездили. Токийская жизнь после иркутской произвела, мягко говоря, сильное впечатление. Да ещё и опекуны из КГБ расслабились и братья успели познакомиться с каким-то серьёзным человеком, который пообещал им хороший контракт со студией звукозаписи в Лондоне. Тогда братья решили сразу же ехать в посольство, но денег не было, а за золотое кольцо таксист не повёз. Да если б даже всё удалось, невозвращение означало проститься навсегда и с матерью, и сёстрами (не считая разных неприятностей для родственников). Вот тогда и решили подготовиться к побегу основательно, а уж потом всей семьёй — сразу в Лондон… Дома точку поставила мать: «Уезжать — так всем. Умирать — тоже вместе». На случай неудачи тоже договорились: «Вы убьёте меня и застрелитесь сами», — решила Нинель Сергеевна. Она была мозговым центром операции.
И вот 8 марта полетели в Ленинград на гастроли. Подготовились основательно. Вещи распродали, зато обзавелись обрезами, патронами, сделали самодельные бомбы. Контрабас нашпиговали оружием, и поскольку он едва проходил через металлодетектор, в аэропорту, где музыкантов, конечно, узнали, не стали придираться и ограничились внешним осмотром. После дозаправки в Кургане старшие братья встали, достали обрезы и, приказав всем оставаться не местах, передали стюардессе записку с требованием лететь в Лондон.
Остальное известно.
Жизнь у Овечкиных расстроилась окончательно. Наказаны не только погибшие и отсидевшие, но и все остальные.
Ольгу колония не исправила, не для того она создана, а только покарала и испортила.
— Это был уже совсем другой человек. Грубая, наглая, злая. Забрала она дочку в Иркутск. Связалась с каким-то Фазилем. Устроила Ларису в коммерческий садик, потом в платную школу. Девочка совсем плохо училась. А однажды приехала я к ним, смотрю, Лариска вся грязная, голодная, а Ольга у соседки водку пьет и говорит мне: «Зачем ей учиться, она и так красивая. Пораньше замуж выйдет», — рассказывала старшая сестра.
Сожитель скоро её и убил. И Ларису снова взяла к себе тётка. Черемхово, где живёт Людмила, — это шахтёрский городок почти в двух сотнях километров от Иркутска. Там пьют много и регулярно, и вечером улицы пустеют. Каждый месяц пропадают дети, которых никто не находит. Электричка до Иркутска ходит трижды в сутки, и хорошие хозяева на вечерний поезд гостей не пускают: «На нём только самоубийцы ездят».
Игорь тоже пил, был арестован за распространение наркотиков и умер в следственном изоляторе. Самый талантливый, Михаил, уехал в Испанию, играл в уличных джаз-бандах, а после инсульта стал инвалидом. Живёт в барселонском хосписе. Пила и младшая Ульяна. Бросалась под машину, но выжила и стала инвалидом. На это пособие и живёт.
У Сергея пуля в ноге до сих пор. Операцию врачи решили не делать: организм-де со временем сам отторгнет ненужное. Попробовал поступить в музыкальное училище в Иркутске. Ему сказали: «Знаешь, твоя фамилия ещё на слуху, так что приходи лучше через годик». Три года пытался и всё без толку. Впрочем, это его версия, а в училище объясняют иначе: мол, просто бесталанный. Но в любом случае жить здесь с такой фамилией нелегко, многие её сменили. Игорь — нет: «Я горжусь своей фамилией, никогда её не поменяю. Это мой род».
Кстати, старшей сестре накануне суда власти предлагали публично отречься от матери, но она не согласилась.
…Как сказала Людмила, жить лишь бы жить не хотелось. А мечты их были очень просты: маленькое семейное кафе, где женщины готовят еду, а братья угощают музыкой. Через пару лет такое будет вполне возможно, но кто ж знал?
Есть такая русская сказка про семь Симеонов, братьев-близнецов с одинаковыми именами и разными талантами. Там не бывает ссор, и нет такого дела, с которым бы дружные братья не справились. Старший брат Вася вычитал её в «Родной речи» и когда создавал свой ансамбль, название было уже под рукой. Единственное существенное отличие Симеонов от Овечкиных лишь в том, что сказочным братьям и на своей земле было хорошо.
И ещё многие неизвестные
Способы разные, а результат один
Георгий Поляков давно мечтал вырваться из страны. В 1970 году с железнодорожной станции Выборг угнал локомотив и направился в Финляндию. Пограничники локомотив обстреляли, а беглеца ранили и арестовали. За это он получил первые семь лет лагерей.
После освобождения его мечты были всё те же. Пытался перейти границу на Кольском полуострове, но в нескольких сотнях метрах от неё помешал пограничный наряд. Дали ещё пять, уже строгого режима.
Тогда Георгий задумался о душе и принял христианство. После освобождения работал на стройке. От побега не отказался и в 1990-м повторил попытку. На этот раз решил угнать в Швецию самолёт, летевший Архангельск. Только угонщика обманули: под предлогом заправки сели в Архангельске, где его и скрутили. Итог — 8 строгих лет. Ну, а после этого срока бежать уже не имело смысла: двери открыты.
Споря с морем
Врач Анатолий Бутко в 1970 году приехал в Батуми и купил билет на круизный теплоход до Сочи. Взяв с собой надувной круг, флягу с водой и шоколад, ночью выпрыгнул в море. Он собирался доплыть до Турции, её огни были хорошо видны. Чуть не попал под форштевень пограничного катера, над головой летали патрульные вертолеты, но темнота и волны скрывали беглеца. Правда, эти же волны и ветер мешали плыть.
Анатолий выбился из сил и к утру потерял сознание. Очнулся днем на пляже в Поти. Спасатели вызвали пограничников, Бутко арестовали. Он не учёл сильное встречное течение от турецкого берега к Туапсе, что подводило многих беглецов.
Год провёл в психбольнице. После освобождения увлёкся поэзией, но не всякой поэзией стоило тогда увлекаться: за чтение антисоветских стихов снова оказался в больнице, теперь уже на четыре года. Врач, он же и пациент, оказался упрям и не оставил мысль об эмиграции. И даже стал подумывать об угоне самолёта.
На этот раз Бутко не учёл уши доносчиков. Его упрятали в Днепропетровскую спецпсихбольницу, где он и погиб в 1984 году.
Последний бой
19-летний Алексей Сафронов из Евпатории службу проходил в ГДР. Бывал в увольнительных, и на сэкономленные марки покупал книги на русском — «Собачье сердце» Булгакова, «Технологию власти» Авторханова… Читал, сравнивал, задумывался. Подружился с таким же задумчивым солдатом, недавним студентом Сергеем Колмаковым, вместе обсуждали прочитанное. И вот однажды товарищи из особого отдела обнаружили эту запрещённую библиотечку. Шел 1970-й год, и дело пахло арестом. Тогда друзья решили бежать на Запад.
Спустя много лет Сафронов так объяснял это решение: «К самой власти я претензий не имел, меня не устраивала система управления. Было неудовлетворение какое-то, раздражение от того, что навязывается идеология, что кто-то думает и решает за тебя. События в Чехословакии, когда СССР ввел туда войска, заставили ещё больше призадуматься. Ведь люди-то всего-навсего хотели жить по-человечески, увидеть, что социализм может быть с человеческим лицом…»
К побегу подготовились. Достали старую штабную карту, запаслись и продуктами (на складе служил земляк-евпаториец). И когда друзей отправили в караул и выдали патроны, то солдаты остановили машину и приказали немцу ехать по намеченному маршруту — к границе с ФРГ. Даже заплатили ему за транспортные услуги, хоть и понимали, что тот доложит о своих пассажирах у ближайшего полицейского поста. Не ошиблись: после трехдневного марш-броска, у самой границы их настигла погоня. Парни сдаваться не хотели и приняли бой. Друга ранило, и он кричал, чтобы Алексей уходил один. Потом застрелился. А Сафронов отстреливался до последнего патрона, пополняя букет обвинительных статей. В итоге всё это потянуло на 12 лет строгого режима.
После освобождения взялся навёрстывать упущенное. Работал в Евпатории художником-инкрустатором на мебельной фабрике. Женился. Заочно закончил институт. О случившемся не жалеет: говорит, что провёл время в интересном и интеллектуальном обществе (политических держали отдельно).
Может, и приукрашивает.
Очень хотел в Израиль
Валерий Закс из Днепропетровска долго добивался выезда в Израиль, но постоянно получал отказ от советских властей. С работы уволили. Доведенный до отчаяния, решил, что единственное средство вырваться на свободу — угнать самолет.
15 октября 1978 года из симферопольского аэропорта рейсом в Тернополь вылетел Ан-24 с 42 пассажирами на борту. Через несколько минут после взлета Валерий открыл стрельбу из пистолета и, угрожая взрывом, потребовал лететь в Турцию. Экипаж не подчинился, и вернул самолёт в Симферополь.
22-летнего угонщика признали невменяемым и поместили в спецпсихбольницу Днепропетровска. Через год на медкомиссии парень поинтересовался, когда его отпустят. В ответ начальник медицинской части авторитетно заявил, что тот «подохнет на спецу». После этого пациент впал в депрессию и решил все проблемы, бросившись с четвёртого этажа.
Шутка на границе дозволенного
Крымчанин Александр Канафьев четырежды пытался перейти границу. Дважды ему везло. Вот только не ту границу он выбирал…
Физическая подготовка вполне соответствовала задаче: служил в десантных войсках, был членом спортивной сборной ВДВ. Окончил факультет физвоспитания Симферопольского университета, приглашён в аспирантуру. Работал инструктором в санатории Минобороны. А в 1978 году на надувной лодке попытался уплыть в Турцию.
Больше суток его болтало в море, а потом шторм выбросил обратно на берег. Прямо в руки пограничников, которые передали его в областную психбольницу. Продержали там недолго, и он вскоре переехал в Одессу и устроился на завод литейщиком. Но «компетентные органы» о нём не забыли — слежка, провокации… Тогда сменил направление и в том же году успешно перешёл границу с Румынией. Добрался до Бухареста, а поскольку был евреем, пришёл в синагогу и попросил помочь эмигрировать в Израиль. И вот вместе с раввином они отправились в израильское посольство, где румынская спецслужба его и арестовала.
Беглеца передали советским пограничникам. Канафьев заявил, что он-де иностранный агент и в приграничной полосе закопал рацию. Пошли искать. Вот тут-то нарушитель и доказал, что бывших десантников не бывает: сбежал вместе с наручниками.
Потом двинулся в Азербайджан, намереваясь из Ленкорани на надувной лодке доплыть до Ирана. Но к тому времени его фотография уже висела на всех пограничных постах, и заплыв окончился в Днепропетровске, в психбольнице. Там его держали до самой перестройки, до 1985-го (если не считать неудачный побег в 1982-м, когда он умудрился сбежать из больницы и направился в Румынию, но был снят с поезда).
И всё же до границы добрался уже на следующий год после освобождения. Благополучно её перешёл, а на колючей проволоке оставил портрет знаменитого Карацупы с надписью: «Советским пограничникам с пожеланием успехов в их нелёгкой и почётной службе. С уважением Александр Канафьев». Прошёл два десятка километров по румынской земле, но снова попался: сторожа увидели, как кто-то пробирается по кукурузному полю и бросились спасать созревшие початки. И снова общение с чекистами из Секуритате, с репутацией самой жестокой спецслужбы народных демократов Восточной Европы. Потом передали нашим пограничникам, и те от души избили его за шутку с Карацупой. Да и потом мучили так, что в следственном изоляторе Одессы десантник и физкультурник пытался покончить с собой. Но вовремя взял себя в руки, потому что на этом испытания не кончились. В уже знакомой днепропетровской больнице люди в белых халатах пообещали, что будут держать его тут до смерти. Да только умирала уже сама карательная система, и в 1988-м его освободили.
Тогда Александр отказался от эмиграции, и решил бороться с режимом у себя на родине. Был активистом таких организаций, как «Добрая воля» и «Народный фронт Крыма». В одиночку вышел на демонстрацию против ГКЧП в 1991-м. Земляки в погонах снова избили его не на шутку.
Смертельная болезнь не дала ему дожить и до 42-х лет. В последний путь его провожали тысячи людей, как народного героя.
Очень долгий марафон
Путь Олега Софяника в диссиденты был очень короток. Ещё в седьмом классе севастопольской школы он писал на радиостанцию «Немецкая волна», а по адресам из телефонного справочника рассылал открытки с призывами к борьбе с существующим строем. В том же 1977-м КГБ провел с ним профилактическую беседу.
Спустя два года создал подпольную группу «Комитет борцов за свободу», которая распространяла листовки аналогичного содержания. Его арестовали, трое суток продержали в камере, на него посмотрели психиатры, но признали вменяемым. А поскольку не было ещё 16-ти, то отпустили под родительский надзор, дав необходимые педагогические советы.
Не помогло. Когда Олег окончил школу и поступил в институт, то вскоре первокурсника-севастопольца задержали в Москве после встречи с сотрудником американского посольства. Студент хотел рассказать иностранцу о своей жизни и попросить помочь выехать из страны. Но после допроса парню помогли быстро выехать из столицы на родину.
Потом началась история с призывом в армию. Дважды бежал с призывного пункта, а на третий раз его всё-таки определили в стройбат, в Тулу. Там он публично отказался служить и пояснил: «По политическим мотивам». За такие мотивы его в тот же день определили в местную психбольницу и поставили надёжный диагноз: «вялотекущая шизофрения».
Этот диагноз, который изобрёл советский психиатр Снежневский, очень подходил для всевозможных несогласных, и получил распространение только в СССР и близких по духу соседних народных демократиях. Шизофренические симптомы отсутствуют, зато есть «косвенные клинические проявления»: человек добивается справедливости — налицо «бред сутяжничества», жалуется на слежку и прослушивание телефонных разговоров — «бред преследования», отстаивает свои взгляды — одержим «сверхценными идеями» и т. п. Такое достижение научной мысли не признали ни международное психиатрическое сообщество, ни Всемирная организация здравоохранения, а использование его в политических целях в качестве инструмента карательной психиатрии категорически осуждено. По данным Международного общества прав человека, в целом по нашей стране больными этим политическим недугом признали около двух миллионов человек. Снимать диагнозы стали только в 1989 году, чтобы замять международный скандал.
Но полечить Софяника всё-таки успели. Он даже восстановился в институте, да только жить в СССР ему было невыносимо. В октябре 1985-го купил билет на круизный пароход, шедший из Одессы в Батуми. Взял с собой надувную лодку, и в октябрьскую ночь прыгнул за борт. До Турции так и не доплыл: на третьи сутки, когда до берега оставалось километров двадцать, его выловил сторожевой катер. На вопрос, почему выбрал такой рискованный способ бегства, ответил, как думал: «Лучше погибнуть в море, чем жить в Советском Союзе». Ясно, что от таких мыслей поможет только лечение. И его два года лечили. Но, видно, не вылечили, потому что вскоре после выписки задержали у французского посольства в Москве, где он рассчитывал получить убежище.
Много лет спустя Олег вспоминал этот эпизод:
— У меня всегда было обостренное чувство свободы. Я не мог жить в стране, где закрыты границы и действуют бесчисленные запреты. Потом я узнал, что выбрал не совсем удачное место для побега. Мешает сильное встречное течение, справиться с которым смог только один диссидент — Петр Патрушев.
Дальше — больше: в 1988-м отправил властям заявление с отказом от советского гражданства. И лечение продолжилось… Правда, недолго, потому что перемены проникали и сквозь запертые двери этих специфических учреждений.
А Софяник продолжил свои дела. Поступил в общественную организацию «Свобода эмиграции для всех», сотрудничал с газетой «Экспресс-Хроника». Вступил в партию «Демократический Союз» Валерии Новодворской и возглавил севастопольское отделение. Президент неформальной группы «Ассоциация бывших политзаключенных». Собрал сотни историй о побегах из СССР, некоторые из них попали в эту книгу.
Он ещё и спортсмен, занимается марафонским плаванием, президент клуба «Дельфин», объединяющего любителей этого спорта. В планах — заплыв по маршруту из крымской Ялты в турецкий Синоп (287 км).
А пока в российском Крыму у Софяника появились другие проблемы. Борцы с экстремизмом из ФСБ уже устроили обыск в его квартире, изъяли солженицынский «Архипелаг Гулаг» (снова запрещён?) Олег опасается, что эти борцы могут подбросить и наркотики, и оружие. Кстати, и на приём в психбольницу вызывали. Специалистам по человеческим душам этот пациент запомнился надолго.
Охота на Чёрном море
Владимир по фамилии Роман служил в армии в Подмосковье, но мечтал бежать на Запад. Дезертировал из части и нелегально приехал в родной Невинномысск к своему ровеснику Юрию Силенко. Они дружили с детства, вместе занимались в радиокружке. Друг к советскому строю относился критически, даже написал на эту тему книгу, которую мечтал опубликовать. Вот и решили они уплыть по Черному морю в Турцию.
В августе 1989 года друзья отправились в Туапсе. Сняли квартиру, присмотрели на причале базы быстроходный катер. Три дня наблюдали за пограничниками, изучая систему охраны, запаслись топливом.
В одну из августовских ночей решили, что пора. Незаметно проникли на базу, оттянули катер подальше с мелководья, и малым ходом двинулись вдоль побережья. Когда по воде заскользил луч пограничного прожектора, увели катер за ближайший пирс и пограничники их не заметили. Сходили на берег, рассчитались с хозяйкой квартиры и притащили канистры с бензином, дозаправились. А ранним утром вышли в открытое море. Оператор пограничного радара заметил лодку, но подумал, что это вчерашние рыбаки, у которых сломался мотор, возвращаются на базу. Беглецам везло: пропажу катера обнаружили, когда они уже несколько часов мчались по морю.
Между тем, пограничники устремились на перехват. Рассчитали район поиска, но всё равно опаздывали и подняли авиацию. Наконец увидели катер с двумя людьми на борту, который на полной скорости приближался к турецкому берегу. Требование остановиться беглецы игнорировали, а оружия у экипажа самолёта не было. Подняли в воздух вертолёт, чтобы зависнуть и помешать судёнышку воздушным потоком.
До территориальных вод оставалось совсем немного, и пограничники занервничали. Тогда открыли огонь, и катер остановился. Но как только вертолёт отвернул, он снова помчался вперёд. И снова стрельба. Только теперь уже вертолёт завис над добычей, поджидая сторожевик. Когда тот показался на горизонте, друзья сделали последнюю отчаянную попытку уйти. А тут ещё топливо у вертолёта на исходе… И стратеги из военного совета погранокруга решение открыть огонь на поражение. То есть пристрелить наглецов-беглецов. Старший лейтенант Илатовский дал снайперскую очередь, катер вспыхнул. За борт полетела рукопись книги, способной удлинить срок. Надев спасательные жилеты, парни выпрыгнули за борт. Уже другой катер, под командованием капитан-лейтенанта Косицына, был на подходе, и беглецов подняли на борт.
Психиатры признали целеустремлённых молодых людей вполне вменяемыми и оправили Романа за решётку на 12 лет (добавили ещё за дезертирство), а друг получил на год меньше.
Не говори гоп…
Шамиль Алимурадов вырос в Баку. Окончил высшее лётное училище и Академию гражданской авиации, летал на Ан-24. Профессия нравилась, чего не сказать о том, что происходило в СССР в 1970-е с её пропагандистским календарём — годами решающими, определяющими, утешающими… Несколько раз отправлял в президиум Верховного совета заявление, в котором просил разрешить ему выезд из страны. Ответа не дождался, и в 1983-м попытался пройти в посольство США. Был задержан и отправлен на консультацию психиатрам. Оказался здоров и даже продолжил работу.
И вот 19 декабря 1985 года во время рейса пассажирского самолета, вылетевшего из Якутска, второй пилот Алимурадов, угрожая ножом, отстранил команду от управления, сел за штурвал и благополучно посадил самолет на китайской территории. Там попросил политическое убежище. Его хоть и встретили как героя, но всё-таки закон соблюли и отвезли в Харбин, в тюрьму. Беглец времени не терял: изучал китайский язык, местную медицину, занимался спортом, встречался с журналистами. Его последнее слово, где он изобличал советский режим, встретили аплодисментами. Дали восемь лет, из которых он отсидел всего два. Потом его поселили в меблированной квартире с прислугой, а он преподавал в университете русский язык по своей ускоренной методике, женился на китаянке… По его словам, это были самые счастливые и насыщенные годы.
В политику старался не вмешиваться, но вскоре она вмешалась сама: в советско-китайских отношениях началось потепление. В 1989-м Алимурадова неожиданно арестовали и в сопровождении солдат, прокуроров и дипломатов отвезли на пограничный переход и передали советским властям. Там уже встречали высокие чины из КГБ, и прокуратуры. Получил пять лет строгого режима. Однако настроения и в обществе, и за решёткой менялись, и среди заключённых Шамиль пользовался большим авторитетом.
Освободившись, переехал в Москву и занялся бизнесом. Страна была уже другой.
Если удача отвернулась
Владимира Коржа в 1962-м арестовали за антисоветскую пропаганду и принялись лечить. В Ленинаканской психбольнице (теперь это город Гюмри в Армении) он познакомился с Николаем Крапивкиным, которого лечили от того же недуга. Приятелям удалось сбежать, и они попытались перейти турецкую границу. У Коржа получилось, а Крапивкина застрелили пограничники.
Несколько лет всё у него шло хорошо: Владимир путешествует по Европе, пока не оседает в Стокгольме. Женился на шведке, родилось двое сыновей. Тревожная весть, что тяжело заболела мать, заставляет его нелегально вернуться в СССР. Но везение кончилось, и в 1968-м его арестовали и заключили в ленинградскую психбольницу. Когда мать скончалась, проститься с ней не разрешили.
Через несколько лет Владимира освободили, и он решил вернуться к семье, в Швецию. И снова провал: на норвежской границе его арестовали и отправили в Сычёвскую СПБ, долечиваться.
Пилюли от критики
В 1933-м семья Алифановых бежала от голода с украинской Слобожанщины на Донбасс. Там сын Олег учился, потом служил в пограничных войсках на советско-иранской границе, а после демобилизации работал в Москве строителем. Видел воровство и приписки на фоне пропагандистских победных рапортов. В 1979 году оказался единственным в бригаде, кто осудил оккупацию Афганистана, и впервые был назван предателем. Собрался поступать в МГУ на философский и даже проучился полгода на подготовительных курсах, но вовремя понял, что там готовят не философов, а преподавателей «научного коммунизма».
Устав от жизни в московских общежитиях, вернулся в Донецкую область, в село Шевченко, где жила бабушка. Теперь времени было много, стал читать русскую классику и слушать радиостанции «Свобода» и «Голос Америки». Так из обычного советского обывателя стал диссидентом. И даже пришёл к мысли, что перемены наступят быстрее, если выступать будут не только представители интеллигенции, но и простые люди.
Написал открытое письмо в ЦК КПСС с довольно мягкой критикой режима. Когда приехал в Москву, один экземпляр письма отправил почтой, а второй решил передать западным дипломатам. Но со вторым ничего не вышло, потому что бдительная охрана посольств не дремала.
В раздумьях о неудаче сидел в кафе напротив посольства Франции и наблюдал за обстановкой. И заметил, что люди в серых костюмах за соседним столиком наблюдают за ним самим… Тогда решился на прорыв, не дожидаясь развязки. Вышел и, проходя мимо посольства, заметил, что милиционер отвлёкся на телефонный звонок. Перемахнуть через высокий забор для бывшего пограничника было нетрудно, и через несколько секунд он был уже на территории Франции. Там гостю удивились и объяснили, что вопросы о политическом убежище решает только посол, которого сейчас нет на месте.
Тем временем за забором проходили очень активные мероприятия. КГБ и милиция окружили посольство, и какой-то высокий чин обратился к дипломатам с просьбой выдать «опасного уголовного преступника».
Дипломаты, успевшие пообщаться с Олегом, такой характеристике не поверили и были вежливы, доброжелательны и корректны. Они накормили гостя, взяли письмо и заверили, что передадут его на Запад.
Спросили о планах. Узнав, что собирается уходить, пообещали следить за его судьбой. И вот в 9 вечера, после шести часов жизни на французской земле, Олег в сопровождении дипломата вернулся на родину. Тот проводил его до станции метро «Октябрьская» и попрощался. Несмотря на неусыпное наблюдение за «преступником», пока всё шло без эксцессов: люди в штатском избегали международных скандалов. А вот уже в фойе станции начался путь в ближайшее отделение милиции. Там его долго допрашивали, выпытывая даже расположение помещений в посольстве и количество сотрудников. Потом повезли в знаменитую больницу имени Кащенко, пообещав, что он там и умрёт. За диагнозом «вялотекущая шизофрения» дело не стало и началось суровое «лечение».
Только вот без международного скандала всё-таки не обошлось: письмо Олега напечатала парижская «Матэн», что вызвало большой шум на Западе. Через два месяца диссидента перевели в провинциальную больницу, где и режим помягче и врачи не такие изощрённые, а вскоре и вообще отпустили. И Олег снова вернулся в родное село. Но от чувства справедливости, которое заставляло его искать приключений на свою голову, его так и не вылечили. Он ещё не раз писал в газеты на острые темы, обращался в Международную амнистию и к главам государств с просьбами об освобождении советских политзаключенных, в том числе и тех, с которыми успел повстречаться лично.
Сочувствуют, но помочь не могут
Аркадий Степанчук мечтал эмигрировать из СССР, и в 1963 году пытался прорваться во французское посольство. Его арестовали, упрятали в психбольницу, но мысли об эмиграции остались. Уже много лет спустя, в 1980-м, вместе со своим товарищем Сергеем Кистом, они перелезли через трёхметровый забор британского посольства. Начало стандартное, продолжение — тоже. Дипломаты сказали, что ничем помочь не могут, и на обратном пути друзей встретили люди, ответственные за безопасность страны.
Кисту повезло: его просто отправили домой в Донбасс и уволили с работы. А вот рецидивистом Степанчуком занялись всерьёз. Для начала, как водится, поместили в психбольницу, а потом — на родину, в город Украинск, под надзор КГБ и психиатров.
Когда началась перестройка, Степанчук объявил голодовку, требуя выезда из страны, и с женой и тремя детьми вышел на Красную площадь. Это было в феврале 1987-го. Сначала всё пошло по накатанному сценарию — арест, психбольница… Но уже через три месяца освободили: перестройка давала себя знать.
Теперь Степанчук живёт в Белоруссии, занимается научной работой.
Исключения на фоне правила
Житель Николаева Дмитрий Берман работал слесарем. При этом позволял себе выступать с критикой политики властей и даже собирался эмигрировать. Что ж, методы борьбы с такими критиками известны: сфабриковали дело, обвинили в убийстве и дали 13 лет строгого режима. Правда, потом сократили до десяти и выпустили под подписку о невыезде, потому что готовилось новое дело.
И вот летом 1990 года Берман приехал в Москву, прошёл в канадское посольство и попросил убежище. Дипломаты разрешили Берману остаться в посольстве, и он жил там несколько месяцев.
Дальнейшая судьба неизвестна, но важно то, что такие случаи очень редки. В 1978 г. сибирская семья пятидесятников с огромным трудом получила убежище в американском посольстве и провела четыре года в подвале. А в 1983 году болгарский гражданин, этнический турок, прорвался в турецкое посольство в Москве и жил там два года, пока на самом высоком уровне не уговорили нашего президента Горбачёва отпустить беглеца.
Ещё одно исключения — судьба пятнадцатилетних Степана Джигарханяна и Хачатура Мурадяна. Вечером 10 ноября 1981 года они перелезли через забор бельгийского посольства и попросили предоставить им убежище. Мотивировали тем, что не желают потерять здесь свою молодость и терпеть лживую советскую пропаганду. Через три часа служащие посольства выпроводили юных посетителей. У ворот их ожидали не только родные, но и чужие люди из КГБ. После допроса малолетних вольнодумцев отпустили под надзор родителей (кстати, непростых: один известный актёр, другой — скульптор). А в годы перестройки подросший Степан уехал в США, где занялся бизнесом.
Врачи или палачи?
В августе 1974 года Станислав Судаков с семьей прорвался в посольство США в Москве. На просьбу о политическом убежище получил отказ, а на выходе был арестован. При задержании сопротивлялся, за что был не только обвинён в хулиганстве, но и заработал диагноз. Побывал в разных психбольницах, причём «специальных», но из одной из них умудрился сбежать. Год скрывался, после чего его арестовали в Таллине и отправили на строгое лечение в Ленинград.
К тому времени в мире уже много знали о нашей карательной психиатрии, и собирались исключить советских психиатров из международной организации ещё в 1983 году. Но те, чувствуя, что их вот-вот с позором выгонят, ушли сами. А в 1989-м, когда в стране наступили перемены, Судакова обследовали американские психиатры. И хоть на следующий год его освободили, всё же жизнь испортили основательно. Не только пичкали сильными дозами нейролептиков, но и избивали. Пациент похудел, заболел туберкулёзом. Вскоре после освобождения был помещен в туберкулезный диспансер, где и умер в 47 лет.
Добрались и до детей: сына Вадима посадили по сфабрикованному уголовному делу, а младшего, Ярослава, держали в детдоме.
Током по мозгам
Владимир Карфидов работал на заводе в Москве. Его незаконно уволили, что лишь укрепило критический настрой к отечественным порядкам. В 1973-м решил бежать на Запад и поехал в Выборг. Прошел 45 километров по льду канала между Выборгским заливом и озером Сайма в Финляндии. Финские пограничники его арестовали и вернули обратно. Три года провёл в лагере Воркуты.
В 1979 году опять решил бежать на Запад. Ночью вышел из поезда Ленинград — Мурманск на станции Кандалакша и направился в Финляндию. На седьмой день перешёл границу и ещё три дня пробирался в Швецию. В общей сложности оставил позади более 600 км, когда закончились продукты и пришлось перейти на грибы. Вот ими-то он и отравился за несколько километров до шведской границы. Испугался, остановил попутную машину и попросил отвезти в больницу. Но законопослушный таксист отвез беглеца в полицию, определив будущее своего пассажира на многие годы вперёд.
А дальше — как обычно: Институт им. Сербского признал его невменяемым. За открытое высказывание своих взглядов на врачебной комиссии «эксперты» заявили, что будут держать такого пациента в больнице пожизненно. Через несколько лет перевели в Казанскую спецпсихбольницу, заведение с мрачной репутацией. Там Владимир занялся самообразованием, изучил английский язык. А вместе с Андреем Калишиным, попавшим сюда за подрыв военкомата в Куйбышеве, заинтересовались взрывными устройствами, задумав после «излечения» подорвать газопровод. Но злоумышленники недооценили важность конспирации, и в итоге за лечение Карфидова взялись со всей серьёзностью. Его целый год закалывали нейролептиками и лечили электрошоками. Это такой метод, когда через мозг пропускают электрический ток, вызывая судорожный припадок. Считается, что такое лечит.
Впрочем, о лечебном эффекте пусть высказываются специалисты, а вот то, что память после электрошоков страдает до такой степени, что человек превращается в «овощ» — об этом знают не только психиатры. Заведующий Московским областным центром психореаниматологии Александр Нельсон в своей книге «Электросудорожная терапия в психиатрии, наркологии и неврологии» отмечает: «Странными и прискорбными выглядят бездумные попытки в ряде российских психиатрических учреждений проводить ЭСТ „наживую“, без наркоза и релаксации. Особенно удивительно, когда пытаются ещё и объявлять о таком лечении во всеуслышание — в публичных докладах или научных статьях. Достаточно автору „засветиться“ с такой информацией — и ему гарантировано презрение коллег во всем мире и брезгливое исключение из сообщества психиатров».
В общем, Карфидов едва выжил. Но тут началась перестройка, и его судьбой заинтересовались западные правозащитники и психиатры. В результате многочисленных запросов и обращений его освободили — после десяти лет «лечения в заключении». И всё же человеку повезло: живет во Владимире, где его и выпустили из больницы, и даже занимается научными разработками в области техники.
…А газопровод не пострадал. Почему? Тут мнения расходятся. Врачи считают, что лечение дало эффект, а их пациент — что выздоравливать начала страна. Правда, медленно и неуверенно.
Больница смерти
Пётр Петухов жил в Брянске, но мечтал о дальних путешествиях. В 1968 году, накануне призыва в армию, попытался в районе Батуми перейти турецкую границу. Не повезло. На следствии вел себя смело и открыто говорил, что ненавидит советский режим. Вскоре его признали невменяемым и отправили в Сычёвскую спецпсихбольницу. Там усиленно «лечили» галоперидолом, пока он действительно не заболел. Там же и умер от отравления печени в возрасте 27 лет.
Валерий Авдеев после школы работал в Воронеже на авиационном заводе, откуда его и призвали в армию. К режиму относился критически, мечтал об эмиграции и в 1980 году дезертировал. Приехал в Батуми, вплавь добрался до греческого танкера, стоявшего на рейде, и попросил капитана помочь ему выехать из СССР. Вместо этого ему помогли встретиться с пограничниками, а потом и с психиатрами. Его почти десять лет лечили, пока он действительно не заболел и не начал страдать депрессиями. Тогда выпустили, но время от времени снова помещали в палату. В июне 1998-го он оттуда бежал и через несколько дней повесился на кладбище, оставив записку, что не хочет провести всю жизнь в психтюрьме.
Генерал в отставке Александр Соболев пытался получить солидное наследство от умерших во Франции родственников. Власти ему в этом отказали. Возмущенный генерал в ответ отказался от советского гражданства и стал добиваться выезда из страны. Да только ничего у него не вышло. В 1975-м его арестовали и препроводили в Днепропетровскую психбольницу, где персонал набил руку на лечении несогласных. Генералу сделали пункцию спинного мозга, после чего у него парализовало ноги и он в мучениях скончался. Родственники под давлением КГБ от него отказались.
Николай Бреславский во время войны служил в группе советских войск в Иране, дезертировал и бежал в Турцию. Там прожил до конца войны. На основании Ялтинских соглашений был выдан, осужден за измену и 11 лет провел в лагерях. Освободился в 1956-м и с мыслью об эмиграции приехал в Москву. Пытался пройти в турецкое посольство, но вскоре оказался в Сычёвской спецпсихбольнице. Оттуда уже не вышел.
Вылечился — расстрелять
Александр Полежаев служил в морской пехоте. В 1973 году, когда его корабль стоял у берегов Египта, дезертировал с оружием и пытался добраться пешком до Израиля. Недалеко от границы его окружили наши военные вместе с египетскими пограничниками. Принял бой, несколько часов отстреливался из автомата, убил двоих и ранил несколько человек. Но был взят живым.
В Институте им. Сербского его признали невменяемым и отправили в Днепропетровск лечиться. Через три года признали уже здоровым. Оставалось только отдать под суд военного трибунала, а потом расстрелять.
Яд — лучшее лекарство
Казбек Бритаев в 1963 году в районе Батуми пытался перейти турецкую границу. Был арестован и полгода провёл в психиатрической больнице.
Поехал работать на БАМ снабженцем. В 1976-м переплыл Амур на самодельном плоту и оказался в Китае. Попросил убежище в США, но китайские власти отказались отправить его в недружественную страну. Три года Бритаев просил власти выпустить его и отказывался жить в Китае. И допросился. В его честь устроили банкет, напоили и передали советским пограничникам.
Так он оказался в Казанской спецпсихбольнице. И самонадеянно говорил заключенным, что со своим опытом перехода границы после освобождения уйдет из СССР. Некоторые основания для оптимизма были: в мастерских он работал хорошо, и начальник отделения капитан Королев пообещал скорое освобождение. Бритаев радостно ожидал этого счастливого события, но, приняв очередную психотропную таблетку, неожиданно умер. Скорее всего, не от радости. Как предполагали его умудрённые годами лечения коллеги, вместо целебной пилюли ему дали ядовитую. Приехавшим родственникам тело не отдали, а похоронили на тюремном кладбище.
Думай, куда бежишь
Бакинец Али Балаев в 1981 году бежал в хомейнистский Иран и попросил убежище. Там его за нелегальный переход границы приговорили к двум годам заключения, которые он провёл в страшной тегеранской тюрьме Эвин. Ни кроватей, ни постельного белья там нет, потому что спать можно и на полу. В камерах темно, нет свежего воздуха, а прогулки — два часа в неделю. О том, как там обращаются с людьми — разговор отдельный и долгий. Важно, что Али своё отсидел, после чего был выдан на родину, прямо в психбольницу, а там сроки очень растяжимы.
Юрий Зорянец за антисоветские разговоры не раз попадал на беседы в КГБ. И решил бежать из страны. В декабре 1982-го приехал в Одессу, проник на территорию торгового порта и ночью попытался пробраться на борт западногерманского сухогруза. Пограничники заметили, Юрий бросился бежать, но те открыли огонь. И всё же у удалось вплавь добраться до судна. Там его заметили, бросили трап. Обогрели, дали сухую одежду.
А пограничники тем временем потребовали немедленно выдать беглеца. И вот после долгой и нелёгкой беседы с капитаном Юрий был вынужден сойти на берег. Впереди его ждали семь лет «лечения».
Александр Сваричевский из Белоруссии с 1983 года добивался выезда за рубеж, за что его не раз лечили. В 1990-м нелегально перешел польскую границу. Через Чехословакию ушёл в Австрию, и там его везение кончилось. Австрийские полицейские выдали его чешским пограничникам. Вскоре оказался на родине, в витебском лагере, где и отсидел свои три года. Если б не перестройка, сидел бы гораздо дольше.
Посол убедил…
Николай Рыжков служил в Афганистане, в составе нашего «ограниченного контингента». Летом 1983-го ночью дезертировал и ушел к моджахедам. Несколько месяцев провел в лагере для военнопленных. Потом при содействии западных благотворительных организаций оказался в бельгийской столице, а затем и в США. Но не смог без родины…
Через год обратился в наше посольство и попросился домой. Советский посол Анатолий Добрынин лично заверил Николая, что его не арестуют и встретят как героя. И вот в Вашингтоне уже прошла пресс-конференция, посвященная возвращению Рыжкова в СССР. Когда вернулся, то целых девять дней жил на даче КГБ в Шереметьеве. А потом переехал в лефортовский изолятор, принадлежащий тому же ведомству. После необходимых формальностей получил 12 лет мордовских лагерей.
ТАСС уполномочен обмануть
Осенью 1970-го два крымских студента — Виталий Поздеев и Николай Гилёв — купили в керченском аэропорту билеты на рейс до Краснодара. Туда летал маленький четырёхместный самолёт «Морава» — воздушное такси.
Подготовились основательно — один из парней даже выучился в аэроклубе управлять самолётом: мало ли что может случиться… Чтобы избежать жертв, выкупили все билеты — два взяли для себя и один для несуществующего пассажира с ребенком. Но в самый последний момент в кассе аэропорта заметили, что регистрацию прошли только два человека, и продали билет на свободное место спешившему пассажиру.
Едва самолет поднялся в воздух, угонщики приняли решение действовать по обстановке невзирая на нежеланного попутчика.
На голову пилоту набросили мешок, а пассажира связали. Студенты заставили пилота отдать штурвал и взяли курс на Турцию. Правда, тут же выяснилось, что аэроклубовских навыков недостаточно: самолёт начал падать и мешок с пилота пришлось снять. Зато благополучно долетели до Синопа, где и приземлились на американской военной базе. Потом лётчик и пассажиры отправились обратно, а угонщики оказались в лагере для перемещённых лиц
Заметим кстати, что эти студенты уже не первый раз пытались бежать из страны, но безуспешно. Гилёв пробовал попасть в океанографическую экспедицию — не вышло. Поздееву удалось пробрался на теплоход «Армения» следующий в Турцию, но из-за морской болезни пришлось сойти раньше, в Одессе. В третий раз попытали счастья уже вместе, снова на круизном лайнере, но их обнаружили и пришлось бежать. И вот, наконец, сбылось — они за границей и ждут американскую визу.
После Бразинскасов это была вторая успешная попытка угона. На этот раз никакого ажиотажа в мире не было, и ожидание затянулось на год. А когда формальности уже подходили к концу, в гости к беглецам заглянул корреспондент ТАСС и принёс письма от близких, которые призывали одуматься и вернуться. Парней измотала неопределённость, а вестник с родины принёс обнадёживающие новости: накажут только условно, в институте восстановят, и всё будет хорошо и даже лучше.
В общем, согласились. Обратно ехали через гостеприимную Грузию, где в одном из совхозов им организовали застолье по случаю их правильного решения. Когда довольные и отяжелевшие герои торжества встали из-за стола, на них надели наручники. На этом свобода кончилась, парни получили 10 и 12 лет (справедливый суд учёл какие-то нюансы).
А соблазнительные чехословацкие самолёты с местных линий убрали.
Родина всё помнит
Михаил Дюкарев служил на иранской границе и бежал в Иран. Перебрался в США, где и прожил восемь лет. Потом затосковал по родине и вернулся. Но родина не простила измену, Михаил получил 12 лет. Через два года, в 1984-м, покончил с собой в пермском лагере.
Сергей Ижицкий в 1985 году нелегально перешёл границу с Китаем и прожил там год. Выехать оттуда на Запад было не легче, чем из СССР, и он вернулся домой, тоже нелегально. Его арестовали, судили, но отправили не в лагерь, а в психбольницу. Бежал оттуда, снова оказался в руках КГБ, после чего его следы потерялись.
Александр Суханов служил в Афганистане. Дезертировал, проник в посольство США в Кабуле и попросил убежище. В посольстве провёл неделю. Советские власти заверили американских дипломатов, что Суханова не репрессируют, и 4 ноября 1985-го он покинул посольство. Его тут же арестовали и вскоре расстреляли.
Старые знакомые
С Сергем Сецко из Гомеля мало кто может сравниться по числу переходов границы. Заплатил он за это немалую цену: почти 17 лет в лагерях.
Летом 1973-го переплыл Дунай в районе Измаила и оказался в Румынии. Но радовался напрасно, потому что тут же был выдан и оказался в одесском следственном изоляторе. Так получил первые три года.
После освобождения снова бежал в Румынию, однако задерживаться не стал, перешёл болгарскую границу, а потом и турецкую. Прожил там полгода, а потом турецкие спецслужбы по неведомым причинам разглядели в нём советского шпиона и отправили на родину.
Отсидев своё, опять перешёл румынскую границу, где его и взяли. Снова тюрьма.
Летом 1991-го попытался уйти в Турцию в районе Батуми, и снова оказался за решёткой.
Видно, Румыния ему чем-то приглянулась, и в пятый раз он отправился туда же. И если Сергей был всё тот же, Румыния успела измениться: его встретили как старого знакомого и отпустили на волю.
Бывают и чудеса
У этой истории, о которой рассказал журналист Лев Бруни, совершенно необычный конец. Дмитрий В. перешёл финскую границу, но вскоре был задержан и оказался в полицейском участке. Пожилой полицейский говорил по-русски, внимательно выслушал Дмитрия, сочувственно покивал и примерно так обрисовал обстановку:
— Я ничего не могу поделать. Советская сторона уже известила нас о том, что опасный преступник нарушил границу. Мы обязаны вас выдать. Я понимаю, вы были очень близки к цели, ведь вон там, совсем недалеко, есть железная дорога. И товарные поезда часто останавливаются на разъезде. Поезда эти идут в Турку, а из Турку ходит паром в Швецию. Чтобы попасть на паром, билет не нужен, потому что его можно купить и на борту, а проверка будет в порту прибытия. Но вам это уже не поможет. Я обязан вас выдать. Правда, сначала пойду домой и пообедаю. Дверь не запираю, но вы, пожалуйста, сидите здесь и ждите меня.
Он подмигнул Дмитрию, улыбнулся и вышел, даже не притворив дверь.
Маршрут для легковерных
Некий петербуржец осенью 2019 года установил в лесу в Ленинградской области бутафорские пограничные столбы и пообещал четверым азиатским мигрантам перевести их в Финляндию. За услугу попросил десять тысяч евро.
Маршрут был долог, труден и правдоподобен, но границу путники так и не нарушили. Тем не менее, в результате мигрантов оштрафовали и выдворили на родину, а мошенник превратился в обвиняемого по уголовному делу.
Умелые руки
В одном из интернетовских пограничных сообществ опубликовали фотографию самодельного самолета, на котором двое братьев собирались бежать из страны. Дело было в 1975 году во Львовской области.
Глядя на него, трудно поверить, что этот самолёт вообще мог летать, но ведь и маршрут предстоял недлинный. Братья доставили его к границе в разобранном виде, и что-то, видно, сломалось. Тогда умельцы обратились за помощью в ближайший колхоз. Только не учли, что у нас границу охранял весь советский народ, и вскоре на встречу с авиаторами приехал наряд с погранзаставы.
Ради любви
В начале 70-х этот молодой человек решил покинуть страну. Отправился в Батуми, сделал маленький плот и, выбрав ночь с попутным ветром, поплыл в Турцию. Когда настигал свет прожекторов, беглец нырял, а плот остался незамеченным. Благополучно добрался до Турции, а через некоторое время был уже в США. Но именно в эти дни понял, что не может жить без любимой, которая осталась на далёкой родине. И отправился за ней…
Дальше — как в сказке: снова Турция, самодельный плот и благополучное прибытие в родной город. И уже вместе с любимой они отправились в тот же Батуми. Но тут сказка кончилась. Девушка плохо плавала, пришлось надеть спасательный жилет, а в нём уже не поныряешь. Первый же пограничный катер взял их с собой.
Водка решила не все вопросы
В сентябре 1956 года трое молодых людей — Воликов, Вилисов и Чернин — поднялись на борт катера «Тайфун», стоявшего без охраны у пирса бухты Ванино и попытались выйти в море. В тумане заблудились и на рассвете поставили катер на место. Тогда решили захватить другое судно. Познакомились с командой катера РК-1283, напоили всех водкой и остались ночевать. Утром отправили протрезвевшую команду на берег за новой порцией спиртного, а сами вышли в море и взяли курс на Японию.
В погоню отправили сторожевой катер. Был открыт огонь, одного из беглецов ранило. Но поскольку всем им было по 16—17 лет и свой поступок они объяснили тягой к путешествиям, то отделались легко: осудили только за незаконный переход границы и приговорили к трём годам лагерей.
Вместо послесловия или Что мы об этом думаем
Здесь собраны некоторые мнения на эту неисчерпаемую тему из интернета. За и против.
Великие страны не запрещают выезд. Знаете почему? Потому что они великие. Почти никто не хочет из них уезжать. Поэтому сам факт закрытых границ говорит о том, что величия нету. А загранпоездка как поощрение и запрет выезда как наказание — это вообще смех. Наказание — жить в собственной стране…
Я считаю, что человек, который уезжает из страны — предатель. Даже в первую очередь не Родины, а своих пожилых родителей, детей которые остаются здесь.
У многих чиновников дети и родня живут за рубежом, так они тоже, получается, предатели родины?
Измена государству, не родине. Не путайте два разных понятия. И что плохого в космополитизме? Моя родина Земля. Почему птицам можно перелетать границы, а людям нет?
Во всем мире полно смешанных браков. Люди женятся, выходят замуж, уехав в другую страну, на другой материк. Оседают там, где нашли свою половину, свой климат, хорошую работу. Во всем мире это естественный процесс. И только у нас считается предательством.
Коммунисты сделали из родины тюрьму. И бегство из тюрьмы не является предательством ни страны, ни народа. Так называют это только сами тюремщики.
Не сбежать это было бы предательство себя…
Это же шкурный интерес, за деньги продаются. И чёрт с ними.
Что же родина не вела себя по отношению к своим гражданам так, чтобы её не захотели покидать?
Самым большим преступлением была правда про СССР. Как и самым большим секретом того почтового ящика, где я работал после института, был его убогий технический уровень.
Мы были счастливы в СССР, и наше счастье вовсе не омрачалось тем, что немногие могли выехать в капстраны. В соцстраны ездили по турпутёвкам и по работе. В СССР был самый справедливый и человечный строй на земле, целью которого было воспитание всесторонне развитого и духовного человека.
Из СССР не выпускали, чтобы не сравнивали, как люди живут в разных странах. Выпускали партайгеноссе и активистов-работяг. Да и выехавших пасла, как скот, куча овчарок.
Когда я служил в ВМФ, при проходе вблизи Японии всегда выставляли вооруженную вахту с приказом стрелять на поражение, если кто-то прыгнет или попытается сбросить спасательный плотик.
Я думаю что ядом в сторону уехавших брызжут те, кто очень бы хотел уехать, но не может. И не по причине патриотизма. У этих «патриотов» ничего российского то нет. Машина импортная, техника в доме импортная. Вещи, одежда, телефоны, все заграничное, но предатели родины те, кто уехал. А им просто завидно и сами они не могут уехать лишь из-за трусости и нерешительности.
Я никогда не собиралась никуда уезжать. Но события в стране как-то сами собой нас привели к этому решению. Однажды я поняла, что в этой стране нет будущего. Нет медицины, образования, чиновники открыто и не скрываясь грабят народ, уверенные, что им ничего за это не будет. И мы бросили всё и уехали.
Слава богу прошли те времена, когда любой контакт с иностранцами мог был расценён как шпионаж, а отъезд на ПМЖ в другую страну как предательство. Люди ездят на отдых, на учебу, на лечение, иногда создают семьи с иностранцами. Если человек смог хорошо устроится, получить хорошую работу, нужно порадоваться за него. В чём его предательство?
Я никого не упрекаю за выбор, который человек делает, потому что это его жизнь и ему виднее, как ему лучше жить и в какой стране. И какую страну считать родиной.
Если у человека возникает желание уехать в чужую страну, то это не его проблема, а проблема родины, проблема государства. К сожалению, в моей стране по заработной плате полный провал, и многие, чтобы прокормить свою семью, уезжают из государства, которому они не нужны.
Выезд человека на ПМЖ в другую страну — это нормальная реакция нормальных людей на ненормальные условия жизни.
Лучше вспомните наших дедов, прадедов которые сражались за страну, они падали, поднимались и шли дальше, ради того чтобы мы жили. И они построили великую страну. Езжайте к своим паразитам, особенно в Америку, им нужны там рабы из России…
А те, кто из деревни в город перебирается жить, тоже предатели? Кто в другие страны отдыхать уезжает? Иномарки покупает?
Или из своих республик уезжают навсегда и на русских женятся, они тоже предатели по отношению к своей нации? Столько «предателей» можно найти при желании… Только для чего?
И зачем не выпускали из СССР тех, кто хотел сбежать? Надо было выпускать. Остались бы только те, кто Родину любит в любые времена и при любой власти. Родина одна, а не там, где теплее и сытнее.
Ты свободный человек, и где жить — выбирать тебе, ты же не чувствуешь себя предателем отдыхая в Египте, а не в Сочи? Если тебе комфортнее в другой стране, то там твое место. Это лучше, чем сидеть и винить во всем страну и гордиться своим патриотизмом.
Гражданство это право, а не ярмо или повинность с рождения.
Не все полюбили страну, которая строила Социализм, вот и решали сбежать на запад. А пропаганда вражеских радиостанций в те времена велась очень сильная, и некоторые покупались на эту пропаганду. Ну и пусть бегут, чтобы там что-то урвать пожирнее, в Европе и Америке.
Таких бегунов было слишком много, чтобы объяснить это лишь подлостью и карьеризмом. Сколько было угонов самолетов, сколько гебистов бежало на запад, сколько спортсменов. Приходится признавать, что это всё-таки были симптомы болезни общества и недостатков его устройства. Если как раз те, кем страна гордилась и которые должны были быть его опорой, регулярно его предавали.
Присяга? Про присягу я вам вот что скажу, хоть заминусуйте: она имеет смысл и силу только тогда, когда государство не обманывает человека. А не так, что, например, присягу дал, будь добр выполнять любые приказы, преступные, аморальные, охранять диктатора и т. д. и т.п., просто потому что ты присягал.
Мы живем для своего будущего и будущего своих детей. И страна не проживёт за нас нашу жизнь, тем более что правительство наше нас кинуло.
Чтобы сделать человека человеком, в него надо вложить деньги. Построить школы, роддома, поликлиники, университеты. Ты хочешь уехать? Да пожалуйста! Верни стране то, что на тебя потратили — и вали на все четыре стороны!
Это типичный аргумент: родина тебя вырастила, выкормила… а ты, ссука… Но где заканчиваются выплаты долга перед родиной и когда человек становится свободным в своих желаниях менять место жительства, устраивать свою судьбу? Об этом почему-то не говорят.
Государство же не счёт предъявляло, а упекало людей в психушку, неся ещё и дополнительные расходы. Поэтому вопрос тут не в затратах. Родители заплатили налоги государству, а оно на эти деньги обучило их ребенка. Квиты. Выросший ребенок ничего не должен.
По сути, тут всё сводится к выбору: человек ли для государства или государство — для человека.
А чего другие страны никогда не требовали выплат? Чисто социалистическая логика. Или нет, немного ошиблась: в гитлеровской Германии счет за исполнение смертной казни присылали родне убитого. Чтоб оплатили траты на утилизацию. Так что это ещё и национал-социалистическая логика.
Сейчас номенклатура уже не называет себя родиной — и то хорошо. А красная власть себя родиной называла без всяких угрызений совести.
В СССР хорошо умели промывать головы. Помню, как мы с приятелем радовались, что родились и живём в СССР — внук сосланного в Казахстан немца и внук сосланного и погибшего в лагере еврея.
У государства есть интересы, оно цинично и порой жестоко. Я не собираюсь защищать Советский Союз, но у всего есть своя цена. За бесплатную медицину, за образование, за мирное небо тоже была заплачена своя цена.
Дегуманизацию всегда пытаются оправдать тем, что страна вынуждена была идти «особым путем». И альтернативы якобы нет. Да и сейчас то же самое, из телевизора вещают что-де Россия в кольце врагов, нужно сплотиться вокруг лидера, не раскачивайте лодку… И куда придёт такая страна, мы уже видели. Другие государства тоже сделали у себя немало хорошего, но без лагерей, расстрелов и лечения желавших уехать.
Надо радоваться за тех, кто уехал и хорошо устроился. То, что уезжают туда, где лучше — нормальное явление. В демократическом обществе должна быть свобода выбора, свобода самому решать, покинуть страну или нет.
ДРУГИЕ КНИГИ АВТОРА
Для тебя и о тебе (в соавторстве).
НЛО вокруг нас (в соавторстве).
Польша. Тысячелетнее соседство.
По следам Барабашки (в соавторстве).
Сон правду скажет, да не всякому.
Философские уроки счастья.
Однажды, вдруг… Чудеса нашего века.
Сами о себе. На рубеже тысячелетий.
Увы мне, свете мой… Слово на камне.
Город мастеров. Беседы по существу.
Лики любви.
О чём поёт государство.
В. Никонов, Словарь русских фамилий (составитель).

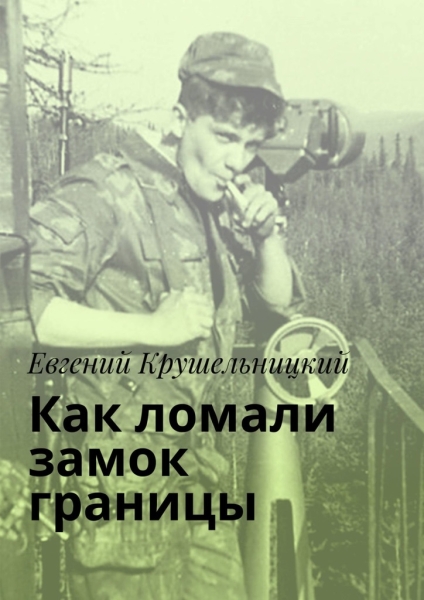
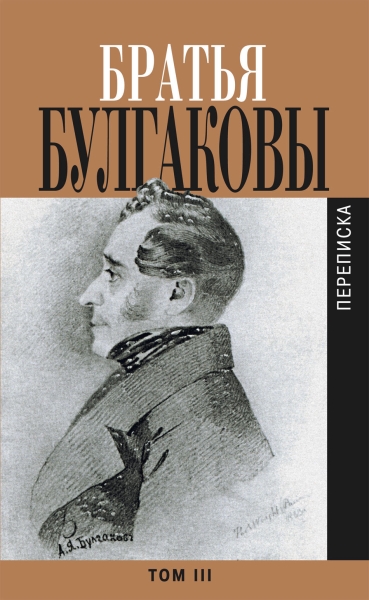

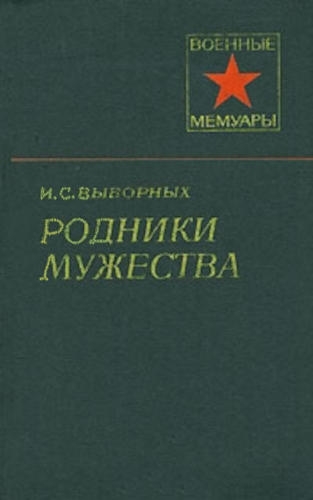

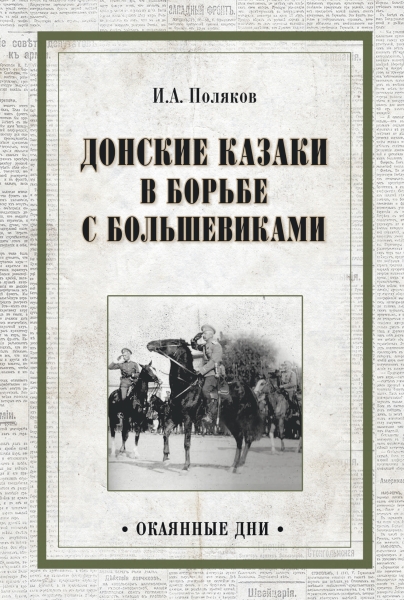

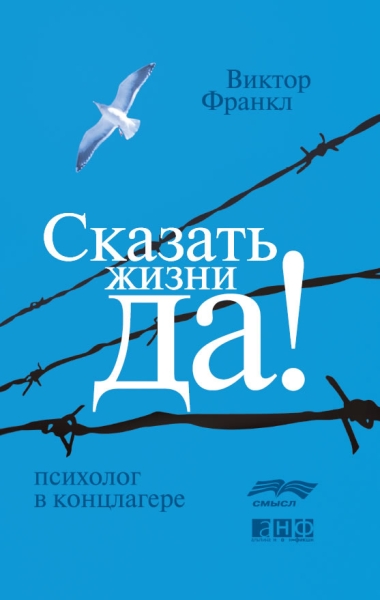

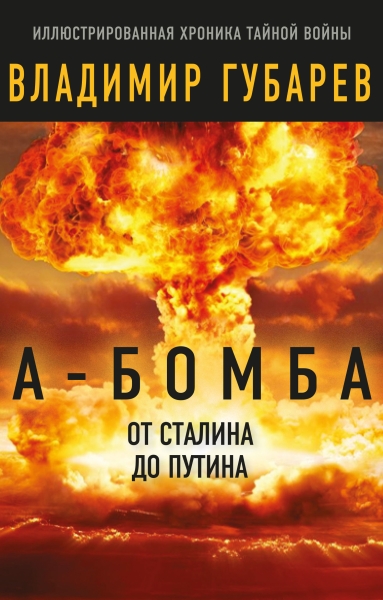
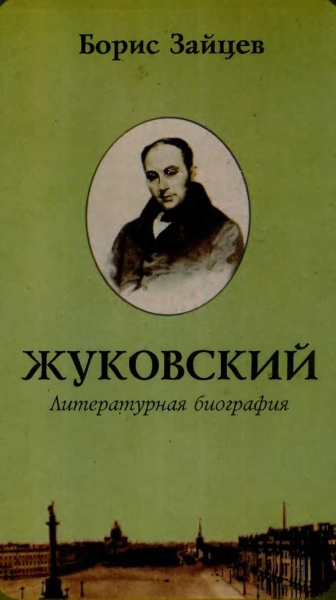
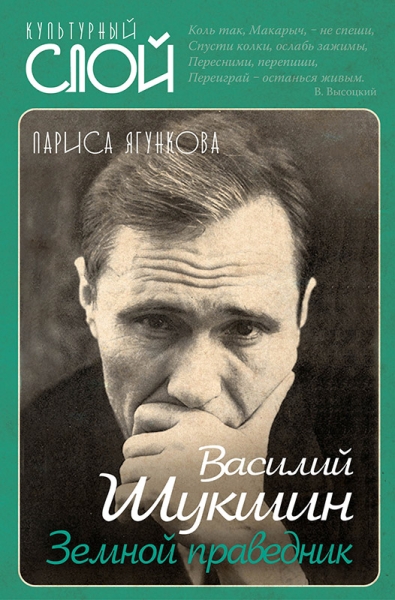
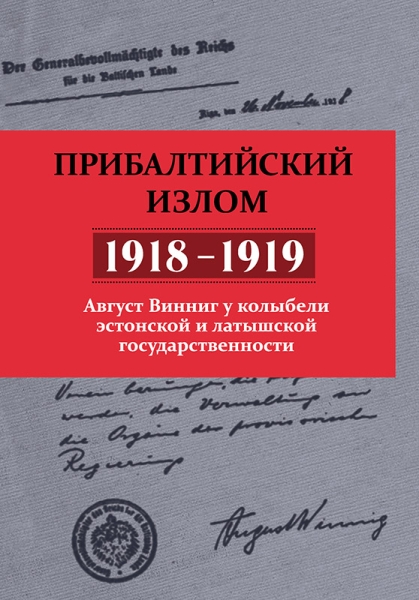
Комментарии к книге «Как ломали замок границы», Евгений Леонидович Крушельницкий
Всего 0 комментариев