Николай Алексеевич Некрасов Стихотворения
© Федякин С.Р., предисловие, комментарии, 2019
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2019
Слово Некрасова
Он был поэт подлинный, и потому — другой, не похожий ни на Пушкина, ни на Жуковского, ни на Лермонтова, — которым он так старательно подражал в первой книге стихов. В ХХ веке скажут:
«Таких песен замогильных, страшных, в русской поэзии еще не было. Это «неподражаемые, неистовые» звуки, ветровые, природные. В них особые гласные — глухие, протяжные, бесконечно длящиеся и особый ритм, раскатывающийся, гулкий, пустынный. Предельная обнаженность стихийного начала, некрасовской звериной тоски. Все сметено движением этого ритма — гражданственность, народность, «проблемы»; кругом — пустая степь без конца и без края и ветер»[1].
Константин Мочульский, критик редкой чуткости, заметит и другое: не страдания народа заставили Некрасова «завыть» свои заунывные песни, но собственная, нескончаемая душевная боль. Эту свою нестерпимую муку он выплеснул на то, что видел вокруг:
«Самое личное, самое неповторимое — ритм своего дыхания, свою некрасовскую тоску — поэт переносит на родину. На такой глубине интимное и общее — совпадают. Некрасов, стараясь передать свой напев, делается народным певцом. Его стон — стон всех. В своей душе он подслушал «родные» русские звуки. И, подлинно, он самый национальный русский поэт. Теперь он знает: то, что звучало в нем, что с таким мучительным напряжением рвалось наружу — было не его песней, а песней народной. Не он, а весь народ: «Создал песню, подобную стону»[2].
И все же — только чувствовал непомерное страдание и в стихах выразил его как всеобщее? Собственной, некрасовской тоской только лишь окрасил остальной мир? Или особо чутким слухом уловил то, что пронизало русскую жизнь, и общую беду всех почувствовал как собственную?
Неизбывная душевная тоска Некрасова, о которой вспоминают современники, о которой он не раз говорил в своих письмах, — разве она связана только с его личной судьбой? Мать вспоминал страдалицей, измученной деспотом-мужем. В самом начале творческого пути, живя в Петербурге впроголодь, не получая от отца ни копейки, он побывал «в шкуре» пролетария. Но только ли здесь исток его «сочувствия» ко всем «униженным и оскорбленным»? Вспомним его детское потрясение от стона бурлаков:
Или — знаменитые строки, где он всматривается в жизнь молодой крестьянки:
Или — эти сумрачные, горестные картины, в которых страшна их обыденность:
А ведь иногда это чувство беды возникает с первых строк, когда еще и не рассказана история:
Еще нет умирающего пахаря, еще не сказано ни слова о человеческом горе, а уже в нескольких беглых образах, в щемящем звуке фраз слышится голос беды. И сколько будет еще этих простых героев — с несбыточными надеждами, с тоской и болью! И разве нет здесь той «всеотзывчивости», о которой скажет позже Достоевский в речи о Пушкине? Только всеотзывчивости особой — именно на людскую беду, на муку, на отчаяние. Не только частая подверженность мрачным настроениям, но и сострадание рождало подобные строки, даже те, которые могут показаться навеянными не то личным воспоминанием, не то сочувствием человеку совсем уже не из крестьянского мира:
В молодые годы он пережил отчаянные минуты, когда его идеализм боролся с умом практическим. Порыв души звал к высоким целям, жизнь диктовала иное. Однажды он даже даст себе клятву «не умереть на чердаке»[3]. И позже — будет иной раз сердиться на тех идеалистов, с которыми будет встречаться в своей литературной жизни. Они жили в мечтаниях, не способные трезво оценить свои возможности, иной раз — обреченные на гибель.
Вставать на ноги он начал вовсе не как поэт, но как издатель. В 1843 году будут «Статейки в стихах без картинок», в 1844-м — альманах «Физиология Петербурга», в 1846-м — знаменитый «Петербургский сборник», где среди сотрудников не только уже достаточно известные — В. Г. Белинский, А. И. Герцен, граф В. А. Соллогуб, но слышны уже в полную силу голоса писателей нового поколения — Ф. М. Достоевского, И. С. Тургенева, А. Н. Майкова, самого Н. А. Некрасова. Здесь, среди других его стихотворений, появится и то («В дороге»), где отчетливо слышны интонации подлинного Некрасова.
И все же пока главный успех его ждет на издательском поприще. В конце 1846 года Н. А. Некрасов и его приятель И. И. Панаев заключили соглашение с П. А. Плетневым, издателем журнала «Современник», первые четыре номера которого вышли десятилетие назад под редакцией Пушкина. В январе 1847-го выходит первый номер журнала с новым составом сотрудников. С этого времени и на долгие годы — это одно из лучших русских периодических изданий. Номинальным редактором поначалу будет цензор А. В. Никитенко, потом — Панаев. Фактическим редактором будет Некрасов, он будет той «ломовой лошадью», которая тянула на себе бремя журнальной «закулисы» — войну с цензурой, поиск материалов, писание беллетристики для того, чтобы можно было заполнить очередной номер. Идейным вдохновителем — до самой своей смерти в 1848 году — будет Белинский. Позже — с середины 1850-х Н. Г. Чернышевский и Н. А. Добролюбов. Жизнь Некрасова надолго связалась с жизнью «Современника». Даже его большая любовь — А. Я. Панаева — из сотрудников журнала. Только тяжелая болезнь заставит его на год, с лета 1856-го до лета 1857-го, удалиться за границу, передав бразды правления в руки Чернышевского.
Издательские дела шли довольно успешно. Появилось сатирическое приложение «Свисток». Война с цензурой, попытка разрешить разногласия между сотрудниками, удержать редакцию от раскола — драматическая сторона этой жизни. Начало 1860-х — смерть Панаева и Добролюбова, арест Чернышевского и поэта М. Л. Михайлова — из ряда личных трагедий.
«Как вы относитесь к распространенному мнению, будто Некрасов был безнравственный человек?» Вопрос в анкете Чуковского[4], заданный поэтам начала века, не был случайностью. Ведь и Достоевский в своей некрологической статье не мог отвести его в сторону. И все же его мнение — отличается и чуткостью, и глубинным пониманием. Да, вокруг «практической жизни» поэта больше сплетен, нежели действительных фактов: «У такого характерного и замечательного человека, как Некрасов, — не могло не быть врагов»[5]. И даже то, что действительно было в его жизни — крайне преувеличено. «Но приняв это, — продолжает Достоевский, — все-таки увидим, что нечто все-таки остается. Что же такое? Нечто мрачное, темное и мучительное бесспорно, потому что — что же означают тогда эти стоны, эти крики, эти слезы его, эти признания, что «он упал», эта страстная исповедь перед тенью матери? Тут самобичевание, тут казнь?»[6]
В глазах многих современников Некрасов — деловой и «практический» человек, не только умеющий «заработать» на журнальном деле, но и способный на поступки «неблаговидные». Не случайно некоторые из писателей «старой закалки» полагали, что в стихах Некрасов фальшив, что он только лишь примеривает на себя роль «сочувственника» и «сострадальца». И даже те, кто ощутил искренность поэта, часто испытывали неловкость. Т. Н. Грановский услышал однажды Некрасова, читающего свои стихи: «…я был поражен неприятным противоречием между мелким торгашом и глубоко и горько чувствующим поэтом»[7].
Корней Чуковский, «излазивший» биографию Некрасова до самых «потаенных» уголков, готов был этой черте характера Некрасова дать иное толкование. Дело не только в том, что Некрасов, «хлебнув» в юности нищеты, научился зарабатывать журнальным делом, и не только в том, что эта пора жизни дала ему и особые привычки, и манеру поведения. Но, проделав в ранней молодости тот путь, которым скоро пойдут многие «шестидесятники», разночинцы, Некрасов и сам становится «наполовину» человеком иного сословия. В нем еще сидит барин, но живет уже и «деловой человек».
Это наблюдение объясняет известный эпизод в истории «Современника», этого любимейшего детища Некрасова, когда, не сумев смягчить противостояние между людьми своего поколения, Тургенева прежде всего, и «шестидесятниками», Добролюбовым и Чернышевским, Некрасов, в конце концов предпочел все-таки не давних знакомых, но молодых и «нахрапистых». В 1866-м эта же «двойственность» сыграет с ним жестокую шутку. После покушения Д. В. Каракозова на императора Александра II журнал был, в сущности, обречен. И чего стоила Некрасову эта «ода» М. Н. Муравьеву-Вешателю, от которого всецело зависела судьба «Современника»! И журнал не спас, и вызвал не только жестокие насмешки врагов, но и мучительные укоры со стороны единомышленников.
Но «двойственность» Некрасова — это не только его «разносословность», но и одиночество: все-таки ни в круг «людей сороковых годов», ни в круг «шестидесятников» он не вписывался. Для первых — он слишком сметлив и расчетлив, всему «знает цену» в самом буквальном смысле этих слов, для вторых — слишком непоследователен. Сотрудник «Современника» М. Антонович вспоминал, что произошло в редакции после того выстрела Каракозова: «В один прекрасный день Некрасов объявил нам, что он больше не нуждается в наших услугах и содействии и должен расстаться с нами, что он только для того, чтобы не возвращать подписных денег, доведет журнал до конца года как-нибудь один, и без нас, а затем бросит его. При этом он обещал выдать каждому из нас в виде отступных сумму денег и скоро действительно исполнил обещание в некоторой части. — Таким образом, мы расстались по-хорошему, не враждебно, но и не дружелюбно, без сожаления и с порядочным осадком горечи в наших чувствах вследствие последних инцидентов».
Одного не знал М. Антонович: пережитых Некрасовым угрызений. За посланием Муравьеву, которое сам Некрасов уничтожит, тут же последует знаменитое, с мукой выговоренное:
Потому Некрасов и мог испытывать сострадание к «падшим», что сам был из их числа. Тяга к раскаянию делала его в иные минуты одним из самых христианских поэтов. И вот рождается притча о житии мироеда («Влас»), что «брал с родного, брал с убогого», а после — с нагрянувшей беды — с ним свершилось преображение:
Или возникает горестная история мужа, узнавшего про измену жены («Зеленый шум»). Он изводит себя, он не может найти покоя, не может быть рядом с ней:
Но вот — дохнуло весенней свежестью, вот разомкнулось лютое пространство, и приходит воскрешение души, где строки стихотворения — почти проповедь:
И понятно это видение самого Некрасова, что явилось в стихотворении «Рыцарь на час»:
И сколь подлинны, столь и непреложны эти его стенания над могилой матери:
На самом деле он чувствовал боль других или только разыгрывал отзывчивость? Многие, очень многие отказывались верить в его искренность. Позже Борис Эйхенбаум даже найдет особое объяснение некрасовскому слову: «Любители биографии недоумевают перед «противоречиями» между жизнью Некрасова и его стихами. Загладить это противоречие не удается, но оно — не только законное, а и совершенно необходимое, именно потому, что «душа или «темперамент» — одно, а творчество — нечто совсем другое. Роль, выбранная Некрасовым, была подсказана ему историей и принята как исторический поступок. Он играл свою роль в пьесе, которую сочинила история, — в той же мере и в том же смысле «искренно», в каком можно говорить об «искренности» актера. Нужно было верно выбрать лирическую позу, создать новую театральную эмоцию и увлечь ею «не внемлющую пророчествам» толпу. Это и удалось Некрасову»[8].
Вряд ли бы сам Некрасов мог без содрогания прочитать это о себе. И не точнее ли будет вслушаться в слова читателя, который не только мог «построить теорию», но и вслушаться?
«Совесть — странный дар. Кому такая мера ее дается? В Некрасове она жила с детства и все росла, хотя он о ней не думал. Тем была она страшнее: как слепая змея в сердце. Он не умел защищаться от своих страстей, они легко овладевали им; тем легче, что он искал каких-нибудь «передышек»: забыть терзания»[9].
Не всуе сказаны эти слова Зинаидой Гиппиус. Отсюда пришла его поэзия. Из необъятных страстей и нескончаемого раскаяния. И каждое собственное падение становилось равносильно прозрению общей беды:
«Совесть, — все она же! — вырастая, переплеснулась через личное, пропитала его любовь к земле, к России, к матери и, в мучительные минуты «вдохновенья», сделала его творцом неподражаемых стонов о родине. Неужели это лишь песни «гражданской скорби», как тогда говорили? Вслушаемся в них: поэт не отделяет родину-мать от себя самого; он мучается за нее и за себя вместе, даже как бы ею и собою вместе»[10].
Он знал, что такое беда — и та, когда не живешь, а выживаешь, и та, когда в душе смятение и самоказнь. Для него они связались воедино. В чем каяться идеалисту? Чувство это естественней зарождается именно у человека «практического».
Что сподвигло его вернуться в тревожную журнальную жизнь? Желание ввязаться в идейные распри? Стремление убежать от собственных болезней и черной тоски? Или та «деловая жилка», которая тоже не давала покоя? Как-никак, только «торгаш» Некрасов мог написать зазывные приговорки «Коробейников»:
Жизнью наученный, он легко входил во всякое дело и во всякую жизнь. Потому и о газетно-журнальном мире пишет как знающий, и охоту живописует ярко и точно, и злоключения жен декабристов воспроизводит до ощущения зримого присутствия рядом с ними. Потому и народную жизнь, народные заботы воссоздает с редкой точностью. Да и пишет, в сущности, на самом что ни на есть народном языке:
К «Коробейникам», этой знаменитой своей вещи, Некрасов дает примечания на одной странице, другой, третьей. «Любчики — деревенские талисманы, имеющие, по понятиям простолюдинок, привораживающую силу»; или — на фразу «Кто вас спутал?» — «Общеизвестная народная шутка над бурлаками, которая спокон веку приводит их в негодование» и т. д. Для современников, привыкших к карамзинскому или даже пушкинскому языку, это может показаться экзотикой. Для Некрасова язык этот — родной. Здесь он сходит с привычной для других литераторов дороги, начинает изъясняться языком своих «простых» героев. И не только в «Коробейниках».
До «Дядюшки Якова» Некрасова на такой язык мог дерзнуть Пушкин — в «Сказке о попе и работнике его Балде». После Некрасова, в начале ХХ века — обладавший безупречно тонким слухом Иннокентий Анненский, в стихотворении «Шарики детские»:
Но у Пушкина — это смелое предчувствие, каким языком еще не изъяснялась, но может когда-нибудь заговорить русская литература. У Анненского — предвосхищение: какой языковой пласт может уже войти в плоть современной литературы (не случайно Ахматова расслышала в этом стихотворении предвестие Маяковского). И у первого, и у второго — это эпизод. Некрасов начинает строить на этом языке и этом мироощущении. В его поэзию входит не только народный «раек», но вообще простонародная речь. Не случайно Розанов — пусть не без преувеличения — воскликнул в «Уединенном»: «Стихи, как: «Дом — не тележка у дядюшки Якова», народнее, чем все, что написал Толстой»[11]. Как всегда суждение Василия Васильевича не боится преувеличений. Но в подлинной народности некрасовской речи сомнений быть не может.
Некогда «провалившись» между сословий, выкарабкиваясь из своего мучительного одиночества и прислушиваясь к миру, Некрасов сумел так «навострить ухо», что ухватил самые основы народной, в то время — «нелитературной» речи. И она хлынула в его поэзию, не только словами и выражениями, к которым сам Некрасов готов был дать разъяснительное примечание, но и особой интонацией, — то разговорной, то напевной. Уже современники заметят, что «трехсложники» Некрасова, его «дактили» и «анапесты», в противовес прежде царствовавшему ямбу, более «народны» уже потому, что в русском языке, в простой речи, ударение на третий слог падает чаще, нежели на второй. Замечание сомнительное, стихотворная речь — это все же не обычная речь. В ней действуют особые законы. Пожалуй, много точнее был один из первых чутких читателей Некрасова, адвокат, поэт и критик Сергей Андреевский. Он услышал здесь «ритм, напоминающий вращательное движение шарманки», который «позволял держаться на границах поэзии и прозы, балагурить с толпою, говорить складно и вульгарно, вставлять веселую и злую шутку, высказывать горькие истины и незаметно, замедля такт более торжественными словами, переходить в витийство»[12].
Важно не просто «количество ударных слогов», но то, что с этими «трехсложниками», особенно в конце строк (вроде «Что тебя доконало, сердешного?» из «Похорон»), входит в его поэзию унылый напев, которому, как и России, как и бедам народным, нет ни конца ни края.
Некрасов наполнил поэзию длинными, «тягучими» словами. К. Чуковский заметил, что и некоторые слоги у него иногда как бы растягиваются на два:[13]
Сам поэт еще в середине 1850-х чувствовал: русской поэзии нужен сдвиг, она должна «освежить кровь». В статье «Второстепенные русские поэты» (1850), той самой, где Тютчев будет поставлен им в ряд поэтов лучших, он скажет и об этом: «Пушкин и Лермонтов до такой степени усвоили нашему языку стихотворческую форму, что написать теперь гладенькое стихотворение сумеет всякий»[14]. Сам он — впустив «непричесанную» мужицкую речь в свои произведения — не просто пошел наперекор этой гладкости. Он не только разрушил прежние поэтические каноны, но и утвердил новые. Некрасову будут подражать и в 1870-е, и 1880-е, и в 1890-е, и позже.
Жизнь Некрасова — при том, что он добился заметного достатка, какого добился мало кто из русских литераторов, — была полна страданий, и духовных, и физических. Он будет мучительно болеть, с весны 1876 года уже не сможет заниматься журналом. И все-таки — ослабевший — будет работать над поэмой «Кому на Руси жить хорошо», поэмой «Мать», рождая одновременно свои «Последние песни». Многие из них обращены к последней его любви, Фекле Анисимовне Викторовой, которую он будет называть Зиной. С ней он, безнадежно больной, обвенчается у себя на квартире 4 апреля 1877 года. 27 декабря он уйдет из жизни, оставив после себя, как скажет З. Н. Гиппиус, «загадку Некрасова». Попыток ее разгадать было множество. Еще одна — принадлежит тому самому Георгию Адамовичу, который пытался защитить Некрасова-поэта от наскоков одного из довольно известных в русском Париже писателей:
«Некрасов первый в нашей литературе взвалил на себя все, что увидел — и попытался все превратить в поэзию: именно в этом творческая совестливость его особенно очевидна. Некрасов отказывался быть поэтом; если что-нибудь на земле оставалось вне поэзии, — боясь глубочайшего упрека, которому Леонид Андреев придал, к сожалению, чуть-чуть комическую форму: «как ты смеешь быть хорошим, когда я плохая?» Величье Некрасова в том, что он согласился быть «плохим», — во всяком случае «хуже» нарицательного Фета с его прелестными головками, — ради того, чтобы света никто не был лишен. Праздный, недоказуемый домысел? Нет, весь тон некрасовской поэзии, как бы всегда «сходящей в ад», всегда опускающейся до всего, что найдет низкого, всегда жертвенной, сочувствующей, ограждающей, искупающей, убеждает в этом, — даже если бы не был внятен текст»[15].
Охватить поэзией все, даже самое непоэтическое, — это ведь тоже новое отношение к поэтическому слову. Всякий переворот, когда ломаются общепризнанные нормы, не просто утверждает новые принципы. Он говорит о большем: возможно вообще иное «воззрение» на тот или иной предмет, то или иное явление. Возможны иные основы для творчества, иные воззрения на привычные вещи. Так Лобачевский показал, что возможна геометрия на искривленной поверхности, где «не работают» школьные аксиомы. Так Мусоргский убедил — не современников, но потомков, — что могут быть «не школьные» основы голосоведения и вообще иные основы для создания произведения, нежели законы традиционной гармонии. Так Некрасов сказал своим творчеством об иных «основах» поэтической речи. И он настолько приобщился к народному языку, что в незаконченной своей поэме, извилистой, «многодорожной», он и думать начинает по-крестьянски. В поэме-странствии «Кому на Руси жить хорошо» воскресает русское утопическое сознание, поиски «Беловодья», «земли праведной». Те поиски истины, которые не имеют конца, как и его незаконченная поэма. И как, вместе с этим, преобразуется его поэтический «напев»!
С трехдольных размеров он перешел на ямб. Таково первое впечатление. Но как до странности часто в этом ямбе пропускаются ударные слоги. Как растягиваются слова.
Будто и не двудольный размер, а, напротив, — необычный, исключительный — четырехдольный. Метр будто бы не «сжимается», но еще более растягивается. Как тягуча, бесконечна сама эта дорога. Как долог вообще путь русского крестьянина. Да и только ли крестьянина? Не о своем ли трудном, извилистом пути повествует Некрасов, со всеми его «окольностями», «падениями» и «восхождениями»? Не примеривает ли на себя, на свое творчество он вопрос, заданный семью мужиками: «Кому живется счастливо?» Вопрос извечный, как вопрос о смысле жизни, смысле бытия человеческого, и, в сущности, — не имеющий ответа.
Стихотворения
Современная ода
Колыбельная песня (Подражание Лермонтову)
«Я за то глубоко презираю себя…»
Нравственный человек
«Если, мучимый страстью мятежной…»
«Еду ли ночью по улице темной…»
«Ты всегда хороша несравненно…»
«Вчерашний день, часу в шестом…»
«Поражена потерей невозвратной…»
«Да, наша жизнь текла мятежно…»
«Я не люблю иронии твоей…»
«Мы с тобой бестолковые люди…»
«Блажен незлобивый поэт…»
В день смерти Гоголя,
21 февраля 1852
За городом
«Ах, были счастливые годы!…» (Из Гейне)
«О письма женщины, нам милой!…»
Памяти приятеля
Отрывки из путевых записок графа Гаранского
(Перевод с французского: Trois mois dans la Patrie. Essais de Poésie et de Prose, suivis d’un Discours sur les moyens de parvenir au développement des forces morales de la Nation Russe et des richesses naturelles de cet Etat. Par un Russe, comte de Garansky. 8 vol, in 4°. Paris, 1836)[16].
Несжатая полоса
«Праздник жизни – молодости годы…»
«Я сегодня так грустно настроен…»
В больнице
«Давно – отвергнутый тобою…»
«Безвестен я. Я вами не стяжал…»
«Тяжелый крест достался ей на долю…»
Секрет (Опыт современной баллады)
Гадающей невесте
Забытая деревня
«Замолкни, Муза мести и печали!…»
«Где твое личико смуглое…»
«Внимая ужасам войны…»
Влюбленному
«Как ты кротка, как ты послушна…»
«Я посетил твое кладбище…»
Поэт и гражданин
(Берет книгу.)
(с восторгом)
«В столицах шум, гремят витии…»
«Стихи мои! Свидетели живые…»
Размышления у парадного подъезда
«Ночь. Успели мы всем насладиться…» (Отрывок)
Песня Еремушке
Убогая и нарядная
«Что ты, сердце мое, расходилося?…»
«. . .одинокий, потерянный…»
На Волге (Детство Валежникова)
Плач детей
На смерть Шевченко
«Что ни год – уменьшаются силы…»
Крестьянские дети
Первый голос
(с испугом)
20 ноября 1861
Зеленый Шум[17]
«Литература с трескучими фразами…»
«В полном разгаре страда деревенская…»
Рыцарь на час
(Утром, в постели)
«Надрывается сердце от муки…»
«Благодарение Господу Богу…»
Орина, мать солдатская
Железная дорога
Ваня (в кучерском армячке). Папаша! Кто строил эту дорогу?
Папаша (в пальто на красной подкладке). Граф Петр Андреевич Клейнмихель, душенька!
Возвращение
Памяти Добролюбова
«Ликует враг, молчит в недоуменье…»
«Умру я скоро. Жалкое наследство…»
(Посвящается неизвестному другу, приславшему мне стихотворение «Не может быть»)
Еще тройка
Эй, Иван! (Тип недавнего прошлого)
«Не рыдай так безумно над ним…»
Дома – лучше!
«Наконец не горит уже лес…»
«Душно! без счастья и воли…»
Бунт (Живая картина)
Стихотворения, посвященные русским детям
I Дядюшка Яков
III Генерал Топтыгин
<IV> Дедушка Мазай и зайцы
<V> Соловьи
<VI> Накануне светлого праздника
Страшный год (1870)
«Смолкли честные, доблестно павшие…»
Три элегии (А. Н. Плещееву)
Путешественник
Ужель опять наградой будет плугу
Отъезжающему
А. Н. Е<рако>ву
Как празднуют трусу
Поэту (Памяти Шиллера)
Вступление к песням 1876–77 годов
З<и>не
«Скоро стану добычею тленья…»
«Угомонись, моя Муза задорная…»
З<и>не
«Дни идут… всё так же воздух душен…»
«Мы вышли вместе… Наобум…»
«Есть и Руси чем гордиться…»
«Вам, мой дар ценившим и любившим…»
Горящие письма
З<и>не
Баюшки-баю
«Черный день! Как нищий просит хлеба…»
Ты не забыта
«Великое чувство! У каждых дверей…»
«О Муза! я у двери гроба!…»
Комментарии
Настоящий том включает избранные стихотворения и поэмы Н. А. Некрасова, которые составили два раздела. Внутри каждого раздела произведения располагаются в хронологическом порядке. Исключение составляют циклы, включившие стихотворения разных лет. Они публикуются по времени создания последнего стихотворения. Завершает издание незавершенная поэма «Кому на Руси жить хорошо», над которой поэт работал до последних своих дней. При подготовке комментариев была учтена работа, проделанная многими поколениями исследователей Некрасова, без которых понимание творчества поэта было бы неполным. Среди них: К. И. Чуковский, В. Е. Евгеньев-Максимов, А. М. Гаркави, Н. Н. Скатов, В. Э. Вацуро, М. М. Гин, О. Б. Алексеева, Т. А. Беседина, И. А. Битюгова, А. Л. Гришунин, А. И. Груздев, О. В. Ломан, Б. В. Лунин, Б. В. Мельгунов, И. Ю. Твердохлебов, Т. С. Царькова и др.
Современная ода
Впервые: Отечественные записки. 1845. № 4. Подп.: «Н. Не-в». Сам Некрасов считал это стихотворение началом своей подлинной поэзии.
Впервые: Петербургский сборник, изданный Н. Некрасовым. СПб., 1846.
Стихотворение высоко оценили В. Г. Белинский и А. И. Герцен. Согласно воспоминаниям И. И. Панаева, Белинский, воздействие которого на умонастроения Некрасова было решающим, услышав впервые это стихотворение, воскликнул: «Да знаете ли вы, что вы поэт — и поэт истинный?» (Панаев И. И. Литературные воспоминания. Л., 1950. С. 249).
Варган (от старославянского «варги» — рот, уста) — народный язычковый музыкальный инструмент, на котором играли, прижав его к зубам. В контексте стихотворения — вообще музыкальный инструмент.
Вальяжный — представительный, величественный.
Перебрал по ревизии души… — проверил списки крепостных.
Тягло — податная обязанность хозяйства (крестьянской семьи), отработать норму на барщине или в виде оброка.
Коты — род женских полусапожек.
Колыбельная песня
Впервые: Петербургский сборник, изданный Н. Некрасовым. СПб., 1846. Сатира, написанная по мотивам «Казачьей колыбельной песни» Лермонтова. Стихотворение было допущено к публикации, но по выходе из печати вызвало нарекания цензора. С этого времени Некрасов заслужил в официальных кругах репутацию неблагонадежного писателя.
«Я за то глубоко презираю себя…»
Впервые: Стихотворения Н. Некрасова. М., 1856. Согласно исследованиям, написано в 1846 г. В прижизненных изданиях печаталось с подзаголовком «(Из Ларры)». Выдавая свое стихотворение за перевод произведения знаменитого испанского сатирика Марьяно Хосе де Ларра (1809—1837), Некрасов стремился избежать цензурных препятствий.
Впервые: опубликовано и включено в собрание сочинений: Стихотворения Н. Некрасова. М., 1856. Завершено в 1846 г.
По воспоминаниям Панаева, «стихотворение «Родина» привело Белинского в совершенный восторг. Он выучил его наизусть и послал его в Москву к своим приятелям…» (Панаев И. И. Литературные воспоминания. Л., 1950. С. 249).
Чей лик в аллее дальней… — поэт пишет о своей матери, Елене Андреевне Некрасовой, которая умерла 29 июля 1841 г., в Грешневе. Образ матери в саду появится и в незаконченной поэме «Мать» (см. наст. издание).
…Навеки отдана угрюмому невежде… — речь идет об отце поэта, Алексее Сергеевиче Некрасове (1788—1862).
…сестра души моей… — сестра Некрасова Елизавета (1821?—1842) была выдана замуж в 1841 г. за пожилого подполковника в отставке С. Г. Звягина и, по-видимому, умерла в родах или вскоре после.
Ее бессмысленной и вредной доброты… — эти строки о няне написаны в противовес известному пушкинскому образу («Голубка дряхлая моя…» в стихотворении «Подруга дней моих суровых…» и «…добрая подружка бедной юности моей» в стихотворении «Зимний вечер»).
Впервые опубликовано: Отечественные записки. 1846. № 4.
Стихотворение связано с многими фольклорными и литературными источниками. Положено на музыку многими композиторами.
Впервые: Современник. 1847. № 1.
Стихотворение получило высокую оценку Н. П. Огарева, который 17 января 1847 г. признавался в письме Т. Н. Грановскому: «Я ее читал раз десять» (Огарев Н. П. Избранные социально-политические и философские произведения. Т. 2. М., 1956. С. 395). Положено на музыку многими композиторами.
Нравственный человек
Впервые: Современник. 1847. № 3.
По поводу этого стихотворения 19 февраля 1847 г. Белинский писал Тургеневу: «Что за талант у этого человека! И что за топор его талант!» (Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. XII. М. 1956. С. 336). (На этом сравнении позже часто строил свои статьи о Некрасове В. В. Розанов.)
«Если, мучимый страстью мятежной…»
Впервые: Современник. 1847. № 7.
«Еду ли ночью по улице темной…»
Впервые: Современник. 1847. № 9.
Согласно воспоминаниям современников, впервые прочитанное в кружке Белинского стихотворение потрясло слушателей. Тургенев из Парижа, прочитав эту книжку журнала, писал 14/26 ноября 1847 г. Белинскому: «Скажите от меня Некрасову, что его стихотворение в 9-й книжке «Современника» меня совершенно с ума свело; денно и нощно твержу я это удивительное произведение — и уже наизусть выучил». (Тургенев И. С. Письма в тринадцати томах. Т. I. М. — Л., 1961. С. 264).
Впервые: Стихотворения Н. Некрасова. М., 1856.
Написано, вероятно, в 1853 г.
«Ты всегда хороша несравненно…»
Впервые: Современник. 1850. № 9.
Один из известных исследователей Некрасова, К. И. Чуковский, полагал, что адресат стихотворения — женщина, которую поэт знал до сближения с Авдотьей Панаевой.
Положено на музыку многими композиторами.
«Вчерашний день, часу в шестом…»
Впервые: Album do m-me Olga Kozlov. M., 1883. С. 171. Некрасов относил это стихотворение к 1848 году, но эта датировка подвергается сомнению (см.: Эльзон М. Д. О датировке стихотворения «Вчерашний день, часу в шестом…» // Некрасовский сборник, вып. VII. Л., 1980. С. 123—130).
Сенная — Сенная площадь, в центре Санкт-Петербурга. До середины XIX века — место публичных телесных наказаний по приговору суда.
«Поражена потерей невозвратной…»
Впервые, под заглавием: «В черный день» и с подписью: «Н. Н.»: Современник.1856. № 5. По свидетельству самого Некрасова, стихотворение написано в 1848 году на кончину первенца. Его сын умер младенцем.
«Да, наша жизнь текла мятежно…»
Впервые, с подзаголовком: «(Из Шенье)»: Стихотворения Н. Некрасова. М., 1856. Впоследствии поэт не стал выдавать это стихотворение за перевод и перепечатывал его без подзаголовка. Это — стихотворное послание 1850 года А. Я. Панаевой за границу, где она находилась на лечении.
«Я не люблю иронии твоей…»
Впервые: Современник. 1855. № 11. Поэт датировал стихотворение 1850 годом, хотя исследователи подвергают эту дату сомнению. Обращено, по всей видимости, к А. Я. Панаевой.
Впервые «Вор», «Проводы» и «Ванька»: Стихотворения Н. Некрасова. М., 1856; «Гробок» (под названием «Гроб») — Стихотворения Н. Некрасова. Издание пополненное. Берлин, 1862. Цикл окончательно сформировался в издании: Стихотворения Н. Некрасова. Ч. 1—2. Изд. 3-е. СПб., 1863.
«Мы с тобой бестолковые люди…»
Впервые: Современник. 1851. № 11.
Обращено к А. Я. Панаевой.
«Блажен незлобивый поэт…»
Впервые, с датой: «25 февраля 1852 года»: Современник. 1852. № 3.
На беловом автографе другая дата: «22 февр. 1852». Написано на смерть Н. В. Гоголя, который скончался в Москве 21 февраля 1852 г., по мотивам лирического отступления в VII главе «Мертвых душ». Один из манифестов гражданского направления в русской литературе.
Муза («Нет, Музы ласково поющей и прекрасной…»)
Впервые: Современник. 1854. № 1.
Всего вероятнее, закончено до 11 августа 1852 г.
Здесь скрытая полемика с образом музы в стихотворении Пушкина «Наперсница волшебной старины…» (1821):
За городом
Впервые: Стихотворения Н. Некрасова. М., 1856. Написано не позже 7 декабря 1852 г.
«Ах, были счастливые годы!..»
Впервые: Современник. 1853. № 1.
Вольный перевод «Frau Sorge» Генриха Гейне (из его книги «Romanzero»). Из разных автодатировок наиболее вероятным является 6 декабря 1852.
«О письма женщины, нам милой…»
Впервые: Стихотворения Н. Некрасова. М., 1856.
Автором датировано 1852 годом. По всей видимости, обращено к А. Я. Панаевой.
Застенчивость
Впервые: Современник. 1855. № 1.
Написано в 1852 или 1853 году.
Памяти приятеля
Впервые: Современник. 1855. № 3.
Посвящено памяти В. Г. Белинского, который скончался 26 мая 1848 г. Написано, по одним сведениям, в 1851, по другим — в 1853 году.
Затеряна давно твоя могила… — Белинский был похоронен на Волковом кладбище. Вскоре могила действительно была затеряна. Разыскана только в 1856 г.
Впервые: Современник. 1856. № 2.
Написано в 1853 г.
В стихотворении отразилась деятельность петербургского благотворительного Общества посещения бедных, возникшего в 1846 году, членами которого были министры, князья, графы, великосветские дамы и др., в том числе петербургские литераторы. Председателем общества был В. Ф. Одоевский, некоторые черты которого отразились в образе филантропа.
Провиантская комиссия — учреждение, которое ведало продовольственным снабжением армии.
Звезда Станиславская — орден Св. Станислава.
Гайдук — изначально — легкий воин, позже так стали называть прислугу в венгерской, гусарской или казачьей одежде.
Отрывки из путевых записок графа Гаранского
Впервые: Стихотворения Н. Некрасова. М., 1856.
Написано, вероятно, в 1853 году.
Впервые: первоначальная редакция — Современник. 1850. № 9; переработанный текст — Стихотворения Н. Некрасова. М., 1856. Вторая редакция относится, по всей видимости, к 1853 г.
Многими композиторами было положено на музыку.
Шубка — здесь: сарафан.
Впервые: Современник. 1854. № 11.
Часть стихотворения написана по мотивам народных причитаний.
Несжатая полоса
Впервые: Современник. 1855. № 1.
Написано, вероятно, в 1854 г.
Положено на музыку многими композиторами.
Станица — сам Некрасов объяснил одному из корреспондентов, что в народе говорят: птицы летают станицами.
Впервые: Современник. 1855. № 3.
«Праздник жизни – молодости годы…»
Впервые: Современник. 1856. № 8.
Написано в 1855 г.
«Я сегодня так грустно настроен…»
Впервые: Современник. 1855. № 5.
С 1853 г. Некрасов был серьезно болен, что и отразилось на содержании стихотворения.
Впервые: Современник. 1855. № 6.
Стихотворение, с некоторыми оговорками, высоко оценил Ф. М. Достоевский.
Неоднократно положено на музыку.
В больнице
Впервые: Современник. 1855. № 10.
Закончено в 1855 г. Первоначально стихотворение писалось как вступление к поэме «В.Г. Белинский».
Впервые: Современник. 1855. № 11.
Налой (или аналой) — высокий, вытянутый вверх четырехгранный столик для богослужебных книг и икон.
«Давно – отвергнутый тобою…»
Впервые: Современник. 1856. № 9.
Написано под впечатлением размолвки с А. Я. Панаевой, которой и посвящено.
Неоднократно положено на музыку.
Впервые: Современник. 1855. № 5.
Грязна́я — улица в Петербурге, где находилась извозчичья биржа.
«Безвестен я. Я вами не стяжал…»
Впервые: Стихотворения Н. Некрасова. М., 1856.
Написано в 1855 г.
«Тяжелый крест достался ей на долю…»
Впервые: Стихотворения Н. Некрасова. М., 1856.
Написано в 1855 г. Посвящено А. Я. Панаевой.
Было неоднократно положено на музыку.
Впервые: стихи 21—36 — Современник. 1851. № 11; полностью — Современник. 1856. № 8.
Закончено в 1855 г.
Юфть — сорт кожи, выделанной из ялового или коровьего сырья.
Впервые: Стихотворения Н. Некрасова. М., 1856.
Написано летом 1855 г. В это время Некрасов жил на даче в Петровском парке под Москвой.
Много раз было положено на музыку.
Гадающей невесте
Впервые: Стихотворения Н. Некрасова. М., 1856.
Написано в 1855 г.
Забытая деревня
Впервые: Стихотворения Н. Некрасова. М., 1856.
Написано в 1855 г.
Многими современниками стихотворение было прочитано как аллегория, где под забытой деревней подразумевалась Россия, под старым барином — недавно почивший император Николай I, а под новым — Александр II.
Одно из первых стихотворений Некрасова, переведенных на иностранные языки.
Цуг — упряжка, в которой лошади идут гуськом или парами, одна за другой.
«Замолкни, Муза мести и печали!..»
Впервые: Современник. 1856. № 3.
Написано в 1855 г. Этим стихотворением поэт завершил книгу «Стихотворения Н. Некрасова» (М., 1856), придавая ему особое значение.
«Где твое личико смуглое…»
Впервые: Современник. 1861. № 1.
Написано в 1855 г.
Вероятно, обращено к А. Я. Панаевой.
Много раз было положено на музыку.
«Внимая ужасам войны…»
Впервые опубликовано: Современник. 1856. № 2.
Отклик на Крымскую войну. Вероятно, поводом к созданию послужил рассказ Л. Н. Толстого «Севастополь в августе 1855 года», отдельные главы которого автор читал Некрасову еще до публикации. См. также комментарий к поэме «Тишина».
Многократно положено на музыку.
Печатается по беловому автографу ГБЛ (Зап. тетр. № 3).
Впервые: Чуковский К. И. Неизданные стихотворения Н. А. Некрасова. — 30 дней, 1931. № 1, с. 57.
Написано в 1856 г. под впечатлением размолвки с А. Я. Панаевой, к которой и обращено.
Влюбленному
Впервые: Стихотворения Н. Некрасова. М., 1856.
Написано в 1856 г.
Впервые: Современник. 1856. № 4.
Написано под впечатлением смерти графини Александры Кирилловны Воронцовой-Дашковой (урожд. Нарышкина, по второму мужу баронесса Пуалли, 1818—1856). Ее история сделала шум в петербургских великосветских кругах. Сюжет стихотворения основан на слухах, а не реальных фактах. Когда в 1859 г. перевод стихотворения на французский язык прочитал барон Пуалли, он отправился в Россию с целью вызвать Некрасова на дуэль. Вмешательство друзей поэта помогло избежать поединка.
Да в строфах небрежных русского поэта… — отсылка к стихотворению М. Ю. Лермонтова «К портрету» (1840), которое было посвящено Воронцовой-Дашковой.
«Как ты кротка, как ты послушна…»
Впервые: Современник. 1856. № 8.
Многократно было положено на музыку.
Впервые: Библиотека для чтения. 1856. № 10.
Написано в 1856 г.
Архангельский мужик — М. В. Ломоносов.
«Я посетил твое кладбище…»
Впервые: Современник. 1856. № 9.
Обращено к давней неизвестной возлюбленной, смутные упоминания о которой остались в воспоминаниях современников.
Другую женщину я знал… — имеется в виду А. Я. Панаева.
Поэт и гражданин
Впервые: Стихотворения Н. Некрасова. М., 1856.
Писалось в 1855—1856 годах. По выходу книги Некрасова послужило поводом к цензурным гонениям, в том числе воспрещению перепечатывания стихотворения.
«Не для житейского волненья…» — из стихотворения Пушкина «Поэт и толпа» (1828).
А ты, поэт! избранник неба… — отсылка к характеристике поэта «небес избранник» в том же стихотворении Пушкина.
Поэтом можешь ты не быть, Но гражданином быть обязан. — Отсылка к строке К. Ф. Рылеева «Я не поэт, а гражданин…» из посвящения к поэме «Войнаровский» (1823—1825).
Кадеты — воспитанники средних военно-учебных заведений для детей дворян и офицеров.
Предводитель — предводитель дворянства, губернский или уездный; выборная административная должность.
Плантатор — т. е. помещик.
Впервые: Библиотека для чтения. 1856. № 10.
Написано летом 1856 г.
Обращено к А. Я. Панаевой.
Многократно положено на музыку, в том числе известнейшими композиторами: Ц. А. Кюи (1859), Н. А. Римским-Корсаковым (1883), П. И. Чайковским (1887); в ХХ веке — Н. Н. Черепниным (1904), А. Н. Александровым (1948) и др.
«В столицах шум, гремят витии…»
Впервые: Стихотворения Н. Некрасова, ч. 1. Изд. 2-е. СПб., 1861.
Написано в 1858 г., но не было пропущено цензурой в октябрьский номер «Современника» за этот год.
«Стихи мои! Свидетели живые…»
Впервые: Стихотворения Н. Некрасова. Ч. 3. Изд. 1-е. СПб., 1864.
Написано предположительно в 1858 г.
Неоднократно было положено на музыку.
Размышления у парадного подъезда
Впервые, без подписи, под названием «У парадного крыльца»: Колокол. 1860. 15 янв., л. 61, с. 505—506. Стихотворению было дано примечание А. И. Герцена: «Мы очень редко помещаем стихи, но такого рода стихотворение нет возможности не поместить». Позже было перепечатано: Стихотворения Н. Некрасова, ч. 2. Изд. 3-е. СПб., 1863.
Написано в 1858 г. По воспоминаниям А. Я. Панаевой, однажды Некрасов увидел из окна своей квартиры, как городовые и дворники гнали от подъезда дома крупного чиновника крестьян, которые хотели подать прошение (Н. А. Некрасов в воспоминаниях современников. М., 1971. С. 86).
Последняя часть стихотворения («Назови мне такую обитель…» и далее) была одной из любимых студенческих песен.
«Ночь. Успели мы всем насладиться…»
Впервые: Стихотворения Н. Некрасова, ч. 1. Изд. 2-е. СПб., 1861.
Написано предположительно в 1858 г.
Песня Еремушке
Впервые: Современник. 1859. № 9.
Написано предположительно в 1859 г. Стихотворение обрело исключительную популярность, отчасти в связи с политической окраской.
Положено на музыку М. П. Мусоргским (1871) с сокращениями текста и некоторыми изменениями под названием «Колыбельная Еремушке».
Убогая и нарядная
Впервые, с датой: «23 декабря»: Современник. 1860. № 1.
Датируется 23 декабря 1857 г.
Ванька — извозчик.
«Что ты, сердце мое, расходилося?..»
Впервые: Стихотворения Н. Некрасова. Ч. 3. Изд. 1-е. СПб., 1864.
Написано, всего вероятнее, в 1860 г. Стихотворение — ответ на распространившиеся слухи о том, что поэт корыстолюбив, к тому же неискренен и лицемерен в своих стихах.
Неоднократно было положено на музыку.
«…одинокий, потерянный…»
Впервые: Стихотворения Н. Некрасова. Ч. 3. Изд. 1-е. СПб., 1864.
Незадолго до смерти поэт пояснил, что поводом к созданию стихотворения стал разлад с Тургеневым в 1860 г., который в конце этого года порвал с «Современником». Примирение писателей произошло перед смертью Некрасова.
Впервые с цензурными купюрами: Современник. 1861. № 1.
Написано в 1860 г. Как вспоминал Н. Г. Чернышевский: «Для всех очевидно, — писал он, — что в пьесе «На Волге (Детство Валежникова)» есть личные воспоминания Некрасова о его детстве. Однажды, рассказывая мне о своем детстве, Некрасов припомнил разговор бурлаков, слышанный им ребенком, и передал; пересказав, прибавил, что он думает воспользоваться этим воспоминанием в одном из стихотворений, которые хочет написать. Прочитав через несколько времени пьесу «На Волге», я увидел, что рассказанный мне разговор бурлаков передан в ней с совершенной точностью, без всяких прибавлений или убавлений; перемены в словах сделаны лишь такие, которые были необходимы для подведения их под размер стиха; они нимало не изменяют смысла речи и даже часто с грамматической и лексикальной стороны немногочисленны и не важны. Вместо «а кабы умереть к утру, так было б еще лучше», — в пьесе сказано:
только такими пятью-шестью переменами отличается передача разговора в пьесе от воспоминания об этом разговоре, рассказанного Некрасовым мне. Когда я читал пьесу в первый раз, у меня в памяти еще были совершенно тверды слова, слышанные мною» (Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. Т. I, М., 1939. С. 753—754).
Стихотворение высоко оценивали писатели-почвенники — Аполлон Григорьев и Ф. М. Достоевский.
…За нашей ригой, а в саду… — Рига — крытый ток для сушки снопов.
Рыбалки дремлют над водой… — т. е. рыбаки, рыбачки.
Расшива движется рекой. — Расшива — парусное речное плоскодонное судно.
…Хоть на Илью… — Ильин день (20 июля ст. ст.) — один из основных летних церковных праздников.
Плач детей
Впервые: Современник. 1861. № 1.
Написано в 1860 г. Согласно пояснениям Некрасова, первоисточник стихотворения он нашел у английской писательницы Элизабет Баррет Браунинг (1806—1861). Он имел подстрочный прозаический перевод и при создании своего произведения ушел далеко от подлинника.
На смерть Шевченко
При жизни опубликовано не было по цензурным соображениям. Впервые: Зоря (Львов). 1886. № 6.
Написано 27 февраля 1861 г., на следующий день после смерти выдающегося малороссийского (украинского) поэта Тараса Григорьевича Шевченко (1814—1861).
«Что ни год – уменьшаются силы…»
Впервые: Стихотворения Н. Некрасова. Ч. 3. Изд. 1-е. СПб., 1864.
Написано в 1861 г.
Впервые: Стихотворения Н. Некрасова. Ч. 4. СПб., 1869, в приложении «Стихотворения 1860—1863 годов, не вошедшие в предыдущие части».
Написано, по всей видимости, в 1861 году как отклик на реформу по освобождению крестьян.
Впервые: Современник. 1861. № 9.
Написано в 1861 г. Стихотворение стало популярной народной песней.
Крестьянские дети
Впервые, с посвящением: «О. С.-вской»: Время, 1861. № 10.
Написано в 1861 г., ко дню ангела Ольги Сократовны Чернышевской, жены Н. Г. Чернышевского, которой стихотворение и посвящено.
…Так рядом с Гаврилой… — Гаврила — Г. Я. Захаров, которому посвящены «Коробейники».
У нас же дорога большая была… — Имеется в виду тракт из Костромы в Ярославль, проходивший неподалеку от села Грешнево.
Лава — здесь: помост, плот.
Впервые: Современник. 1861. № 9.
Написано16 августа 1861 г.
20 ноября, 1861
Впервые, без заглавия, в составе статьи Некрасова «Посмертные стихотворения Н. А. Добролюбова»: Современник. 1862. № 1.
Написано 2 января 1862 г. Добролюбов (1836—1861) умер 17 ноября, 20 ноября состоялись его похороны. В стихотворении отразились впечатления этого дня.
Зеленый Шум
Впервые: Современник. 1863. № 3.
Написано в конце 1862-го или начале 1863 г. Образ «зеленого шума» восходит к игровой песне украинских девушек.
Многократно положено на музыку, в том числе С. В. Рахманиновым (1902, одноименная кантата).
Играючи, расходится / Вдруг ветер верховой… — т. е. северо-западный ветер.
«Литература, с трескучими фразами…»
Впервые опубликовано и включено в собрание сочинений: Стихотворения Н. Некрасова. Ч. 3. Изд. 1-е. СПб., 1864.
Написано в 1862 г.
«В полном разгаре страда деревенская…»
Впервые, под заглавием: «Страда»: Современник. 1863. № 4.
Написано в конце 1862-го или в начале 1863 г.
Многократно положено на музыку.
Рыцарь на час
Впервые: Современник. 1863. № 1—2.
Написано в 1862—1863 гг. Стихотворение обрело большую популярность среди современников, не только у сподвижников Некрасова. Шедевром поэта считал это стихотворение Ф. М. Достоевский.
Церковь старая чудится мне… — Церковь Петра и Павла в селе Абакумцево, неподалеку от Грешнева. В ограде церкви находится могила матери поэта.
«Надрывается сердце от муки…»
Впервые: Современник. 1863. № 9.
Написано в 1863 г. Стихотворение отразило впечатления от учиненных расправ с передовыми людьми этого времени: Н. Г. Чернышевским, М. Л. Михайловым, Н. А. Серно-Соловьевичем.
Впервые: Современник. 1863. № 9.
Написано 5 июня 1863 г.
Неоднократно положено на музыку, в том числе М. П. Мусоргским (с некоторыми изменениями в тексте).
Носит лапти с подковыркою!.. — Обычные лапти плелись в два ряда, лапти с подковыркою — в три.
«Благодарение господу богу…»
Впервые: Стихотворения Н. Некрасова. Ч. 4. СПб., 1869. В приложении: «Стихотворения 1860—1863 годов, не вошедшие в предыдущие части».
Написано в 1863 г. Полное чтение ст. 30 неизвестно. Образ дороги в стихотворении навеян печально знаменитой Владимиркой, по которой гнали арестантов. Возможно — другим пересыльным трактом.
Брат, удаляемый с поста опасного… — Судя по всему, поэт и революционер М. Л. Михайлов, которому посвящен «Рыцарь на час».
Орина, мать солдатская
Впервые, с заглавием: «Горе старой Орины» и без эпиграфа: Современник. 1864. № 2.
Написано в 1863 г. Основано на рассказе крестьянки.
Ни словечка, бесталанная… — т. е. несчастливая.
Железная дорога
Впервые, с подзаголовком «Посвящается детям» и фиктивной датой: «1855»: Современник. 1865. № 10.
Возможно, замысел произведения — начало 1860-х
гг. Закончено, вероятно, в 1864 г. Дата публикации «1855 г.» была поставлена для цензуры, чтобы отнести описанное в стихотворении к другой эпохе. После публикации стихотворения журналу «Современник» было объявлено второе предостережение. После третьего он подлежал закрытию. Стихотворение стало особенно популярным у молодежи.
Видел я в Вене святого Стефана… — Католический собор Святого Стефана — символ города Вены и национальный символ Австрии. Заложен в XII в., современный вид приобрел к 1511 году.
Или для вас Аполлон Бельведерский Хуже печного горшка? — отсылка к стихотворению Пушкина «Поэт и толпа» (1828).
Вот ваш народ — эти термы и бани… — Термы — бани в Древнем Риме.
Возвращение
Впервые: Современник. 1865. № 9.
Написано в 1864 г. по поводу возвращения Некрасова из-за границы, где поэт пребывал в мае — августе 1864 г. В стихотворении отразились впечатления от приезда в Карабиху осенью 1864 г.
Памяти Добролюбова
Впервые, без заглавия, с подзаголовком «(Отрывок)»: Современник. 1864. № 11—12. В этой публикации стихотворению предшествовал эпиграф из Добролюбова, подписанный буквой Д:
Написано в 1864 г.
Впервые, с заглавием «Балет (Сатира 9)»: Современник. 1866. № 2.
Эпиграф — неточная цитата из главы первой, строфы XXXII «Евгения Онегина» Пушкина.
…И мышиный жеребчик (так Гоголь Молодящихся старцев зовет) … — см. «Мертвые души» (т. I, гл. VIII): «… семенил ножками, как обыкновенно делают маленькие старички-щеголи на высоких каблуках, называемые мышиными жеребчиками, забегающие весьма проворно около дам».
Генерал-губернатор Суворов… — А. А. Суворов (1804—1882), внук А. В. Суворова, генерал-губернатор Петербурга в 1861—1866 гг.
Не все ж читать вам Бокля! — Г. Т. Бокль (1821—1862), английский историк и социолог-позитивист, автор «Истории цивилизации Англии», невероятно популярной в 1860-е гг.
Но явилась в рубахе крестьянской Петипа — и театр застонал!… — Петипа — Мария Сергеевна Петипа (урожд. Суровщикова, 1836—1882), жена известнейшего балетмейстера, театрального деятеля и педагога Мариуса Ивановича Петипа (1818—1910). Некрасов имеет в виду танец «мужичок», который исполнялся в фальшивом «русском» стиле.
Как Бернарди затянет «Лучину»… — Рита Бернарди — певица итальянской оперной труппы в Петербурге.
Так танцуй же ты «Деву Дуная»… — «Дева Дуная» — балет в 2 актах 4 картинах композитора Адольфа Адана. Автор либретто и балетмейстер — Филиппо Тальони. Шел на сцене Большого театра с 1837 г.
… (Вот бы Роллер нам их показал!) … — Роллер — Роллер Андрей Адамович (1805—1891), главный декоратор императорских театров.
«Ликует враг, молчит в недоуменье…»
Впервые, с подзаголовком: («Из Ларры»): Стихотворения Н. Некрасова. Ч. 4. СПб., 1869. В приложении «Стихотворения 1860—1863 годов, не вошедшие в предыдущие части».
После неудавшегося покушения Д. Каракозова на Александра II (4 апреля 1866 г.) Некрасов 16 апреля принял участие в официальном чествовании М. Н. Муравьева (1796—1866), уже получившего после подавления волнений 1863 г. в Белоруссии и Литве кличку Вешатель, только что назначенного председателем Верховной следственной комиссии по делу Д. В. Каракозова. Ради спасения журнала «Современник» Некрасов прочитал в его честь сочиненные стихи, тогда же уничтоженные. Вечером этого дня поэт написал «Ликует враг, молчит в недоуменье…» Чтобы избежать цензурных препятствий, поэт, как уже и раньше это делал, выдал стихотворение за перевод испанского сатирика Марьяно Хосе де Ларра (1809—1837).
«Умру я скоро. Жалкое наследство…»
Впервые, с датой: «1867»: Стихотворения Н. Некрасова. Ч. 4. СПб., 1869.
В 1866 г. Некрасов получил письмо со стихотворным обращением к нему за подписью «Неизвестный друг»:
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ
(Н. А. Некрасову)
На рукописи Некрасов написал: «Получил 3 марта 1866». Как выяснилось в более поздние годы, автором послания была поэтесса и переводчица О. П. Маркова-Павлова (1832—1896). Некрасов тут же набросал вариант ответа. Но лишь через год написал стихотворение «Умру я скоро. Жалкое наследство…», в сущности, отвечая многим.
Еще тройка
Впервые: Стихотворения Н. Некрасова. Ч. 4. СПб., 1869.
Написано 2 марта 1867 г. Название отсылает к известному стихотворению П. А. Вяземского «Еще тройка»:
Вместе с тем, в произведении — полемическая отсылка ко всем многочисленным «тройкам» в русской поэзии. На лирическую традицию Некрасов отозвался сатирой, в которой отразилась историческая ситуация после выстрела Д. Каракозова.
Впервые: Отечественные записки. 1868. № 1, в части тиража, вместо сатиры «Суд».
Впервые: Отечественные записки. 1868. № 1.
Стихотворение внутренне связано с поэмами «Мороз, Красный нос» и «Кому на Руси жить хорошо».
Впервые, с датой: «1868»: Отечественные записки. 1868. № 10.
Стихотворение было широко популярно в революционной среде уже после смерти поэта.
«Не рыдай так безумно над ним…»
Впервые, с датой: «1868»: Стихотворения Н. Некрасова. Ч. 4. СПб., 1869.
По свидетельству Некрасова, стихотворение навеяно смертью Д. И. Писарева и обращено к его гражданской жене Марии Александровне Маркович. Свои последние статьи критик публиковал в журнале «Отечественные записки», который стал редактировать Некрасов. Когда Писарев утонул, Некрасов хлопотал о доставке тела покойного в Петербург и организации похорон.
Дома – лучше!
Впервые, с подписью: «Н»: Отечественные записки. 1868. № 11.
Написано в марте — июне 1867 г. по возвращении на родину из заграничной поездки во Францию и Италию.
«Наконец, не горит уже лес…»
Впервые: Стихотворения Н. Некрасова. Ч. 4. СПб., 1869.
«Душно! без счастья и воли…»
Впервые, с заглавием «(Из Гейне)» и датой: «1868»: Стихотворения Н. Некрасова. Ч. 4. СПб., 1869. Ссылка на Гейне дана из цензурных соображений.
Стихотворение было популярно в революционных кругах.
Многократно положено на музыку.
Впервые — в статье В. Е. Евгеньева-Максимова «Предсмертные думы Н. А. Некрасова»: 3аветы. 1913. № 6.
Написано предположительно в 1872 г., как отклик на «Записки жандарма. Воспоминания» жандармского полковника А. И. Ломачевского («Вестник Европы». 1872. № 3—5), который пытался провести мысль, что «голубые мундиры» были на местах буфером между народом и администрацией.
Стихотворения, посвященные русским детям
Цикл стихотворений, над которым поэт работал с 1867 по 1873 год. Первоначально хотел в него включить и стихотворение «Железная дорога» (1864), но после отказался от этого намерения, возможно, потому, что тональность «Железной дороги» отличается от этих стихотворений. При работе над произведениями для детей поэт опирался на знание устного народного творчества и исследования по фольклору. При публикациях Некрасов давал примечание, что данное произведение — из книги стихотворений для детского чтения, что готовится к печати.
I. ДЯДЮШКА ЯКОВ
Впервые: Отечественные записки. 1868. № 2.
С офенями (в отличие от коробейников они торговали с воза) поэт Некрасов познакомился в 1861 г., когда был во Мстере (Вязниковский уезд, Владимирская губерния), где производились лубочные картины и книги.
Неоднократно было положено на музыку.
Седенький сам, а лошадка каракова… — караковая лошадь — с черным окрасом корпуса, гривы и хвоста и с рыжими подпалинами на морде.
Сбоина макова — сладкий жмых из семян мака.
…На грош два кома! — Последние два слова эти произносятся слитно, с ударением на «два».
Впервые: Отечественные записки. 1868. № 2.
III. ГЕНЕРАЛ ТОПТЫГИН
Впервые: Отечественные записки. 1868. № 2.
Лишний шкалик за него Поднесу… — т. е. еще полбутылки.
Сам смотритель на крыльцо Выбегает бойко… — Смотритель — старший на почтовой станции, где проезжающие меняют лошадей.
Не заметил впопыхах, Что с железом губа… — Медведям, которых водили по деревням, продевали кольцо через губу для цепи.
<IV>. ДЕДУШКА МАЗАЙ И ЗАЙЦЫ
Впервые: Отечественные записки. 1871. № 1.
В августе, около Малых Вежей… — Малые Вежи — деревня Костромской губернии, где часто охотился Некрасов.
(Всю эту местность вода понимает…) — т. е. заливает в половодье.
Начал частенько Мазай пуделять… — т. е. промахиваться при стрельбе.
Спичку к затравке приложит — и грянет! — Затравка — у ружья, которое заряжается с дула, скважина в стволе, куда насыпают порох.
<V>. СОЛОВЬИ
Впервые: Отечественные записки. 1870. № 10.
<VI>. НАКАНУНЕ СВЕТЛОГО ПРАЗДНИКА
Впервые: Нашим детям. Иллюстрированный литературно-научный сборник. Издание А. Н. Якоби. СПб., 1873.
Накануне светлого праздника — т. е. накануне Пасхи, главного православного праздника. Светлым праздником называлась Пасха, а вся Пасхальная неделя — Святой неделей. Первый день Пасхи всегда бывает в воскресенье; суббота накануне называется Страстной или Великой.
Я ехал к Ростову… — имеется в виду Ростов Великий. Некрасовская Карабиха находилась между Ростовом и Ярославлем.
Впервые: Отечественные записки. 1874. № 2.
Написано в 1872—1873 гг. Стихотворение предвосхищает образ города в поэзии В. Я. Брюсова и А. А. Блока. Г. В. Адамович заметил тематическое сходство «Утра» со стихотворением Бодлера «Рассвет» и даже интонационную общность русского и французского поэтов (См.: Адамович Г. Некрасов // Современные записки. 1937. Кн. LXV. С. 415).
Страшный год
Впервые: Братская помочь пострадавшим семействам Боснии и Герцеговины. СПб., 1876.
Стихотворение — отклик на события франко-прусской войны и поражение Парижской коммуны. Заглавие — отсылка к одноименному сборнику стихов Виктора Гюго, с которым Некрасов познакомился в апреле 1872 г. Тогда же были сделаны первые наброски. Завершено стихотворение было в 1874 г.
«Смолкли честные, доблестно павшие…»
Впервые: в нелегальной печати, без заглавия, с подзаголовком: «Посвящается подсудимым процесса 50-ти», — Земля и воля. 1879. № 5. 8 апр.; за границей — Общее дело. 1882. № 47, март. С. 1; в легальной печати — Сибирская жизнь (Томск). 1898. № 53.
Написано в 1872—1874 гг. Как и «Страшный год», является откликом на франко-прусскую войну и подавление Парижской коммуны.
Три элегии
Печатается по ПП, с. 25—29.
Впервые опубликовано: Складчина. Литературный сборник, составленный из трудов русских литераторов в пользу пострадавших от голода в Самарской губернии. СПб., 1874.
Стихотворения завершены, по всей видимости, в январе — марте 1874 г., посвящены Алексею Николаевичу Плещееву (1825—1893), поэту, в прошлом — петрашевцу, сотруднику и секретарю редакции «Отечественных записок», который давно сотрудничал с Некрасовым.
Элегии были высоко оценены и читателями, и критикой. Сдержанней обычного отнеслась радикально настроенная критика.
Вторая элегия («Бьется сердце беспокойное…») была положена на музыку С. И. Танеевым (1905); третья — положена на музыку неоднократно, в том числе Ц. А. Кюи (1902).
Путешественник
Впервые: в статье В. Е. Евгеньева-Максимова «Предсмертные думы Н. А. Некрасова» — Заветы. 1913. № 6.
Написано 13 июля 1874 г., во время процесса участников кружка революционера-народника А. В. Долгушина (1848—1885), которые обвинялись «в составлении преступных воззваний». Известия о том, как во многих захолустьях в эти годы лютовали волки, Некрасов использовал в иносказательных целях.
Впервые, с сокращениями: Отечественные записки. 1875. № 1.
Написано в 5—13 июля 1874 г.
В стихах воспроизведен пейзаж имения Некрасовых Грешнева.
Сгорело ты, гнездо моих отцов! — Речь идет о пожаре в Грешневе.
Свистит кулик, кружится рыболов… — т. е. чайка.
…И, позабыв зеленую атаву… — т. е. свежую траву (отаву).
…И царственно уселся на стожар. — Т.е. на шест, который втыкают в середину стога для устойчивости.
Отъезжающему
Впервые, в составе цикла «Последние песни Н. А. Некрасова»: Отечественные записки. 1878. № 1.
Написано 23 июля 1874 г., обращено к И. С. Тургеневу, который приезжал из-за границы и был в России с конца апреля по июль 1874 г.
Впервые, под заглавием «Пророк (Из Барбье)», с подписью: «Н. Н.», без последней строфы: Отечественные записки. 1877. № 1.
Обычно стихотворение считают своеобразным портретом Н. Г. Чернышевского.
Замысел произведения возник 8 августа 1874 г., ночью.
Элегия («Пускай нам говорит изменчивая мода…»)
Впервые, с цензурными пропусками: Отечественные записки. 1875. № 2.
Написано в 15—17 августа 1874 г., в период «хождения в народ», и обрело редкую популярность.
Посвящено Александру Николаевичу Еракову (1817—1886), инженеру, другу, мужу сестры (А. А. Буткевич).
Как празднуют трусу
Впервые, без заглавия, с датой: «Апрель 1876 г.»: Жизнь, 1898. № 1.
В 1876 г. поэт намеревался опубликовать стихотворение у А. С. Суворина в «Новом времени», но оно опубликовано не было, всего вероятнее, по цензурным соображениям.
Как празднуют трусу. — Праздновать трусу — бояться, трусить, робеть.
Утром мы наше село посещали… — Т.е. село Грешнево Ярославской губернии.
Поэту («Где вы – певцы любви, свободы, мира…»)
Впервые, без подзаголовка, с цензурными пропусками: Отечественные записки. 1874. № 9.
Написано в сентябре 1874 г.
Вступление к песням 1876–1877 годов
Впервые, под заглавием: «Вступление», с подписью: «Н. Н.»: Отечественные записки. 1877. № 1.
Стихотворение открывало лирический цикл «Последние песни» (Отечественные записки. 1877. № 1), в который вошли стихотворения «Сеятелям», «Отрывок», «Молебен», «З<и>не» («Двести уж дней…»), «Пророк», «Дни идут… все так же воздух душен», «Скоро стану добычею тленья…», «Друзьям». В следующем номере журнала цикл был продолжен: «З<и>не» («Пододвинь перо, бумагу, книги!..»), «Поэту» («Любовь и Труд — под грудами развалин…»), «Горящие письма», «Приговор». В цикле отразились мучительные переживания неизлечимо больного Некрасова. «Вступление к песням 1876—1877 годов» виделось поэту «предисловием» к этому циклу и как «прощание с жизнью».
На стихотворение, как и на весь цикл, сочувственно откликнулся Ф. М. Достоевский. Об этом же цикле в августе 1877 г. Н. Г. Чернышевский напишет А. Н. Пыпину из сибирской ссылки: «…Если, когда ты получишь мое письмо, Некрасов еще будет продолжать дышать, скажи ему, что я горячо любил его как человека, что я убежден: его слава будет бессмертна, что вечна любовь России к нему, гениальнейшему и благороднейшему из всех русских поэтов» (Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. Т. XV. М., 1953. С. 88).
Зине («Ты еще на жизнь имеешь право…»)
Впервые, с заглавием «З-не»: Последние песни. Стихотворения Н. Некрасова. СПб., 1877.
Написано весной 1876 г. в период первого обострения болезни.
Зина (Фекла Анисимовна Викторова, 1851—1915) — гражданская жена Некрасова, с которой он обвенчался за несколько месяцев до смерти. Некрасов и его знакомые называли ее Зинаидой Николаевной.
«Скоро стану добычею тленья…»
Впервые, с измененной по цензурным причинам 14-й строкой и за подписью «Н. Н.»: Отечественные записки. 1877. № 1.
Первоначальный вариант написан еще в 1874 г. Откликом на стихотворение, как и на все последние песни, стал адрес, поднесенный студентами Некрасову в начале февраля 1877 г., где среди прочего говорилось:
«Из уст в уста передавая дорогие нам имена, не забудем мы и твоего имени и вручим его исцеленному и прозревшему народу, чтобы знал он и того, чьих много добрых семян упало на почву народного счастья.
Знай же, что ты не одинок, что взлелеет и возрастит семена всей душой тебя любящая учащаяся молодежь русская» (Книга и революция. 1921. № 2. С. 55).
«Угомонись, моя муза задорная…»
Впервые, с примечанием: «Стихотворение это написано в Крыму и помечено 1876 годом»: Петербургский листок. 1907. 27 дек. № 355. Опубликовано Н. Нильским по автографу, полученному им от друга Некрасова, артиста П. А. Никитина.
Музе («О муза! наша песня спета…»)
Впервые: Последние песни. Стихотворения Н. Некрасова. СПб., 1877.
Зине («Двести уж дней…»)
Впервые, с заглавием: «З-не», датой: «4 дек. 1876, ночь» и подписью «Н. Н.»: Отечественные записки. 1877. № 1.
Положено на музыку Ц. А. Кюи, 1902.
Двести уж дней, Двести ночей… — т. е. с 18 мая 1876 г., когда было написано первое стихотворение, посвященное Зине («Ты еще на жизнь имеешь право…»).
Впервые: Отечественные записки. 1877. № 1.
Впервые: Отечественные записки. 1877. № 1.
Неоднократно положено на музыку.
Где же вы, с полными жита кошницами? — т. е. с корзинами.
Впервые, с цензурными пропусками: Отечественные записки. 1877. № 1.
Неоднократно положено на музыку.
Отрывок («… Я сбросила мертвящие оковы…»)
Впервые: Отечественные записки. 1877. № 1.
«Дни идут… все так же воздух душен…»
Впервые: Отечественные записки. 1877. № 1.
«Мы вышли вместе… Наобум…»
Впервые, в статье В. Е. Евгеньева-Максимова «Н.А. Некрасов и А. И. Герцен»: Заветы. 1913. № 12.
Написано в 1861 и переделано в 1877 г. Обращено к Тургеневу. Но были предположения, что отдельные строфы обращены к А. И. Герцену и Н. А. Добролюбову.
«Есть и Руси чем гордиться…»
Впервые: Заветы. 1912. № 9, с. 87.
6 декабря 1876 г. на Казанской площади в С.-Петербурге обществом «Земля и воля» была организована демонстрация. В январе 1877 г. Сенат рассмотрел дело об этой демонстрации, многие из подсудимых были приговорены к ссылке и каторге. Откликом на этот процесс стало данное стихотворение.
Вестминстерское аббатство — Соборная церковь Святого Петра в Вестминстере (Лондон), традиционное место коронации монархов Великобритании и захоронений не только монархов, но и государственных деятелей, полководцев, ученых, писателей.
«Вам, мой дар ценившим и любившим…»
Впервые: Санкт-Петербургские ведомости. 1877. 20 дек. № 351.
Стихотворение Некрасов посвятил своим читателям. Автограф стихотворения был в начале февраля 1877 г. подарен поэтом студенческой депутации, которая поднесла ему адрес от имени радикально настроенной молодежи Петербургского и Харьковского университетов, Медико-хирургической академии, Технологического института и Харьковского ветеринарного института.
Горящие письма
Впервые: Отечественные записки. 1877. № 2.
Новая редакция стихотворения «Письма», написанного в 1855-м или начале 1856 г., обращенного к А. Я. Панаевой.
В названии — отсылка к стихотворению Пушкина «Сожженное письмо» (1825).
Зине («Пододвинь перо, бумагу, книги!..»)
Впервые, с датой: «13 февр. 1877. С.-П<етер>б<ург>»: Отечественные записки. 1877. № 2.
Милый друг! Легенду я слыхал: Пали с плеч подвижника вериги, И подвижник мертвый пал! — Возможно, отзвук легенды «О двух великих грешниках» («Кому на Руси жить хорошо»). В вариантах легенды исполнение наложенной на раскаявшегося грешника епитимьи совпадает с его смертью.
Поэту («Любовь и Труд – под грудами развалин!..»)
Впервые, с датой: «Февр. 1877»: Отечественные записки. 1877. № 2.
Положено на музыку Ц. А. Кюи (1902).
Баюшки-баю
Впервые, с датой: «1877 г. Марта 3-го»: Отечественные записки. 1877. № 3.
Стихотворение имело горячий отклик у многих современников.
«Черный день! как нищий просит хлеба…»
Впервые: Отечественные записки. 1878. № 1.
Впервые, в составе цикла «Последние песни Н. А. Некрасова»: Отечественные записки. 1878. № 4.
Ты не забыта
Впервые, в составе цикла «Последние песни Н. А. Некрасова», с датой: «5-го ноября 1877 г.»: Отечественные записки. 1878. № 2.
Впервые, без подписи, с датой: «7-го ноября»: Отечественные записки. 1877. № 11.
Отклик на Русско-турецкую войну 1877—1878 гг.
Впервые, в составе цикла «Последние песни Н. А. Некрасова», с датой: «12 ноября 1877 г.»: Отечественные записки. 1878. № 2.
Стихотворение отражает состояние поэта, которому был прописан опиум как обезболивающее средство от рака.
«Великое чувство! у каждых дверей…»
Впервые, в составе цикла «Последние песни Н. А. Некрасова»: Отечественные записки. 1878. № 4.
Подражание Шиллеру
Впервые, с указанием, что стихотворение «взято из материалов, записанных Н. А. Некрасовым перед смертью: в анонимной статье «Из бумаг Николая Алексеевича Некрасова. (Библиографические заметки)»: Отечественные записки. 1879. № 1. Отд. II. С. 63.
«О Муза! я у двери гроба!..»
Впервые, с цензурной купюрой в стихе 12 («… Музу…»): Отечественные записки. 1878. № 1. К публикации было дано примечание: «Это стихотворение, по свидетельству сестры покойного, А. А. Буткевич, было последним, которое он написал».
Примечания
Мочульский К.В. Кризис воображения. Статьи. Эссе. Портреты. Томск, 1999. С. 44.
Мочульский К.В. Кризис воображения. Статьи. Эссе. Портреты. Томск, 1999. С. 44.
Н.А. Некрасов в воспоминаниях современников. М., 1971. С. 247.
Чуковский К. Некрасов. Статьи и материалы. Л., 1926. С. 393.
Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч. в 30-ти т. Т. 26. – Л.: Наука, 1984. С. 121.
Цит. по: Н.А. Некрасов в воспоминаниях современников. М.: Худож. литература, 1971. С. 20.
Н.А. Некрасов в воспоминаниях современников. – М.: Худож. литература, 1971. С. 178.
Эйхенбаум Б. О поэзии. Л., 1969. С. 58.
Гиппиус З.Н. Загадка Некрасова // Гиппиус З.Н. Арифметика любви (1931—1939). СПб., 2003. С. 535.
Гиппиус З.Н. Загадка Некрасова // Гиппиус З.Н. Арифметика любви (1931—1939). СПб., 2003. С. 535.
Розанов В.В. О себе и жизни своей. М.: Моск. рабочий, 1990. С. 45.
Андреевский С.А. Литературные очерки. СПб., 1902. С. 171.
См.: Чуковский К. Некрасов. Статьи и материалы. Л., 1926. С. 196.
Некрасов Н.А. Полн. собр. соч. и писем в 15-ти т. Т. 11. – Л.: Наука, 1990. С. 33.
Адамович Г. Некрасов // Современные записки. 1937. Кн. LXV. С. 415.
Три месяца в отчизне. Опыты в стихах и прозе, сопровождаемые рассуждением о мерах, способствующих развитию нравственных начал в русском народе и естественных богатств Российского государства. Сочинение россиянина, графа де Гаранского. Восемь томов в четвертую долю листа. Париж, 1836 (франц.).
Так народ называет пробуждение природы весной.
Хозяева английского магазина.
Известные модистки.
Спасибо (франц.).

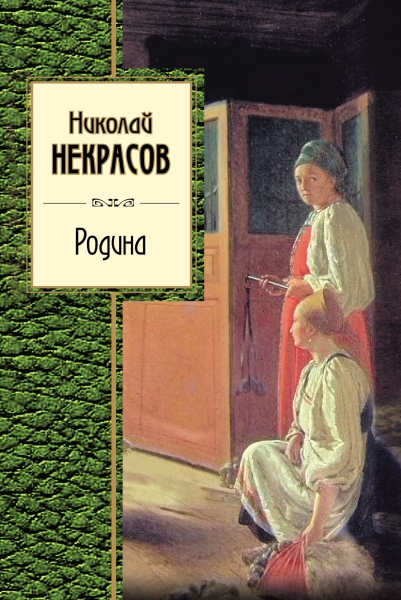
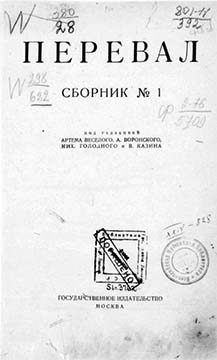
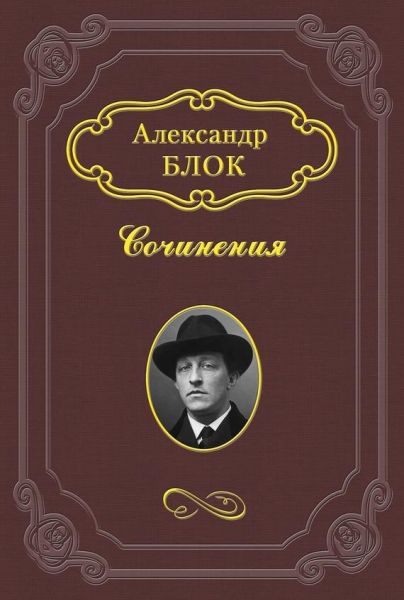


Комментарии к книге «Родина», Николай Алексеевич Некрасов
Всего 0 комментариев