Сергей Боровиков
В РУССКОМ ЖАНРЕ
Из жизни читателя
ПРЕДИСЛОВИЕ
Жанр своих этюдов сам автор оценивает как «русский, ленивый, не тщеславный», обломовский — читатель, дескать, почитывает и сам же тут же пописывает. В русском жанре — то есть в русском духе. Так-то оно так, но не всему верьте. Есть превосходное знание второго и третьего эшелонов литературного войска (а не одних только генералов) — знание, требующее въедливого трудолюбия. Есть любимые герои, которым посвящены обдуманные главы и фрагменты: Чехов и Толстой с «Войной и миром», Толстой А. Н. и Вертинский; есть главы-темы («Из жизни пьющих»). Но особенная прелесть каждого из сюжетов — как раз в неуследимой логике перехода от одной мысли к другой, каковую логику объяснить невозможно, а между тем она существует, как есть она в голове привольно задумавшегося, никому не обязанного отчётом человека. Уверяю вас, это всё очень тщательно подобрано и искусно слажено, какая уж там лень.
Вот, к примеру, пишет он о неприязни Бунина к Достоевскому, который «каждой своей страницей сводил на нет... всё его тончайшее эстетическое сито». А перед тем невзначай сам потряхивает этим «ситом» и заодно тревожит тригоринско-чеховский бутылочный осколок: «Запах мыла утром на реке — запах молодого счастья. Стрекоза, радужные разводы на поверхности, от которых удирает водомерка, и краешек горячего солнца из-за леса». Или вспоминает-описывает вырезание ёлочных игрушек из журнала «Затейник» — ничуть не хуже позднего Валентина Катаева. Умеет.
Много знает, многое умеет и ничего не боится произносить вслух. «Не бросайте в меня дохлой кошкой!» Возмущённые читатели уже бросали — за «попрание» Паустовского, Булгакова. А возразить-то не получается. Нечего и говорить, что здесь и портрет советской литэпохи — с её «общей, лагерной тоской», пышными съездами и тёмными интригами, сорванными кушами и мелочными приработками, посадками и реабилитациями, халявными пиршествами и предательскими смертями. Никакой «завербованности», ностальгии или проклятий, просто пишет человек, не расстававшийся с возможностью быть свободным посреди внешней несвободы. Свободен он ещё и потому, что — читатель по призванию: книги для таких людей создают перспективу жизни за гранью текущего и делают текущее относительным, не вечным.
В книгах же — рецепты жизни и комментарии к ней. Иногда рецепты буквальные: любой, прочитав главу о Чехове, непременно запомнит, как автор — эврика! — вытащил из холодильника все ингредиенты закуски, описанной в «Сирене» , с успехом сотворив целое, выпил и закусил. Но вот примep ещё лучше на тему «литература и жизнь»: «Кандидатши от блока “Женщины России” в своих выступлениях так часто употребляют слово “мужчины”, что вспоминаются страницы купринской “Ямы”».
И. Роднянская
В РУССКОМ ЖАНРЕ - 1
Меня давно занимает, как один классик воспринял бы другого, из новых времён? Ну, Жуковский — Блока, Гончаров — Бунина, Тургенев — Булгакова? К сожалению, в этих сопоставлениях чересчур важным оказывается не текст, но различие эпох, житейских реалий, социального расклада и т. д. Но вот ведь и близкие по времени не могли бы, кажется, быть поняты. Во всяком случае, как ни насиловал воображение, представить себе Пушкина, читающего Достоевского, никак не смог. А ведь реалии, уклад жизни — почти те же. А какой-то рывок не просто в сознании, но во времени — от Пушкина.
Достоевский и Толстой равно презрительно-зло относились к медицине и докторам. Самые яркие примеры — доктора в «Братьях Карамазовых» и «Анне Карениной». Здесь содержится что-то куда более важное, чем совпадение или, скажем, предрассудок людей одного времени и класса.
Разочарование в медицине не в силу её слабости, но в силу всемогущества, притом бездуховного?
Тело как объект деятельности медицины, тогда как оно лишь вместилище души? Совесть как инструмент здоровья или условие здоровья или нездоровья? Здоровье нравственное и здоровье телесное?
Главное всё же в их неприятии — это разделение медициною души и тела, плоти и духа.
Тип русского — бледно-жёлтого, с туго натянутой, как прежде писалось — пергаментной кожей, и в зрелом возрасте мало обрастающего бородой по несколько татарскому типу, с очень густыми и толстыми волосами во всю жизнь на голове, никогда не лысеющей, а когда начинают седеть, то как бы нарочито мешающимися меж собой (соль с перцем). Худощавый, как правило, высокий и очень трудный в общении. Чёрные глаза с неразличимыми зрачками. Когда волнуется, закипает пена на губах. Общее впечатление — сухости и черноты, как бы сухого, но не пожара, а уж горячей золы, кострища.
Вероятно, к этому типу принадлежит Раскольников.
Провожая приятеля из особняка Дункан на Пречистенке, Есенин угрюмо сообщил ему, что уезжает в Америку. Он и в самом деле уехал в Америку. Но ещё он обожал Свидригайлова, и в таком случае его «Америка» с «Англетером» приобретает и другой, зловещий смысл.
Последний том собрания сочинений И. А. Гончарова. Раздел критики завершает статья «Нарушение воли» — протест писателя против посмертных публикаций любых бумаг, в том числе писем. Прямая мольба: «Пусть же добрые порядочные люди, джентльмены пера, исполнят последнюю волю писателя, служившего пером честно, — и не печатают, как я сказал выше, ничего, что я сам не напечатал при жизни и чего не назначал напечатать по смерти. У меня нет в запасе никаких бумаг для печати.
Это исполнение моей воли и будет моею наградою за труды и лучшим венком на мою могилу».
Следующий раздел тома: «Письма»! И — ни словечка объяснения в комментариях «джентльменов пера» по поводу нарушения последней просьбы великого писателя.
В дневнике Корнея Чуковского (может быть, самой интересной архивной публикации 92-го года) говорится о завещании М. Горького, в котором «всё передаётся в руки Крючкова». Вроде бы диковато — всё отказать секретарю при трёх живых жёнах и двух внучках. Но ведь была же в «Волге» публикация А. Ефимкина «Карт-бланш агенту ОГПУ» (1991, № 8); публикатор не филолог, а экономист, исследователь истории советской финансово-кредитной системы, обнаружил в архивных документах Внешторгбанка доверенность Горького П. П. Крючкову практически на все доходы от издания своих сочинений, что составляло тогда, в 1927 году, колоссальные суммы. Так что политические игры, в которые всю жизнь играл Горький, вполне могли дойти и до последнего завещания.
Сомнения вызывает, правда, то, что Крючков никак не был человеком Сталина. И если в 1927 году этот чекист мог представлять государственные интересы, то использовать его в такой роли в 1936 году, при своём всевластьи Сталин вряд ли бы стал. Сомнительны и бытовые подробности, приводимые Чуковским: сам Алексей Максимович передал якобы М. И. Будберг (которую, как известно, вызвал из Италии перед смертью), а та в свою очередь передала Пешковой для Сталина–Молотова. Почему он сам не отдал Сталину—Молотову? Почему не Пешковой, а Будберг? Скорее всего, это сведения из шёпотов вокруг гроба Горького, из дворцовых шёпотов, которые во многом, если не в основном, подпитывались НКВД. А главная сомнительность такого завещания: власть могла вынести какое угодно решение по поводу наследия Горького, и это никак бы никем не оспаривалось да даже и не обсуждалось бы гласно. Вероятно, слухи о завещании были необходимы для Запада, для хорошего тона; великий человек уходить без завещания не должен.
В музее-«доме» Горького у Никитских ворот ёжишься от стыда, лишь представишь, как Горький въезжал в чужой дом с чужими вещами. В столь острую ситуацию нельзя поставить кремлёвских вождей, ведь в отличие от них сам Горький многие годы обитал в богатых домах или бывал в них у их хозяев, может быть, и у того же Рябушинского, чей дом он занял, приехав в СССР. Сколько же в себе надо было затоптать! Думаю, со временем мы всё больше будем интересоваться этой личностью, достойной стоять в ряду величайших — если и не писателей, то личностей, великих авантюристов. Чтобы оценить масштабы его деятельности, достаточно сравнить его со знаменитыми современниками, скажем, Азефом, Савинковым, Дзержинским; ясно, что Горький превосходил большинство из них.
В литературном его значении предстоит разбираться. Дурную роль с книгами Горького сыграла и ранняя преувеличиваемость его, и многолетняя советская официальная «слава», но всё же недаром не сходит со сцены «На дне», растёт интерес к «Жизни Клима Самгина», а его литературные портреты в самом что ни на есть «золотом фонде» этого жанра. «Детство», «Жизнь Матвея Кожемякина», «Мещане», «Васса Железнова», «Городок Окуров», портреты — вот минимум того, что войдёт на равных правах в сужающийся с каждым годом корпус русской классики.
Сам же Горький — что замечательно — не заблуждался насчёт своего литературного таланта. Его высказывания о собственных произведениях не кокетливы и не самоуничижительны паче гордости. Думаю, глубокая самовозвышенность жила в нём, осознание себя как некоего средоточия русского разума — какого-то постоянного центра, якобы всегда знающего, чего России надо. Он никогда, никогда не срывался с этой ноты всезнания России, обстоятельств момента, нужд, перспектив, полагая всегда себя в этом правым. В этом психологически ему близок Ленин, также всегда «правый».
А литературными достоинствами собственных произведений он легко поступался, и явно не ценил их по заслугам, точнее не выше, а то и ниже заслуг.
Всё чаще появляются в печати сочинения, которые можно назвать мозаичной эссеистикой. Кусочки, обрывочки, заметочки. Великое заблуждение искать причину в обаянии книг В. В. Розанова. От пушкинских «Table talk» и до записей Юрия Олеши писание отрывками, заметками, кусочками есть непременная часть русской прозы. Розанов же — сам был жанр, и мимоходом о том сказать невозможно, так же как невозможно «подражать» ему. В отношении же «жанра» моих заметок, то его, думаю, уместно определить как русский жанр, как ленивый жанр, как нетщеславный жанр. Так писали и пишут многие русские люди. Если бы после смерти Ильи Ильича Обломова вдова обнаружила записи, то — в русском жанре.
4-й номер «Молодой гвардии» за этот год заключает «Поправка», ослепительно представляющая всё содержимое журнала за долгие годы: «В № 3 “МГ” за этот год на с. 142 в 17-й строке снизу вместо слова “еврейство” следует читать “евразийство”».
Когда-то меня удивило в московской литературной среде число интересующихся еврейским вопросом. Я заметил, что чем дальше от Москвы и Ленинграда, тем меньше интереса к нему. Досужее объяснение, конечно, было: хитрые евреи живут в основном в столицах и потому вызывают к себе недоброжелательный интерес. Но потом мне стало понятно, что антисемитизм в столичной художественной среде, кроме прочего — ещё и словно бы средство приближения к народу.
Живёт забубённый москвич, развратник, эстет, законченный декадент, но стоит ему только заявить свою нелюбовь к евреям, так вроде бы он уже и не декадент, но как бы даже и народности не чужд. А тогда народность значила никак не меньше, чем партийность, особенно если учесть, что партийность должна была проявляться лишь на официальном, а народность и на бытовом уровне, ведь у всех рулей власти, в том числе и литературной, стояли люди «из народа». И попав за их стол, наш декадент ревел что есть мочи: «Ромашки спрятались, поникли лютики!».
У каждого критика-патриота всегда было за пазухой одно бесспорное еврейское имя: Левитан, Пастернак, Мандельштам. К месту и не к месту патриот приводил именно это одно имя, чтобы потом сослаться на него в случае обвинения в антисемитизме.
В порче русского литературного языка критика, называющая себя патриотической, обвиняет не в последнюю очередь «русскоязычных». Что ж, русскоязычные так русскоязычные, только, как говаривал друг Швейка старый сапёр Водичка, «извольте и вы, многоуважаемая барышня, говорю, получить, чтобы вам обидно не было». Ежели и вёлся подкоп под русский язык, и, с одной стороны, его рыли своими выхолощенными конструкциями Полевой, Чаковский или Гранин, то с другой — наступал колхозно-чудско-мордовский язык Панфёрова, Алексеева, Иванова. А русского языка Гончарова, Бунина и, уж извините, Алексея Н. Толстого, того русского языка, просто не существует. В. Белов лучшие вещи написал на северном диалекте, в Распутине никогда не умирал журналист комсомольской газеты, а уж о других и говорить нечего. Знание бытовой речи советского колхозника столь же не показатель владения богатством русского языка, как и знание жаргона научных работников.
Помните пионерские приветствия партийным «форумам» — словечко последнее уже постхрущёвской эпохи и в нём признаки тления: можно ли представить, что Киров или Жданов употребляют слово «форум»?! Нет, здесь уже слабинка, желание выглядеть перед Западом культурными и либеральными. Так вот, наступает минута, и в зале, как указывалось в стенограмме возникает «оживление». Ко всему прочему — то есть галстукам, особому, пионерскому, тембру голоса, с которым иные так и прошагают до серьёзных постов, полагался и непременный сатирический элемент. Один, самый задорный и, возможно, даже толстенький пионер зачитывал нечто вроде:
А ещё напоминаем
Всем строителям страны, —
и по всем эстрадным канонам его антипод — худенькая девочка пищала:
Что учиться мы желаем,
Школы новые нужны!
Тут в стенограмме к оживлению прибавлялся ещё смех и аплодисменты. А сатира шла по нарастающей.
Но кто же и каким образом сочинял эти приветствия? Ведал сим делом ЦК ВЛКСМ, его отдел пропаганды, и самое здесь интересное, что попасть в сочинители такого заказа было знаком большого доверия, и вокруг него начинались интриги, борьба за своего протеже и т. д. Поселяли поэта в доме отдыха ЦК, кормили, поили и «работали» — то есть они давали темы, установки, а он писал, они читали, делали замечания, а он исправлял; стихи подымались всё выше и выше на утверждение. Главным же было то, что написание пионерских задорных текстов к очередному съезду партии ложилось не последней, хотя и негласной, строкой в биографию поэта, от рабоче-крестьянского происхождения и до отсутствия родственников за границей.
Удивительная — и уходящая — фигура редактор. В советском варианте это и руководитель крупнейшего издательства, и мелкий клерк, сидящий на письмах, все они, как в армии от маршала до рядового солдаты, — редакторы!
От многих, часто суровых, уроков у них была неистребляемая привычка к правке текстов. Совершенно напрасно в своих жалобах-воспоминаниях советские писатели, прошедшие через редактуру, сводят правку к идеологической, политической, цензурной. Я знал опытных редакторов, которым вид чистой, неправленой авторской страницы был нестерпим, ведь чем более было исправлений, тем лучше поработал редактор. Они заменяли «двигался» на «направлялся», «лень» на «праздность», делая это, казалось бы, бессмысленно и бескорыстно. Но в деятельности редактора содержались большие возможности для самоутверждения, недаром большинство редакторов, зачастую тайно, принадлежали к сочинителям.
Пишущий был беспредельно зависим от редактора. Но и власть зависела от главного редактора, потому что, несмотря на цензуру, КГБ, доносительство и непременную партийную ответственность, он мог-таки завернуть одно и, пусть с потерями и сложностями, напечатать другое. Какими бы замечательными редакторами ни были Некрасов, Катков, Краевский, Суворин, Горький, Аверченко, — подобие зависимости литератора от них, как от Твардовского, немыслимо! Ведь шестидесятники вспоминают о Твардовском-редакторе, как о полубоге. Они знали, что если он не напечатает, не напечатает никто. Можно ли представить себе Тургенева, Чехова, Бунина, даже писателей первых советских лет, в роли всецело зависящего от воли редактора Астафьева, Трифонова, Шукшина! Выйти из этой зависимости мог лишь тот, кто начинал печатать за границей нецензурные сочинения, но то уже был переход в иную плоскость существования.
Очень подходящая фамилия для женщины-критика — Напалмова. А имя — Раиса. Раиса Напалмова, критик-патриот!
Хорошо бы написать книжку типологических портретов членов Союза писателей СССР, ведь большинство шли по какому-то разряду, обладая внутриписательской, более узкой специализацией. Например: один — романтик, другой — чекист, третий — местный Толстой, четвёртый — человек из народа, пятый — честный советский еврей; надо было лишь вовремя организовать в кулачок происхождение, биографию, обстоятельства вхождения в литературу, политическую обстановку, ну и конечно, что Бог по части литспособностей послал, и — вперёд. Те, кто сызначалу о специализации не позаботились, как правило, не преуспевали.
В РУССКОМ ЖАНРЕ - 2
Я сделал неожиданное открытие: Незнайка из романа Н. Носова — точь-в-точь знаменитейший поэт-шестидесятник.
Цитирую. «Но самым известным среди них был малыш по имени Незнайка. Его прозвали Незнайкой за то, что он ничего не знал.
Этот Незнайка носил яркую голубую шляпу, жёлтые, канареечные брюки и оранжевую рубашку с зелёным галстуком. Нарядившись таким попугаем, Незнайка по целым дням слонялся по городу, сочинял разные небылицы и всем рассказывал. Кроме того, он постоянно обижал малышек».
Особую известность принесла Незнайке история с майским жуком. Этот жук налетел на Незнайку и ударил его по затылку. Незнайка свалился и, оглядевшись кругом, решил, что от солнца оторвался кусок и ударил его по голове. «Братцы, спасайся! Кусок летит!»
Сугубый эгоцентризм Незнайки — если уж кто его ударил, так само солнце, — вполне сопрягается с панически-общественным темпераментом поэта.
Затем следуют истории о том, как Незнайка, не желая как следует ничему учиться, хватался за разные дела: играл на трубе, был художником, сочинял стихи, катался на газированном автомобиле.
Неуёмность Незнайки в соединении с дилетантизмом живо напоминают нашего знаменитейшего поэта, побывавшего, как известно и романистом, и фотографом, и актёром, и режиссёром, и преподавателем литературы на ТВ. А если присовокупить доброжелательный, открытый нрав Незнайки, его бесхитростную самовлюблённость и умение попадать в центр любого, прежде всего скандального, события в Цветочном городе — сходство делается поразительным.
Багрицкого и Павла Васильева заклеймили из разных лагерей: первого как сиониста и чекиста — патриоты, второго как хулигана и черносотенца — либералы. Но если подбирать в советской поэзии пары по сходству, то Багрицкий и Васильев образуют пару.
Строчки Пастернака «где воздух синь, как узелок с бельём у выписавшегося из больницы», — во-первых, невозможно произнести вслух: «у выписавшегося», во-вторых — сам образ выдуман: из больницы уносят несвежее, грязное бельё, для сравнения с небесной синью никак не подходящее.
А между тем — стихи изумительные! К тому же, возможно, я не прав, и в то время из больницы выписывали, выдавая постиранное бельё? Всё это ерунда, а не ерунда сами стихи.
Стихотворения Маяковского «Нате!» и «Вам!», как мы помним, есть протест против окружающего поэта мещанства и т. п. Что протест — верно. Но какого рода? «Вы, бездарные многие, думающие лучше нажраться как...», «Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста...». Как-то упускалось из виду, что это — ресторанные стихи. Кроме цыганского оркестра, выпивки, закуски, танцев в реестр кабацких удовольствий входит скандал. Были и специалисты по части их организации.
«Все вы свиньи, ненавидимые мной! — кричал он. — <...> Ненавижу вас и презираю! Публика! Есть ли на свете слово, низменнее этого? A-а! Вы сбежались посмотреть на скандал? Ну, так вот вам, глядите! <...> Вы, кажется, смеётесь, молодой идиот в розовом галстуке? <... > Ага, улыбка уже исчезла с вашего лошадиного лица. Вы — букашка, вы в жизни жалкий статист, и ваши полосатые панталоны переживут ваше ничтожное имя. Да, да, смотрите на меня, жвачные животные!»
Так озорует задолго до Маяковского отставной трагик Славянов-Райский в рассказе Куприна «На покое». Место действия и механизм его тот же: чем больше орёт артист на «буржуев», тем вернее угощают его. Ремесло.
В воспоминаниях Вероники Полонской поразительное место: в последний день жизни Маяковский в истерике, плачет, и стук в дверь: книгоноша принёс заказанные книги — тома собрания сочинений Ленина.
Из многочисленных персонажей Алексея Н. Толстого едва ли не ближе всех автору и выражает его собственную натуру Даша Булавина-Телегина в романах трилогии «Хождение по мукам». Её способность перехода, который точнее даже назвать перелётом, из одного гнезда в другое, лёгкость обновления собственной «среды обитания», включая близких людей, несомненно запечатлели для нас аналогичные способности автора. Её похождения в стане анархистов, заговорщиков-монархистов, затем белых, затем коммунистов вполне естественны для самого Алексея Николаевича, а одна сцена так и вовсе напомнила его успехи на ниве материального стяжания.
Анархист Жиров приводит Дашу в занятый анархистами Московский клуб с ордером на одежду.
«— Дарья Дмитриевна, выбирайте, не стесняйтесь, это всё принадлежит народу...
Жиров широким размахом указал на вешалки, где рядами висели собольи, горностаевые, чёрно-бурые палантины, шиншилловые, обезьяньи, котиковые шубки. Они лежали на столах и просто кучками на полу. В раскрытых чемоданах навалено платье, бельё, коробки с обувью. Казалось, сюда были вывезены целые склады роскоши. <... >
— Дарья Дмитриевна, берите всё, что понравится, я захвачу...
Что ни говорите о Дашиных сложных переживаниях (смерть ребёнка и разрыв с мужем. — С. Б.), — прежде всего она была женщиной. У неё порозовели щёки. <... > Она протянула руку к седому собольему палантину:
— Пожалуйста, вот этот.
Даша наклонилась над раскрытым кофр-фором, — на секунду стало противно это чужое, — запустила по локоть руку под стопочку белья. <... > Вот она опустила на себя тончайшую рубашку, надела бельё в кружевах. <... > Так значит, — всё впереди? Ну что ж, — потом как-нибудь разберёмся...»
Лишь секундное замешательство перед чужим у неё, принадлежащей тому самому кругу, где отняли или, убив, сняли эти палантины и бельё! Замечательно естественно выходило всё это в жизни у самого Алексея Николаевича. Рассказывали, что когда он, подобно многим коллегам, отправился в «освобождённую» Западную Украину за «впечатлениями», и их оказалось так много, что пришлось просить вагон, великий вождь заметил: «И этот оказался барахольщиком!».
Многописание сделалось грехом в литературной среде. Многопишущего и печатающегося презирают. А вот публикации Чехова: за 1883 год, январь — 15, февраль — 18, а всего за год — 102! Но и то сказать, пустяков немало. Но вот другой год, 1886-й — 111 публикаций! А среди них «Детвора», «Тоска», «Анюта», «Глупый француз», «Ведьма», «Хористка», «Месть», «Тина», «Беда», «Произведение искусства», «Юбилей», «Ванька».
Есть многописание и многописание. Если Некрасов писал для денег какие-нибудь жуткие «Три страны света» с Панаевой или рецензии на что угодно, дописывался до того, что немели руки и болело сердце, то знал, что пишет халтуру, и тогда же писал «Еду ли ночью по улице тёмной...», то Чехов различия не делал и воистину победы от поражения не желал отличать. Такое писательство нынче редкость, а в чеховские и последующие времена оно было нормой. Так писали Горький, Сологуб, А. Толстой.
В РУССКОМ ЖАНРЕ - 3
На набережной у причальной стенки очередное баянно-хоровое отправление туристского судна, и сколько же сразу всего пролетает мгновенно: и жалость к этим старательно орущим бабам, и родственность, и зло на их уверенность в праве орать, и воспоминания обо всём этом много раз виденном, о том, что баянист кого-то напоминает, а девочка на третьей палубе до слёз стыдится матери, поющей палубой ниже, и потому убежала наверх.
Фоном служат враз лёгшее на крыши судов мягкое дождливое небо, продуктовый фургон, из открытой двери которого торчат пурпурные коровьи полутуши, и всё-всё тонет, затягивается жемчужной пылью того мелкого дождя, который исподволь прибирает всё к рукам, чтобы без молоньи и грома завесить окрестность своей нежной тканью.
В сумерках подвалил крутой берег Вольска, в котором пока ещё ничто не могло изменить уездного облика, и, словно в пущую ему дополнительность, покатили десятки телег, загрохотали вниз к пристани, устанавливаясь от первой, упёршейся в пристань, друг за другом в ряд. И сразу к ним побежали с накидками на головах пароходные матросы — разгружать камышинские арбузы.
А я стоял на белом цементном полу пристани, читал плакат о безопасности на воде, глазел на толпу, жаждущую попасть на моего «Михаила Калинина» — то ли в буфет, то ли в путешествие вверх по матушке по Волге.
Справа от посадочного проёма, у самых сходней, облокотясь на оградительную сетку, стояли совсем молоденькие девушки и грызли семечки. Не надо было быть ясновидцем, чтобы понять, что им здесь надо. Посмотреть — или как хотите назовите эту прогулку, которая легла в основание по крайней мере десятка рассказов и эпизодов русской классической литературы. Свидание якобы маленького человека с якобы большой жизнью на полустанке, а якобы большая жизнь проносится в окнах вагонов, а герой (иня) остаётся в тоске захолустья. Назову сцену в «Воскресении» с алым бархатом диванов, картами Нехлюдова, с «Тётенька, Михайловна!» (качаловским, разумеется, баритоном), назову и «Скуки ради» Горького, вспомню Чехова, Куприна, Ал. Толстого («Прогулка») и предположу даже, что ко времени Октября сюжет стал штампом и перекочевал и в молодую советскую литературу.
Всё это, начитанное, кинулось мне в нетрезвую голову, и я почувствовал за бедных девушек, как они ходят сюда к пароходам глядеть на якобы интересную жизнь с тоскою за своё якобы прозябание, и решил их в этом разубедить.
Подошёл к ним и сказал:
— Вот вы сюда пришли, а для чего — сами не знаете.
— Знаем, — сказала одна, с тугим станом и желтоватым румянцем.
— Для чего же?
— А погулять.
— В училище поступили? — спросил я, и это их поразило. Они даже перестали грызть семечки и придвинулись ко мне; может быть, решив, что при такой осведомлённости я имею отношение к Вольскому педучилищу им. Ф. И. Панфёрова.
— Ничего здесь хорошего нет, — сказал я, махнув на «Михаила Калинина», — не о том вы должны мечтать. Главное что?
— Учёба, — ответила та, что со станом.
— Правильно, но... — и я поднял палец, — вот начнутся танцы-шманцы, мальчики, а мальчикам что от вас надо, а? То-то! Так я вам скажу, что главное. Главное для вас — это выйти толково замуж, ни о каких столицах, нехлюдовых, бархатах не мечтать. Вам нужен крепкий, порядочный, работящий муж. Это раз.
Тут, слава те Господи, ударили в колокол, я малодушно обрадовался, но, всходя на борт, всё-таки ещё раз напутствовал:
— За-амуж! Годы пройдут — меня вспомните! Только так: замуж.
И я пошёл в каюту, где, не зажигая света, налил из тёмной бутылки в стакан сверкнувшее в свете дебаркадерного прожектора вино и выпил.
До того как я попал на борт «Михаила Калинина» (бывший «Баянъ», 1912 года постройки), я познакомился с ним в литературе. В саратовском сатирическом журнале «Клещи» некогда были опубликованы волжские частушки, например:
«Троцкий» воду режет носом,
«Володарский» встречь ему.
Мой милёнок стал матросом,
Ногу вывихнул в трюму.
Легкомысленно предложив для публикации в журнале «Волга» сию гадость с политическим оттенком, был изруган главным редактором. Было там и про «Калинина», трагическое:
Шёл «Калинин Михаил»,
Накренился бортом.
Парень девушку любил
И сгубил абортом.
Я давно уже, хоть и не очень целеустремлённо, стал собирать материальные приметы нематериальных наслаждений: этикетки, пробки, меню, счета. По нынешним инфляционным временам поражают цены всех счетов и меню даже десятилетней давности. Есть среди них и пароходные, например, счёт теплохода «Советская конституция» от 16 мая 1982 года: 2 эскалопа по 0-71 коп., салат (0-33), сервелат (0-21), горбуша (0-29), 2 масла (по 0-08), вино «Фетяска» 1 бут. (3-57), компот и хлеб, всего на 6 рублей и 44 копейки. Помнится, на этом теплоходе я привязался с обычным вопросом к команде: как раньше называлось их судно, ведь спросишь, бывало, на «Парижской коммуне», ответят: постройки Коломенского завода, 1914 года «Иоанн Грозный», затем «Петроград», с 1924 — «Парижская коммуна», «Михаил Калинин», как мы помним, «Баянъ», а вот конституция оказалась штучкой нестандартной. Мне неохотно ответили: «Сталинская конституция». — «А раньше, раньше?» — «Сталинская конституция!» — «А ещё раньше?» А ещё раньше он никак не назывался, будучи построен уже в Красном Сормове в тридцать каком-то году.
Не могут не вызвать вздоха и счёт из рыбного ресторана «Якорь» на троих, с водкой, икрой и севрюжинкой на 14 рублей с копейками, и одетое в роскошную обложку меню ресторана «Пекин» от 17 апреля 1978 года, украденное по моей просьбе известным историческим романистом М., с «Бульоном со свининой, грибами “муэр”, цветами “хуан” за 0-72. Да, многое сообщат понимающему человеку эти пожелтевшие листочки с кривыми росписями официантов, но интереснее всего не самое старое, а можно даже сказать, новейшего времени меню, относящееся к 1988 году.
Ряженка 0-11
Молоко 0-08
Сметана 0-42
Масло сливочное 0-07
Сахарный песок 0-02
Холодные закуски
Спинка нельмы х/к с лимоном 0-51
Колбаса балыковая с огурцом 0-30
Салат из моркови с черносливом 0-14
Перец, фаршированный овощами 0-58
Огурцы свежие 0-16
Помидоры натуральные 0-27
Горячие блюда
Судак отварной, соус белый с каперсами 0-57
Говядина шпигованная 0-54
Биточки телячьи рубленые, соус белый 0-52
Драники из картофеля 0-32
Омлет с сыром 0-42
Сырники с морковью 0-24
Диетические блюда
Филе зубатки, припущенное в молоке 0-28
Каша манная молочная с изюмом 0-13
Сок виноградный 0-24
Сок вишнёвый 0-24
Горячие напитки и кондитерские изделия
Кофе чёрный 0-12
Какао 0-11
Молоко 0-01
Сливки 0-07
Варенье 0-07
Сахар 0-02
Булочка театральная 0-10
Пирожок московский с маком 0-10
Хлеб дарницкий 0-01
Хлеб пшеничный 0-01
Холодные закуски
Судак под майонезом 0-18
Сельдь «Рольмопс» 0-13
Ассорти мясное 0-57
Рулет куриный с черносливом 0-41
Салат из цветной капусты, помидоров и с зеленью 0-18
Огурцы свежие натуральные 0-16
Первые блюда
Борщ московский с ватрушкой 0-41
Солянка донская 0-47
Бульон с пельменями 0-26
Суп-пюре из шампиньонов 0-39
Вторые блюда
Осетрина припущенная, соус белый 1-03
Жаркое по-домашнему 0-58
Шницель из телятины по-венски 0-73
Корейка свиная жареная, соус эстрагон 0-91
Кабачки фаршированные, соус сметанный 0-54
Капуста тушёная с яблоками 0-13
Диетические блюда
Суп молочный овощной 0-18
Биточки паровые из говядины 0-26
Запеканка рисовая с творогом 0-32
Сладкие блюда
Кисель брусничный с мороженым 0-27
Мороженое с цитрусовым сиропом 0-48
Желе из сока малинового 0-11
Халва морковная 0-17
Напитки и соки
Морс клюквенный 0-17
Сок ананасовый 0-67
Сок томатный 0-12
Горячие напитки
Кофе чёрный 0-12
Какао 0-11
Молоко 0-01
Сливки 0-07
Варенье 0-07
Хлеб дарницкий 0-01
Хлеб пшеничный 0-01
Молочнокислые продукты
Простокваша 0-11
Молоко 0-08
Масло сливочное 0-07
Сахарный песок 0-02
Холодные закуски
Икра паюсная с лимоном 1-64
Бок осетра х/к с лимоном 0-57
Язык отварной с хреном 0-33
Салат столичный 0-18
Салат летний 0-18
Огурцы свежие натуральные 0-16
Вторые блюда
Белуга, запечённая в сметанном соусе 1-21
Мясо по-русски 0-64
Говядина духовая 0-60
Котлеты из филе курицы 0-98
Перец, фаршированный мясом и рисом 0-57
Вареники с картофелем и грибами 0-55
Морковь, тушенная в сметанном соусе 0-10
Диетические блюда
Рулет из телятины, соус голландский 0-67
Блинчики с творожным фаршем 0-22
Персиковый 0-18
Грушевый 0-18
Берёзовый 0-12
Сладкие блюда
Чернослив со сметаной взбитой 0-22
Компот из свежих ягод 0-32
Яблоко, запечённое с вареньем 0-20
Фрукты в шоколаде 1-75
Горячие напитки и кондитерские изделия
Кофе чёрный 0-12
Какао 0-11
Молоко 0-01
Сливки 0-07
Варенье 0-07
Сахар 0-02
Пирожное «Буше фруктовое» 0-18
Пирожное «Трубочка с безейным кремом» 0-18
Хлеб дарницкий 0-01
Хлеб пшеничный 0-01
Это меню — с воистину исторической XIX партконференции, где Ельцин просил политической реабилитации, а Лигачёв сказал: «Борис, ты не прав», где по рядам ходили счётчики считать голоса против, что было впервые, где было много всего, давно уже рассказанного другими, я же позволил себе привести исторический документ. Меню менялось каждый день, цены были, при командировочных семи рублей в день, вполне доступны. Но, разумеется — никакого спиртного.
Одной из первых, а возможно, и первой командировкой в моей жизни (1970—1971) была поездка в Ленинград, где среди прочих заданий я имел и такое: встретиться с критиком Г. и взять у него давно заказанные статьи. В самом конце Московского проспекта я нашёл новую, не питерскую улицу и, несколько волнуясь, подошёл к двери. Пока звонил, в спину спросили: «Из “Волги”?». Я обернулся и увидел мужчину с почти закрытым опущенной ушанкою небритым лицом, с романом Проскурина «Судьба» под мышкой.
В невозможно грязной квартире пахло кошками. Раздеваясь под бормотанье хозяина, я разглядел, что он совершенно пьян.
— Дай нам «Примочки»! — крикнул хозяин кому-то в глубину квартиры.
«Какой “Примочки”, зачем, я “Беломор” курю, что за странная манера угощать сигаретами?» — подумал я.
Вошла молодая неприбранная женщина в длинном халате, с распущенными волосами, с сигаретой в одной и графином в другой руке.
На письменном столе появились к нему две тарелки с варёной колбасой и сыром, три стопки и две вилки. Посередине стола на журнале «Знамя» спал здоровенный серый кот.
— Примочки з знкмство!— предложил хозяин. Загадочное слово прояснилось. Мы выпили по рюмочке, хозяйка вышла и воротилась с той же сигаретой и со вторым котом.
— Варфоломей! — обратилась она к спящему животному, — не смей спать на журналах.
Варфоломей не двинулся.
— Тогда я тебя накажу, кольца лишу, — сказала женщина, столкнувши кота с журнала и стягивая у него с корня хвоста обручальное золотое кольцо. Надевая его себе на палец, она шепнула мне: — Прямо беда с ними!
Г. почти мгновенно окосел, и мне оставалось лишь проститься. В следующие дни телефон его не отвечал.
По стечению обстоятельств, моя следующая командировка оказалась также на северо-запад в рифмующийся, но закрытый Калининград, и, среди прочих, я имел задание побывать у критика того же направления, чья фамилия также начиналась на букву Г., чтобы взять у него давно заказанные статьи.
И критик Г. жил в новом доме на новой улице, правда, в Калининграде, где, как известно, большинство улиц новые, и лишь немногие вкрапления и растиражированные кино знаменитые руины собора напоминают о древнем Кёнигсберге.
Хозяин встретил меня дома, был он чисто выбрит и очень молчалив. Словно бы не он пригласил в гости по телефону, притом попросив принести бутылку водки. Хозяйки не было дома, а может быть, не было вообще. Г. достал бутылку водки и кое-какую закуску, потом мою бутылку водки. Молчание он прервал неожиданным замечанием:
— Из рота у ней, как из скотомогильника, сквозит, зачем вы её привезли?
Не сразу я понял, что он жалуется на соседку по президиуму сегодняшнего заседания — коллегу из Саратова. Тоскливо помолчав, он добавил:
— Одни евреи везде. И вы евреев привезли, зачем? У нас и своих хватает.
Он достал ещё бутылку водки и на её середине встал и вызвался меня проводить.
Мы шли по прохладному, в ночных тенях, чужому городу, говорить было не о чем. Вдруг Г. резко остановился.
— Идите сюда.
Он подвёл меня к розоватому дому.
— Здесь наш ректор живёт, давайте ему стену обоссым.
И не откладывая, привёл план в исполнение.
Хорошее название: «Заговор пьяниц».
В сущности, в таком заговоре мы жили и живём долгие годы. Как умудряются жить в нашем обществе непьющие люди — ума не приложу. Наш великий русский народ изрёк: «Хмель в компанию принимает, непьющего никто не знает». А уж в брежневские времена водочный дух сделался как бы природным, веющим вовне помещения и человека.
Но бывают ли вообще трезвенники? Трезвость — это ведь отказ от самого массового, но отнюдь не единственного порока. Игра, скупость, сладострастие, а уж жажда власти — вещи, рядом с которыми водочка-голубушка невинна, и, может быть, пристрастие к ней подтверждает целомудренность нашего национального характера.
За долгие годы не нашёл в литературе более концентрированного выражения русского характера, чем в рассказе Н.С. Лескова «Чертогон». Пересказывать, а тем более «анализировать» этот шедевр, в котором рассказчик «вкус народный познал в падении и восстании», не берусь.
«Барабошев. Я не в себе.
Марфа Тарасовна. Ну, мне до этих твоих меланхолиев нужды мало, потому ведь не божеское какое попущение, а за свои же деньги в погребке или трактире расстройство-то себе покупаете» (Островский А Я. Правда — хорошо, а счастье лучше).
А помнится, мы с приятелем, прочитав «Последний срок» Валентина Распутина, пришли в восторг от «покупной болезни», там обозначенной. Разумеется, советский писатель ни в чём не виноват, возможно, и не Островского это, а народное, скорее всего даже, что сам народ обозначил свою национальную болезнь «покупной». Что, впрочем, также не отменяет полного первенства несравненного Островского в наших национальных вопросах.
«Мурзавецкий. Ах, я оставлю, уж сказал, так и оставлю. Только не вдруг, сразу нельзя: знаете, бывают какие случаи, ма тант? Трагические случаи бывают. Вот один вдруг оборвал и, как сидел, так... без всяких прелюдий, просто даже без покаяния, ма тант. Вот оно что!» (Островский А.Н. Волки и овцы).
В курении дьявольского, конечно, куда больше, чем в пьянстве. Начать с того, как приучаются — через силу, через омерзительный вкус во рту, через рвоту. Последняя радость сопутствует и пьянству, но там она как бы расплата за пережитое опьянение, здесь же взимается плата вперёд; сколько нужно в себе перебороть, чтобы пристраститься к курению настолько, что пробуждение ото сна связано лишь с мыслью о затяжке.
А ритуальная, внешняя сторона курения? Никто ведь не фотографируется с рюмкой и бутылкой. То есть фотографируется, но не придаёт этому фото значительности или интеллектуальности. А вот фотографироваться с папироской долгие годы считалось и считается возможным и даже как бы доблестным. Вообразите М. Горького на вклейке перед собранием сочинений с поллитрой в руке. Или Шаляпина на нотах. Но редкого деятеля культуры, в том числе и их, мы не увидим с папиросою, как бы дополняющей и одновременно обогащающей его облик. Аполлон Майков сфотографирован с папироской! Его аскетический облик старца-подвижника и — папироска! Притом она вовсе не мешает этому облику, но в тон ему создаёт образ! Портреты с ними писали — Иван Александрович Гончаров с сигарою. Цари позировали с цыгарками.
А по радио всё долбят: «отучение в три дня... по методу... Довженко...». Какой там Довженко, когда сам угрюмый Лев Николаевич Толстой, оторванный от страниц, раз 1887 год, подумать только, «Крейцеровой сонаты», стоит в блузе, в одной руке стакан чаю на блюдечке держит, а в другой папиросу.
Курили, курят и будут курить. То, что американцы бегают и не едят мяса, а сигареты выживают из своей страны в наши, третьи страны, ничего не значит. Сегодня не курят, завтра дым из-за океана повалит столбом. Довженко!
Чехов в каком-то рассказе с недоумением вспоминает борьбу, которую вели в гимназиях с курением: достаточно было увидеть инспектору гимназиста с папироской, как собирался педсовет и виновного изгоняли. Когда я учился (50—60-е годы), таких репрессий не было, но и такого, как нынче, когда ученики у дверей школы курят под взглядами учителей, тоже не снилось. И мне чего-то жалко. Сколько всякого сопровождало курение в школе... Добыть папиросу, спрятаться, но дать знать, что уже курящий, особенно девочкам. Ах, школьный сортир! Последнее прибежище прогульщика. Из женщин лишь завуч, полувходя туда, кричала: «Петрусенко, выходи, я знаю, что ты здесь!». Когда же отчаявшись, она делала попытку внедриться в помещение, то все там находившиеся срочно спускали штаны и, усаживаясь вдоль стены, всеми средствами имитировали активный акт дефекации и одновременно, с гневной стыдливостью, протестовали.
Но это тогда, когда в школе отсутствовал Пётр Григорьевич, преподаватель столярного дела, который специализировался на борьбе с курильщиками, будучи сам некурящим. Человек он был добродушный. В те годы мы крепко задружились с Кубой, и Остров Свободы стал поставлять в нашу страну свою табачную продукцию, из которой выделялись сигары. Каких только сигар, доступных в другой стране лишь богачам, не имел самый занюханный киоск «Союзпечати». Среди «Правд» и «Мурзилок» обретались деревянные коробочки с открытыми крышками, на внутренней стороне которых, густо усыпанных золотыми гербами, располагались завлекательные колониальные сцены в манере Буше: пастухи, пастушки, козы, кони, кареты, облака, банты. Внутренность коробок была выложена хрустящей бумагой с гербами тож, а уже в ней, как в колыбельке, лежали матово-коричневые, съедобные на вид сигары с одним закруглённым, как бы зализанным концом. Ещё были маленькие сигарки, и самые дорогие сигары, каждая из которых имела собственное помещение в виде дюралевого цилиндра с завинчивающейся крышкой. Я украл у старшего брата одну сигару.
Курили мы её в течение трёх перемен и ещё оставался порядочный кусок. Утро началось с откусывания кончика и компетентного мнения, что за границей есть специальные щипчики, которыми этот кончик откусывают. Думаю, сведения были почерпнуты из романа Алексея Толстого «Гиперболоид инженера Гарина», где уж если миллиардер откусывает кончик сигары ножничками, так они непременно золотые; по поводу последнего свойства литературы, желающей угодить определённому читателю, как-то ехидно заметил Ф.М. Достоевский: «Положим, граф Монте-Кристо богат, но зачем изумрудный флакончик для яду?»
Начинали курить с трудом, дым долго не шёл, сигара клёкла во ртах и выдавала дым неровными порциями, от иных пробирал озноб и кашель. По звонку её приходилось тушить, и она начинала оглушительно вонять, распространяясь и через две завёрнутые бумажки, так что Евгения Валентиновна повела носом и сказала: «Демидов с утра накурился», — а неповинный Демидов обиженно загнусавил: «Чё Демидов, чё опять Демидов...» В последнюю перемену я не стал делиться ни с кем оставшимся счастьем и под остолбенелыми взорами первоклассников, пользуясь приобретёнными за день навыками, ловко раскурил толстый и уже размахрённый окурок. Но счастье длилось недолго. В сортире возник Пётр Григорьевич. Его, конечно, удивил предмет моего наслаждения. Прищуря маленькие глазки, он быстро шагнул ко мне и, очень ловко выдернув изо рта сигару, сделал то, чего не делал с папиросками: наклонившись к очку, он осторожно ткнул туда сигарою, которая возмущённо зашипела, и, достав её оттуда, сделал вид, что тычет ею мне в рожу: «У, так бы и... — И подтолкнув в спину: — Иди отсюдова!»
Куда решительнее и беспощаднее, чем с курением, школа боролась тогда с нашей внешностью. Тема причёсок и рубашек была одной из главных в воспитательном процессе. Самое смешное и жалкое, что никаких таких рубашек, кроме как поплиновых или сатиновых со стандартными воротничком, кармашком и манжетами, не было и быть не могло. Разным мог быть лишь цвет — с ним-то и боролись. Первая война была объявлена коричневому. Причины были настолько ясны и бесспорны, что коричневый цвет навсегда исчез у мальчиков. У девочек же он оставался: форменные платья были коричневыми. Затем началась более затяжная война с чёрными рубашками. Их вдруг стало модно носить, и матери перекрашивали нам голубые, белые, розовые рубашки. Ах, как это было здорово надеть утром впервые чёрную рубашку и, выпустив воротничок на пиджак, явиться в школу. В ответ на объявление войны чёрному попытались возражать уже родители, но были сражены убийственным аргументом: чёрные рубахи носили итальянские фашисты. Исчезнувши с мальчиков, чёрный цвет продолжал сопровождать девочек, так как форменный фартук был, как известно, чёрного цвета.
Но всё это было лёгким жанром в сравнении с многоактовой античной трагедией под названием «Волосы». Борьба с причёсками была затяжной и кровопролитной и велась с переменным успехом. Логики у атакующей стороны, естественно, не было. То от нас требовали чёлок, чубчиков и голых затылков «бокс», в крайнем случае «полубокс», и даже моя интеллигентская «полечка» преследовалась. То вдруг было велено отращивать волосы и зачёсывать назад, дабы они не свисали на лоб. Девочкам запрещались любые стрижки, допускались лишь косы, количество которых, впрочем, не регламентировалось. Но когда девочка попадала в инфекционную больницу, что случалось тогда нередко, и её там наголо остригали, то, воротившись в класс, она ходила этакой диссиденткой, стриженой курсисткой времён Александра II, только папироски и бомбы под фартуком не хватало. На этом девочки и в самом деле портились, привыкали поперечничать, и, таким образом, в иной девичьей судьбе детская инфекционная больница, построенная в конце прошлого века купчихой Д. Поздеевой, играла роковую роль.
Помню особое собрание родителей с учениками, посвящённое причёскам. Поводом к нему послужила оттепельная популярность поэзии.
Вышла книга Евгения Евтушенко «Взмах руки» (1962 г. — уточнил я в Литературном словаре). Борька Эздрин, увидев в этой книге портрет поэта, потерял покой. Дураку Эздрину — хоть режь — надо было походить на поэта Евтушенко. С книжкой он пришёл в парикмахерскую, где попросил постричь его «так же». Это было невыполнимо: сравним всемирно известную евтушенковскую голову и Борькину, круглую, как у кота, до век заросшую щёткообразным волосом, и вы поймёте. Но, движимая алчностью (Борька посулил трёшку, что было по тем временам очень таровато), цирульница согласилась!
Борька был ужасен. Жаль, что мы не сфотографировали его тогда, было бы чего послать сейчас в город Хайфу, чтобы благополучный анестезиолог, быть может, пролил бы слезу над безвозвратно ушедшим детством.
Самое ужасное — был не Борькин вид, который занимал нас не более пятнадцати минут, а то, что он сделал подарок педагогам. Увидев его, Евгения Валентиновна прямо-таки затряслась от возбуждения, и каждый из нашего 8 «А» унёс домой дневник с объявленным под родительскую расписку совместным собранием. «О, моя юность, о моя свежесть!»
Запах мыла утром на реке — запах молодого счастья. Стрекоза, радужные разводы на поверхности, от которых удирает водомерка, и краешек горячего солнца из-за леса.
Гроза уходила вдоль Волги вверх, на северо-запад, проливаясь прозрачными косыми сетками уже над горой, и из-за ослепительно-обгорелого края тучи готовилось заблистать солнце. Вниз быстро шёл пароход, уже освещаемый его лучами. Очень белый на шоколадной воде, под густо-фиолетовой тучей, светясь своей белизной, уходил пароход, словно в последний раз на реке.
В РУССКОМ ЖАНРЕ - 4
Сейчас вздыхают о прошлом пожилые наши сограждане в силу старого и естественного закона. Но наступает время тоски по прошлому и идеализации сталинской эпохи у тех, кто не жил тогда. В разгар брежневского благополучия усатые портреты прикрепляли к ветровым стёклам как протест против воровства и беспорядка. То была ностальгия политическая. Будет и эстетическая. Архитектура и песни, кинофильмы и поваренные книги, иллюстрированные журналы и полотна 30—50-х годов с каждым годом будут приобретать всё большую манящую видимость золотого века.
Застав ужасы и мерзости «золотого века», я, тем не менее, ловлю себя на том, что нечто умиротворённое появляется в душе при кадрах кинофильма, где плывут белоснежные лодки по каналу Москва — Волга, звучит песня «и плыть легко, и жить легко», и девушки все в белоснежных платьях, а юноши в белых майках, а на берегу возвышается шпиль Химкинского вокзала, на просторной каменной веранде которого распивают доступное советское шампанское и нефальшиво смеются счастливые советские люди.
Имперская эстетика притягательна. Когда-то мы с приятелем пошли в «Зелёный зал» кинотеатра «Победа», где тогда показывали документальные фильмы. Это было ещё до «Обыкновенного фашизма», и мы впервые увидели столько кинохроники рейха. Особенно впечатляли кадры, снятые, чьего имени мы тогда ещё не знали, Лени Рифеншталь: на словно бы скульптурно освещённых кадрах чередой прошли марширующие колонны, рейхсканцелярия, открытые лакированные долгие авто, приятель схватил меня за руку и восхищённо прошипел: «Завтра опять пойду смотреть!». А между прочим, то было едва ли пятнадцать лет спустя после кровавой войны, на которой были ранены наши отцы, а мама приятеля всю войну провела на фронте хирургом, и мы много знали про ужасы войны, и воспитывали нас, как и всех, в ненависти к фашизму. А поди ж вот!
И разрушающаяся, запущенная Москва чрезмерно напичкана богатством. Так в дотлевающем Петербурге в каждой водосточной трубе заметна столица империи. Вся Россия работала то на Москву, то на Петербург, то опять на Москву. Глаз столичного жителя не замечает материальной значительности окружающего его мира. Петербургские дворцы разваливаются, а Москва грязнее областного города, но какая-нибудь дверная ручка кричит: я — столичная! Один подъезд, хотя бы и загаженный, с его плитками, перилами, сетками, фонарями, ступенями, подоконниками, рамами — стоит деревеньки, в которую от века ничего не доставлялось, а лишь изымалось.
Москвичи считают, что провинция сейчас якобы злорадствует: «сбылась вековая мечта провинции: Москва стала жить хуже» (Евг. Попов). Но это не так. В прежнем, хотя бы и завистливом, восхищении Москвой, всё-таки заметно присутствовала и гордость за то, что она город — общий, русский, в который всеми вложено.
Песни Дунаевского слушают и будут слушать так же, как видеть уродливо-прекрасное в своих масштабах здание Театра Советской Армии, смотреть «Волгу-Волгу», но вот пресса тех лет попадает на глаза лишь тому, кто нарочно спросит её в библиотеке, притом научной. Редок такой читатель, страшно далёк он от народа. Развязал старые узлы на бечёвочке принесённой пачки и погрузился в чтение комплекта саратовской газеты «Молодой сталинец» за второе полугодие 1949 года.
Шумит золотое раздолье,
Идёт пионерский отряд,
И алые галстуки в поле,
Как светлые зори, горят.
Стихи молодых поэтов, обзоры стихов молодых поэтов, поступивших в редакцию, и стихи двух саратовских поэтов.
Все пути открыты настежь
На родной твоей земле.
О твоём, мальчишка, счастье
Сталин думает в Кремле.
Не одно, не два, целые страницы стихов:
Полощет крылатое знамя,
которым наш путь озарён,
и ярко сияет над нами
немеркнущий мудрый Закон.
Люди отстоят свои права,
не бывать ни горю, ни печали,
потому что в мире есть Москва,
потому что есть на свете Сталин!
В другой пачке, другой — партийной — газеты спустя месяц глаз останавливается на том же, но с разночтениями концовки:
Люди отстоят свои права,
как в бою свободу отстояли,
потому что в мире есть Москва,
потому что есть на свете Сталин! —
что несомненно и динамичнее, и идейнее.
Лишь читая эти газеты, можно понять устойчивое понятие тех лет «кормиться стихами». Вот строчки Юрия С.: «Я от края до края проехал Отчизну, видел сотни аулов, станиц, городов...».
Этот молодой поэт мирно работал на Улешовской нефтебазе, пока не спознался с литературой в лице саратовских поэтов Т. Что те были пьяницами, так же естественно, как и то, о чём они писали. Стихи и одного, и другого Т. печатали, но на службу их брать опасались, особенно после того, как они в компании с прозаиком К., служа в газете пригородного района, ухитрились не только растащить по домам столы и стулья, но и пропить настольные лампы, а также редакционную лошадь, которую отвели в Глебучев овраг, где продали на мясо татарам. Молодой С. покатился по их дорожке, но не хватило дыхания. На долгие годы он стал исчадием местной писательской организации. То падая, то временно исправляясь, но так и не дождавшись писательского билета, он делался с годами агрессивен. На беду организации, он обладал другим, более серьёзным билетом, полученным ещё на нефтебазе, что не позволяло вовсе избавить литературную общественность от его присутствия. Более того, его в светлые периоды, в силу билета и происхождения, назначали на должности, которые поэтам Т. не доверяли именно за происхождение, например, главным редактором художественного вещания на местном ТВ, и тогда страдалец отыгрывался на погубивших его старших товарищах. Но светлые периоды становились всё короче, и С. переводили на традиционное место — грузчиком облкниготорга, где уже трудился, например, даже один бывший редактор областной партийной газеты. Наконец, уже в 70-е годы, С. был билета лишён, и последние его появления на поверхности носили эпизодический характер участия С. в похоронах старших товарищей, на которых он себя вёл подобно фольклорной плачее, или чтения его уже перед младшими товарищами похабных стихов, в сочинении которых он проявлял недюжинную изобретательность и, если бы занялся ими всерьёз, то в наше раскрепощённое время вполне мог бы стяжать литературную славу и средства.
Вот что такое и зачем кому нужна была поэзия в те годы!
Известного писателя П. выбрали главным редактором известного московского журнала. И теперь редакторство П. — любимая тема для пересудов в его литературном кругу. То в президиум он спешит на заседание, то с особым поворотом тела усаживается в авто, то какую-то странную редколлегию проведёт, с приглашением со стороны как бы воспитателя работников редакции. Главное же: режет и рубит рукописи товарищей по неестественным для них причинам. Озлобляются на П. товарищи. А он всё более мрачнеет, жалуется на тяжкую редакторскую долю. Объясняют товарищи перемены свойствами характера П. Возможно, так, я его мало знаю. Но я неплохо изучил редакторскую профессию и её носителей. И во всём поведении П. вижу его стремление быть настоящим редактором. А понятие настоящего редактора сформировалось у нас под впечатлением редакторских фигур, которые с царских ещё пор, а уж про советские и говорить нечего, брали на себя груз ответственности, что-то пробивали, спасали, имели выход в сферы, безчиновному литератору недоступные, причастны были тайнам высшего порядка. Редакторская фигура была тяжеловесной, само это сочетание конечного определения и сугубого подлежащего «главный редактор», даже и вне литературного мира заставляло людей настораживаться и вчуже уважать.
И вот всё враз рухнуло.
Жаль мне редактора бедного!
Долго он будет грустить,
Что направления вредного
Негде ему проводить.
Н.А. Некрасов
Не надо ехать в цензуру — или, как говаривалось в московских редакциях: «наш отправился на Китайский...», то есть в Главлит в Китайском проезде. А то и на Старую площадь. Он делал то, что мог сделать (или не сделать) только он и никто другой. Его могли снять с работы («освободить»), но пока он сидел на своём месте, при всём «тоталитаризме» всё-таки решать — печатать или не печатать — и ставить заветную резолюцию на рукописи мог только он. А теперь?
А теперь ни Китайского, ни Старой, ни обкомов, ни зависимости твоей и от тебя. Несколько мальчишек, сумевших раздобыть деньжат, могут в день-другой открыть новый журнал и печатать там, чего желают. Фокус литературной ответственности переместился неизвестно куда, куда-то в безответственные писательские головы. Редактору надо лишь читать рукописи со товарищи да решать: да — нет. Скучно, вяло и тускло. И, думаю, П., сохранивший в воображении нетленным образ главного редактора минувшей эпохи, создаёт условия для собственной деятельности, с каковой целью как бы выстраивает препятствия для публикаций, ссылаясь на политические причины, несвоевременность появления энной вещи в печати и т. п., что и приводит в изумление его товарищей.
Впрочем, теперь дело чести главного редактора — добыть денег для издания, и, кажется, П. с этим недурно справляется. И всё же жаль, что нельзя, садясь в машину, бросить: «В цека».
Не знаю, заметил ли кто, что русские поэты писали критики куда больше русских прозаиков. К чему бы это?
Поэзия — это чистое воображение, чувство, прямая словесность, её глагол есть выражение божественного в человеке, а критика — трезвый взгляд на это самое чистое художество.
Проза же, беллетристика, не совсем естественное занятие. Словно бы в лаборатории, где экспериментировали с чистыми веществами, в результате вывели вещество искусственное. Это и будет то, что мы называем художественной прозой, беллетристикой.
Проза самовыражения или наблюдения — дневник, очерк, эссе — столь же изначальна, как и поэзия.
Что такое полностью свободный писатель, лучше всех продемонстрировал Хемингуэй. Результат очевиден. Его сочинения — словно бы брошенное после смерти хозяина жилище, которое он выстраивал для удобного существования. А жизнь была потрачена как топливо для негасимой возможности писать — надо было пить, скандалить, совершать «подвиги», соблазнять женщин, охотиться, хвастаться и т. д. Жить, чтобы писать, писать, чтобы жить. Вкусно. Для автора.
Байки, анекдоты, легенды и были о Сталине (на собирании и издании которых специализируется искусствовед Ю. Б. Борев) вызывают, и думаю, не у меня одного, чувство, которого вроде бы и не должно быть. Люди мы передовые, либеральные, авторитеты не любим, картавенького презираем и всех остальных, чего уж там говорить. И лишь эти, с акцентом рассказываемые истории отчего-то вызывают словно бы приятное чувство причастности к человеку, которому было доступно всё, причастности к конечной инстанции.
А инстанция, в байках того же Булгакова, как бы оправдывает наши надежды. Они, надежды, прямо скажем, подпитаны не самыми лучшими нашими чертами. Но подите ж — действует, и тот самый пресловутый имперский комплекс разве не оживает, когда слышишь истории вроде той, как на аргумент поляков, при обсуждении в Москве границ Польши, что Львов не входил в состав Российской империи, Сталин мгновенно отреагировал: «Львов не входил — Варшава входила». Или — по тому же поводу, перед переговорами с поляками, Сталин задумчиво спрашивает переводчика, как по-польски будет хлеб? — «Хлеб». — «А вода?» — «Вода!» — «А дом?!» — спрашивает уже донельзя удивлённый Сталин. — «Дом, товарищ Сталин!» «Так... А жопа?» — «Дупа». «Надо же, из-за одной жопы целую нацию придумали».
Это настолько же смешно, насколько и оскорбительно для поляков. Но вот: «Я позавчера спрашиваю этого каналью доктора Курицького, он, извольте ли видеть, разучился говорить по-русски с ноября прошлого года. Был Курицкий, а стал Курицький... Так вот, спрашиваю: как по-украински «кот»? Он отвечает «кит». Спрашиваю: «А как кит?». А он остановился, вытаращил глаза и молчит. И теперь не кланяется». Это уже Алексей Турбин, «Белая гвардия» М. Булгакова.
Когда в ПНР я видел везде, где можно (а шёл только ещё 1987 год, только что ГБ убила ксёндза Попелушко), карту великой Польши в пол-Европы от моря и до моря, когда нас не сразу пускали и в пустоватый музей, а на варшавском вокзале нищенка с мешком, подошедшая со словами «дай пенёндзы!», услыхав русскую речь, страшно, сильно, словно выстрелила, плюнула в лицо нашей переводчице, и плевок уселся на розовой её щеке, а Ханна только бормотала: «Так, так!», а старуха шипела: «Курва радзецка», — то сразу было не понять общей нелюбви к нам. Кстати, прошу заметить, курва-то не советская, а русская. Стоило выпить с поляками, начинался разговор о Катыни, тема тогда ещё запретная нашим руководством все обвинения ещё отметались. И можно было уверить себя, что всё дело в Сталине, войне. Но и тот же Сталин, и та же война обернулись другой стороной на востоке Польши, в Беловежской пуще, в маленьком городке, который так и называется Белая Вежа, и большую часть населения его составляют белорусы, и на одном конце городка стоит костёл, а на другом православный храм. И для белорусов мы оказались родными, и старушка на вешалке в ресторане «Зубровка» пригласила на завтрашнее венчанье внучки в храм, пьяный отдавал честь и кричал: «Мы конница Будённого!». Когда же на другой-третий день туман, и в прямом, кстати, смысле слова висевший перед лицом, как вата, стал рассеиваться и мы прошлись округой, слышали одно и то же: как давят поляки, как не дают дышать, как не допускают белоруса ни на одну мало-мальски значительную должностишку. Ресторанная же бабушка и сформулировала: «Отдал нас Сталин полякам». Она рассказывала, как долго они здесь верили, что опять окажутся в СССР. Поляки, по её словам, ненавидят этот район, называя Белосток «красной конюшней».
Вот и кайся, великодержавный русский, если другие народы, едва получив власть, начинают притеснять третьи, ещё более слабые, и нет этому конца и края.
Примечательно неустанное хождение Бабеля в народ. Оно продолжалось и после всем известного пребывания в Первой Конной. В те годы, когда он мог благоденствовать в Москве (и подобно коллегам имитировать «творческие командировки»), Бабель без устали ехал туда, где мог быть «материал», жил в совхозах, на конезаводах, в глуши. Того же истока и его жадное, если не сказать наглое, вторжение в жизнь верхов, связь с женой Ежова и прочее. Если сюда же положить то немногое, что написано им в тридцатые годы, текстовки к номерам пропагандистского «СССР на стройке» и вспомнить «Одесские рассказы», будет понятнее драма этого незаурядного человека, бившегося за возможность и право стать классиком советской литературы. Его загадочное малописание, которое В. Шкловский с присущим ему хамским остроумием определил как литературную импотенцию, происходило из той же цели быть классиком. Он должен был быть — «золотым пером», но и — советским пером. Над совмещением невозможного он бился, пока не остановили.
«Пьяный Катаев сел, никем не прошенный к столу, Пете сказал, что он написал — барахло — а не декорации, Грише Конскому — что он плохой актёр, хотя никогда его не видел на сцене и, может быть, даже в жизни. Наконец все так обозлились на него, что у всех явилось желание ударить его, но вдруг Миша тихо и серьёзно ему сказал: “Вы бездарный драматург, от этого всем завидуете и злитесь. Валя, вы жопа”.
Катаев ушёл мрачный, не прощаясь» (запись из дневника Е. С. Булгаковой от 25 марта 1939 года).
Катаев всех пережил и написал «Алмазный мой венец», где не мог скрыть своей всепоглощающей зависти. Чему же он мог завидовать? Он ведь не просто с насмешкою и «корректировками» изобразил всех, и Есенина-Королевича, и Булгакова-Синеглазого, и даже младшего брата, с соавтором, но именно с завистью. Но ведь Валентин Катаев, действительно плохой драматург, был талантливым прозаиком. Его изобразительное мастерство никак не уступает булгаковскому. Чему же он завидовал?
Вероятно, всему. Он был настоящим, большим завистником, и зависть его была разнообразна. Он мог завидовать поэтическому гению Есенина, величию Бунина, силе Маяковского, чистоте Пастернака, свободе Булгакова, успеху Ильфа и Петрова.
«...и польская газета «Курьер Пораны», близкая к Министерству иностранных дел, уже требовала расширения Польши до границы 1772 года» («Золотой телёнок»).
«Край непуганых идиотов» (И. Ильф). Это издевательство над Пришвиным или над идиотами? Пришвин мог читать эту фразу, но почему-то трудно представить его реакцию. Пришвина в любой эпохе трудно представить. Очень редко кто может на память правильно назвать даты его жизни. Он кажется человеком другого поколения, чем, скажем, Куприн или Бунин, намного моложе. А он всего на 3 года их моложе и умер лишь годом позже Бунина. Пришвин — на 7 лет старше Блока! Трудно вообразим он и как дореволюционный писатель, петербуржец, участник заседаний Религиознофилософского общества и т.д. Ещё менее вообразим он как советский писатель, орденоносец. Его дневники, которые сейчас печатаются, показывают человека очень независимого, нелюдимого и недоброго, который, впрочем, живо интересовался не только большой политикой, но и интригами в Союзе писателей.
Вижу, что долгое время ошибался, старясь поверить вместе со многими, что вершина бунинских сочинений — это «Тёмные аллеи». Даже «Деревня» гораздо сильнее и ярче, просто словесно интереснее, не говоря уж о всех дивных вещах его расцвета: «Игнат», «Захар Воробьёв», «Князь во князьях», «Я всё молчу». Есть и совсем ранние, но сильные вещи: «Учитель». Упадок, таимый во всё большей изощрённости, начался у него ещё в России, он очевиден, даже нагляден в «Грамматике любви», «Господине из Сан-Франциско» и особенно, конечно, в «Петлистых ушах». А перевал, с которого дорога пошла вниз, начался с «Дела корнета Елагина» и коротеньких рассказов 1930 года. «Тёмные аллеи» книга во многом маразматическая. «Зойку и Валерию», все эти бесконечные подглядывания и поднюхивания за снимаемыми трусиками, читать просто стыдно.
А сколько предугадано, объяснено наперёд в той же «Деревне» из нашего советского периода! Один Серый с Дениской чего стоят, явные члены какого-нибудь комбеда или ЧОНа, описанные ещё в 1909 году.
— А не знаешь, зачем суд приехал?
— Депутата судить... Говорят, реку хотел отравить.
— Депутата? Дурак, да разве депутаты этим занимаются?
— А чума их знает...
Бунин И. А. Деревня.
Практические советы и планы В. Жириновского напомнили мне записки одного старичка. Вот они.
«Из японской статистики
Выписываю полностью заметку в газете «Коммунист»: «Согласно данным токийских статистиков, в 1970 году каждые 16 секунд рождался один японец, каждые 44 секунды один японец умирал, каждые 31 секунду он женился, а каждые пять минут 30 секунд подавал заявление о разводе» (АПН). Следовательно, рождаемость в три раза выше умирающих. А ведь у японцев территория-то с мышиный хвост!.. Нельзя ли им полегче бы?
В чём я сомневаюсь
1. Я не верю, чтоб Сукарно действительно по причине конъюнктуры допустил переворот в Индонезии и не был в связи с Америкой и Сухарто.
2. Я не верю Садату, что он действительно борется против Израиля.
3. Я не верю и тому, что Альенде действительно убит, несмотря на то, что жена и дочь плачутся о нём в других странах.
4. И кое-чему другому, о котором рановато говорить по причине скудной информации в печати.
Навязчивый вывод
Вчера вечером (10 мар. 74 года) снова смотрел по телевизору и слушал через телефонные наушники «концерт» Магомаева (и уж который по счёту?) и снова убедился лишний раз, что сильно орёт! Я старался наблюдать его весьма пристально и со всех точек зрения вокальных норм — не понравилось! И как бы ни хотелось изменить моё мнение в его пользу, ибо моё внутреннее музыкальное чутьё категорически отвергает такое оранье, и хоть лопни!
Он, когда входит в мою комнату, производит впечатление, что точно говённая бочка вкатывается!..»
В РУССКОМ ЖАНРЕ - 5
Жёлтый — с детства я боялся и этого цвета, и этого слова. Жёлтый, жёлтый, жёлтый, произнося, доходишь до блоковского — жолтый, что ещё страшнее. Короткое слово кажется длинным, проделывая путь от самой громоздкой буквы нашего алфавита, через разевающее рот «о» к скользящему «лт»...
Жёлтые цветы, словно на осенней могилке под грязным дождиком. Жёлтый фонарь в тумане — что может быть страшнее? «Кому-то жёлтый гроб несут», «Тот август, как жёлтое пламя» — это Ахматова, но ни одно стихотворение у неё с этого ужасного слова не начинается. И так же у Сологуба, Мандельштама, Есенина, Цветаевой, Пушкина, Ходасевича, нет даже у Блока, нет у Некрасова. Есть у Лермонтова: «Жёлтый лист о стебель бьётся». Есть у Вертинского «Жёлтый ангел» — восковой ангел, падший ангел, пьяный маэстро, кабацкая ночь, безысходность. Вообще — кабацкий цвет, цвет предутреннего дурмана: «В сон мне — жёлтые огни...» (Высоцкий), «Снова пьют здесь, дерутся и плачут под гармоники жёлтую грусть» (Есенин).
У Есенина жёлтого много, как ни у какого другого поэта: и крапива жёлтая, и пруд, и «месяц словно жёлтый ворон», «ежедневно молясь на зари жёлтый гроб», «жёлтые полчища пляшущих скелетов», «Я душой стал, как жёлтый скелет», «месяц, жёлтыми крыльями хлопая», «поднимая руку как жёлтый кол», «прыгают кошками жёлтые казацкие головы с плеч», «луна как жёлтый медведь» — все последние примеры из «Пугачёва», где жёлтого, как и буквы-звука «ж» особенно много.
И предел — жёлтый дом!
Однако боялся ли бы я этого слова, живя в английском языке, где yellow отдаёт чем-то жизнерадостным и легкомысленным?
Ни одна живописная работа не производила на меня впечатления, сравнимого с тем, что я испытал, впервые в раннем детстве увидев репродукцию с полотна Куинджи «Украинская ночь». И через много лет, оказавшись в Третьяковке перед полотном, я ещё раз пережил детское волнение, которое описать не берусь.
Гоголь в описании украинской ночи тоже манипулировал двумя цветами, создавая картины тьмы и света.
«О, если б я был живописец... — будто бы сокрушается он пред описанием спящего Миргорода, — я бы чудно изобразил всю прелесть ночи... как белые стены домов, охваченные лунным светом, становятся белее, осеняющие их деревья темнее, тень от деревьев ложится чернее... разметавшейся на одинокой постеле чернобровой горожанке с дрожащими молодыми грудями снится гусарский ус и шпоры, а свет луны смеётся на её щеках. Я бы изобразил, как по белой дороге мелькает чёрная тень летучей мыши, садящейся на белые трубы домов».
Сколько бы оттенков нашли и намазали на картину Тургенев или Бунин, чтобы быть точнее. Но точнее всех окажется Гоголь.
Самые «положительные» из персонажей «Мёртвых душ» — это жи́ла Собакевич и подлец Чичиков. Собакевич всего-то приписал Елизавету Воробей да сожрал осетра, но не выдал, не предал ни себя, ни других, не скособочился в изменяющихся обстоятельствах чичиковского дела. А как хорош он в черновом наброске к последней главе, где в ответ на притязания прокурора распытать что-нибудь о Чичикове обзывает прокурора бабою и срамит. Что же касается Чичикова, самим автором заклеймённого как подлец, то ответим себе на такой вопрос: с кем из персонажей поэмы мы решились бы при необходимости иметь дело, просто общаться? С Маниловым? Коробочкой? бабой-прокурором — с брежневскими бровями? Ноздревым? Зятем-фетюком? Дураком-губернатором? Плюшкиным? Полицеймейстером — «отцом и благотворителем» города? Председателем? Дамами просто и приятными во всех отношениях? Вечным, как жид, русским чиновником по взяткам, вроде Ивана Антоновича — кувшинное рыло?
В реестрике, правда, опущены мужики из списка Собакевича, над которым Чичиковым — автором пропета слава русскому мужику. Мы забыли и про Селифана и Петрушку? Про черноногую девчонку и многих других, но если выбирать из центральных персонажей, то я бы охотнее водил знакомство с жуликом Чичиковым, чем с российскими чиновниками или помещиками «Мёртвых душ», за исключением Собакевича, который, по крайности, таков, каков он есть.
То, что нами оказались забыты мужички среди предполагаемых воображаемых знакомцев, конечно, не случайно. Вся русская литература с барами и мужиками воспринимается нами — почти поголовно потомками если не мужиков, то и не бар — с точки зрения бар. Книга, написанная барином с точки зрения барина и для барина, таковою же и осталась. Мужики Марей и Влас, Платон Каратаев и Левша не увидены и не могли быть увидены изнутри, и взгляд на них со стороны сохранился второе столетие неподпорченным, как бы ни ковыряли его в известные года. Ковыряли, заметим, совершенно с социальной точки зрения, справедливо: «Война и мир» — помещичье-дворянское сочинение. А чьё же ещё?
Разночинец сочинял о народе как бы иначе, но «подлиповцы» поданы как столь бессмысленно явившиеся в мир Божий, что невозможно не только проникнуть в их внутренний мир, но даже и предположить его существование по хотя бы косвенным признакам.
Так называемые «лирические отступления» (о, проклятая школа!) «Мёртвых душ» вызваны невероятной, принадлежащей, несомненно, не тридцатилетнему Николаю Яновскому, но Небу интонацией. Он сам отчётливо сознавал, что возводит читателя на нечеловеческую высоту и прямо о том сказал пред самым, быть может, трагическим из «отступлений», названных Белинским «мистико-лирическими выходками в “Мёртвых душах”». Уже то, что критик советовал читателю их «пропускать при чтении, ничего не теряя от наслаждения, доставляемого самим романом», есть почти исчерпывающая характеристика неистового Виссариона. Это отступление о заблуждениях человечества, «текущего в глухой темноте» мимо настоящего своего пути. Пред ним Николай Васильевич предупреждает читателя о предлагаемой точке зрения на тот счёт, чтобы у того от высот не закружилась голова: «Читателям легко судить, глядя из своего покойного угла и верхушки, откуда открыт весь горизонт, на всё, что делается внизу, где человеку виден только близкий предмет».
Судьба Хомы Брута не есть ли судьба самого Гоголя, и конец его не есть ли предсказанный себе конец?
Дни до похорон: торжество покойника.
Приподнятое возбуждение подлеца.
Я боюсь людей, на глазах которых вскипают слёзы умиления при рассказе о собственном добром деянии.
Классический, как ему кажется, пример неряшливости Достоевского в слове приводит М. Горький: «Вошли две дамы, обе девицы» («Подросток»). Только ведь нелепость мнимая. По Далю, девица — это «всякая женщина до замужества своего», а дама — «женщина высш. сословий, госпожа, барыня, боярыня». Будучи по семейному положению девицей, по социальному можно было быть дамой.
Всё более убеждаюсь, что у Достоевского, собственно, и не бывает осечек. По-своему — то есть со злобой — отметил это ненавидевший его Бунин: «...всё у него так закончено и отделано, что из этого кружева ни одного завитка не расплетёшь...».
Где-то читал, как Достоевскому указали на необходимость исправить «круглый стол овальной формы», и он, подумав, велел оставить как есть!
«Убеждён, что Гоголь никогда не жёг “Мёртвых душ”. Не знаю, кого больше ненавижу как человека — Гоголя или Достоевского» (Бунин И.А. Дневник. 30.IV.40).
Достоевский каждой своей страницей сводил на нет колоссальную работу Бунина над стилем, его достижения и поиски нужного слова в изображении вещного мира, всё его тончайшее эстетическое сито. Не для читателя — для самого Бунина. Нелюбовь Достоевского к Гоголю того же происхождения: там, где Достоевскому нужно было написать роман, Гоголь мог обойтись полстраницей.
О, великий Дюма! «Виконт де Бражелон» — дворцовые интриги, галантность («галантерейность»), но целая глава о пищеварении Людовика XIV, о котором до сих пор всё было воздушно-любовное (принцесса, Лавальер) или поступательно-монаршье. У короля за ужином Портос.
«— Вы отведаете этих сливок? — спросил он Портоса.
— Ваше Величество, вы обращаетесь со мной так милостиво, что я открою вам правду.
— Откройте, господин дю Валлон, откройте!
— Из сладких блюд, Ваше Величество, я признаю только мучные, да и то нужно, чтобы они были очень плотны; от всех этих муссов у меня вздувается живот, и они занимают слишком много места, которым я дорожу и не люблю тратить по пустякам».
В следующей главе король поручает д’Артаньяну выяснить обстоятельства ранения де Гиша. Воротившись, д’Артаньян докладывает, и это чистый Шерлок Холмс: «По ней шли два коня бок о бок; восемь копыт явственно отпечатались на мягкой глине. Один из всадников торопился больше, чем другой. Следы одного коня опережают следы другого на половину корпуса... <... > Кони крупные, шли мерным шагом; они хорошо вымуштрованы, потому что, дойдя до перекрёстка, повернули под совершенно правильным углом. <... > Там всадники на минуту остановились, вероятно, для того, чтобы столковаться об условиях поединка. Один из всадников говорил, другой слушал и отвечал. Его конь бил копытом, это доказывает, что он слушал очень внимательно, опустив поводья». И эдак пять страниц за полвека до сэра Артура.
Для Льва Толстого, как, вероятно, никакого другого русского классика, характерно количественное отношение к литературному труду, которое сделается ведущим в XX веке. Много писать или мало? Или вовсе не писать? Сидит Достоевский и на этот счёт письменно размышляет... невозможно — он пишет! У Толстого же эта тема в разные годы присутствует в дневниках. «Хорошо ли или дурно, всегда надо писать. Ежели пишешь, то привыкаешь к труду и образовываешь слог, хотя и без прямой пользы. Ежели же не пишешь, увлекаешься и делаешь глупости. Натощак пишется лучше» (Дневник. 29 июня 1853 г., на Кавказе, в ст. Старогладковской).
«Вчера думал: Многописание есть бедствие. Чтобы избавиться его, надо установить обычай, чтобы позорно б[ыло] печататься при жизни — только после смерти. Сколько бы осадку село и какая бы пошла чистая вода!» (Дневник. 28 февраля 1889 г., Москва).
Дело, конечно, не в том, что через сорок пять лет он изменил точку зрения, а в том, как его занимало количество сочиняемого и его соотношение с окончательно сочинённым, то есть. КПД. Одна из причин, если не единственная причина, в том, что он физически не мог не писать, и это порой его удручало. Притом что он, как почти никто другой, мог позволить себе не завершать, откладывать, отделывать, мог искренне ужасаться тому, что кто-то должен писать из-за денег — гнать строку. Так-то оно так, но его внимание ко всему этому, в таких-то условиях, выдаёт его постоянное осознание себя как производителя ценности, как в духовном, так и материальном, то есть гонорарном смысле. Как это у него в первой записи? — писать для слога, «хотя и без прямой пользы».
Тут не просто вопрос денег, хотя в те годы, да ещё и не раз позднее, Толстому приходилось зависеть от продажи сочинений. Здесь и то, присущее каждому пишущему, независимо от таланта, бережливое отношение к исписанному своей рукой листу бумаги, к своему труду. Уничтожение — разорвать, сжечь — тоже не вполне духовно-содержательного происхождения, но и материального, так поджигают жилище, жгут деньги, убивают любимого человека. Отношение как к собственности, к тому же собственности в квадрате — собственности, произведённой тобой своими руками, своим трудом.
Каждому пишущему знакомо чувство физического удовлетворения, которое приносит осязаемый объём исписанной тобой пачки листов.
Ну а ощущение каждой выведенной на бумаге буквы, как будущего пука ассигнаций, передано западными писателями, особенно Джеком Лондоном. Замечательное отечественное наблюдение я слышал не помню от кого из писателей, учившихся в 60-е годы на пресловутых Высших литературных курсах. Сидит рассказчик в аудитории и, как большая часть товарищей, не слушает лекцию, а сочиняет. Написал, перечитал, подумал, вздохнул, вычеркнул. «Ты что делаешь? — слышит за плечом голос собрата-писателя восточной национальности. — А детей чем кормить будешь?!»
Как знать, быть может, те мгновенья,
Что протекли у ног твоих,
Я отнимал у вдохновенья!
А чем ты заменила их?
М. Ю. Лермонтов
Но ведь странно считаться мгновениями с женщиной, которую безумно любишь? Чем ты заменила их? Прямо-таки не то счёт, не то торг. Если любишь — неужто жаль мгновений, проведённых у ног любимого существа? Словно бы время жёстко расписано, и то, которое для вдохновения, уж если тратить, так не бесплатно. Слово «заменить» настолько странно неточно, неуместно, что или гений оговорился, или мы правы — и было расписание, или, что вернее, не было любви. Разве можно чем-то заменить мгновения любви? Не жеребцы, не борзые, не крепостные.
«В Москве я погулял немножко и теперь испытываю позыв к труду. После грехопадения у меня всегда бывает подъём духа и вдохновения» (А. П. Чехов. Письмо А. С. Суворину от 30 июля 1887 г.).
Чехов не только в письмах, но и в беллетристике и в пьесах любил размышлять о природе писательского творчества, обо всём том, что назвали «лабораторией» и ещё «мастерской». Широко известны и горлышко бутылки на плотине, и ружьё, которое должно выстрелить, и блестящая характеристика настоящего «алкогольного» и ненастоящего «лимонадного» искусства, к каковому Чехов относил себя и современников в письме к Суворину. Но ведь и среди обилия тем и сюжетов «осколочных» и «будильниковых» мелочей значительное место занимала тема именно «творчества». Вот совершенный вроде бы пустяк с расхожим юмористическим приёмом, которому Чехонте не раз отдавал дань: молодой человек долго объясняется в любви прекрасной молодой женщине, затем он «снял с себя сюртук, стащил с себя сапоги и прошептал: “Прощай, до завтра!”». Предполагаемому воображаемому возмущению читателя автор сообщает, что «дама была написана масляными красками на холсте и висела над диваном» («Марья Ивановна», 1884).
Из трёх страниц рассказа молодой человек занимает едва ли треть, а остальное — рассуждения типа «Мы все, профессиональные литераторы, не дилетанты, а настоящие литературные подёнщики, сколько нас есть, такие же люди-человеки, как и вы, как и ваш брат, как и ваша своячница... и если бы мы захотели, то каждый день могли бы иметь повод к тому, чтобы не работать... <...> Но если бы мы послушались вашего «не пишите»... тогда хоть закрывай всю текущую литературу». Автор как бы оправдывается, почему сочиняет ахинею. Но ведь тут же вполне всерьёз утверждается право существования профессиональной литературы:
«А её нельзя закрывать ни на один день, читатель. Хотя она и кажется вам маленькой и серенькой, неинтересной, хотя она и не возбуждает в вас ни смеха, ни гнева, ни радости, но всё же она есть и делает своё дело. Без неё нельзя... Если мы уйдём и оставим наше поле хоть на минуту, то нас тотчас заменят шуты в дурацких колпаках с лошадиными бубенчиками, нас заменят плохие профессора, плохие адвокаты да юнкера, описывающие свои нелепые любовные похождения по команде: левой! правой!».
Это так похоже на то, что писал Чехов в письмах, что собственно природа писания у Чехова начинает представляться несколько непривычной для этого сугубо профессионального беллетриста и уже отдаёт чуть не Розановым.
Ещё, и тоже вроде шутовской, рассказ «Заказ» (1886), притом, в отличие от «Марьи Ивановны», здесь нет отступлений и рассуждений, а как бы фиксация условий, в каких профессиональный писатель сочиняет заказанный ему рассказ. Комизм в несоответствии трагического содержания заказанного «святочного рассказа пострашнее и поэффектнее» и нетерпеливо ждущих в соседней комнате жены с весёлой компанией.
«— Какая чудная погода! — вздохнул в гостиной студент.
“Его нашли, — продолжал Павел Сергеевич, — на вокзале под товарным вагоном, откуда вытащили с большим трудом. Человеку, очевидно, хотелось ещё жить... Несчастный скалил зубы на конвойных, и, когда его вели в тюрьму, горько плакал”.
— Теперь за городом хорошо! — сказала Софья Васильевна. — Павел, да брось там писать, ей-богу!
Павел Сергеич нервно почесал затылок и продолжал: “... накануне гражданской казни Винкель отравился. Его похоронили за кладбищем, где хоронили самоубийц”.
Павел Сергеевич поглядел в окно на звёздное небо, крякнул и пошёл в гостиную.
— Да, хорошо бы теперь катнуть за город! — сказал он. <...>
— Ну что же! И поедем! — всполошилась жена.
— Э, да кой чёрт! Мне рассказ оканчивать нужно!»
Финал таков, что у писателя вырывают рукопись, и он «начал было протестовать, но потом махнул рукой, изорвал рукопись, выругал для чего-то редактора и, посвистывая, поскакал в переднюю одевать дам».
Что это — цинизм? сатира?
Ни то ни другое, а самая что ни на есть «творческая лаборатория», куда допущен читатель. Как там в «Марье Ивановне»? «Я должен писать, несмотря ни на скуку, ни на перемежающуюся лихорадку. Должен, как могу и как умею, не переставая».
Имитируя в сочиняемом Павлом Сергеевичем рассказе пошло-романтический слог массовой беллетристики своего времени, Чехов не мог не помнить и собственных грехов в этом стиле. Чего стоят рассказы «В рождественскую ночь» и «В море» (оба — 1883). «Пронзительный, душу раздирающий вопль ответил на этот тихий, счастливый смех. Ни рёв моря, ни ветер, ничто не было в состоянии заглушить его. С лицом, искажённым отчаянием, молодая женщина не была в силах удержать этот вопль, и он вырвался наружу».
Ни Чехов, ни Павел Сергеевич как бы не вполне повинны — не они пишут святочные и рождественские душераздраи, а стиль. Стиль, слог, интонация сильнее того, кто водит пером по бумаге. То, как часто тема интуитивности, даже неосознанности процесса сочинения прорывается у Чехова, писателя, склонного к самонаблюдению, трезвого, ироничного, в который раз подтверждает, что не человек занимается сочинением, сочинительством, но самый текст влечёт его подобно течению, и он, в лучшем случае, лоцман на этом пути.
Дачный быт рубежа XIX—XX веков, который так любили высмеивать (Чехов) или обличать (Горький) литераторы, был возрождением быта помещичьего, и, как знать, какой высоты новую культуру выращивали инженеры, дамы, барышни, студенты, гимназисты, адвокаты, доктора и литераторы в клубящихся день и ночь общениях, играя в крокет, катаясь на лодках, ставя любительские спектакли, крутя романы, споря о литературе и политике, выпивая и закусывая на верандах с самоваром и идеалами.
Новая элита, подобно тому, как веком раньше, дворянская, выращивала свою культуру. Усадьба и дача, имение и дом — понятия и слились, и сплелись, а новые Камероны, то бишь Шехтели и Веснины, уже начинали чертить будущие шедевры, планировать будущие сады и парки, в которых могли произрасти грядущие Пушкины.
Если бы не 1917-й, если бы не Октябрь.
«Такая книга необходима», — пишет М. Горький об одном своём замысле, и это очень для него характерно. Всякий художник импульсивен на разных этапах сочинительства, но прежде всего в замыслах. Горький же: напишу потому, что эта книга нужна.
Где-то недавно прочитал, как Горького спросили: как при вашей загруженности писанием и политической работой, вы сумели сохранить такой чёткий, неторопливый почерк? А. М. ответил: из уважения к тому, кто будет читать.
Как будто красиво и благородно, но, думаю, прежде всего из безмерного уважения к себе и своей роли в истории России. На роль Христа/Магомета он, может быть, и не претендовал, но в ряду Лютера — Сперанского — Бисмарка — Александра II — Ганди он себя видел. Почерком он облегчал работу будущим историкам.
Но, конечно же, поскольку почерк его мало менялся с юных лет, в основе аккуратного выведения букв лежало прежде всего уважение самоучки к слову, грамоте, культуре.
В РУССКОМ ЖАНРЕ - 6
Судьба Москвы и москвичей в последние времена напоминает дворянскую усадьбу и хозяев её, уже безвластных, безденежных, отдавших всё в чужие руки. Везде пришлые, ушлые, рубят, переустраивают. А хозяева вяло посматривают из окна: что там, дескать, кто и зачем?
Островский — выразитель, певец, обличитель, летописец Замоскворечья...
Я занялся арифметикой по ПСС Островского, получилось (без написанного в соавторстве и стихотворных драм), что дело происходит в Москве в двадцати одном произведении, в губернском городе — в трёх, в уездном — в пяти, на усадьбе, даче, большой дороге — в трёх, и неведомо где — в шести.
Исключая «На всякого мудреца довольно простоты» и бальзаминовскую трилогию, московские пьесы — не самые известные. А «Гроза», «Волки и овцы», «Таланты и поклонники», «Без вины виноватые», «Бесприданница» — провинция.
Сколько у Островского на сцене заборов! В иных («Женитьба Бальзаминова») забор — действующее лицо. И сознание персонажей — зазаборное, огороженное. Что, впрочем, как выясняется, не так уж и скверно.
Островский самый трезвый и спокойный из русских классиков, и, как бы обличая, он жалеет, а умиляясь, насмешничает. Главное, он ничего не страшился.
«Курослепов. Ну вот, как она придёт, ты её ко мне с солдатом...
Градобоев. С солдатом?
Курослепов. На верёвке.
Градобоев. И на верёвке?
Курослепов. Мы её наверх в светёлку, там и запрём безвыходно.
Градобоев. Что вы за нация такая? Отчего вы так всякий срам любите? Другие так боятся сраму, а для вас это первое удовольствие».
Островский А. Н. Горячее сердце
Нынче в прессе любят корить «новых русских» именами Мамонтова, Морозова и Третьякова. Откуда же, однако, взялись у Островского Курослепов, Хлынов, все его кит китычи? Купцы Мельникова-Печерского немногим краше. Богачи Щедрина, Писемского, Некрасова, Достоевского — дикость, самодурство, алчность. Любимая фигура юмористики, персонаж сочинений Лейкина и Ко, не исключая и Чехова («Маска» и многое другое), — тот же толстопузый. Горбунов И. Ф.! Кого же ещё вам?
Лишь у М. Горького купец и фабрикант — это не только порок, но и ум, и сила, и крепость духа. Если кого и любил буревестник революции, так не Павла Власова, а Бугрова, Железнову, Артамонова. Певцом русской буржуазии был как будто и его современник Иван Шмелёв. Правда, в очаровавшем всех «Лете Господнем» легко заметна эмигрантская ностальгическая дымка, окутавшая прошлое. Достаточно сравнить благостных героев «Лета...» с московскими купцами из «Человека из ресторана» (1911). Или вспомнить рассказ «Забавное приключение» (1917), где тогдашний «новый русский», король московского сити Карасёв отправляется на супермодном автомобиле в провинцию торговать имение.
Такой же «новый», точь-в-точь такой, занимал и Алексея Н. Толстого в повести «Приключения Растегина» (1913): чуть что — суёт ладошку за пазуху к набитому бумажнику.
Можно справедливо и оптимистически заметить, что Островский и Щедрин присутствовали при заре русского предпринимательства, а в XX веке и появились Мамонтовы и Морозовы. Так, мол, и сейчас будет: перебесятся орлы, накатаются на «мерседесах», нашвыряются пачками в казино, наедятся красивой еды — и затоскуют, и придут, и поделятся да ещё спасибо скажут господам артистам-писателям-художникам за сбережение национальной нравственности и подвижничество.
Поживём — увидим. Только это издали сейчас мнится, что Третьяков словно бы один русское искусство кормил и не было Академии художеств с длительными командировками в Италию, стипендиями, званиями и жалованьем. Словно был один Мамонтов, но не было Теляковского. Русь — страна государственная, царство, империя, страна чиновников и распределения — находила возможность содержать искусство, и писатели не все писали в «Свистке», но и служили цензорами, директорами гимназий, чиновниками для особых поручений и даже вице-губернаторами. И дворянское положение, дававшее Болдино и Ясную Поляну, тоже государственного происхождения, результат службы.
По нашему времени сподручнее на чиновника насесть, у коего, как у Расплюева, днище выперло — не может никак наесться. А кит китыч в «мерседесе» — что ж, его дело вольное, личное, чего ему досаждать: дай миллион, дай миллион!
«Барабошев. ...Он должен мне по векселю двести рублей, на платёж денег не имеет и от этого самого впал в нежные чувства. <...>
Платон. Стихи буду писать. В таком огорчении всегда так делают образованные люди.
Зыбкина. Что ты выдумываешь?
Платон. Чувств моих не понимают, души моей оценить не могут и не хотят — вот всё это тут и будет обозначено. Зыбкина. Какие же это будут стихи?
Платон. “На гроб юноши”».
Островский А. Я. Правда хорошо, а счастье лучше
У нас перевёлся графоман. То ли дороговизна почтовой связи, бумаги да и вся обстановка не располагают к сочинительству, только нет теперь потока самодеятельных сочинений, которые могли веселить или надоедать, но с существованием которых нельзя было не считаться. Сидели Платоны, бродили Лебядкины, и непременно рождались строки нелепые, но русская культура без них неполна.
В каждой редакции были кроме разовых и постоянные графоманы, день за днём присылавшие свои произведения. У журнала «Волга» был такой М., который стихами откликался на разные события, например на дискуссию по поводу ЛТП:
Пьянство бред, ну, пили многие,
братья Чеховы, Куприн.
И Толстой да третий, сын —
сын Дюма, и все ж в итоге ведь
и спивались поневоле
<...>
Русь пила, князья во фраках
пили, только эта власть
умудрилась до экстаза
прятать пьяниц в ЛТП,
и морали сей проказа
растворяется в толпе.
Ключ к судьбе не одного Саврасова в его словах Коровину: «Пойми — полюбил, полюбил горе... Пойми — полюбил унижение...». Почему спился и опустился автор картины «Грачи прилетели»? Именно так: спился и опустился, а не спился. Можно опуститься и не спиваясь, но можно спиться и не опускаясь.
Слова Саврасова, которые запомнил юный и, может быть, досочинил старый Коровин, приоткрывают мармеладовскую загадку, которую без устали преподносит нам русская жизнь.
Наслаждение унижением — спасение? Да, русское понимание добровольного падения человека всё-таки исключительно религиозно. Мягкая, добровольная сдача напору социальной жизни, исчезновение в чаянии воскреснуть есть, вероятно, одна из форм спасения души, чуть ли не вровень с монашеством.
Бенедикт Сарнов, выступая по радио (это было 7 апреля 1994 года — записал дату, потому что очень уж поразился), сказал, что трагедия Обломова в том, что он предал свой талант, данный ему от Бога, и превратился в ничтожество.
А какой был дан ему талант? — спросим мы. Наверное, сберегать себя, сохранить душу такою, с какой он пришёл в мир. Что Илья Ильич и исполнял.
«Одет он был в покойный фрак, отворявшийся широко и удобно, как ворота...» (Гончаров И. А. Обломов).
Никак не только не разделяю восхищения Рерихом и его «учением», но чувствую к ним глубокую, неодолимую неприязнь. Почему-то в брежневские времена это была единственная «ересь», дозволенная к употреблению, и редкий день на экране ТВ не увидать было благостного, с промытой бородкой, в индусском кителе Святослава — продолжателя великого дела. То и дело корреспонденты показывали дом Учителя, а стихотворец В. Сидоров в журнале «Москва» печатал длинные очерки о его учении.
И самого Н. К. издавали. Он писал ужасно! И прозу, и стихи. А однотипные Гималаи с многозначительными названиями полотен удручающе декоративны. Впрочем, и древняя Русь его мне неприятна.
Общее место: художнику необходима верная подруга, муза, спутница, вдохновительница и берегиня; Мастеру нужна Маргарита.
Мастеру, возможно, и нужна, хотя и не каждому, прекрасно обходились без неё Гоголь и Гончаров, Лермонтов и Чехов — список будет длинным. Я имею в виду не просто брак, но наличие у творца, как писалось в советских некрологах, «жены и верного соратника».
В случае же серенького, унылого сочинителя эта самая соратница становится вредна для окружающей среды. В зависимости от темперамента, честолюбия, алчности и влюблённости в своего творца она может крепко помогать ему в продвижении рукописей, тем самым нанося урон культуре.
А уж если таковая муза является человеку, больному сочинительством, роль её поистине ужасна. Когда бы рядом с самодеятельным поэтом (художником) находилась нормальная женщина, не «муза», она бы постаралась отвлечь его от бумага — или холстомарания или покинула. Глядишь, и человека сохранили бы. Но почему-то именно на пути несчастных, о которых Е. А. Баратынский заметил: «Не он пред светом виноват, а перед ним природа виновата», возникают исступлённые музы, делающие профессиональное утверждение избранника своим поприщем.
У В. М. Шукшина есть рассказ «Пьедестал», именно об этом.
Живущий изготовлением «вывесок, плакатов, афиш» Смородин пишет большое полотно под названием «Самоубийца»: «...за столом сидят два человека... с одинаковым лицом... и один целится в другого (в себя, стало быть) пистолетом». Вера Смородина в свой талант подогревается женою, странной, молчаливой, погружённой в свои мысли женщиной. Она внушает мужу: «Надо, чтобы у них потом отвисли челюсти... Вдруг, в один прекрасный день, все узнают, что этот человек — гений». Когда «Самоубийца» закончен, приглашён местный художник. Стоило художнику засмеяться при виде полотна, с женою случается истерика: «Спусти его! Двинь сзади! Скорей!.. Спусти его! Вниз его, вниз его, вниз... Двинь его! Скорей же!.. Догони его! Догони — двинь его, двинь!». При виде этих обычно стареющих или просто старых дам, любящих оформлять себя в стиле посетительниц творческих клубов Москвы — очень много браслетов, бус, деревянных и металлических побрякушек, непременный мундштук в морщинистой лапке, — при виде такой фигуры старается скрыться видавший виды редактор или чиновник из творческого союза, поэт или критик. Они знают, что «музы» не любят уходить с пустыми руками.
Если бы сейчас молодой поэт предложил для печати строки «Женщина, Ваше Величество» или «Надежды маленький оркестрик под управлением любви», его бы всерьёз никто не воспринял. У ироничного Аксёнова просветлившийся юноша рыдает, слушая Баха, а автор резюмирует суровые сцены фразами типа: «Как часто мужчин выручают сигареты». Неслучайно самым знаменитым из поэтов-шестидесятников стал автор строк «постель была расстелена, и ты была растеряна».
То была плата за небывалую — или давно забытую — искренность в литературе. Слово «искренность» сделалось знаком, и недаром официальная критика так накинулась на Померанцева.
Шестидесятники требуют к себе исторического отношения. Юным дегустаторам «текстов» невозможно представить, как звучало в те годы само имя Евтушенко или как трогал и объединял голос Окуджавы. Не надо обижать шестидесятников .
В РУССКОМ ЖАНРЕ - 7
Положение, когда обычный, то есть не агрессивный, не преступный человек, юноша, оказывается перед лицом хулигана, до Леонида Андреева, кажется, не являлось в литературе. Угроза и в жизни-то только начала проступать в связи с изменившимися социальными условиями, появлением массы пролетариата, полупролетариата и люмпена, бараками и фабриками, свободным временем, пьяными получками, трактирами, доступностью водки, гармоник, сапог со скрипом, главное, утратой социальной недосягаемости высших для фабричных социальных слоев. Прежде какой-нибудь Федька Каторжный мог зарезать барина, но отравить быт обывателю он не мог. Для этого нужен был не Федька Каторжный, а множество полукаторжных.
Скандал, вызванный публикацией рассказа «Бездна» (1901), был связан с финалом — неожиданной животной тягой героя к изнасилованной в лесу девушке. Очень многим финал представлялся надуманным, даже невозможным, он раздражал приличие нравов общества. Сам писатель прекрасно знал, что делает, и, выступая в печати с ответом на критику «Бездны», писал о нашествии «двуногого существа без перьев, которое овладело только внешними формами культуры. <... > Чтобы идти вперёд, чаще оглядывайтесь назад, ибо иначе вы забудете, откуда вы вышли и куда нужно вам идти... перестаньте травить человека и немилосердно травите зверя».
Младший современник Андреева Алексей Н. Толстой оставил описание хулиганов, которых в его родной Самаре называли «горчишниками», и воспроизвёл почти такой же разговор лениво лежащих философов безделья, пьянства и насилия при виде барина с красивой девушкой. У Андреева: «Совсем дохляк парень, даже обидно. <... > А девочка хорошенькая, дай бог всякому».
У А. Толстого: «Даша слышала, как лежащий сказал ей вслед:
— Филипп, вот бы нам такую.
И другой ответил с набитым ртом:
— Чиста очень. Возни много» («Хождение по мукам»).
Герой Андреева суетливо предлагает хулиганам денег, а спутник Даши, пустомеля Говядин, оправдывает встретившуюся сволочь: «Этот элемент — не знает ни праздников, ни отдыха... а вот мы с вами, умные и интеллигентные люди, едем праздно любоваться природой». А элемент валяется пьяный у воды, жрёт и сквернословит.
Примечательно, что и у Андреева, и у Толстого встречи с хулиганами происходят в городском предместье, или, как стали выражаться в наше время — «на природе». Именно это идиотическое определение выражает суть идеала времяпрепровождения «зверей»: пить и жрать на траве под деревом у воды, гадить, мусорить, блевать, приставать к женщинам, драться, унижать тех, кто слабее... это ли не картины здорового советского отдыха на протяжении многих лет. Ведь горчишники и андреевские насильники, пролив немало кровушки после семнадцатого, как ни в чём не бывало перескочили в новое общество «социальной справедливости». А сколько их выпестовали коллективизация, война, стройки коммунизма с их бараками и «культурными развлечениями»... Даже и строгие «сталинские» порядки мало задели обычай хулиганского насилия над личностью, — вспомните. А кто моложе, прочитайте В. Сёмина, В. Аксёнова, В. Тендрякова, А. Кузнецова, Ф. Искандера, А. Приставкина. Каждый из нас вынес из детства страх перед двумя насильниками: хулиганом и государством.
В романе В. Аксёнова «Коллеги» мужественный молодой герой не то перед схваткой, не то после схватки с бандитом вспоминает, как в детстве был унижен шпаною, отнявшей военной зимой в Казани у него новые коньки, а он лишь бежал и умолял вернуть ему драгоценный папин подарок.
Но не все, подобно по-западному мужественному персонажу «Коллег», научились биться с хулиганами и бандитами новейшими приёмами в оное время бокса и самбо, затем джиу-джитсу, затем карате и т. д. К тому же, как гласит народная пословица, «против лома нет приёма». И реализовать вторую её часть решится не всякий: «если нет другого лома». И сколько бы ни тешили нас Останкино-Голливуд киносказками с бесконечным вызовом мужественного героя шайке «двуногих в перьях», — нормальный обыватель по-прежнему не решается вступить в борьбу с хулиганами и насильниками. Даже не по-прежнему, а пуще прежнего. Если раньше конфликты чаще всего кончались дракой и нанесением, как писал в протоколе участковый, лёгких, ну средних телесных повреждений, то нынче убить — раз плюнуть.
И вот мы, напуганные и боящиеся, битые, грабленные в детстве шпаною, что мы поём? «Мурку», если не поём, так слушаем с особым удовольствием, так же как все многочисленные «мурки» разных времён. Сколько певцов, начиная с Утёсова и кончая Шуфутинским, добились массового успеха на одесско-кичманском репертуаре!
Одна из популярных современных радиопрограмм «В нашу гавань заходили корабли», и названием-то взявшая строку из песни, где схлестнулись два ножа и т. д., значительную часть времени отдаёт если не текстам, то вполне блатным мотивчикам. И делает это передача не на потребу дурному вкусу, но по точно уловленному заказу: значительная часть слушателей хочет слушать эти мотивчики, грустить над тем, как «по тундре, по железной дороге, где мчится поезд Воркута — Ленинград»!
Объяснялось явление, и справедливо, тем, что Россия — страна сидевших или родственников видевших. Однако ж заметим, далеко не всех уголовно-сидевших.
И всё же тоска общая, лагерная тоска, тоска неволи как бы берут под одну барачную крышу уголовника и колхозника, прикинувшего мешок отрубей. Но — как пройти мимо классовой, не могу сказать иначе, ненависти Варлама Шаламова к блатным, его нетерпимости многосрочного зэка к уголовной романтике и её проникновению в художественную литературу?
В развитие вышенаписанного попробую добавить то, что приобщением хотя бы в пении или слушании тот же обиженный подросток подсознательно приобщается к миру силы и ножа, где сам чёрт не брат. И получается по Евтушенко: «интеллигенция поёт блатные песни».
И ещё одно, подальше. Когда Пушкин указал на грусть как на национальную черту, он подтвердил её так: «шлюсь на русские песни». А в них не так редок был среди замерзающих ямщиков и бродяга, переехавший Байкал, да и любовная, так сказать, лирика то и дело рассказывала о ситуациях с кровавым финалом, типа «она ему ножик вонзила, потом себе в белую грудь».
Недруги, «русофобы», могут заметить, — это играет присущее русскому характеру разрушительное и саморазрушительное начало; друзья русского народа, «патриоты», могут здесь не менее справедливо разглядеть широту, ухарство того же характера: «Пей-пропивай! Пропьём — наживём!». Иностранец может, пугливо расширяя зрачки, подивиться загадочности русской натуры.
Но как бы то ни было, что есть, то есть, — споём?
Советские песни звучат сейчас подобно тому, как эмигрантские в советские годы — запретным плодом. Тогда к зачастую очень талантливым текстам нередко писались дивные мелодии, к тому же и забойно-танцевальные. Когда появилась песня «Летят перелётные птицы», люди очумели, её пели и слушали повально, она неслась не только голосами Бунчикова и Нечаева из патефонного чемоданчика, но и из каждого кабака с оркестром и забегаловки с аккордеонистом. Сугубо патриотический, даже политический текст положен на мощнейшие разухабистые фокстротные ритмы. «И Африка мне не нужна-а!»
А ведь и в самом деле не нужна.
Едва ли не самое известное стихотворение Николая Рубцова — «В горнице моей светло». Строка «Матушка возьмёт ведро, молча принесёт воды...» наводит на грустные размышления. Почему же матушка? Почему он-то лежит и думает о завтрашнем хлопотливом дне? Как в сказке. И лодка, которую он будет мастерить, столь же сказочна, как и аленькие цветочки, которые будет он поливать. По воду ходили женщины, — так. Но почему тогда он цветы собирается поливать? А если не сказка, то отчего мужик, реальный, советский, лежит, а мать воду таскает? Как ни грустно признавать, но это правда житейская, и объясняется она одним — лирический герой, как и большинство его соседей-сверстников, лежит к вечеру пьяный и ничего не делает, лишь мечтая о том, что завтра он будет нечто делать — поливать цветы и мастерить лодку. Впрочем, лодку строят, а не мастерят, но это не имеет значения, так как строить-мастерить никто ничего ни завтра, ни послезавтра не станет.
Дворянство набирало высоту два столетия, а падало полвека. А как действовал закон вырождения среди советской элиты? Где дети вождей, наркомов, красных директоров, новых корифеев искусства и науки? Уже во втором поколении вырождение. Кто в домах на набережных, высотках и Жуковках смог пусть не подняться выше — вроде некуда, но сохранить себя, стать заметной личностью? Мало, редко. Все семьдесят лет большую устойчивость, как ни странно, проявляли немногие дети немногих репрессированных «бывших». Им-то, казалось, труднее, даже гибельнее было приспособиться в мире коммуналок, лагерей, очередей и доносов. К тому же надо было скрывать происхождение. А поди ж вот.
Законы вырождения действуют стремительно. Вот, на глазах выбился, добился, прорвался, а сынок-дочка уже ничего не хочет, кроме как колоться. Пусть не все и не совсем так или совсем не так, но поголовно — разматывание на своём уровне даже того немногого, чего добились родители. Ещё недавно, в «застой», типичной была картина некоторого собирания, хотя бы и на таком уровне: мама, пробиваясь по комсомольско-партийной линии, помогает папе в его работе в милиции, они растят сына, помогая ему попасть в аспирантуру и сочетая его законным браком с дочерью заместителя директора завода. Внучка уже порхала в балетном училище, воображаемый внучкин жених витал уже на министерских высотах.
Всё это могло быть с любыми заменами, правда, из довольно ограниченного числа вариантов: мама — учёный, папа — обком, сноха — дочь директора гастронома; и осуществлялось неярко, но довольно противно, обрастая всё большим слоем подлости, однако в масштабах страны реально наращивало тот пресловутый средний класс, который где- то там есть опора и залог стабильности.
Да, мнилось, что стабильность обретается в сундуках, гаражах, сберкнижках.
Читая в советские времена советскую книгу «Двенадцать стульев», вряд ли мы могли оценить выбор Остапом «профессии» для Воробьянинова-нищего: бывший член Государственной думы.
Нет, было ясно, что Остап придумал для жалостности образ «бывшего», которого пожалеют несознательные граждане республики, вздыхающие о прошлом, но почему депутат Думы, а не сенатор, не генерал? Откуда конкретный интерес литератора Изнурёнкова, помните: «Скажите, вы в самом деле были членом Государственной думы? — раздалось над ухом Ипполита Матвеевича. — И вы действительно ходили на заседания? <... > Скажите, вы в самом деле видели Родзянко? Пуришкевич в самом деле был лысый?».
К 1927 году Россия ещё не успела забыть Думу и её депутатов, сохранив жадный интерес к новому для России явлению парламента и особенно шумной под конец деятельности его членов.
Легко представить, что если сменится режим, через сколько-то лет некто будет жадно спрашивать действительного или мнимого депутата: «Скажите, вы в самом деле видели Жириновского? Гайдар в самом деле был лысый?».
В РУССКОМ ЖАНРЕ - 8
Русские писатели крайне неуважительно относились к своему занятию, если судить по тому, как изображали они сочинителей в своих произведениях. Кто сочиняет у Гоголя? — душа Тряпичкин? У Достоевского? — пасквилянт Ракитка? пьяный сотрудник «Головёшки»? классический графоман Лебядкин? — много сочиняющих у Достоевского, и всё народ, в лучшем случае, ущербный, не исключая и Ивана Карамазова. У Гончарова — стишки — юношеский грешок. У Островского балуются письменным словом, кажется, лишь влюблённые приказчики, чеховский же писатель — это репортёр-забулдыга или тот же графоман, вроде дамы из рассказа «Драма». Исключение — Тригорин и Треплев, но и они не лучшие в чеховском мире.
Поэзия снисходительнее к себе, сколько заветов, вопросов, восторгов «Поэту» о «Поэте»!
А где нет ни плиты, ни креста,
Там, должно быть, и есть сочинитель.
Н.А. Некрасов
Алёша Карамазов, глядя вслед уходящему брату Ивану, вдруг замечает, что «у него правое плечо, если сзади глядеть, кажется ниже левого».
Иван — ведь сочинитель, сколько лет уже живущий «статейками».
Невозможно подражать Достоевскому, «учиться» у Достоевского, и редкий, кто на это покушался, как бы ни был талантлив, падал под непомерною тяжестью, не дотянув до цели, как Андрей Белый, хотя бы и в «Петербурге». Имитировать Достоевского пытался хитроумный словесный механик Леонид Леонов, который признавался в каком-то интервью, что ему вполне ясны пути, которыми Достоевский добивался своего потрясающего результата. И что ж, возможно, и так, и даже нам порою ясны, а уж Шкловский просто, как кубик Рубика, тексты Фёдора Михайловича раскручивал. Но, слава Богу, писать, как Достоевский, не брался. (Б. Пастернак: «Леонов считал, что можно быть последователем Достоевского, ограничиваясь внешней цветистостью якобы от него пошедшего слога».)
Горький утверждал, что Леонид Андреев был ушиблен Достоевским. Всё-таки в своей словесной ткани Леонид Николаевич не слишком зависел от кого бы то ни было, являя поначалу род литератора средней руки, которого не в чем заподозрить, кроме этой усреднённости. Между прочим, так начинал даже Бунин и многие другие, и так всю жизнь писал Куприн, которого вы не определите не то что по строке, но редко и по странице, что не помешало ему остаться в русской литературе.
Но прилететь что-то из Достоевского могло, в том числе и Андрееву. Немало было в своё время насказано и навозмущено по поводу «натуралистической» детали в его «Тьме»: грязные, с «кривыми, испорченными обувью пальцами» ноги арестованного революционера. А вот: «он сам не любил свои ноги, почему-то всю жизнь находил свои большие пальцы на обеих ногах уродливыми...». Митя Карамазов в Мокром во время досмотра.
Физиология до натуральности у Достоевского редка, он целыми периодами забывает о ней, не особенно как бы заботясь о том, что человек жив не единым духом... но вдруг вспомнит! вроде того, что изголодавшийся Раскольников зашёл в полпивную или как с Верховенским-старшим от волнения приключался понос...
Ноги же, внушающие наблюдателю ужас, накрепко влезут в российскую словесность, и, кажется, особенно они занимали И. Бунина.
Пытался подряд читать Леонида Андреева — и не мог. Что за судьба! Воистину русская и воистину литературная, то есть ненормальная, неумеренная, незаслуженная, несправедливая и несчастная.
Истинно писательский в русском понимании образ жизни: бедность, гордость, попытки самоубийства, пьянство, грязь, каторжное еженощное писание, а затем — слава, деньги, претензии на духовный вождизм, на роль пророка — а как же иначе? — и всё то же пьянство и еженощное писание. Смерть в сорок девять лет, и — почти полное забвение, вытянуть из которого Андреева, боюсь, уже никому не удастся.
Почему так непомерен русский человек и в бедности и в богатстве, и в безвестии и в славе?
Всё лучшее написано Андреевым в молодости, а потом эти бесконечные пьесы! В них бездны, а в жизни деньги...
Как любили уставать и мечтать в русской литературе рубежа XIX —XX веков!
Уже Чехов: «Дядя Ваня, погоди... Мы отдохнём...», «Придёт время, все узнаём, зачем всё это, для чего эти страдания...».
Леонид Андреев в «Анфисе»:
«Фёдор Иванович. У меня тоска, Анфиса. ...и кстати, приготовь мне ликёры. <... >
Анфиса. Но я устала... А что же ликёр? Я ведь принесла. Вот он. На! (Наливает.) Выпей. Тебе нужно отдохнуть, Федя, ты так устал. <... >
Фёдор Иванович. ...Да, я устал».
Фёдор Иванович, натурально присяжный поверенный, со всеми вытекающими из этого заработками, а ликёр — это, конечно, ликёр. Тяжело. Я не хочу сказать, что усталость исключительно от ликёров и достатка, но... а что другое скажешь?
Всё-таки Серебряный век и наша неодолимая тяга к его тайнам, желание найти сходство с теперешним, на худой конец скопировать, сымитировать (прозу Брюсова стали экранизировать!) — всё это далеко не самая вкусная и здоровая пища в наше время. «Как я устал» и «налей мне ещё» — в любом интерьере останутся этими фразами. «Все мы бражники здесь, блудницы...» Красиво. А если то же, но другими словами: «Все мы здесь алкаши и б...»?
Едва ли про другого русского поэта можно сказать, что он — народный любимец. По отношению даже к Пушкину придётся делать оговорки.
Когда Анна Ахматова сказала, имея в виду гонения властей на Бродского: «какую они ему делают биографию», она подразумевала и поэтов старшего поколения, прежде всего Мандельштама и себя, которым и в самом деле давление режима делало биографию — особенно самой Анне Андреевне. Если рецензент 10-х годов мог ядовито и вполне справедливо заметить, что «Анна Ахматова мучается не потому, что её оставил возлюбленный, а потому, что это её профессия», то современный исследователь Ахматовой прежде всего видит внешние обстоятельства, сделавшие её музу трагичной, прежде всего то, насколько она «была там, где мой народ, к несчастью, был». Но страдания и испытания притягивались, провоцировались самой Ахматовой ведь не столько политически, сколько метафизически. И трагичность её зрелых любовных стихотворений не ниже градусом, чем «Реквием», при, казалось бы, столь разных уровнях источников страдания.
В ещё большей степени профессиональность страдания, что звучит цинично, ну скажем, удел страдальчества, были присущи Сергею Есенину. Внешние давления не удовлетворяли его едва ли не мазохистскую жажду страдания. Ни «вихрь событий», ни любовные романы — ничто в сравнении с внутренним чёрным огнём, сжигавшим его и столь обнажённо проступавшим в его стихах. «Я последний поэт деревни...» — и потому, что деревне худо, но главным образом потому, что последний, — это нечто! И Маяковский восклицал: «.. .Я, быть может, последний поэт». Борис Пастернак, кажется, первый отметил не антагонизм Маяковского и Есенина, но их близость и явное влияние Маяковского на Есенина. Он, Пастернак, и Живаго своего определял как «человека, который составляет некоторую равнодействующую между Блоком и мной (и Маяковским, и Есениным, может быть)».
Последним быть — это вам не советская очередь, где, помнится, всегда находился гражданин, оскорблённо поправлявший спросившего: «Я не последний, я — крайний!». А быть последним в поэтическом ряду — это узаконенное бессмертие, а к чему стремится поэт?
Способность самосжигания. Вс. Иванов или Б. Пильняк, поглощавшие алкоголя не меньше Сергея Александровича, кутившие и, особенно последний, менявшие женщин с быстротою и лёгкостью, всегда ещё имели и второй план жизни, крепенький. То, что Есенин заключал договоры, прятал деньги или обирал Айседору, совсем не то. Искупление бывало мгновенным, конечно, мот и гуляка он был истинный, и правила литературно-издательской игры с авансами, договорами, рекламой, интригами соблюдались им не для выстраивания личного благополучия, а лишь подтверждали, что он — настоящий русский писатель, классик. Вот и журнал задумал издавать. Пильняк же — издавал. И близость верхам, столь тесная у многих крупных писателей советского времени, не миновавшая и Есенина, водившего дружбу с комиссарами и чекистами, опять-таки становилась атрибутом игры — той игры с жизнью, которую вёл Есенин. Отсутствие жилья, имущества — как важно это в контексте его «товарищей», которые деловито обустраивались. Есенину было интересно вырвать деньги из Воронского и Ионова, но совсем было неинтересно размещать их в материальные ценности. Едва ли не одна, столь простительная и для него естественная, страсть к нарядам. Есенин был человек без быта, так же как и Ахматова, Цветаева, Мандельштам. Он был свободным человеком, которого дом, семья, государство не могли привязать к себе сколько-нибудь крепко. Да никак не могли — вырывался и убегал.
Пьянство Есенина — не только не бытовое, но и не среднелитературное, традиционно-богемное. Пьянство как образ жизни, пьянство как самосожжение. Напомним, что пить С. А., по свидетельствам современников, начал поздно, то есть не было здесь врождённой зависимости или юношеской бездумности, с которыми обычно бросаются в «кабацкий омут».
Пьянство как двигатель, как лоцман, как сумасшедший компас, заставляющий делать так, а не эдак, влюбиться (ли?) в заезжую престарелую знаменитость и умчать на «юнкерсе» в Европы, зачем-то отправиться за океан. Можно ли найти во всех житейских шагах Есенина двадцатых годов хоть подобие логики, какого-то плана, расчёта, просто нормальной разумности, вплоть до последнего решения о разрыве с Толстой и переезда в Ленинград, город как бы вовсе не его романа, с чуждой и во многом враждебной литературной средой?
Бегство Есенина от кошмара, от чёрного человека становилось драгоценным топливом в догорающий, всё более сумрачный, а оттого притягательный костёр его поэзии.
Если и мне пришлось бы составлять табель о рангах (любимое литературное занятие на Руси), то бесспорные поэтические гении XX века: Блок, Пастернак, Есенин.
Знаю, что сюда положено отнести ещё Мандельштама и двух женщин. Но если так, то тогда ещё Маяковского, Ходасевича, Н. Клюева и Г. Иванова. Готов расширять: начиная с Анненского и кончая Северяниным. Но никогда — Гумилёва.
«Маяковский был один, такого не было, и Есенин был один, такого не было, а Мандельштам — очень хороший, очень большой талант и так далее, но он стоит за другими, у него были раньше — которые впервые, понимаете?..» (Николай Эрдман по воспоминаниям В. Смехова).
Лидия Сейфуллина рассказывала Корнею Чуковскому, как, уже после смерти Есенина, к ней домой вдруг приехал Бухарин «поговорить о Есенине», да она для разговора была слишком пьяна.
Самые худшие годы для есенинского наследия — вовсе не те, когда его не издавали, но переписывали, помнили наизусть дорогие строки, а урки выкалывали их на груди. Хуже стало, когда Есенина «разрешили» и взялись канонизировать. Канонизация шла по двум направлениям. Первое — осовечивание его. С. Кошечкин, Ю. Прокушев и многие другие бесконечно сочиняли Есенина-большевика, сладостно цитируя:
Как скромный мальчик из Симбирска
Стал рулевым своей страны.
Средь рёва волн в своей расчистке,
Слегка суров и нежно мил,
Он много мыслил по-марксистски,
Совсем по-ленински творил, —
стихи вполне пародийные. Но есть и другие, странноватые:
И не носил он тех волос,
Что льют успех на женщин томных, —
Он с лысиною, как поднос,
Глядел скромней из самых скромных.
Второе, не совсем официальное, подспудное: претворение Есенина в суперпатриота, золотоглавого воспевателя «земли с названьем кратким Русь». Он, конечно, был воспевателем этой земли, но когда скрипучими словами профессиональных литературных патриотов утверждалось, что прост-то был их Ляксандрыч, прям дальше некуда, то есть подразумевалось, что прост он был, как они, стало быть законные наследники, в пику проклятым модернистам-сионистам то... как тут было не тыкать им гениально-взбаламученной поэтикой «Пугачёва»:
Ежедневно молясь на зари жёлтый гроб,
Кандалы я сосал голубыми руками...
Каплет гноем смола прогорклая
Из разодранных рёбер изб...
Луны лошадиный череп
Каплет золотом сгнившей слюны...
По-звериному любит мужик наш на корточки сесть
и сосать эту весть, как коровьи большие сиськи.
Мы стали современниками эстрадного возрождения Есенина. Если недавно лишь хор в кокошниках мог задушевно исполнить «Клён ты мой опавший» и лишь зарубежный бас Рубашкина спрашивал:
Молодая, с чувственным оскалом,
я с тобой не нежен и не груб.
Расскажи мне, скольких ты ласкала?
Сколько рук ты помнишь? Сколько губ? —
то сейчас то и дело слышится новое и новое исполнение есенинских текстов: «Не жалею, не зову, не плачу», «Я обманывать себя не стану», «Сыпь, гармоника», «Пой же, пой», «Годы молодые...», «Мне осталась одна забава», «Пускай ты выпита другим», «Сукин сын», «Отговорила роща золотая» — то есть стихи или из «Москвы кабацкой», или к ней примыкающие, пришлись ко двору. Какое время — такие и песни. А двадцать лет назад сумел поразить Шукшин: молодой зэка, поющий в «Калине красной» «Письмо матери», являл собою такой сплав тоски, русскости, поэзии и уголовщины, что есенинский текст звучал и исповедью, и гимном всех пропавших «без причал».
«Однажды на мой вопрос, любит ли она стихи Есенина, ответила только: “Но ведь он не сумел сделать ни одного стихотворения...”» Шервинский С. В. Анна Ахматова в ракурсе быта).
И была почти права: доделанных, доведённых, как говорят работяги, до ума, стихотворений у Есенина если не вовсе нет, так очень мало, и это замечала, конечно, не одна А. А., а скажем, доброжелательный к Есенину Д. Святополк-Мирский: «У Есенина много плохих стихов и почти нет совершенных». Хоть сам С. А. и заявил: «стихи не очень трудные дела...», но, конечно, знал про то, что у него сделано и не сделано. Как там, в «Анне Снегиной»:
Я вам прочитаю немного
стихи про кабацкую Русь...
Отделано чётко и строго.
По чувству — цыганская грусть.
Но как бы отвечая всем критикам не умеющего отделывать Есенина, писал Пастернак: «Есенин был живым, бьющимся комком той артистичности, которую вслед за Пушкиным мы зовём высшим моцартовским началом, моцартовской стихиею».
Есенин писал «хуже» и Ахматовой, и некоторых, куда менее значительных поэтов, скажем, Асеева или Багрицкого. Именно потому, что был гением. Его осенял высший дар, вовсе не обязательно и даже скорее почти никогда не соединяющийся с той мерой способности к совершенствованию, которыми отмечены другие. Есенин писал «хуже» Ахматовой, так же как Достоевский — «хуже» Гончарова, а Толстой — «хуже» Тургенева.
«Ежели Кольцов выпускает книгу, то на обложку дайте портрет, который у Екатерины. Лицо склонённое. Только прежде затушуйте Изадорину руку на плече. Этот портрет мне нравится. Если эта дура потеряла его, то дайте ей в морду» (Есенин — Г. Бениславской, из Баку в Москву в мае 1925 года).
Из есенинских фотографий есть самая знаменитая, десятки лет украшавшая и скромные девичьи простеночки, и базарные окошки — с трубкой во рту и почему-то подобием альпенштока на плече, парикмахерски уложенный и с совершенно небесно-пустым взором. Есенину здесь 24 года.
Есть ещё несколько подобных сладких изображений поэта, с расчёсанным проборчиком, небесными глазами. Зато как мил и прост он с гармошкой на Пречистенском бульваре, с сестрой Катей, как «непохож» одутловатыми немолодыми щеками на фото в профиль с матерью в Константинове, обречённо тих на фотографии последнего года жизни, которая сделалась канонической во многих изданиях. Единственные кинокадры с Есениным, 18-го года, при открытии барельефа на Красной площади, обнаруживают, что С. А. был худ и горбонос, никак не округл, но скорее хищноват. Так оно, наверное, и было: «Низкорослый и горбоносый...». Фото же, где велено замазать Изадорину руку, если не ошибаюсь, работы знаменитого Наппельбаума, не могло не нравиться —хорош здесь Есенин, но без сладкой позы, задумчив, но ненароком, а не в объектив.
Над страстью современных ему писателей, особенно «знаньевцев», фотографироваться потешался Бунин: «Опять сниматься! Всё сниматься! Сплошная собачья свадьба». Едва ли не всех затмевал Горький, целеустремлённо позировавший десяткам фотографов, в блузах, высоких сапогах, широких шляпах. Да и сам Иван Алексеевич не чурался объектива. Его позирование выдаёт просто больший, чем у «знаньевцев», вкус.
XIX век оставил много фотографий писателей, но тогдашняя съёмка редко выходила за рамки ателье; мы можем изучать лишь лица классиков, прослеживать значительные и замечательные изменения (может быть, особенно Достоевского), но не их готовность позировать, охватившую поздних, особенно советских писателей.
Сколько-нибудь тщательное обозрение фотографической иконографии советских писателей — увлекательная и, быть может, уже осуществляемая (осуществлённая?) кем-то задача.
Горький, неизбежно много фотографируясь с 10-х ещё годов, всё более строг и вместе естественен на изображениях.
Маяковский, чьи хулиганские изображения в крылатках и гарибальдийских шляпах сопровождали его футуризм, с годами стал скромен перед объективом.
Булгаков демонстративно фотогеничен, артистичен, классичен там, где он позирует. Булгаков более жив для меня на бытовых семейных фотографиях. Но как позировал Федин! Он в старости иронически отозвался о своей в бабочке фотографии двадцатых годов («снимок со странного джентльмена»), но сколько в старости он оставил сладких своих, проникновенных ликов. И нюхая яблоневый цвет, и грозно нахмурившись над погасшею трубкой, и много, и много!
Фотографии Катаева, взгляд и поза, в любом возрасте выразительно подтверждают его наглость.
А ещё есть фотография Леонида Леонова периода его поздней зрелости. Боже мой, сколько предметов! Очки? Да. Лежат на рукописи сочиняемого шедевра. Курительное? Да. Трубка лежит рядом с рукописью. Стило? Конечно. Торчит из крепкой ладони в крепкий рот. Книги предшественников? О, да — фон долгих старинных золототиснённых корешков в застеклённых полках. Главное же — взгляд в будущее под раскидистыми прядями и — совершенно для меня непостижимо демонстрируемый предмет: кожано-блестящий в луче софита футляр очешника в нагрудном кармане. Всё.
Леонов — это наш советский Набоков. Рабоче-крестьянский Набоков. Или кремлёвский Набоков.
Я уж как-то писал о труднообъяснимой привычке фотографироваться с курительными принадлежностями. Ну ладно там, мальчишка папироску воткнёт в рот — вроде взрослит, но ведь с нею снимались великие писатели и даже цари!
Загадка куренья ещё и в отношении к куренью, то есть феномен курения вовсе не исчерпывается тем, что медики могут нам объяснить в механизме его воздействия, привыкания, вреда и т. д. Почему, скажем, именно курение в России стало знаком свободы женщины? В прошлом веке курили эмансипе и проститутки, затем богемные дамы и рэволюционэрки, и — по традиции — партийные дамы ещё долгое время. Но затем партийный быт, видимо, как-то запатриархалился, и курить открыто руководящей чиновнице стало уже недопустимо. Зато сплошь закурили поэтессы, актрисы и дамы, работающие в хирургии.
«И то многие не бросают, а продолжают курить, имея в голове ужасные мысли о вредности куренья» (Зощенко М. О том, как Ленин бросил курить).
Табак не признан модным франтом,
Но человек с прямым умом,
Писатель с истинным талантом
Живут как с другом с табаком.
<...>
И на земле табачным корнем
Искоренится корень зла.
Н.А. Некрасов. Табак
«Вот тебе мой контрсовет (ты мне советовал насчёт табачка-то, правда?): никогда, ежели самой крайней нужды не будет, не бросай курить! Помню, во что мне обошёлся первый опыт — давосский: только полтора года спустя после того как я бросил курить, с великими усилиями восстановил я способность работать... Не бросай смотри!» (К. Федин — М. Слонимскому. 9 октября 1965 г., спустя пять месяцев без куренья).
Два заклятых литературных врага, два старых русских писателя курили, говорят, до последнего вздоха, притом как будто один весьма для России экзотический сорт сигарет — французские «голуаз», которые особенно крепки. Шолохов и Эренбург, — настаиваю: русский. Б. Парамонов напечатал в «Звезде» остроумный очерк об Эренбурге, смысл которого сводится к тому, что жизнь Эренбурга, судьба Эренбурга, книги Эренбурга, характер Эренбурга — всё это есть жизнь еврея. Всё остальное как бы гарнир.
Спорить не стану. Но ведущий гарнир в этой жизни — русское писательство. Конечно же, недурно вроде бы уточнить: советское, а то и вовсе заменить русское на советское. Только куда тогда девать дореволюционное, не такое уж малое объёмом творчество, куда девать антисоветское творчество Ильи Григорьевича? Нет, он был типичным для своего поколения русским писателем, и пусть в его еврействе те, кто в этом понимает, разбираются. Оно меня не занимает и, думаю, играло незначительную роль в его литературной работе.
А писатель Эренбург был неважный. А кто важный?
Скажете: Платонов, Мандельштам, Ахматова, Цветаева, Булгаков, Зощенко, Эрдман, Есенин, Пастернак, и правильно скажете.
А я на это скажу: Тихонов, Вс. Иванов, Слонимский, Никитин, Федин, Каверин, Козаков, Слёзкин, Асеев, Лавренёв, Малышкин, Шагинян, Сельвинский... И можно продолжать, тогда как первый ряд короток. Прошу заметить, второй перечень состоит не из халтурщиков, бездарностей и проходимцев, а из настоящих писателей.
А Эренбург столько лет жил и писал словно бы лишь для того, чтобы отчитаться затем в мемуарах «Люди, годы, жизнь». Для моего поколения эта явно уклончивая книга в те времена становилась главнейшим источником имён, произведений, характеристик среды, отношений и т. д. Более того, она переиначивала вдолблённый в наши головы литературный пейзаж. Да и политический.
Из многих известных мне характеристик карьеры и положения Эренбурга как советского классика одна мне кажется точнее всех: «Задача, возложенная на Эренбурга Коммунистической партией, заключается в том, чтобы, отстаивая все пункты, все догмы, все директивы советской пропаганды, создавать при этом впечатление либерализма и свободомыслия советских граждан и советской действительности. Задача, нужно признаться, далеко не лёгкая, требующая большой эластичности, и Эренбург является поэтому одним из тех редчайших представителей Советской страны, которым поручается подобная миссия. Он весьма успешно выполняет её на протяжении целого сорокалетия» (Юрий Анненков).
«В положении писателя невозможно удовлетвориться вторым разрядом, все стремятся попасть в первый разряд и все, кто в него попал, потерял своё достоинство; пример — А. Толстой, Леонов... Пока прилично идёт один Федин, но я не знаю, не изменил ли он своему художественному “credo” — раз; и второе: не знаю его секретных ходов». (Пришвин М. Дневник. 22 апреля 1949 г. В это время Федину была присуждена Сталинская премия 1-й степени за романы «Первые радости» и «Необыкновенное лето».)
Среди многочисленных анонимных писем, сохранившихся в архиве А. Н. Толстого, большинство составляют обвинения в приспособленчестве, в присвоении графского титула, халтуре (в одно письмо вложен кусочек чёрного хлеба: «Этот хлеб вкуснее Вашего!»), есть и такая открытка: «Стыдно Академику, выступающему по радио с речью о Лермонтове, не знать, что дуэль, в которой был убит поэт, состоялась не на вершине Машука, у подножия его. <... > Радиослушатель. 1939 Х/15».
У Толстого, правда, не совсем вершина, а «лысый склон Машука», но когда было ему следить за деталями при обилии произносимых им в конце 30-х годов юбилейных речей, в которых он ухитрялся внедрять крайне грубое подхалимство как бы и совсем не по теме; в короткой речи на праздновании 125-летия со дня рождения Тараса Шевченко он трижды провозгласил здравицу Сталину, который «сильной рукой направляет историю нашего великого отечества сквозь вражеские теснины к великой и окончательной победе».
Ошибки такого рода возникают как бы необъяснимо. В 1978 году большой шум вызвала статья-донос «В защиту “Пиковой дамы”», опубликованная в «Правде». Бдительный автор информировал советскую общественность о готовящейся в Париже постановке оперы Чайковского силами сомнительного триумвирата: А. Шнитке (новая музыкальная редакция), Ю. Любимов (постановка), Г. Рождественский (дирижёр). Статья была выдержана в жанре, со всеми положенными стилистическими фигурами («Готовится чудовищная акция!., предавать нашу святыню ради мелких интересиков дешёвой заграничной рекламы» и т. д.), с конструктивным обращением в финале: «Не проявили ли соответствующие органы попустительство этому издевательству над русской классикой?», с перечислением всех титулов автора доноса дирижёра Альгиса Жюрайтиса. И хоть тогда этот жанр уже не слишком процветал, поразило не столько появление защитника, сколько его совет постановщикам: «вам не нравится работа братьев Чайковских? В чём же дело? Возьмите поэму Пушкина и напишите оперу».
Ладно, А. Жюрайтису, возможно, «Пиковая дама» и в самом деле была известна лишь по либретто оперы, но в «Правде» существовало гигантское бюро проверки...
А вот пример из недавних. В «Комсомольской правде» (1 декабря 1994 г.) беседуют О. Кучкина и Ю. Карякин. Речь, естественно, о Достоевском, и Карякин вдруг говорит: «или пустить себе пулю в лоб, как Ставрогин». Можно ли так обмолвиться? И собеседница не поправила.
Одно время действовали бескорыстные искатели ошибок и обмолвок, как, например, И. Ямпольский, регулярно печатавший комментированные их собрания в «Вопросах литературы». Да и сам я однажды попал в его коллекцию, перепутав инициалы двух Маковских.
И всё же — я не в свою защиту — перепутать инициалы, даже и в специальной работе — это одно. А заставить Лермонтова гибнуть на горе, назвать «Пиковую даму» поэмой и, будучи специалистом по Достоевскому, «забыть», что Ставрогин повесился (да ещё как! в последних строках романа — словно восклицательный знак в «Бесах»), — это другое.
Мне кажется, я знаю причину, объединяющую эти разновременные ошибки. Не о Лермонтове думал А. Толстой, не о Пушкине и Чайковском А. Жюрайтис, не о Достоевском Ю. Карякин в своих пламенных выступлениях. Они думали о политической цели, о практическом смысле своего выступления.
«— Было время бить стёкла, а настало время получать премии», — сказал Виктор Ерофеев, вручая премию товарищу» (Книжное обозрение. 1995, 18 апреля).
Но предприимчивую злобу
Он крепко в сердце затаил.
Пушкин. Полтава
Как же ненавидели приказных все иные российские сословия! Заседатель Шабашкин — самое низкое лицо, являющееся в пушкинской прозе. Хрестоматийный эпизод с Архипом, спасающим кошку с горящей кровли, под которой отправляются в ад чиновники, двояко никем и никогда и не воспринимался — ведь автору, как и Архипу, не жаль чиновников, жаль кошку. Кажется, от века и до наших пор российская действительность не производила ничего гаже чиновника. Гоголь был вынужден напомнить читающей России, что чиновник — тоже Божье творенье. Боюсь, что без Башмачкина и Поприщина об этом даже не догадались бы.
Конечно, Мармеладов и кое-кто ещё, но ведь это — чиновник за бортом, а не за казённым столом, где нет страшнее зверя на Руси.
Какой силы должна была быть излучаемая чернильным племенем адская энергия, что одним противостоянием ей обязана русская литература появлению гениальной трилогии Сухово-Кобылина!
Советское партчиновничество, по крайней мере, известной мне брежневской эпохи, при большом и циничном корыстолюбии, научилось нести некий запас умиротворения для маленького человека с его неизбывной верой: «вот приедет барин, барин нас рассудит». Таким барином были обком-горком-райком. Представляющими эти комитеты персонами внимания посетителям, пусть и на 99 процентов показного, оказывалось немало. Нынешний же загребало (при том что он очень часто из бывших партчиновников) — прямой, законный, через век перескочивший наследник Шабашкина, Ивана Антоновича Кувшинное Рыло, Тарелкина...
В РУССКОМ ЖАНРЕ - 9
Начинать эффектной фразой бывает не слишком выгодно для произведения.
Все, конечно, помнят расчётливо эпатажную начальную фразу «Зависти». И фраза оказалась знаменитее текста романа, как бы перекрыла и даже заменила для его. Сколько людей на вопрос об Олеше отвечали: «Ну... знаем-знаем, он поёт по утрам в клозете».
Но то Олеша, зачарованный словесными эффектами строитель фраз и изобретатель метафор. Но вот сам Лев Николаевич Толстой что делает? Он начинает «Анну Каренину» фразой, сделавшейся пословицей. Следом словно выстреливает: «Всё смешалось в доме Облонских». И как уж эту фразу не таскали туда-сюда, не обыгрывали и не перекраивали. Опять самостоятельная жизнь двух фраз. Но попробуйте оттащить от текста первую фразу «Войны и мира» — нудную вдвойне, оттого что нужно смотреть перевод слов о Генуе и Бонапарте.
Достоевский весьма дороживший эффектностью, точнее эффективностью начала, которое втягивает читателя в чтение, не сводил задачи к фразе. Жара, молодой человек, лестница — ключевые знаки к «Преступлению и наказанию» — поданы буднично и неторопливо.
Таков же и взгляд на коляску приехавшего в губернский город N господина Чичикова или сведения о лежавшем в своей квартире на диване Илье Ильиче Обломове.
Энергические зачины Пушкина и Лермонтова мгновенно вводят в действие, словно бы открывая занавес. «Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова», «Мы стояли в местечке ***», «я ехал на перекладных из Тифлиса», «У графа В. был музыкальный вечер». Однако ж вовсе не динамично начинаются «Капитанская дочка», «Дубровский», «Княжна Мэри».
Где-то Толстой говорит, что начинать надо так, как Пушкин начал неоконченный отрывок «Гости съезжались на дачу», и, быть может, следствием восхищения и явилось начало «Анны Карениной»? Ведь первый вариант романа начинался фразой: «Гости после оперы съезжались к молодой княгине Врасской».
Впрочем, у Достоевского случаются фразы прямо-таки разбойные: «Карета загремела. Я поцеловал десятирублёвую» («Подросток»).
Одна литературная дама, желая, очевидно, выставить меня, тогда весьма юного, дурачком, знакомя с кем-то, представила так: «Серёжа у нас человек оригинальный: читает Достоевского и смеётся».
То, что эта писательница ничего не слышала о стихии комического у Достоевского, — не беда, беда, что она не смеялась, читая Достоевского.
Но если комическое у Достоевского, кажется, и не оспаривается недамами, то Лев Толстой традиционно почитается писателем без улыбки. Не совсем это так. Улыбаться, да ещё и весьма ехидно, в своих сочинениях он умел. В местах, зачастую как бы не совсем уместно выбранных.
В доме умирающего графа Безухова князь Василий заходит к одной из княжон. «Что, случилось что-нибудь? — спросила она. — Я уже так напугалась. — Ничего, всё то же: я пришёл поговорить с тобой, Катишь, о деле, — проговорил князь, устало садясь на кресло, с которого она встала. — Как ты нагрела, однако, — сказал он».
А вот примеры из «Анны Карениной».
Лёвин и Стива Облонский обедают, и Облонский затевает разговор о супружеских изменах: «Положим, ты женат, любишь жену, но ты увлёкся другой женщиной...». Лёвин возражает: «Извини, но я решительно не понимаю этого, как бы... всё равно как не понимаю, как бы я теперь, наевшись, тут же прошёл мимо калачной и украл бы калач. — Глаза Степана Аркадьича блестели больше обыкновенного. — Отчего же? Калач иногда так пахнет, что не удержишься».
Каренин приходит к знаменитому адвокату по делам развода. Мрачный и важный адвокат «сел на председательское место. <... > Но только что он успокоился в своей позе, как над столом пролетела моль. Адвокат, с быстротой, которой нельзя было ожидать от него, рознял руки, поймал моль и опять принял прежнее положение».
В Петербурге Стива Облонский остановился у родственника, «шестидесятилетнего князя Облонского Петра, только что вернувшегося из-за границы.
— Мы здесь не умеем жить, — говорит Пётр Облонский. — Поверишь ли, я провёл лето в Бадене; ну, право, я чувствовал себя совсем молодым человеком. Увижу женщину молоденькую, и мысли... Пообедаешь, выпьешь слегка — сила, бодрость. Приехал в Россию... Совсем стал старик. Только душу спасать остаётся. Поехал в Париж — опять справился».
Вечером, дома у Петра, Стива слышит «грузные шаги людей, несущих что-то тяжёлое. Степан Аркадьич вышел посмотреть. Это был помолодевший Пётр Облонский. Он был так пьян, что не мог войти на лестницу...».
Из «Воскресения»: «Этот протоиреев сын сейчас станет мне “ты” говорить», — подумал Нехлюдов и, выразив на своём лице такую печаль, которая была бы естественна только, если бы он сейчас узнал о смерти всех родных, отошёл от него...».
Достоевский влиял и на тех, кто яростно отвергал его.
Смердяков рассказывает о матери своей Смердящей: «На базаре говорили, а ваша маменька тоже рассказывать мне пустилась по великой своей неделикатности, что ходила она с колтуном на голове, а росту была всего двух аршин с малыим. Для чего же с малыим, когда можно просто с “малым” сказать, как все люди произносят? Слёзно выговорить захотелось, так ведь то мужицкая, так сказать, слеза-с, мужицкие самые чувства. <... > Я с самого сыздетства, как услышу, бывало, “с малыим”, так точно на стену бы бросился».
Ведь это Бунин живьём, какой-нибудь его Шаша...
Трудно не разделить пафос бунинской издёвки по поводу ранних сочинений М. Горького: «что такое и какого рода этот талант, создавший, например, такую вещь, как «Песня о Соколе», — песня о том, как совершенно неизвестно зачем «высоко в горы вполз уж и лёг там», а к нему прилетел какой-то ужасно гордый сокол».
Беда не в том, что Иван Алексеевич маленько передёргивает: сокол не прилетел к ужу, а упал с неба, разбитый в храброй битве — на этом, собственно, и стоят сюжет и мораль «Песни», конечно, не являющей литературных достоинств и просто вкуса. Беда в том, что в этот же год, что и Горький свою «Песню», Бунин публикует в «Орловском вестнике», а спустя шесть лет перепечатывает в столичном «Курьере» рассказ «В погоду», действующие лица которого змея, жаба, улитка, ворона, «скептик-жук». Они произносят монологи: змея о буржуазной морали, жаба о благоразумии, улитка о себе как о «человеке в футляре», жук осуждает молчащую красавицу-лилию...
Бунин отмечает, что рассказ «Макар Чудра» начинается на редкость пошло: «Ветер разносил по степи задумчивую мелодию плеска набегавшей на берег волны...» и т. д. Но как начинается «В погоду»? «Перед вечером надвинулись тучи, налетел в потемневшем воздухе и зашумел проливной дождь. Но на закате снова внезапно ударили сквозь тучу ослепительные стрелы солнца» и т. д. Можно и ещё набрать из раннего Бунина тех пошло-литературных фраз и ритмов, которые так яростно изобличал он не только у Горького, но и у Куприна и других, вроде того что «соловьиная голосистая песня торжественна и звучит любовью страстной и кипучею». В старости он стыдился и проклинал первые печатные свои опыты, «умоляя разных литературных гробокопателей не искать и не печатать... я многое печатал только по той бедности, в которой часто бывал» («К моему завещанию»). Но отчего в те же поздние годы он считал возможным побивать собратьев их ранними печатными пошлостями? Да уж в чём в чём, но в справедливости Ивана Алексеевича заподозрить трудно.
В тревожащих моё воображение чертах М. Горького одно из первых мест занимает то его свойство, которому не могу дать пока определения. Оно вмещает и безудержную волю, волю как личную свободу, его талант политического — не скажу авантюриста, но другого слова не подберу. И тут возникает фигура О. Ю. Каминской, его первой невенчанной жены, первой любви вообще. «Многому научился я около моей первой дамы» («О первой любви»). Дочь коллежского регистратора немца Гюнтера и акушерки, Ольга Юрьевна прожила вполне фантастическую биографию. Будучи воспитанницей Белостокского института благородных девиц, в старшем классе она приветствовала регулярно наезжавшего в Институт императора Александра II, а спустя несколько лет в Петербурге сошлась с кружком революционеров-поляков (за одного из них, Каминского, и вышла замуж), среди которых были братья Гриневицкие! Лёгкость, с которою она переменяла сердечные привязанности, не может не напоминать о том же свойстве Алексея Максимовича. Она стремительно перемещалась и в пространстве: Нижний, Тифлис, Варшава, Петербург, Вильно, Минск, Болгария, Румыния, Париж.
И уж объяснили многократно, доказали чуть ли не математически, что не умел писать М. Горький, и уж успешно задвинули его в некрополь памятников советской эпохи, да только вот продолжает то и дело вспыхивать успех спектаклей по его пьесам и фильмов по его сочинениям.
А стиль, да, стиль вроде бы не блестящий...
«...чтобы не видно было слёз, закрыл глаза, но слёзы приподнимали веки...» (М Горький. В людях).
Горькому глянулись в СССР всякие новые общественные устройства, что ж тут удивительного? Даже Фёдору Сологубу, по свидетельству Корнея Чуковского, понравились пионеры и комсомол. Нам-то они не нравились совсем в иные времена. Сейчас распространяется восторг вокруг новых-старых затей, женского движения, «зелёных», клубов трезвости, скаутов. Посмотрим лет через тридцать! Впрочем, даже и столько не потребуется.
Сколько раз советская пропаганда, как пример неслыханного цинизма, цитировала надпись над воротами Бухенвальда: «Труд делает человека свободным». А ведь десятилетием раньше товарищи чекисты написали над входом в Беломоро-Балтийский лагерь: «Труд — дело чести, дело славы, дело доблести и геройства».
«Думу не распускают в виду того, что она ещё недостаточно навредила России» (Из письма русского общественного деятеля К. Н. Пасхалова).
Из предвыборных впечатлений.
Кандидатши от блока «Женщины России» в своих выступлениях так часто употребляют слово «мужчина», что вспоминаются страницы купринской «Ямы».
Всё-таки смешно и нелепо, что американцы приезжают к нам с поучениями, словно бы взрослые к недорослям.
Петроградский журнал «Вестник литературы» (1921, № 4/5) сообщал: «Вышла в Берлине 4-я кн. “Современных записок” с произведением А. Толстого “Хождения по лугам”». Ведь было естественно ожидать от персонажей жизнерадостного графа хождений по цветущим лугам, но никак не по мукам!
«Рассказывал о проф. Тимирязеве — весельчак: проделывал тончайшие работы, напевая из оперетки» (К. Чуковский. Дневник).
Почему бы не вспомнить профессора Преображенского из «Собачьего сердца». Ах, пагубная литературная страсть к поискам прототипов, к чему только овладевает нами она? Но как удержаться, если там же, у Чуковского читаем о молодом Викторе Шкловском, что ходил он босиком и, сидя, ковырял рукою в пальцах ног. Как тут не вспомнить окаянного голого посетителя музея из «Ханского огня», шокирующего окружающих нарочитой демонстрацией нечистого своего тела. Булгаков, как известно, ненавидел Шкловского, и с предельной прозрачностью вывел его ещё в «Белой гвардии» в образе безнравственного авантюриста литератора М. Шполянского.
Если редкие почитатели моих скромных сочинений спрашивают меня: «Когда же ты допишешь давно начатую книгу “Русский алкоголь”», отвечаю: «Всё ещё занят практическим изучением темы».
19 ноября 1995 года. У телефона-автомата два парня, один звонит, другой стоит рядом, попивая алкогольную газировку из зелёной баночки. В телефон: «Мама, Сашка сейчас полежит, чтобы машину так не вести. А вы как? Он блевал всю ночь, и я блевал, и Наташка блевала. Он проблевался и лежит. Нет. А вы блевали? Водка? Может, и водка, не знаю, я всю ночь блевал, и Наташка проблевалась. Ты же знаешь, я никогда не блюю, а тут блевал. А вы блевали? И понос? И у Сашки тоже понос. Я тебе говорю, я блевал. Холодец? Ну тогда всё ясно. Куда? В тазик блевали. Я с ним приеду, он полежит, а то вдруг остановят. А папуся блевал? А! А бабушка хоть бы что? Не блевала, всё переварила. Вот, а я блевал, и Наташка тоже блевала. Нет, я с Сашкой приеду, а Наташка с Андреем. Привет папусе».
Во время разговора товарищ, судя по всему тот Сашка, который лежит, торопит говорящего: «Кончай!».
Оба высокие, светловолосые.
Ноябрь всё ещё тёплый — вчера было плюс восемь. Мгла, сырая тишина — лучшая погода на свете.
Придёт ли времечко,
Когда (приди, желанное!..)
Мужик не Пикуля, не Вайнеров,
Не Юлиана глупого, —
Платонова и Гроссмана
С базара понесёт?
Поэт Р., на пицундском пляже
О поэте Р., его друг Иосиф Бродский, вспомнив ахматовское «Когда б вы знали, из какого сора / Растут стихи, не ведая стыда», заметил, что, «в отличие от большинства своих современников, Р., к сору своих стихотворений, к сору своей жизни, относится с той замечательной смесью отвращения и благоговения, которая выдаёт в нём не столько даже реалиста или натуралиста, сколько именно метафизика...». Смешно, но однажды мне довелось вступить с Р. в стихотворное соревнование и выиграть, что доказывает: виршеплётство в девяноста девяти случаях из ста имеет куда больше шансов на успех у читателя, чем поэзия.
Дело было в той же Пицунде. Для приближающегося дня рождения Р. решил добыть форелей, которых разводили в озере Инкит, через шоссе от Дома творчества писателей. Там стоял на берегу домик — рыбная контора, куда мы и направились.
В пустынном помещении бросалась в глаза красочно оформленная доска для стенгазеты с нарисованной рыбкой и сетью под названием «За высокий улов!». Где-то стучала машинка. За нею, при приближении, оказалась девушка одной из кавказских национальностей, которая отвечала, что ничего не знает, надо к бригадиру и т. п. Удалось-таки выбить из неё необходимые сведения, и в знак благодарности и того, что «мы поэты», как выразился Р., было предложено сочинить стихи в честь нашей новой знакомой.
Я взялся за дело: узнав фамилию, национальность, имена родственников, с бездумной быстротою я настрочил длиннейшее бойкое послание, помню что-то вроде: «И друг любезных мне армян / Прошу: не будь на нас в обиде / Красавица Балдаранян», и т. п. Благодарная реакция превзошла ожидания, эта самая Балдаранян смотрела на меня, как на фокусника. Не то получилось с Р. За то же примерно время, что и я, угрюмо отвернувшись, и то и дело зачёркивая, он родил всего лишь двустишие, которое я запомнил сразу и, вероятно, на всю жизнь и которое ничего, кроме недоумения, не вызвало у нашей музы: «И девицы, и форели / Будут съедены в постели».
Когда мы выходили из конторы, Р. ловко сорвал со стены изукрашенную доску «За высокий улов» и утащил с собой.
«Мы вспоминаем не то, что было, а то, что однажды вспомнили» (Анна Ахматова).
В РУССКОМ ЖАНРЕ - 10
У Генриха Бёлля есть рассказ «Белые вороны».
В добропорядочном, как положено, немецком семействе всегда был некто, выламывающийся вон. Рассказчик застал из таких дядю Отто: кладезь бесчисленных сведений, бездельник, любую беседу заканчивающий фразой: «Да, кстати, не мог бы ты мне... на короткий срок!», чтобы пропить деньги в ближайшей пивной. И ещё дядю Отто любили все дети. Несчастный случай оборвал жизнь дяди Отто, когда он только что получил выигранные в лотерею крупные деньги.
По завещанию дяди Отто наследником его становился рассказчик. Первым делом, несмотря на горькие слёзы родителей, он переселился в комнату дяди Отто и бросил университет. .. Теперь он ломает голову над тем, «кто же в подрастающем поколении пойдёт по моим стопам... <...> Он с пылающим лицом явится к своим родителям и крикнет им, что не желает больше жить такой жизнью. <...> Главное, чтобы он ничего им не остался должен».
Если для немецкого характера дядя Отто или рассказчик — белые вороны, то для русского — типичная натуральность. И мне почему-то кажется, что какая-то подспудная зависть к русской беспечности присутствует в рассказе.
Мы все больше Карандышевы, а желали бы быть Паратовыми. Карандышев и Паратов — что по преимуществу: натуры или социальные положения? Карандышев не может не быть Карандышевым, смешным человеком. Паратов же — ведь «если у человека есть деньги, значит, он уже не смешной» — изрекает даже персонаж советского времени.
У Островского, писателя почти циничного, ибо подводя героя к выбору, он редко не заставляет его пригнуться перед суровостью жизненных законов, не отводит его от края в сторону примирения с реальностью: дескать, так мир устроен, чего уж тут вопить да печаловаться; у Островского, писателя ещё и очень любовно насыщенного, так сказать, даже полового писателя, любого карандышева, даже если он и благороден, и честен, и желает служить просвещению, не любят женщины и девушки. А если в купеческой комедии и вознаграждается любовь, верность и честность, так награда непременно двойная: любовь девушки — и средства.
— Я составлял часть целого.
— Мало ли какие есть части целого.
Достоевский Ф. М. Бобок
Русская классика, оказывается, не очень-то воспевала такую, казалось бы, незыблемую для православной России ценность, как семья.
Лев Николаевич, бегом убежавший от семейного счастья в конце жизни, долгие годы убеждал себя и читателя, что семья, дети — высшее благо. Но много ли убедительной прелести в благостном финале «Войны и мира»? Сцены ревностей, скандалов, измен в семьях Лёвина, Каренина, Облонского, тягостный союз Анны и Вронского куда достовернее, чем декларируемая в финале «Анны Карениной» гармония Лёвина — отца и мужа.
Конечно, «Детство», «Отрочество», «Детские годы Багрова-внука» и ещё кой-чего, однако понятно, что речь о другом.
Можно ли себе представить счастливыми мужьями и отцами Онегина, Печорина, Раскольникова, Рудина, Базарова, Райского? У Гончарова описанное семейное счастье, почти райское — это всё-таки сон Обломова; а реальность лишь имитирует до пародии обломовский уклад в петербургском домике Пшеницыной.
Чичиков стяжания свои творил в перспективе семьи и ребёнков, но разве хотел бы он подобия семей помещиков и чиновников? А «Женитьба»?
Было, правда, было у Гоголя описано счастие, идиллия, земной рай и объяснение, отчего так любили друг друга Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна: «Они никогда не имели детей, и оттого вся привязанность их сосредоточивалась на них же самих». Но ведь и то не забыть, что к услугам Афанасия Ивановича была девичья, «набитая молодыми и немолодыми девушками», и «не проходило нескольких месяцев, чтобы у которой-нибудь из девушек стан не делался гораздо полнее обыкновенного...».
«По всему городу рассыпано множество детей, и ни на одном ребёнке лица человеческого» (Островский А. Н. Дневник).
А чем, собственно, провинилось перед автором, читателем и доктором Старцевым семейство Туркиных?
Нас со школы научили, что в рассказе Чехова обличается пошлость, обывательское болото, которое вкупе с жаждой наживы засасывает и доктора Старцева.
Но Туркины всё же остаются милыми, добрыми, деликатными людьми. И, самое главное, они так любят друг друга. В мире ненавидящих супругов, неверных жён, оскорблённых мужей, забитых детей, который предстаёт в чеховских сочинениях, семья Туркиных — редкое исключение. Это те же старосветские помещики другого века. Они не только любят друг друга, но и радушны, отзывчивы.
И они как бы виноваты. Чем же? Оказывается, только тем, что отец актёрствует, повторяет одни и те же шутки, мать сочиняет бездарные романы, а дочь готовится стать пианисткой, без должных способностей. «Бездарен, —думал он, — не тот, кто не умеет писать повестей, а тот, кто их пишет, и не умеет скрыть этого». Так размышляет Ионыч. Затем, именно после игры Екатерины Ивановны, он подумал: «А хорошо, что я на ней не женился».
Чехова в Ялте мучили приходящие графоманы. Графоман сделался одной из центральных фигур русской юмористики. Графоман — пугало каждого редактора. Но кому навредили Туркины своим чтением, игрой, шуточками? И перевесят ли эти грехи их доброту, любовь и порядочность?
У Щедрина в «Губернских очерках» есть глава «Приятное семейство»: в каждом провинциальном городе имеется семейство, коего «все члены от мала до велика наделены каким-нибудь талантом». Он насмешничает над их музицированием, но главная тайна семейства очевидна — надо выдавать замуж дочерей, вот скупердяйка-мать и вынуждена привечать, угощать молодых мужчин, видя в каждом возможного жениха.
Чехов как никто изобретателен в изображении теневой стороны семейной жизни. Можно подумать, что многочисленные истории о безобразной, отвратительной стороне брака написаны человеком много потерпевшим, а не холостяком. Кажется, что Антон Павлович, «выдавливая из себя раба», поселил в себе глубокий ужас перед обычным нормальным бытовым существованием человека, в том числе и сожительством супругов.
Дети у Чехова — это настоящие жертвы семьи да ещё школы. Между этими двумя чудовищами обретается иззябшая, замученная душа ребёнка.
Эту чеховскую традицию продолжили более поздние писатели-рассказчики: Куприн, Дорошевич, Аверченко, Тэффи.
В прошлом веке словечка «ремейк» не было. Но дело это процветало. Разговор в трактире издателя с сочинителем:
«— Видите, Иван Андреевич, ведь у всех ваших конкурентов есть и “Ледяной дом”, и “Басурман”, и “Граф Монте-Кристо”, и “Три мушкетёра”, и “Юрий Милославский”. Но ведь это вовсе не то, что писали Дюма, Загоскин, Лажечников. Ведь там чёрт знает какая отсебятина нагорожена...
— ...Вот я за тем тебя и позвал. Напиши мне “Тараса Бульбу”.
— То есть как “Тараса Бульбу”? Да ведь это Гоголя!
— Ну-к што ж. А ты напиши, как у Гоголя. Только измени малость, по-другому всё поставь, да поменьше сделай в листовку. И всякому интересно, что Тарас Бульба, а не какой не другой. И всякому лестно будет, какая, мол, это новая Бульба! Тут, брат, важно заглавие, а содержание — наплевать, всё равно прочтут, коли деньги заплачены» (Гиляровский В. А. Москва и москвичи).
Мой, ныне покойный, старший брат не искал, а сочинял эпиграфы для своих школьных сочинений и ни разу не был уличён. Секрет, как он уверял, был в том, что эпиграфы «брал» не из писателей-классиков и не — упаси боже — из классиков марксизма-ленинизма, но из революционных демократов, которых никто не читал: «Нет ничего важнее для юноши, чем поставить перед собою чёткую цель» (Н. Г. Чернышевский); «Нет ничего нелепее и позорнее, чем участь порабощённого народа» (Н. А Добролюбов) и т. п.
В школе брат учился в конце 40-х — начале 50-х годов. Затем стал физиком.
А мой одноклассник был вызван к завучу за эпиграф к сочинению по пьесе М. Горького «На дне»: «Опустившись на дно, я услышал стук снизу». Теперь он специалист по компьютерам.
Другой мой одноклассник сделал скандал абстрактным сочинением на тему «Старуха Изергиль». Он открывал подряд разные книги, вплоть до учебника Пёрышкина по физике, и тыча наугад пальцем в страницу, брал оттуда по слову. На всю жизнь запомнил первую фразу его сочинения: «Нет рук с книгой в них». Теперь он доктор. Учились мы в конце 50-х — начале 60-х годов.
Было время, не знаю, как нынче, подзарабатывания не совсем безопасным способом — сдачей экзаменов за другого за умеренное, но, по тогдашним нашим понятиям, высокое, вознаграждение.
Наиболее крут, опасен и, соответственно, вознаграждаем, был вариант с переклеиванием фотокарточки абитуриента и прямой сдачей вместо него. Всё тот же мой старший брат держал экзамен в Московский стоматологический институт за земляка Женю Лифшица и погорел по двум причинам. Первая: он слишком хорошо, несмотря на наставления Жени, написал сочинение. Вторая: Женя, переехав в Москву и женившись, точнее, женившись для того, чтобы получить московскую прописку, по забытым мною причинам взял двойную фамилию, свою и жены, сделавшись таким образом Лифшицем-Бутылкиным. Можно ли было не обратить внимания на курносого абитуриента, слишком грамотного для того, чтобы рваться в стоматологию, да ещё с такою фамилией?
Брат спасался бегством через форточку в мужской уборной или что-то в этом роде. А Женя, спустя время и уже не быв Бутылкиным, просто купил диплом.
Будучи студентом филфака, я писал сочинение в медицинский институт за армянина (сейчас он, говорят, на высоком врачебном посту в нашем городе). Знающие люди предупредили: а) не выбирать свободную тему, б) не казать свою образованность, в) не делать специально идиотских ошибок, но допустить какие-нибудь нескладности и пропустить одну- две запятые.
Забыл объяснить: почему армянин и почему в мединститут. В те годы (конец 60-х) мединститут был меккой абитуриентов с Кавказа, где диплом врача обеспечивал недурной доход. Существовали негласные ограничения на кавказский процент, что не мешало ему, особенно грузинскому, быть весьма значительным среди будущих эскулапов.
Итак, я писал сочинение за армянина, но не вживую (армянин это вам даже не Лифшиц-Бутылкин), а сидя в какой- то лаборатории у надёжных людей в корпусе, соединённом с тем, где писали абитуриенты. Далее пушкинским слогом. Мне принесли тему. Я отодвинул колбы и стойки с пробирками. Я написал. Пришли люди, взяли листки и вручили мне 25 рублей. Я их пропил. Через день прибежал бледный армянин. Он получил «2».
Опытный старший брат, к которому обратились за советом, велел армянину идти в апелляционную комиссию. Он пошёл с папой (обычно все кавказцы приезжали на экзамены с родителями). После скандала из сочинения убрали кем-то внедрённые в него ошибки и поставили «4».
Математику за армянина писал мой приятель Лёнька (он же организатор дела). Я поджидал Лёньку, вышедшего с четвертным. Лёнька потом стал доцентом мехмата, а потом умер.
Неужели наши кино- и теледеятели не понимают, как комично выглядят устраиваемые ими действа под «Оскара», под Канны? Когда в Москве или Сочи наши «звёзды» в смокингах и с подругами шествуют по лестнице, то раздающийся над головами толпы вопль ведущего: «Режиссёр такой-то и такая-то!» живо напоминает трибунный вопль в дни демонстраций: «Проходят работники бытового обслуживания Ленинского района!».
«Тронуть его, — отвечает, — невозможно, потому что он не свободного трудолюбия, а при графе в мерзавцах служит» (Лесков Н. С. Штопальщик).
Живи по-старому, а говори по-новому! (Русская пословица).
«...и повеселев уже при одном виде водки» (Толстой Л. Н. Варианты к «Анне Карениной»).
«Попросите простолюдина что-нибудь для вас сделать, и он вам, если может и хочет, услужит старательно и радушно, но попросите его сходить за водочкой — и обыкновенное спокойное радушие переходит вдруг в какую-то торопливую, радостную услужливость, почти в родственную о вас заботливость. Идущий за водкой, — хотя будете пить только вы, а не он, и он знает это заранее, — всё равно ощущает как бы некоторую часть вашего будущего удовлетворения...» (Достоевский. Бесы).
Ох. Да ты, может, натощак так врёшь, — так вон выпей водки. (Наливает ему водки.)
Расплюев (с жаром). Что водка? — Меня выше водки подняло.
Ох (пьёт). Выше водки?! — стало действительно необыкновенное дело!
Сухово-Кобылин А.В. Смерть Тарелкина
— Да нешто можно дом проиграть или прокутить?
— Можно не то, что дом, но и земной шар пропить.
Чехов А П. Святая простота
Зачем ты пьёшь? Я знать желаю!
Скажу зачем: я зол и горд
И в море пьянства выезжаю,
Чтоб зло всё выбросить за борт.
Вл. Соловьёв (1885)
Это — «в море пьянства выезжаю» говорит более, чем общий смысл стихотворения.
Серый Волк как бы бескорыстно выполняет для Ивана Царевича самые сложные поручения под рефрен «Я тебе пригожусь!», что очень похоже на отношения власти и спецслужб.
Один из наиболее благополучных прозаиков, точнее, романистов 70-х годов, прославившийся позднее обозначением волны публикаций русской эмигрантской литературы как некрофилии, горько жаловался в телевизоре на утвердившуюся в книгоиздании власть денег.
Я вспомнил, как именно в семидесятые годы было строго регламентировано существование богатых писателей и остальных.
В сталинские годы и долгое время спустя регламентация, конечно, была, и сводилась она к поощрению угодных, запрету неугодных. Однако совершенно бухгалтерского деления писателей на чистых и нечистых всё-таки не утверждалось, и какой-нибудь удачливый вольный стрелок, вовсе и не лауреат, мог-таки напечатать немало книг в разных издательствах. Во времена же процветания жалобщика и ещё немногих — только им, по инструкции Госкомиздата, дозволялось издавать и переиздавать десятки томов в год, тогда как любой, не ставший исключением из правила писатель не имел права даже на два переиздания, и если таковое вдруг планировалось, его строго уведомляли о необходимости выбора лишь одной книги. Именно тогда до предела углубилась материальная пропасть между живыми «классиками» и остальными литераторами.
Для подкорма остальных, чтобы вовсе не остервенились или не подохли, было создано учреждение под названием Бюро пропаганды художественной литературы.
Эти бюро договаривались о выступлении на предприятии, учреждении, вузе, колхозе и выдавали писателю бланки путёвок, которые он был обязан вернуть в бюро с отметкойо качестве проведённой встречи и штампом-росписью. Учреждение-предприятие переводило 15 рублей на счёт бюро, из которых писатель получал десятку. Сколько постыдных сцен хранит память тех, кто в них участвовал, вроде выклянчивания лишней путёвки, а ещё лучше нескольких, для отчёта о фиктивных встречах с читателями в том месте, где был свой человек. Какие ссоры разгорались при дележе мест — никто не хотел на колхозный стан, где-нибудь на границе с Казахстаном, и всякий хотел в нагретый, наговорённый уже зал крупного предприятия с давно знакомым председателем профкома или завклубом. Сколько обличений горело на писательских собраниях в адрес друг друга, с математическими доказательствами того, что собрат по перу никак не мог, как то следует из привезённых путёвок, выступить за один день в девяти местах, далеко раскиданных по району. Порою дело доходило до ревизионной комиссии, оглашение результатов работы которой ласкало слух не задетых расследованием литераторов.
Впрочем, не только провинциальными бедолагами занималось Бюро пропаганды. На союзном уровне оно организовывало пышные декады. Дни литературы с огромными залами, гомерическими обжорством и пьянством в каком- нибудь экзотическом местечке с участием местного руководства, сногсшибательными подарками, дармовым коньяком в гостиничном холодильнике на опохмелку, и с милицейским эскортом, и многим-многим другим приятным. Пределом мечтаний для провинциала было попасть в делегацию, но таковое удавалось редко и избранным. Тогда исхитрились и начали дружить областями помимо Москвы. Труба пониже, и дым пожиже, но если писательский секретарь был в ладу с властями, то гастроли в соседнюю область обставлялись тоже неслабо: с подарками, шашлыками-рыбалками с участием местных бонз. Но и здесь не обходилось без обид: всегда кто-то попадал в поездку не раз, а кто-то — ни разу, и горько бушевал на очередном собрании, и мог добушеваться до того, что на следующую гастроль бывал-таки отмечен и возвращался домой счастливый, сытый и упитый, увозя в багаже какие-нибудь хрустальные бокальчики, вышитые рушнички в придачу к десятку буклетов о жизни соседей.
И если молодёжь этого не знает, и кто-то ей будет пудрить мозги россказнями о счастливом, независимом от проклятой коммерции житье-бытье советского писателя, то молодым расскажем, а себе напомним о том, как оно было на самом деле.
Передвижники второго ряда учились у ведущих не столько мастерству, сколько жалостности сюжетов. Крамской породил портретом умирающего Некрасова множество полотен, где непременным, если не главным, атрибутом сделался столик с лекарствами у постели горемыки. М. К. Клодт «Больной музыкант», «Последняя весна», К. К. Костанди «У больного товарища», А. М. Корин «Больной художник», А. П. Богданов-Бельский «У больного учителя». А уж сколько изобразили покойников, не благостно отошедших, а околевших — не счесть!
И всё же эти столь много высмеянные жанристы, бытописатели сделали великое дело, запечатлев, пусть и под особым, заданным, углом зрения Русь. Насколько меньше мы бы знали без их полотен, а их беззаветная преданность своему делу и Родине в наши циничные времена просто поражает. М. К. Клодт (барон), автор хрестоматийного полотна «На пашне», получив за выпускную работу золотую медаль и шестилетнюю заграничную командировку, желал более путешествовать не по Италии или Швейцарии, но по России. Он хлопочет о разрешении (!) заменить Европу Родиной — для «писания видов с натуры по России...».
В РУССКОМ ЖАНРЕ - 11
Из жизни пьющих
«Иные (хотя и далеко не все) являлись даже пьяные, но как бы сознавая в этом особенную, вчера только открытую красоту» (Достоевский. Бесы).
«...врачебной дали мне воды...» (Ломоносов М. В. Ода на взятие Хотина).
«И меньше пейте политуры» (Б. Садовской — А. Тинякову. 7 июня 1915 г.). Неужто уже тогда употребляли политуру? Конечно, Тиняков был конченым забулдыгой, и всё же как-то не воображается, что в Петербурге пятнадцатого года, хотя бы и алкоголик Тиняков проделывает те сложные манипуляции с вылитым на подогрев пузырьком политуры, какие мне доводилось наблюдать под мостом в Глебучевом овраге в Саратове у костра, вокруг которого собрались бомжи.
Впрочем, как же это я мог забыть про «сухой закон», принятый с началом войны!
«Во время наших сборищ — водка, — ты знаешь, с какою торопливостью все стараются одурманиться... Водка хорошая вещь, но наша водка — совсем не пушкинский пунш» (Алексей Толстой — Николаю Никитину. 4 января 1930 г.).
Отношения писателя с алкоголем в жизни, и алкоголь в его произведениях — предмет обширнейший. Связь — непрямая. Скажем, малопьющий Достоевский изобразил русское пьянство не только в социально-нравственном аспекте, но оставил замечательные наблюдения по технологии, так сказать, употребления, например, запой Лягавого в «Братьях Карамазовых». А много пьющий Куприн писал пьянство невыразительно, и, скажем, запой Назанского в «Поединке» представляет его не столько как пьяницу, сколько как резонёра. Видимо, непьющие писатели и алкоголики равно сторонятся изображения выпивки, первые — по малому знанию предмета, вторые— по слишком большому знанию его. Самые же обширные картины российского пьянства и выпивки оставили писатели, хорошо выпивающие, но не больные. Имена? Островский, Чехов, Бунин, Аверченко, А. Толстой, Булгаков, Катаев.
В юношеские годы мы подвергли исследованию алкогольный пласт у Ремарка и Хемингуэя, которыми тогда все зачитывались. Мы примеряли, скажем, на свои возможности застольные подвиги героя «Трёх товарищей». И выходило, конечно, к нашей патриотической гордости, что мы его перепьём.
— Ты знаешь, меня ведь жена за хлебом послала.
Они стояли в песочнице на детской площадке, держа в руках пузатые бутылки «Рымникского».
Примерно через час в дымном грохоте ресторана «Европа» он скакал, выкидывая вбок ноги, в цепочке людей, откалывающих финский танец летку-енку. Саксофонист противным голосом кричал в микрофон: «Раз-два! Туфли надень-ка, как тебе не стыдно спать! Милая, глупая, смешная енька нас приглашает танцевать!» Он держал пониже талии девицу в белых чулках и грязноватых туфлях, которая старалась от души, и ему представлялось, что это не девица, а сама жизнь грузно подпрыгивает, силясь вырваться из его крепких, умных, мужских рук.
Карман его хэбэшных брюк был безобразно оттопырен: там лежала сетка-авоська.
Осенний дождь лил всего несколько часов, но Соколовую гору уже размочило. Хлюпанье шагов по грязи Пешего рынка, унылые переулки за ним, корявые домики у Узенького моста, а сам мост — как доска над канавой. Крутая за ним лестница, тяжело ползут вверх старушечьи подолы. Мокрая и грязная перспектива Глебучева оврага в сетке дождя. Тёмные, чуть не бордовые от сырости домишки. Грязь на улице Весёлой — широкая, от дома до дома. Человек — старик в старорежимной фуражке, с узким учительским лицом, чистит у крыльца щепочкой галоши. Словом, сплошной Чехов.
Из скатывающихся на Соколовую улицу горных переулков текут глиняные речки. В одной сидит старик в носках. Тёмные струи обтекают его. Старуха в пальто из солдатского сукна и оранжевом платке тянет его за жидкое ватное плечо. Он кричит с неправдоподобной кинематографически-преувеличенной бесшабашностью какие-то бунинско-вольновские слова:
— Я сёдни нажрался-а!
Десять часов утра. 1968 год
«В магазине № 2 Волжского района (пр. Ленина, 59) продаётся такой набор: к двум бутылкам «Советского шампанского» по цене значительно ниже рыночной (48 рублей каждая) в качестве нагрузки предлагается одна бутылка шампанского производства Франции по цене 630 рублей.
Вот так русские продавцы сумели опозорить знаменитых французских виноделов» (газ. «Саратов». 1992, март).
В газете «Северный край» (Ярославль) в апреле 1994 года сообщалось, что зимою южные коммерсанты, приняв по незнанию заснеженную Волгу за чистое поле, утопили в ней близ города Мышкина рефрижератор с фруктами и винами. Коммерсанты спаслись, а отважные мышкари, для страховки обвязавшись верёвкою, стали нырять в полынью. «Когда лёд стаял и рефрижератор вытащили на берег, оказалось там лишь две бутылки».
Всем памятен, благодаря ТВ, трюк Евгения Лебедева из спектакля БДТ «Энергичные люди» с выпиванием стакана на похмелье с помощью натянутого полотенца. Он точь-в-точь описан Владимиром Гиляровским в очерках «Мои странствия». Вероятно, это старый русский способ донести неверной рукой содержимое стакана до рта.
«...не то что пьян, а уж несколько позже-с. Я это для того объяснить желаю, что позже у меня хуже-с: хмелю уж немного, а жестокость какая-то и безрассудство остаются, да и горе сильнее ощущаю. Для горя-то, может, и пью-с» (Достоевский. Вечный муж).
После запоя Н. приходил на работу в новом галстуке. Большей вехи, отмечающей начало новой жизни, он позволить себе не мог. Но летели быстрые, как волны, дни нашей жизни, и галстук сделался недоступен. Тогда он стал являться после запоя свежеподстриженным. Но лихая птица-тройка, она же перестройка, и парикмахерскую утащила на недостижимые финансовые высоты. Что же, не пить? К счастью, его за последний прогул сократили, и более о нём ничего неизвестно.
Рассказ Чехова «Средство от запоя», где театральный парикмахер лечит заезжего трагика, заставляя того пить водку с мылом, нашатырём, квасцами, глауберовой солью, серой, канифолью и при этом избивающий пьяницу, — рассказ этот комическое, но точное изображение метода, которым до изобретения кодирования и торпеды лечила советская медицина алкоголизм.
«Он вчера на пирушке был в хорошем доме. <... > Должно быть, переложил лишнее, вот теперь сном и отходит. Нет-то ничего милее на свете, как этот сон. <... > Я вчера хересом ошибся. Уж этот херес! Враг мне: я ещё в университете два раза за него в карцере сидел, да и память отшибает совсем» (Островский А. Н. Трудовой хлеб).
«Находился полуштоф со слабыми остатками земных благ лишь на донушке» (Достоевский. Братья Карамазовы).
Всё чаще в печати мелькает утверждение, что водку можно и нужно вытеснить пивом и тем самым отучить народ от чёрного пьянства. Таков, кажется, и лозунг партии любителей пива. Или утопическое фантазёрство, или заказ пивоваров. Отношения пива и водки, отношения к пиву и водке у нашего пьющего народа сложны, и напитки никак взаимонезаменяемы и, стало быть, не вытесняемы один другим. Водка идёт у нас под номером первым, а пиво — вторым. Лишь опустившимся синякам безразлична нумерация, и оба номера они с большим для себя эффектом заменяют бормотухой. Потому, кстати, у нас и не приживаются (не только из-за цены) сорта крепкого и густого пива, что «массы» предпочитают жиденькие «жигули».
Впервые с этой химерой я встретился на первых страницах мемуаров Ильи Эренбурга «Люди, годы, жизнь». Отец писателя, директор пивоваренного завода в Хамовниках, принимал великого соседа. Толстой выпил пива и сказал, что им надо вытеснять водку. Не ставлю под сомнение достоверность воспоминаний: Лев Николаевич не слишком смыслил в алкоголе, хоть смолоду и покучивал, замена водки пивом — из числа его утопий.
А вот пишет куда больший знаток предмета Георгий Иванов, и правильно пишет: «Как известно, опьянение пивом — торжественное и унылое. “Biere gaie” (весёлое пиво — фр.) не бывает, оно всегда “trist” (печальное — фр.)». А один из современных специалистов, Евгений Анатольевич Попов, в беседе с коллегой Зуфаром Гареевым (газета «Мегаполис Экспресс» от 20 сентября 1995 г.), верно отметив, что «пивной алкоголизм понеприятнее водочного», иллюстрирует наблюдение фильмом «Берлин, Александерплац», где гениальный Фасбиндер, будучи режиссёром, немцем и пьяницей, показал во всей неприглядности пивной запой героя.
А почему наблюдательнейший Иван Алексеевич Бунин говорил: «Бойтесь пьяного немца!» — он что, злее русского? Нет, он наливается пивом, и от этого дурее.
«Лучше уж от водки умереть, чем от скуки» (Владимир Маяковский).
Те, кто умирает от водки, не знают скуки, они знают — тоску, умереть от которой дано и тем, кто может умереть от водки.
Рифма ещё сыграла роль: руки — скуки; заменить руки в этой строфе было бы крайне сложно: «на себя бы раньше наложили руки...».
«...и обыватели, и поэты пытались вылезти из лужи или болота с помощью зелёного змия — но блоковское соблазнительное высокомерие в стихотворении «Поэты» напрасно делает из смерти под забором условие поэтического ремесла и творческой жизни» (Зинаида Шаховская. Русский Монпарнас).
О, эта до времени состарившаяся мать рядом с пьяным, никому уже, кроме неё, не нужным сыном! Её лицо застыло, а около болтается его карточка, с которой уж немного осталось стереть человеческого, со страдальческим взором, навсегда ушедшим внутрь себя, где, как в Кащеевом яйце, хранится в алкоголе что-то, что никому так и не станет известным.
Сегодня я вспомнил Борьку Г-на по прозвищу Билл.
Мы учились с ним в параллельных классах. Как-то летом с ним случилось то, чем пугают детей, для шутки скосивших глаза к носу: смотри, так и останешься! Вот Борька так и остался — на каникулы уходил с прямыми глазками, а 1 сентября вернулся косеньким. И — сделался после этого безудержным хулиганом.
Внешне он становился уродливее, лицо вытянулось вперёд, на вытянутом лице большие очки, как у мультипликационной черепахи, которая поёт «я на солнышке лежу». Ну и прыщики, конечно, запахи юношеские.
Он жил недалеко от школы в старом доме на улице Тараса Шевченко, или Тараске, которая до советской власти называлась, кажется, Крапивная.
В демонстрации 7 Ноября и 1 Мая утром мы выпивали у Билла на чердаке, пока школьная колонна долго, как водится, стояла на углу Тараски. Лежат узкие пласты утреннего солнца на мягкой засыпке, смешанной с голубиным помётом, пахнет пылью, бутылка с «бшм мщним» переходит из рук в руки, приглушённо доносится ровный гул и буханье барабана: «Будет людям счастье, счастье на века, у советской власти сила велика!»
После выпускного вечера, перед рассветом, катались на катере, хмельные, усталые, равнодушные друг к другу и к утру, встающему за Волгой, к розовой волне, бегущей от катера к берегу. Чтобы «поднять настроение», кто-то из учителей предложил спеть, и тогда Борька затянул дурным голосом свою любимую: «Это Клим Ворошилов и братишка Будённый / Даровали нам волю, и их любит народ!».
После окончания школы я виделся с Биллом нечасто. Мы учились, он работал. В армию его не брали из-за глаз. А они не помешали ему сделаться лихим мотоциклетным наездником, или, как он с гордостью себя называл, явистом.
То было время нашествия на наши города чешских мотоциклов «Ява» — ярко-красных, с блестящими хромированными щеками бензобаков, мягким звуком мотора и возможностью быстро набирать скорость. Тогда ещё не был пущен Волжский автозавод, и «Явы» легко и презрительно уходили от других средств авто- и мотопередвижения.
Вечерами тихие саратовские улицы заволакивало голубым дымом. Конечно, провинциальным явистам тех лет далеко до нынешних рокеров на японских чудовищах, но и они сбивались в стаи, и прижимались к спинам беспечных ездоков юные подруги.
За спиной Билла мне не доводилось видеть девушек. Он носился по городу, и запасной шлем болтался сбоку, как невостребованная любовь. По выходным Билл торговал на автомобильной барахолке запчастями, он всё больше пил, слабея от вина. Его повышенно обожали окрестные хулиганы, у которых он сделался кем-то вроде местного святого, и поэтому при тщедушности Билл превратился в довольно грозную силу, способную расправиться с любым противником: у него были ребята.
Работал он всегда на ночных, освобождающих целые дни службах сторожей и вахтёров. Одно время ночным сторожем в Художественном музее. Музей наш старинный, для него ещё в прошлом веке было построено специальное здание, с огромными фонарями в крыше для дневного освещения, чугунными роскошно отлитыми лестницами и прочим. Служба Билла в музее была ознаменована тем, что, как только научные и другие работники покидали помещение, в мемориальное здание являлись друзья Билла, и начинались шумные попойки и экскурсии. Всё это могу предоставить воображению читателя: штофная мебель, портреты вельмож, древний китайский фарфор в горках, амуры, паркеты, белые шторы и — портвейн, мат, килька, табачный дым, однако две подлинные подробности не могу пропустить, не уверенный, что их можно вообразить.
Первая: Билл и его друзья катались по музею на мотоцикле, что, кажется, и послужило основанием для увольнения нашего приятеля. Вторая — Билл, помимо проводимых им экскурсий по залам, предлагал желающим посетить богатейшую библиотеку музея затем, что там можно «хорошо подрочить. Вчера такой немецкий альбом нашёл, что до утра дрочил».
Билл умер примерно лет двадцати пяти от роду. Точнее сказать, его убили, ибо он умер от побоев. Или замёрз, или и то и другое. Будто бы он был у кого-то в гостях и его там побили и выкинули на улицу. А дело было поздней осенью.
Когда его хоронили, явисты устроили на кладбище долгий вой клаксонов, звук которых у «Яв» отличается, как известно, особой резкостью. На поминках, после одного-двух стаканов, кто-то пустил по рукам фотографию Билла, где он был с бородкою и от прихорашивающей ретуши ещё более некрасив, а на обороте его рукой было написано: «Явист».
Термин «алкогольный юмор» принадлежит психиатрам. Они не без основания утверждают, что алкоголикам присущ особый вид юмора, который не только сосредоточен вокруг предмета болезни, но и носит специфический жанровый и эстетический характер. В какой-то монографии в качестве примера подобного юмора приводился ответ алкоголика на вопрос, часто ли он пьёт: «Четыре раза в год, и каждый раз по три месяца». Обычно утверждение, что алкогольный юмор — плоский.
Связь между употреблением алкоголя и юмором очевидна и, вероятно, изначальна. Каждый знает, что абстиненты, как правило, сухи и как бы бесплодны в комическом плане. Любитель подцать, напротив, охотно подмечает в окружающем мире комическое, в нём всегда развито игровое начало. Думаю, все талантливые анекдоты и частушки были сочинены людьми выпивающими. Разумеется, я имею в виду людей здоровых, но не субъектов, поглощающих одеколон.
Юмористическое отношение к употреблению алкоголя носит общественный характер, что подтверждает хорошую, добрую роль оного употребления в жизни: люди заранее рады встретиться с предметом, который дарит им опьянение, хотя бы и словесно. Присутствие в мире спиртного облегчает жизнь людей, и потому они с готовностью ожидают озвучивания темы. Едва ли не половина шуточного в искусстве связана с алкогольной темой. Фигура пьяного в театре, кино, цирке, за довольно редкими исключениями (в основном они приходятся на период лигачёвско-горбачёвской антиалкогольной кампании, когда социскусство, выполняя соцзаказ, принялось выводить на экран и сцену именно потребителей одеколона в зверином облике), это комический персонаж, с которым связаны какие-то милые и безобидные нелепости. Пьяный в русском искусстве фигура по преимуществу водевильная, нередко резонёрствующая, реже трагическая. Почти весь спектр имеется у Островского: и пьяница-резонёр, как Любим Торцов, и пьяница-самодур, как Хлынов и многие другие, и пьяница-комик, как Шмага и прочие.
Достаточно актёру щёлкнуть себя по горлу, чтобы зал расцвёл довольными улыбками. И улыбки эти, прошу заметить, слетают не вовсе на тупые морды алкашей, равно как и актёр, и автор совсем не обязательно испитые халтурщики.
В русской литературе есть немало замечательно исполненных описаний похмельного пробуждения героя. Самыми, вероятно, знаменитыми стали страдания директора Театра Варьете Стёпы Лиходеева. По бесспорному качеству текста они этой славы заслуживают, хотя и у предшественников Булгакова бывали штучки не слабее.
«Потянувшись за папироской, Ракитников увидел, что рукав на правой руке у него засучен. Это его удивило. Поднял голову и ещё больше удивился: оказывается, лежал он совсем одетый на постели, жилет расстёгнут, новый пиджак изжёван, брюки на коленках в грязи, рукав засучен по локоть, но башмаки сняты — значит, оставалось всё-таки кое-какое соображение...
Схватившись за голову, он застонал. Череп трещал, как арбуз. Но пусть бы болела голова — физическая боль пустяки, а в такую погоду даже может и развлечь отчасти. Но трудно было вынести общую проплёванность всего существа, невыразимую пакость, тоску сердечную... Хуже всякого головотреска... Ох!
Закрыв лицо, он покачивался. Хорошее забудешь, а вот вчерашнее всплыло до мелочей. Со службы ушёл в четыре. Так... На Невском встретились приятели с портфелями, — вернее, показались приятелями, потому что единодушно все заговорили об обеде с водкой. А по существу — серые пошляки, не люди, а понедельники... Пошли обедать. Пили водку под холодную осетрину... Сволочная, пошлая рыба, с хреном, с мелкой рубленой дрянью... <...> И это тот самый светловолосый мальчик, “мамина радость”... Отмахал тридцать лет жизни, затрачены силы, деньги на воспитание, образование... И лезет рыгающим чудовищем из трактира... Ох! <...> Ох, раки! Насекомые, паукообразные, поедающие утопленников... И он ел это...
Дальше — провал в памяти... Ракитников сознал себя у чугунной решётки канала Грибоедова: он нёсся огромными прыжками, ругаясь шёпотом так, как никогда не ругался... <... > Видели вы когда-нибудь, как в овраге псы рвут ребрастую падаль, упираясь лапами, рыча от отвращения? Точно так же мрачные выводы пожирали сердце Ракитникова» (Толстой А.Н. Подкидные дураки. 1928).
Особенно много алкогольного юмора текло на печатные страницы во времена Чехонте, затем Аверченко, затем в двадцатые годы. Может быть, эти эпохи объединяло относительное благополучие или, точнее, достаточное количество благополучных читателей?
Булгаков в 17—18-х годах сделался наркоманом, что зафиксировано в воспоминаниях его первой жены (см. книгу М. Чудаковой «Жизнеописание Михаила Булгакова) и описано в рассказе «Морфий». Он стал одним из немногих, кто преодолел ужасную зависимость от «чудесных, божественных кристаллов». Почему бы не предположить, — смейтесь, врачи! — что Булгакову в борьбе с наркотиками помогли табак и водка? Человек взрослый, врач, сознающий свою болезнь, мог ли он полностью отказаться от ядов? Как там у Бунина в рассказе «Соотечественник»: «Лицо у него меловое, и чёрные очки очень страшны на этом лице. “Я целых два часа ничем не отравлялся, ничего не пил, не курил и потому смертельно утомился”». Впрочем, и без Бунина мы кое-что знаем о зависимости от этих ядов, и водка, водочка, закусочка, сервировка, со всем своим сопутствием, так же как вредный, но красивый в дорогих папиросах табачок, всё это более надёжный враг наркотика, чем «здоровый образ жизни».
Булгаков в письме к приятелю даёт совет: «закусывать надо ветчиной, в сумерки, в тишине, среди старых и верных вещей».
Душевные слова. А мне пришлось раз на обращение младшего товарища давать совет иного, не лирического рода: «Выпивать, молодой человек, следует исключительно на собственный счёт, но никак не на чужой. Последняя привычка крайне пагубна, по медицинским даже последствиям!»
«Пивной погреб тоже большое общество привлекает» (Гоголь. Женитьба).
«Сон и водка — вот истинные друзья человечества» (Салтыков-Щедрин М.Е. Скука).
В РУССКОМ ЖАНРЕ - 12
Я много лет читаю Чехова. Пора бы уж научиться перечитывать, но настолько всегда новым оказывается текст, что не даёт привычки скользить по нему.
В последние сколько-то лет, думаю, не больше десяти, читая, я стал делать заметки. Их можно было бы назвать заметками на полях или, маргиналиями, как любил выражаться ответственный критик советской эпохи Ю.И. Суровцев. Но поля, хоть и крепко мною истрёпанного голубого ПСС Чехова в 30 томах, чисты. Во всяком случае, от заметок. В детстве меня удивляло, что в воспоминаниях о Владимире Ильиче рассказывалось, как он испещрял гениальными заметками книжки, тогда как нам этого делать не велели. Впрочем, имелось в виду, вероятно, что вождь пачкал книжки исключительно идейных противников, какого-нибудь, к примеру, Каутского.
Мои заметки делались не на полях, а на листочках, и однажды я обнаружил, что их накопилось немало. Какую-то часть из них я попытался соединить в то условно-целое, которое для себя давно определил как «русский жанр».
О Чехове существует огромная литература, большей частью мной не читанная, и поэтому — в случае изобретения велосипеда — каюсь. В оправдание могу лишь уточнить, что заметки мои — не литературоведа, а всего лишь усердного читателя.
Отставной контр-адмирал Ревунов-Караулов из рассказа «Свадьба с генералом» (1884) являет собою зрелище жалкое, неся с базара щуку в сопровождении кухарки, держащей под мышкой пачку листового табаку, который хозяин употребляет от клопов и тараканов.
Но контр-адмирал по табели о рангах соответствует генерал-майору или действительному статскому советнику и в службе должен был занимать должность командира бригады, или начальника штаба, или директора кадетского корпуса и т. п. Пенсия ему полагалась в год 860 рублей серебром, то есть более двух тысяч ассигнациями, да ещё солидные надбавки за ранения, а Ревунов по срокам должен был бы участвовать в Крымской войне. Не вяжется солидное обеспечение, высокий социальный статус с тем, что написал Антон Павлович.
А заслуженный профессор, тайный советник и кавалер Николай Степанович из «Скучной истории» (1889) почему беден? Его дочь-консерваторка «одета бог знает как»; «часто забота о мелких долгах заставляет меня бросать работу...»; сын-офицер, которому родители ежемесячно высылают пятьдесят рублей, мог бы, по мнению отца, отдать офицерское место другому и наняться в работники.
И это та Россия, «которую мы потеряли»?
Тогдашняя критика высказывала упрёки в недостаточном знании Чеховым университетской жизни, но тут уж не в деталях дело — социальный статус героя таков, что невозможно поверить, что его так терзает бедность. Правда, он помогает дочери покойного друга, держит прислугу, но он — не кутила, не картёжник, а жалованье его не менее 3000 рублей в год. И сын, даже если он всего лишь в чине, скажем, поручика, и тогда в год получал не менее тысячи рублей. Конечно, профессор не богач, но в его жалобах на бедность слышится интонация портного или лавочника.
«Водевиль» (1884) — канонически-обличительный пустяк: чиновник читает водевиль собственного сочинения сослуживцам, те находят там неуместные параллели и аллюзии и советуют автору порвать рукопись, что он с благодарностью принимает.
Вглядевшись в довольно-таки подробный пересказ содержания водевиля, можно обнаружить, что он вполне мог бы принадлежать и перу самого Чехонте. Чиновник мечтает, как выдаст замуж дочь за начальника, ругается с женой по поводу вони от жареного гуся: «Дура! Утрись... мумия, Иродиада ты невежественная!» Чиновник убегает из дому и т. д. Кухонная вонь в комнатах — мотив постоянный у Чехова, так же как и мечты родителя о браке дочери, как ругань с женой, как словечки «мумия», «иродиада».
Здесь — тот нормальный цинизм, с которым Чехов относился к литературе как ремеслу. Он относился к ней и по-иному, в иных плоскостях и измерениях, но как профессионал он циничен. Просто ему было всё равно, придумывая сюжет, пишет ли его Чехонте или чиновник Клочков.
«Хочется писать, и кажется, что в этом году я буду писать так же много, как Потапенко. И деньги нужны адски. Мне нужно 20 тысяч годового дохода, так как я уже не могу спать с женщиной, если она не в шёлковой сорочке» (А. С. Суворину, 1895).
«Если водевиль выйдет плох, то не стесняйтесь и валяйте псевдоним. Провинция всё скушает» (А.Н. Маслову, 1888).
Тяга к мелкому «либеральному» обличительству долго сидела в нём. Где надо и не надо, он принижает любого, даже относительно принадлежащего верхам. Помещики, генералы, судьи изъясняются, словно приказчики. Причиной отчасти могло быть незнание той среды, отчасти — разночинское стремление принизить дворянина, помещика, аристократа.
«А как он описывал представителей высших классов, чиновника Орлова, его гостей! Он этих людей не знал! Не был знаком ни с кем выше помощника начальника станции. Среди правоведов, лицеистов было сколько угодно мерзавцев, но ведь они были хорошо воспитаны! А тут — идут в спальню Орлова и смеются над дамскими вещами. Разве так бывало? Неверно всё, неверно! <... > Вы только никому не говорите. Для интеллигентов Чехов — икона» (Чуковская Л. Воспоминания об Анне Ахматовой).
Почему-то Ахматову разгневал «Рассказ неизвестного человека» (1893), вещь в этом отношении не самая показательная. Я так даже, по своему простолюдинству, если бы не оценка А. А., не счёл бы поведение кружка петербургского аристократа Орлова невозможным. Во всяком случае, изъясняются в этой повести высокие чиновники вполне изысканно в сравнении со многими другими. Но речь чиновников («Сущая правда», «Случай с классиком», «Смерть чиновника», все — 1883) и многих других — это речь прачек и дворников. Может быть, чиновники — мелюзга? Но таковы же и помещики его. Вот председатель земской управы, помещик Шмахин (1885). «Нешто в шашки поиграть? Понимаем куда, ты, харя, лезешь... Как, однако, от тебя луком воняет! Расселся тут, тварь этакая!» Шмахин пытается читать Тургенева и тут же засыпает. Первый же из опубликованных рассказов Чехова — «Письмо к учёному соседу» (1880) — представляет отставного урядника из дворян, донского помещика, как малограмотного тупицу.
Генералы и князья то и дело возникают на страницах его не просто пустыми и ничтожными, но и дурно воспитанными людьми. Граф Шабельский («Иванов», 1887) сам о себе так высказывается: «Я такой же мерзавец и свинья в ермолке, как все. Моветон и старый башмак». Ладно, он «шут и приживал», но и вполне благополучные, богатые чиновники и помещики — все как на подбор — моветоны.
Не только Ахматова, но и Бунин объясняли его странных помещиков и дворян тем, что Чехов не знал высшего круга. Чеховских помещиков сочинил читатель Щедрина. Но к чему всё-таки столь явная тенденция снижения «высших классов»? В ранней пьесе «Безотцовщина» (1878?), герой её Платонов обосновывает сниженный взгляд на дворянство: «...нужно быть слишком доверчивым, чтобы веровать в тех фонвизинских солидных Стародумов и сахарных Милонов, которые всю свою жизнь ели щи из одной чашки со Скотиниными и Простаковыми».
«По наблюдениям А. И. (Куприна. — С. Б.), в семье А. П. Чехова господствовала довольно развязная манера вышучивать всех и вся». (М. К. Иорданская (Куприна)).
В один день 7 февраля 1903 года он пишет из Ялты Куприну и Телешову, сообщая, что в академическом «Словаре русского языка» имеются ссылки на их тексты. Большая часть обоих писем практически одинакова: информация, примеры цитат; затем разное — Куприну личное и тёплое, Телешову суховато вежливое: о морозе, здоровье и прочем. Однако отличия в сообщениях о «Словаре» замечательны: Телешову: «в “Словаре...’’...показались и Вы». Куприну: «в “Словаре...’’...наконец показались и Вы». И далее. К приведённым из Куприна примерам Чехов комментария не даёт, а для Телешова приписывает следующее: «Стало быть, с точки зрения составителей словаря, Вы писатель образцовый, таковым и останетесь на веки вечные».
В угрюмом одиночестве (в тот же день пишет Книппер: «Время идёт быстро, очень быстро! Борода у меня стала седая, и ничего мне не хочется»), в холодном доме, получив том «Словаря», он делится с Куприным искренней радостью, а Телешова высмеивает. Видимо, правда, что Николай Дмитриевич был человек недалёкий, раз Чехов был уверен, что тот не почует издёвки в похвале.
Прочитав «На покое», он пишет Куприну: «героев своих, актёров, Вы трактуете по старинке, как трактовались они уже лет сто всеми, писавшими о них. <... > Бритые актёры похожи друг на друга, как ксёндзы, и остаются похожими, как бы старательно Вы ни изображали их...» (1 ноября 1902 г.).
Но именно так сам Антон Павлович и трактовал своих актёров в рассказах «Барон», «Месть», «Трагик», «Комик», «На кладбище», «Бумажник», «Сапоги», «Конь и трепетная лань», «После бенефиса», «Средство от запоя», «Антрепренёр под диваном», «Актёрская гибель», «Первый любовник», «Калхас», «Произведение искусства», «Юбилей», «Критик» (с 1882 по 1887 год). Практически везде, где касался он актёрской фигуры, это был неопрятный необразованный пьяница, с замашками и претензиями на нечто в искусстве, «выносливый, как камень», то есть вариации Аркашки Счастливцева и Шмаги. Портреты их, на схожесть которых указывает он Куприну, также не отличаются разнообразием: «бритая, синевато-багровая физиономия», «сизая, заспанная физиономия», «с бритой актёрской физиономией и сизым кривым подбородком», «два ряда мужчин с бритыми физиономиями», «с кривым подбородком и малиновым носом».
Писатель и сочувствует их нелёгкой доле, и презирает их. Страшную смерть в убогом номере в тоске по родимой Вязьме благородного отца и простака («Актёрская гибель») перемежает жалкая подлость фатоватого премьера («Первый любовник»), но чаще всего представлен забавный эпизод, вроде пропивания денег вместо раздачи долгов или долгожданного похода в баню («После бенефиса»).
«Чудной народ! Одно слово, артисты. Будь я губернатор или какой начальник, забрал бы всех этих актёров — и в острог» («Сапоги», 1885).
В рассказе И. Бунина «Алексей Алексеевич» (1927) доктор Потехин, «с грубыми простонародными чертами лица... неизменно медлительный и до наглости самоуверенный», на вопрос пациента о прогнозе болезни, «ответил с истинно хамской беспощадностью: “Я пророчествами не занимаюсь...”».
В рассказе Чехова «Цветы запоздалые» (1882) доктор Топорков, «по происхождению плебей», «важен, представителен», идёт «важно, по-генеральски», на вопрос о прогнозе болезни «сухо, холодно» отвечает: «Не могу я знать-с, я не пророк».
Рассказ, которым прославился начинающий Горький — «Челкаш» (1895) — очевидный перепев рассказа Чехова «Беспокойный гость» (1886). Правда, Горький ссылался на реальную беседу в больнице с каким-то одесским босяком, который и поведал ему о случае, с ним происшедшем. И сюжет как бы не настолько совпадает, чтобы говорить о перепеве: у Чехова лесник боится выйти из избушки на крик о помощи, тогда как захожий охотник идёт; воротившись, он не только срамит лесника, но ещё и пугает: «Возьму вот и ограблю. Стало быть, у тебя деньги есть, ежели боишься!». Деньги на сцену не являются, и нет, разумеется, лобового, как у Горького, морализаторства, и всё же нельзя отделаться от привкуса вторичности у Горького.
Впрочем, чеховский привкус неизбежен зачастую даже при чтении Бунина и, уж конечно, Горького, Андреева, Куприна и менее значимых современников. Чаще всего это взятая напрокат, на слух, всепроникающая интонация Чехова, рисунок которой так легко повторить и так невозможно наполнить своим.
Очевиднее всего сопоставление на сходном предмете. «Кусака» Л. Андреева, «Сны Чанга» И. Бунина, «Барбос и Жулька», «Белый пудель» А. Куприна, и — «Каштанка». У Андреева — гуманизм. У Куприна к нему в придачу ещё и «жизнь», у Бунина — то, что и везде, — красота и страх смерти, а что у Чехова?
Более всего просто само искусство, само по себе.
Как неожиданно, а ведь в сущности, как законно, вдруг встретить на чеховской странице писателя куда более позднего времени.
«— За три дня до свадьбы прихожу к невесте. С букетом, знаете ли... “Где Марьяша?” — “Дома нету...” — “А где она?” Тесть мой будущий молчит и ухмыляется. Тёща тут же сидит и кофий внакладку пьёт. (Раньше всегда вприкуску пила.) “Да где же она? Чего вы молчите?” — “А ты что за допросчик такой? Ступай туда, откедова пришёл! Вороти оглобли!”
Приглядываюсь и вижу: мой тестюшка, как зюзя... Нахлестался, сволочь...» («Дурак», 1883).
Написано за сорок лет до Зощенко.
У Бунина («Речной трактир») «салфетки пахнут серым мылом». У Чехова «от скатерти пахло мылом» («Три года»), а в записной книжке его 1891: «В русских трактирах воняет чистыми скатертями».
«Знаете, я убеждён, что Сибирь когда-нибудь совершенно отделится от России, вот так же, как Америка отделилась от метрополии», — говорил Чехов Куприну.
Постоянные мосты в будущее: десятые годы, революцию, советскую власть, наше время — то и дело протягиваются при чтении Чехова. Читаешь его рассказы, репортажи о знаменитом Скопинском деле, проворовавшихся хозяевах провинциального банка — сегодняшние газеты ложатся рядом.
А вот рассказ «Психопаты» (1885).
Титулярный советник и его сын, отставной поручик, обедая, предаются болтовне, а за стенкой кашляет и стонет страдающий от запаха табака и водки, а главное, беспредельно пустой болтовни, жилец. Смешны именно психопатические фантазии Гриши, умеющего любой газетной информацией напугать мнительного папашу — будь то холера, уголовный процесс или политика.
Однако в Гришиных политических прогнозах возникают реальные пожары XX века. «Греция и Сербия поднимутся, Турция тоже... Англия вступится за Турцию. <... > ...и Франция не утерпит... Она, брат, ещё не забыла пять миллиардов!.. А ежели француз поднимется, то немец не станет ждать... За немцами Австрия, потом Венгрия, а там, гляди, и Испания насчёт Каролинских островов... Китай с Тонкином, афганцы... и пошло, и пошло, и пошло! Такое, брат, будет, что и не снилось тебе». Автору и читателю смешно, но ведь и вправду пошло, и пошло такое, что и присниться не могло человеку восьмидесятых годов прошлого века.
Если Чехов — «энциклопедия русской жизни», а это так, то условия жизни большинства его персонажей, социально-бытовое устройство тогдашней России вызывают род зависти: какая же нормальная была тогда жизнь!
Каждому своё. Н. Лейкин, прочитав мрачный рассказ «Неприятность» (1888) о земском докторе, ударившем во время обхода пьяного фельдшера, отметил в письме: «понравилось очень верно подмеченное у Вас шествие утят».
После безобразной сцены в больнице доктор пишет письмо председателю земской управы с требованием уволить фельдшера и глядит в окно, «на уток с утятами, которые, покачиваясь, спешили по дороге, должно быть, к пруду; один утёнок подобрал на дороге какую-то кишку, подавился и поднял тревожный писк; другой подбежал к нему, вытащил у него изо рта кишку и тоже подавился...».
Рассказ, повторяю, угрюмый, о переживаниях доктора, о зависимости людей друг от друга, от службы, от куска хлеба, а вот Николай Александрович остановился на утятах, и почём знать, он ли один.
Ведь и сам Чехов сетовал, что все хвалили «Припадок», а описание первого снега заметил один Григорович.
Тригорин (жалуясь Нине): «Вижу вот облако, похожее на рояль. Думаю: надо будет упомянуть где-нибудь в рассказе, что плыло облако, похожее на рояль».
Сам Чехов любил сравнивать облака. «Одно облако похоже на монаха, другое на рыбу, третье на турка в чалме» («Красавицы», 1888), «одно облако похоже на триумфальную арку, другое на льва, третье на ножницы...» («Гусев», 1890). Сравнения как бы избыточные, вычурные и даже неуместные — в финале рассказа «Гусев» об окончившем земной путь на океанском дне русском каторжном из мужиков — при чём тут триумфальная арка?
Есть у него и свои штампы, скажем, лакеи в «белых перепачканных галстухах» или «баба с двойным перетянутым животом» («Капитанский мундир», «Драма на охоте», «Клевета»). В ранних рассказах часто персонаж отрезывает кусок балыка, почему-то именно балыка, вероятно, Антон Павлович любил балык, но вряд ли он тогда был ему доступен.
Впрочем, еда и выпивка — тема отдельная, о ней в своём месте.
Экстравагантности у него не так редки, но всегда надёжно спрятаны. Скажем, «держа письмо в обеих руках и давая им обеим упиваться прикосновением к этим милым горячим строкам» («Расстройство компенсации»).
А вот вам и Достоевский: «гримасничая всем телом» («Чужая беда», 1886).
Чехов шутил в мрачных местах мрачных текстов, и в этом сравним может быть лишь с Достоевским. Изощрённо сделанный рассказ «Новая дача» (1899) о «власти тьмы» над русской деревней, бессмысленном уставе общины, инженере-прогрессисте, оказавшемся для крестьян более чужим, чем прежний барин-тиран. Безобразные отец и сын Лыковы, более других пакостившие инженеру, ему же ещё и жаловаться друг на друга приходят.
«Он поднял палку и ударил ею сына по голове; тот поднял свою палку и ударил старика прямо по лысине, так что палка даже подскочила. Лыков-отец даже не покачнулся и опять ударил сына, и опять по голове. И так стояли и всё стукали друг друга по головам, и это было похоже не на драку, а скорее на какую-то игру. А за воротами толпились мужики и бабы и молча смотрели во двор, и лица у всех были серьёзные».
Это же цирк с двумя ковёрными и зрителями, и Чехов не только описал, но ещё прямо и указал — игра.
Когда-то я заподозрил, что мы восхищаемся Чеховым по незнанию других тогдашних писателей его круга. Ведь получилось, что были или старшие его великие современники, или младшие, от него уже зависимые. Но были ведь и ровня, из которой едва ли не один Короленко более-менее известен. Подозрения провалились: ни Альбов, ни Потапенко, ни Леонтьев, ни Ясинский — никто даже не приближается к его уровню. И вообще прошлый век при всех, порой чудовищных, советских трактовках, в издательской практике и, стало быть, проникновении к читателю в советское время был вовсе не так уж искажён. Масштабы изданий, доступности писателей XIX века соответствовали размерам дарования.
Он вовсе не начинал с коротких рассказов. Его первые опубликованные вещи «Письмо учёному соседу», «За яблоками», «Корреспондент», «Скверная история» — не так компактны, как более поздние, а самое серьёзное из раннего — это почти повести «Зелёная коса», «Барыня», «Цветы запоздалые», «Живой товар». Он учился писать и на коротком, и на обширном пространстве, свидетельство чего едва ли не главная, в смысле школы, его вещь — «Драма на охоте».
И не он пробил дорогу короткому рассказу, как утверждает в своих воспоминаниях А. И. Куприн якобы с его слов. В письмах Лейкина начинающему писателю рефреном звучит требование: короче! короче! сжатее! Так жила юмористическая пресса, словно бы для физической какой-то компенсации длиннейших романов, которые печатали тогда толстые журналы, романов, большей частью канувших в Лету.
«Драма на охоте» написана в 1884 году. Затем Чехов словно бы забыл о своём объёмном произведении. О повести всегда шли споры: чистая ли то пародия или серьёзная вещь с элементами пародии; в кино из «Драмы» сделали мелодраму с музыкой «Мой ласковый и нежный зверь».
Главный вопрос: почему Антон Павлович написал это, необычное во всех отношениях для себя, произведение? Для пародии оно всё же великовато. Как, впрочем, и «Ненужная победа» (1882).
До «Драмы» опубликованы такие вполне чеховские рассказы, как «Барыня», «Речь и ремешок», «Идиллия — увы и ах!», «Барон», «Месть», «Пережитое», «Из дневника помощника бухгалтера», «Русский уголь», «На кладбище» и многие другие, вошедшие в издание Маркса. Опубликовано уже то, что стало хрестоматийной классикой: «Смерть чиновника», «Дочь Альбиона», «Толстый и тонкий», «Экзамен на чин», «Хирургия», «Хамелеон», «Маска», «Устрицы», «Капитанский мундир».
И вот сочиняется длинная сюжетная повесть, с завязками и развязками, пейзажами и нравоучениями, страстями и раскаяниями. К чему?
Ответ, по-моему, таков: Чехов почувствовал себя в известной степени сложившимся, может быть, даже застывающим в форме писателем и решил выйти за уже освоенные пределы. Это раз. А два то, что Чехов, как каждый русский писатель, желал написать роман. Не было, кажется, того, кто не пытался бы, при успехе рассказов или драм, сочинить ещё и объёмное протяжённое «полотно». Уж на что процветал Леонид Андреев своими пьесами и рассказами, а сотворил-таки «Сашку Жегулёва». Уж как Бунин шёл к предельному лаконизму, но в первую пору расцвета написал «Деревню», в позднюю — «Жизнь Арсеньева».
И ещё. То, что Чехов написал «Егеря» в купальне и без помарок, говорит лишь о его профессионализме, а не стихийности. Редко какой русский писатель оставил столько наблюдений, замечаний, размышлений над природой литературного творчества, причём не только в письмах, но и в художественных произведениях. Он осознанно учился писать. И вот, на известном этапе, при полном понимании достигнутого, Антон Павлович решил испытать себя в романе. Он примерял к себе роль традиционного русского писателя, автора крупной формы, он встал в традицию. Ему там не понравилось, он вышел из ряда и вернулся к себе.
Да, в «Драме на охоте» есть практически всё. Камышев — новейший Печорин конца XIX века. Резонёр-доктор. Есть вовсе не пародийное обличительство: «Только душевно слепой и нищий духом на каждой посеревшей мраморной плите, в каждой картине, в каждом тёмном уголке графского сада не видел пота, слёз и мозолей людей, дети которых ютились теперь в избёнках графской деревеньки...». Есть романтический озёрный пейзаж и ещё более романтические описания заброшенной роскошной усадьбы, зловещие предзнаменования, буря — всё словно бы из любимой книжки лакея Поликарпа «Граф Монте-Кристо». Но граф у Чехова носит кучерскую фамилию Карнеев, романтическая героиня Оленька оказывается низкопробной мещанкой и хищницей, рядом с таинственными руинами расположилась ярмарка, по которой «шляются» рассказчик и резонёр-доктор, главная слабость которого «выписыванье вещей, воспеваемых в газетных объявлениях».
«Драма на охоте» каждой страницей словно бы подтверждает неограниченные возможности автора «во все стороны». Детальное описание застолья с секретами того или иного опьянения, соития с влюблённой цыганкой и — волосок, снимаемый с куска мыла лакеем перед умыванием хозяина. Словно у Достоевского поджигается пачка кредиток и изумляется на это отвратительный, вороватый и подлый поляк.
Чехов, кажется, не столько читателю, сколько себе показывает литературную силу, проводит испытанье на литературную прочность.
Алексей Н. Толстой — один из немногих русских писателей XX века, кто не боялся признаваться в нелюбви к Чехову.
«Чехов с усмешечкой мягко брал читателя за руку, вёл в мещанский закоулок и предлагал побеседовать с неким господином в подтяжках. Беседа о чём? Да ни о чём, — о мелких гадостях, о серенькой тоске, о слабом человечке... Чехов смешил, читатель хихикал, а в общем хотелось повеситься на этих подтяжках» (1928).
Там же, хотя и в другом тоне: «Медленно собиралась мировая гроза. Эта переходная эпоха породила безнадёжную лирику и мягкую иронию Чехова. Солнце, казалось, остановилось над миром. В литературе было или пережёвывание наследства великих писателей, или, как у Чехова, — звенящая сладко безнадёжная грусть».
Что оценки искренни, для меня несомненно — А. Н., особенно в те годы, желал карнавала в литературе, хотя бы и в трагических масках. Недаром он ещё в эмиграции воспел мечты Миши Бальзаминова, воображающего себя высоким блондином в голубом плаще, как символ сути театра. Уж, конечно, не чеховского.
Чехов для него — прочитанная книга, к которой не хочется возвращаться: «Мопассан умер, Виктор Гюго — жив, Чехов выцвел, как акварель, Гоголь бьёт неиссякаемым, горячим ключом жизни» (1924).
Это всё статьи, но вот в частном письме: «Чехов — не искусство, он прекрасная манера, но ещё не искусство» (1935).
Манера — это, конечно, стиль, а с тем, что Чехов — это стиль, трудно спорить, интонация, особенно у позднего Чехова, владела повествованием, мелодия определяла смысл. Но что значит «ещё не искусство»? Словно какая-то ступень, за которой следует более высокая?
Суть же в том, что праздничному, напоказ шумному демонстратору шуток и ужасов, ловких фокусов и трансформаций Алексею Николаевичу техника акварели действительно была чужда и даже враждебна. Тут не было неискренности или стремления потрясти пьедестал (оно вообще ему было несвойственно). Тут было личное отношение к Чехову.
Почему я привлёк сюда одиозное имя красного графа? По-моему, лучше его, в данном случае, прямота, чем использование Чехова в виде ритуальной фигуры «великого спутника», как у Федина, Леонова и многих других современников Ал. Толстого. Леонов и Федин талантливые писатели, но из целых томов их литературной критики собственные (личные) наблюдения, оценки и суждения извлечь можно лишь редкими крупицами.
«Так вот почему не спится чеховским профессорам: в ночи раздаётся зов народа и грозная, мучительная совесть пробуждается в русском человеке. Всё более широкие пласты родной земли приходят в движение, и под окном возникает мелодия набатной песни: “На бой кровавый, святой и правый, марш, марш вперёд...”.
Вот откуда шла жгучая тоска нашего любимого писателя. Близился рассвет в России, и было страшно не дожить до этого желанного часа» (Леонид Леонов, 1944).
«...с болью и горечью обличая ленивую, косную, несчастную Россию царских времён, Чехов ясно видел в своём народе здоровых, трудолюбивых, смелых людей и в них находил постоянную опору своему убеждению, что русская жизнь непременно станет прекрасной и счастливой.
Она стала такой. Великий Октябрь превратил нас в новых людей, былую Россию — в новую страну социализма, строящую коммунистическое общество будущего» (Константин Федин, 1944—1960).
Не доживший до их малопочтенной старости «Алёшка» оставил после себя не аккуратный корпус высказываний, а вороха статей, бесед, рецензий, где, как в нём самом, плотно перемешались талант и расчёт, запальчивость и приспособленчество, размах и подлость, в живом, а не засушенном для хранения в гербарии советской классики состоянии.
«В каждом обществе, будь то народность, секта, сословие или просто круг людей, связанных одной общей профессией, непременно существует этика отношений, не допускающая, между прочим, чтобы дурно отзывались о своих в присутствии чужих, если нет к тому достаточно сильных поводов, вроде уголовщины или порочного поведения, — поводов, указанных практикою. <... > Дома у себя, то есть в журнале или в литературном обществе, бранись и бей себя по персям сколько хочешь, но на улице будь выше улицы и не жалуйся барышням, полицейским, студентам, купцам и всем прочим особам, составляющим публику. Это раз. Во-вторых, как бы низко ни пала литература, а публика всё-таки ниже её» (Суворину. 17 декабря 1892 г.).
Чехов практически не писал критики, но зато можно составить не менее, думаю, двух томов рассуждений, наблюдений и замет из его писем. Он страшно любил рассуждать в письмах о литературе, её предназначении и технологии письма, нравственной позиции автора и прочее, и прочее.
Вовсе не случайное название первой его книги «Сказки Мельпомены» во многом распространяется на всё его творчество. Вот неполный, вероятно, перечень, начинающийся уже с 1880 года, со второго из опубликованных его произведений «Что чаще всего встречается в романах, повестях и т. п.?». Итак, «Мой юбилей», «Исповедь, или Оля, Женя, Зоя», «Встреча весны», «Корреспондент», «Водевиль», «Тост прозаиков», «Женский тост», «Правила для начинающих авторов», «Два газетчика», «Писатель», «Литературная табель о рангах», «Тссс!..», «Хорошие люди», «Заказ», «Драма», «Вынужденное заявление». Это о литераторах.
Не короче будет и список тех рассказов, где речь идёт об иных художествах и музах, театре, живописи, архитектуре: «Он и она», «Два скандала», «Месть», «Современные молитвы», «Кое-что», «Трагик», «Комик», «Певчие», «На кладбище», «О драме», «Сапоги», «После бенефиса», «Художество», «Открытие», «Актёрская гибель», «Критик», «Каштанка», «Талант», «Калхас», «Юбилей», «В Москве», «Попрыгунья», «Скрипка Ротшильда». Это рассказы, где не просто действуют актёры или литераторы, как, скажем, «Первый любовник» или «Драматург», но те, где в той или иной форме задеты проблемы творчества, будь то драматургические штампы в «Драме» или природный талант художника в пустом мужике («Художество»).
Им опубликовано не менее десятка пародий, то есть особого рода литературной критики. Кроме того, в крупных вещах, как «Три года» или «Моя жизнь», не последнее место занимают те же проблемы искусства, я бы даже уточнил: производства и восприятия искусства.
Чехов любил раздавать советы и редактировать чужие тексты, при этом не допуская в свои. Живущий в нём учительский, морализаторский дух сказывался именно так, в соединении с неизменным самоконтролем и боязнью неловкости. Более всего на свете он, кажется, боялся для себя неловкости, банальности, нелепого и смешного положения.
Литераторы его — люди ничтожные, тщеславные, самовлюблённые.
Чехов словно бы с неким сладострастием ядовито клеймит коллег, особо за непомерное тщеславие, кичливость собственным ремеслом.
Краснухин («Тссс!..», 1886), «газетный сотрудник средней руки» — дома форменный деспот. Он будит ночью жену, чтобы сообщить: «Я сажусь писать... Пожалуйста, чтобы мне никто не мешал. Нельзя писать, когда ревут дети, храпят кухарки... Распорядись также, чтобы был чай и... бифштекс, что ли...» Стол у него убран так, словно «убирал не хозяин, а бутафор»: «Бюстики и карточки великих писателей, куча черновых рукописей, том Белинского с загнутой страницей, затылочная кость вместо пепельницы, газетный лист, сложенный небрежно, но так, чтобы видно было место, очерченное синим карандашом, с крупной надписью на полях: «Подло!» (так и кажется, что побывал в чьей-нибудь квартире на «Аэропорту»). Семья ходит на цыпочках, а он строчит, и «портреты знаменитых писателей глядят на его быстро бегающее перо, не шевелятся и, кажется, думают: “Эка, брат, как ты насобачился!”».
Как и все русские литераторы, он презирал критиков.
Задета эта лишняя профессия и в сочинениях его. Критик Лядовский («Хорошие люди», 1886) изображён с насмешкой и прямо-таки монументально, то, что называлось собирательный образ: «Это пишущий, к которому очень шло, когда он говорил: «Нас немного!» или: «Что за жизнь без борьбы? Вперёд!», хотя он ни с кем никогда не боролся и никогда не шёл вперёд». Критик хвалит рассказ из крестьянской жизни за верность правде, хотя понятия не имеет об этой жизни. Бунин вспоминал изумление Чехова по поводу признания Скабичевского, что тот никогда не видел ржаного поля.
Таков же профессор Серебряков, который «ровно двадцать пять лет читает и пишет об искусстве, ровно ничего не понимая в искусстве. Ровно двадцать пять лет он жуёт чужие мысли о реализме, тенденции и всяком другом вздоре... переливает из пустого в порожнее».
И даже убогий генеральский сынок Войницев в «Безотцовщине» (сыгранный в кино Юрием Богатырёвым) — филолог. Мачеха разговаривает с ним издевательски, как с дурачком: «Ты у меня молодец. Филолог, благонамеренный такой, ни в какие дела нехорошие не суёшься, убеждения имеешь, тихоня, женат... Коли захочешь, так далеко пойдёшь!»
Высказанное персонажами Чехова презрение к занятиям филологией концентрирует в себе общественное отношение. И в мои времена, да, думаю, и в иные, к парням-филологам отношение сверстников было насмешливым, вроде бы как здоровенный лоб увлекался вышивкой крестиком.То и дело обращаясь к теме творчества, художества, искусства, Чехов словно ищет ту золотую середину, которую можно было бы, пусть и с допусками и натяжками, но назвать чистым творчеством. Однако ж, если и возникает возможность такового, она тут же пресекается или обстоятельствами, или нежеланием. Рассказ «Открытие» (1886) — о том, как пожилой преуспевающий инженер вдруг открыл в себе талант художника и размечтался — «перед его воображением открылась жизнь, непохожая на миллионы других жизней... “Правы люди, что не дают им чинов и орденов... — подумал он”. Но вспомнив, что избранность творца идёт об руку с нищетой, голодом, унижением, он решает: “Хорошо, что я... в молодости не тово... не открыл”, “...имя поэта или художника пользуется почётом, но от этого почёта ему ни тепло, ни холодно... Имя в почёте, но личность в забросе...”».
Нищей, унижаемой, отверженной становится Нина Заречная. Ей так же хотелось необыкновенной избранной судьбы творцов искусства, как и Треплеву. Но талант дан почему-то Тригорину, который, не кокетничая, говорит, что живя на берегу озера, он поборол бы в себе страсть к писанию и только бы удил рыбу. Успех — по Чехову — не у тех, кто желает его, особенно страстно, но у тех, кто награждён талантом и неутомимо, может быть, даже туповато, трудится. И — неважно, что он за человек. Наделён талантом «куцый Серёжка» («Художество», 1886), делающий на речке Быстрянке Иордань: «Серёжка сам по себе ничтожество, лентяй, пьянчуга и мот, но когда он с суриком или циркулем в руках, то он уже нечто высшее, божий слуга».
Чехов во все времена снисходителен к тем, кто владеет и распоряжается даром: пусть будет профессионал. Он снисходителен даже к цинизму в работе, но не к имитации творчества. Субъект, подобный герою «Тссс!...», не раз является у него, притом и Антон Павлович не только смеётся, но даже — что у него редкость — предаётся прямым обличе-ниям, настолько ненавистен ему этот тип: «...вот стоит нарядившийся талантом. <... > Все его не понимают, все подставляют ему ножку, но, тем не менее, он всюду суёт свой нос, всюду нюхает, везде вертится, как чёрт перед заутреней. Его выносят, не гонят потому, что на безрыбье и рак рыба, и потому, что в России до конца дней можно быть «начинающим и подающим надежды».
И вновь это слово, уже в заглавии, и опять Чехов сперва насмехается, а потом обличает: в рассказе «Талант» (1886) художники, необразованные бездельники и пьяницы, живут бесплодными спорами об искусстве да мечтами о создании какой-то необыкновенной работы, приносящей славу и деньги, им «не приходит в голову, что время идёт, жизнь со дня на день близится к закату, хлеба чужого съедено много, а ещё ничего не сделано».
«...талант ставит тебя выше миллионов людей, ибо на земле один художник приходится только на 2000000... Талант ставит тебя в обособленное положение: будь ты жабой или тарантулом, то и тогда бы тебя уважали, ибо таланту всё прощается» (Н.П. Чехову, 1886).
Что Чехов зачаровал последующих писателей, несомненно. Никто не повлиял так на русских рассказчиков в XX веке, как он.
Но чем зачаровал, а кого-то просто и погубил Чехов?
Главным образом интонацией, мелодией текста. В повестях и рассказах 90-х годов у него возникает меланхолическая мелодия редкой, покоряющей силы. Особенно она наглядна в «Анне на шее» (1895).
Завораживающая сила интонации возникает в мерном летописном воспроизведении событий, словно бы утверждается: так было, так есть и так будет, и не надо особенно волноваться, возмущаться или надеяться. Особую роль играет наречие уже. Из малозаметного вспомогательного слова оно становится ведущим. Цитировать бесполезно — то есть не наглядно, так как рассказ короткий, а фраз со словом «уже» столько, что, подчёркнутое, оно пестрит страницы: на двенадцати страницах употреблено 25 раз!
Этим «уже» Чехов заразил Бунина. «Тёмные аллеи» пронизаны этим «уже».
Все «Тёмные аллеи» вышли из рассказа Чехова «Шампанское» (1887). Рассказ о мгновенной, как солнечный удар, любви, перевернувшей жизнь героя. Страсти безумной, которую герой-рассказчик и описывать полагает излишним, предлагая взамен строки романса «Очи чёрные». А вот «Шампанского» финал: «Всё полетело к чёрту верхним концом вниз. Помнится мне страшный, бешеный вихрь, который закружил меня, как пёрышко. Кружил он долго и стёр с лица земли и жену, и самую тётю, и мою силу. Из степного полустанка, как видите, он забросил меня на эту тёмную улицу.
Теперь скажите: что ещё недоброе может со мной случиться?»
Но одновременно с «Шампанским» он пишет и печатает вполне «будильниковскую» «Новогоднюю пытку», и трогательно-сентиментальный рассказ «Мороз», и социальный, публицистически очищенный от художества рассказ «Враги», и бессмертное «Беззащитное существо».
Бунин же выдавал один за другим, и всё в духе «Шампанского», о «страшном вихре» любви. Лишь звуки, цвета, ощущения, запахи женщин, птиц, ветров, трав, коньяков, купе, сёдел и т. д. — только этот наслушанный, нанюханный, натроганный жизненный опыт вносит Иван Алексеевич в открытое Чеховым об ужасе плотской любви и смерти.
Первая фраза повести «Три года»: «Было ещё темно, но кое- где в домах уже засветились огни и в конце улицы из-за казармы стала подниматься бледная луна» — стала считаться «узаконенной ошибкой» Чехова. Никакой ошибки нет: да, темно, но уже возник свет от огней и луны.
Рассказ «Заблудшие» (1885): подвыпившие приятели, заблудившись в дачном лесу, попадают вместо дачи в чужой курятник. А ведь вместе с ещё несколькими, тогда же написанными в июле 1885 этот пустяк — близкий родственник «Егеря» и «Злоумышленника».
В этих рассказах Чехов-Чехонте делает пробу: весь текст, всё действие от первой строки до последней дать в настоящем времени: подходит, останавливается, думает, говорит, слышит и т. д. Так писать очень трудно, и Чехову явно интересно справиться с задачей, что он блестяще исполняет. И в дальнейшем у него присутствовало трудное настоящее время для сказуемых («Панихида» и другие), однако здесь явный опыт, и, как положено опыту, требующий стопроцентной чистоты эксперимента: ни одного глагола в прошедшем времени.
«...водку, которую он выпил по привычке пить и жить зря...» («Неприятность», 1888).
То была одна из его назойливых тем: напрасной жизни. Он подходил к ней с другой и с третьей стороны, и везде прорезывались (порой очень похожие) слова о гибельности безволия, о пагубности привычки, безысходности того, что называют нормальным течением жизни. Сюда же едва ли не главным жупелом входила и принципиальная неестественность семейной жизни. Последнее, думаю, и привлекало особенно в Чехове Льва Толстого.
Слова назидания профессора Серебрякова: «Надо, господа, дело делать! Надо дело делать!» в контексте пьесы звучат пошлостью, но сам Чехов в разных формах, так же как Серебряков, порицал и назидал. Пожалуй, два человеческих изъяна особенно нетерпимо воспринимались им, что отразилось во многих сочинениях: бездарность и праздность. Они часто совпадают в персонажах, вроде художников из «Таланта», всё собирающихся нечто создать, прославиться, разбогатеть. Не только лень, но и транжирство, неуменье сохранить нажитое предками ненавистны писателю.
В «Драме на охоте» целая страница посвящена обличению графа, запустившего имение. А некто Панауров («Три года», 1895) «никогда не пил и не играл в карты и, несмотря на это, всё-таки прожил своё и женино состояние и наделал много долгов», точь-в-точь князь («Пустой случай», 1886): «В карты он не играл, не кутил, делом не занимался, никуда не совал своего носа и вечно молчал, но сумел каким-то образом растранжирить 30—40 тысяч, оставшиеся ему после отца». Словом, у Чехова это как бы общее место, едва ли не штамп.
Тогдашние новые русские тоже занимали его.
Есть у него, конечно, и традиционный купец-самодур: «Маска» (1884), «Дочь коммерции советника» (1883) и другие. Но купец он на то и купец, а у Чехова безобразничает в ресторане, бьёт посуду и заставляет ресторанного гитариста пить смесь водки, вина, коньяку, соли и перца фабрикант наиновейшей формации («Пьяные», 1887).
«Святая простота» (1885): старенький священник отец Савва не допускает, что рассказы приехавшего из Москвы сына, модного адвоката, могут быть правдой — как прокутил дом, как разводился с женой за десять тысяч, как заплатилв театре полный сбор и смотрел спектакль при пустом зале (случай, бывший со знаменитым Плевако).
Но чаще Чехов изображал богатых и, казалось бы, всемогущих людей как несчастных, страдающих, деликатных, вовсе не наслаждающихся властью денег, предающихся рефлексии, таких, как купец Лаптев («Три года», 1895), владелица фабрики Анна Акимовна («Бабье царство», 1894). Чехов увлекает читателя за собою в закрытый мир богатых, чтобы разочаровать. Или он сам сперва уже решил разочароваться и взял читателя в спутники. Как бы то ни было, в милых, кротких, рефлексирующих богачей его веришь меньше, чем в дурящих.
В повести «Моя жизнь» (1896) разлад героя-дворянина с укладом своего круга, закончившийся разрывом и опрощением его, выглядит подобием социального протеста. Есть и это, но молодой человек бежит не только и не столько от несправедливости, сколько от бездарности отца, городского архитектора. Едва ли не главное место отведено уличению отца в профессиональной никчёмности: «Что это за бездарный человек! К сожалению, он был у нас единственным архитектором, и за последние 15—20 лет, на моей памяти, в городе не было построено ни одного порядочного дома. <... > С течением времени в городе к бездарности отца пригляделись, она укоренилась и стала нашим стилем». И наконец, поразительное место. Герой приходит к отцу с намерением помириться. «Отец уже сидел за столом и чертил план дачи с готическими окнами и с толстою башнею, похожею на пожарную каланчу — нечто необыкновенно упрямое и бездарное. <... > .. .мне захотелось броситься к нему на шею... но вид дачи с готическими окнами и с толстою башней удержали меня».Что такое «избранный» Чехов? Может ли быть избранный Чехов? При очевидной неровности уровня, особенно ранних рассказов, усекновение Чехова до хрестоматии с непременными «Ванькой Жуковым», «Толстым и тонким», «Унтером Пришибеевым» и «Смертью чиновника» представляет какого-то иного, не вполне подлинного Чехова.
Конечно, можно сказать, что подобное происходит с избранным каждого классика, но почему-то представляется, что сборник избранных рассказов и повестей даже Льва Николаевича, скажем, «Казаки», «Смерть Ивана Ильича», «После бала», «Холстомер», «Фальшивый купон», «Хозяин и работник» менее обедняет его как рассказчика, чем любое избранное Чехова. Причину я, кажется, понял: за Толстым-рассказчиком встают романы, прежде всего «Война и мир», тогда как Чехов — весь в потоке рассказов и повестей.
Повести? Можно ли включить «В овраге» и «Палату № 6», но не дать «Мужиков» или «Мою жизнь» — или наоборот?
Чехов писал всю свою писательскую жизнь одну книгу, и сокращение её до избранного подобно печатанию выбранных глав из «Войны и мира», «Обломова» или «Идиота».
В «Новом времени» он дебютировал рассказом «Панихида» (1886). Как трогателен священник, как разлито религиозное чувство в этом рассказе! Вообще попы у Чехова чаще всего добрые люди, может быть, чересчур обыденные, но, во всяком случае, «не толстопузые».
1886 год — главный его год.
«Агафья», «Анюта», «Актёрская гибель», «Ванька», «Ведьма», «Гриша», «Детвора», «Житейская мелочь», «Иван Матвеич», «Лишние люди», «Муж», «Панихида», «Переполох»,«Произведение искусства», «Пустой случай», «Святой ночью», «Скука жизни», «Тина», «Тоска», «Тяжёлые люди», «Хористка», «Художество».
Всё менее потешного. Чехов мрачнеет. Чехов просветляется. Чехов оборачивает ещё недавно очевидное в таинственное и далёкое.
Среди немногого, что мне решительно не нравится у него, рассказ «В море» (1883), публикации которого к тому же довольно странны.
Это первый рассказ, подписанный именем и фамилией. Напомню, что имеет он подзаголовок «рассказ матроса» и содержит скабрёзную историю с моралью в конце. На пароходе была каюта для новобрачных, и матросы, по «жеребию», сквозь дырочку наблюдали за ними. «Жеребий» выпал рассказчику и его отцу. Они наблюдают ужасную сцену продажи новобрачной со всеобщего согласия её мужем, молодым пастором, богатому старику банкиру. «Старик- отец, этот пьяный, развратный человек, взял меня за руку и сказал:
— Выйдем отсюда! Ты не должен этого видеть! Ты ещё мальчик...».
Комментаторы ПСС верно отмечают «характерный оттенок «переводного» рассказа и, в известной степени, литературной пародии». Чехонте нередко имитировал-пародировал переводную литературу. Но — загадка первая: почему в этой пародии отсутствует и намёк на юмор? «В море» — удручающе серьёзен и от этого ещё более скабрёзен и безвкусен.
Загадка вторая: почему именно этот рассказ писатель впервые подписал не псевдонимом, а полным именем?
Загадка третья и главная. Спустя восемнадцать лет известный, почтенный, авторитетнейший Антон Павлович Чехов в ответ на просьбу И. А. Бунина дать что-нибудь издательству «Скорпион», даёт не что-нибудь, а сокращённый, как бы ещё более в сторону серьёзности, рассказ «В море»! Даже первый публикатор рассказа редактор журнала «Мирской толк» уже сетовал на сальность, бессодержательность и нерусскость его. Увидев затем себя в альманахе «Северные цветы» в компании «скорпионов, ужей и крокодилов», Чехов пенял Бунину: «...зачем Вы ввели меня в эту компанию, милый Иван Алексеевич?» Тогдашняя критика (первая публикация прошла незамеченной) почти единодушно поразилась и фамилии Чехова в декадентском окружении, и свойствам рассказа, воспринятом как погоня за Мопассаном.
В альманахе «Северные цветы» рассказ Чехова под названием «Ночью» расположен между драмой 3. Гиппиус «Святая кровь» и рассказом И. Бунина «Поздней ночью». Рассказ этот совершенно небунинский, вполне символистский, и даже Вечная Тишина и Вечная Ночь в нём присутствуют. Годы спустя Бунин вспоминал и укоры Чехова, и его насмешки над декадентами, которых следует отдать в арестантские роты. Но кто же его, а особенно Чехова, заставил выступить в декадентском альманахе? Иных причин, кроме любопытства к новому, к моде, я не могу разглядеть.
А ещё — четвёртая загадка! — он включил «В море» в марксовское Собрание сочинений, куда, между прочим, не вошли замечательные рассказы «Дипломат», «Невидимые миру слёзы», «На гвозде», «Размазня», «Раз в год», «Отставной раб», «Психопаты», «Святая простота», «Глупый француз», «В Париж!», «Скука жизни», «Ты и вы», «Зараза» и другие.
«В овраге» и «Мужики» давно повенчаны критикой. Толстой, как известно, столь же высоко ценил «В овраге», как отрицал «Мужиков». Вероятно, потому что «В овраге» — не мужики, не крестьяне, а мещане, торговцы, фабричные — развращённая, безукладная, падкая на дурное среда.
Управляющий — один из постоянных социальных типов у Чехова. Особой концентрации он достигает в Шамраеве («Чайка»). Наглый распорядитель чужого хозяйства, он просто в глаза отказывает своему патрону предоставить лошадей. «Всю мою пенсию у меня забирает управляющий, — жалуется Сорин,—и тратит на земледелие, скотоводство, пчеловодство, и деньги мои пропадают даром. Пчёлы дохнут, коровы дохнут, лошадей никогда не дают». По ночам воет привязанная управляющим собака, не давая спать хозяевам, они жалуются, но собака всё воет. Почему Сорин, действительный статский советник, штатский генерал, покорно сносит издевательства собственного служащего, отставного поручика, человека крайне невежественного? Одна из загадок Чехова, перед которыми встаёшь в недоумении. Нам, людям другого века, как бы невозможно заподозрить недостоверность классика. Меж тем Бунин, так любивший А. П., почти с издёвкой писал о «Вишнёвом саде», якобы вырубаемом кулаком Лопахиным. Могли указать на то, что Чехов недостоверен, любивший его Толстой или не любившая его Ахматова.
Насколько Антон Павлович был склонен к натяжкам, преувеличениям? Или — почему в его произведениях вдруг являются ситуации, сцены, слова, которые заставляют усомниться в их правдоподобии? Почему в пьесах его персонажи говорят друг другу в лицо вещи невозможные? Так, в «Иванове» окружающие, прежде всего князь Шабельский, грубо и плоско, а главное, безостановочно дразнят Сарру еврейским происхождением, а она словно бы и не замечает? Почему в «Чайке» в ссоре Аркадина и Треплев, мать с сыном, обзываются — не как кухарки, не как извозчики, хуже — как люди, которым далее терять нечего, но затем, как ни в чём не бывало, продолжают прежние отношения?
Когда невозможные вещи говорят в лицо герои Достоевского, не возникает подобного вопроса, настолько законы его мира определяют и даже не просто объясняют, а подготавливают самые невозможные речи и поступки. В театре же Чехова (иногда и в прозе) скучноватые, воспитанные в приличии, холоднокровные господа вдруг высказываются с той степенью распашки сокровенного, которая необъяснима.
Один из двух первых опубликованных текстов Чехова (журн. «Стрекоза», 9 марта 1880 г.) — это перечень литературных штампов «Что чаще всего встречается в романах, повестях и т. п.?». Среди прочих, там имеется «немец-управляющий».
Отметил, посмеялся и — вывел на своих страницах управляющего-поляка, вора, наглеца и негодяя. Появляется впервые в жестоком рассказе «Барыня» (1882), предвосхищающем повесть «Мужики».
«Говорил ведь я, что никогда не следует церемониться с этим народом! — заговорил Ржевецкий, отчеканивая каждый слог и стараясь не делать ударения на предпоследнем слоге». Вслед за ним является «поляк Кржевецкий, господский приказчик» («Он понял!», 1883). В рассказе же «Пустой случай» (1886) — «Гронтовский, главный конторщик при экономии госпожи Кадуриной». Тот же самодовольный тип, поданный лишь сдержанней. Ну и конечно, Каэтан Казимирович Пшехоцкий («Драма на охоте»), хоть и не управляющий, а как бы сотоварищ графа Карнеева, шантажирующий и обворовывающий его. Чехов-Чехонте не пожалел красок для создания типа отвратительного и нравственно, и физически.
Поляк-управляющий есть, к примеру, и у Тургенева («Степной король Лир»), поданный, однако, без злобы. Чехов же, подобно Достоевскому, не весьма любезен к инородцам. Много обронено неприятного о немцах: «Кассир Штамм, немец, выдававший себя за англичанина» («Месть», 1882); дурная жена — Каролина Карловна («За двумя зайцами», 1880); «...слезливая, пучеглазая, толстая, крупитчатая сдобная немка. Похожа на куль с мукою» («Темпераменты», 1881); проститутка Луиза «высока, толста, потна и неповоротлива, как улитка... руки её велики, красны и мозолисты»; зарабатывает в холодной России себе на приданое, в фатерлянде её терпеливо ожидает Франц («Салон де Варьете», 1881); «меня пять лет тому назад фон Кляузен погубил...» («Пережитое», 1882) и т. п.
Для Чехова, особенно в ранний период, характерно соотнесение национальных характеров в противопоставлении беглого набора черт, вроде: «русский произошёл от сороки, еврей от лисицы, англичанин от замороженной рыбы» («Съезд естествоиспытателей в Филадельфии», 1883). Чехонте присущ определённый, хотя, как правило, и иронический, национализм. Разумеется, у него пруд пруди русских мошенников, идиотов и хамов, и всё-таки, когда Чехонте хочет мимоходом пнуть, очень часто это иностранец или инородец. Думаю, во многом сказался дух прессы, в которой сотрудничал начинающий писатель.
Юмористическое сопоставление-противопоставление национальных характеров — в его рассказах «Дочь Альбиона» (1883), «Признательный немец» (1883), «Русский уголь» (1884), «На чужбине» (1885), «Нервы» (1885), «Глупый француз» (1886), «Добрый немец», «Обыватели», «Неприятная история» (все —1887).
«Обыватели» — злой рассказ. Иван Казимирович Ляшкевский, «поручик из поляков, раненный когда-то в голову и теперь живущий пенсией в одном из южных городов, сидит в своей квартире у настежь открытого окна и беседует с зашедшим к нему на минутку городовым архитектором Францем Степанычем Финке». Содержание их беседы — ничтожество русской нации. Экспансивный поляк неистовствует: русские, по его мнению, «дармоеды, тунеядцы, скоты, мошенники» «отхлестал бы его, каналью, плетью», «взять бы хорошую плётку» и т. д. Меланхолический немец рассуждает о русской лени и инертности: «если бы всё это добро отдать немцам и полякам...». Комизм же ситуации в том, что собеседники — законченные лодыри и, осуждая русских за безделье, весь день лишь чешут языками.
«Глупый француз», напротив, рассказ смешной и добродушный. Клоун из французского цирка, зайдя в трактир, с ужасом наблюдает, сколько поедает его сосед. Он даже вообразил, что таким диким способом тот решил покончить с жизнью. Он наконец не выдерживает и пытается остановить обжору, на что слышит резонное: «да ведь не вам платить!», и вообще, тот, оказывается, лишь закусывает и боится опоздать на юбилейный обед. А главное:
«— И вовсе я не много ем! Поглядите, ем, как все!
Пуркуа поглядел вокруг себя и ужаснулся. Половые, толкаясь и налетая друг на друга, носили целые горы блинов... За столами сидели люди и поедали горы блинов, сёмгу, икру... с таким же аппетитом и бесстрашием, как и благообразный господин.
“А, страна чудес! — думал Пуркуа, выходя из ресторана. — Не только климат, но даже желудки делают у них чудеса!”»
Или «добрый немец», нежно признающийся извозчику в любви к России: «Мой отец немец, а я русский человек... Я желаю драться с Германией»; по ошибке решив, что жена ему неверна, переменяет оценки: «О, зачем я женился на русском человеке? Русский нехороший человек! Варвар, мужик! Я желаю драться с Россией...».
Ежедневное глумление помещика Камышева над застрявшим у него в доме на правах приживалы старым французиком («На чужбине») свидетельствует как бы против Камышева. Злословя по поводу пороков французской нации («французу что ни подай — всё съест: и лягушку, и крысу, и тараканов... брр!... подай вам жареное стекло и скажи, что оно французское, вы станете есть и причмокивать»), Камышев превозносит всё русское: «Русский ум — изобретательный ум! Только, конечно, ходу ему не дают, да и хвастать он не умеет... Изобретёт что-нибудь и поломает или же детишкам отдаст поиграть, а ваш француз изобретёт какую-нибудь чепуху и на весь свет кричит. Намедни кучер Иона сделал из дерева человека: дёрнешь этого человечка за ниточку, а он и сделает непристойность. Однако же Иона не хвастает».
И тут же Камышев принимается обличать французов за безнравственность.
Как бы очевидная карикатура на позднего квасного патриота. Но женственный, изящный, кроткий француз отчего-то не вызывает симпатии. Вот он наконец обиделся и собирается покинуть дом помещика: «О, будь проклят тот час, когда мне пришла в голову пагубная мысль оставить отечество». А стоит Камышеву сказать «Чудак какой, шуток не понимает», Шампунь аж взвизгивает от восторга и уже вполне по-собачьи ластится к хозяину, почитая себя при этом человеком с достоинством; на резон Камышева брать пример с «Лазаря Исакича, арендатора», который на выходки его не обижается, француз заявляет: «Но то ведь раб!».
Вот где, по-моему, объяснение основного национального пункта у Чехова: несоответствие реального и воображаемого места в действительности именно в связи с национальным самочувствием персонажа.
Пьют, закусывают, едят и объедаются персонажи Антон Палыча много, часто, по-русски. Рассказ «Сирена» (1887) в этом смысле квинтэссенция, поэма, восторг человека перед жратвой. Все его помнят, кто хоть раз читал. Аппетит голодных судей, который подогревается бормотанием секретаря Жилкина о прелестях еды и закуски, приобретает прямо-таки эпический размах. Жилкин помимо всех слюнотекущих описаний допускает совершенно немыслимое уподобление, которое, тем не менее, в этом упоении аппетитом оказывается уместным: «Я раз дорогою закрыл глаза и вообразил себе поросёночка с хреном, так со мной от аппетита истерика сделалась. Едешь этак, и кажется, что в желудке словно невинный младенчик сидит и о чём-то жалобно плачет...». В «Сирене» же содержится первообраз знаменитой у современного читателя застольной филиппики профессора Преображенского в «Собачьем сердце» о вреде чтения газет для аппетита. У Чехова: «Ежели, положим, вы едете с охоты домой и желаете с аппетитом пообедать, то никогда не нужно думать об умном; умное да учёное всегда аппетит отшибает».
Перечень того, чем лучше закусывать, продолжился в создававшейся одновременно с «Сиреной» драме «Иванов». В. В. Похлёбкин в книге «Кушать подано!» (М., 1993) находит ошибки в сцене из этой пьесы, с которыми я позволю себе не согласиться. Граф Шабельский требует изжарить пирожок на закуску. «Закусывают только печёными пирожками», — возражает Похлёбкин. Но почему, кто и где так определил? Я вот и жареными, подобно графу Шабельскому, закусываю. Пескари, изжаренные «досуха» — ещё одна якобы ошибка Чехова, даже две: нельзя, по мнению учёного кулинара, именовать пескарями всякую рыбью мелочь, ибо пескарей не едят. Почему? И изжарить досуха невозможно ничего, «досуха можно только высушить». Ну что тут скажешь, не знаю, где рос Похлёбкин, но слово не всегда слышит. И наконец, «как известно, закуски под водку могут быть только холодными». Почему — нет ответа.
«Николай Андреевич Капитонов, нотариус, пообедал, выкурил сигару и отправился к себе в спальную отдыхать. Он лёг, укрылся от комаров кисеёй и закрыл глаза, но уснуть не сумел. Лук, съеденный им вместе с окрошкой, поднял в нём такую изжогу, что о сне и думать нельзя было. Не надо в другой раз лук в окрошку класть, а то околеешь от этой изжоги» (Чехов. От нечего делать).
Или скверная кухарка была у нотариуса, или великий писатель не всегда в ладу с русской гастрономией, что, впрочем, отмечает и В. В. Похлёбкин.
Окрошку без зелёного лука приготовить нельзя, но изжогу в правильно приготовленной окрошке лук никогда не даст. Потому что его следует не бросать живьём, просто порезанным, но очень долго, до посинения и лука и того, кто готовит окрошку, растирать вместе с солью, пока не образуется от огромного пука лука, небольшое количество пенистой сопливой кашки. Вообще приготовление окрошки требует любви к ней, большого терпения и тщательности.
В последние же годы докатились до того, что заправляют окрошку колбасой!
А ещё из классической литературы мы можем узнать, что для этого употреблялся сухой белужий бок или вяленый судак, но в любом случае сушёная речная рыба. И сейчас, не оскорбляя себя и окрошку колбасою, следует купить воблы, желательно настоящей астраханской, что и пожирнее, но вместе с тем посуше, пожёстче, изрезать её узкими ломтиками, и замочить в небольшом количестве кваса хотя бы на часик. Квас, разумеется, лучше готовить самому. Ещё секрет правильной окрошки в том, что, отделив в сваренных яйцах желток от белков, белки следует мелко покрошить, а желтки долго растирать с горчицей в фарфоровой посуде, постепенно её подбавляя.
А ещё ни в коем случае не следует пренебрегать редисом, каковой нужно натирать на тёрке, пересыпать солью, отчего он даёт обильный шипучий сок.
А ещё не следует класть в окрошку ни свёклы, ни моркови. (Холодный свекольник — отдельное самоценное чудо.) А вот свежие огурцы обязательно, причём или мелко резать, или даже на крупную тёрку.
И — последнее! Никогда не следует делать окрошку только на одном квасе, но непременно смешав его примерно в пропорции три к двум с кефиром! Ну и петрушкой посыпать, конечно, укропчиком.
А перед самою подачею, уже в налитую тарелку подложить ложку-другую тёртого хренку со сметаною и побросать льда. Эх!
По душе мне скрупулёзность, с которою в книге «Кушать подано!» высчитывается количество выпитого на сцене персонажами Чехова, Островского, Сухово-Кобылина и других. Чехов в этом вопросе заслужил похвалу строгого специалиста: «В “водочной” части прослеживается знакомство Чехова с разработкой этой традиционной для русской драматургии части кулинарного антуража у его предшественников. Тут и наличие других (сопутствующих) алкогольных напитков, и традиционное русское указание на количество выпитого (по восьми рюмок на брата, то есть 488 мл — почти по поллитра на каждого, следовательно, Боркин со следователем распили штоф). В третьем действии также даются количественные показатели попойки, но они скромнее: графин водки, то есть штоф (1,2 л) на троих (Боркин, Шабельский, Лебедев), — по 400 мл на брата. Это говорит о том, что Чехов хорошо знает современные ему «нормы» и строго выдерживает их, не разрывая с господствующим в русской драматургии направлением и тем более не возбуждая отступлением от этих «норм» недовольства воспитанной на их знании театральной публики. В этом вопросе, где публика считает себя «компетентной», Чехов старается быть точным».
Боже, как славно, как верно! Душа отдыхает на подобных, увы, редких в современной литературе, наблюдениях.
...По поводу сцены выпивки в «Иванове» позволю себе личное воспоминание.
Был в Саратове на гастролях «Ленкома». Гвоздь сезона — «Иванов» с несравненным Ивановым-Леоновым и пронзительной Инной Чуриковой в роли Сарры.
Третье действие начинается разбираемой Похлёбкиным сценой выпивки в кабинете Иванова в его отсутствие. Собутыльники сравнивают достоинства закусок под водку: огурец, грибы, пескарь...
«Лебедев. Водку тоже хорошо икрой закусывать. Только как? С умом надо... Взять икры паюсной четвёрку, две луковички зелёного лучку, прованского масла, смешать всё это и, знаешь, эдак... поверх всего лимончиком... Смерть! От одного аромата угоришь...»
Слушаю я это и вдруг соображаю, что у меня дома имеются все компоненты лебедевского рецепта, в том числе и редкая паюсная икра: позавчера вернулся из Астрахани.
Конечно, я с волнением души и острым эстетическим наслаждением досмотрел спектакль и со всем залом долго стоя аплодировал, но вдобавок согревала мысль о том, что дома, в холодильнике, имеется. И, воротившись домой, я немедля изготовил закуску по-лебедевски и ответственно заявляю: одна из лучших закусок под водку, что мне доводилось пробовать. Вровень лишь солёные вятские рыжики. Но и здесь Чехов успел! В первом варианте рассказа «Талант» (1886) читаем:
«— А вот погляди-ка, каких я рыжиков тебе привёз! — говорит пейзажист, подавая коллеге банку с грибами. — Чудо! Не грибы, а пьянство, лакомство и объедение! <... >
Вдова Жилкина, пронюхавшая, что гость привёз с собой рыжиков, вползает в комнату художника и присоединяется к пьющим».
«Нашему брату скидка — мертвец, и тот выпьет» («Критик», 1887), «На этом свете я всё испытал, даже уху из золотых рыбок два раза ел...» («Иванов», ранняя редакция), «Пьянство отлично освежает» («Актёрская гибель»).
Порою Чехов демонстрирует помимо внешнего, антуражного, знание предмета изнутри: «Завтракали мы до семи часов вечера, когда с нашего стола сняли посуду и подали нам обед. Молодые пьяницы знают, как коротать длинные антракты. Мы всё время пили и ели по маленькому кусочку, чем поддерживали аппетит, который пропал бы у нас, если бы мы совсем бросили есть» («Драма на охоте»).
Случаются, куда реже, и противоалкогольные пассажи. «Вино и табак обезличивают. После сигары или рюмки водки вы уже не Пётр Николаевич, а Пётр Николаевич плюс ещё кто-то; у вас расплывается ваше я, и вы уже относитесь к самому себе, как к третьему лицу — он», — говорит Дорн Сорину в «Чайке».
В целом еда-питьё в гурманском или разгульном освещении более характерны для ранних произведений его, к последним годам почти исчезают.Чуть не единственный русский классик, как по маслу шедший с 17-го во все последующие годы — Чехов. Цензуре находилась работа в сочинениях Пушкина, Гоголя, Достоевского, Толстого, Горького. Целые произведения оказывались неугодны, невозможны или подвергались тщательному перетолкованию. Не говоря уж о дневниках и письмах. Чехов же — близкий по времени и потому потенциально, казалось бы, более огнеопасный — был постоянно угоден. И в наши дни восстановлений и допечаток, кроме торжественно преподносимых «патриотической» прессой антиеврейских выпадов, у Чехова восстанавливать нечего.
Вероятно, при любом режиме Чехов будет находиться вне интересов господствующей идеологии.
...Только что пришёл 10-й номер «Нового мира». А.И. Солженицын написал о Чехове. Кое-что вызывает несогласие, скажем, сетование на отсутствие у Чехова «корневых» русских слов. Бог мой, каких и к чему они Чехову? Корневых слов у администратора Шишкова больше, чем у Пушкина, а у Панфёрова больше, чем у Булгакова... А более всего меня удивило название «Окунаясь в Чехова». Окунаясь... так зрим здесь буквальный образ «купания», что невольно представляешь, как один бородатый писатель окунается в другого...
Но примечательно, что Александр Исаевич пишет об Антоне Павловиче как о современнике, о сочинениях его — как о едва пришедших к читателю. Почти одновременно открыт памятник в Камергерском. Есть во всём этом наша общность, некое национальное родство: Чехов и мы.
В РУССКОМ ЖАНРЕ - 13
Утром в школе Лёнька Назаров, умирая от смеха, рассказывал, что вчера по телевизору видел кино, где парень с бабой душат её мужа, а он вырывается и поёт: «Сволочи! Сволочи!».
Спустя годы, вспомнив, я понял, что то была киноопера «Катерина Измайлова».
А Лёньки уже нет на свете.
«А разве военная служба — это наказание? Военная служба — это презерватив» (Лесков Н. С. Смех и горе).
«Если бы Достоевский родился во Франции, был бы всего-навсего Золя», — это пришло в голову моему приятелю, доктору, у пивного ларька на углу улиц Новоузенской и Красной, году эдак в девяностом. Шёл мелкий, как пыль, дождик, приятель вышел из больницы попить со мною пива, и длинный белый халат его выглядывал из-под плаща.
В отличие от Достоевского, который не желал хитрить, Толстой обходил то, что ему не давалось.
Весёлый человек Стива Облонский «что-то такое сказал раскрашенной... француженке» за буфетной стойкой, что «даже эта француженка искренне засмеялась». Что именно он сказал, не сообщается, думаю потому, что Лев Николаевич не знал, что умеют сказать люди, подобные Стиве подобным женщинам, не мог выдумать и пропустил. Он куда более узнанным, чем выдуманным, заполнял сочиняемое. У брата в гостинице: «из двери 12-го нумера выходил густой дым дурного и слабого табаку». Только курильщик, притом состоятельный курильщик, мог такое унюхать.
Где-то у другого Толстого, советского, в «Заволжье» говорится, что тётушка курила крепкий, не вредный для здоровья табак.
Между прочим, вот он-то, Алексей Николаевич, мог услышать Стиву у буфетной стойки.
Достоевский не любил евреев — это чересчур известно, но если внимательно сопоставить его евреев и поляков, то совершенно очевидно, что нелюбовь к евреям политическая, умозрительная, к полякам же натурально-бытовая.
А поляки не любят евреев.
Что ж, мы не любим тех, кого обидели, а не тех, кто нас обидел, истина старая. Никакой ненависти к немцам я не встречал ни в Польше, ни в России.
«...похищение Европы — доказательство власти красоты хоть из кого сделать скотину» (Тит Космократов. Уединённый домик на Васильевском).
В юношеском чтении циничный пожилой взгляд вдруг увидит совсем не то, что прежде. Так я открыл, что Шерлок Холмс не только наркоман, но и очевидный суперагент «Интеллидженс Сервис». Сразу делаются понятными его независимость, его насмешливая власть над «ищейками» Скотленд-Ярда. Итак, мистер Холмс родня Джеймсу Бонду и штандартенфюреру Штирлицу. Поздравляю!
***«Его отец был так богат, что утонул на “Титанике”...» Удивительно, но цитата не из английского писателя, а из американского: Дж. О’Хара «Свидание в Самарре».
В сущности, содержание и тональность «Тёмных аллей» можно свести к содержанию и тональности кабацкой песни «Москва златоглавая».
Постоянная бунинская жалоба: почему критика и читатели полагают, будто я списываю из жизни, тогда как я выдумываю! Затянул он её ещё в России, продолжал и во Франции до самой старости, написав не только «Происхождение моих рассказов», но и сомнительного вкуса автоинтервью, где разубеждает некую графиню, узнавшую себя в Натали.
Почему его это так волновало? То есть, конечно, понятно, что долботня о верности натуре раздражала; его, поэта, бесило, что таким образом он попадает в разряд Короленко и Златовратского. И всё же сосредоточенность именно на этом столь велика, даже неестественна, что напрашивается дополнительное объяснение: здесь он искал ключ к сокрушавшей его десятилетиями несправедливости — почему Горький или Андреев стали властителями дум, а он нет. Потому что тупая публика и зашоренная критика снисходительно принимали его потрясающее пластическое мастерство за верность натуре, тогда как неряшливые фантазии Андреева заставляли содрогаться публику и напрягаться критику.
«...излишество и обычная низость этого благополучия вызывали во мне ненависть—даже всякая средняя гостиная с неизбежной лампой на высокой подставке под громадным рогатым абажуром из красного шёлка выводила меня из себя».
И — булгаковские кремовые шторы... Пусть про них твердит бездомный Лариосик в страшном году, а эта запись Бунина из набросков к «Жизни Арсеньева» относится к молодому человеку мирного времени, пусть, всё равно здесь межа. Бунин никогда не мог бы обуржуазиться, равно как и Набоков. Поколение? Происхождение? Всё не то. Ряд Бунина и Набокова можно продолжить Мандельштамом, Есениным, Ахматовой, тогда как рядом с Булгаковым естественно разместятся и Горький, и Леонид Андреев, и Катаев, и Пильняк.
По радио процитировали К. Паустовского: «У любви множество аспектов». Прочитав в своё время достаточно этого писателя, не любя его и потому давно в него не заглядывая, решил всё же посмотреть: может быть, аспекты — это исключение в языке писателя, которым так давно и так устойчиво многие восхищаются...
Искать пришлось недолго, и не по каким-то случайным или «вынужденным обстоятельствами» газетным публикациям.
«Лидия Николаевна щёлкнула выключателем. Вспыхнула люстра, и я невольно вскрикнул: комнаты были увешаны великолепными холстами, написанными смело и ярко, как то и подобает большому, хотя и неизвестному мастеру» (1960).
«Есть вещи, которые не оценить ни рублями, ни миллиардами рублей. Неужели так трудно понять там, в Петербурге, этим многомудрым государственным мужам, что могущество страны — не в одном материальном богатстве, но и в душе народа! Чем шире, чем свободнее эта душа, тем большего величия и силы достигает государство!» (1949) — перед нами мысли Петра Ильича Чайковского.
Из любой книги, включая пресловутую «Золотую розу» о писательском мастерстве, этого признанного мастера слова, страницами можно набирать и канцелярщину, и в ещё большем объёме сладко-напевную литературную пошлость (см., к примеру, описание крестьянской избы в «Разливах рек» — точь-в-точь те клише, за которые Куприна корил Бунин) и в конечном итоге с изумлением понять, что Паустовский вовсе не обладал тем языком русского писателя, который есть как бы непременное условие существования в литературе в таковом статусе. В случае с признанием, а в известный период и славой К. Г. Паустовского, мы имеем дело с феноменом сошедшегося воедино обаяния личности и привлекательности общественного поведения с потрафлением неразборчивому читателю эстетикой «мыльной оперы». Так создавался миф о выдающемся мастере. В советские времена нашей критикой, а критика у нас почти вся московская, стало быть, нашей московской критикой, человеческая привлекательность, политическая чистоплотность, гражданская смелость сочинителя нередко переносились на его сочинения. Во многом лучезарный образ Паустовского был создан именно прогрессивного направления критикой. Верю, что Паустовский был приятным человеком, добрым, интеллигентным. А Лермонтов был малоприятным человеком. И Лесков, и Некрасов... чуть ли не вся русская классическая литература создана малоприятными людьми. Приглашайте в гости приятного человека, дружите с ним, пейте чай, женитесь на нём или выдавайте за него дочь, но не проецируйте свои лаврушинско-аэропортовско-переделкинские чувства на литературные мнения и репутации.
И не то чтобы разные функциональные стили, как например, язык статей Лескова совершенно непохож на язык «Левши» или язык трактата «В чём моя вера» весьма отличен от языка «Хаджи-Мурата», а просто языковая несамостоятельность, желание понравиться читателю самыми доступными средствами.
Таков не только Паустовский, но и те, кого можно назвать его учениками: Ю. Нагибин, Ю. Бондарев, Д. Гранин и многие другие так называемые мастера прозы. А скажем, Ю. Трифонов, про достоинства языка которого, кажется, не приходилось читать, напротив, самобытен в слове.
«В С-кую епархию
Мы хлопотали 2 года и нам прислали на смех священника Комарова Сергея. Мы очень обрадовались. Колхоз ему построил большой дом, приехал священник в ноябре, зиму у него в доме молились, а с Пасхи убрали половина церкви службу вели Пасху в церкви на праздник Крещенья старики по реке Медведице сделали Ердань. Много молились много денег дали для восстановления церкви и с этого дня наш священник и задурил деньги прикарманил купил себе машину УАЗ и пьёт без просыпу и матом кроет и у него есть кинжал бегал грозил всем кинжалом даже на наряд в Управление забегал всем грозил и в настоящее время на машине ездит в район каждый день в ресторан а церковь восстановить и не думает давали и железо и тёсу ему этого не надо а себе и постановку купил и телефон заграничный и часы за 700 р на руке и вообще себя считает каким-то пьяным царём а мы верующие когда привезли его мы очень были рады всю зиму его кормили и обувь валенки давали хотели поближе к богу встать зачем на нас так насмешку сделали такого священника прислали мы всё таки крестьяне и из нас ещё не вышло всё божее и так наша церковь стоит нет крыше и окон а священник продолжает пить вино.
август 91 г.»
А ещё в том августе был ГКЧП. А у Зощенко есть рассказ «Живые люди» (1938), напечатанный в «Крокодиле» и направленный против попов, которые «включились в активное движение по завербовке населения в лоно религии»; верующие там жалуются в область на своего попа, который, не имея дома, жил в церкви и там «себе пёк, варил, кипятил и жарил» и даже водил вдову.
Чуть раньше в том же «Крокодиле» Зощенко напечатал смешной рассказ «Шумел камыш» про пьяного попа на похоронах.
«Лучше умереть под красным знаменем, чем под забором» (Владимир Маяковский. Баня).
Зимой 1916 года Клюев и Есенин подают в комиссию для пособия нуждающимся учёным, литераторам и публицистам при Императорской Академии наук прошение: «...мы живём крестьянским трудом, который безнадёжен и, отнимая много времени, не даёт нам возможности учиться и складывать стихи. Чтобы хоть некоторое время посвящать писательству не во вред и тяготу нашему хозяйству и нашим старикам родителям, единственными кормильцами которых также являемся мы, нам необходима денежная помощь в размере трёхсот рублей на каждого». Дали Клюеву сорок, а Есенину двадцать рублей.
В 1913, 1914 годах Есенин вовсе не был в Константинове, в 1915-м провёл лето, в 1916-м — менее двух недель, в 1917 году — менее двух месяцев.
29 мая 1946 года Постановлением Совета министров СССР Татьяне Фёдоровне Есениной пожизненно дали право на получение части гонорара за издание и исполнение произведений сына её Сергея Александровича Есенина.
Интересный был годик. Все помнят постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград». Были ещё постановления о Сталинских премиях, их не присуждали с 43-го года. Был утверждён 4-й пятилетний план, и Совнарком преобразован в Совмин. Прошла Первая сессия ООН. Возобновилось издание книг серии «Жизнь замечательных людей», и вообще в чести была литература о великих русских людях. А также полотна, кино и наука.
Журнал «Крокодил» 1946 года. Первое упоминание «Звезды»: «Ягдфельд кривляется...». Тут же отрывки из водевиля Валентина Катаева: новоиспечённый лауреат Сталинской премии (за «Сына полка») чуть ли не в каждом номере: убогие стихотворные фельетоны, из «депутатской почты», какие-то заметочки... От номера к номеру всё больше антиамериканских материалов. Почти в каждом — патриотические путевые заметки о том, как у них всё плохо на Западе: Эренбург про Америку, Кассиль и Михалков про Англию, Юткевич про Канны, академик Б. Збарский сообщает, что в Париже голодно и холодно, нет сигарет и кофе. Из внутренней жизни особое внимание почему-то театрам и поэзии. Главные обличители борются с упадничеством и пессимизмом: «Лишь Пастернак опять вне строя / Кричит из фортки детворе...» (Лебедев-Кумач), «В стихах тут и там появлялись нежданно / Туманы с болота Ахматовой Анны» (Иван Молчанов).
В сущности, то, что поведал Катаев о Королевиче, можно было написать и не водясь с Есениным: выжимки из воспоминаний, черты поэта, хорошо известные, ну и колорит нэпа. Даже сцена похорон вся чёрно-белая, из кинохроники. Не таков ли и весь «Алмазный мой венец»?
«...негодяев — Катаев» сказано поэтом более для точной рифмы, точного определения. И хотя вроде бы всем ясно, что Чичибабин имел в виду, слово не то. Кто будет утверждать, что даже в самом первом ряду русской литературы все были в личном плане людьми порядочными? Если Катаева что и отличало, так это особый цинизм. А. Толстой даже и в «Хлебе» в частностях пытался быть художником, а Леонов и славословия Сталину плёл на том же ткацком станке, что и романы, Катаев же выдавал любые строки: какие угодно, куда угодно и когда угодно.
А кому угодно — это понятно, он, как персонаж Зощенко, мог о себе заявить: «Я всегда симпатизировал центральным убеждениям».
Советские писатели, начиная с середины 30-х годов, напоминали выпущенных в заезд жокеев: несясь кучей, они то и дело упускают то одного, то другого вперёд. Катаев же особенно был неудержимо-оголтел в стремлении не отстать, попасть в яблочко, ухватить ЦК за бороду. И если кто-то с возрастом утихомиривался, то он — никогда. Уже стариком на двух страницах отклика на визит Хрущёва в Америку он ухитрился шесть раз процитировать Никиту Сергеевича.
Почему возник тандем Толстой — Катаев? Скорее всего, из-за особой их бытовой благоустроенности и естественного, а не насильственного конца. Пильняк был не меньший, чем они, дока по части благоустройства, но погиб. Всё-таки в Чичибабине говорило внутрисовписовское чувство. Что же, если переводить на примеры с трагическим концом, то Киршон должен быть не негодяем, а собратом Мандельштама?
Ещё Катаев. Вариация на тему Липкина.
Одновременно появились статьи С. Липкина в «Знамени» и О. и В. Новиковых в «Новом мире» к столетию Катаева с единым античичибабинским пафосом: «пора выставить ведущим писателям уходящего века раздельные оценки за творчество и за политическое поведение» (Новиковы), «И Алексей Толстой, и Валентин Катаев — крупные таланты, они останутся в великой русской литературе, и вполне возможно, что в будущих академических изданиях их сочинений, в примечаниях, будет упомянуто имя автора этого четверостишия» (С. Липкин).
Катаев Липкину говорит: «Меня Союз писателей ненавидит, — все эти напыщенные Федины, угрюмо-беспомощные Леоновы...». Но сам-то Валентин Петрович, он — ПЕН-клуб, что ли? Он, многолетний секретарь Союза, охочий всегда до любой должности?
И всё же он прав, что власть, ценившая и награждавшая его, полностью за своего не держала. Одесская эстетика Катаева изначально несла разрушение того, что утверждалось в стране. Катаев в этом смысле ничем не отличается от других одесситов. Доживи Бабель, Багрицкий, Ильф и Петров до 50—60—70-х годов, они оказались бы в таком же отчуждении, несмотря на всю свою революционность. Дожили Олеша и Славин, но первый не писал вовсе, второй же сочинял что-то крайне бесцветное про Белинского без малейшего одесского акцента.
Антисемитизм? Не совсем. Антиодессизм советского руководства — это отрицание чужого, не нашего, не родимого. Пусть понятного и смешного, но в глубине враждебного и пугающего. Такие подойдут и осмеют. Не осмелятся? Сейчас не осмеливаются, потому что на всю жизнь напуганы, в верности клянутся, польку-бабочку перед барским столом пляшут... Сколько волка ни корми...
А Леонов, вовсе непонятный, непрочитываемый, угрюмый, — свой. Но — вумный. Но ещё с Усатого было ясно, что — за нас. Не за коммунизм дурацкий, кулаком был, кулаком и остался, как мы сами, а за Россию, за порядок, чтоб всяк сверчок... Серьёзный человек, заслуженный. Надо ему ещё орден дать.
А в 1927 году Катаев с Леоновым с жёнами путешествовали по Европе в гости к Алексей Максимычу в Сорренто...
Но однажды Валентин Петрович покаялся. Когда в «Святом колодце» литературная Москва радостно угадала прототип «гибрида человеко-дятла с костяным носом стерляди, клоунскими глазами», блатмейстера, проходимца и подхалима, менее, думаю, было обращено внимание на муки автора: это «тягостный спутник... моя болезнь... двойник». Вглядываясь в долгий путь старого литературного грешника, понимаешь, что это покаяние дорогого стоит.
Эволюция Константина Федина произошла, как ни странно, за границей, где он лечился в 1931—1932 годах. Всерьёз лечился, болезнь была не уловкой. Пусть прежде он, воротившись после четырёхлетнего пребывания в Германии в первую войну, и редактировал красноармейскую газету и даже вступал в партию, всё же до поры оставался либеральствующим братом-серапионом, осторожным и не более чем лояльным. Федин тридцатых годов — это уже Федин и всех последующих лет.
Презираемый всеми Федин: либералами за предательство, патриотами за западничество, верхами за отсутствие лихости, читателями за скучность.
Думаю, два его сочинения останутся: повесть «Трансвааль» и книга «Горький среди нас», но сейчас не буду уж сходить с линии катаев-негодяев. На пресловутую осторожность Федина можно взглянуть иначе, если сравнить его жизнь с жизнью современников, в том числе и серапионов. Константин Александрович всегда полагался только на себя. Он не кутил в двадцатые годы с чекистами, не имел с ними общих литературных дам. Не влезал ни в какую высокопоставленную родню. Не бросил свою Дору Александер, не женился подобно Леонову на дочери издателя Сабашникова или подобно Кассилю и Михалкову — соответственно Собинова и Кончаловского. Не дружил домами с высокопоставленными чиновниками, а сберегал старую дружбу с единственным «Ваней», Соколовым-Микитовым.
Словом, кроме осторожности, продиктованной чувством самосохранения, была ещё и определённая чистоплотность.
Удалым парнем, конечно, не был и таковым завидовал. Вот как ябедничает Горькому на юного Леонова, у которого выходит книга за книгой: «Он — зять Сабашникова, и... — поэтому — все его книжечки роскошно изданы».
Кинофильм «Ночной патруль» (1957) — услада нашего детства. Медвежатник Огонёк в берете, погони, мудрый милицейский комиссар, а сейчас, увидев по ТВ, обратил внимание на три фамилии: Лев Шейнин — автор сценария, Татьяна Окуневская и Зоя Фёдорова в ролях уголовниц. То есть по сценарию того, кто сажал, те, кого сажали, должны были ещё и изображать преступниц!
Ужас вызывают кадры кинофильма Э. Рязанова «Дайте жалобную книгу», где рушится якобы устаревший интерьер кабака с плюшевыми шторами, тяжёлыми стульями, певицей с романсом, заменяясь на живодрыжные треугольные пластмассовые столики, и похожие на вянущие на ветке под окном многоэтажки презервативы потолочные светильники, и песенки под молодёжный оркестрик. Нам пришлось начинать именно за такими столиками, именно под такими лампами, именно под такой оркестрик.
Только непьющий человек может усомниться в самоубийстве Сергея Есенина.
«...я всё же на четырёх работах: литература, радио, семья и алкоголизм» (С. Довлатов в письме другу).Удивительно, но интонация литературных предисловий Бродского очень похожа на интонацию в этом жанре Твардовского.
А иногда мы, подобно классику советской и русской прозы А. Г. Битову, украшаем свой текст стихами:
Солнечным октябрьским утром
под моим окном
похмеляются «Анапою» алкаши.
Не простые, а глухонемые.
Четверо мужчин и одна старушка.
Над ними в золотых сверкающих листьях
мелькает и лоснится чёрная кошка.
Они пьют из белого пластикового стакана
и передают друг другу кусок какой-то закуски.
Они оживляются и бурно беседуют,
перебивая друг друга.
Они перебивают друг друга, тыча в грудь и плечо.
Старушка выглядывает из-за плеч,
пытается вставить слово и угощает их семечками.
Наконец один завладевает вниманием
и все смотрят на его летающие пальцы и рот,
который растягивается и сужается,
делаясь то овальным, то прямоугольным.
Я отошёл от окна, не дождавшись, когда они уйдут.
Чёрная кошка над их головами на крыше сарая исчезла,
и там же стала мелькать другая, рыжая,
с пушистым, как у белки, хвостом.
В РУССКОМ ЖАНРЕ - 14
В начале шестидесятых мы с приятелем, старшеклассники, писали друг другу домой письма, хоть и сидели за одной партой. Письма были ёрнические, а в обратных адресах мы тренировали фантазию: то колхоз «Рушничок», бригадиру Майбороде, то Комитет пролетарского алкоголизма. Это никак не радовало наших родителей, в отличие от нас хорошо знавших иные времена. Переписка, интенсивная до ежедневности, была оборвана моим отцом. Придя как-то с почтой, которую он забирал из ящика, отец швырнул мне письмо и, побагровев, закричал:
— А следующий раз он КГБ в обратном адресе укажет?!
Хотя адрес, на мой взгляд, был вполне невинным: «Танковое училище, литер Б».
Наши тетради были разрисованы и исписаны галиматьёй вполне исторического свойства, могущей родиться именно у детей сталинской эпохи, начавших работать шариками в период хрущёвской оттепели. Как-то, спустя много лет, приятель показал мне свою старую тетрадь, на обложке которой напротив сведений о фамилии ученика, классе и школе моим корявым почерком было выведено: посажен тогда-то, расстрелян тогда-то, реабилитирован тогда-то. Тетрадь была 1963 года, у моей писанины литераторша поставила красными чернилами знак вопроса. И всё.
— Можешь себе представить, — сказал мой товарищ, — что будет, если сейчас твой сын такое напишет в школьной тетради?
Тогда же мы начинали играть в литературу, и мой друг принялся писать сочинение про некоего Эдуарда Борисовича. В истоках, кроме прочего, были ещё и тревожащие воображение слухи о появившихся авторах-антисоветчиках, которые бесстрашно публикуют за границей рукописи (это было до суда над Синявским и Даниэлем), рассказывающие жуткую правду о советской жизни.
Ребята мы были довольно критического взгляда, притом не только на действительность, но и на то, чтобы видеть в ней одни ужасы. Вот мой друг и взялся за рассказ как бы преувеличенно ужасный — вроде бы на вкус западного заказчика. Он назвал его «В Нескучном переулке». Во-первых, в нашем городе и в самом деле существует такой переулок, а во-вторых, мы только что прочитали, с выходом девятитомника, эренбурговскую чернуху 20-х годов «В Проточном переулке». И выбрал он себе псевдоним, над которым мы долго и сладко смеялись, таким удачно-махровым, словно бы с западного голоса он нам представился: Ник. Овагин. Был тут же придуман ещё псевдоним как бы для двойничества (повторяю, про Терца и Аржака мы не знали) — Вик. Артов. В рассказе шла речь о старом холостяке, служащем Эдуарде Борисовиче, который с тётушкой живёт в переулке, где не соскучишься, — каждую ночь кого-нибудь режут или раздевают и т. д. Ужасы жизни нагнетались ритмической прозой, которой мы тогда заболели.
Была же там и такая картина: в предпраздничные дни, после окончания работы, колонны трудящихся прямо с предприятий в сопровождении вооружённой охраны и овчарок идут в магазины, где им по карточкам выдают водку. Тогда это казалось невероятно смешно по нелепости, фантастичности: спиртного было залейся. Рассказ, словно напетый назойливым ритмом, сдобренный дождём, грязью, матом, страхом, был театром для себя. Выходило нечто вроде: «А как зарядят дожди осенние, заунывные, совецкие, прячется Эдуард Борисыч в норку свою номер семь, к тётеньке поближе, от улицы подальше. Оттудова, с улицы Нескучной, мат в комнату залетает, заползает страх под кожу интеллигентскую: дескать, сиди-сиди с тётенькой, придёт и твой час!».
В последние годы, встретясь с иным из обильно взошедшего «андерграунда», я грешным делом вспоминаю про Эдуарда Борисыча.
Как осудили, ещё при вожде, вульгарных социологов, так и боимся до сих пор (пугать-то умели!) намёка на анализ социальной базы, исторической обусловленности, происхождение автора и т. д.
Ребята они, конечно, были не очень симпатичные, но, отбросив систему социального анализа, мы закрыли многие пути проникновения в литературное произведение.
Кто это из них написал, что эстетический идеал Валентина Катаева — блестящий шар на дачной клумбе? Это плохо? Неверно? Это и верно, и хорошо.
«Блюменталиха угробила наших старух — Рыжову и Массалитинову, — подав заявление о вступлении в партию» (режиссёр Николай Радин в письме другу своему Алексею Толстому о новостях театральной Москвы, ноябрь 1934 г.).
А мне как-то довелось быть на партсобрании в цирке. Бессменным секретарём парторганизации был бессменный же дирижёр оркестра.
Перед президиумом собрания, в котором почти не было артистов, а были руководители цирка и рабочие, металась женщина, умоляя отпустить её, она размахивала какой-то бумажкой. Но её заставили выслушать отчётный доклад дирижёра. Как только объявили прения, женщина с бумажкой ринулась вперёд, и председательствующему уж ничего не оставалось, как предоставить ей слово. Она закричала:
— Если мы их сегодня не накормим, завтра они сожрут нас!
Речь шла о восемнадцати тиграх, вне плана завезённых в Саратов вместо Курска, где объявили карантин. Её, конечно, отпустили. Уходя, я выглянул в окно, выходящее вовнутренний двор. Среди разнокалиберных ящиков, автомобилей и мусора, за сеткой бегали невиданно грязные куры — временный тигриный корм, на котором они, по словам женщины, долго не протянут.
«Заказал костюм... Костюм такой, что хочется взять стул, сесть против него и плакать счастливыми слезами. — 140 марок, причём я получил, как советский гражданин, 30 процентов скидки» (Письмо А. Н. Толстого жене из Берлина 18—20 марта 1932 г.).
Набоков в «Даре» приглашает оценить надгробную речь Н. Г. Чернышевского: «Да-с, — закончил Чернышевский, — тут дело не в том, господа, что цензура, кромсавшая его статьи, довела Добролюбова до болезни почек».
Но разве и поныне героические биографии создаются не по той же колодке?
«Лучшие книги, понял он, говорят тебе то, что ты уже сам знаешь» (Дж. Оруэлл. «1984»).
Зелёная книга в старорежимном коленкоре «Франция. Хрестоматия литературная, историческая и географическая. Для старших классов средних учебных заведений. Составил и снабдил словарём-толкователем В. И. Люцелыиваб, преподаватель французск. яз. в Риге. С 48 иллюстрациями. Цена в переплёте: 1 руб. 50 коп. Рига. 1906. Издание К. Г. Зихмана. Театральная ул. № 9. собств. дом».
Книга была брошена в комнате, откуда выехали мать и дочь. Матери было лет восемьдесят, дочери — лет пятьдесят. Весь наш двор не без основания считал их тронутыми. Нужду они справляли в комнате — в ведро на колесиках. Каждое утро дочь катила его по длинному коммунальному коридору в уборную.
Вот чем исписаны форзацы этой книги.
«Горе на груди не пригреешь, а дашь ему волю, так оно будет тебя день и ночь когтить, всю силу из тебя выпьет.
Лук репчатый, чеснок, хрен, редька, натёртые на тёрке, через несколько минут убивают дифтерийную палочку, холерные вибрионы, брюшно-тифозные бациллы, стрептококков.
Думенкова Зоя (зачёркнуто).
5 стак. воды на 2 ч. ложки соды (зачёркнуто).
Дружбу крепи, а ворога бей, пока совсем подручным тебе не станет, слугой своим себе сделай, дабы ни в чём он не супротивничал. (“Иван Ш”).
У всякой Пашки свои замашки.
Не тот плох, кто ошибается, а кто не исправляет своих ошибок. “Зелёная книга”. Агишев.
Он ненавидел органически, как очень часто ненавидят все подленькие душонки честных людей. “Хребты Саянские”, Сартаков.
Не может сын глядеть спокойно На горе матери родной; не будет гражданин достойный К отчизне холоден душой. Ему нет горше укоризны... (Некрасов).
В народе так все говорят, что если кто нос кверху задерёт — то значит голова пустая.
Я тоже знал людей, что лишь по глупости своей чужое повторяют.
Вор не брат, потаскуха не жена.
Соус — орехи, растолчённые в ступке, смешать с толчёным чесноком и залить сливками.
“У партийного работника все дела первоочередные, у него неважных дел нет, но жалобы трудящихся и их рассмотрение — наиважнейшая обязанность”.250 гр. привернуть на медленный огонь; держать 10 минут, потом перевернуть и ещё 10 минут держать.
Уж если идёшь к цели, в стороны не кидайся, не бойся и не отступай.
Улица Рахова 32 — флакончик от духов.
Часы кв № 07521 (буд. коричневый. Дементьев 10) IX — 1645.
Драйзер “Сестра Керри”.
...Из-за ведра постоянно вспыхивали скандалы — из-за вони, которая шла по коридору как раз в часы завтрака. Пословица о Пашке с замашками, возможно, адресована тёте Паше Зейф, жене сапожника дяди Гриши, маленькой старушке, которая, когда развешивала бельё, всегда пела: “Чижик-пижик, где ты бил? На Фонтанка водка пил. Випил румка, випил две, а платить-то нечема!”».
Из детства: зазвучали два страшных слова: «Пастернак» и «Живаго». Семья литературная, и в разговорах взрослых они то и дело негромко возникают.
Пастернак ещё туда-сюда, но вот Жи-ва-го! — мороз по коже. Как в «Крокодиле»: толстый дядька на паучьих ножках, а вместо запонок свастика или знак $, что одно и то же. Однажды летом среди ребятни паника: укусит американская муха цеце. Отличить её можно так: на серой спинке тот же знак. Эту муху американские шпионы запустили к нам, чтобы перекусала советских детей.
А то, что «Живаго» сопровождено словом «доктор» — понятно. Тогда были книжечки, к которым тянуло неодолимо: родители не разрешали читать, но у старшего брата они водились — маленького формата, но толстенькие, библиотечки журнала «Советский воин». С ужасными картинками, где диверсанты в шляпах целились из пистолетов в советских разведчиков или, лёжа за кустами (уже в кепках), наблюдали за взрывом секретной лаборатории. Пределом мечтаний было прочитать все выпуски «Тайны профессора Бураго» Ник. Шпанова. Ещё был журнал «Техника — молодёжи» — упоительные книжки, с цветными планами городов коммунистического будущего и рассказами (в зловеще чёрном оформлении) об Америке, где заставляют молодого инженера изобрести яд или новую бомбу: большие окна, сейфы, и тот же толстый с сигарой (из «Крокодила») сидит, закинув ноги на стол, на столе пачки денег, а худой инженер горестно выслушивает приказание; потом инженер, раскаиваясь в содеянном, лежит в лаборатории среди приборов в луже крови — застрелился. Называется: «Ошибка инженера Джонсона».
Вот туда, на своё место, к Бураго и Джонсону, и Живаго легло.
Знаменитый манифест футуристов «Пощёчина общественному вкусу» часто цитируют, и почти всегда неточно:
«Сбросить с парохода современности Пушкина...» и т. д. А у футуристов было:
«Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с Парохода современности», — и Маяковский в одном выступлении это поправлял, то есть ошибочное прочтение привилось чуть ли не сразу. Почему? Маяковский резонно замечает: классиков нельзя сбросить с парохода современности, потому что они там, по мнению авторов «Пощёчины», и не находятся. А можно, и по-футуристически нужно — бросить их оттуда, совершить некое языческое действо, «великолепное кощунство». Стоят на носу парохода Маяковский с Бурлюком и Хлебников с Кручёных и, поочерёдно забирая с небес в руки статуеподобных Пушкина, Достоевского «и проч.», кидают их в набегающие волны. Это нечто. То есть не избавление от классиков, а как бы принесение их в жертву.
Ошибка неслучайна. Пароход современности представлялся не новейшим судном футуризма, а Ноевым ковчегом, где было место всем, в том числе и критикам, и хулиганам- футуристам, а они ещё недовольны и желают выкинуть находящихся среди прочих пассажиров Пушкина и Достоевского.
Внушающие нам нынче отвращение, вылепленные на стене саратовского училища МВД строки В. Маяковского:
обдумывающему
решающему — сделать бы жизнь с кого,
не задумываясь —
с товарища Дзержинского», —
более всего своим появлением на свет обязаны не преданности поэта большевизму и его вождям (это само собой), но найденной составной рифме, до которых Владим Владимыч был такой охотник. Ведь и Есенин занимался тем же:
Но при всякой беде
Веет новью вал.
Кто ж не вспомнит теперь
Речь Зиновьева.
<...>
Ой, ты, атамане!
Не вожак, а соцкий.
А на что ж у коммунаров
Есть товарищ Троцкий!
К Ворошилову даже Есенин рифмы не подобрал, а Сталин и Бухарин не упоминаются в «Песне о великом походе». Пишу об этом для вполне несерьёзного предположения о причинах нелюбви Кобы и Бухарчика к Есенину, и, напротив, о расположении к нему Троцкого.
Крутое, как нынче выражаются, впечатление производит следующая запись Григория Козинцева, опубликованная недавно:
«Премьера в Пушкинском театре “Они знали Маяковского”. Катанян отвешивал поясные поклоны, держа за руку Черкасова, на которого наклеен парик под Маяковского. Л. Брик хлопала из партера.
Небывалый в истории финал жизни лирического поэта. Ящик с Грибоедовым, который повстречал Пушкин, — детские игрушки рядом с этим. ХI.54».
Но кому из них должно было стать неловко: мужу жены многих мужей, сочинявшему всю жизнь про одного из них? Или ей самой? Но они дело делали, а то, кто там мужья да жёны и прочее — они во всю жизнь не очень-то разбирали. Я вспомнил, как поразила меня лёгкость, с какой Валентин Катаев обронил: «Но Лиля в то время была на курорте с Примаковым».
Я тогда и не знал — каким таким Примаковым. Дело было в Переделкине на семинаре молодых критиков в 1973 году. Из десятка приглашённых звёзд Катаев для нас проходил, конечно, номером первым. Вёл встречу Иосиф Львович Гринберг, очень похожий на старенького Карлсона, но в редкие из-под густых бровей просверки глазок обнаруживалось, что глазки-то пристальные и — злобные. Определяющим состоянием его было, вероятно, чувство страха. Думаю, он не по своей воле оказался ведущим этой встречи, зная о характере мэтра, а элегантный мэтр в клетчатом пиджаке, засунув руки в карманы, первым делом заявил: «Я буду говорить не для печати!». Гринберг после этой справки прямо-таки затрясся. Катаев начал хулиганить.
Предупреждая вопросы, он первым предложил:
— Может, о Солженицыне?
— Наших семинаристов, — подмигивая, подёргивая коротеньким рукавом, запросил Гринберг, — интересует ваше мнение о современной молодой поэзии.
— А я хочу о Солженицыне, — имитируя тон капризного ребёнка, заявил Катаев своим скрипучим голосом с неистребимо наглой одесской интонацией.
Гринберг опасался зря: даже мы поняли, что катаевская фронда была не только поверхностного, но, я бы сказал, и извращённого толка. Старик прекрасно знал, на кого работал.
— Жаль, что Солженицын выбился из нашего писательского отряда. Не выбился бы — вышел из него неплохой писатель. В Париже его книги развозят в специальных (спесьияльных) фургончиках, оклеенных его фотографиями. Но настоящих русских писателей сейчас два: гениальный Набоков и Вася Аксёнов — крупнейший писатель.
Ещё он сказал, что жалеет, что дал широкую дорогу Евтушенко, что навык письма сравним с навыком игры в теннис: лишь при условии автоматизма можно писать так, как хочешь, он повторил слова Льва Толстого о том, что по-старому, с хронологическим порядком событий писать нельзя, что последнее произведение старого романа это «Тихий Дон» — 1-я и 4-я книги, что человеческая жизнь, сознание, ощущения сложнее, чем то выражается в старой форме, а вся советская литература — это загнание человеческого мира в придуманную и навязанную схему постепенного раскрытия образа. Его спросили про Бабеля, он отозвался весьма нелестно, сказав, что вполне разделяет оценку «Конармии» Будённым, «про которого, впрочем, Горький заметил: “Дурак этот Будённый, Бабель с них иконы написал, а они сердятся”».
Говорил ещё о Набокове, «Броненосце “Потёмкине”», плохом языке современных писателей, поставив рядом Федина и М. Алексеева, на что Гринберг ещё больше занервничал, а сидевший рядом со мной всезнающий семинарист-москвич прошептал: «Сегодня же Федину донесут — он для него, а не для нас сказал». Лишь два имени он поминал с безусловным пиететом: Олешу и Маяковского. Олеша в его трактовке превращается в безусловного лидера послереволюционной прозы, а Маяковский —
— ...был гением революции. При нём нельзя было сказать что-нибудь антисоветское. «Я вас знать не хочу! Вы пошляк!» — кричал Маяковский.
И тут, в связи с Маяковским, он вдруг рассердился. Женя Раппопорт, ныне покойный, человек со странным для еврея отсутствием чувства юмора, мрачно, как и всё что делал, с блокнотом в руках спросил: в какой мере можно использовать «Траву забвения» как биографический источник, сколько там правды, а сколько выдумки?
— Раз я написал, раз там поставлена моя подпись, значит всё правда! — закричал Катаев. И тут же добавил, уже спокойно: — Правда, правда... Я писал, что я знал, а я знать всего не мог. Маяковский в вечер перед смертью, описанный в «Траве забвенья», сказал мне, что Брики в Лондоне, а на самом деле они поссорились, и Лиля с комбригом Примаковым была на германском побережье.
Он сказал всё это с некоторой улыбкой.
Семинары эти надо описывать отдельно, что непременно и сделаю, возможно, кто-то из моих сотоварищей уже и пишет про них. Среди нас имеются теперь директора издательств и покойники, коммерсанты и эмигранты и даже один член редколлегии журнала «Молодая гвардия». Ведь нас учили советские критики советской критике, нас воспитывали и, конечно же, воспитали, и, читая работы всех без исключения товарищей, будь ли он прогрессист или национал-патриот, я узнаю крепкие уроки учителей. Да и как их забыть, если учили нас все мастодонты советской критики, начиная с Е. Ф. Книпович и В. О. Перцова! Три критика с как бы аукающимися фамилиями учили нас: Гринберг, Бровман и Дымшиц. Бровман был менее всех интересен, даже как-то вопиюще бездарен. Самым в поведении ярким был Александр Львович Дымшиц, румяный шарик, не гнушавшийся с нами выпивать, подпускавший в разговор матерки. Но много тёмного стояло, видать, за этим добряком, и там же, в Переделкине, узнали мы стишок:
Избушка там на курьих ножках
Стоит без окон, без дверей,
Там Дымшиц на коротких ножках —
Погрома жаждущий еврей.
Эпиграмму приписывали Зиновию Паперному, впрочем, тогда, кажется, все эпиграммы приписывали ему, а может быть, они его и были. Сами мы из его уст слышали там про Мариэтту Шагинян:
Железная старуха
Мариэтта Шагинян —
Искусственное ухо
Рабочих и крестьян.
Железная старуха неслышно бегала здесь же по коридорам, за ней вечно мыкался её личарда — старый шофёр.
Бунинская несправедливость сродни детской, она восхитительна. Вот он читает «Леонардо» Дм. Мережковского, и, к собственному изумлению, что-то ему нравится. Записывает: «Местами недурно, но почём знать, может быть, ворованное!»
Примерно в то же время писатель граф Алексей Толстой пишет из Франции в Берлин профессору А. С. Ященко: «Я бесконечно был рад узнать про твой “сухостой”. Люди — говно, Сандро, — лишь немногие должны будут пережить наше время, и это именно те, у кого в голове, и в душе, и ниже живота — сухостой. Вообще — ты страшный молодчина».
Не перестаю удивляться свежести и смелости так называемых самодеятельных, лебядкинского направления стихов. На всю жизнь запомнил когда-то в редакцию молодёжки присланное разочарованной девушкой:
Мне бы инфузорией родиться,
В луже волосками шевелить,
И плодиться — пополам делиться
Без необходимости любить.
Нынче иссяк поток сочинений, направляемых в редакции самыми бескорыстными авторами, как тогда говорили, — пионерами и пенсионерами. Не пишут или не присылают? Почта, конечно, всё сделала для того, чтобы люди перестали переписываться. Только и это уже было. «Волга» опубликовала дневники генерала Ив. Жиркевича, так вот он записывает 13 августа 1921 года: «С русским народом проделали ещё одну гнусность: введены новые тарифы по части корреспонденции, причём за заказное письмо приходится платить 1250 руб., а за простое 25 руб. Откуда обнищавшему обывателю брать такие суммы на корреспонденцию? Для меня была такая радость переписка с немногими моими добрыми знакомыми. Но и это отнято!»
Позволю себе процитировать эту запись далее, уж больно всё сходится:
«Всё делается для того, чтобы убить жизнь в России: назначены беспримерные цены за проезд по железной дороге, теперь мешают сношениям по почте. Ну как не клясть, не осуждать! Хороша у нас свобода! Хороши и мы, во всём покорные, ко всему быстро привыкающие. Рабы, рабы! Бедная, бедная Родина! Но у нас развилась и процветает свобода отрицательного свойства: произвола, насилия, глумления над всем, что дорого человеку, сознающему в себе человеческое достоинство. Сюда бы надо причислить свободу грабежа казённого добра в советских учреждениях и свободу взяточничества. То и другое дошло до колоссальных, небывалых размеров, указывая и на полный развал власти, и на безнравственность интеллигенции, создавшейся и сохранившейся после переворота, устроившейся в советских учреждениях. Если советская власть вводит какое-либо новое стеснение, то сейчас же является и новый источник для взяточничества».
Как Дон-Аминадо в 1920 году, в Париже сидя, мог предсказать, даже и точное место назвать — непостижимо:
Потом... О Господи, Ты только вездесущ
И волен надо всем преображеньем!
Но, чую, вновь от беловежских пущ
Пойдёт начало с прежним продолженьем.
И вкруг оси опишет новый круг
История, бездарная, как бублик.
И вновь на линии Вапнярка — Кременчуг
Возникнет до семнадцати республик.
Поэтессу А. можно узнать по одному стихотворению.
Работа в августе! Я так её люблю.
Когда в шестом часу пробудишься — и сразу
В один прыжок, к резиновому тазу,
Уподоблять его под шквалом кораблю.
Потом со скорлупы давая стечь топазу
Яичного желтка, его глотком ловлю
Гортани высохшей, причём благословлю
То, что за гранью чувств, — и что доступно глазу.
И тотчас за столом в заветную тетрадь
Как любо должное звучанье избирать
Из тысячи других, носящихся повсюду!
Приветствую тебя, мой Август, мой король,
Ты — лета моего вершина, цель и боль,
Твой верноподданный, как был я, так и буду.
Из последней строки явствует, что автор не женщина. Да, это стихи не А., а Владимира Пяста, опубликованные в 1924 году.
Вопли и стенания современных деятелей культуры перед лицом богатых навевают в памяти что-то из бессмертного А. Н. Островского. Например:
«А ты возьми, что значит образование-то: вчера ко мне благородная просить на бедность приходила; так она языком-то как на гуслях играла» («Не всё коту масленица»).
Обращал ли кто внимание: два основоположника революционно-демократической критики носили фамилии: БЕЛинский и ЧЕРнышевский?
Ленин вроде бы был абсолютно лишён нормального литературного вкуса, примерами чего за последние годы нас засыпали. Но вот старый, самый хрестоматийный советский пример из Горького, где писатель видит на столе Ленина том «Войны и мира»: «Захотелось прочитать сцену охоты...».
Если верить Горькому, а не верить в этом случае вроде бы нет оснований, то Ленин ведёт себя как заправский книгочей-гурман, а не утилитарист, пожиратель информации.
А может быть, причина нелитературная, а охотничья: см. книгу саратовского писателя Ю. Никитина «Царские охоты», где описывается почти патологическая страсть вождя к забаве с ружьишком.
Ницшеанство молодого Горького могло бы выглядеть и комично, если бы не знать его последующую судьбу воистину сверхчеловека.
«Я очень рано понял, что человека создаёт его сопротивление окружающей среде» (М Горький. Мои университеты).
Самое интересное, что стоит разгадать в Горьком, — момент, когда он из подинтеллигента Пешкова превратился в Горького, когда и как осознал, как делать себя, свою удивительную судьбу. А судьба строилась им с неутомимостью муравья и беспримерной храбростью, я бы даже сказал, оголтелостью. Трудно даже определить черту, отделяющую этап подъёма до какого-то существующего уровня, от этапа, на котором он сам стал делать себя уровнем.
Вот брак с Волжиной, богатый дом на нижегородском откосе с его смесью мещанства в демонстрации достатка, профессии хозяина, трогательного рационализма нувориша в устройстве детских комнат и т. д. Как был он полон тогда своим крепнущим положением, семьёю, известностью. И как всего этого ему стало мало, — больше, больше! Это было, это не слава, во всяком случае, не слава Горького! Не поклонницы, а сраженья с сильнейшими. А потом с монархами, игра в партии, пафос всемирной свободы — и всемирной хитрости, и далее, и далее, и далее!
А как раздражён он даже уже в тех немногих опубликованных письмах к Волжиной, когда вкусил жизни гражданина мира, по отношению к её остановившемуся понятию о счастье, любви к нему!
И — в этом направлении — кем сделалась Волжина, ставшая Пешковой, с её международными связями, благотворительностью, масонством.
Да и все, кто втягивался в горьковскую орбиту, делались политиками, политиканами, хитрецами, обрастали таинственными связями, начинали жить и действовать энергично, ловко и всё на хозяина.М. Горький — это средоточие всей российской жизни первой половины XX века. Это куда больше, чем человек или писатель. Думаю, что аналогов не имелось.
Есенин отлично сознавал, уже в девятнадцать лет, что для набора «высот» в искусстве надо творить подлости, «продать душу свою чёрту — и всё за талант. Если я поймаю и буду обладать намеченным мною талантом, то он будет у самого подлого и ничтожного человека — у меня. <...> Если я буду гений, то вместе с этим буду поганый человек. Это ещё не эпитафия. 1. Таланта у меня нет, я только бегал за ним. 2. Сейчас я вижу, что до высоты мне трудно добраться, — подлостей у меня не хватает, хотя я в выборе их не стесняюсь» (Из письма к М. П. Бальзамовой, осень 1914 года).
Сколько глупостей и пошлостей наговорено о стихийности и непосредственности есенинской музы. При огромной одарённости он имел и более редкий дар: сознавать необходимость строительства таланта в определённом направлении; «намеченным мною талантом!» — аж мурашки бегут по коже: вот он, первый шаг к «Чёрному человеку», выбор пути и беспощадность, прежде всего к самому себе.
Два русских поэта в 1915—1916 годах служили санитарами в военно-санитарных поездах: Есенин и Вертинский. А ещё К. Паустовский.
А почему «Собачье сердце»? То есть не повесть почему, а сердце в названии? Псу пересадили яички и гипофиз Клима Чугункина, и в гадостном Шарикове действительно билось собачье сердце. Но акцент, а название — это всегда акцент, даже акцент, явно вступает в противоречие со смыслом повести, если сердце понимать не как «грудное черево, принимающее в себя кровь из всего тела», а, по Далю же, как «представитель любви, воли, страсти, нравственного, духовного начала». Ведь у пса было честное, преданное собачье сердце.
Попытка объяснения. Эффектное название могло возникнуть у Булгакова от стихотворения Есенина:
Слушай, поганое сердце,
Сердце собачье моё.
Я на тебя, как на вора,
Спрятал в рукав лезвиё.
Не напечатанный при жизни поэта альбомный экспромт 1916 года был опубликован в 1926 году в сборнике «Есенин. Жизнь. Личность. Творчество» и мог быть прочитан Булгаковым. А быть может, бытовала идиома, использованная ими?
В советских поваренных книгах, которые именовались книгами о вкусной и здоровой пище, были разделы национальной кухни, очерёдность их — строго по числу жителей — от Украины до Эстонии. Потому же в «Кулинарии» 1955 года есть кухня карело-финская: была тогда шестнадцатая союзная республика. Потому же при наличии рецептов таджикских и литовских в русской поваренной книге не было татарской, мордовской и, разумеется, еврейской кухни.
О происхождении Вс. Мейерхольда. Его лютеранство всегда остаётся за кадром. Конечно, есть документы, в частности, в прекрасном музее театра в Пензе, а вот живое свидетельство. В. Гиляровский, бывший в Пензе, остался в восторге от водки производства завода Мейерхольда-отца (лучше и «Смирновской», и «Поповской») и его описал так: «фигура такая, что прямо норманнского викинга пиши».
«Англичанин любит свободу, как свою законную жену; он владеет ею, и если обращается с нею не особенно нежно, то умеет при случае защитить её как мужчина. <... > Француз любит свободу, как свою невесту. Немец любит свободу, как свою старую бабушку». У Генриха Гейне нет сравнения для русского, да и могло ли оно быть, хоть в какую эпоху... разве что при Александре III любили свободу, как нелепую, надоевшую тётушку, с существованием которой приходилось считаться, и при Иосифе I любили свободу, как отца, который, придя с работы, может выпороть или принести кулёк конфет — в зависимости от твоего поведения и его настроения.
«Благодаря своему доморощенному макиавеллизму он сходил за умного среди своих коллег — среди всех этих отщепенцев и недоносков, из которых делаются депутаты» (Ги де Мопассан. Милый друг).
«Политика есть вино, которое в России может превратиться даже в опиум» (В. Г. Белинский. Письмо Д. П. Иванову, 7 августа 1837 г.).
Мне давно хочется написать о золотых звёздах на синем небе. С чем-то из детства связана эта самая красивая красота: вырезанные из фольги и наклеенные на густо-синий картон золотые, чуть сморщившиеся от движения пальца звёзды. Под ними сразу возникает острый столбик минарета, растекается плоский каменный простор ислама, орнаменты, мрамор, фонтаны, прохлада и ещё что-то, что манит сюда.
Что-то — это, конечно, женщины, животы, шёлк, смуглый вырез, ложбинки, родинки, пряди, ноготочки ног, сурьма, но всё это куда позже, вместе с прыщами, чтением сокровенных описаний из «Тысячи и одной ночи», и он посадил её себе на грудь и начал сосать ей язык, и потёк мёд в его уста; за окном крик: «Ата-ачить ножи-ножницы-бритвы!», тяжёлое солнце, редкий шум автомобиля, пыльный запах мальв и бархоток из палисадника, сумрак низкого первого этажа, неслышное потягивание кота у ног, но всё это позже, позже, когда уже всё другое, а золотые, чуть съехавшие по синему звёзды — вспомнил, журнал «Затейник» за 1952 год, откуда вырезывались ёлочные игрушки и — предел мечтаний — детский кукольный театр, как в «Золотом ключике», и главное, заветное, что, когда всё будет склеено, выправлено, одето в бумажные костюмчики и платьица и возникнут, как сказка, декорации, уложить всё в большую коробку и завтра утром, когда взрослые ещё будут спать, подойти по ледяному полу ещё не топленной комнаты к коробке и открыть...
Но нет, вместо этого рождается другое, вроде фраз: «Беременная старуха» или «На пляже лежат девицы с нежными атласными задницами и грубыми прыщавыми лицами» и т. д.
Благородный седоусый старик, перед какими совестно. Но чтобы таковым стать, надо иметь в предыдущей жизни Цусиму, революцию, сталинский лагерь или, во всяком случае, лишения, а не пустяки. Но я вижу, как всё больше становится их, как таковые старики, теперь едва ли уже не моего поколения, делаются из ничего, просто потому, что жили.
«Извините меня, вы все стали такая не свободная направленческая узость, что с вами живому человеку даже очень трудно говорить. Я вам простое дело рассказываю, а вы сейчас уже искать общий вывод и направление. Пора бы вам начать отвыкать от этой гадости...» (Николай Лесков. Железная воля).
Живёт мнение, что странность Гоголя едва ль не ярче всего сказалась в его страхе перед женитьбою. То есть говорят о страхе перед женщиной, но это совершенно несправедливо. Страх его был перед браком, что совершенно иное, чем страх перед женщиной, и даже напротив, словно противоречит этому страху. Ужас неестественности брака раскрыт нестранным, нормальным Львом Толстым в «Крейцеровой сонате», и не только в «Крейцеровой сонате», и не только Толстым. Просто нормальному Толстому надо было настрелять детишек, пожить домом и всё это возненавидеть, а Гоголь знал это и без житейского личного опыта.
Если Достоевский и не говорил «все мы вышли из гоголевской “Шинели”», то во все времена в русской литературе производились наблюдения, кто и откуда вышел. А как же!
Наслаждение доставляет обнаружение следов одного писателя у другого, преемственность, подражание и т. д. Почему?
Вероятно, это всё из той же человеческой привязанности к скрепкам времени, ко всем средствам, как бы защищающим от смерти и забвения, то есть — эстафета.
Мышкину на вокзале «померещился странный, горячий взгляд чьих-то двух глаз». Казалось бы, лишнее — «глаз», не говоря уж о «двух». Но упростим: «померещился чей-то странный горячий взгляд», — что останется от картины? А тут два глаза горят! В толпе горят два глаза. Всё больше убеждаюсь в том, что Достоевский умел, если надо, передать картину, как никто, смелость при этом проявляя невероятную: «и продолжавшую улыбаться остатками ещё недавнего смеха».
У Достоевского никто из героев никогда не занят делом, даже и тем, которое обозначено. Как служит Митя, сочиняет Иван, как добывал свои капиталы Фёдор Павлович Карамазов, как учится Раскольников, «гуляет» Сонечка, как служат генералы все его. О результатах сообщается, но не показывается самый процесс, за исключением разве что ростовщичества — в «Кроткой» и «Преступлении и наказании». Помещики не помеществуют, крестьяне не хлебопашествуют.
Катюша же Маслова показана во все этапы, убедительно и наглядно, от падения через профессию разврата, через грубость к очищению. И всё так: помещики, офицеры, маркёры, крестьяне, чиновники, — все заняты, и их занятие изображается автором.
Почему Толстой так бесился, обвиняя «эти джерси мерзкие, эти нашлёпки на зады, эти голые плечи, руки, почти груди... обтягивание выставленного зада» — не в одной только «Крейцеровой сонате»?
Да они его возбуждали безмерно!
Страшно читать высказанное Толстым: «Между мужчиной и женщиной больше физической разницы, чем между животными (медведем и медведицей, волком и волчицей)». Страшно, потому что заставляет напрягаться: так ли это?
В 1870 году Толстой считал проституцию благом и необходимостью, даром Провидения для сохранности семьи (неотправленное письмо Н. Н. Страхову от 19 марта).
Толстой всю жизнь силился засунуться в грязь жизни и всегда был обречён делать это лишь внешне, словно когда, выполняя чёрную работу, знаешь, что переменишь потом одежду. Ибо за ним стояли всюду Ясная Поляна, титул, слава.
Кто мог написать: «Я не люблю, когда брюнеты поют, как блондины»?
Это мог написать только Набоков, но написал Александр Дюма (слова принадлежат графу Монте-Кристо).
Пренебрежительное отношение «профессионалов» к сочинениям Александра Дюма вызвано явно простой завистью. Кто ещё способен два века лидировать в успехе у читателя? Но ведь к чисто «дюмовским» качествам: он то и дело роняет вовсе не авантюрные перлы. К процитированному ещё один: «...толпу, которая становилась тем гуще, чем меньше понимала, ради чего она собралась» («Двадцать лет спустя»).
«Классовая пролетарская мистика». Это из сборника «Вехи», как известно, 1909 года. Но ведь это ключ к поэтике Андрея Платонова!
Когда с печатных страниц или с трибун раздаются голоса о геноциде русской культуры, причём истреблении «культурного генофонда России», сопровождаемые жалобами на то, что не печатают русских писателей — то есть авторов выступлений и протестов, именно себя и полагающих «генофондом», я всегда вспоминаю фразу из рассказа Ивана Бунина «Казимир Станиславович»: «В публичном доме он чуть было не подрался с каким-то полным господином, который, наступая на него, кричал, что его знает вся мыслящая Россия».
У меня есть собрание сочинений Льва Толстого, где стоит штамп компетентного ведомства: «Проверено. 1944 год». Книги принадлежали Новоузенской средней школе. Новоузенск — удалённый на сотни вёрст от областного Саратова районный городок. Сколько же кадров было у компетентного ведомства, что в 1944 году, когда на фронт брали мальчишек и стариков, их хватало на то, чтобы удостоверять некрамольность сочинений графа Толстого!
«Бесспорно, нет ничего отвратительнее, чем неверующий король» (Мерсье А. С. Год 2440-й).
«Человечество смеясь расстаётся со своим прошлым» (К Маркс). Но сегодня очевидно: не с прошлым, а с жизнью.
В РУССКОМ ЖАНРЕ - 15
Над страницами «Войны и мира»
Мой покойный дядюшка, ленинградский художник, некогда сказал мне, что «Войну и мир» читаешь всю жизнь, и в тридцать иначе, чем в двадцать, в сорок иначе, чем в тридцать, и т. д., пока не загнёшься. Мысль вроде бы общая, просто я впервые услышал её от дяди: я и в самом деле не раз заставал его с томом «Войны и мира» в разные годы.
Я до сих пор, то есть до моих пятидесяти двух лет, читал ВМ (позволю себе называть роман далее так, для общего нашего с читателем удобства) четыре раза.
Первый — в пятнадцать лет, год, который особо помню, мой рубежный год; ВМ — первая «серьёзная» книга после Уэллса и Алексея Н. Толстого. Второй — примерно в двадцать, студентом, с отчётливым эстетическим наслаждением, заслоняющим иные впечатления; любимыми писателями в ту пору были Бунин и Хемингуэй, но более читал поэтов.
Третий — между тридцатью и сорока, легко, бегло, словно свысока: всю помню, ничего, оказывается, нового.
Четвёртый—в пору наивысшего увлечения Достоевским, лет в сорок; ВМ показалась книгой поверхностной, чуть ли не плоской, кроме батальных сцен; даже не стал дочитывать.
Разумеется, во все эти годы я по тому или иному поводу так залезал в ВМ, и общее ощущение исчерпанности книги оставалось. И вот сравнительно недавно как-то безотчётно раскрыл ВМ. Впрочем, вру, скорее всего всё-таки из-за Достоевского: обчитавшись его, взял Толстого. Русские читатели обречены на этот маятник: Толстой—Достоевский — Толстой.
Оказалось — дядя, ау! — и в самом деле чтение новым, что привело к заметкам. Но лишь подумал: может быть, сложатся заметочки-то в целое, публикуемое, — как мысли враз перестали являться, а удовольствие от чтения было отравлено. Всё-таки что-то осталось.
Все имеют право наличное отношение к гению. В школе № 3, где я учился, в конце главного коридора стоял гипсовый крашеный бюст Толстого. На его коричневом лбу мелом всегда было написано одно и то же: «Война и мир». Сколько раз за день эта надпись стиралась, столько же и возобновлялась. Шли годы, сменялись ученики и завучи, ловились с поличным исполнители, а она оставалась, бессмертная, как сам роман.
Слова эти, Война и мир, возникли в раннем детстве, когда учился читать: в книжном шкафу два кремово-белых тома, в твёрдом картоне, на прекрасной, чуть желтоватой бумаге. Позже определил место изготовления. В моём детстве было немало книг, в которых типография обозначалась номером: это значило, что печатали их в побеждённой Германии. Помимо вывесок, с которых почти каждый осваивает практическую грамоту, у меня были ещё корешки книг в шкафу. Кроме «Войны и мира» запомнились белой краской по синему «Первые радиостанции», — путаница в прочтении названия фединского романа произошла потому, что мечтал стать, как старший брат, радиолюбителем, всё листал его журналы «Радио» с красивыми схемами, фотографиями ламп, трансформаторов и проч.
Все помнят, конечно, перекличку глав первого тома: бал у Ростовых — смерть Безухова-отца. Возню вокруг завещания, мозаиковый портфель, улыбку умирающего, и воду, разлитую на ковре, и докторов. Но лишь сейчас я впервые обратил внимание на присутствие гробовщиков, на то, как это сделано.В общем абзаце о том, что граф Безухов безнадёжен, есть и такая фраза: «Вне дома, за воротами толпились, скрываясь от подъезжающих экипажей, гробовщики, ожидая богатого заказа на похороны графа».
В следующей главе картина дана глазами Пьера, не понимающего её: «В то время как он сходил с подножки, два человека в мещанской одежде торопливо отбежали от подъезда в тень стены. Приостановившись, Пьер разглядел в тени дома с обеих сторон ещё несколько таких же людей».
Создаётся полное и зловещее уподобление гробовщиков воронью, чуть взлетающему и тотчас садящемуся невдалеке от будущей поживы. Если бы Толстой не разнёс сказанное на две части: сообщение и спустя несколько страниц картина, — подобного эффекта бы не достиг. А иной писатель просто мог прямо сравнить гробовщиков с вороньём.
Пушкинский гробовщик тоже караулил заказ. И, может быть, ко всем, уже подмеченным, пародирующим классику эпизодам «Двенадцати стульев» следует отнести и сцену с умирающей тёщей Воробьянинова?
На расстоянии десятка страниц первого тома повторяют друг друга характеристики состояния Наполеона и Николая Ростова.
Наполеон: «Перед утром он задремал на несколько часов и, здоровый, весёлый, свежий, в том счастливом расположении духа, в котором всё кажется возможным и всё удаётся, сел на лошадь и выехал в поле» (ч. III, гл. XIV).
«Сменившись из цепи, Ростов успел соснуть несколько часов перед утром и чувствовал себя весёлым, смелым, решительным, с тою упругостью движений, уверенностью в своё счастие и в том расположении духа, в котором всё кажется легко, весело и возможно» (ч. III, гл. XVII).
Что это — небрежность или нарочитость? Скорее всего, первое.
Пьер беззуб смолоду. Беззубым смолоду был и Лев Николаевич. Странным образом отсутствие зубов соотносится, когда узнаёшь это, с напряжённой умственной и нравственной работой.
«Карее лицо Багратиона», конечно, останавливает. И Даль «карий» относит лишь к цвету глаз и конской масти. Я пытался искать в ряду синонимов: коричневый, смуглый, жёлтый, загорелый и прочие, но тщетно.
«Соня была тоненькая, миниатюрненькая брюнетка». Как бы явный перебор с суффиксами, и без того определения предполагают крайнюю степень, куда ж ещё уменьшать, однако попробуйте исправьте!
У Наташи широкая шея и большой рот. Об этом сообщается в одной из первых сцен с её участием — зачем, ведь ей суждено стать главной, всеми любимой женщиной романа? Наверное, не зачем, а потому, что автор зримо видел её, живого человека. Этого нельзя сказать о Пьере или князе Андрее. Они составлены из черт, но не так живо зримы.
И, между прочим, Наташа — Одри Хэпбёрн, куда внешне ближе толстовской героине, чем Людмила Савельева. Да и не только внешне.
Любовь Болконского к Наташе одно из самых натяжных мест в романе. То ли дуб школьный проклятый виноват, но вся эта закруглённая история с увяданием-расцветом исполнена для меня фальши и нажима.
Вообще то, что все относительно молодые персонажи (Борис, Пьер, Денисов, Анатоль, Болконский) влюбляются в Наташу, заметно заданно. Толстой решился вывести женственность в чистом виде, со всем лучшим и худшим, что присуще женщине, и, кажется, переборщил.
Как ни пылок, к примеру, Денисов, но в серьёзность его сватовства не верится.
Но вот брак княжны Марьи и Николая — сама естественность. В начале о Марье обронено, что желала «земной любви». Лучистый взгляд, тяжёлые конечности, кротость. Неловкая, крупная. Подобранный, однозначный, темпераментный, невысокий Ростов. Они должны быть счастливы во всём, тем более что не влюблялись страстно, но словно бы выбрали друг друга. У них почти брак по расчёту, то есть самый крепкий брак у порядочных людей.
Долохову 27 лет. Он влюблён в Соню. Ей —16. В игре с Ростовым он идёт до 43 тысяч — почему? 27 + 16 = 43.
В Долохове воплощена модель поведения обречённо несчастливого человека. Человека, рождённого несчастным. В сущности, Долохов лишь полярный вариант Башмачкина: один предельно самоутверждается, другой предельно самоуничижается. Человеку нормы, не обречённому, не загнанному судьбою, уход в эти крайности возможен лишь в малой степени, не до края.
Долохов презирает женщин и обожествляет мать. Вполне уголовная черта.
Самое симпатичное лицо романа — Денисов, — вероятно, потому, что автор на нём не сосредоточен. На втором месте — граф Илья Андреевич, но так как его обрисовке уделено больше внимания, то и чувства непосредственного меньше. Герои второго или третьего плана — какой-нибудь Алпатыч или дядюшкина Анисья Фёдоровна и другие — интереснее, живее и тем симпатичнее главных. Чем более важное место занимает в ВМ герой, тем меньше живого чувства он вызывает. Прежде всего это относится к Андрею Болконскому и Наташе.
Впрочем, и в «Анне Карениной» Стива милее и понятнее Лёвина.
Как упиваются автор и персонажи своим дворянством! Толстому дорого всё, что есть дворянство, и этим он заражает читателя. Герои же ни на минуту не забывают о своём происхождении. И почему они непременно в каждой фразе прибавляют в обращениях друг к другу титул, хоть сто раз кряду? Достоевский точно подметил, что Толстой — это писатель дворянства. Ведь, скажем, в прозе Пушкина отсутствует эта дворянская спесь, словно масляная плёнка по воде покрывающая всё содержание ВМ.
В оценке Достоевского присутствует и крайне верный смысл дворянской ограниченности персонажей Толстого. Наши советские вульгаристы 20-х годов были, конечно, бяки, но куда же вовсе денешь классовость? Реалии: благородства, патриотизма и проч. Болконских, Безуховых, Ростовыхоснованы и на незыблемости порядка вещей, в котором они существуют. Отними у князя Андрея Лысые Горы, Богучарово и прочее? И все напряжённые духовные поиски Пьера возможны ли без его гигантского состояния? Когда Николай Ростов, при всём благородстве, оказался без оброка, то сидел дома и курил трубку, и лишь деньги жены вернули его к жизни.
И хоть заявлено, что князь Андрей считал для себя постыдным, подобно другим, «пошло презирать» Сперанского «в качестве кутейника и поповича», именно простонародность и ничто иное смущает его в Сперанском. Он умом отдаёт должное усилиям для достижения высокого положения, на которое тот, в отличие от него, князя Болконского, должен был взбираться из поповичей, и вместе с тем все, князя раздражающее: излишнее преклонение министра пред умом, широкие от природы и изнеженные руки, белый, как у солдата в госпитале (убийственное сравнение!), цвет кожи, неумение угощать гостей и прочее — всё из того, что Сперанский — не аристократ.
Честь как высшая привилегия дворянства высоко развита у Болконского, что не мешает ему тыкать Пьеру, быть весьма невеликодушным по отношению к нелюбимой жене, а затем к любимой Наташе.
Более того, Болконский способен вести себя, как чиновник самого мелкого пошиба. Он, испытывающий унижение в приёмной у всесильного Аракчеева, сам ведёт себя только что не хуже, будучи адъютантом Кутузова. Прежде я как-то пролетал эту сцену, и, быть может, другими это давно сделанное наблюдение но для меня князь Андрей открылся в ней не менее значительно, чем у дуба или на Аустерлицком поле.
«В приёмной было человек десять офицеров и генералов. В то время, как взошёл Борис, князь Андрей, презрительно прищурившись (с тем особенным видом учтивой усталости, которая ясно говорит, что, коли бы не моя обязанность, я бы минуту с вами не стал разговаривать), выслушивал старого русского генерала в орденах, который почти на цыпочках, навытяжке, с солдатским подобострастным выражением багрового лица что-то докладывал князю Андрею.
— Очень хорошо, извольте подождать, — сказал он генералу по-русски, тем французским выговором, которым он говорил, когда хотел говорить презрительно, и, заметив Бориса, не обращаясь более к генералу (который с мольбою бегал за ним, прося ещё что-то выслушать), князь Андрей с весёлой улыбкой, кивая ему, обратился к Борису».
На Бориса эта сцена произвела надлежащее воспитательное впечатление.
Незаметно авторского сочувствия багровому, униженному, вероятно, заслуженному генералу, да и весь контекст сцены не позволяет видеть в ней акцент на не лучших качествах центрального героя.
От царя и до самого юного офицерика русские дворяне меж собою говорят по-французски, воюя с Францией. Это в столице вводится полушуточный штраф за употребление вражеского языка — для игры. А здесь, на фронте, переведены даже имена собственные:
«— Les huzards de Pavlograd? — вопросительно сказал он.
— La ruserve, sire! — отвечал чей-то голос».
Представилось, что Сталин с Жуковым или комдив с комбатом изъясняются по-немецки в 1942 году... Чисто комедийная картина.
Кто первым стал беллетризовать русскую историю? Почему, зная предшественников Толстого, всё равно видишь родоначальником русской исторической романистики автора «Войны и мира»? Почему не от Пушкина повели бесконечный свой ряд романисты, особенно советских пор, «исповедующие толстовский реализм»? Отчего именно его приёмы оказались столь заманчивыми для воспроизведения?
Один из ответов: уравнивание людей великих и обыденных. Как, должно быть, волнующе-приятно было какому-нибудь беллетристу приступать к сценам с участием властителей мира...
В кабинете у графа Ростова мужчины курят. Желчный умник Шиншин, «запустив себе далеко в рот янтарь, порывисто втягивал дым и жмурился», а свежий, туповатый Берг «держал янтарь у середины рта и розовыми губами слегка вытягивал дымок, выпуская его колечками из красивого рта».
Это типично толстовская точность, которая выдерживалась далеко не всеми даже и великими писателями. Натура, психология, внешность, поступок, привычка — этот ряд обычно безупречен у Толстого, притом в любом, в том числе и бытовом антураже, в физиологии.
Морщинистый остроумец-холостяк Шиншин курит по-настоящему, глубоко затягиваясь, курение для него — та же потребность, что и злословье, тогда как Берг курит лишь напоказ, чтобы быть как все, он даже не затягивается: каждый курильщик знает, что колечки можно выпускать лишь не пустив дым далее рта, колечек из лёгких уже не выдохнешь.
С начала романа и далее везде задеваются немцы. Толстой, в отличие от Достоевского, не имеет репутации националиста, однако ж немцам он готов всыпать при каждом удобном случае. Это и радостный дурак Берг, и гувернёр-немец, страдающий за обедом из-за того, что дворецкий обнёс его бутылкою: «Немец хмурился, старался показать вид, что и не желал получить этого вина, но обижался потому, что никто не хотел понять, что вино нужно было ему не для того, чтобы утолить жажду, не из жадности, а из добросовестной любознательности» — он в письмах домашним в Германию подробно всё описывал.Особенно злобно высмеиваются немецкие военные принципы, ставшее пресловутой формулой неметчины: «ди эрсте колонн марширт... ди цвайте колонн марширт... ди дритте колонн марширт...». Слова князя Андрея: «В его немецкой голове только рассуждения, не стоящие выеденного яйца», — относятся не к кому-нибудь, а к самому Клаузевицу.
Вообще во всём, что касается соотнесения русского и иностранного, автор «Войны и мира» проявляет себя крайним патриотом.
Определение «дореволюционный» («дореволюционная мебель» в московском доме Болконских) режет глаз, настолько срослось для нас с иной эпохой.
Так и употребление глагола «достать» в смысле приобрести принадлежало, как мне казалось, новейшему, может быть даже советскому времени, и тем не менее: «В этот вечер Ростовы поехали в оперу, на которую Марья Дмитриевна достала билет». А вот и употребление махрового газетного штампа, за которые ругают начинающих журналистов: «Факт тот — что прежние позиции были сильнее».
А вот — удивление уже иного порядка: Долохов в Москве в моде, «на него зовут, как на стерлядь». Но позвольте, стерляди- то, нам казалось, а г-н Говорухин ещё укрепил, стерляди в той России было невпроворот, а здесь — элита, верхушка, знать, а поди ж!..
«— Вы пьёте водку, граф? — сказала княжна Марья».
«...слушая, как он курил трубку за трубкой...»
«...пробравшись лесом через Днепр...»
«...подняв сзади кверху свою мягкую ногу...»
«Позади их, с улыбкой, наклонённая ухом ко рту Жюли, виднелась гладко причёсанная, красивая голова Бориса».
«...по доскам моста раздались прозрачные звуки копыт».
Лев Николаевич не раз признавался, что любит Александра Дюма, а «Графа Монте-Кристо» прочёл, не отрываясь, санной дорогою от Москвы до Казани.
Следы этой любви можно обнаружить и во фразах типа: «Кошелёк его всегда был пуст, потому что открыт для всех», — или: «Наташа танцевала превосходно. Князь Андрей был одним из лучших танцоров своего времени»; и в самом построении ВМ, где сюжетно-фабульные приёмы несут куда более влияния Дюма, чем, скажем, Вальтера Скотта или русских предшественников Толстого.
«...нравственно согнув свою старую голову...»
Наташа о морально обновлённом Пьере: «точно из бани...». Ох! Не очень верится в состояние Пьера перед женитьбою. Хоть Толстой и напирает на его чисто плотское чувство к Элен, но показывает Пьера очень уж по-мальчишески целомудренно-растерянным, тогда как Пьер имел достаточный опыт разврата.
Вообще с возрастом Пьера постоянно натяжки. В первых главах он представлен прямо-таки мальчиком. Ему двадцать лет. В двадцать семь он уже показан «отставным добродушно доживающим свой век в Москве камергером, каких были сотни».
Меж тем в эти же семь лет отношенья его с князем Андреем как бы застыли, что проявляется и в одностороннем тыканье ему Болконским, и во взгляде на него Пьера — снизу вверх, хотя положение их разительно переменилось.
Портрет Пьера множится, разнится как бы при перелистывании альбома с фотографиями, когда один человек предстаёт неузнаваемо разным в разные периоды и в разном окружении, и при быстром перелистывании воображение отказывается признавать в фото единую личность.
«— Каково! — говорил он, развёртывая, как лавочник, кусок материи». Это граф-заговорщик Пьер Безухов в эпилоге.Толстой, словно поняв, что пора наконец закругляться, натолкал в эпилог на малое пространство многое из припасённого, оттого так неожиданно-ненужно явление забытого Денисова, оттого опять так неузнаваем Пьер в роли одновременно страстного мужа, карбонария, любящего отца, хозяйственного главы семейства, даже уподобляемого лавочнику, с его привезёнными дарами и речами либерального публициста поздних времён: «В судах воровство, в армии одна палка: шагистика, поселения; мучат народ, просвещение душат. Что молодо, честно — то губят!».
Почему именно Пьер таков, с его разносторонними метаньями, и почему на него возложено несоразмерно более, чем на других: так ли уж было бы неестественно стать Болконскому вольным каменщиком, а пылкому Ростову замыслить убить узурпатора, а Долохову, по всей его натуре и «биографии», — прямая дорога в декабристы...
Быть может, всё дело в том, что он не Пётр, а Пьер, безотцовщина, выросший на чужой стороне? Недаром Денисов, слушая его обличительный монолог, поминает колбасников.
Может быть, и эстафета его к сироте Николеньке не столько в воображаемых заветах Николенькиного отца, но в родстве сирот?
«...той самой дорогой роскоши, состоящей в таком роде жизни. .. что всякую минуту можно изменить его».
В чудачествах старика Болконского вроде вытачивания на токарном станке никому не нужных табакерок видится предвосхищение чудачеств собственных — вроде тачания сапог. У Болконского же были «серые висячие брови, иногда — как он насупливался — застилавшие блеск умных и молодых блестящих глаз».
Одно из лучших мест в романе, по-моему, — приезд князя Андрея при отступлении от Смоленска в брошенные Лысые Горы, встреча с глухим старым крестьянином в оранжерее, который «сидел на лавке, на которой любил сиживать старый князь, и около него было развешено лычко на сучках обломанной и засохшей магнолии». Уезжая, он видит того же старика на том же месте: «Всё так же безучастно, как муха на лице дорогого мертвеца, сидел старик и стукал по колодке лаптя...».
А если бы без «дорогого»? — словно муха на лице мертвеца? В таких фразах гений вспыхивает, давая о себе более понятия, чем другой «обычный» десяток его же страниц.
Может быть, вся последующая жизнь Льва Николаевича во многом явилась следствием создания и успеха «Войны и мира»? Поставив и выполнив немыслимо трудную задачу и столь рано, в сорок лет, достигнув той высоты признания и славы, что является целью писательской жизни, имея графство, Ясную Поляну, семью, детей, опыт военный и педагогический, хозяйственный и светский, знание книжное и житейское, то есть реализовав практически всё то, чего большинству людей, в том числе и литераторов, и краешком не задеть, он просто-напросто заскучал. Ему стало неинтересно. Требовалась иная, более высокая стезя.
Притом он до конца оставался тем графом Толстым, что воевал, кутил или писал «Войну и мир». Последний листок из последней записной книжки его содержит два рода записей, сделанных уже во время Великого ухода.
«Замыслы. Их всего четыре. Один — лошадь. Другой — священник. Третий — любовный роман. Четвёртый — охота и дуэль». И это воображение старца на краю могилы!
И ещё. Опростившийся, собиравшийся поселиться в крестьянской избе граф записывает предметы первой для него необходимости:
Ногтевая щёточка.
Последние строки, сделанные им в «Дневнике», уже в Астапово, 3 ноября 1910 года, — это недописанная французская фраза: «Fais се que doit, adv...» (Делай, что должно, и пусть будет, что будет), — и начало другой: «И всё на благо и другим, и, главное, мне...».
В РУССКОМ ЖАНРЕ - 16
Помню, при первом чтении «Ревизора» меня охватил стыд за Хлестакова и жалость к городничему, особенно в финале после мнимого сватовства. Было мне лет тринадцать. Потом чувство это, как и иные прочие, заросло сверху своим и чужим читанным, наносным, и всё-таки стыд помню.
Подумал, что мой сверстник, тогда же, в тот же, может быть, миг, где-то читая впервые того же «Ревизора», радовался успехам квазиплута и торжествовал над одураченным чинушей.
Но я и сейчас не знаю, как сам Николай Васильевич относился к тому и другому.
«Повесть написана как стилизация, почти имитация Гоголя. <...> Но этот стремительный темп, каждая фраза — как щелчок, в каждом абзаце — законченная сатирическая тема — разве так густо, так лаконично писал неторопливый Гоголь?» (Лидия Яновская. Творческий путь Михаила Булгакова).
Бог мой! И, очень любя Булгакова, договориться до такого!
Да ещё и о такой не лучшей у М. А. штуке, как «Новые похождения Чичикова».
Смешно, конечно, искать для глуховатой, как ясно, Л. Яновской примеры стремительного и густого Гоголя, но один всё же позвольте:
«Тротуар нёсся под ним, кареты со скачущими лошадьми казались недвижимы, мост растягивался и ломался на своей арке, дом стоял крышею вниз, будка валилась к нему навстречу, и алебарда часового вместе с золотыми словами вывески и нарисованными ножницами блестела, казалось, на самой реснице его глаз» («Невский проспект»).
У Гоголя не учились. Как можно учиться у Гоголя? Были писатели, что весьма активно списывали у Гоголя. Самый циничный из них, В. Катаев, в очень лихо написанной, хотя и абсолютно пустой, повести «Растратчики» откровенно скалькировав автора «Мёртвых душ»: «— когда будет не та мельница, которая в прошлом году погорела, а другая, кузькинская, где Мельникова жена без одного глаза...» — спохватился и во спасение оговорил: «старик... закатил почти что из Гоголя».
Другой — Алексей Н. Толстой — в десятых ещё годах столь же откровенно переписывал Гоголя: «Он был известен в своё время за кутилу и бешеного игрока; и вот уже Александр Демьянович не помнил хорошо: Чувашёва ли побили, Чувашёв ли побил, или никто никого не бил, нокакая-то дама вообще не вовремя родила...» («Приключения Растёгина»).
И наконец, Булгаков, который как бы узаконивал свою зависимость от Гоголя.
И всё-таки трудно понять, как писатель немалой мощи, с сильным аналитическим началом, мог позволять себе такое:
«Заплясал Глухарёв с поэтессой Тамарой Полумесяц, заплясал Квант, заплясал Жуколов-романист с какой-то киноактрисой в жёлтом платье. Плясали: Драгунский, Чердакчи, маленький Денискин с гигантской Штурман Жоржем, плясала красавица архитектор Семейкина-Галл, крепко схваченная неизвестным в белых рогожных брюках. Плясали свои и приглашённые гости, московские и приезжие, писатель Иоганн из Кронштадта, какой-то Витя Куфтик из Ростова... и т. д.» («Мастер и Маргарита»).
Если это, говоря шкловским словом, приём, изобретённый одним писателем и использованный другим, то мы ничего не объясним себе.
Гоголь — весь свой собственный приём.
«Мастер и Маргарита» — произведение многих интонационно несхожих стилей.
Гоголевский страничный период, будет ли то развёрнутая метафора или особенно зачаровавшее Булгакова панорамное перечисление фамилий без лиц, действует не менее завораживающе, чем погубившие стольких литераторов объяснительные фразы Льва Толстого или примиряюще-безнадёжная, как октябрьский дождик, мелодия зрелого Чехова.
Поработивший Булгакова приём настолько заразителен, что и сам Гоголь, кажется, грешил самоповтором, когда в «Мёртвых душах» на протяжении двух десятков страниц даёт и «галопад»: «почтмейстерша, капитан-исправник, дама с голубым пером, дама с белым пером, грузинский князь Чипхайхилидзев, чиновник из Петербурга, чиновник из Москвы, француз Куку, Перхуновский, Беребендовский — всё поднялось и понеслось...» (гл. 8).
И там же, на губернаторском балу места, где случалось Чичикову рассказывать приятные вещи: «именно в Симбирской губернии у Софрона Ивановича Беспечного, где были тогда дочь его Аделаида Софроновна с тремя золовками: Марьей Гавриловной, Александрой Гавриловной и Адельгейдой Гавриловной; у Фёдора Фёдоровича Перекроева в Рязанской губернии; у Фрола Васильевича Победоносного в Пензенской губернии и у брата его Петра Васильевича, где были свояченица его Катерина Михайловна и внучатные сёстры её Роза Фёдоровна и Эмилия Фёдоровна; в вятской губернии у Петра Варсонофьевича, где была сестра невестки его Пелагея Егоровна с племянницей Софьей Ростиславовной и двумя сводными сёстрами — Софией Александровной и Макулатурой Александровной».
И в главе 9: «Показался какой-то Сысой Панфутьевич и Макдональд Карлович, о которых и не слышно было никогда; в гостиных заторчал какой-то длинный, длинный, с простреленной рукою, такого высокого роста, какого даже и не видано было».
Но это Гоголь, ему, как известно, всё было можно, и всё всегда оказывается у него необходимо и единственно.
Подражая Гоголю, невозможно остаться самим собою, даже такому большому писателю, как Булгаков; Гоголь всегда властно продемонстрирует своё авторское первородство.
Неосознанные заимствования в этом смысле куда безобиднее:
«Зина внесла серебряное крытое блюдо, в котором что-то ворчало» («Собачье сердце»); «...принося что-то в закрытых тарелках, сквозь которые слышно было ворчавшее масло» («Мёртвые души», том II, гл. 3).
«...ногтем, толстым и крепким, как у черепахи череп...» («Шинель»).
Я было решил, что Гоголь распространил крепость панциря черепахи и на череп её, который она под него прячет, но конечно же, Гоголь точен, и у Даля «череп черепахи, наружная покрышка, щит сверху и снизу», тогда как немецкое «панцирь» объяснено им в значении кольчуги, а в переносном смысле с пометкой «квк»: «сухая грязь и смола, свалявшаяся со щетиной» на кабане.
«Москва нужна для России; для Петербурга нужна Россия». Гоголь. Петербургские записки 1836 года).
Для наших же дней: провинция нужна для России; для Москвы нужна Россия.
Какой домашнею, тихой, русской предстаёт Москва у писателей XIX века в противовес западному, прагматичному, безжалостному Петербургу.
«В Петербурге кроме дел... нужно было освежиться... после московской затхлости. Москва, несмотря на свои cafes chantants и омнибусы, была всё-таки стоячее болото» («Анна Каренина»),
У кого-то сказано про тогдашний Питер: город для взрослых людей. А в советское время и в нынешнее таковою сделалась Москва. Что же здесь удивительного?
Да то удивительно, как мало значит сам город — ландшафт, дома, история — по сравнению с функцией. Стала матушка вновь столицей — и где та неторопливость, патриархальность, когда Пьеру Безухову после Петербурга «стало в Москве покойно, тепло, привычно и грязно, как в старом халате».
Халат превратился в жёсткий модный костюм. А ведь горы-то Воробьёвы на месте, и Тверская и Поварская, а Москвы прежней нет.
А в Питере «логарифма» не то что поубавилось, а вовсе не стало. Казалось бы, нарочно созданный для столицы, расчётов, государственных дел и смелого досуга, прямой и холодный, «умышленный» Санкт-Петербург навсегда таков, а подите ж...
«Отцы были русскими, которым страстно хотелось стать французами; сыновья были по воспитанию французы, которым страстно хотелось стать русскими». Ключевский говорит о поколениях декабристов и их отцов, но то же относится и ко всем без исключения поколеньям нормального, точнее — некатастрофного времени, только вместо французов надо подставлять реформаторов, коммунистов, буржуа, патриотов, космополитов и т. д. Время катастроф может сместить принцип, как, например, всего лишь четыре года Великой Отечественной.
«Анна Каренина», воспринимаемая как естественное звено между «Войной и миром» и «Воскресеньем», во многом более отлична от первого и третьего, чем те между собою. Или возраст писателя причиною, или эпоха 1880-х годов — временно устоявшегося и набирающего благополучие русского общества, но «Анна Каренина» при трагедийности заглавного сюжета роман оптимистический, примиряющий, мало наполненный отрицанием и критикой.
И ещё это самое дворянское из всех сочинений графа Толстого. Одно описание Английского клуба таково, что едва ли не по-британски верится в незыблемость устоявшегося порядка, с «отдыхом, довольством и приличием». Читателю предложено если не восхищаться именно и только этими людьми, как бы вовсе и неприукрашенным, но единственным в России сословием, которое достойно именоваться людьми. Лёвинские мужики лишь естественная придача к барину, а тот барин, что выломался из сословия, как Николай Лёвин, вызывает не меньшую, чем жалость, брезгливость приобретёнными им в среде разночинья привычками.
Один литератор при мне презрительно отзывался о композиционной (против Достоевского) слабости Толстого, ссылаясь именно на «Анну Каренину», где, дескать, главы арифметически чередуют рассказ обо всех главных персонажах. Литератор, автор ремесленных исторических романов о русских князьях, имел, конечно, поверхностное понятие о композиции. Строение «Анны Карениной» может соперничать с композицией даже «Преступления и наказания», может быть, самого стройного из русских романов.
Достаточно напомнить о зеркальном отражении начала и конца. Всё заверчивается вокруг измены Стивы, пустой и никого особенно не задевшей шалости мужчины, и одна из первых глав та, где Долли жалуется приехавшей как бы в роли морального авторитета всеми любимой Анне, вскоре «пошалившей» подобно брату. А в последних главах с Анной она, раздавленная и падшая, едет к Долли, столь несчастной в первом и благополучной в финальном разговоре.
Молодой Корней Чуковский потешался над тоже молодым тогда Алексеем Толстым, который «воздвигнул в литературе беременный живот и прячется за ним, там ему тепло и нестрашно». Задолго до Толстого Алексея этот живот воздвиг и утвердил в русской словесности главный Толстой.
Мы, конечно, знали и знаем, что были и богатые, и бедные дворяне, и всё же помещики одного круга, представляется, хотя бы примерно одинаковы в быту. Поражает реакция Долли на бытовое устройство в имении Вронского.
«— Как хорош! — сказала Долли, с невольным удивлением глядя на прекрасный с колоннами дом». «Комната эта была не та парадная, которую предлагал Вронский, а такая, за которую, Анна сказала, что Долли извинит её. И эта комната, за которую надо было извинить, была преисполнена роскоши, в какой никогда не жила Долли». «В детской роскошь, которая во всём доме поражала Дарью Александровну, ещё больнее поразила её».«.. .франтиха-горничная в причёске и платье моднее, чем у Долли...» И т. д.
Долли подмечает всё с вниманием человека другой, низшей среды, и писатель вскоре вводит рядом с богатством иное, нравственно низшее положение Вронского и Анны.
Анна и мать дурная — не помнит, сколько зубов прорезалось у дочери, и предохраняться от беременности научилась, и в конце концов Долли с удовольствием узнаёт от своих людей обратной дорогою, что барин скупой и лошадей кормили дурно.
«Они (женщины. — С. Б.) мучат для того... как бы это сказать. .. а мысль совершенно оригинальная... для того, чтобы вперёд вознаградить себя за те права, которые они потом теряют» (Островский А.Н. Грех да беда на кого не живёт).
У Достоевского дьявол многолик. Герои его всегда в искушении и очень часто дают себе волю, страдая затем. Греха в мире Достоевского больше, чем у другого русского писателя. В отличие от реальной «бытовой» жизни, управляемой страхом и условностью, его герои свободны и бесстрашны, они реализуются в грехе, и затем следует покаяние.
У Толстого дьявольское искушение в сущности это только похоть. Так и рассказ он назвал. Подлинно дьявол у него везде лишь в женском соблазняющем обличье.
Почему-то очень трогает, что Толстой и Островский были на ты. Сам Толстой вспоминал: «я с ним почему-то был на ты».
Мало ли какие писатели были меж собою на ты, скажем, весь кружок Некрасова. Может быть, просто потому, что Лев Николаевич мало с кем был на ты, а из писателей, так кажется, и вовсе ни с кем. Но есть для меня какая-то очевидная приятность в этом ты, почему-то кажется, что и самому Толстому приятно было, уже и в шестьдесят лет, обращаясь к Островскому с просьбой разрешить печатать его сочинения в «Посреднике», писать это самое ты.
По-моему, он был искренен, когда говорил, что благодарен Островскому, некогда разбранившему его комедии: «Заражённое семейство» — «это такое безобразие, что у меня положительно завяли уши от его чтения».
«...честный человек в России мастер молчать, где ему молчать не следует» (Лесков Н. С. Расточитель).
Сельские попы у Лескова («Смех и горе») пишут владыке друг на друга доносы и по какому поводу! Подглядел один «сего священника безумно скачущим и пляшущим с неприличными ударениями пятами ног по подряснику», «азартно играл в карты, яростно ударял по столу то кралей, то хлапом и при сём непозволительно восклицал: “никто больше меня, никто!”».
Как был унижен поп в послепетровской России известно, но из всей русской классики, кажется, лишь один Лесков показал это, просто с позиции человеколюбия, а не истории, теологии, и прочего. Ещё Чехов.
В той же повести методы жандармские раскрываются с тем жутковатым юмором, что для людей нашего поколения накрепко связан с тремя зловещими буквами. Здесь же и беспощадно-трезвый взгляд на новинку сезона—земства, здесь же и о либералах...
Лескова никогда не хотели ценить по достоинству, потому что он всех ценил по делам.
23-летний Чехов пишет брату Александру о знакомстве с Лесковым с той развязностью, которая призвана скрыть, что ему льстит это знакомство, скорая короткость его: «С Лейкиным приезжал и мой любимый писака, известный Лесков. Последний бывал у нас, ходил со мной в salon, в Соболевские вертепы... Дал мне свои сочинения с факсимиле. Еду однажды с ним ночью. Обращается ко мне полупьяный и спрашивает: “Знаешь, кто я такой?” — “Знаю”. — “Нет, не знаешь... Я мистик...” — “И это знаю...” Таращит на меня свои старческие глаза и пророчествует: “Ты умрёшь раньше своего брата.” — “Может быть.” — “Помазую тебя елеем, как Самуил помазал Давида... Пиши”. Этот человек похож на изящного француза и в то же время на попа-расстригу. Человечина, стоящий внимания. В Питере живучи, погощу у него. Разъехались приятелями». Было Лескову 52 года.
Оба печатались в «Осколках» у Лейкина. Трудно вообразить соседство автора «Воительницы», «Соборян» с ладно уж Чехонте, но с Лейкиным и другими, с этими невзыскательными карикатурками, всяческой «смесью» и прочим. И ставил себя он, человек крутого и независимого нрава, с молодёжью не сверху вниз?
Просится само вообразить, что это лишь с Чеховым, что, разглядев в молодом собутыльнике не кого-нибудь, а Чехова, Николай Семёнович словно бы передал ему... и письмо как бы об этом... Но отчего-то эта слишком гладкая картинка исчезает, а есть мокрая поздняя осень, приехавший в Первопрестольную усталый писатель, пьянство, дождь, извозчик...
«Тени становятся короче и уходят в самих себя, как рога улитки» (Чехов. Налим).
И всё-таки не Чехов ещё, а Бунин и в этом следующий ему— только в этом! — Набоков довели обращенье со словом до того хозяйского щегольства, за которым уже не могло следовать продолженья. Порой подобное демонстрировал ещё Алексей Н. Толстой. Но никогда импрессионистский эффект настолько не удавался, казалось бы, принципиально импрессионистичным писателям, как например, Андрей Белый. У А. Толстого метрдотель «повис седыми бакенбардами» за плечом поэта Бессонова; Бунин может написать: «в купе по крыше шёл дождик».
Бунин доходит до практически абсурдных тропов, добиваясь единственного в своём роде результата: «независимого вида стенографистка, рослая, манящая, несмотря на своё сходство с белым негром».
Рассказ «Петлистые уши» (сравнительно не самый известный из бунинских), по-моему, зерно, из которого вырастает всё бунинское новое, написанное в эмиграции. Это рассказ о погибающей, полумёртвой, и оттого особенно дорогой России, в том числе и России декадентской, литературно-замороченной, пропитанной предчувствиями и пороками, преступностью и озареньями. «Предсмертные звуки танго», как выразился Алексей Толстой, это, конечно, и «Сны Чанга», и «Господин из Сан-Франциско», «Дело корнета Елагина», но особенно «Петлистые уши» о думающем господине, себя полагающем выродком за непреодолимое стремление к убийству.
Две фамилии остановили моё внимание в рассказе «Петлистые уши».
Один из собутыльников героя — матрос Пильняк.
Борис Пильняк объяснял происхождение своего псевдонима украинским словом, обозначающим место лесных разработок. У Даля его нет, а «пильновать» значит спешить, усердствовать. Во всяком случае, никогда и нигде, кроме как псевдоним Бориса Вогау и мимолётный персонаж Бунина, мне это слово не встречалось. Рассказ написан в 1916 году, а в печати псевдоним будущей знаменитости стал появляться в 1915. Можно предположить, что редкая фамилия запомнилась Бунину как подпись в периодике?
Вторая фамилия, вызвавшая у меня некоторые размышления, это Дайблер, французский палач, «он недавно умер на своей вилле под Парижем восьмидесяти лет от роду, отрубив на своём веку ровно пятьсот голов по приказу своего высокоцивилизованного государства», — говорит герой рассказа Бунина Адам Соколович.
У Александра Вертинского есть рассказик-воспоминание «Мсье Дайблер», эффектное повествование о своём поклоннике, скромном пожилом парижанине месье Дюпоне, который оказывается страшным знаменитым палачом Дайблером. Но Вертинский жил и пел в Париже в середине 20-х — начале 30-х годов. Почему-то не хочется думать, что он просто наврал и не было никакого месье Дюпона-Дайблера. Поэтому допускаю, вероятно, фантастическую, версию: умерший во время первой мировой палач Парижа был отцом того палача, с которым встречался Вертинский лет через пятнадцать, ведь я где-то читал, что должность палача передавалась по наследству.
В своё время на меня очень сильное впечатление произвели выпады Блока против иронии. Помните? Ирония — эпидемия, ирония — род пьянства, ирония — разлагающий смех, она «искажает лики наших икон, чернит сияющие ризы наших святынь» и т. д.
Пристрастный в одну сторону читатель, скажем, читатель «Нашего современника», разумеется, подставит сюда понятно чьи лица, тем более что Блок как символ иронически-заразного писателя приводит Гейне, и всё будет в порядке. Но если долго сидеть над этими страницами Блока, не будет всё в порядке. Уж слишком велик заряд ненависти, несоразмерно велик, уж слишком пафосно насчёт сияющих риз, слишком и Достоевского — даже Достоевского! — Андреева, Сологуба загнать в один ряд «разрушителей».
Я — во всяком случае по-своему — понял причины ярости Блока. Обронив в начале статьи в противовес иронии созидающий смех, он нигде не назвал его обличье, ни одного примера. Блок сам был страшно неуверен во всём и потому так боялся всего, что колеблет и без того колеблющегося. И без того изверившемуся ирония страшна, она может быть опасна до убийственности. 1908 год не самое жизнеутверждающее время, особенно для среды, в которой находился поэт. Выкрикивая лекарство от иронии Александр Александрович предавался самолеченью.
В РУССКОМ ЖАНРЕ - 17
Взять калоши, что калоши,
Поносил — и дырочки.
Резинтресту лучше плоше,
Больше будет выручки.
Или загс там и невеста,
Детпроизводительность.
Мы издельям резинтреста
Доверяем бдительность.
Стишок 20-х
Брат уверял меня, что своими глазами в собрании сочинений Маяковского (первом посмертном, бриковском) читал рекламу:
Если хочешь быть сухим
В самом мокром месте,
Покупай презерватив
Лишь в резинотресте.
Верилось с трудом.
Чтоб звёзды обрызгали
Груду наживы:
Коньяк, чулки
И презервативы...
Я купил синий толстый том Багрицкого («Библиотека поэта) на уличном лотке, возвращаясь из школы, возбуждённый и утомлённый поздней весной и экзаменами. 1965 год.
Влез в него и совершенно очумел от «Февраля». Крутая, пахучая, дерзкая строка, и всё о том же: «На кровати, узкие, как рыбы, / Двигались тела под одеялом...».
Запретность слова таилась не только в назначении предмета, им обозначаемого, но и в фонетической его гнусности. Недаром в обиход и вошёл столь успешно преображённый кондом, сделавшийся на русский лад этаким словом-ухарем, не лишённым изящества.
Месье Гандон. Входит, подбоченясь и подкручивая усы...
На семинаре молодых критиков в Дубултах сотрудница Иностранной комиссии, с которой и ещё одной дамой из аппарата Правления СП мы выпивали, рассказывала, какие сложности возникли в связи с визитом в СССР президента Международной ассоциации литератруных критиков Ива Гандона.
Но как звучит: президент Ив Гандон!
А году в 83-м я стоял у парадного подъезда. В точном смысле подъезда: с покатыми въездами-спусками от входа у всем писателям известного дома по Комсомольскому проспекту, 13. Стоял и беседовал с очень в те поры известным критиком Юрием С., описанным Олегом М. в романе «Пляска на помойке». Мы встретились по общему поводу: утверждаться как члены туристской группы в Швецию — Данию. (Маршруту по тем временам экзотическому и дорогому, на путёвки я ухлопал один из первых своих книжных гонораров.)
По какому, не помню, поводу, речь зашла о романе «Как закалялась сталь», сошлись на мнении, что роман отнюдь не бездарен и по-своему привлекателен. И тут Юра стал довольно горячо, как, впрочем, он обычно и изъяснялся, словно бы доказывать, что пишущему о писателях, биографу, «жэзээльцу», что тогда, и в его устах, было почти синонимами, нужно искать неожиданные бытовые детали, которые, контрастируя с привычным обликом, не разрушали бы его, но оживляли. И привёл в пример откуда-то известное ему письмо Николая Островского другу в Москву из какой-то глухомани, где сообщалось: девки здесь хорошие, но без презерватива не дают, пришли, пожалуйста. Юра засмеялся, но тут же задумчиво заключил, что такое цензура не пропустит.
О ранней смерти С., случившейся скоропостижно и странно в городе Берлине, и также описанной в романе «Пляска на помойке», я узнал в Коктебеле. По пляжу прошёл шёпот. Сказали и мне. «Юра?» — поразился я, — но сообщавший строго меня поправил: «Юрий Иванович». Вскоре собралась группа из нескольких человек составлять телеграмму соболезнования в Москву: критики Виктор Ч., Игорь 3. и другие. Я в обсуждении текста участвовал. На телеграф к автобусной остановке пошли Ч. и 3. Я спросил воротившегося Ч.: «Послали?». И услышал: «Без твоей, понимаешь, подписи». — «Почему?» — «Игорёк, знаешь ли, недоволен, молод, говорит, рядом с нами подписываться».
У Игорька была внешность кинематографического провинциального священника, то ли шибко пьющего, то ли очень недужного, борода котлетой. Он не говорил, а изрекал словно бы скорбные, но очевидные лишь ему истины, к которым никто не хочет прислушаться.
А была крымская весна, и было как в раю. Кто в состоянии описать рай? А вот обитателей его, отчего же...
Ч. говорил: «Лабаз, так сказать, он действительно прибыль даёт, но и ларёчек тоже кое-что. Плохо, у кого вовсе ничего нет».
Ч. изъяснялся с той лёгкой насмешкой над предметом, которая более всего и уверяет в справедливости говоримого. Мы сидели на веранде каменной дачи, и пели птицы, и цвели деревья вокруг.
— Вот ты, Серёжа, уже небезлошадный, ты смолоду уже ларёчек получил в пользование. Это мы с Олежкой пролетарии литературного, так сказать, труда, и должны действительно, понимаешь, обслуживать имущих, чтобы на кусок хлеба заработать.
Под ларёчком понималась недавно занятая мною должность заведующего отделом критики журнала «Волга».
Политэкономия советских писателей в изложении Ч. была крайне проста. Писатели подразделялись им на неимущих, то есть не служащих и не имеющих чинов, и имущих, среди которых первый ряд занимали, естественно, секретари творческого союза, главные редакторы журналов, киностудий, издательств. Но и самые мелкие, казалось бы, вроде моей, должностишки, обладали немалым потенциалом.
— Вот ты, Серёжа, — мы чокнулись крымской, вяжущей, как орех, мадерою, — можешь напечатать рецензию на роман главного редактора другого журнала, а можешь не напечатать. Конечно, тебе и прикажут, но всё равно у тебя инициатива. А главный, понимаешь, редактор помнит и видит, кто его, так сказать, хвалит или ругает. А ещё ты мне можешь заказать, действительно, статью, и я у тебя заработаю, и буду тебе признателен, и, если ты выпустишь, так сказать, книгу, почту за долг похвалить её, а если, к примеру, мне дадут на отзыв рукопись твоей книги из издательства, о котором ты в своём журнале, не будь дурак, и о главном, и о заведующим редакцией уже отозвался, то, так сказать, понимаешь ли...
Мы чокнулись ещё стаканом мадеры, и мой старший товарищ объяснил далее, что не только от главного и завредакцией, но и от простого редактора много чего зависит...
Свежий апрельский ветерок задувал с моря, разноцветные тени сбегали по морщинам Карадага, становилось спокойно, уютно и понятно в осваиваемом мире советской литературы.
— Мы же, братец, — говорил мне в другой раз тот, кого Ч. называл Олежкой, также известный критик и, к тому же, исторический романист, — с Виктором Андреевичем вынуждены ларёчника, а тем более лабазника, ласкать. Эх! К тебе сами придут, а мы должны побегать, предложить услуги. Давай, братец, выпьем, — и мы чокнулись горьковатым крымским хересом, — а я вот имяреку, болвану бездарному, спинку должен помыть, чтобы он меня при составлении годового плана не забыл, да ещё должен результат помывки у тебя, скажем, опубликовать, для чего должен помыть спинку и твоему главному, ну уж а с тобой, — тут он умилился и заблестел очками, — как друзья, просто выпьем!
Мне нравился цинизм москвичей.
Бытовало мнение, что критики-патриоты — тяжелодумные оруженосцы бездарных патриотических литгенералов. Я более встречал там хитроумных циников в прикиде народолюбцев. Цинизм был куда симпатичней, чем занудливый взгляд моего первого главного, всё искавшего крылья души у первых секретарей обкомов, или «степной огляд», или что-то в этом роде следующего шефа, черпавшего из «родников народных». Оба при этом имущественные свои дела обстряпывали с виртуозной лёгкостью, хотя и в разном стиле. Первый находился в роли крупного советского писателя на дистанции от областного руководства в силу своей крупности и близости столице. Он часто отлучался в Москву, непременно выступая на всероссийских и всесоюзных пленумах, секретариатах и совещаниях, возвращаясь в Саратов и в редакцию, как небожитель. Второй, напротив, был в доску свой комсомольско-народно-русско-мордовско-колхозный парень, обожаемый во всех без исключения кабинетах — от секретаря обкома до директора совхоза. Он неутомимо мотался по районам или бегал по городу, всегда готовый услужить делом и словом, сочинить гимн района или предприятия или просто шуточные, не без озорства, стишата к юбилею, скажем, руководителя водоканала или хлебкомбината.
Пленяло и московское злословие. Блистал здесь Ч. Более всего он любил в обычной своей меланхолической интонации пересказывать реальные события. Иногда — книги. Причём, и это, кажется, особенно характерно, книги не «евреев», но «своих». Как-то он довёл меня до истерического смеха, импровизируя пародию на романы классика патриотической литературы Анатолия Иванова. «Книга первая, глава вторая. Онисим Кривой, воротившись с германской застал жену свою Евдокею с барским приказчиком Кузьмой. Не торопясь, отрубил он Евдокее сиськи и велел принести деток. Покидал их в колодец, и тогда взялся за Евдокею основательно. Книга седьмая, глава шестая. Лето тридцать седьмого выдалось ненастное. Зарядили дожди. В лугах начало гнить сено. Подымал голову классовый враг».
Из множества его эскапад ещё две. «У нас, так сказать, нормальный, действительно, мужичок талантом быть признан не может. Колется, если, действительно, то говорят: талант! Лучше ещё, если даёт, так сказать, в жопу, тогда говорят: страдает, душа болит, большой, так сказать, талант. А если кто, как я, к примеру, жену и деток любит, день и ночь на них работает, ну, в лучшем случае скажут: способный парнишка!»
Другая связана с эмиграцией Василия.
«Улетает, действительно, Вася из Шереметьева, а за ним бегут. Бегут секретари, кураторы, все бегут и кричат: “Вася, останься!” Он всем однотипно: “Пошли вы на...!” Роли у всех распределённые: кураторы в буфет тащут, Верченко за локоть берёт и про квартиру шепчет, Фелька бородой трясёт и про общее прошлое вспоминает. Вася идёт, понимаешь, к трапу и всех посылает. Наконец, уже у трапа, появляется вообще сам Мокеич в сопровождении директора “Худлита”. Директор договором на собрание сочинений размахивает, а Мокеич одно слово говорит: “орден”. А Вася оборотился уже с лесенки и сапожком их в рыла: пошли, мол, надоели!»
Встречаются печатные перлы, которые просто хочется цитировать, наслаждаясь. Читать их надо медленно, с чувством.
«На пятом километре грунтовой дороги Салтыковка — Песковатка (Ртищевский район) двое неизвестных под угрозой физической расправы отобрали 15 рублей и звезду Героя Социалистического Труда у пенсионера» (Саратовская газета «Коммунист». 1990, 29 мая).
«Первая партия мягкой мебели “Муза” выпущена на совместном российско-китайском предприятии “Бирасун”, созданном при исправительно-трудовом учреждении в посёлке Бира Облученского района Еврейской автономной области» (Интерфакс: Известия. 1994, 17 марта).
Три степени узнавания:
— некогда в примечаниях к Есенину как обожгло: сборник «Гостиница для путешествующих в прекрасном». Бог мой, как необычно, красиво, — подумал старшеклассник;
И всё пройдёт, и даже месяц сдвинется,
И косу заплетёт холодная струя,
Земля, земля, весёлая гостиница
Для проезжающих в далёкие края... —
с ознобом прочитал молодой литератор, и без того покорённый Эрдманом;
— Мы на этом свете всё равно что в гостинице... — с удивлением согласился пожилой литератор, и до этого читавший «Пучину» Александра Николаевича Островского, но впервые увидевший эти строки.
Жалеют Эрдмана, боже, как глупо! Дескать, мог бы написать ещё сколько-то гениальных пьес, равных или даже выше «Мандата» и «Самоубийцы»... Если бы не Сталин, если бы не Качалов, если бы...
А то, что Гоголь, именно Гоголь, и тоже две?
Но я сейчас даже не о том, а о том, что написанное после войны Эрдманом и реализованное в детском, преимущественно, мульткино, не есть жалкое прозябание и творческая чёрная дыра. Конечно, можно сослаться на эпизод, рассказанный Юрским, которого Эрдман отговаривает, чуть не запрещает сниматься в картине по его сценарию, кажется, «Укротители велосипедов». И в самом деле, формально своего Эрдман практически не создал. Он сделался соавтором, но кого? Вольпина, ясно, а ещё кого? Марк Твена, Шекспира, Чехова, Достоевского, Островского, Андерсена, Лермонтова, Гаршина, Киплинга, А. Толстого, Есенина, Шварца. Когда сейчас мы поголовно не то что вздыхаем, а стонем о золотом веке советского мультфильма ввиду омерзительной импортной продукции, предлагаемой нашим детям ТВ, то можно перечислить фильмы по сценариям Эрдмана, и ясно, каков был его личный вклад в ту культуру, которая, как светлый остров, существовала в чёрном режиме: «Братья Лю», «Оранжевое горлышко», «Остров ошибок», «Приключения Мурзилки», «Двенадцать месяцев», «Снежная королева», «Верлиока», «В некотором царстве», «Кошкин дом», «Тайна далёкого острова», «Приключения Буратино», «Человечка нарисовал я», «Мишель и Мишутка», «Лягушка-путешественница», «Кошка, которая гуляла сама по себе», «Снегурочка», а ещё игровые «Морозко», «Огонь, вода и медные трубы», «Город мастеров», «Шведская спичка», «На подмостках сцены», «Каин XVIII». Всего 28 фильмов и 31 мультфильм.
Мне сейчас 52 года, я переписываю эти чудесные названия, и замирает сердце, и вовсе не только потому, что это моё детство. Сердце отчего-то не замирает, если произнести «Васёк Трубачёв и его товарищи», «Сын полка» или «Вратарь республики».
А ещё были либретто оперетт, и вообще, товарищи, уж кого-кого, только не Эрдмана жалеть, у него одна из самых красивых судеб в русской культуре XX века.
Начиная с середины 30-х годов так провалился уровень писательства, что и очень одарённые новые литераторы после войны смотрели на уцелевших писателей 20-х годов, как на небожителей. Подобно тому, как на мхатовцев второго поколения, чьи рукопожатья хранили тепло рук Станиславского, Москвина, Булгакова. Так и на переделкинских патриархов, зная их грехи и прегрешенья, всё-таки смотрели снизу вверх, они, выжившие, были сверстниками, собутыльниками или, по крайней мере, знакомцами Пильняка, Бабеля, Есенина, Маяковского. Они были в том, пусть не Серебряном (хотя, подождём, мы ещё дождёмся эпитета двадцатым годам), но столь ярком периоде возникновения новой литературы, пусть и под патронажем, крылом или приглядом советской власти.
Вот откуда удивительно почтительный тон независимого ершистого Шукшина в письме к Федину: «Получив Ваше письмо, глянул, по обыкновению, на обратный адрес и... вздрогнул: «от К. Федина». Долго — с полчаса — ходил, боялся вскрыть конверт. Там лежал мне какой-то приговор. Вскрыл, стал читать...» — и т. п. Это автора-то «Необыкновенного лета» буйный, отчётливо не любивший начальства, Василий Макарович так воспринимал? Он воспринимал так человека, печатавшегося на одних страницах с Горьким и Замятиным, слышавшего Блока, называвшего Алексея Толстого Алёшей.
Мой покойный отец, Григорий Фёдорович Боровиков (1905— 1993) был членом СП и несколько лет работал ответственным секретарём Саратовского отделения СП. В его оставшихся не очень обширных дневниках возникают, не очень густо, имена некоторых известных писателей 50—60-х годов, более других
Федина, что понятно. Надо ли говорить, что Федина отец более чем обожал. Но вот запись от 23 августа 1965 года: «.. .звонил мне племянник К. Федина Г. В. Рассохин, передал привет от дяди. В разговоре он сказал, что спрашивал К. Федина, не собирается ли он приехать в Саратов. На это, будто бы, последовал такой ответ: «Как же я поеду без приглашения! Вот если бы обком партии пригласил, тогда приехал бы с удовольствием!» Прямо невероятно! Это так непохоже на Федина. Но и не поверить Г. В. Рассохину тоже нет оснований».
Есть в дневнике и о встречах с К. Симоновым, когда тот в 1947 году приехал в Саратов, чтобы по заданию Сталина написать пьесу о советских учёных-патриотах (в Саратове был и есть уникальный НИИ «Микроб», некогда в Первую мировую эвакуированный из Кронштадта). Записи отца очень сдержанны, сухи. В этом и его характер, и эпоха. Кажется, более всего поразило отца то, что Симонов приехал с секретаршей-стенографисткой. Поселили Симонова в обкомовском особняке, где ранее, как пишет отец, живали Ворошилов, Погодин, Корнейчук с Василевской.
А вот в годы мне уже памятные, в годы успеха «Живых и мёртвых», отец отзывался не об авторе, а о книгах его, неприязненно. В ответ на всеобщие похвалы, а тогда, в 1965 году, очень многие восхищались «Живыми и мёртвыми» как новым словом о войне, отмалчивался. Наконец, как-то на мои настойчивые расспросы, явно не выдержав, очень резко сказал: «Симонов лошадиную ногу не жрал, как мы. Убитая лошадь лежала впереди окопов, а мы под выстрелами ползали и отрезали по куску. А Симонов от «Красной Звезды» на «виллисе» приехал и ниже комбата никого не видел!».
И по-другому высветился роман Симонова (хотя достоинства даже и сейчас в нём вижу): какой-то при естественной убыли персонажей их непрерывный служебный рост, словно бы выписки из личного дела: из комбата в начштабы полка, из начштаба в замкомполка и т. д. — увлекательная своего рода поэзия службиста.
Идейная непримиримость и последовательность убеждений Ильи Глазунова общеизвестны. И при советской власти, и затем он обрушивался на антинародное, антирусское и антиреалистическое искусство. Едва ли не первым объектом его нападок неизменно служило творчество Пабло Пикассо. Кажется, ни одно печатное или публичное выступление маэстро не обходилось без объявления Пикассо дутым гением, а конкретно «Герники» — шарлатанством. Тем трогательнее узнать, что «генсек ЮНЕСКО Федерико Майор вручил медаль имени Пикассо народному художнику СССР, члену-корреспонденту Российской академии художеств Илье Глазунову» (газ. «Культура». 1999, № 35).
Как-то саратовский художник поделился бедою: он написал по заказу управления культуры большое полотно «Встреча М. А. Суслова с земляками», а может выйти беда.
Художник, как и положено, с бородою, был выпивши, дело было в его мастерской. Вот смотри, — сказал он и отдёрнул занавесочку. У крыльца новенького дома, надо понимать, правления колхоза, собрались весёлые нарядные люди. Здесь были и почтенные бородатые старики, и пионеры с пионерками, и зрелые механизаторы, и улыбчивые доярки. Всё обращалось ликами в центр полотна, где высилась до боли известная тогда советским людям фигура вешалки с лицом ящерицы. Вешалке-ящерице подносились хлеб-соль и цветы, и она улыбалась, словно перед тем, как молниеносно слизнуть окружающих, как мошку.
Мы молча покачивались у полотна. Я был тоже выпивши и спросил:
— С натуры писал?
Художник даже не обиделся. Он ткнул пальцем рядом с Сусловым:
— Вот. А его уже нет. А нашего тоже ещё нет, а?
Я уразумел, что фигура вблизи ящерицы с хлебосольной улыбкой на толстом лице, это наш бывший первый секретарь Шибаев. А нынешнего секретаря на полотне нет, и как он воспримет это, неизвестно. А если нового поместить вместо прежнего, будет нарушена историческая правда, да и Шибаев теперь в Москве на высоком месте.
— А ты обоих нарисуй.
— Оба обидятся
Дальнейшей судьбы полотна я не знаю.
В 20-е годы, в разгар, как тогда говорилось, нэпа, в прессе стали обличать накопительство, страсть к приобретению вещей. Присоединились писатели. Маяковский. Ладно. При всей, скажем, небедности, он не был барахольщиком. А рассказ, который так и называется «Вещи», пронизанный желчным укором тёмной бабе, погубившей мужа в погоне за барахлом, написал, естественно, не кто-нибудь, но Валентин Катаев.
А в другое, позднейшее время, словечко «вещизм» изобрёл и пустил в дело, если не ошибаюсь, опять-таки не кто-нибудь, а Евгений Евтушенко.
«Белеет парус одинокий» прежде Лермонтова пришло из повести Катаева не только в моё, но, думаю, в детство многих тогдашних советских детей, посещавших специализированные детские библиотеки. Я не помню, чтобы особенно предлагали классику, в том числе стихи. Зато очень хорошо помню, как даже не навязывали, а просто обязывали брать книги по программе и, сдавая книгу, надо было изложить содержание. Лишь после этого допускали к книгам иным. Я, например, просил исторические книги, про путешествия; возникало и слово «приключения», но не «детектив». Слово было запретным не только в детской библиотеке № 1 имени Пушкина.Однако я отвлёкся, я хотел о названиях.
В советской литературе, в общем-то, сделалось штампом назвать книгу поэтической строкой классика, прежде всего Пушкина. Произведению придавалась с порога столь требуемая выспренность. Особенно шло это романам на историко-революционную тематику. Строка классика задавала повествованию, в котором люди прятали, переносили, снова прятали оружие, а затем из него стреляли по городовым, солдатам и ренегатам, романтический характер. Поэтому ветер, чёлн, парус и прочие атрибуты романтической поэзии стали усиленно растаскиваться советскими прозаиками. Если не ошибаюсь, Катаев здесь был если не первым, то одним из первых, что ещё раз подтверждает его феноменальное чутьё.
Настал террор. Гвардейцев банда
Взяла шахтёра в руднике,
Сказала кратко: «Пропаганда»...
И потащила в штаб к реке...
Песня о шахтёре
(муз. Вал. Кручинина, сл. Павла Германа, 1927)
И тот, и другой написали немало, и совсем иных песен, скажем, Кручинин автор знаменитой цыганской «И льётся песня».
Очень смешно, когда в современных «романсах» (чудовищных, вроде текстов Куллэ о хрусте французской булки, украденной у М. Кузмина) певец или певица обращается к женщине или мужчине, любимым, на вы, прямо-таки великосветски. Страшно смешно.
В советское время Саратов был закрытым для иностранцев городом. И Куйбышев-Самара, и Горький-Нижний, и Саратов. Иностранцы бывали у нас редко, спецделегациями. Теплоходы с иностранными туристами проплывали мимо наших городов ночью. Уж не знаю, что им врали гиды-лейтенанты.
Поэтому известие, что редакцию «Волги» посетят чехи, год, примерно, 75-й, было очень нерядовым.
Почему чехи, поясню. Никакие не чехи, а совсем даже наоборот — словаки. Тогда дружили городами и областями с братскими социалистическими странами. Саратов с Братиславой. Местное начальство ездило к ним, они к нам, а когда большие начальники наездились, стали ездить небольшие, а там и избранные деятели культуры, вроде нашего второго главного редактора. Дело дошло даже до обмена пионерами, но тут, слава богу, всё это накрылось известно чем. Представляю, как, должно быть, словакам было приятно, что их кличут на Волге чехами!
Женщины в редакции заволновались, чем угощать иностранцев. Главный редактор где-то посоветовался и, улыбаясь, сказал, что это не наша забота, а вот убрать редакцию надо. Был субботник целую неделю. В день встречи нам велели прийти на час раньше — то есть к восьми утра. Главного редактора не было, он находился, как он сам любил показывать вверх темечка пальцем в потолок. Вдруг подъехали два «Москвича» — просто и «пирожок». Из первого выскочили люди в белых куртках и стали выносить из «пирожка» и тащить в редакцию коробки, и вскоре в наших небогатых стенах на журнальных столиках явились копчёная колбаса, бутерброды с бужениной и сёмгою, пирожные, боржоми, армянский коньяк, яблоки и мандарины.
Вскоре и чёрные «Волги» пожаловали. Чехов-словаков было человек пять-шесть, один явно с перепоя одышливый (наши накачивали гостей беспощадно) пожилой, несколько молодых, а также редактор наш и секретарь нашего райкома партии по идеологии, как тогда водилось, эффектная крашеная брюнетка с высоким начёсом. Она-то всё и вела, и как-то очень споро, весело, не успели выпить-закусить, а она уже радостно закричала, что надо спеть, и сама первая запела «Катюшу». У нас стали разевать рты и те, кто никогда не поёт. Столь же браво всё завершилось, и все повскакивали с мест, когда секретарь предложила выпить за дружбу всех со всеми, с гостями, стали чокаться. Я подошёл к двум скромным молчаливым словакам за соседним столиком, громко говорил им слово «дружба», чтобы поняли. Они ответно улыбались и чокались. Секретарь-брюнетка быстро поднялась и все пошли к выходу уже демократической толпою, и гости стали вливаться в две чёрные «волги», лишь молодые словаки не спешили, в руках одного вдруг возник переговорничек «воки-токи», и он в него негромко, но мне слышно, сказал: «Четвёртый, четвёртый, я девятый, начали движение!». И они умчались. Мы очень были рады, что осталось на столиках немало всего, колбасу кое-кто из женщин даже унёс домой.
Коммунистическая партия, может быть, и утвердится когда- то у власти в России, но лишь после того, как умрёт последний, кто помнит партийные собрания.
В РУССКОМ ЖАНРЕ - 18
Весёлые всё же люди были передвижники: «Привал арестантов», «Проводы покойника», «Утопленница», «Неутешное горе», «Больной музыкант», «Последняя весна», «Осуждённый», «Узник», «Без кормильца», «Возвращение с похорон», «Заключённый», «Арест пропагандиста», «Утро стрелецкой казни», «Панихида», «У больного товарища», «Раненый рабочий», «В коридоре окружного суда», «Смерть переселенца», «Больной художник», «Умирающая», «Порка», «Жертва фанатизма», «У больного учителя».
Первую книгу мемуаров Шаляпина «Страницы из моей жизни» писал Горький (они потом уже в эмиграции с гонорарами разобраться не могли), вторую же — «Маска и душа» — сам Фёдор Иванович, и насколько же она богаче, ярче, самобытнее первой. Не потому, что Шаляпин был как литератор талантливее, а потому, что Горький, исполняя роль не то записывателя, не то сочинителя, смешивал себя и автора, к тому же навязывая Ф. И. собственный «прогрессизм».
С каким упоением исполнял Фёдор Иванович то и дело «Дубинушку», и как крепко ударила эта самая дубинушка по нему. Горький же, будучи немалым и циничным юмористом, описывая уже в 1928 году события года 1905-го, он, вовлёкший друга Федю в революционные сферы и настроения, потешался:
«На цар-ря, на господ
Он поднимет с р-размаха дубину!
— Э-эх, — рявкнули господа: — дубинушка — ухнем!» («Жизнь Клима Самгина»).
Каких только Лениных не наплодили советские мастера кисти и резца, жаль, что почти всё это сгинуло и сгнило. Помню, в клубе автоколонны города Яранска Кировской области снятый по причине ремонта помещения со стены Ильич лежал на диване: фанерный, с негнущимися плоскими руками в карманах негнущихся плоских брюк, в плоских, одномерных ботиночках. А во дворе Саратовской табачной фабрики в унылом производственном пейзаже Ленин возникал вдруг в совершенно свадебном обличье: густо-чёрном костюме с белоснежным платочком в кармашке, похожим на хризантему; рожица задорная, кулачок воздет над головою, так и кажется, что прокричит: «Горько!».
«...шершавым языком плаката», оказывается, не изобретено Маяковским, а было если не ходячим, то общеупотребительным. «Шершавым газетным языком повествуют о произволе...» — писал ещё в 1905 году Борис Садовской в журнале «Весы».
Самые откровенные письма (не по фактам, а по степени открытости, доходящей до откровения) читать более неловко, чем даже узнавать из тех же писем что-то не предназначенное для стороннего читателя. Попытка письменного соединения душ противоречит неким правилам, которые, наряду с литературными жанрами, имеет и эпистолярный, коли письма публикуются.
Переписка Пастернака с Цветаевой, где она словно бы электризует своей взвинченностью чувств адресата, не помогает мне понять поэта, но уводит от него в сторону.
Я очень люблю поэзию Евгения Рейна. Его близость Некрасову, как никакого из современных поэтов, точнее, единственного из современных поэтов, для меня столь очевидная, скажи я об этом, вызывает даже не удивление, а ироническое, заведомое неприятие. Твардовский — Некрасов, дескать, само собою, но Рейн!
Из книги Рейна «Мне скучно без Довлатова» выписал два замечательных примера его невероятно буквальной непосредственности в поэзии, два его самопризнания.
«Я повёл его на Неглинку в армянский ресторан “Арарат”. То, что произошло там, я уже описал в стихах. (Читайте в этой же книге поэму “Арарат”)».
«И я пошёл смотреть “Мальтийского сокола”. (Мою поэму “Мальтийский сокол” можно прочесть в этой книге.)».
А? Ну кто ещё из наших поэтов этак может отсылать?
У слова «зависть» нет синонима. Я, во всяком случае, не нашёл его ни в голове своей, ни в словарях.
«Сия брошюра предназначена не для всех, а для духовно болящих и имеющих большую нужду в лечении и душевном врачестве... <...> При невозможности совершения такой исповеди разом (из-за большого количества грехов) можно исповедоваться постепенно одному священнику по 20—40 грехов в один раз (приём), распределив все свои грехи». Приводятся примеры исповедуемых грехов. «Использовала в пищу приправу».
«Согрешала гортанобесием, то есть держанием с услаждением во рту вкусной пищи».
«Ходила в воскресные дни в лес за грибами и ягодами».«Мочилась при посторонних мужчинах и шутила по этому поводу».
«Имела союз с нечестивыми».
«Работала парикмахером».
Брошюра «Лекарство от греха» издана Саратовским Свято- Алексеевским женским монастырём. Издание осуществлено при содействии православного фонда «Благовест». Саратов, 1996, 4 п. л. Тираж 15 ООО.
Писатель Ч. по профессии был писатель из народа: я уж как-то раз описал разновидности провинциальных союз-писателей, которым требовалось для успеха некое амплуа внутри писательского. Так вот, Ч. был писатель из народа. Он сочинял бессмысленно-безмятежные, не без проблесков некоего коровьего юмора, повести про деревенских чудаков, само собой, подражая и безумно завидуя Шукшину, успех которого породил в семидесятые годы толпу подражателей, полагавших, что и они могут, потому как из народной жизни произошли.
Любил Ч., напившись и предварительно выяснив, что редактора прозы, то есть меня, нет на работе (ни разу не застал), явиться в редакцию журнала и, притворяясь более пьяным, чем есть, кричать на бледнеющих редактрис из отдела прозы: «Где он,..., порежу суку, жидам продался, а русских печатать не хочет,...!» Покуражась не более десяти минут, он смывался. Когда при встрече с ним, трезвым, на собраниях в СП я пытался ему пенять, он, коротенький, с дурно пахнущим сырым лицом, потирая руки, бормотал, что ничего не помнит, и скверно улыбался.
Ч. разнообразил тусклое течение дней писательской организации.
То соседка его, очень почтенная неюная девушка, даже не она сама по застенчивости, а мать её, сообщит в организацию, что Ч. предложил её дочери: «Заходи—впендюрю, чего целкой ходить!». То уже целая группа соседей напишет в СП жалобу, где описывается, как Ч. мочился во двор с балкона, крича при этом: «Я писатель, на вас хотел ссать и ссу!». То директорша книжного магазина звонит секретарю СП и умоляет увести из её магазина Ч., требующего продать ему его книгу, о которой директорша даже не слышала. Выясняется, что книга лишь запланирована в местном издательстве, но Ч., уводимый секретарём из магазина, всё равно кричал директорше, размахивая красным членским билетом: «Продай,..., пожалеешь!»
Мало что ему всё сходило с рук, насчёт чего имелись известные подозрения среди коллег, он ещё любил писать на них жалобы и ходить на приём в высокие кабинеты. Он мог неделями просиживать в приёмной с утра до вечера, трясясь с похмелья, но как бы от уважения и страха, и, попав-таки в кабинет, первым делом заявлял, что пишет о народной жизни. Наконец Ч. зарезали собутыльники.
Прошло с того несколько лет, и свободная пресса России стала раскапывать и рассказывать истории о давнем и недавнем прошлом, злодеяниях и преступлениях проклятого режима. Местные писатели начали выпускать газетку, к которой стишками и рассказами не удавалось привлечь читателя. И тогда писательский секретарь, столько претерпевший от Ч. и без видимых страданий воспринявший его кончину, начитавшись новой прессы, вдруг печатает статью под названием «Кто убил писателя Ч.?», где с нажимом на то, что Ч. был именно русским, а никаким иным литератором, предположил, что некие тёмные силы расправились с певцом народной жизни.
Старый, матёрый литератор-антисемит серьёзно и даже сердито заявлял в разговоре, что Высоцкий не мог быть евреем даже на капельку, поскольку написал «Протопи ты мне баньку, хозяюшка». Он был не просто антисемит, но питерский антисемит, песня нравилась ему до слёз, и допустить, что её сочинил человек, имеющий отношение к тем, с кем он всю жизнь боролся, было для него нестерпимо.
Вспомнил клип с Утёсовым, а всего их было несколько, «Песня американского безработного» (кажется, так), обращающегося к обществу и хозяевам. Утёсов пел как бы сгорбясь, что мало позволяло его тучное телосложение, на фоне сияющего небоскрёбами чёрного задника и закидывая шарф через плечо, чтобы показать, как холодно безработному в капстране.
Перед войной народ знал не только своих героев, но и своих миллионеров, что, впрочем, тогда официально совпадало. Один старичок рассказывал, какие споры вскипали в заводской курилке при обсуждении вопроса, кто у нас миллионер. Он вспоминал, что назывались Любовь Орлова, Козловский, Барсова, Лемешев, Папанин, Чкалов, Русланова, Дунаевский, Качалов, Алексей Толстой, Шолохов и Утёсов. Гордость, а не зависть вызывало то, как оценило их правительство и товарищ Сталин за выдающиеся таланты и подвиги.
Феномен популярности Утёсова ещё не разгадан, его успех не стоит рассматривать в духе замечательной передачи «В нашу гавань заходили корабли», точнее, не только в этом духе. Леонид Осипович был не самодеятельный исполнитель, а в русском народе всё-таки всегда ценился звонкий, чистый голос, даже и в бытовом пении. К тому же Утёсов нарабатывал популярность, когда пели Козин, Юрьева, Церетели, когда ещё не вовсе была удушена столь милая русскому сердцу «цыганщина». Только ли одесско-приблатнённая интонация, которой он, впрочем, в 30-е годы избегал, могла пленить загадочную русскую душу?
А может быть, объяснение самое простое? Он не был похож ни на кого, за ним не стояло знакомой слушателям традиции, и белорусскую застольную или суровую моряцкую песню он исполнял, по собственному выражению, «сердцем», то есть единственно натурою. И особую прелесть пению доставляла как бы чуть-чуть сторонность исполнителя, одесского еврея, русского артиста.
Конечно, Утёсова, а не Кобзона, которого где-то критика окрестила русским Синатрою, можно сравнивать с американцем. Слушая Синатру, можно, кажется, понять причину успеха эстрадного, в строго вокальном смысле почти безголосого певца: он поёт, как имеющий непреложное право быть услышанным, словно бы делая одолжение слушателям. Кобзон же, имея, в отличие от Синатры и Утёсова, сильный голос, поёт, словно заведённый механизм, ровно, одинаково, нивелируя всё, что исполняет.
Сталин ревностно, если не сказать страстно, относился к кино, управлял им. Для воспитания масс? По завету Ильича?
В первую очередь, для самого себя, удовольствия, просвещения и, главное, убеждения.
Сколько бы он ни полагал, что Иван был прав, а Петруха недорубил, многократно убедительнее, нагляднее и бесспорнее это делалось живыми средствами кино, постановками великих режиссёров, обликами великих актёров. Он ли более подействовал на Ал. Толстого, Черкасова, Эйзенштейна, дав им такую трактовку дел Ивановых или петровых, или они в свою очередь убедили и укрепили кремлёвского кинозрителя?
Да и современная жизнь, которую он много лет вблизи не наблюдал, в фильмах Григория Александрова очаровывала и радовала правильностью избранного курса.
Притягательность акцента. Он присущ не только тем русским, которые постоянно жили, воспитывались, росли в эмиграции или хотя бы на Кавказе и Прибалтике, но и побывшие даже недолгое время в среде прибалтов или кавказцев с неким неосознанным удовольствием чуть копировали акцент.
Странные случаются аналогии. Читая в части шестой «Анны Карениной» про губернские выборы, в которых участвуют Облонский и Левин, впервые обратил внимание на сцену с двумя напившимися дворянами: буфетчику запретили подавать им водку.
Не могли как будто потерпеть! Значит, не могли, не хотели, и не только по склонности к вину, но и по особому ухарскому удовольствию выпить в неподходящее время в неподходящей обстановке. И вспомнил я, как лет двадцать назад был на городской отчётно-выборной партконференции. Драмтеатр. Оркестр. Начальство. Ордена и медали в большом количестве. Приподнятое возбуждение партработников. Знакомый художник поманил меня в перерыв в служебные помещения, прежде познакомив с приятелем, замдиректора театра. Где-то на задах буфета обнаружились несколько человек, уже стоящих вокруг рабочего столика с бутылками и закусками. Они что-то неприличное не слишком тихо рассказывали хозяйке местечка в белой кружевной наколке. И перед нами очутилась поллитра с закускою. Была какая-то смесь школьнического наслаждения запретным и потребность перевести то возбуждение, что читалось на лицах и висело в воздухе зала, под привычную, не стыдную крышу хмеля. Сидя в зале, мы с художником ощущали себя отличными от других, впрочем, вполне вероятно, что и соседи испытывали то же самое: в театре так много помещений!Собрать бы всё, что написано в русской литературе о железной дороге, вокзале, вагоне, а также и пароходе... Какие славные бы вышли книжечки, если денег на издание кто даст...
Большинство современных вокзалов, особенно если станция не тупиковая, а мимоездная, утратили тот «дебаркадерный» облик, что очаровывал путешествующего. Вокзал должен быть крытым, как Киевский, Казанский в Москве или Витебский в Питере, со стеклянной крышею, под которой так гулки звуки. Уезжать надо вечером, чтоб на выезде стояли синие огни, в темноте был виден пар и дым, улетающие к высокой, как небо, стеклянной переплётчатой крыше. Пусть уже нет паровоза — запах паровозного дыма заменяет доносящийся из вагонных печурок дымок, тоже от каменного угля.
А ещё жаль речных пристаней; и высоких многоярусных дебаркадеров, этих стоячих кораблей с палубами, трапами, чугунными кнехтами, антеннами, вымпелами, рестораном на втором этаже, где так славно было посидеть за белоснежно... прочь, прочь воспоминания о невозвратном... и маленькие одноэтажные пристаньки, что были понатыканы по Волге там и сям с флажком с голубыми буковками ОП ВОРП, что означало: Остановочный пункт Волжское объединённое речное пароходство, и тут уж не ресторанный, а домашний дух доносился из боковых комнатешек, болталось на верёвках бельё, и бесстрашно раскатывал среди кнехт и трапов маленький человек на трёхколёсном велосипеде, без всякой опаски свалиться в близкую глубокую воду. Осенью буксир собирал малые дебаркадеры по берегам и отводил их в Затон, время от времени оглашая пустую Волгу протяжным гудком, медленно гаснущим в пространстве.
Читал Чехова за обедом, оперши для удобства затрёпанный синий том на графин с водкой.
Я попенял приятелю, запившему водку сладким ситро, и помимо собственного мнения, что водку следует не запивать, а закусывать, привёл из Солоухина, где он возмущался дамами, у банкетного стола с закусками предпочитающими фужер с запивкой.
— Не на-адо, не надо мне про Солоухина, — неожиданно отозвался мой собутыльник и рассказал, как однажды со знакомым журналистом попал в буфет, кажется, ТАССа, куда вошёл Солоухин, которому, даже не спросясь, буфетчица накатала полный, грамм двести, стакан коньяку, а в другой воды. — Засадил — и на выход!
А я сейчас вспомнил про генерала в гостиничном буфете. Однако куда повернуть? Лучше сперва про генерала.
Я жил в гостинице «Аэрофлота» на Ленинградском проспекте. Завтракать ходил в одно и то же довольно раннее время. И в этот самый час в буфет ежедневно заходил пожилой генерал-майор авиации с приятным мягким лицом, с негенеральским, словно бы несколько виноватым видом. Он здоровался с буфетчицей, и она наливала ему двести грамм коньяку и прилагала шоколадную конфету. Генерал выпивал, медлил мгновенье у стойки и уходил. Я предположил, что он служит в Академии Жуковского, находящейся почти напротив гостиницы.
Меня более поразило не молчаливое понимание буфетчицы и даже не то, что стакан коньяка поутру — это, мягко говоря, нездорово. Меня, провинциала, более поразило, что генерал в форме заходит в буфет, стоит в очереди, пьёт встояка. Столь же удивительны в Москве были генералы-пешеходы, генералы — пассажиры метро и трамвая. Немногие генералы в моём городе ездили в чёрных «Волгах», ходили непременно с адъютантами.
А там, в буфете, провожая взглядом серо-голубую шинель, я воображал, как сейчас он войдёт в аудиторию, как вскочат слушатели-офицеры, как он, на первом газу, с подъёмом начнёт лекцию и будет выдыхаться и к концу думать о том, как бы поскорее закончить и вновь завернуть сюда, к полной русоголовой Лене в крахмальной наколке.
Но — о Солоухине.
Не будучи его поклонником, я читал, что попадалось, и как-то с удовольствием встретил признание автора в любви к песенкам Вертинского. Солоухин уделил ему много места, дал красивое определение методу печального Пьеро: «Работал филигранно. Он работал по серебру и слоновой кости»; правда, удивительным образом завершил заметки тем, что обнаружил на одном из фото Вертинского ровесником себе нынешнему: «Господи, да неужели и я выгляжу так же, но только не замечаю этого?!». Эх, видать, любил свой лик Владимир Алексеевич, если уподобил его патрицианскому облику Александра Николаевича.
И ещё вылезла в «Камешках» такая дремучая глухота, что я диву дался. Солоухин признаётся, что его коробит строка из песни-плача по убитым юнкерам:
И никто не додумался просто встать на колени
И сказать этим мальчикам, что в бездарной стране
Даже светлые подвиги — это только ступени
В бесконечные пропасти, к недоступной Весне!
Вот эта бездарная страна «была, вероятно, дань моде — всё русское, российское чернить и оплёвывать». И жаль мне стало Владимира Алексеевича, который, наверное, искренне не услышал горечи русского человека за свою страну, так любящую жертвовать сыновьями, а это ли не бездарно? Нет, словно агитатор на патриотическом митинге, Солоухин продолжает: «Но можно ли назвать бездарной страну, давшую миру Чайковского, Менделеева...». Такова, видимо, цена всякой глубокой ангажированности.
В середине 70-х я написал тем, кто, по моим сведениям или предположению, знал Вертинского или был расположен к его творчеству, с предложением написать о нём, дабы я составил книгу, куда кроме их воспоминаний вошли бы и мемуары самого АНВ (как я сперва в записях, а потом и в мыслях привык обозначать своего кумира), а также тексты его песен. Более я обращался к писателям по простой причине, что имел справочник членов СП.
Наивный! Кому-то АНВ, конечно, был безразличен, кто-то не без основания счёл предлагаемый труд напрасным — имя артиста было не самое цензурное, а кто-то, думаю, резонно решил, что, если и писать, можно и без провинциального молодца обойтись. Не ответили, — и это было самое огорчительное — и вдова Вертинского, и дочери его, которым я писал на отцовскую квартиру. Бывая в Москве, я подолгу стоял на углу улицы Горького и Козицкого переулка, задрав голову на четвёртый этаж с длинно-нелепыми угловыми балконами, но зайти так и не решился.
Откликнулись двое: Алексей Каплер и Юрий Нагибин.
Почему я написал Каплеру, ведь я ничего не знал и мог лишь предполагать о его пристрастиях? Каплер телевизионный, почёсывающий щёку, любовник Светланы Сталиной, «Ленин в Октябре» и проч. — почему Каплер? Но именно он и ответил.
«Уважаемый Сергей Григорьевич!
С большим опозданием прочёл Ваше письмо. Спасибо за журнал и статью. Тема Вертинского, на мой взгляд, очень интересна, драматична. Рад, что есть человек, который этим занимается. К сожалению, я не смогу Вам помочь — у меня нет никаких материалов о нём. Желаю Вам успеха в этой непростой, но благородной задаче. Ал. Каплер».
Даты нет, штемпель смазан, но год точно — 1975-й, сейчас объясню. Журналы я посылал в подтверждение того, что я не шаромыжник какой, а автор почти единственногов то время очерка о Вертинском, напечатанного в «Волге» в 1973 году.
Моё письмо к Каплеру, как я узнал позднее, имело некоторое последствие. Спустя несколько лет, уже после смерти Каплера, я сумел выбраться в ЦГАЛИ. Фонд Вертинского был востребован всего несколько раз, последний — Каплером в 1975 году. Ещё позднее я прочитал его сценарий «Чужие города», по-моему, слабый.
Итак, вторым был Юрий Нагибин.
Должен сознаться, что в молодые годы я любил его прозу, охотничьи рассказы о егерях, браконьерах, затем первые из биографических, особенно о Лескове: «День крутого человека». У Нагибина была особая репутация, а я жил в литературном кругу: рассказы о его непомерном богатстве, многочисленных браках, разгуле, что-то общее с репутацией Евтушенко, но тот накрепко был повенчан с политикой, Нагибин же как бы находился вне общественных сфер, являясь лишь книгами и фильмами. В нём чувствовалась особица, внепоколенческое сознание. Тогда были утки все парами, и к имени Евтушенко непременно присоединялся Вознесенский, а к Бондареву — Бакланов, а критика без устали составляла обоймы лейтенантов, деревенщиков, сорокалетних, Нагибин же как-то ускользал. И вот он мне ответил. Открытка Каплера не так меня поразила, как это письмо от руки: старик Каплер не был в таком прожекторном дыме славы и богатства, как Нагибин, а этот вот же — нашёл время.
В письме особо он остановился на обиде, которую ему нанесли два поклонника Вертинского, из Одессы и Ленинграда: «Обрушились на меня с такой злобой, будто я унизил и втоптал в грязь их кумира». Я разделял его недоумение: ничего поносного для АНВ в очерке «В бананово-лимонном Сингапуре», незадолго перед тем напечатанном в «Нашем современнике», не содержалось. Всё же обида от несправедливых упрёков показалась мне чрезмерной, и лишь спустя много лет, прочитав его «Дневник», я услышал туже интонацию постоянной обиды.
Более никто мне не ответил, московские издательства на заявки отвечали отказом, в нашем же местном я нарвался на нотацию.
Директор нашего издательства К-н был антисемитом, что само по себе и не ново. Но К-н был антисемитом истовым, поэтом антисемитизма, жидоедом по призванию. Притом крайне тёмным, дремучим товарищем, поднявшимся из комсомольских недр. Он не имел понятия даже о малом антисемитском наборе вроде «Протоколов сионских мудрецов» и более искал наглядных проявлений, как тогда выражались, сионизма. К примеру, завхоз издательства приобретает новые хрустальные стаканы, приносит начальству, берёт К-н стакан в руки, вертит его и заметно бледнеет. «Ты где эту гадость взял?» — вопрошает он у побледневшего тож завхоза. Выяснив, что стакан произведён на местном заводе технического стекла, К-н бежит то ли в обком, то ли в КГБ, и начинается целая история с целью снять с производства стаканчики гранёные с шестиконечным дном.
Так вот, К-н, взяв для просмотра рукопись моего сборника, куда вошёл и очерк о Вертинском, приглашает меня к себе, предварительно снабдив рукопись запискою, помню такие замечательные в ней слова: «Нет, не ту песню, Серёжа, поёшь ты вместе с Вертинским. Твоё место там, где Пушкин, Некрасов, Горький, Маяковский, даже Бунин, но не там, где Вертинский». А наедине посоветовал мне не поганить смолоду биографию и про сионистов не писать. На моё изумление по складам произнёс: «Вер-тин-ский! ский, понятно тебе?» Ещё более изумившись, я назвал несколько бесспорных фамилий, как-то: Достоевский, Мусоргский, Чайковский, но К-н, разумеется, ничего не слышал.
Есть, по крайней мере, два опубликованных мемуара с одним сюжетом. Сюжет таков. Имярек сидит в ресторане один или с компанией, сидит широко и красиво, но официант с ними неучтив. За столик подсаживают Вертинского. Официант превращается в раба перед артистом, заказавшим стакан чаю и забравшим до копейки сдачу. Вслед уходящему он говорит умильно: настоящий барин!
Правда, первый из мемуаристов, Нагибин («Дневник»), ссылается на чужой рассказ — Галича, тогда как сам Галич в очерке «Прощальный ужин» обходится без этого сюжета, второй же, Евгений Рейн («Мне скучно без Довлатова»), сообщает его от первого лица и уснащает колоритными подробностями. Один из десятков апокрифов, где в центре вернувшийся Вертинский.
Притягательность славы его была такова, что иные его современники даже кормились немножко своим якобы знакомством. Десятки известных только мне людей посвящали свою жизнь поклонению Вертинскому. В архиве сохранилось множество восторженных писем, и есть горделивое признание одного поклонника, что он принадлежит к ордену «вертинистов».
Иным из них посчастливилось приблизиться к кумиру, как поэту из Новосибирска Казимиру Лисовскому.
Я познакомился с ним в Одессе летом 1962 года, мне было пятнадцать, ему — сорок один. Но, Боже, о чём писал Казимир! «Ленин в Красноярске», «Шушенская весна», «В доме-музее Я. М. Свердлова». Какие реакции происходили в сознании тех советских литераторов, что, сочиняя про квартиру Свердлова, для души читали Ахматову или слушали Вертинского?
Поклонение Вертинскому в те годы требовало немалых расходов: пластинки можно было купить лишь с рук и очень дорого, так как их не прибывало, а убывало, выпущенные в 60-е годы знаменитым «Kismet'oм», видимо, провозились с трудом, во всяком случае, на рынке, до выпуска советских «гигантов», преобладали «Columbia» «Parlophon» и проч. 30-х годов.
С Лисовским (я напросился) побывали на знаменитой одесской толкучке. Он искал «Жёлтого ангела». Нашли. Помню золотые буквы на зелёной «колумбийской» этикетке и обязательное: «Alexandre Wertynsky (tenor)». Продавец отнёсся к Казимиру Леонидовичу с почтительностью, увидев знатока, да и 75 рублей были тогда очень серьёзной суммой.
Лисовский, приобретя «Жёлтого ангела», тут же выпил — и повеселел. Он был небольшого роста, с астматической грудью, запрокинутой, как у горбунов, головою, сипло-задыхающимся голосом. По секрету объяснил, как это могло случиться, что у него, аса-вертиниста, и нет самой центровой вещи АНВ, если угодно, программной. История коллекций его вкратце такова. К концу 40-х годов Лисовскому удалось купить по возможности полный набор пластинок АНВ, и когда певец оказался в Новосибирске, представился ему и, разумеется, покорил своей страстью, они подружились. Выяснилось, что и сам артист не обладает чем-то или многим из того, что собрал Казимир, который и подарил автору его записи.
Подарил и начал заново собирать. Супруга же его, женщина весьма привлекательная и столь же нравная, не весьма поощряла страсть мужа, уносившую из дома значительную часть и без того необширного заработка (кроме того, подозреваю, что она не без основания сопрягала пристрастие к Вертинскому с иными несемейными наклонностями). Короче говоря, во время выяснения отношений взяла да и побросала в окно коробки с пластинками, которые, как известно, были тогда бьющимися, да ещё как бьющимися.
Письма Вертинского Лисовскому опубликованы в книге «Дорогой длинною» (М., «Правда», 1990).
Ах, сокрушался я в то лето, сопровождая Казимира, слушая его рассказы, ведь всего пять лет прошло со дня смерти Александра Николаевича, ведь и я бы мог видеть его и слышать...
В начале лета 1957 года был я с родителями проездом в Москве. Отец повёл нас с матерью на экскурсию не в Третьяковку, а на Новодевичье, за что я очень ему благодарен. Новодевичье я хорошо запомнил, как и свежую, окружённую влажным хрустящим песком, засыпанную цветами могилу (хотя, конечно, интереснее был обширный барельеф на стене с урнами жертв гибели самолёта «Максим Горький»). Эту могилу я запомнил, потому что обратил внимание на слова родителей: «Смотри-ка, Вертинский, а рядом — Фогель». Спустя годы, придя к Вертинскому, я убедился, что так оно и есть, но тогда фамилия Фогель, нынче, кажется, забытая, говорила мне куда больше, чем Вертинский, ибо только что повторным показом прошёл по киноэкранам трёхсерийный, что само по себе было дивом, боевик немого кино «Мисс-Менд» с уморительным Игорем Ильинским, героическим красавцем Барнетом и чудаковатым очкастым Фогелем в ролях трёх друзей, противостоящих тайной преступной организации.
У Лисовского, разумеется, есть стихотворение о Вертинском «Далёкий голос», которое я не стану цитировать. Есть того же порядка стихи у Ильи Фонякова, есть ничуть их не превосходящие, хоть и Галича, есть известные строки Смелякова «Гражданин Вертинский вертится...», есть «чёртова рогулька, волчья сыть» (то есть никудышный, обречён на съеденье) Павла Васильева, есть оскорбительные строки Георгия Шенгели, где певец уподоблен лакею, есть меткое северянинское: «наркозя трезвое перо / слагает песенки Пьеро», а есть строки некой поклонницы, Галины Липатовой, из архива АНВ:
Много лет мне душу теребили, —
Клочья лишь какие-то остались.
Ваши песни душу приласкали
И тихонько клочья эти сшили.
Ваша музыка мне принесла забвенье!
На земле ждать большего — напрасно.
Она же написала: «В восемнадцатом столетии Вас бы непременно объявили колдуном».
А на память о Казимире Лисовском у меня сохранилась телеграмма, пришедшая на редакцию после публикации моего очерка: «ЛЕЖУ БОЛЬНИЦЕ ПАРАЛИЧОМ НОГ ТЧК СЛУЧАЙНО УЗНАЛ ТВОЁМ ОЧЕРКЕ НЕЗАБВЕННОМ ВЕРТАНСКОМ ТЧК ОЧЕНЬ ПРОШУ ВЫСЛАТЬ ЖУРНАЛ НОВОСИБИРСК 67 МОЧИЩЕНСКИЙ КОСТНОТУБЕРКУЛЁЗНЫЙ САНАТОРИЙ ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ ЛИСОВСКИЙ». (ВертАнский — это, конечно, телеграф.)
Реэмигрантов 1947 года было в Саратове, вероятно, не так мало, во всяком случае, мне довелось знать не одного.
В 1997 году «Волга» напечатала обширные воспоминания театрального художника Глинского, большую часть изгнания проведшего в Болгарии.
А на рубеже 50—60-х годов среди школьников царило повальное увлечение собираньем марок. Собирались филателисты по воскресеньям в большом операционном зале главпочтамта, где слева от входа тянулся ряд окошечек в дореволюционных латунных окантовках, справа — высокие окна, а упирался зал в стену, занятую сплошь огромным панно. В детстве, ожидая, пока родитель что-то отправляет, я бесконечно рассматривал картину: голубая, как небо, Волга, и голубое, как Волга, небо, а в нём белые самолёты, а под ними в белоснежных усах пены на голубой воде многопалубные белоснежные теплоходы, на палубах маленькие, но нарядные фигурки пассажиров, и тёмный буксир, тянущий вереницу барж, и паруса яхт, а на берегу уступы белоснежных высоких зданий, и солдатские ряды зелёных деревьев, и многоцветные автомобили застыли туда и сюда, и летит над рекой мост небывалой высоты и стройности: это наш город коммунистического будущего, и самое смешное, что всё это сейчас есть — и мост, и высокие дома, и море автомобилей... Так вот, в пёстрой толпе марочников, вокруг которой толкутся мальчишки, был и хромой элегантный человек с белогвардейской фамилией Ростовцев, и прыщавый, щуплый, как подросток, дядя Женя, он, оглядевшись, вытаскивал из-под толстого кляссера лист фотобумаги, на котором располагались мутные отпечатки голых девиц, и — вот к чему я начал — очень красивый надменный молодой человек с прилизанными тёмными волосами и непонятной кличкой Болгарин. Много спустя я узнал, что то был сын художника Глинского.
А на нашей маленькой улочке Яблочкова, ещё недавно именовавшейся по-старому Малая Казачья, в соседнем дворе жила довольно диковинная пара: художник Руденький с женою-француженкой. Он ходил в берете, светлых очках, всегда улыбался и слишком правильно говорил по-русски, а вот она вовсе не могла. Одетая бедно, но за версту не по-нашему, в каких-то странно подвязанных узлами кверху пёстрых косынках, сухопарая, похожая на птицу мадам испытывала, думаю, невероятные муки, с утра стоя в очереди у молочной фляги, или в булочной, или тем более в Крытом рынке, откуда и свои-то редкий день возвращались без порезанной сумки или утраченного кошелька.
Кроме Глинского и Руденького был ещё и художник в самом деле известный — Николай Гущин, ученик Коровина, Малютина, Архипова, Пастернака. В революцию он в родной Перми был среди тех, кто утверждал новое искусство, потом, вроде спасаясь от Колчака, оказался в Харбине. Зато уже с 1922 года, — Париж, а в тридцатые — Монте-Карло, где имел ателье, а выставки были в Париже, Лондоне, Ницце. И вот вернуться затем, чтобы не иметь вовсе мастерской, лишиться недолгой преподавательской работы в художественном училище, чтобы беспрестанно слышать обвинения в формализме... На него оборачивались на улице — высокий, длинноволосый, в большом берете. Вокруг него был кружок преданных женщин, было несколько верных учеников, воспринявших его, скажем, импрессионистские принципы, у него была моторная лодка, хижина на острове, с вывескою «Villa Marfutka»... и всё-таки каково было участнику «Салона независимых», которого хвалили ещё в самом «Аполлоне», каково было ему в каморке на то пыльной, то грязной приовражной улочке, а главное, постоянно ощущая ненависть «живописных» рвачей и выжиг? Самое почётное место в травле его занимали условные коллеги. Он, разумеется, был чужд верхам, и всё же, и не только в случае с Гущиным, травля того или иного неугодного не всегда инспирировалась властями, а случалось, ими ещё и сдерживалась от напора честных советских художников, писателей, критиков. Как забыть едва ли не более страха и зависти к таланту двигавшее этими людьми особое советское воодушевление при травле всеми одного, чуждого?
В 70-е годы жил в Саратове маловысокоталантливый литератор с громкой фамилией Туган-Барановский. Прозвище имел, естественно, Князь. Говорил он великосветски грассируя и сюсюкая, обожал эпатировать собеседников, скажем, ни к селу ни к городу спросив: «А вам свучавось боветь твиппевом? Нет? Но каждый мужчина должен узнать твиппев, я ваз восемь вечился».
Он любил сообщать, что фамилия его отца в указателе к Полному собранию сочинений Ленина стоит по числу упоминаний чуть ли не на третьем месте после Маркса и Энгельса. Ранее, живя ещё в Сталинграде-Волгограде, он выпустил роман, если не путаю, под названием «Предрассветные сумерки», где мере своих способностей он показывал разложение дворянско-буржуазной среды накануне Октября. Главный малосимпатичный герой-профессор носил фамилию чуть ли не Баран-Тугановский или что-то в этом роде.
Князь вернулся в СССР году в 1926-м или 1927-м, репортёрствовал в Москве, дальнейшие перемещения его до Сталинграда мне неизвестны. Ему удавалось пристраиваться на небольшие оплачиваемые должностишки, например, литконсультантом при отделении СП.
В князе Тугай-Беге из рассказа Булгакова «Ханский огонь» подчёркивается его раскосость. Наш Князь тоже был раскос, и это, пожалуй, было самое примечательное в его большом, жирном, скуластом лице. При случае он непременно напоминал, что именно из истории его семьи почерпнул Куприн сюжет для «Гранатового браслета». Князь был очень высок, семенил и любил на ходу держать руки за спиной, что обычно бывает у людей отсидевших, но он утверждал, что чаша сия его миновала.
С М. М. Туган-Барановским связан редкий в журнальной практике тех лет случай, когда отпечатанный тираж номера был уничтожен, «пошёл под нож», а взамен его был выпущен другой, в котором место воспоминаний Князя «На другой стороне» заняли воспоминания партизанского командира «Шестьсот дней и ночей в тылу врага». Не знаю, сколько экземпляров этого номера 9 за 1966 год уцелело, один сохранил тогдашний редакционный художник и принёс на тридцатилетие «Волги». Почему была выбрана столь яростная мера, понять сейчас невозможно. Никакой крамолой или даже просто свежей информацией и не пахнет в мемуаре. Единственное объяснение: мог смутить присущий Князю, при всей его верноподданности, иронический тон, вольное обращение со словами «большевик», «масон», «ренегат» и проч. Ничто не спасло номер: ни обзывание Князем собственной среды «перепуганными буржуйчиками», ни поношение дяди, царского сенатора, ни якобы заветы отца-экономиста идти к большевикам, ничто не помогло, и номер со словами Константина Федина на обложке красного цвета: «Велики культурные ценности, велики силы, которыми обладают необъятные пространства волжского бассейна» — канул где-то в таинственном месте, где производилась операция.
Завершение темы таково: Князь сочинил нечто, роман не роман (начало 80-х), и таскался с ним по кабинетам «Волги», пока, наконец, зав прозой не отказал ему решительно. Князь забрал папку, направился вон и, поднимаясь по лестнице от редакции к троллейбусной остановке, грохнулся и испустил дух.
В РУССКОМ ЖАНРЕ - 19
После войны «Пионер» перепечатал повесть Алексея Толстого 20-х годов «Как ни в чём не бывало». Она мне страшно нравилась, лишь одно было непонятно: дело при советской власти, действуют пионеры, а в семье — кухарка.
«Показал мне письмо от Алексея Толстого — о прелестях соц. стройки, так что даже странно, что оно начинается «дорогой Арт. Багр.». Это передовица, к кот. приписано неск. слов о том, как надоело ему, Алёшке, писать «Петра» (Дневник К. Чуковского. 25 февраля 1934).
Подобных писем у Толстого множество (см., например, Горькому 23 мая 1932 г. с восторгами о будущих волжских плотинах и не менее фальшиво-восторженным ответом Горького). Но, конечно, объёмный образ писателя возникает, когда одновременно с восторгами о «соц. стройке» читаешь тут же написанные строки по части бытоустройства. В октябре 1934 года Толстой был поглощён собственной автомобилизацией: одну машину строили по его заказу в Нижнем Новгороде, другую, заграничную, через «Генриха Григорьевича» он выписывает из-за границы. Особенно много об этом в переписке с Н. В. Крандиевской: 20 октября жалуется, что задержка с машинами мешает ему работать, а 27-го сообщает, как тот же Генрих Григорьевич «даёт потрясающий матерьял для «19» года, матерьял, совершенно неизвестный». А ежели ещё припомнить, что с тем же Генрихом Григорьевичем он соперничает по части ухаживания за снохой Горького, жизнелюбие графа будет ещё сочнее.
Но и это не всё. Бунин предполагал, что Толстой «конечно, помирал со смеху, пиша свою автобиографию» об эмигрантских и иных страданиях. Разумеется, были и страдания, как, впрочем, было и искреннее восхищение размахом строек и проч. Но, натура, предельно, так сказать, полифоническая, Алексей Николаевич остро чувствовал смешное во всём, в том числе и в собственных восторгах. Совершив летом 1930 года вместе с Вяч. Шишковым и молодым, сперва им взлелеянным, а затем прогнанным писателем Львом Савиным, долгое путешествие по Волге и далее, Толстой оставил не только восторженные отклики о совхозе «Гигант» и не только сообщения жене о ценах на провизию, жаре и прочем, но и мгновенно сочинённую повесть «Необычайные приключения на волжском пароходе». Он собрал на пароходе немыслимо пёструю компанию: всё, чем кормился книжный рынок конца 20-х, всё, от наглой выдумки до идеологической подкладки, Алексей Толстой выплеснул в этой пародии. Среди вражеских агентов, изобретателей, чекистов, иностранных туристов, тайных белогвардейцев, международных шпионок, комсомольцев и кулаков, затесался и некий писатель Хиврин. «Чья-то в круглых очках напыщенная физиономия, готовая на скандал:
— Максим Горький... Я спрашиваю, товарищ, была от него телеграмма по поводу меня?.. Нет? Возмутительно!.. Я известный писатель Хиврин. Каюту мне нужно подальше от машины, я должен серьёзно работать. <... > Я еду осматривать заводы, строительство... У меня задуман большой роман, даже есть название — “Темпы”... Три издательства ссорятся из-за этой вещи...
Пасынок профессора Самойловича, выставив с борта на солнце плоский, как из картона, нос, проговорил насморочно:
— В Сталинграде в заводских кооперативах можно без карточек получить сколько угодно паюсной икры...
— А как с сахаром? — спросил Гольдберг.
— По командировочным можно урвать до пуда.
— Тогда я, пожалуй, слезу в Сталинграде, — сказал Хиврин».
В спектр его таланта большой дозой входил и цинизм, предполагавший немалую дозу самоиронии, и Хиврин отнюдь не единственный из многих его автошаржей. (Между прочим, А. Н. именно так добывал многое, в том числе и билеты: см. Воспоминания художника В. Милашевского «Вчера, позавчера», а ещё в ту пору носил круглые очки.)
«Необычайные приключения» прямо-таки перенасыщены пародийностью. Чего стоят (сравним со строками, адресованными Горькому) идиотически радостные восторги большевика Парфёнова: «Бумажная фабрика, махинища... Два года назад: болото, комары... Понюхайте — воняет кислотой на всю Волгу. Красота!».
Написанная безудержно, словно бы пьяно (вновь бунинское определение), повесть весьма изобретательна и по части языка: «Пахнет рекой, селёдочным рассолом и заборами, где останавливаются», «биографии сложны и маловероятны», «цыгане, похожие на переодетых египтян», «вонища такая, что даже удивительно», «на хмурой морде буфетчика выдавливается отсвет старорежимной улыбочки», «два часа работать — лодырями все изделаются... Водки не хватит... Окончательно пропала Расея...» (кулак о коммунистической перспективе) и ещё есть много чего весёлого в этой старой повести.
Не так давно опубликованы записи А. Твардовского, где он, восхищаясь романом «Пётр Первый», удивляется тому, что у А. Толстого всё переиздаётся (Дружба народов. 2000, № 6). Да, ему пришлось немного поскрести первую редакцию «Хождения по мукам», но в общем-то особым саморедактированием в цензурных целях (хотя переписывать старые вещи любил) не вынужден был заниматься. Ему было весело, хулигански весело сочинять, что там, что здесь, что так, что эдак, лишь бы, ну вот: «Пришёл Олег, прибил щит, — ладно, и успокойся. Нет, без Царьграда жить не можем, двуглавого орла к себе перетащили. Знаем мы этого орла. Вот он, сукин сын, у меня за воротником — орёл ползает. — Подполковник раздавил клопа, вытер о штаны палец, затем понюхал его. — Эх, Россия, Россия!» Так шутил его сиятельство в Берлине в 1922 году, а вот спустя четыре года, уже в советском издании: «Вот и верно, что при царе плохо жилось, а нынче хорошо. Из Тарусы одной знакомой племянники пишут: “Дорогая тётя, слава труду, живём хорошо... Папенька наш сослан за Ледовитый океан... А при царском режиме две лавки были... У маменьки, слава труду, чахотка. Крыша у нас при ненавистном царе не текла, а нынче совсем протекла”. Умно так эти дети пишут...»
Когда, в 1980 году я, составляя том прозы А. Толстого, включил и этот рассказ — «Сожитель», редактор мой до последнего не верил, что он пройдёт цензуру, но — «как ни в чём не бывало» прошёл, как и в 30—40—50-е годы.
Ах, это сладкое слово: составительство! Слаще его было разве что внутреннее рецензирование! Всё зависело от связей, знакомств, дружб, положения, или, по меткому выражению одного специалиста, от высоты налитого стакана. Я разумею, конечно — оговориться? — не те почтенные, многотрудные работы по действительному составлению, на которые уходили годы и годы, а то и жизнь, а тот, в эпоху массовых переизданий русской и советской классики, вид отхожего промысла, когда и делов-то было заложить в томах имярека произведения для машинистки, да вычитать за ней. И 40 рублей за авторский лист! Сколько народу, преимущественно столичного, вилось вокруг этой кормушки! А бывало, что кто-то составлял собрание сочинений. Помнится, очередной огоньковский восьмитомник Шолохова «составляла» дочь его, а собрание сочинений Николая Васильевича Гоголя (1984) выходит «под общей редакцией В. Щербины»: что ему Гоголь и что он Гоголю? Но в те годы всем всё было понятно.
Драматург и режиссёр Михаил Константинов «в нач. 20-х гг. работал гл. режиссёром в Драм. т-ре Груз. ЧК и заведовал театр. студией при 10-х пехотных пулемётных командных курсах в Тифлисе».
Самое впечатляющее, что именно «10-х», были ещё и седьмые и девятые, неужто при каждой были театральные студии? Хотя у того же Ал. Толстого — ставят же Шиллера красноармейцы, и других свидетельств немало театрального поветрия, охватившего людей, изо дня в день льющих кровь свою и чужую: к чему же им ещё и занавес понадобился, с чужими страстями и клюквенной кровью?
В «Романе без вранья» Анатолий Мариенгоф вспоминает своего однокашника по Нижегородскому дворянскому институту Василия Гастева. Судьба снова столкнула их в 21-м году, когда железнодорожный туз и приятель Есенина и Мариенгофа, взял их в поездку на юг в своём вагоне. Гастев же у этого туза Колобова по прозвищу Почём-Соль, служил секретарём. «Почём-Соль железнодорожный свой чин приравнивает чуть ли не к командующему армией, а Гастев — скромно к командиру полка. Когда является он к дежурному по станции и, нервно постукивая ногтем о жёлтую кобуру нагана, требует прицепки нашего вагона “вне всякой очереди”, у дежурного трясутся поджилки». А в 50—60-е годы жил этот Гастев в Саратове и работал директором кинотеатра «Центральный». Мой отец был знаком с этим очень красивым серебряноголовым крепким стариком, не раз я по отцовскому звонку отправлялся к нему за билетами (какие очереди тогда выстраивались у касс!). Помню, отец рассказывал, что Гастеву не понравился роман Мариенгофа, появившийся в переписанном виде под названием «Роман с друзьями» в журнале «Октябрь».
«...фонарь Пильняка горел и слепил всех вокруг жарче только-только зажигавшихся других фонарей и фонариков» (К Федин — в 1965-м).
«Он вообще чувствует себя победителем жизни — умнейшим и пройдошливейшим человеком» (К. Чуковский — в 1922-м).
Книги его предлагали широчайший выбор литугощения новейшей советской литкухни. Пильняк — это самые злободневные темы, это то, чего ещё никто не затронул. Война и нэп, причуды уездного быта и нравы партийной среды, политический анекдот и грубая физиология, стилевые изыскии газета, новорождённое коммунистическое почвенничество и оголтелый импрессионизм формы, рядом с которым Дос Пассос выглядит школьником. И о чём бы ни шла речь, каково бы ни было время действия — Петровская Русь или РСФСР — «Пильняк сочно описывает на пути своих повестей, как самцы мнут баб по всем российским дорогам и пространствам...» (С. Есенин).
Пильняк это безудержное без сбоев производство, это самый невероятный успех, когда новый текст читают все — и угрюмый партиец, и уцелевший интеллигент, а тот же Есенин уже сравнивает автора с Гоголем. Кажется, лишь один Горький год от года ворчит по поводу «всё хуже, небрежнее и холодней» пишущего Пильняка (что не помешало ему вступиться в 1929 году за Б. А.).
Пильняк это новая советская богема, вывезенные японки и автомобили, дома, кутежи, немыслимый для советского гражданина разброс маршрутов: Англия, Греция, Китай, Турция, Палестина, США, Япония. По России он передвигался не менее широко и стремительно, он побывал даже на Шпицбергене...
Пильняк... Пильняк... Пильняк... Нет, если бы я был вождём, и даже если бы этот Пильняк и не пытался бросить на меня нехорошую тень в «Повести непогашенной луны», то и тогда товарища Пильняка надо было бы наказать, чтобы никто не думал, что кому-то у нас всё дозволено.
«Перед этим — неделю назад — организационное собрание у меня, дважды отменявшееся из-за нежелания встречаться с Пильняком, который жил в Питере несколько дней» (К. Федин. Дневник. 24 ноября 1929). Они прятались от Пильняка после скандала с публикацией «Красного дерева»? но уж даже собрания переносить, чтобы он не дай бог не проведал?
«...бывали случаи, когда отрывали от работ день, два, три, — на четвёртый, на пятый день в таких случаях я впадал в состояние человека, отвыкающего от курения табака...» (Пильняк Б. А. Как мы пишем. 1930).
«Работа для Пастухова была вроде курения: всё кругом делалось постылым, если он не мог пробыть наедине с бумагой часа три в день» (Федин. Необыкновенное лето).
Федин тоже участвовал в сборнике о писательском труде «Как мы пишем».
Корней Чуковский записывает в дневнике в 1927 году, что Луначарскому не дали валюты ехать за границу, а Вс. Иванов полторы тысячи получил. Вообще Дневник Чуковского, особенно 20-х годов, заметно колеблет устоявшиеся представления о раскладе сил, верховных симпатий и антипатий, возможностей тех или иных деятелей. То он сообщает, как Пильняк хлопочет за Замятина перед Зиновьевым, к которому и на порог-то не допустят, то поражается, что в Кисловодске Бабеля «поместили вместе с Рыковым, Каменевым, Зиновьевым и Троцким». Растерянно, старый, и не вовсе чуждый практической смекалке, писатель озирается за новой советской круговертью, где у самого верха обретаются и некоторые литераторы.
У Булгакова есть фельетон «Мадмазель Жанна» (1925), и та же «прорицательница и гипнотизёрка» появляется у Пильняка в повести «Штосс в жизнь» (1928), поданная в иных совершенно красках.Когда металлические застёжки стали именоваться «молнией»? Мне почему-то казалось, что с незапамятных времён, но Булгаков в рассказе 1934 года «Был май» не называет её, а описывает: «На груди — металлическая дорожка с пряжечкой»
Памятуя об известной вражде Шолохова и Эренбурга 50-х годов любопытно наткнуться на следующее: «Но вечером он отбросил роман Шолохова, судорожно зевнул...» (Илья Эренбург. День второй. 1933).
Один из первых наглядных уроков патриотизма я получил на семинаре молодых критиков в Дубултах в 1972 году.
Я попал в семинар Л. Он поразил меня яростью, с которой набросился на двух, весьма «знаковых» писателей тех лет — Вознесенского и Шукшина. Если с Вознесенским, даже при моей провинциальной невинности, было ещё ясно, то неприятие Шукшина озадачило.
Сперва с отвращением и чёткой артикуляцией Л. прочитал наизусть отрывки из поэмы Вознесенского, где речь шла о девушке, замёрзшей в горах, о том, как снег (кажется, поэма называлась «Лёд») забивает лицо девушки: «В рот, в нос, в глаз, в рот!» (цитирую по памяти). Делалось и в самом деле тошно, любви к Вознесенскому не прибывало.
О Шукшине же Л. отозвался как об эксплуатирующем интерес читателя к народной жизни фигляре, одно выражение я запомнил: «игровой момент на народном характере», и уж вовсе поразило, что Л. гордится тем, как некогда зарубил одну из первых книг Шукшина во внутренней рецензии. Тут же бывший в качестве «ассистента» Л. некто Г., в будущем крикливый «молодогвардеец», услужливо дополнил принципала: соберись здесь персонажи Шукшина, нам стало бы не по себе в таком обществе. Я (поскольку именно моя статья о Шукшине обсуждалась) высказался, что уж никак не хуже, чем в обществе Г.
Наглядный урок я получил в конце семинара, когда Л. беседовал с нами не по текстам. Я вдруг заинтересовал его, признавшись в любви к Кустодиеву. Как разгладилось лицо нашего руководителя, потеплели холодные голубые глаза, он рассказал о недавней выставке Кустодиева, и «только в самом конце разговора я обидел его», упомянув имя Марка Шагала. Речь Л. угасла, подёрнулся золой взгляд, постарело вмиг лицо, уксусно съёжился рот. Он как-то безнадёжно махнул рукой, и беседа закончилась.
Предстояло уразумевать, что одновременно чтить Кустодиева и Шагала неможно.
Вот, по Чуковскому, табель о рангах 1968 года: «Пятница 22. Ноябрь. Вечером Евтушенко. Доминантная фигура. <...> Суббота 23. Ноябрь. Сегодня приезжал ко мне второй центральный человек литературы Александр Исаевич».
Было многократно описано, как Хрущёв на исторической встрече кричал на молодых, в частности, на Вознесенского. А у меня в памяти застряло, как в газете мы, тогда старшеклассники, прочитали, очень веселясь, как Хрущёв привёл пример правильного, не такого как у Вознесенского, Евтушенко и прочих, поведения за границей молодого человека. По словам Хрущёва, на вопрос западного корреспондента «сколько костюмов вы можете купить на свою зарплату» советский молодой рабочий, пощупав пиджак представителя враждебной прессы, ответил: «таких, как у меня, — один, а как ваш — пять».
Чего ни коснись в советской послевоенной литературе, любых гласных и негласных тем и проблем: освещение войны, деревни, искусства, природы, русской истории, писателя и денег, писателя и кино, писателя и пьянства и — везде может быть подставлено имя Юрия Нагибина. А потом, то есть сейчас — вроде как и не было писателя. Узнав, что на склоне дней Юрий Маркович взялся на собственный счёт издавать полное собрание, чуть не в пятидесяти томах, я был поражён: настолько любить себя, каждое своё слово! А может быть, это была просто гордость труженика количеством сделанного?
Впервые имя Нагибина я прочитал на обложке детгизовской книжки «Трубка» — про цыганёнка, а кажется, ещё раньше — в журнале чуть ли не «Мурзилка» или всё-таки «Пионер» — рассказ назывался, кажется, «Новая Гвинея», где было два мальчика — жадный и щедрый, и первый у второго выманивал редкую марку; после сделки жадину всё равно сосал червячок, а щедрый играл и пел красноармейскую песню: «Он был добрый, ему было хорошо», такова была заключительная фраза. Рассказ естественно вписывался в тогдашний пионерский круг чтения, где активно присутствовала эта тема. Кто из моего поколения не помнит рассказ Веры Осеевой «Синие листья»: девочка раскрасила листья синим карандашом, потому что соседка по парте не дала ей зелёного.
Читал я и историческую книжку «Великое посольство», написанную Нагибиным в соавторстве с отчимом Я. Рыкачёвым, не помню ничего, но зато крайне почему-то раздражала «Бемби» (пересказ Нагибина) — казалось, что так о животных рассказывать неправильно, надо как Сетон-Томпсон.
Уже в студенческие времена, в середине 60-х, старший приятель, студент ВГИКа, застав меня за приобретением сборника Нагибина, кажется, «Погоня», стал корить за то, что читаю пошляка. «А “Председатель”?» — защищался я. — «“Председатель” — это заслуга Ульянова и немного Салтыкова и нисколько Нагибина», объяснил будущий киновед.
Начинал читать и появлявшиеся в семидесятые исторические рассказы его — о Лескове, Чайковском, Рахманинове. А вот выписанный четырёхтомник прочитать уже не смог — Нагибин для меня исчез надолго. И вот «Дневник».
Писательские дневники редко являют пример добродетели, но то, что преподнёс Нагибин, превосходит, кажется, все мыслимые до сих пор границы, и кажется, полностью покрывается его признанием: «Ненависть — единственное активное чувство, которое осталось во мне. Да и не просто осталось, а набирает силу». Запись 1984 года, автору — 63. Жалобы, жалобы, жалобы. Кому? Не потому ли он хотел видеть «Дневник» напечатанным при жизни, чтобы донести их. Кому? Он не слышит, как делается смешон, восклицая даже и так: «И ко всему прочему ещё я председатель ДСЮ».
Всё так. Но и ещё раз перечитывая не слишком ароматный текст, я понял, что у «Дневника» Нагибина куда больше шансов остаться в истории русской словесности, нежели у его прозы. И не столько по насыщенности, набитости внутрилитературным «материалом» (ср. с «Дневником» Чуковского, который тоже саможалостливости не чужд, как и едких характеристик), но по небывалой степени откровенности и следующей за ней правды, которой так недоставало его сочинениям.
У Виктора Розова, признанного гуманиста (что хочешь у него отними, только не гуманизм), в пьесе «В поисках радости» меня некогда, тогда ещё мальчишку, поразило одно место, да и сейчас поражает. Резонёрствующая мать, старший сын которой под влиянием невестки сделался стяжателем и всё откладывает папочку с заветной работой, предаваясь халтуре, устраивает сыну домашний педсовет, напоминая не только о новых, но и старых грехах. Был среди них и тот, что в девятом ли, десятом классе сын пришёл домой пьяный, и другой раз, и третий, и мать признаётся ему, что тогда, глядя на него спящего, пьяного, подумала: «Лучше бы ты умер».
Ужаснуло несоответствие греха и кары. И ладно бы зрителя подготовили, скажем, отец был алкоголик и над матерью измывался, или что-то в этом роде, поэтому мать так болезненно отнеслась к его выпивкам. Нет, из соображений какой-то высшей, известной, вероятно, лишь Виктору Сергеевичу, гуманности: напился — так лучше издохни!
Трудно понять графоманствующих старцев, одолевающих редакции не воспоминаниями, что естественно, но поэмами или романами. Одно дело в юные годы изводить бумагу, радуясь собственному мнимому дару и предвкушая успех, славу, деньги, когда в голове уже одни анализы, выдумывать каких-то людей, страсти, мечты...
«Здравствуйте, тов. Главный Редактор ж. “Волга”!
Прочитал ещё раз свою рукопись-роман “Волга-матушка”. Представьте, замечательная, просто изумительная литературная вещь! Выходит, не зря корпел над ней более десятка лет! Значит, я выполнил свою задачу перед россиянами, а значит, и перед Нобилеевским (так в тексте. — С. Б.) Комитетом, куда я приготовил свой роман для представления.
А Вы представляете, что будет, если мне, волжанину, в чём я мало сомневаюсь, присвоят это почётное звание?
Подумав, я решил бесповоротно, если мне не может помочь в издании моё «родненькое» издательство, коим я считаю Вас, то очень прошу Вас: пожалуйста, пришлите мне адрес Волгоградского издательства и, по возможности, других, но обязательно расположенных на реке Волга. Я всё же попытаюсь издать своё “детище” у себя в России. Хотя, если откровенно признаться, хотелось бы сделать это в своём «родненьком» журнале».
И последнее. Если Вы измените своё отношение ко мне, то я Вас пойму.
(подпись)»
В 1995 году Виктор Ерофеев заявил: «Было время бить стёкла, а настало время получать премии».
В 2000 году Виктор Ерофеев заявил: «Наступило более мягкое время. Время заботиться о мире, в котором мы находимся, о себе, своём здоровье и своих ценностях. <... > ... мы вступаем в постсексуальное время».
Так. Только почему же — «мы», эдак пройдёт ещё сколько-то лет и надо будет заявлять: мы вступаем в предмогильное время. Нам с Ерофеевым (мы одногодки), может быть, и пора начать заботиться о здоровье и вступать в «постсексуальное» время, но других-то, тех, кто помоложе, стоит ли звать присоединиться?
В РУССКОМ ЖАНРЕ - 20
В «Станционном смотрителе» — поразительном во всём! — при перечитывании остановило место, где Вырин был выставлен Минским на улицу. «Долго стоял он неподвижно, наконец увидел за обшлагом своего рукава свёрток бумаг; он вынул их и развернул несколько пяти и десятирублёвых смятых ассигнаций. Слёзы опять навернулись на глазах его, слёзы негодования! Он сжал бумажки в комок, бросил их наземь, притоптал каблуком и пошёл... Отошед несколько шагов, он остановился, подумал... и воротился... но ассигнаций уже не было. Хорошо одетый молодой человек, увидя его, подбежал к извозчику, сел поспешно и закричал: “Пошёл!..”».
Ведь перед нами текст уже Достоевского!
Как понимать стихотворение Фета «Юноша, взором блестя, ты видишь все прелести девы; / Взор преклонивши, она видит твою красоту»?
Может быть, многие проблемы нашего, теперь уже прошлого века происходят из-за того, что люди стали жить слишком долго, задерживаясь на этом свете, когда уже исполнены дела и возвращены долги, а они всё пытаются что-то доделать и набрать новых долгов?
Тщеславие знакомых покойника. Не близких, тех, кто скорбит, а знакомых. Сознание особых прав на умершего, на место у гроба, на слово о нём, сообщают их облику комичную значительность публичного лица.
«Дойдёшь до избушки, а в избушке лежит длинный мужчина из угла в угол, и ты спроси у него, как выйти на Русь» (Сказки Афанасьева).
Среди прочих несметных достоинств ершовского «Конька-горбунка» мне привиделась и некая футурология. Очень уж покрытый людской суетою чудо-юдо рыба-кит напоминает измученную бесконечным освоением землю.
Все бока его изрыты,
Частоколы в рёбра вбиты,
На хвосте сыр-бор шумит,
На спине село стоит;
Мужички на губе пашут,
Между глаз мальчишки пляшут,
А в дубраве, меж усов,
Ищут девушки грибов.
Место, где Конёк велит людям покинуть обжитую территорию, крайне напоминает процедуры освобождения населённых пунктов, подлежащих затоплению, какое-нибудь «Прощание с Матёрой»:
Вот в село он прибегает,
Мужиков к себе сзывает,
Чёрной гривкою трясёт
И такую речь ведёт:
«Эй, послушайте, миряне,
Православны христиане!
Коль не хочет кто из вас
К водяному сесть в приказ,
Убирайся вмиг отсюда.
Здесь сейчас случится чудо:
Море сильно закипит,
Повернётся рыба-кит...»
Тут крестьяне и миряне,
Православны христиане,
Закричали: «Быть бедам!» —
И пустились по домам.
Все телеги собирали,
В них, не мешкая, поклали
Всё, что было живота,
И оставили кита.
Утро с полднем повстречалось,
А в селе уж не осталось
Ни одной души живой,
Словно шёл Мамай войной!
Ершов явно более жалеет кита с изрытыми боками и вбитыми в рёбра частоколами, чем мирян, православных христиан, устроивших себе цивилизацию на китовом теле.
Поддался напечатанной в какой-то газете «горячей десятке» русского романа и вывел собственную.
Лучшие русские романы XIX века
Пушкин. Капитанская дочка
Гоголь. Мёртвые души.
Достоевский. Бесы
Толстой. Война и мир.
Гончаров. Обломов.
Лучшие русские романы XX века
Горький. Детство. В людях
Бунин. Жизнь Арсеньева.
Шолохов. Тихий Дон.
Булгаков. Белая гвардия.
Ильф и Петров. 12 стульев. Золотой телёнок.
«...я тороплюсь, и скажу как Александр Дюма, что в жизни существуют два неумолимых часа — час почты и час смерти; первый меня ожидает, весь ваш до второго». 22-летний Лев Толстой любимой тётушке Т. А. Ергольской из Москвы в Ясную Поляну (пер. с фр. — С. Б.).
Читая тот же том писем молодого Толстого (т. 59 из ПСС, как же хороши первые тома в смысле подготовки их, примечаний, минимуме купюр в текстах, особенно разительны отличия в серии Дневников, тех, что успели выпустить до войны: 46, 47, 54, 55, 56, 58 — и остальных, вышедших в начале 50-х; ведь и первые тома, казалось бы годы выпуска ох какие 1932-й, 1934-й, даже 1937-й, но какой уровень, затем забытый, убитый, похороненный, казалось, навсегда, но, поди ж, дожили до времени, когда возрождается русская филология), из этого чудесного тома узнал, что любовница Сухово-Кобылина Нарышкина, урождённая Кнорринг, подозреваемая в знаменитейшем убийстве содержанки Сухово-Кобылина Луизы Диманш из ревности (эту новость Толстой сообщает из Москвы тётеньке), уехала за границу и вышла замуж за Дюма-сына. Бог мой... Вообразить только тесный мир, в котором одновременно обитали Толстой, Дюма, Сухово-Кобылин, спали с одними и теми же дамами... Годы рождения: Дюма-отец 1802, Сухово-Кобылин 1817, Дюма-сын 1824, Толстой 1828, и какие разные результаты: «Граф Монте-Кристо», «Смерть Тарелкина», «Дама с камелиями» и «Смерть Ивана Ильича»!
Пожилые люди любят вспоминать не только собственную жизнь, но и то, что случилось на их веку. Классический в этом смысле зачин мемуаров Эренбурга: он перечисляет великих людей, великие изобретения, что появились при его жизни. Правда, Илье Григорьевичу было сподручно: едва ли не всех великих современников он знал лично, но суть дела от этого не меняется. Ретроспектива же, когда он перечисляет не личные знакомства, не слишком впечатляет и у Эренбурга. В год, когда он родился, «ещё работали Пастер и Сеченов, Мопассан и Верлен...». Ну и что?
Сообщи я, что при моём приходе в этот мир его ещё не покинули Бунин, Ганди, король Георг VI, Сталин, Черчилль, Бернард Шоу, и так далее, или что был запущен первый спутник земли, взорвана первая водородная бомба? Человеку любопытно воображать себя современником исторических лиц и деяний, но Эренбург-то сам был не только современником, но и участником, знакомцем и соучастником, а обывателю радоваться, что народился на свет, а в это время что-то кто-то свершал, нет оснований. Ведь и во всю его последующую жизнь что-то, и не он, а кто-то свершает историческое, как свершал и до и после явления в мир господина-товарища икс?
Зато вспоминая приметы быта, нередко поражаешься тому, что застал что-то, нынче прочно забытое или, напротив, отсутствию тогда чего-то ныне воспринимаемого как всегдашнее. Первую столовую самообслуживания я увидел в Сочи в 1957 году, на курортников производило невероятное впечатление то, что самому надо взять поднос и двигаться с ним вдоль прилавка, самостоятельно набирая еду — было в этом что-то и нелепое, и чужое, и притягательное как запрет. Самообслуживание невольно устраивалось в сознании где-то рядом с Американской выставкой в Сокольниках, значки которой были величайшим сокровищем. На той выставке я не был, но попал с матерью тем же летом на выставку чешского стекла; проездом на юг мы останавлива лись на несколько дней у земляка, знаменитого скульптора К. Там я впервые увидел телевизор КВН с линзою, похожей на циклопический глаз подводного чудовища. Маленький стеклянный брелок на шёлковой тесёмочке с чешской выставки, которая запомнилась необыкновенным освещением внутри стендов и густой толпой у входа, я сберегал несколько лет, ни на что не меняя несмотря на лестные предложения.
А такси «Победа» опоясанная двойным рядом шашечек? А та же «Победа» с брезентовым, опускающимся верхом? А картонные крышечки в бутылках с молоком? А галоши с метками в малиновом нутре подкладки — от небрежно намалёванных чернильным карандашом до щегольских латунных инициалов, как у моего старшего брата, который потратил много вечеров на выпиливание и шлифовку плотных жёлтых литер? А меховые муфты и муфточки у женщин и девочек? Ботики?
Я помню билетёров, вручную отрывающих билеты в метро, китайцев на базаре, торгующих бумажными шариками, парашютные вышки в парках, первые, очень пачкающие шариковые ручки, затем исчезнувшие на много лет, волнующий запах радиоламп, исходящий из дырочек картонной задней крышки радиоприёмника, игру в «зоску» и первый велосипедный моторчик «Киевлянин», который крепился внизу у педалей и колдовать вокруг которого сбегалась вся имеющаяся в наличии мужская часть нашей улочки... А мне всего лишь 53 года. Между пятидесятыми и двадцатыми годами куда больше общего, чем между семидесятыми и пятидесятыми или девяностыми и семидесятыми.
И всё же вспоминать интереснее самому вспоминателю. Так Валентин Катаев в последние годы жизни принялся составлять бесконечные реестры прошедших в его жизни предметов («Волшебный рог Оберона» и другие), но даже его изысканное мастерство не избавляло эти тексты от утомительной мелочной описательности
Я собираю винные, водочные, пивные этикетки, потому что я пьяница. Так. Но мне жалко всех выбрасываемых этикеток, наклеек, бандеролей, — почему?
Одно объяснение: старосоветская, бедностью рождённая андрей-платоновская жалость к произведённому людским трудом продукту — раз, к тому — советская в квадрате жалость к красивой, долгие годы для редкостной упаковке, как некоему символу связи с заморской жизнью. Вспомним, как уставлялись буфетные крыши экзотическими бутылками, простенки оклеивались пачками из-под импортных сигарет, и всё же более искать следует в метафизических непонятках объяснений того, что пройдёт — то будет мило.
Из той же оперы. По ТВ показывали старую довоенную ещё экранизацию чеховского «Медведя» с Андровской и Жаровым. Защемило вдруг сердце на кадре, когда героиня Андровской взглядывает на часики, висящие на шее на шнурке. Однажды я получил в подарок такие часики.
В конце 50-х годов у моего отца вышел в Москве автобиографический роман «Ливень», и вскоре он получил письмо с родины, из райцентра Яранска Кировской области. В «Ливне» он описал, как в Сретенской церковно-приходской школе была у них молоденькая учительница с чёрной косой до талии, пахнущая особой свежестью от невиданного в деревне мыла. Вот эта первая учительница и написала отцу, узнав себя в романе. Они стали переписываться. Однажды пришла небольшая бандероль. В ней были маленькие дамские часики в потемневшем от времени латунном корпусе, с такой же крышкой, под которой был пожелтевший циферблат с римскими цифрами. К ушку корпуса был привязан чёрный шёлковый шнурок. Часы предназначались мне, и это меня не обрадовало. Было мне лет двенадцать, собственных часов я ещё не имел, иметь очень хотел, но уж если не роскошные «штурманские», как у старшего брата — на такие я не мог разевать рот, — то хоть обычную «Победу» или хотя бы, забыл, ах забыл, как назывались, были такие специальные подростковые часы, самые дешёвые, недолгого срока жизни, пусть их, но не ископаемые, к тому же женские, на дурацком шнурке. Отец, растроганный подарком, предложил мне завтра же взять их в школу, да ещё и со шнурком. Я отказывался, он давил. Я положил утром часы в портфель, но едва выйдя за ворота, отвязал шнурок, увы, его отсутствие не спасло меня от насмешек предполагаемого мной направления: бабские, старьё, стыд, а не часы.
Более я эти часики никогда в руки не брал, и они сохранялись долгие годы у отца в столе, а потом, наверное, их заиграли внуки, дети старшего брата или мои — не знаю.
В Саратове в послевоенные годы был очень популярен баянист Иван Паницкий. Его виртуозное мастерство и поныне широко признано. Был Иван Яковлевич слеп и, как многие слепцы, улыбчив. Играть мог бесконечно, так что иногда со сцены сборных торжественных концертов его приходилось уводить с деликатной настойчивостью.
В те годы первым секретарём обкома был Б-в, большой поклонник баяна. Тогдашний председатель областного радиокомитета К. рассказывал отцу, что Б-в дал ему наказ: почаще передавать выступления Паницкого и заранее о том извещать его. Однажды, едва замолкли последние звуки последней вещи концерта Паницкого из студии (никаких записей тогда не было), в кабинете К. зазвонила «вертушка», и хозяин области спросил хозяина кабинета, отчего это сегодня Иван Яковлевич играл так мало и почему не был исполнен «чардаш» Монти? Пусть сыграет! К. пытался робко вразумить баянного фаната: дескать, уже объявлена другая передача, но тот был непреклонен. Пришлось срочно возвращать в студию уже выводимого на Провиантскую улицу, где располагался комитет, Ивана Яковлевича, усаживать перед микрофоном, расчехлять инструмент и объявлять, что по просьбе радиослушателей концерт продолжается.
Я мало понимаю в русских песнях в эстрадном воплощении, но что-то понимаю. Одно — то, что Бунин описал в «Речном трактире»: «на помост вышли в два ряда сели по его бокам балалаечники в оперно-крестьянских рубахах, в чистеньких онучах, и новеньких лаптях, за ними вышел и фронтом стал хор нарумяненных и набелённых блядчонок, одинаково заложивших руки за спину и резкими голосами, с ничего не выражающими лицами подхвативших под зазвеневшие балалайки жалостную, протяжную песню про какого-то несчастного “воина”, будто бы вернувшегося из долгоготурецкого плена: “Ивво рад-ныи-и ни узнали-и, спроси-и-ли воин-a, кто ты-ы..
Это направление особенно процветало в советское время, его ненавидел мой отец, вятский крестьянин, называя действо «два прихлопа, три притопа».
Другие — уже позднего времени фольклорные ансамбли, призванные очистить русскую песню от этих самых прихлопов, также поселяют во мне нестерпимое чувство фальши, ещё более глубокое, чем в первом случае; там хотя бы все знали эстрадный канон, и, кажется, никто всерьёз и не полагал, что представляет подлинное национальное искусство. А поют и пляшут «в народе» совершенно «не по-русски» — тупо приплясывая на месте, визгливо крича и кругло поводя руками над туловищем. «Затерялась Русь в Мордве и Чуди» — вспоминаю и ещё вспомню есенинское прозрение; никакие мы не русские, а срединное население бывшей империи.
На футбольном поле проходила репетиция. Три толпы пионеров двигались под гнетущим солнцем. Руководил действом молодой мужчина с оттопыренным задом, в пионерской пилотке, с мегафоном в одной, фанерным автоматом в другой руке. Такие же автоматы были и у детей.
Посреди поля сидел на табурете перед микрофоном баянист, окружённый барабанщиками. Мужчина с автоматом сипло закричал в мегафон: «Хиросима, на место! Американцы! Приготовились. Па-ашли!» И он взмахнул автоматом. Баянист под барабанную дробь задал Седьмую симфонию Шостаковича: «та-а-рарарам!» Две группы пионеров с автоматами стали наступать на третью группу детей без автоматов, которые повалились на колени и стали извиваться и отталкивать от себя руками что-то страшное, как им показывал мужчина, который вмиг очутился там, где они, и столь же молниеносно отскочив к автоматчикам, зверски захрипел и угрожающе замахал автоматиком. Ребята повторили. «Американцы» всё ближе подходили к «Хиросиме», та съёжилась и устало отпихивалась ладошками, мужчина прыгал, прыгал раком, словно его утягивала за зад невидимая рука, стучали барабаны, палило солнце. «Всех благодарю!» — закричал вдруг режиссёр и захлопал над головою в ладоши (год 1978, пионерский лагерь под Саратовом).
Алексей Н. Толстой 20 октября 1934 года пишет жене из Москвы в Детское Село о самом для него тогда жгучем вопросе: «С машиной — неопределённо. Получено сведение, что постройка её приостановлена, так как не годится наша сталь для штамповочных частей и эту листовую сталь выписали из-за границы. Завтра туда (в Нижний) едет один верный человек и мне протелеграфирует точную картину. Всё же мне придётся числа 24-го поехать в Нижний самому, это все мне советуют. О заграничной машине говорил с Генрихом Григорьевичем, — он мне поможет, на днях буду говорить с наркомом по Внешторгу — Розенгольцем. Затяжка с машинами меня ужасно мучает и мешает работать». Ранее, в августе он радостно сообщает ей: «Вчера Молотов предложил мне через Крючкова подать заявление об импортной машине. К весне у нас будет дивный зверь в сто сил».
Ежели к этому добавить, что тот же Генрих Григорьевич Ягода «даёт потрясающий матерьял для “19 года”», являясь при этом соперником Толстого в деле ухаживания за снохой Горького, что в августе Толстой находился в Москве на I Съезде советских писателей, где являлся докладчиком по драматургии, что в это же время (октябрь 34-го) он сосватывает свою свояченицу-скульптора лепить бюст наркома Бубнова, выселяет (с помощью НКВД) из детскосельского дома бывшую домработницу с сожителем, читает у Горького свои новые тексты Ворошилову, и в конце концов, когда-то же, наконец, пишет эти самые тексты, в том числе и вторую, столь восхитившую Бунина, книгу «Петра», не переставая при этом пьянствовать с разнообразными собутыльниками, перемещаться по стране и за границу, да ещё содержать при этом огромное семейство, то мудрено не подивиться энергии «красного графа».
В кино и других искусствах, но особенно в кино, авторы уподоблялись обитателям дурдома в «Золотом телёнке»:
«— Здесь у меня, наконец, есть личная свобода. Свобода совести. Свобода слова...
Увидев проходящего мимо санитара, Кай Юлий Старохамский визгливо закричал:
—Да здравствует Учредительное собрание! Все на форум! И ты, Брут, продался ответственным работникам! — И, обернувшись к Берлаге, добавил: — Видели? Что хочу, то и кричу. А попробуйте на улице».
С каким смаком вставлялись надо не надо в картины 60—70-х эпизоды пения «Боже, царя храни», щёлканье каблуками, звон шпор, с каким наслаждением произносилось слово «Господа!». В какой презрительно-великосветской манере случалось иному актёру сладостно произносить монолог о краснопузых, которых следует пороть и т. п.
И творили все эти маленькие радости для себя и для понимающих преимущественно потомки тех самых краснопузых, которые изничтожили и Богом хранимого царя, и господ.
Быть может, Сталин особенно стал доверять Булгакову после того, как прочитал изъятый при обыске ГПУ дневник его? Нетрудно вообразить, как ухмыляется он, читая антиеврейские и антисоциалистические выпады писателя: их взгляды во многом совпадают, те же симпатии-антипатии: Эдуар Эррио — еврей, коли проводит просоветскую политику и т. д.
Пастернак очень хвалил «Первые радости» Федина, и нет оснований заподозрить Б. Л. неискренности, которая, как известно, и вовсе ему была неприсуща. Но — имеющий уши да услышит, не кидайте в меня дохлой кошкой! — достаточно прочитать вслух несколько страниц «Живаго» и «Радостей», чтобы услышать несомненное родство интонаций.
Дневник Чуковского, читать который надо не раз и не два, снимая слой за слоем, бережно как при раскопках, абсолютно не содержит еврейскую-антиеврейскую тему вплоть до войны в смысле духовно-этическом. Талантливые евреи борются с бездарными, порядочные сражаются с непорядочными об руку с русскими, никаких различий, никаких водоразделов. Но всё меняется после войны, и уже в 60—70-е годы записи характеристик чётко подлежат квалификации: порядочный человек или черносотенец. Тут, конечно, правда: после войны наверх, в том числе и в литературе, пролезла преимущественно русская сволочь, а еврейская сволочь была к этому времени уничтожена или раздавлена репрессиями. Открытия никакого нет, просто ещё одно подтверждение способности дневников быть историческим источником.
Ох, не люблю я шашлыки и всё, что им сопутствует: долгие сборы и споры, кто и сколько должен купить мяса, и можно ли баранину заменить свининой, и как долго, в какой посуде и в чём вымачивать, и сожаления, что прежде вымачивали в сухом вине, а теперь приходится в уксусе, и крамольное чьё-то заявление, что классический шашлык и вовсе не в вине, а в кислом молоке, и ехидный вопрос, что значит классический, чьё-то неизбежное из «12 стульев» про шашлыки по-карски, и тут же жаркий спор о том, что значит по-карски, или же по поводу точности цитаты, и кто-то уже кидается к книжной полке, чтобы ткнуть кого-то в страницу носом, и последнюю фазу, с пропусками или вплотную насаживать куски, и надо лук между или сверху, и нужны ли помидоры, и какие угли правильнее, осина, нет берёза, нет бук и кто-то непременно подценет: может, лучше карельская берёза, и долгое как бы священное бдение вокруг мангала, и сгорит-несгорит, готово — не готово, брызгать — не брызгать, поддувать — не поддувать, а в результате непременно сгорит и одновременно будет сырым, и первоначальную всеобщую плотоядность, и завидущие взоры на тех, кому достался лучший шампур, и поедать быстрее этот, чтобы другой раз ухватить получше, и скорое насыщение и сиротливый убогий вид несъеденных кусков рядом с пустыми бутылками, раздавленным помидором, и этот запах жирной сажи на ладонях ещё несколько дней, словно след греха.
Это — эстетика шестидесятничества, Сюда ещё Окуджава, костёр, Визбор, споры, легко перетекающие в секс, незаметно оказывающийся посылом к построению семьи. И это было, и на этом жили, состарились и поумирали эти всё-таки прекрасные люди, дети великой войны.
«Грузия, дело известное, от России откололась. Надоело грузинцам сидеть за широкой русской спиной, хотят пожить по своей воле... Деньги теперь у них свои, законы свои, правители свои, ну — разлюли малина!» (Артём Весёлый. Россия, кровью умытая. Год 1917-й).
Genre — по-французски дух. Стало быть, у меня заметки не только «в русском жанре», но и в русском духе.
В РУССКОМ ЖАНРЕ - 21
Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет буревестник, чёрной молнии подобный.
От лесов, равнин пустынных,
От озёр Страны Полночной,
Из страны Оджибуэев,
Из страны Дакотов диких... —
как это прежде я не заметил? До «Песни о Буревестнике» (1901) перевод «Песни о Гайавате» (1896) выходил многими изданиями. Вряд ли Алексей Максимович сам нашёл столь диковинный размер.
— Карпушка, а ты знаешь, что такое пейзаж? <... >
— Ну, матерком что-нибудь...»
Бунин И. А. Дневник 1911 года
— Ну, Кулик, скажи — перпендикуляр.
— Совестно, Семён Семёнович.
А Толстой. Незаконченный роман «Егор Абозов». 1915
Во мне подобные ощущения вызывают слова дискурс, дефолт и множество других благоприобретений нашего несчастного словаря.
В вестибюле московской гостиницы «Космос» среди обязательных для любой международной гостиницы куч и толп западных пенсионерских пар в панамках, клюшках и фотоаппаратах, становится заметно преобладание китайцев среднего возраста. Они несколько принуждённо носят европейское платье, много курят и странным образом напоминают советских служащих 50-х годов, неловкостью костюмов и вялостью телосложения при бодром поведении, что странно: китайцы в массе народ жилистый, но я этой неловкости, обезжизненности тел, кажется, нашёл объяснение: так же как и наши выходцы из деревни и цеха, эти китайцы (конечно же управленцы) принялись стремительно отдаляться от физических нагрузок и предаваться объеданию и опиванию да ещё обкуриванию, — и их плебейские тела без генетически привычных нагрузок быстро увяли и зажирели. Таковы, между прочим, были и почти все без исключения советские вожди. Средняя же масса служащих стала разъедаться уже в 60-е годы.
Целиком никогда не читал, да и давно не заглядывал в «Русский лес», помня ощущение предельной вымученности, свинченности мёртвого текста. Некогда злоязыкий критик Ч., вспомнив по какому-то поводу Леонова, сказал, давясь от смеха, что старик решил долго не мучиться поисками способа зачернения врага русского леса Грацианского и пошёл путём советского кино: отдал того на службу охранке.
Но, бог мой, листая сейчас этот толстенный роман, какое впечатление нечистоты, лжи, подобострастия к режиму выносишь с его страниц. Главный герой и alter ego автора Иван Вихров даёт отпор идеалистам, затеявшим беседу о бессмертии души: «...моя наука учит меня, что все живые организмы умирают прочно. <... > По словам Вихрова, смешные притязанья на загробное бытие свойственны главным образом тем, кто ничем иным, героическим или в должной мере полезным, не сумел закрепиться в памяти живых, что единственно и может являться настоящим бессмертием». Против загробной жизни выступает и друг Вихрова Крайнов, иронизирующий над повторным бытиём, так как повторы эти сведутся к тому, «чтобы вторично мёрли с голодухи волжские мужички, или с деревьев Александровского сада сыпались подстреленные ребятишки, как это случилось у нас в Петербурге девятого января, или, скажем, чтобы палач вторично надевал петлю на Александра Ульянова. Подобные явления и в загробном мире неминуемо привели бы к восстанию призраков...». Вот он самозабвенно иллюстрирует определение периода меж двух революций как позорного десятилетия. Дозвольте процитировать, а то ведь когда у кого руки до «Русского леса» дотянутся.
«Неблагополучной тишиной отмечены эти сумерки советской предыстории. Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге опустела наконец от просителей, бунтовщиков, вооружённого простонародья, и, страшно отвернувшись от замолкших просторов России, глядел ангел с Александрийского столпа. Казённая скука и военно-полевое правосудие стали образом жизни это несчастной страны. Победители рыскали в поисках побеждённых. Таких не было. Разгромленная революция не умерла, не притворялась мёртвой — она как бы растворилась до времени в безоблачно-суховейном небе. Взрослые защитники русской свободы, не успевшие скрыться в подполье, более глубоком, чем братская могила, в тифу и кандалах брели в каторгу и сибирские поселенья. Остались дети и подростки — и те, чьих матерей расстреляли девятого января, и те, кто ползком подтаскивал патроны на Пресне или прятал за пазухой отцовские прокламации; надо было ждать, пока смена освоит отцовский опыт восстанья. И когда живое покинуло поле великой битвы, над ним закружились призраки. То была пёстрая круговерть тления, предательства, противоестественных пороков, которыми слабые восполняют природные немощи мысли и тела. В ней участвовали недотыкомки, андрогины, зверобоги, коловёртыши, прославившие Ницше, Иуду и Чезаре Борджиа, бледные упыри в пажеских мундирах, сектантские изуверы с пламенеющими губами, какие-то двенадцать королевен, танцевавшие без рубашек до радужной ряби в глазах, отставные ганноверские принцы, апокалипсический монах, гулявший по Невскому в веригах и с пудовой просфорой на груди, загадочные баронессы в масках и вовсе без ничего, мэки, призывающие интеллигенцию к братанью с буржуазией, анархисты с дозволения полиции и ещё многое, вовсе утратившее признаки чести, национальности, даже пола. Всё это, ночное, таяло при свете дня, не оставляя ни следа, ни тени на отечестве, по которому вторично от начала века проходил насквозь царь-голод».
Очень похоже на написанное тремя десятилетиями раньше вступление А. Н. Толстого к роману «Сёстры», только у того всё живописнее, проще, живее, нет и сумрачной политграмоты, обвинений меньшевиков в прислуживании буржуазии. Вообще, сравнивая текст Леонова с принадлежащими перу других современников, из которых самыми знаменитыми приспособленцами признаны Толстой и Катаев, видишь, насколько те были беззаботнее в деле подлаживания к власти, насколько больше у них, особенно у Толстого, рядом с подлостью оставалось ещё запаса свободы для сочинения не заказных страниц, насколько менее претенциозны они, чем угрюмый выводитель витиеватых словес, отчего-то приобретший славу едва ли не русского мыслителя.
А вся оригинальность метода автора романа заключается в том, что пошло написанный, вроде процитированного, кусок он обрамит некоей, доступной лишь ему деталью: «Разговор проходил в дендрарии института, возле мелкоплодной пенсильванской вишни; красноватая атласная кора просвечивала на стволе сквозь шелуху, колеблемую ледяным ветерочком». Вот и вся душа прозы этого писателя — мелкоплодная пенсильванская вишня!
Складывал-вымучивал прилежно своё детище, а чуток не поспел: главный читатель скончался до публикации романа.
Взял же в руки роман Леонова я после чтения книги Феликса Чуева «Молотов», где описывается встреча на даче у И. Стаднюка: Михаил Алексеев, Анатолий Иванов, Леонид Леонов, Владимир Фирсов. А Чуев привёз им Молотова (1975). То, что Леонову было интересно встретиться с Молотовым, понятно, хотя, думаю, он бы и без посредников мог это сделать, но тянуться к общению со Стаднюком и Фирсовым! Как ни низко я ставил Л. М., всё же представлялось, что его высоколобость не позволяла дружить с автором «Вечного зова».
Констанция Львовна в «Обыкновенном человеке» Леонова — пример того, как человек «прежнего закала» угодливо выставляется автором перед советским зрителем, в том числе и новой советской интеллигенцией, на злую потеху. Не просто плохой человек дореволюционной формации, но именно и подчёркнуто человек старой формации.
В «Обыкновенном человеке» Леонов сладостно обличает и знаменитого певца Ладыгина, погрязшего в роскоши, потому что смолоду знал нужду (калька персонажей горьковских «Дачников»); друг его красноармейской юности корит певца: «На дорогие игрушки разменял ты её (бедную берестяную кошёлку. — С. Б.). <... > ...разве становясь артистом, ты перестал быть человеком, Митя? Или ты собираешься тащить всю эту ветошь за собою в будущее? Там на свету-то, за каждое пятнышко стыдно будет».
Это Леонов-то обличитель богатого быта?! Леонов, вечно что-то материальное клянчивший у власти, Леонов, даже в эвакуации в Чистополе устроивший, как никто другой, свой быт, когда самым знаменитым его подвигом в этом направлении стала оптовая скупка всего мёда, который превратил затем в драгоценный предмет «бартера», (этому деянию посвящено стихотворение Евтушенко «Мёд»:
...но жив он,
медолюбец тот,
и сладко до сих пор живёт.
Когда к трибуне он несёт
самоуверенный живот,
когда он смотрит на часы
и гладит сытые усы,
я вспоминаю этот год,
я вспоминаю этот мёд.
Однако к «Обыкновенному человеку»: почему вдруг вспомнилась сейчас эта комедия, даже как бы несколько и водевиль (по нелепости ситуаций во всяком случае)?
Причиной здесь момент биографии автора этого текста, которому в детстве и юности не раз довелось видеть спектакли по этой пьесе (в комментарии к последнему собранию сочинений сообщается, что поставлена была она в шестидесяти театрах страны), а также фильм с актёрами, из которых по малолетству запомнились — Куликов (из Малого?) в роли молодого Ладыгина и Софья Бирман в роли этой самой Констанции Львовны. Бирман, кажется, вполне реализовала замысел автора, представив в образе пожилой дамы некое змееподобное зло. «Злая, самая злая на свете! Смотрите, какое у неё опытное, какое у неё чёрное лицо...» Самая злая на свете Констанция лезет, с прогнозируемой выгодой для себя, во все дела и отношения, интригует, притом демонстративно играя роль чудаковатой бессребренницы (заметно, что тень Фомы Опискина витала в воображении драматурга). Она расчётлива, наблюдательна и жестока и при этом, пожалуй, единственный живой персонаж в пьесе. Остальные — зажиревший Ладыгин-старший, поглощённый наукой Ладыгин-младший, преданная жена Ладыгина-старшего, вялая невеста младшего, резонёр Свеколкин, деятель, вхожий в правительство, но зачем-то выдающий себя перед старым другом за кассира, причём тот, видимо, на радость публике, никак обмана не распознаёт, и, совсем как в старых пьесах прислуга: шофёр, дворник и горничная Параша — антипод Констанции и воплощённый глас народа. Всем сообща, под руководством Параши и Свеколкина удаётся выжить старую интриганку с дачи Ладыгина. А вот какими, вероятно, вызывающими одобрительный смешок зала (год написания 1940) репликами, благородный резонёр Свеколкин воздействовал на Констанцию: «у вас есть несомненные способности в этом деле, (интриганстве. — С. Б. ) Если развивать их и дальше, можно далеко пойти. И даже до Колымы, мадам». Или: «вас довезут на край света... и даже дальше, мадам». Или:
«Констанция. Но я уже старуха...
Свеколкин. Я бы не сказал. Вам, например, даже не поздно заняться каким-нибудь производительным трудом!»
Такой вот, пролетарский, что ли, юмор...
...Поразительна судьба этого писателя! Начав публиковаться в юном возрасте, он пережил всех современников, пройдя в фотографиях путь от хорошенького мальчика, затем несколько декадентского молодого человека в изящной толстовке и с длинною папиросой в длинных пальцах (фото с Есениным), бравого лауреата с трубкой и знаками лауреатских отличий, задумчивого усталого мудреца зрелой старости и наконец кривогубого отшельника, приобретшего к концу жизни реноме некоего «гуру». Он и в самом деле был очень одарён, но никто ещё не взял на себя труд нелицеприятно обозреть литературный путь этого писателя, в мастерстве приспособленчества никак не уступающего, но, пожалуй, превосходящего многих своих переделкинских односельчан.
Что нравится мне в Леонове, так это его ненависть к знаку кавычек: он по возможности заменяет их разрядкой. А ведь когда-то я был очарован его игрушечными ранними поисками, зачитался поначалу и Вором, пока не сделалась слишком очевидной железная воля автора, за шиворот тянущего героев во главе с Митькой Векшиным к правильному финалу.
Главный минус «Золотого телёнка» пред «12 стульями» — отсутствие Воробьянинова, которого не может заменить сборное трио: Балаганов — Паниковский — Козлевич.
Одно из пиковых мест в «Зависти» пьяная речь Кавалерова, обращённая к посетителям пивной:
«Вы... труппа чудовищ... бродячая труппа уродов, похитившая девушку... Вы, сидящий справа под пальмочкой, — урод номер первый. Встаньте и покажитесь всем... Обратите внимание, почтеннейшая публика... Тише! Оркестр, вальс! Мелодический нейтральный вальс! Ваше лицо представляет собой упряжку. Щёки стянуты морщинами, и не морщины это, а вожжи; подбородок ваш — вол, нос — возница, больной проказой, а остальное — поклажа навозу... Садитесь. Дальше: чудовище номер второй... Человек со щеками, похожими на колени... Очень красиво! Любуйтесь, граждане, труппа уродов проездом... А вы? Как вы вошли в эту дверь? Вы не запутались ушами? А вы, прильнувший к украденной девушке, спросите её, что она думает о ваших угрях? Товарищи... (я повернулся во все стороны) они... вот эти... они смеялись надо мною! Вот тот смеялся... Знаешь ли ты, как ты смеялся? Ты издавал те звуки, какие издаёт пустой клистир... <...> Девушка! Кричите! Зовите на помощь!» И т. д.
По-моему подобный скандал задолго до Олеши куда виртуознее написал Куприн:
«И всё-таки я презираю вас, хамы, всеми фибрами совей души! Вы, кажется, смеётесь, молодой идиот в розовом галстуке? — обратился он вдруг к кому-то за соседним столиком. — Кто вы такой? Вы приказчик? Камердинер? Бильярдный шулер? Парикмахер? Ага! Улыбка уже исчезла с вашего лошадиного лица. Вы — букашка, вы в жизни жалкий статист, и ваши полосатые панталоны переживут ваше ничтожное имя. Да, да, смотрите на меня, жвачные животные! Я был гордостью русской сцены, я оставил след в истории театра, и если я пал, то в этом трагедия, болваны! А вы — Славянов обвёл широким пьяным жестом всех глазевших на него встревоженных людей, — вы мелочь, сор, инфузории!..» («На покое»). Я даже склонен предположить, что именно повесть Куприна послужила для Олеши источником вдохновения в сцене скандала.
В 50-е годы, в начале их, ещё при Сталине, возобновилось издание собраний сочинений. И их выписывание. И собирание.
Тома открывались, как и положено, двойным разворотным титулом. Но лишь выпускаемые «Худлитом» по подписке, а в приложениях к журналу «Огонёк» контртитул отсутствовал, и для понимающего человека огоньковские быстрые и длинные, как пулемётная лента, собрания были второсортными. Для высоколобых же были немногие академические собрания, выпускаемые издательством АН СССР, затем названном «Наукою». Больше никакие издательства собрания не выпускали, кроме, кажется, «Детгиза». Впрочем, вру: драматургию издавало «Искусство», да и вообще профильные издательства по своей тематике что-то выпускали. Да и Совпис, помнится, издал А. Н. Толстого.
Это было какое-то упорядочение, наверняка, после какого-то постановления.
И выпускались собрания сочинений преимущественно классиков, здравствующих литераторов крайне мало. Если не ошибаюсь, после войны издали в очень похожих тёмно-синих упаковках, на прекрасной немецкой бумаге. Гладкова, Павленко, Федина, Леонова, Эренбурга, кого ещё? националов, кажется, Упита, Василевскую, Лациса, Горбатова, почему-то тогда не издали Фадеева и Шолохова, а лишь в конце 50-х (зато Шолохова «Огонёк» погнал один стереотипный восьмитомник за другим).
Затем, вероятно, с конца 60-х при добром Брежневе, вдруг двинулись к читателю толстенные тома «молодого шло» по тогдашним для классиков меркам Симонова, чисто должностных Чаковского, Маркова. А уж в конце 70-х пошло-поехало, допустили «Молодую гвардию» — Бондарев, Алексеев, «Советскую Россию», если не ошибаюсь, Воениздат, а «Детская литература» уж не Гайдара краснозвёздного, Михалкова с Алексиным для деток издала.
Диковато было в магазине подписных изданий рядом и как бы наравне с фамилиями Вальтера Скотта и Льва Толстого видеть на корешках золочёные фамилии Альберта Лиханова и Петра Проскурина. По поводу второго вспоминаю, как некто, вернувшийся из московской командировки с центральными новостями, рассказывал в редакции «Волги» о праздновании 50-летия Проскурина, которому тогдашний директор «Молодой гвардии», вероятно В. Ганичев, преподнёс договор на собрание сочинений. Наш главный редактора Н. Е. Шундик задумчиво и, чуть зардевшись, вопросил: «А не рановато ли Пете?» (У него самого четырёхтомник выйдет нескоро, в «Советской России».)
В Москве же знающие люди мне объяснили: выпуск «Молодой гвардией» собраний живущих писателей предпринят не случайно, а в реализацию программы создания наших живых классиков: признаком классика является издание собрания сочинений, и их классики издаются собраниями. Для полноты картины вспоминается, как позже Шундик сетовал, что его собрание отодвинули, чтобы срочно напечатать собрание Рыбакова, дабы задобрить автора «Тяжёлого песка» с учётом реакции Запада. Подобное же я слышал в менее политизированном варианте от работников, кажется, той же «Советской России» о том, как собрание Соколова-Микитова отодвинули, чтобы поскорее издать жену Маркова Агнию Кузнецову.
Для утешения же именитых, не допущенных к собранию сочинений, для них изобрели двухтомники «Избранного».
...один московский литератор в те годы, выпив, умилённо любил повторять: «Вы не понимаете, в какое замечательное время мы живём!».
В РУССКОМ ЖАНРЕ - 22
Зашли с женой к её приятельнице в ресторан, лучший в советские времена саратовский ресторан «Волга» (до борьбы с космополитизмом — «Астория»). Валентина там служила метрдотелем, или же, опять-таки официально по-русски завзалом. Очень много интересного я от неё слышал и много на разные с ней ситуации любовался, так как посещение ресторана, тем более своего, было у меня не в ежедневном, конечно, но уж в еженедельном обычае.
Однако не буду отвлекаться, так как на воспоминание толкнули меня только что виденные кадры саратовских теленовостей о том, как в город прибыл выдающийся писатель- земляк М. Алексеев, и встретился с губернатором Аяцковым. Они улыбались, обнимались, а я вспомнил серый, как и сегодня, денёк непоздней осени лет пятнадцать тому назад.
Жена с подругою болтали, я же раз и другой отлучился из банкетного, пустого в полдень, зала в буфет и пребывал в созерцательном благодушии. Резко влетела в двери официантка, кажется Люда Г., лет через пять плохо закончившая биографию, и возмущённо сказала:
— Опять эти из девятого свалили не заплативши!
«Девятым» именовался лучший номер гостиницы «Волга.
Уйдя и вскоре вернувшись, Валентина в меру угрюмо сообщила, что постоялец 9-го номера, писатель-земляк, заказав в номер для себя и гостей немалый обед и, выкушав его, отбыл на вокзал. И проделывает это...
— Не впервые! — адресовалась Валентина уже к разине Людмиле.
Меня заинтересовало, естественно, кто будет возмещать понесённые рестораном убытки, а?
— Да ты и будешь, — как маленькому объяснила мне Валя С., по первому мужу Б., ныне проживающая со вторым мужем где-то в Крыму, кажется, даже в Бахчисарае.
...Фонтан любви, фонтан живой... Валя, привет тебе!
По Горькому, любовные отношения не должны чересчур осложняться «психологией». В воспоминаниях о д-ре Алексине он так выразил своё кредо в любви, перенеся его на Алексина, но исповедуя его во всю жизнь сам: «Его очень любили женщины, он щедро платил им тем же, и на протяжении двадцати с лишком лет моей с ним дружбы ни один из его романов не окончился драмой. У него была очень развитая здоровая брезгливость к излишествам лирики и “психологии”. “Избыток хотя бы и драгоценных камней — уже пошлость”, — говорил он.
Но в то же время он обладал тонко разработанным чутьём эстетики сексуализма и, когда говорил о любимой женщине, я всегда чувствовал, что он говорит о партнёрше, с которой ему предречено спеть дуэт во славу радости жизни».
Замечательно, и, повторяю, к самому Алексею Максимовичу приложимо, однако же что понимать под «излишествами лирики»?
Когда патриоты обвиняют, а либералы оправдывают нынешнюю политику латышей, я не могу понять, отчего никто не припомнит поведение активной части их народа в революцию и гражданскую войну. Лишь Олейников и Стоянов в «Городке» позволили сюжеты о беспредельной жестокости латышских стрелков в отношении русского населения.
«По улице ровными каменными рядами шли латыши. Казалось, что шинели их сшиты не из серого солдатского сукна, а из стали. Впереди несли стяг, на котором было написано: “Мы требуем массового террора”» (Анатолий Мариенгоф. Роман без вранья).
Аналогичная сцена есть у Ал. Н. Толстого в «Восемнадцатом годе». Комиссар Ларсон у Бабеля («Иван-да-Марья») откровенно ненавидит Россию: «Как это так выходит, что железобетон оказывается хуже берёзок да осинок, а дирижабли хуже калуцкого дерьма? <... > мы-ста да вы-ста, — пробормотал латыш, придвигая к себе картон, — авось да небось...».
Примеров на этот счёт и литературных, и документальных, и житейских не счесть. Я не понимаю, как достаёт исторической совести то и дело озвучивать историческую вину русского народа перед латышским, никогда не вспоминая о деятельности красных латышских стрелков.
Но лучше всего совсем не считаться историческими обидами, а то можно дойти и до обид, нанесённых россами латгальцам.
В книге воспоминаний А. А. Баранович-Поливановой «Оглядываясь назад» (Томск, «Водолей», 2001) есть эпизод у американского посольства, куда 9 мая 1945 года подошла группа с флагами, приветствуя союзников. «На балконе появились американцы и стали бросать вниз пачки сигарет».
А вот Париж 19-го года, день Праздника разоружения. «В угловом доме, в раскрытых окнах, лежали американские солдаты, показывали что-то пальцами, хохотали, хлопали друг друга по здоровенным спинам. Вот, внизу, расталкивая толпу, появились бегущие, как в котильоне, растрёпанные девчонки и молодые люди с испитыми лицами, в похабных пиджачках... Задирая головы, они все кричали: “Папирос, папирос!”, — и американцы, хохоча в окнах, швыряли вниз коробки с папиросами. В толпе крутились, дрались, визжали. Помню — на секунду мелькнуло седоусое лицо высокого, худого француза: с горечью, изумлением, гневом смотрел он на эту новую Францию, подбиравшую в пыли американские папиросы» (Толстой А.Н. Рукопись, найденная под кроватью).
Что ж, янки как янки, и дело не в них; принципиально у Толстого определение новый в отношении Франции.
Можно ли себе представить, что в Петербурге, ну, скажем, девяностых годов XIX, или десятых XX века, толпа у посольства станет подбирать американские подачки?! Да и они никогда не осмелились бы на такое в старой России.
Американцы тогда не были ещё так богаты? Но дело же не в этом, к тому же, скажем, в 1914 году они уже были весьма богаты... но дело-то в нас, и меня крайне огорчил эпизод, рассказанный Баранович-Поливановой, точнее то, что произошёл он в 45-м. Победная союзническая эйфория?
Правда, толпа была странная, предводительствуемая каким- то школьником, и переходила от посольства к посольству...
В пору югославских событий, когда всерьёз говорили даже и умные люди о том, что надо встать на защиту братьев по вере пред агрессией Запада, я вспоминал собственное, 1975 года, впечатление от Сербии. Вечером, как и положено советским туристам, группой мы шли по центру Белграда, и сидящий на плиточном тротуаре газетчик, показывая на нас пальцем, закричал: «Русские! Русским скидка!» Прохожие останавливались, издевательски улыбаясь. Поразило засилье всего американского (как у нас сейчас). В кино только Голливуд, притом такого сорта, что у нас, пожалуй, и не идёт: в Дубровнике попали на комедию из жизни ковбоев, весь юмор которой в том, что персонажи непрерывно пердят и комментируют это. Зал радостно гоготал. Да и весь стиль жизни, который наблюдали в югославских, в том числе и сербских, городах, был западным. В разговорах с нами «братья» с откровенным презрением отзывались об СССР, о нашей бедности, о том, что у нас тупой Брежнев, а у них мудрый Тито, и прочая и прочая.
Но там была хотя бы откровенность, болгары же, с их пресловутым «братушки!», возможным присоединением и, казалось, действительно вечной благодарностью за освобождение от турок, каким личиком повернулись к «братушкам», лишь это сделалось возможным?
И каким историческим варварством отдаёт от всех этих поисков братьев по миру для какого-то против кого-то объединения. Славянские ль ручьи... А ведь Пушкин допускал вариант не только слияния, но иссякания «общего моря» а уж нам-то, после двух великих войн, заблуждаться о каком-то там историческом братстве славян, цену которому блестяще показал ещё Ярослав Гашек в романе на все времена «Похождения бравого солдата Швейка»... И неужто мне Ян из Варшавы или Богдан из Львова ближе приятеля-татарина или собутыльника-еврея ближе, чем?
Особым родом чтения у провинциальных писателей был информационный бюллетень Союза писателей. Ах, бюллетень, бюллетень, лучше бы тебя не издавали. Или не присылали. Траурным пеплом подёргивались взоры и лики провинциальных бедолаг, читающих про обладателей таких же членских книжек, как и у них, но... Вот Дни литературы в Дагестане, прибыла делегация. Звучат кавказские мелодии, зеленеет тёплая каспийская волна, а барашек-шашлык, а коньяк дербентский? А уважение окружающих? А вереница чёрных «Волг», направляющихся в прохладную долину, где уж курятся дымки...
Сглотнёт табачную слюну член Союза, перелистнёт страницу, а там итоги конкурса на лучшее произведение о... ну, скажем, о работниках милиции, а наш читатель бюллетеня не один очерк наваял о гаишниках с тех пор, как купил «Запорожец», но не бывать ему лауреатом, нет! А сердце бьётся сильнее, потому что приближается самый горестный раздел — о поездках членов СП за рубеж. В мае за рубежом побывали: мать моя мамочка, Михалков, раз, два, три, три раза, и не просто в ГДР, а «с заездом в Западный Берлин» — так он ради этого заезда и выезжал! А Евтушенко!.. Штаты, Англия, опять Штаты, и цель — творческие вечера. Или — по приглашению издательства такого-то. Пальцы загибаются, их на руках уже не хватает, так что подсчёт невольно продолжается и в ботинках, и получается, что Михалков с Бондаревым или Евтушенко с Рождественским вовсе из-за бугра не вылезают! Да что Евтушенко! Ещё обиднее, когда свой же парень, море водки выпили, и поэтик-то никому неизвестный, а вот в столицу перебрался, фиктивно женился, жил по углам, но влез то ли в приёмную комиссию, то ли в партбюро секции, и гляди: в составе делегации, хоть в Того, хоть в Конго, но мелькает.
Вспомнит наш герой, как в позапрошлом году накопил деньжат на Болгарию, как не хотели с женой вдвоём выпускать, пришлось в обкоме лбом о пол стучать, как красные червонцы в трусах сверх положенного провозили, как баба в софийском универмаге одеревенела, как копейки их поганой, стотинки, на вино жалела, вспомнит всё это, получит деньги за выступления на полевом стане колхоза имени XIX партсъезда и прямым ходом в ресторан «Европа» на второй этаж, где и водку, и пиво в графинах подают, и — до упора, не то что на партсъездовские, но и в долг, а то и вплоть до личного дела по поводу бумаги из милиции. Вот вам и «Информационный бюллетень»!
Окуджава в годы моей юности был символом полузапретности, пение его свидетельствовало о принадлежности к свободомыслящей среде.
На наш выпускной вечер (1965 год) был приглашён духовой оркестр, по знакомству: отчим моего одноклассника играл, на чём он играл? такой толстый, словно бы пучок коротких серебряных удилищ с высунувшимся из пучка чёрным соском дуделки, или как бы маленькая лилипутская ракета... Может быть кларнет? Может быть.
Оркестр торжественно расположился в актовом зале с гоношённым, но натёртым паркетом. Он был пуст. Мы, радостной толпою идиотов, отчётливо сознавая собственный протестантизм, нонконформизм и прочие слова, каковых мы не знали, но всё, что против, чрезвычайно нас соблазняло, стояли в тускло освещённом коридоре первого этажа, напротив с одной стороны кабинета биологии, а с другой мужского туалета, вокруг Сашки Лебедева по прозвищу Сандро, и под его гитару упоённо орали Окуджаву. Терпеливые учителя подходили к нам и, послушав с натянутой улыбкой про Ваньку Морозова или про Наденьку в спецовочке, приглашали нас в зал. Кажется, это безобразие продолжалось довольно долго, мы отходили выпивать (в физический кабинет, где было где спрятать бутылки), поднимались в зал, чтобы вернуться к туалету и со смехом рассказать другим, остававшимся на месте идиотам, что там танцуют шерочка с машерочкой — преподавательница биологии со старшей пионервожатой. Все родимые пятна оттепели, младшими детьми которой мы успели сделаться, были налицо.
Мы, конечно, не рассуждали, но ощущали, что Окуджава и военный оркестр — антиподы. То был 1965 год. А с какого года репертуар военных труб не обходится без исполняемой как марш — и какой марш! — песни Булата Шалвовича из кинофильма «Белорусский вокзал»?
В РУССКОМ ЖАНРЕ - 23
11 июня 1973 года я был на дневном спектакле модного тогда Молодёжного театра-студии на Красной Пресне под руководством Владимира С-ва. Шла инсценировка романа Василия Шукшина «Я пришёл дать вам волю...». Труппа состояла из очень юных актёров, которых режиссёр, бывший актёр Таганки, дрессировал — такое создавалось впечатление (вскоре случился скандал с обнаружением случаев специфической дрессуры им юных актрис). Днём раньше я смотрел там «Ромео и Джульетту», актёры врывались на сцену, всю в деревянных конструкциях, трапециях, лесах, и делалось страшно, когда всамделишные кинжалы враждующих кланов сверкали и крутились в воздухе, вблизи лиц и вонзались, дрожа, в окружающее дерево. Они буйствовали со всей молодой энергией — видимо, темп и темперамент были главной целью постановщика.
В спектакле по роману Шукшина... Но сперва несколько слов о моём к роману отношении. Это просто слабый роман. Ничуть не лучше казённых «Любавиных». Шукшин продолжает оставаться для меня одним из значительных художников своего времени, и его лучшие рассказы, его сатиры первосортны. Но если революционное полотно «Любавины» никто, вероятно, включая и автора, всерьёз не воспринимал, то роман про Степана Разина воздвигался чуть ли не высшим достижением писателя. Между тем та же бескровность, что и в «Любавиных», поразительная для мускулистого почерка писателя аморфность, скукота, полное отсутствие едкого шукшинского юмора. «В последнее время, когда восстание начало принимать — неожиданно, может быть, для него самого — небывалый размах, в действиях Степана обнаружилась одержимость... неистребимая воля его, как ураган, подхватила и его самого, и влекла, и бросала в стороны, и опять увлекала вперёд». Любовь писателя к разбойнику не спасла. Но — к спектаклю.
Опять сумрачное дерево, обилие чудовищно огромных икон, в окладах чуть не бревенчатых по толщине, в них уродливо угрюмые, словно у крестьян Бориса Григорьева, лики. Иконы висели на верёвках, подымались под колосники и опускались к сцене, угрожающе раскачиваясь. Исполнитель роли Разина, красивый, буйный молодой парень, неистовствовал, бегал, кричал, дрался. Настал черёд сцене, в которой Степан в Астрахани «в церквах божьих образы окладные порубил». Актёр постарался на славу, гоняясь по сцене с шашкой за иконами, которые, получив своё, взвивались кверху от Степановых гонений. Наконец на пустой сцене Разин начал говорить монолог. И тут сверху, скособочившись в полёте, сорвался самый большой образ, и деревянным углом угодил на темя, с которого по лицу актёра тут же заструилась кровь. Зал охнул, стало не по себе, и я подумал: ну, и штучки режиссёрские таганковские, аж дух захватило. Но штучки оказались вовсе не таганковские, поработал совсем другой режиссёр — лицо актёра стремительно, до зелени, бледнело, залитое кровью, он шатался, через силу произнося слова роли, сдерживаясь, но поспешили к нему на помощь товарищи... Дали занавес. Зал молчал. Самое удивительное, что действие продолжилось, и актёр с перевязанной головою доиграл.
Страшное дело — стенографический отчёт Второго съезда советских писателей. Куда посильнее отчёта Первого съезда, где даже славословия Сталину не носили характера всеобъемлющей принципиальной серости Второго, когда выступающие словно бы не были авторами «Хулио Хуренито» (может, наиболее из всех разительная эволюция с его автором: Эренбург Второго съезда незнаком с Эренбургом Первого), «Тихого Дона», «Растратчиков», «Братьев», даже просто никогда не были профессиональными писателями, настолько вопиюще, первозданно серыми и убогими они предстают в своих выступлениях. Из уцелевших участников Первого съезда, выступивших на нём, большинство отмолчалось на Втором: Шкловский, Леонов (только доклад о новом Уставе СП), Олеша, Панфёров, Вс. Иванов, Пастернак (который, по свидетельству Чуковского, и вовсе не присутствовал на заседаниях).
Они спорят друг с другом и руководством Союза писателей, иронизируют, обличают, интригуют, говорят о повышении «идейно-художественного уровня», а самые отчаянные так и просто о художественном уровне, но при этом обретаются в глухой защитной одёжке газетной передовицы. Нескрываемый ужас пропитывает и самые смелые речи — ужас перед возможной ошибкой, перекосом, отклонением. Они готовы бушевать в союз-писательских пределах, задевать своих литгенералов, оторванных от жизни, но спаси Бог задеть что-то основополагающее. Как ни странно, а может быть, и вовсе не странно, лишь Шолохов (во многом, видимо, подвигнутый речью Овечкина) позволил себе критику не писательских, а государственных порядков.
Спервоначала он охарактеризовал современную литературу как «серый поток», что было безусловно точно, а отношение писателей к профессиональной работе друг друга как «диковинное безразличие», прошёлся по своим недругам — Эренбургу и Симонову, озвучив внутрилитературные интриги и сплетни: кто кого назначил, кто кому обязан, затем обрушился на «систему присуждения литературных премий».
...Два слова в сторону; даже в 70-е годы я застал в неприкосновенности самое слова «система», например, позволил себе сказать в обкоме, что Бюро пропаганды художественной литературы при Союзе писателей не нужны, и натолкнулся на почти ужас: это же система!..
Таким образом Шолохов покусился на внеписательские компетенции и сферы: «Деление произведений на первую, вторую и третью степень напоминает мне прейскурант: первый сорт, второй и третий». Напомню, что три степени имели не какие-то, а именно Сталинские премии, Сталиным же и порождённые. Конечно, спустя почти два года после смерти вождя вроде бы не требовалось особой смелости выступить против его системы поощрения литературы и других областей культуры, однако никто этого не сделал, кроме Шолохова и Овечкина, который сказал: «система присуждения литературных премий была неправильной. Она в значительной степени основывалась на личных вкусах (понимай — вождя. — С. Б.) и была недостаточно демократичной. <... > что следовало за присуждением премии? Безудержное захваливание в прессе и на всяческих собраниях, издание и переиздание, наводнение этой книгой всех библиотек Советского Союза...». Другие на это не осмелились а думаю, хуже того, никто и захотел, так как система предполагала долгое безбедное существование лауреату хотя бы и 3-й степени. И среди заполнивших Большой Кремлёвский дворец членов Союза писателей, немал был процент лауреатство на себя примеряющих.
На Шолохова обрушились. (Овечкина затронули слабее.) Конечно, виною тут были многолетние неприязни и раздоры, весьма подогретые выступлением Шолохова на встрече руководства страны с группой писателей перед съездом, где Шолохов не только антисемитски напал на Эренбурга с его якобы еврейскими предпочтениями, но и вполне нечестно припомнил тому несоветское творчество. Были и внешние причины.
29 апреля 1958 года, то есть спустя три с половиной года после Второго съезда Чуковский записывает о встрече в Кремлёвской больнице с Гладковым: «Болезнь искромсала его до неузнаваемости. Последний раз я видел его на Втором съезде писателей, когда он выступил против Шолохова. По его словам с этого времени и началась его болезнь. Он, по его словам, не готовился к съезду и не думал выступать на нём. Но позвонил Суслов: “Вы должны дать Шолохову отпор”. Он выступил, страшно волнуясь. На следующее утро ему позвонили: “Вашим выступлением вполне удовлетворены, вы должны провести последнее заседание...”
— И сказать?
— Непременно.
Это его и доконало, по его словам. После его выступления против Шолохова он стал получать десятки анонимных писем — ругательных и угрожающих: “Ты против Шол., значит, ты — за жидов, и мы тебя уничтожим!”
Говоря это, Гладков весь дрожит, по щекам текут у него слёзы, и кажется, что он в предсмертной прострации.
— После съезда я потерял всякую охоту (и способность) писать. Ну его к чёрту. <... >
Из дальнейших слов выяснилось, что в поезде, когда он ехал в Саратов к избирателям (его наметили кандидатом в депутаты Верх. Совета) с ним приключился инфаркт...»
Много здесь неясного, и недаром Чуковский в коротком тексте трижды употребляет фразу «по его словам».
Здесь, собственно, всё неясно и сомнительно. Смертельно заболеть после выступления против Шолохова? Но Фёдор Васильевич был человеком злобным, агрессивным, ругателем по натуре, и сам Чуковский в тот же год записывает разговор с директором барвихинского высокопоставленного санатория «о Гладкове, и оба сошлись на том, что он скончался, гл. обр. от злобы. Злоба душила его. Он смертельно ненавидел Горького, считал Маяковского жуликом, и ненавидел всякого, кто, по его мнению, коверкал русский язык. “Ужас, ужас!” — говорил он...»
И он рыдал спустя несколько лет при самом воспоминании о выступлении на съезде?
Мой отец записал в дневнике 18 марта 1955 года:
«По приглашению Ф. Гладкова были у него с Озёрным в спецбольнице. Гладков ехал сюда в середине февраля на встречу с избирателями... в дороге заболел и с тех пор лежит в больнице.
В палате он был один, лежал на койке. <... > Г. говорил:
— У нас есть литературные авторитеты, созданные по указке сверху. Маяковскому памятник в Москве ставят, а Льву Николаевичу Толстому нигде не поставлено памятника. Что, он хуже Маяковского. <... > До сих пор поют песни Лебедева-Кумача, а Маяковского не поют, его нельзя петь. <... > Маяковский исковеркал русскую грамматику...
Досталось от Г. Шолохову за диалектизмы, за образы женщин, за слабое изображение коммунистов».
(Очевидно сходство с записью Чуковского.)
Не очень ясно и появление темы «жидов» в ситуации вокруг Гладкова — Шолохова. В отличие от предсъездовской встречи, ни текста, ни подтекста антисемитского речь Шолохова не содержала. Считать таковым нападки на Эренбурга несерьёзно; правда, в определённых писательских кругах и Симонова числили евреем, но всё же это, думаю, и для Шолохова, если и он наслушался от окружения на этот счёт, не играло роли. Эренбурга он долбал при каждом удобном случае и до и после этой речи, тут была какая-то зацикленность, выбор же Симонова был вызван и тем, что этот совсем ещё молодой человек, без особых, как казалось не только Шолохову, трудов, взобрался на литературный олимп, поместившись рядом с ним, Шолоховым, с Леоновым, Фадеевым, Фединым, тогда как его беспомощные пьесы и романы, конечно же, близко не лежали не только с «Тихим Доном», но и с «Братьями», «Разгромом», «Барсуками». Вероятно, было и практическое соображение — не допустить Симонова к посту руководителя Союза писателей, на что были основания — честолюбивый и активнейший Симонов облекался таким набором должностей, наград и отличий, что начинал превосходить старших. По общему же содержанию речи, пафосу её против потока серой литературы и обилия Сталинских премий, выступление Шолохова объективно было направлено никак не против «жидов», ибо на дворе стоял не 34-й, а 54-й год и главными поставщиками серого потока и получателями премий были литераторы титульной национальности, те, кто недавно успешно разгромил «безродных космополитов», вроде Софронова и его компании, то есть людей, вроде бы близких Шолохову. Недаром на съезде не раз был упомянут пресловутый Суров, с его фабрикой литературных рабов, антисемитизмом, хулиганством, Суров, которого породили именно Софронов и компания. Им-то в самый раз было тревожиться.
Второй вопрос: почему для «отпора Шолохову» верхами был избран Гладков? Ведь кроме него было много старых писателей. Литературный же авторитет Гладков, если когда и имел, так, может быть (и то едва ли), в далёкие двадцатые годы, да и то не в литературной среде. Может быть, другие — ну Леонов, Федин, Шагинян и т. д. отказались от поручения ЦК? Сомневаюсь. Против речи Шолохова выступлений было немало. И если отповедь Симонова (остроумная отповедь) была ответным ударом, то, скажем, взвешенно-ехидное осуждение речи Шолохова Фединым не имеет видимой личной подоплёки, ведь Шолохов даже упомянул Федина среди немногих талантов в потоке серости. Против Шолохова выступили после реплики Гладкова, начиная со следующего утреннего заседания (вероятно, была встреча в ЦК или на самом съезде провели беседы по делегациям) согласованным хором прежде всего делегаты из республик — В. Собко (Украина), М. Турсун-Заде (Таджикистан), Г. Леонидзе (Грузия), а также В. Ермилов, С. Антонов, К. Федин, А. Фадеев, Б. Рюриков (редактор «Литературки», задетый Ш.), К. Симонов, А. Сурков. Был единственный голос в поддержку — Галины Николаевой, да и то, быть может, потому, что выступала она вскоре после Шолохова, до реплики Гладкова. После — никто. Даже присный Михаила Александровича А. Софронов не подцержал его в своей предельно скверной речи.
Мой отец был делегатом того съезда. Жаль, что в силу натуры да ещё более привычки к осторожности, которой научила его судьба, был он крайне скуп в сохранившемся дневнике на детали. Но всё же. «Сегодня вечером на съезде выступил с речью М. Шолохов. Его выступления все ждали с нетерпением. Говорили, будто бы он показал свою речь президиуму и, услышав замечания о резком тоне её, улетел в Вёшенскую. Говорили, будто бы он потребовал полтора часа, хотя по регламенту на выступление отведено двадцать минут.
На съезде он появляется редко; посидит минут пятнадцать в президиуме и исчезнет. Наконец председательствующий объявил, что слово имеет Михаил Шолохов. Зал взорвался. Все встали и стоя аплодировали минут пять. Шолохов невысокий, большелобый, с седеющей шевелюрой, рыжими усами. Говорит, всё время покачиваясь из стороны в сторону». Следует пересказ речи, с одной лишь деталью: когда Шолохов заговорил о Симонове, тот «встал и пошёл за сцену». Ещё: «В стенгазете “Взирая на лица” появилась карикатура. Рядом с горой из книг “Тихого Дона” и “Поднятой целины” крохотная трибуна, из-за которой чуть высовывается крохотная голова Шолохова и кулаки. Под карикатурой эпиграмма Е. Благининой.
Народ в безмолвии влюблённом
Тебя берёг, дохнуть не смел
Но ты на этот раз не Доном,
А мелкой речкой прошумел.
Через день карикатура и эпиграмма были сняты, а ещё через день снова появились».
Вот и всё.
В отчёте нет текстов выступлений на закрытом заседании в предпоследний день съезда, на котором председательствовал Фадеев и где выступило аж 42 человека, среди них и не выступавшие ранее Шкловский, Леонов, Бек, Лидин, Арбузов и др.
Зачем же я вдруг все это написал, зачем столько сидел над пыльным стенографическим отчётом, будь он неладен?
Не знаю? Нет, знаю, чтобы дети и молодёжь, не возмечтали вдруг красиво о том прошлом, не окрасили неведомое им литературное время в разные яркие и интересные цвета, ибо цвет его был даже и не красным, а серым.
Почему Белинков для обличения в конформизме избрал именно Юрия Олешу? Почему не Федина, Катаева, Вс. Иванова? Оттого, что они никогда не были и смолоду в оппозиции? Но, во-первых, как сказать, они были «объективисты», что уже было крамолой, а во-вторых, и Олеша не был. Почему не автора «Двух капитанов»? Не Леонова? Не Эренбурга?! Не Тихонова, что, впрочем, было бы уж очень просто, а Белинков хотел сложной задачи. Но тогда почему не Зощенко, который написал в 30-е годы повести о Керенском и Шевченко, достойные самого забубённо-советского литератора? Потому что 1946 год покрыл его терновым венцом?
Олеша, уж простите, лёгкая добыча, он не борется за себя, и как он сдался власти, точно так же своими текстами он сдаётся и Белинкову без боя. К тому же он пил, а в этом предмете причины и следствия далеко не всегда определённы: то ли пил из-за того, что не мог писать, как прежде, то ли не мог писать, как прежде, оттого что пил.
Вероятно, всё дело в любви Белинкова к Олеше, которая, как известно, пристрастна к предмету страсти.
Я уж не раз задавался вопросом, на который не ответил: почему либеральное общественное мнение не равно к равным? Заклеймив во множестве выжженными лилиями Ал. Толстого и Катаева, несильно, но потрепав Эренбурга, оно пальцем не тронуло Всеволода Иванова, хотя тот не уклонялся от сталинского мейнстрима, он был на равных с другими прославителями режима. Имелся у него и свой «Хлеб» — роман «Пархоменко» (1939), и своя «За власть советов» — роман «При взятии Берлина» (1947), и публицистика: «Огромным, гениальным предвидением полны слова великого вождя, создателя дружбы народов, друга и отца народов. <...> Как только русские трудящиеся сделались хозяевами своей страны, не на словах только, как это им обещали меньшевики, кадеты и их заграничные поддувала... <... > За годы сталинских пятилеток в Российской Федерации созданы... <... > ...будет больше доменных печей, больше чугуна, стали, угля, больше хлеба, масла, больше заводов, турбин...») и т. д. (ст. «Верный путь» // «Огонёк». 1946, № 50). Я даже не про «содержание», а про «форму»: какие там «цветные пески» — слова живого нет! Про великого Сталина и домны писали Леонов и Эренбург, Федин и Фадеев, только всем уж давно предъявлен счёт, за исключением Всеволода Иванова. Искренне недоумеваю: почему?
Когда я листаю чудом сохранившиеся в доме подшивки журнала «Огонёк» за 1940 и 1946 годы — моё первое детское чтение, то оживают, как вспоминание, картинки, тексты же читаются по-новому.
«Игорь Шафаревич вне математики — рядовой советский юноша. Он большой любитель спорта. <... > С благодарностью он вспоминает и школу и своих первых учителей — профессоров А.Г. Куроша и И.М. Гельфанда...» (Э. Гард. Юные математики // «Огонёк». 1940, № 14).
В день праздника мы спозаранку встали.
Всех радостное чувство подняло:
Мы знаем, скоро выйдет Сталин
На Мавзолей, на левое крыло.
Нам мысли гения неведом ход,
Но знаем: как всегда, и в этот час
Он о народе думает. О Нас.
Для нас он мыслит. Трудится. Живёт.
Б. Заходер. На Красной площади // «Огонёк». 1940, №11)
Тамара Макарова и Александр Птушко делятся впечатлениями о заграничных кинофестивалях, помещено фото, сделанное в Каннах: группа советских кинематографистов, на внешнем облике которых ни малейшего отпечатка «совка», а Марину Ладынину в сногсшибательной белой шляпе или Сергея Юткевича с тёмными очечками, воздетыми на лоб, и невероятных на толстой белой подошве туфлях, — хоть куда, только не в СССР, где в них ни за что бы не признали своих и вряд узнали бы в Ладыниной свинарку, а в пижоне на белых подошвах создателя «Человека с ружьём».
В те годы малые литературные мозги провинциала могли вдруг выработать, а цензура пропустить некую ахинею, которая спустя 10—15—20 лет уже ни за что бы не появилась в печати, являясь по сути антисоветской:
У Лукоморья дуба нет,
И кот учёный не мурлычет.
И те места, где пел поэт,
Колхозным краем стали нынче.
<...>
Вокруг костра — доярки пляшут,
Руслан — кузнец, а рядом с ним,
В кругу подруг — нарядных нимф,
Сидит телятница Наташа —
Мои давнишние друзья
С Русланом я учился в школе)...
Вен. Богатырёв. Руслан и Людмила // Альманах «Литературный Саратов», 1946
В первом тексте Гимна СССР (1943) уже отсутствуют слова «коммунизм», «социализм».
Вышел на экраны фильм «Доживём до понедельника». Успех необычайный. Я — в редакции «Волги» — делюсь восторгами. Старшие товарищи в лице двух дам лет сорока:
— Сионистская картинка.
— Кто герой? А зовут как? Илья! Илья, в очках, самый умный и любит маму, всё понял?
— Так ведь... Тихонов ведь...
— Для маскировки!
— А почему Абрамом не назвали?
— Пока ещё боятся, погоди — назовут!
В начале 70-х годов, родственник моей тогдашней жены, служивший в ленинградском КГБ, всерьёз и таинственно поведал за выпивкой страшную историю о том, как Аркадий Райкин пытался отправить сионистам в Израиль кучу редких бриллиантов, поместив их в тело умершей бабушки или другой еврейской родственницы, которую отправляли в запаянном гробу на историческую родину, но органы вовремя пресекли, и если бы Райкин не был Райкиным, народным артистом и лауреатом, худо бы ему пришлось.
Сейчас это смешно пересказывать, но погрузившись памятью в то, ещё недалёкое время, помнить себя в нём не всегда смешно.
Каждое утро, точнее то утро, когда я просыпаюсь в шесть, вместе с радио я пою про себя: «Нас вырастил Сталин на верность народу, / На труд и на подвиги нас вдохновил!» — и не потому, чтоб я любил товарища Сталина или товарища Михалкова, но потому, что они ввинчены мне в мозги с младенчества и до гроба, и как слюна при вспышке лампы у собаки Павлова, они начинают выделяться в моём черепе при первых звуках музыки... Этого хотел наш президент?
Сталин прозвал сына Василия Васька Красный, тот так подписывался в письмах к отцу. Объяснение: за рыжие волосы. Так. Но Сталин, как и другие революционеры его поколения, если не чтил, то внимательно читал Горького, и не мог, при его-то памяти, не помнить рассказ «Василий Красный», о вышибале в публичном доме, садисте, терзавшем проституток. А?
Я понимаю, что живя в Советской России, кто-то мог невзлюбить евреев, но как, живя в Советской России, кто-то мог полюбить палестинцев, понять не могу. (За чтением «патриотических» изданий.)
В 20—30-е годы период до октября 1917-го называли не дореволюционным, а довоенным. Так и говорили про жизнь до 1917 года: «до войны», а не «до революции».
«До революции» стали говорить после следующей войны.
В РУССКОМ ЖАНРЕ - 24
Закурил...
Сколько раз этот глагол присутствует на страницах книг. В детективах пишут обычно, чтобы заполнить паузу между ударом и выстрелом: «Он (я) закурил» без затей. Который автор пытается изобразить художественность, укажет ещё марку сигарет.
Впрочем, и в хорошей прозе, пришёл первым на ум Шукшин, авторы бывает обходятся ничего не говорящим сообщением «закурил».
Но, как в жизни закуривают очень и очень по-разному, так и литературе случается укрупнить это бытовое и заурядное действие до важной детали.
Итак, в жизни.
Обращали ли вы внимание на то, как много развелось курильщиков, стереотипно, и не всегда осознанно копирующих рекламно-американскую манеру закуривания: в правой руке зажигалка, левая мужественно согнутая ладонь прикрывает огонёк от ветра? Особенно комична эта суровая манера в помещении в отсутствие воображаемого ветра, и когда вместо мужественной лапы заборчиком вокруг огня выставляются пухлые пальчики.
Попробуем ещё — интересно ведь, правда? — обозреть курение в жизни и книгах...
У наблюдательнейшего Бунина, как ни странно, почти нет сколько-нибудь развёрнутого описания курения, зато очень часто он сообщает: «жадно закурил», особенно после любовной сцены. Из конкретного впечатляет Шаляпин морозной ночью на лихаче, который «курит так, искры летят по ветру». Нет, надо повнимательнее полазать, найдётся и у него и «тёплый, человеческий дым папиросы» в сырую мглу.
У Алексея Толстого: «бережно, словно драгоценность, достал из портсигара папиросу». У него же: «...взял с блюдечка окурок сигары и так приянлся его раскуривать, что задымилась вся борода».
Впрочем, надо прерваться: подобный обзор займёт слишком много места, а с комментарием потянет на отдельный текст.
Два мальчика лет по десяти беседуют на ходу:
— А у тебя в классе враги есть?
Был в Советской России тип мужчин-алиментщиков. Не злостных неплательщиков, что перемещались по стране, скрываясь от уплаты алиментов, но исправно их платящих, однако более опасных, чем первые. Такой персонаж, женившись и разведясь раз, другой, третий, оставив за собою одного, двух, трёх детей, доходил до предела в 33 процента заработка, и впредь ему нечего было страшиться. Страшиться надо было невестам. Я знал одного такого господина.
Высокий угрюмый молчаливый тип, лет сорока пяти, с долгим армейским прошлым, служил вахтёром, часто меняя место работы. Женился на замкнутой старой деве из нашего подъезда и тут же забабахал ей сынка. Первое время Женя, так её звали, ходила похорошевшая, масленая, гордая своим пухнущим животом: «дорвалась до...» объясняли мудрые соседки. Муж был мрачен, его редко видели рядом с Женей, с коляской. Он не здоровался с соседями. Он не выпивал, во всяком случае зримо. С нескончаемой сигаретой во рту, сутулясь, проходил он утром из дома, вечером в дом. Прожив года полтора-два, он исчез, оставив Женю с новым животом. Тогда-то, на чьи-то слова «платить-то парню не переплатить на двоих...» я и услышал о его постоянном, многолетнем перемещении из семью в семью, как и с работы на работу. Как молча он подавал заявление по собственному желанию, так же молча он собирал чемодан и уходил из семьи, и не оставался долго один, но тут же обженивался вновь. Я был тогда молод и невнимателен, а сейчас жалею, что не попытался разговорить этого мрачного отца многих семейств — почему не сиделось ему на одном месте и зачем, наконец, он обязательно регистрировал брак? Из наших писателей, думаю, Василий Шукшин смог бы заглянуть под его черепную коробку.
А Жене скоротечный брак пошёл на пользу: она сделалась бойкой и разговорчивой.
То, что сейчас я скажу, вероятно зажжёт негодованием пламенное сердце шестидесятника. Булат Окуджава на бумаге никогда не получил бы и тысячной доли того признания, какое обрёл с гитарой. И что в том дурного? Если я уподоблю его Алексею Фатьянову, Ст. Рассадин, к примеру, вероятно, оскорбится, хотя, согласимся, — Фатьянов был «тоже» автором прекрасных песен, пусть и в ином роде. Или вот — приготовились! — Николай Доризо, отличный романсовый поэт, многие из текстов которого, как, например, из кинофильма «Разные судьбы», ну никак не уступают текстам Окуджавы.
Равнодушие и эгоизм вовсе не одно и то же. Равнодушный человек не заинтересован и в самом себе, эгоисты же поднимаются до высокой страсти, причём, надо заметить, подлинный эгоизм возможен в случае пережитой любви к другим, равно как подлинный атеизм — следствие страстной веры.
Мы дурачились, но за всем стояла та мучительная подоплёка, что известна лишь невинным созревшим юнцам. И на пустынную оконечность пляжа мы высадились, конечно же, затем, чтобы, может быть, увидеть парочку в деле, и, пихая друг друга в осеннюю, ещё не холодную, но уже словно замершую воду, всю в зелёной пыли мелких водорослей, скользя ладонями по мускулистым торсам друг друга, мы не могли при этом не воображать иные тела, и наконец всё вылилось в безобразную выходку Лёньки Н., когда, завидев впереди маленькую аккуратную моторочку со старичком и старушкой в панамках, он дождался, когда наша «гулянка» поравнялась с нею, и, примостившись на борт на колени, спустил плавки и показал старичкам жёлтую письку.
По безнравственности содержания «Лес» нецензурен в любую эпоху, меж тем и в эпоху Островского, и позднее никто не возмущался тем, что на сцену выведена помещица «лет пятидесяти с небольшим» (что по тем временам было то же, что в XX веке 70-ти), которая жадно соблазняет «молодого человека, недоучившегося в гимназии», годящегося ей во внуки! И сюжет соблазнения почти выводится на сцену, во всяком случае активно комментируется другими персонажами, самое большее с насмешкой, но не с ужасом! И ни Гурмыжская, ни её внук-возлюбленный Буланов «не комплексуют», не стыдятся чудовищной связи, не полагают нужным её скрывать. А ведь казалось бы не Рим, не Версаль времён Луи XIV, или двор весёлой Елисавет, но середина почтенного XIX столетия, действующие лица принадлежат к верхнему слою общества, к тому же обитают не в греховных городах, но в «лесу». Тургенев недоумевал: почему Островский назвал свою комедию «Лес»?
Служанка, человек из народа, ключница Улита, столь же древняя, как и её госпожа, признаётся: «разве когда мечта (нежно)... так иногда найдёт, вроде как облако». За Счастливцевым в роли лакея, она резво ухаживает, приманивая выпивкой-наливкой.
И никто Гурмыжскую не осуждает, кроме её старого лакея Карпа: «Добрые люди прикупают, а мы всё продаём. Что одного лесу продано, что прочего! Набьёт барыня полну коробку деньгам и держит их, и гроша никто не выпросит; а тут вдруг и полетят тысячи и полетят. <... > Доктору французу посылали? Итальянцу посылали? Топографу, что землю межует, посылали?». Соседи-помещики лишь цинично посмеиваются втихую над престарелой похотливицей и выражают ей наружную почтительность.
Интимнейшее место — холодильник. Чтобы открыть чужой холодильник, я должен сделать над собою усилие — настолько откровенны его содержимое и запах, что чувствуешь себя прямо-таки ворвавшимся в чужую жизнь.
Язык дворянина Добчинского вдруг приобретает поразительное сходство с языком персонажей Зощенко: «вы будете в большом, большом счастии, в золотом платье ходить и деликатные разные супы кушать; очень забавно будете проводить время» («Ревизор», действие пятое, явл. V).
При чтении рассказа Алексея Слаповского «Не сбылась моя мечта», где герой, чтобы построить себе дом, ходит с рюкзаком вечером по городу, собирая и подворовывая кирпичи, которых ему требуется 15 тысяч, на память идёт сказка Джанни Родари «Приключения Чиполлино», где Кум Тыква, также одержимый мечтой о собственном домике, покупает — не собирает! не Россия... по нескольку кирпичей в год.
Но я знаю вовсе не литературный сюжет, когда мой знакомый, человек не бедный, но чрезвычайно бережливый, не только специально делал вечерний обход с рюкзаком, но и прихватывал по дороге в портфель или во что придётся, плохо лежащий кирпич, чтобы сделать пристройку к даче.Расстояния Александр Дюма определяет мерой не длины, но времени: «В двадцать минут Д’Артаньян и его спутник доскакали до указанного места», «через несколько минут они достигли ворот Лондона» и т. д.
Заменив одну букву, можно достичь неплохого результата: «Всё новое это хорошо забитое старое».
В РУССКОМ ЖАНРЕ - 25
Значительную часть жизни я провёл в среде провинциальных литераторов, тяжёлые знания об этой среде я вынес. Только ведь и столичная писательская «масса» никак не была оплотом нравственности и интеллекта. «Их объединяет не организация и не общая идеология... а нечто более сильное и глубокое — бездарность. К чему удивляться их круговой поруке, их спаянности, их организованности, их настойчивости? Бездарность — великая цепь, великий тайный орден, франкмасонский знак, который они узнают друг на друге моментально и который сближает, как старообрядческое двуперстие — раскольников. Бездарность — огромная сила в нашем мире. Они сильны потому, что едины, а едины из чувства самосохранения, ибо каждый из них в глубине знает, что в одиночку он нуль», (так писал Эм. Казакевич 14.XI.61; цит. по кн.: Огнев В. Амнистия таланту. М.: Слово, 2001. С. 358).
Я уже писал немного о сходстве муз Владимира Набокова и Леонида Леонова, который был нашим рабоче-крестьянским сирином. Мне кажется к тому же, что они оба следили друг за другом и безмерно друг другу завидовали. Ну, Леонов Набокову понятно, а тот-то чему мог завидовать?
Эмиграция куда больше имела понятия о жизни в Совдепии, чем казалось здесь. И положение писателя, у которого в один день (6 мая 1939) может случиться две премьеры двух пьес в МХАТе и Малом театре... не могло не вызывать известных чувств.
Прижизненные собрания сочинений. Внимание кремлёвского горца настолько пристальное, что он лично занимается редактурой нового романа писателя...
Многомиллионные тиражи и гонорары. И всё это при том, что Леонид Леонов не из примитивной литобслуги власти подобно какому-нибудь Леониду Соболеву, но и в самом деле мастер слова, притом мастер до иезуитства изощрённый.
Думаю, что при всех бабочках, Владимиру Набокову не вовсе были безразличны формы литературного успеха, притом соплеменника. Вон с какою яростью, замороженной и оттого ещё более лютой, отзывается он об успехе «Тихого Дона» и «Доктора Живаго» в постскриптуме к русскому изданию «Лолиты».
Явись Горький даже не на пятьдесят, а на двадцать лет раньше или позже — не проросли бы его необычайные свойства, не сотворилась бы такая судьба.
Почему Горький, разве не так же другие?
Ну конечно, и другие, но не все. Гончаров, явись на двадцать лет раньше или позже — всё Гончаров.
«Слушая их отборную ругань, можно подумать, что не только у моего возницы, у лошадей и у них самих, но и у воды, у парома и у вёсел есть матери» (Чехов. Из Сибири).
«Иртыш не шумит и не ревёт, а похоже на то, как будто он стучит у себя на дне по гробам» (Там же).
В рассказе Чехова «Упразднили!» (1885) «афганец» — ругательство. «Мошенник! Каналья! Повесить тебя мало, анафему! Афганец!»
Именно в этом году управляющий северным Афганистаном и Кабулом эмир Абдур-Рахман напал на русские войска, которые откусили у Афганистана кусок так называемой южной Туркмении.
«Извозчик <...> с тяжёлой грацией взмахивает кнутом» (Чехов. Тоска).
Не может быть, чтобы до меня никто не выделил этой фразы.
«Играешь ли ты в шахматы? Я не могу представить себе эту жизнь без шахмат, книг и охоты. Ежели бы ещё война была при этом, тогда бы совсем хорошо. Я очень счастлив, но когда представишь себе твою жизнь, кажется, что самое-то счастье состоит в том, чтоб мне было 19 лет, ехать верхом мимо взвода артиллерии, закуривать папироску, тыкая в пальник, к-ый подаёт №4 Захарченко какой-нибудь и думать: коли бывсе знали какой я молодец!» (36-летний Толстой 19-летнему шурину Александру Берсу из Ясной Поляны в полк, стоящий в Польше. 28 октября 1864 года).
«Отцы были русскими, которыми страстно хотелось стать французами; сыновья же были по воспитанию французы, которым страстно хотелось стать русскими» (Ключевский о поколении декабристов и их отцов).
Так ведь это вечный русский маятник.
Среди директивных докладов сборника «Советская детская литература» (1953) особой директивностью выделяется доклад Д. Нагишкина «О задачах советской художественной сказки». Главным врагом он намечает формализм. Для примера скрытых форм формализма, «маскирующихся под традиционализм», он называет три сказки: «Королевство Кривых Зеркал» Виталия Губарева, «Сказку о потерянном времени» Евгения Шварца и «Бибигон» Корнея Чуковского.
Вменяется им то, что дети исправляются в них то в чуждом королевстве, то благодаря злым волшебникам, то свалившемуся с Луны Бибигону. Если Губарева он ещё как-то оправдывает «превосходной мыслью» под видом Королевства Кривых Зеркал показать «страшную капиталистическую действительность», о «Бибигоне» роняет: «глубоко аполитичная сказка», то Шварца он обвиняет в том — внимание! — что сказки его «не разрушают веру в волшебное, а утверждают её, тем самым искажая облик советского человека, дают искажённую, искривлённую картину советского общества, советской действительности». Итак, по Нагишкину, цель советской сказки — разрушить веру в волшебное.
Мне трудно вообразить, какими глазами читают подобные сборники люди более молодых поколений, а для меня — вот он, возраст! — всё так живо, порой, правда, удивительно, как то, например, что доклад «Пионерская организация в детской литературе» делала вчерашняя эмигрантка и вообще «антисоветчица» Наталья Ильина. Или (доклад А. Мусатова «Тема труда в детской литературе») критика повести И. Гуро «В добрый путь, Кумриниса»: «Кумриниса сначала работает учётчицей, потом переходит в бригаду, становится известной звеньевой и вскоре добивается рекордного урожая сахарной свёклы. <...> Во второй половине в повести автор сообщает читателю о ещё более важных событиях в жизни Кумринисы. Она получает высокое звание Героя Социалистического Труда, вступает в члены партии и становится депутатом Верховного совета республики. Какие это значительные вехи в жизни девушки!».
Зачем И. Гуро писала повесть о узбекской колхознице, ей что, интересен был именно узбекский колхоз? С большой долей уверенности можно утверждать, что ей не была интересна звеньевая-узбечка, как не были интересны и первые забайкальские Советы, Емельян Ярославский и Анри Барбюс, о которых она написала книги.
Нынче ушло и забывается то состояние профессиональной литературы, когда полторы-две тысячи людей с семьями жили на романы, рассказы, драмы, поэмы, стихи, комедии, статьи. Кого-то из этих тысяч переставали печатать, что становилось трагедией прежде всего в элементарном жизненном, пропитательном смысле. Кого-то и сажали, и расстреливали. Но — тот, кто печатался, ставился, экранизировался, имел заработок куда больший, чем был у большинства категорий населения страны. На этот счёт немало написано в разных мемуарах советских писателей, но почему-то мне хочется вспомнить недавний роман Светланы Шенбрунн «Розы и хризантемы». Помните отца героини, который сочиняет роман о войне в комнате коммуналки рядом со сварливой женой, дочерью-школьницей и сумасшедшей тёщей? Лишь только его роман опубликовал «Новый мир», писатель начинает жить широко: к неработающей жене и тёще добавляется ещё и домработница, он записывается на приобретение «Москвича», дарит дочке итальянский велосипед, ходит обедать в ЦДЛ, заводит трубку с ароматным «Золотым руном». И — пребывает в постоянном страхе, как бы не промахнуться, не лишиться начавшегося успеха, благорасположения самого Симонова, переименовавшего его без спроса для публикации в журнале из Штейнберга в Шатилова и т. д.
В докладе «О драматургии для детей» Валентин Катаев особо плотно навалился на В. Гольдфельда и его пьесы «Иван да Марья» и «Сказка об Иване-царевиче». Он обвиняет этого «театрального закройщика» в разных грехах, и, скорее всего, справедливо, особенно за искусственный скверный язык «стиль рюсс», но куда интереснее языка Гольдфельда то, как сказываются глубинные пристрастия самого Валентина Петровича: «Идолище поганое говорит девушке: «Выбери себе пояс жемчужный или бриллиантовый». Автору и в голову не пришло, что слово «бриллиантовый» никак не годится для сказки и что следовало бы его заменить словом «алмазный».
...Гольдфельд — крашеный неприятный старик лет семидесяти, водил к себе по ночам девок. И ладно, но всеобщий интерес вызывало то, что он, очевидно, оберегая свою репутацию классика детской драматургии, заставлял своих посетительниц и входить, и выходить через окно. А оно, хоть и в первом этаже, но в переделкинском Доме творчества писателей высокое. Я видел, как карабкалась туда девица в светлых бриджах, а Гольдфельд, озираясь в свежем мраке мартовской ночи, шипел на неё. Дело было весною 1972 года.
Едва ли не единственное исключение в страшноватом сборнике — выступление Л. Пантелеева. Поразительно, но в книге, страницы которой пестрят именами Ленина и Сталин, заклинаниями о коммунистическом воспитании, советском патриотизме, вовсе нет этих слов, а в пример составителям советской хрестоматии для чтения «Родная речь» замечательный писатель приводит книги, составленные Толстым, Галаховым, Острогорским. Пантелеев демонстрирует идиотическую советскую редактуру старых текстов, вроде усекновения места действия в рассказе Л. Толстого про лондонских пожарных собак: «Ни лондонские пожарные, ни пожарная собака Боб, ни девочка, ни её мать не виноваты в том, что существует на свете предатель рабочего класса Эттли». Очень смешно излагаются превращения отрывка из «Детства Никиты», в результате которых «может сложиться впечатление, что действие рассказа происходит в наши дни в укрупнённом колхозе». У А. Толстого отец Никиты уходит спать в библиотеку («Ясно, что он ушёл в свою домашнюю библиотеку»), а потом Никита бежит его разбудить в их доме, но благодаря сокращениям «детский читатель твёрдо уверен, что бежит он за отцом в районную библиотеку, где отец или служит, или вообще делает что-то общественно-полезное». Кроме Пантелеева ещё Николай Дубов не побоялся сказать о извращённом понимании общечеловеческих (этого слова разумеется у него нет!) ценностей в канонах советской детской литературы.
Итак, в самое дикое, не сравнимое ни с каким другим периодом в истории русской литературы, время (доклады, вошедшие в сборник прозвучали на Всесоюзном совещании по детской литературе в апреле 1952 года) находились люди, по крайней мере один и другой, кто вовсе не забыл о том, что такое хорошо и что такое плохо, и не побоялся об этом сказать.
К чему я надоедливо обращаюсь к этим послевоенным годам в нашей истории, нашем искусстве?
К тому, что последние годы всё крепнет восхищение «Большим сталинским стилем». В ряд эстетики высоток, советского шампанского, широкодоступных крабов, «колхозных праздников» и «спокойной старости», весёлых маршей Дунаевского и сентиментальных песен Блантера и Мокроусова, втаскивают и литературу, которая... которая, повторяю для читателя, который того не ведает, никогда не доходила до такого падения. Первым сказал «Не могу молчать!» не эмигрант или оппозиционер, и даже не просто литератор, но сам Александр Фадеев, член ЦК и любимец Сталина. «Проза художественная пала так низко, как никогда за время существования советской власти» (письмо А. Суркову, май 1953).
«Искусство, которому я отдал жизнь свою, загублено самоуверенно-невежественным руководством партии и теперь уже не может быть поправлено» (предсмертное письмо в ЦК КПСС, 13 мая 1956).
Именно после войны полезли ввысь могучими сорняками чудовищные «романы» Чаковского, Николаевой, Мальцева, Бубеннова, Бабаевского, Ажаева, Закруткина, Маркова, Алексеева, Сартакова и прочая. Уровень пал настолько низко, что появление весьма скромного, дарования, такого, как, скажем, Сергей Антонов, с его по-человечески воспринимаемыми рассказами не про трудовые подвиги, а про будничную жизнь, становилось событием, а далеко не блестящий, но опять-таки «по-человечески» сделанный роман Юрия Трифонова «Студенты» — сенсацией.
Я ещё напишу о «школьной повести» и прочей отраве для детей именно 1947—1955 годов изготовления. Надо вернуть должок тем годам, когда в обязательном порядке нас заставляли читать книги типа «Дети горчичного рая» Н. Кальмы. Про что? Про страшную жизнь американских детей, вот про что. А пока лишь название статьи А. Аплетина о детской литературе США: «Что издают для детей американские гангстеры».
Не смешно.
Юрий Трифонов, когда писал с Федина своего Киянова («Время и место»), сдобрил холодную натуру прототипа одной, но выразительной краской — Киянов пьёт запоем. Представить себе в запое Федина — немыслимо. (Справедливости ради следует сказать, что выпить Федин всё же любил.)
Михаил Булгаков, прочитав в газете о конкурсе на лучший учебник по истории СССР для средней школы, немедля принялся за его сочинение.
Имею на этот счёт один вопрос и одну аналогию.
Как известно, руководство, а точнее Сталин, пристально взялись за историческое просвещение нового поколения в 1934 году, когда из Сочи в «Правду» отправилось письмо за подписями его и Кирова о нетерпимости прежнего подхода к изучению русской истории в духе концепций М. Н. Покровского, к тому времени уже покойного. Вождь сказал тогда наркому просвещения Бубнову про школьную паству: «Они у тебя думают, что Наполеон — это пирожное». А Ильф и Петров после постановления ЦК о школьных учебниках опубликовали ликующий рассказ «Разговоры за чайным столом». Там отец приходит в ужас, узнавая, что в школе 12-летний сын решает «Задачи материалистической философии в свете задач, поставленных второй сессией Комакадемии совместно с пленумом общества арграрников-марксистов», но понятия не имеет о том, кто написал «Мёртвые души» и где находится Нью-Йорк.
Тогда-то, собственно, и заложили тот советский канон истории России и СССР, который был зацементирован в вышедшем спустя 4 года знаменитом «Кратком курсе истории ВКП(б)», главным редактором которого был сам Сталин, канон, который до сих пор есть основа знаний большинства граждан о прошлом страны, канон, надо отдать ему должное, исполненный с возможной для восприятия рядового человека чёткостью.
Какую же трактовку истории от Святослава до Иосифа воображал себе Булгаков, принимаясь за работу? Скорее всего он обрадовался тому, что советскую школу сориентировали с дремучей социологии на едва ли не гимназический курс истории и географии. Но он что, не сознавал, насколько суперполитическим является заказ на учебник истории? Как бы ни любил и ни умел он работать с документами, всё же видеть себя автором учебника истории страны с древнейших пор до Сталина было, по меньшей мере, легкомысленно. Булгаков же был натурой основательной, недоверчивой, с чего такая маниловщина: напишу учебник, получу 100 тысяч, и дела поправятся...
Нет мне ответа на вопрос, вместо него явилась аналогия.
Как известно, Булгаков видел себя прямым наследником Гоголя, и как тут не вспомнить, с какой одержимостью, не имея никаких для того оснований, вчерашний выпускник нежинской гимназии рвался в профессора истории, и ладно бы малороссийской, но ведь непременно всемирной?
Подытоживая свои соображения по методике «преподавания всеобщей истории», Гоголь сообщает: «после изложения полной истории человечества я должен разобрать отдельно историю всех государств и народов, составляющих великий механизм всеобщей истории. Натурально, та же полнота, та же целость должна быть видна и здесь в обозрении у каждого порознь. Я должен объять его вдруг с начала до конца: когда оно основалось, когда было в силе и блеске, когда и отчего пало (если только пало) и каким образом достигло того вида, в каком находится ныне; если же народ стёрся с лица земли, то каким образом на место его образовался новый и что принял от прежнего».
И — в письме: «Ух, брат! Сколько приходит ко мне мыслей теперь! Да каких крупных! полных! свежих! мне кажется, что сделаю кое-что необщее во всеобщей истории» (М П. Погодину. Генваръ 11, 1834. Петербург).
«...живым и вертлявым до такой степени, что даже нельзя было рассмотреть, какое у него лицо» (Гоголь. Мёртвые души).
«Он был до того боек в своих движениях, что актриса не могла даже его лица рассмотреть». (Зощенко М. Сила таланта).
Предвыборная листовка из почтового ящика. Выделение жирным принадлежит автору(ам) листовки.
«ДАВЫДОВА Ирина Владимировна
Кандидат в депутаты Саратовской городской думы по 15 избирательному округу Волжского р-на г. Саратова.
Дорогие волжане!
Я очень внимательно наблюдала за избирательной кампанией у нас в округе, как бы со стороны. Хотела представить себе: что это такое избирательная кампания?! (выделено везде самой кандидаткой. — С. Б.) И поняла, что это то место, куда женщине надо идти в последнюю очередь. Женщина-кандидат — это как наша саратовская девчонка на Большой Казачьей. Я говорю честно: семья и мои дети для меня гораздо важнее, чем публичные поливания грязью своих соперников-мужчин. Мужчин нужно любить и ухаживать за ними, окружать добром и лаской, вот тогда они способны преодолеть все преграды и достичь того, чего хочет женщина. Сейчас в саратовской политике ещё слишком много жестокости для того, чтобы там работала женщина. Нормальная, ласковая и добрая хозяйка, а не конь в юбке, как все наши кандидатки.
Моё время ещё придёт. Оно придёт тогда, когда мы все поймём, что хватит воевать друг с другом, хватит биться лбами, нужно просто спокойно работать, во всём помогая друг другу. Ну, зачем например, ругать мужа за то, что он разбрасывает носки?! Ведь так через полгода можно и разойтись. По-моему, проще самой подобрать носки и кинуть их в стирку. Ну ведь не трудно совсем! И семья в целости, и носки чистые.
Вот в таком обществе будет нужна депутат-женщина. А сейчас, если Вы уж всё-таки решили голосовать обязательно за женщину, то голосуйте лучше за меня, а не за «комиссаршу». Очень уж не люблю я стервозных баб — одни несчастья от них.
Приходите ко мне на выборы, а потом в гости: знаете, как я пироги пеку?
С уважением и симпатией, Ирина Давыдова»
Примечание для не саратовцев: «девчонка с Большой Казачьей» — это проститутка на постоянном месте.
В РУССКОМ ЖАНРЕ - 26
В каком-то пьяном лысом старичке мне почудился Слива…
В 9-м классе наш Ленька Назаров перешел в 19-ю школу с математическим уклоном, и мы узнали его новых одноклассников, пьяниц и хулиганов, хоть и математически одаренных. Но зачем меня вновь тянет распылиться в бесконечном мемуаре, когда мне просто почудился Славка Савельев по прозвищу Слива, который давно умер, я же вспомнил, как он, с, видимо, всем коротеньким толстякам присущей важностью, утверждал, что вчера ночью…
— Тринадцать палочек кинул!
Кажется, при этом кроме меня и Леньки был и кто-то еще, и никто из нас не напомнил Сливе про ноздревские семнадцать бутылок шампанского, мы с наслаждением следили за Сливой, который призывал в свидетели отсутствующего Фаддея, который якобы присутствовал и считал…
Не люблю купаться пьяным и ночью, хотя и случалось делать и то и это и порознь и совмещенно. Пьяный чувствуешь себя в воде как тело, очень чувствуешь, но утрачиваешь грань воды и воздуха, что есть опасно. Однажды очень жарким июльским днем мы с Сашкой В. отправились на пляж, почему-то в полном отсутствии жен… Он встретил на Радищевской у магазина, прозванного за узость и длину помещения Кишкой, какую-то девицу, я в те поры шиковал, тратил первые гонорары, превышающие скромные зарплаты приятелей, и купил прямо почему-то на улице продающееся шампанское, несколько бутылок. И не почему-то, а определенно потому, что напиток был в дефиците и его продавали в виде “наборов”, прилагая к бутылке, скажем, пачку застарелого печенья, обернутую вместе с шампанским в целлофановый кокон.
И поехали мы с девицей, жилистой светло-рыжей блондинкой спортивного сложения и нехорошего выражения глаз, на городской пляж. Там ушли подальше от пристани, на оконечность острова, где обретались лишь редкие парочки да особо упрямые рыбаки, удившие даже в полдень.
Тяжкий зной стоял в этот день. В теплой воде не остывало шампанское, кислыми струями бившее из горлышек в горла. Ноги горели в рассыпающемся огненном песке. И тут Сашке загорелось удалиться с подругою, а я что-то захорошел от шампанского, жары, от вчерашнего или даже многодневного похмелья. Я стал беспрерывно кувыркаться в воде и под водою, так что скоро потерял понятие верха и низа, мягко стукаясь головой о прохладный плоский песок дна и наблюдая бегущие как бы не вверх, а вниз из моего носа связки сверкающих пузырьков воздуха. Обессилев, набрав в нос запаха пресной воды, я вышел на берег, грохнулся и тут же задремал под солнцем, но вскоре меня кто-то осторожно потолкал в плечо. Открыв глаза в черное небо с ослепительной дыркой солнца, я увидел женщину, которая сказала: “Уходите, молодой человек, вон они ходят, присматриваются”, и я не столько понял, сколько почувствовал, что мне угрожает опасность. Каким-то образом оделся и побрел к пристани.
Из ночных и нетрезвых купаний вспоминаю на даче у Жени Р., как там оказался, не помню, помню лишь, что в тот день я поставил рекорд — честное слово, не вру! — двадцать две кружки пива. Конечно, пиво то было советско-жигулевское, водянистое, слабое, но ужасает само количество жидкости. Видимо, со стороны я был тяжел, потому что когда плавал в черной звездной воде, нырял, в воду вошел Женя и внимательно следил за мною: младший брат школьного товарища мог утонуть по пьянке на его даче. А меня обвисающий от жидкости живот тянул ко дну. Помню более всего ощущение полной избыточности жидкого: внутри, вовне. Вода, вода… кругом вода… как пелось в песне, включаемой при отправлении теплоходов. Затем ее сменило “Прощание славянки”.
А позавчера было 27, а вчера 28 июня 2001 года. И купил я газету “Саратов”, где была страница про пиво из Маркса, Энгельса, Балаково, Калининска, т. е. городов Саратовской области (в областном центре пива не делают вовсе).
Я отправился по указанному в газете адресу, где якобы продавалось живое разливное марксовское пиво — на улице Новоузенской. Но в панельной девятиэтажке, кроме четырех подъездов квартир и маленькой парикмахерской, не было не только пива, но даже места, где бы могли торговать пивом. Обозлившись, я побрел туды-суды по этому району, где на каждом шагу торговали в летних кафе все теми же Толстяком, Балтикой, Арсенальным и проч. пастеризованной консервированной одинакового вкуса раскрученной дрянью. Я забредал и в Парк культуры, где было все то же, но дороже, и, ведомый странной уверенностью, что я дойду до искомого, вышел на неказистый пивной ларек (угол 2-й Садовой и Чернышевской), где наличествовал энгельсский Цезарь, а рядом с ним на улице тетки продавали недорогую старую воблу. Торговали пивом двое мальчишек лет 17-ти, и сидели двое пьяных, радостно потешавшихся над редкого безобразия похабными куплетами из динамика. Серия современного Луки Мудищева реяла в пластиковом помещении, я и не предполагал, что производится такая, под профессиональный оркестр, весьма грамотно словесно сотворенная, профессиональными актерами исполняемая похабель.
И напился я живого пива. И стало меня с тех пор тянуть в похабный ларек. Пользуясь тем, что по дороге был гараж, где ремонтировали мой двигатель с лодки, я заруливал на 2-ю Садовую, где уж не исполняли похабщины и не всегда оказывался Цезарь, но бывало Балаковское. А тут навалился зной. Серьезный июльский зной, наступления которого я с ужасом ожидаю каждый год. Когда с утра делаются горячими даже посуда на подоконнике, даже стены. Когда в восьмом часу вечера в раскаленном воздухе видишь уличный термометр с катастрофическими цифрами 37. Когда ночью часу в одиннадцатом выйдешь с собакою и ни разу нигде не встретишь ветерка или свежести, но кругом под неподвижными кронами деревьев завис серый душный воздух.
И почти ежедневно ездя на лодочную базу Рассвет, на о-в Пономаревский напротив города Энгельса, после трудов по ремонту лодки и купанья с хозяйственным мылом в черной, словно на Амазонке, воде заливчика базы, я, вожделея заранее, доходил до пивной под тентом в том месте, где сходятся троллейбусные и автобусные маршруты, называемом центром, и набирал сперва две кружки пива. Я стал разбираться в живом пиве, немного отдающем молодостью, но, конечно, несравнимо лучшем, чем тогдашнее. Волжский утес был поядренее, но Покровское пленяло освежающей слабостью, хлебным духом, а грубоватый Эльтон взывал к закуске, и пьянил крутой, почти оранжевого оттенка Цезарь.
Пивная почему-то называется “Пончики”, как выведено крупными буквами на дощатой стене ее грубого строения. Я освоился здесь. Я перестал покупать у прибазарных уличных торговок рыбу, разложенную рядом с орешками арахис, семечками, сигаретами, реже вареными бурыми раками, ближе к осени и вареной кукурузой. Я стал покупать рыбу в крошечной щелеподобной лавчонке, поместившейся в железном ларе, крашенном голубой краской. Меня полюбили обе сменяющиеся продавщицы, сноха и свекровь, часто заметно выпившие, сноха добродушная блондинка, делающаяся игриво-рассеянной, свекровь же с обликом учительницы, скорее даже преподавателя музыкальной школы, в широких очках на тонком, несколько порочном лице, выпивши держится с замедленной игривостью; лавчонка провоняла соленой чешуей. Я беру астраханскую воблу по 60 рублей за килограмм. Уличные торговки покупают здесь же, и если на вес добрая икряная вобла стоит 4 — 5 рублей, то у торговок на их прилавках-ящиках 7 — 8. Вобла неровная размером и качеством, бывает и вовсе заморенная с почерневшим брюшком, бывает подмокшая во всегда тающем холодильнике, бывает и такая, что в Саратове дешевле рублей 15 за штуку не купишь. Для меня обе встают на табурет и лезут наверх, где на холодильнике под низким потолком в решетчатом пластмассовом ящике разыскивают экземпляры получше. Пока они ищут, мы беседуем, и, если одна и другая выпивши, разговор невольно приобретает заигрывающее против моей воли направление. Стены крашены бледно-голубым, засижены мухами, и время от времени хозяйки протирают их мокрой тряпкой. Когда я в лавке, они не обращают внимания на других, кто входит, хотя лучше сказать втискивается в лавку — больше двух человек у прилавка не поместятся.
Я долго не понимал: отчего мне так мило здесь, возле захудалого базарчика, в пивной под тентом, где синюю пластмассу столиков юные девочки-подавальщицы протирают мокрой тряпкой, а по просьбе — для рыбы — приносят мокрые тарелки. И подавальщицами они бывают редко. Объявление: их услуга — принести кружку пива, стаканчик водки, закуску, проч. стоит 1 руб. Его редко кто тратит, предпочитая постоять у двух — изнутри помещения и снаружи — окошечек буфета. Ведь в двух шагах — стоячий пивной киоск, где тот же Утес стоит не семь с полтиною, как здесь, но и вовсе шесть рублей, тогда как в многочисленных саратовских летних кафе кружка пива от двенадцати и далее до пятидесяти и более рублей. Но не только цена нравится мне. Мне нравится здесь присутствовать, погружаясь в окружающее. Но почему?
Я понял, что, как в сказке про перемещение во времени, я попадаю в обстановку собственной молодости, атмосферу советского непритязательного, дешевого быта и грубоватых, но не отчужденных отношений. Проходя же в Саратове улицей Немецкой, сделавшейся почти европейской, с дорогим, причудливым, а то и изысканным дизайном, длинноногими мертвоглазыми красавицами, молодыми толстяками с мобильниками, изумрудными искусственными газонами, казино чуть ли не в каждом доме, электронными предсказывателями судьбы, пунктами чейнджа, компьютерными салонами, фирменными магазинами, вроде аквариумной “Лагуны” (я и близко не смог бы вообразить, что в Саратове будут продаваться не какие-то там барбусы и гуппи, но гигантские рыбы из фильмов Кусто, в аквариумах бог знает каких форм ценою в десятки тысяч рублей), проходя центром родного города, я давно не чувствую себя дома, и даже не в гостях, потому что в гости приглашают.
Сейчас (10 вечера) гулял с собакой, и вдруг с диким свистом, матом, гиканьем прокатил четырехколесный экипаж, запряженный одной лошадью, которая с трудом тянула в гору экипаж, полный пьяной и безобразной молодежи. Экипаж сопровождает всадник верхом, парень в камуфляже, явно нетрезвый, с папиросой во рту и матерными криками. Улицы не освещены совершенно — 10 вечера, лишь высветы фар да миганье окон и витрин.
16 июня 2002.
“Деньги есть чеканенная свобода” (Ф. М. Достоевский, “Записки из Мертвого дома”, 4, 17).
Есть особая притягательность во власти не первого, второго (неофициально) лица, серого кардинала. Все знают первое, ему видимо подчиняются, но твою власть знают лишь те, кому положено, а распространяется она на всех, и на тех, кто о ней не подозревает, о носителе же ее разве что слышал.
Мне почему-то особо близки такие фигуры, как Джек Бёрден в романе “Вся королевская рать”, самый близкий Хозяину, но всего лишь что-то вроде пресс-секретаря, главное, что его опасается остальная камарилья. Мне интереснее читать про Тома Хейгена в “Крестном отце”, чем про центрового Майкла. (Поискать в русской литературе.)
За семь лет явились на свет почти все.
1889 Ахматова
1890 Пастернак
1891 Мандельштам
1892 Цветаева
1893 Маяковский
1894 Иванов
1895 Есенин
А чуть раньше:
1886 Гумилёв, Ходасевич
1887 Клюев, Северянин
1888 Нарбут
Кроме того в один год с Ахматовой Вертинский, с Мандельштамом Зенкевич, с Цветаевой Адамович, с Есениным Багрицкий.
С. Залыгин в речи на каком-то писательском съезде заметил, что всю русскую классику XIX века могла бы родить одна женщина — Пушкина в 16, а Льва Толстого в 45. Возможно, он кого-то и повторил, как вполне вероятно, что и я сейчас кого-то повторяю.
Ещё даты, ухода:
Ахматова 1966
Пастернак 1960
Мандельштам 1938
Цветаева 1941
Маяковский 1930
Иванов 1958
Есенин 1925
Итак, больше всех прожила Ахматова, меньше всех — Есенин.
Не может не быть связи между сроком жизни и самой главной сутью поэта.
Я уж делился своими домыслами о возможной пагубности долголетия для жизни общества.
Воля ваша, но как без омерзения наблюдать засасывающие поцелуи стариков обоего пола в американских лентах?
Да и вроде бы вполне невинный стариковский западный туризм не вызывает во мне доброго чувства. Гогочущих бабушек и дедушек в шортах в вестибюлях гостиниц можно воспринимать и в бодро-юмористическом ключе, да ведь противно! Противно не только бессмысленное оживление на пятнистых лицах, которым вскоре предстоит замереть, не только подагрические суставы, шевелящиеся в сухом покрытом старческой «гречкой» глянце кожи, варикозные вены на бесстыдно обнажённых нижних конечностях. Противно нормальной человеческой природе спешить увидеть как можно более из площади земного шара, когда для тебя приуготовлен уже малый кусок его поверхности. Для впечатлений было уж отведено своё время, и, если их недоставало в географическом смысле, гоже ли ловить их у края одра?
«Он был твёрдо уверен, что имеет полное право на отдых, на удовольствие, на путешествие во всех отношениях отличное. Для такой уверенности у него был тот довод, что, во-первых, он был богат, а во-вторых, только что приступал к жизни, несмотря на свои пятьдесят восемь лет. До этой поры он не жил, а лишь существовал, правда, очень недурно, но всё же возлагая все надежды на будущее. Он работал не покладая рук...» (И. Бунин. «Господин из Сан- Франциско»).
Вероятно, это и есть средоточение протестантской этики?
Недавно, в ежедневных телебдениях вокруг выборов в Думу вдруг обратил внимание на возраст участников. Ведущий 70-летний Владимир Познер, спорили 70-летние Василий Аксёнов, Лев Аннинский, близкий к ним по возрасту Александр Проханов. Нет, всё вроде бы в порядке, лица почти свежие, глаза, особенно у неугомонного Аннинского, блестят, полны задора...
Но как там у Тютчева?
И старческой любви позорней
Сварливый старческий задор.
В РУССКОМ ЖАНРЕ - 27
«...эти вопросы были легки, но не были вопросы...» (Герцен. Былое и думы).
«Герой. Как женщина, так на твёрдых губах у него и у неё сладость, надежда, игра, робость, и конец — юбки, безобразие, мокрота, мерзость, стыд...» (Л. Толстой. Записные книжки. 2 июня 1877).
Эпиграф ко всему, что у Бунина о любви: «неужели неизвестно, что есть странное свойство всякой сильной и вообще не совсем обычной любви даже как бы избегать брака?» («Дело корнета Елагина»).
«Эти бутончики года по два своей юности о-ча-ро-вательны, даже по три... ну а там расплываются навеки... производя в своих мужьях тот печальный ин-диф-фе-рентизм, который столь способствует развитию женского вопроса... если только я правильно понимаю этот вопрос...» (Достоевский. Бесы).
«Я ведь сейчас — всего за полчаса — полицеймейстершу голую видел в купальне. Я очень давно её посмотреть собирался и двадцать раз говорил купальщику Титу: проверни ты мне, Тит милосердный, для меня щёлочку в тот нумер. Он, дурак, всё начальства боялся; но я полицейскому солдату, что у будки на часах стоит, это поручил, он и провернул, и прекрасно, каналья, провернул: сделал, знаешь, этакую щёлочку и вставной сучок... Немец бы этого ни за что не сделал» (Лесков Н. С. Расточитель). Это городской голова, 30-летний просвещённый купец приятелю рассказывает.
Джулиан Инглиш (Джон О’Хара. Свидание в Самарре), узнав, что его приятель ненавидит его, начинает искать в себе самом, когда он изменился так, что его стали ненавидеть? «В последний раз перемена в нём произошла, когда он обнаружил, что Джулиан Инглиш, хотя сам по привычке продолжал считать себя по-детски цельным, любопытным и пугливым, внезапно обрёл власть над собственными чувствами: стал способен управлять собой и пользоваться этой способностью, чтобы доставлять удовольствие и радость женщине».
То, что бог знает где и когда живший вымышленный американец всё свёл к этому самообладанию — ответ мне на нередко поражавшую меня ненависть других мужчин ко мне без видимых мною оснований. И именно она возникла, когда я, как теперь вижу, похолодев, «обрёл власть».
Паратов-Кторов у Протазанова, чтобы Лариса могла, не промочив ног, сесть в коляску, швыряет в весеннюю лужу свою роскошную шубу, по которой Лариса в туфельках переходит к коляске.
Паратов-Михалков у Рязанова с тою же целью (но на дворе осенние лужи) натужась, как цирковой атлет, поднимает задок коляски и переносит её к тротуару.
У Островского же эпизода с коляской нет вовсе, да и действие «Бесприданницы» происходит не весною и не осенью, а летом. Яков Протазанов придумал его в ряду других кинематографических ходов своей экранизации. Рязанов же отталкивался не от Островского, а от Протазанова. Но если Паратов Протазанова-Кторова был блестящим, пусть и фатоватым барином, то у Рязанова — Михалкова он предстал ломовым извозчиком.
Женщина чем-то особенно нравится, притягивает, потом понимаешь: беременная.
Там, где сильный человек совершает решительный поступок, слабый — дикий.
Чтобы быть плохим человеком, нужна смелость. Ведь надо не бояться мнения о себе как о плохом человеке. Чтобы быть хорошим человеком, нужны усилия. Надо не расслабляться ни на миг, чтобы быть хорошим человеком.
У большинства людей нет ни смелости, ни упорства, поэтому большинство — не плохие и не хорошие, а люди, со-вершающие чаще плохие или реже хорошие поступки в зависимости от обстоятельств.
17 февраля 1998
Я слишком немолод, чтобы хвататься за первую попавшуюся юбку, и недостаточно стар, чтобы в каждой юбке видеть последнюю.
Самый некрасивый возраст у мужчин — вокруг пятидесяти. Уже не мужчина, ещё не старик. Посмотрите на фото известных людей в этом возрасте — проверьте.
Любовь и похоть. Вечный спор: слитно или порознь.
Моё знание говорит, что настоящая похоть, а стало быть и потенция, не только несоединима с любовью, но и невозможна в любви. Я никогда не верил пафосу «Тёмных аллей» о любви как солнечном ударе (помню, что одноимённый рассказ формально не входит в цикл). В то, что «после»: «Он поцеловал её холодную ручку с той любовью, что остаётся в сердце на всю жизнь...» («Визитные карточки»).
Говорить о плотской любви как о духовной невозможно, глубже всех об этом сказал Толстой в «Крейцеровой сонате». Не стоит, однако, ставить плотскую любовь «ниже духовной». Просто потенция есть проявление похоти, но не любви. А осознание похоти в человеке неотделимо от сознания греха.
Любовь неотделима от самоотверженности, плотская любовь напротив эгоистична.
Общеизвестно, что у супругов, прежде всего мужа, с годами притупляется половое влечение, что обычно объясняют привычкой, привыканием. Я возражу: всем известны многолетние неразрушаемые временем и привычкой, внесупружеские половые связи. В семье же, если там всё в порядке, год от года крепнет любовь и уважение супругов друг к другу, в которой всё меньше остаётся места для проявлений похоти, которая обязана сопровождаться разноуровневыми прихотями, разнузданностью, даже насилием, и прочая, без чего самая похоть умрёт, и исчезнет потенция, и самая возможность плотской связи.
Чем более и долее любит муж жену, тем менее он может видеть возможность проделывания того, чего не может не диктовать ему плоть и фантазия, без которой опять-таки половой акт невозможен или почти невозможен.
То, что Любовь Дмитриевна «гуляла» от Блока, а Лили Брик от Маяковского, говорит не о том, что тот и другой были столь уж слабы как мужчины, а о том, что они безмерно любили своих женщин. Эльза Триоле вспоминала, чем им с сестрою не нравился в постели Володя: он был для них недостаточно похабен. Убедительно, но это не означает, что не мог быть похабен в других постелях. От Сергея Есенина женщины не бегали (напротив, они за ним, а он от них) по одной простой причине: он никогда их, да и никого вообще не любил, ему в высшей степени была присуща тоска по невозможному, по недостижимому, по идеалу, по несбывшемуся, но реальных баб он просто презирал, ни во что ни ставил и вытворял с ними всё, что заблагорассудится.
Совсем грубо сформулировать можно так: если в женщине видеть человека, да ещё себе равного, то никакой половой акт в принципе невозможен. Это — с точки зрения мужчины, однако сильно подозреваю, что примерно то же — с женской.
Возможно, всему причиною христианская этика?
Любая женщина — сзади — беззащитна.
Поэтому и обычные мужские взгляды вослед не столько похотливы или оценивают фигуру, сколько подтверждают — вот мол, кто ты.
Он так ловко и крепко ввинтил ей прямо на балконе, что она только удивлённо и блаженно поохивала, подняв голову к полной луне, тающей белым обливным светом.
В Саратовском цирке, март 1988. Гвоздь программы — второе отделение: Виктор Тихонов с тиграми. Старый господин в бордовом пиджаке, красных брюках, с выправкой, но животом, из-за кушака торчит револьвер. Гвоздь гвоздя — уникальный, единственный в мире трюк: тигр на мотоцикле. Выкатили «Урал», где поверх руля приделана обмотанная перекладина, запустили двигатель, тигр, морщась от отвращения (выхлопной дым в морду), забрался и покатил...
Ещё в программе клоун с петушком, пляшущим русскую в красных сапожках. Старая щекастая фокусница оживлённо передвигалась под песенку Пугачёвой «о-ё-ёй», причём голос певицы и телодвижения циркачки каким-то образом соединялись в нечто непристойное...
Номер, в котором даже мой злобный взгляд не смог выловить уродства — «вертикальный полёт» — воздушные гимнасты над сеткой, изящные полуголые парни и одна девушка вся в зелёном как ящерица.
А так, традиционно-цирковое, всё-таки очень часто выступает в юмористическом облике.
Регина Долинская, в зелёном сарафане и серебряном кокошнике, выступает с голубями. Какие-то серебряные ящики и подносы. Голуби тянут за собою серебряные тележечки и беспрестанно роняют из-под хвоста. Регина старенькая, голуби, взлетая, садятся вместо подноса ей на кокошник и она напряжённо поднимает глаза на их подхвостье.
Характерно: старухи выступают с парнями. Он на лошадке, она на арене с хлыстом. Он красивый, кудрявый, работает слабо, она в собачьем сером парике, каких уже не носят, бледные ноги из-под слишком короткого блестящего платья, старая шея, вся жалкость облика из-за контраста между возрастом и образом «девушки».
В зрительских рядах толстые и очень толстые бабы и их супруги с грязными волосами. Массовая закупка ситро, пирожных, мороженого, яблок и даже колбасы. Обезумевшие девочки-подростки несутся в буфет за мороженым уже и после третьего звонка, погашен свет, а воротясь, долго мечутся по рядам под шипенье служительниц в поисках своего кресла, а мороженое, все восемь стаканчиков, зажатых в ладонях, текут, тают, мороженое капает на колени сидящих.
Кроме гимнастов была ещё прелестная малышка на велосипеде, потряхивая мячиками в розовом лифчике, подпрыгивая, на заду розовые перья — вся как кукла-голыш. А вокруг по барьеру несутся в разные стороны прекрасные ловкие собачки, тянут тележечки, прыгают друг через друга, притом молча, без лая, а она носится меж ними со своими розово-гуттаперчевыми подпрыгиваниями. Несколько минут радостной розовой вакханалии. Блеск! Обладательница Золотого Льва в Китае Марина Лобиади.
Сперва самыми благополучными показались канатоходцы, и действительно, работали они неплохо. В венгерских костюмах, худые и стройные, с густыми волосами, скорее брат с сестрой, чем муж с женой. Но она ошарашила абсолютно непристойными телодвижениями и жестами, подмигиваниями в публику, когда стояла на тумбе. Настолько непристойными (талантливо непристойными), что её партнёр, скользящий в это время на проволоке чардаш, сразу обернулся вдруг супругом и его стало жалко.
Она не пощадила и солдат, сидящих в первом ряду с бесстрастным старлеем. Глаза у них сделались безумные.
После ссор с Софьей Андреевной, Лев Николаевич тут же щупал, считал и записывал в дневник пульс. Для чего?
Даже в ночь Ухода: «отвращение и возмущение растёт, задыхаюсь, считаю пульс: 97. Не могу лежать и вдруг принимаю окончательное решение уехать». Это записывает 82-летний старец в мучительную минуту перед недалёким концом жизни. Но кому он жалуется, кому сообщает о своих страданиях, столь подробно их фиксируя?
Опять возникает страшный безответный вопрос: зачем пишутся дневники?
Твардовский тоже мучил себя вопросом: к чему ведутся дневники? «И всё ещё как будто в глубине где-то тщишься поведать кому-то обо всех этих вещах, кому-то, кто пожалеет тебя с твоими переживаниями возраста и проч. А его нету и не будет».
23 августа 1860 года, в Германии, Толстой «видел во сне, что я оделся мужиком и мать не признаёт меня».
Идея предательства — это идея свободы. Решиться на мысль о предательстве — искусить себя возможностью выбора, то есть свободы. В предательстве — освобождение от обязательств. Но в реализации предательства теряется так много, что всякая свобода оказывается утраченной: общество хорошо поработало над формированием общественной, групповой морали.Возраст напоминает о себе, когда, ища что-то в прошлом или в том, что было до тебя, мельком решаешь: спрошу у... — и тут же осознаешь, что спросить уже не у кого.
Синица летает прыжками.
Не страшно улететь в небо, страшно улететь в чёрное небо.
Чем больше открываешься в своём, тем больше людей тебя понимает. В литературе лучше всех это знал Достоевский.
«Встретить его — значило испугаться» (Лесков. Белый орёл).
«... взял его (мальчика. — С. Б.) под мышку, как скрипку...» (Там же).
Бунин в дневник заносит (летом семнадцатого рядом с газетами, Корниловым, Керенским, озлобленными мужиками) цвета, запахи, тона — больше всего цвета. Поразительно много он вспоминает их: ведь одно записывать с натуры, другое — по памяти, хотя бы и свежей.
А сколько он за день видел деревьев! А два-три опишет особо тщательно. Но тщательность эта черновая, подспор-ная, краткости и смелости, как в прозе, здесь почти нет, это для себя, эскиз для последующей картины.
Читаю (через силу) Ремизова и понял, почему так беспредельно много он написал: так писать можно бесконечно. Бег фразы, поспешное движение за убегающим образом. Крайне ненужная никому, кроме автора, манера.
Его как бы нарочито-стилевая неграмотность (как бесила она Бунина!) проистекает не для стилизации, даже не из щегольства, а потому, что так писать проще.
Но на фразе вывеска: импрессионизм. И — взятки гладки. «А за ними серым комком — седые моржовые усы, блестя лысиной, Ф. К. Сологуб, — знакомые» (Ремизов. Огонь вещей).
У каждого литератора такую судорогу можно обнаружить в записных книжках, из-за спешки. Но затем впечатление переводят в подобающий вид.
Изредка блёстки: «оранжевый жемчуг» — о кетовой икре. Впрочем, такое недорого стоит.
А вот и прямо-таки Солженицын: «просторный до не влеза в вагон». О И. Шляпкине.
Метко, хотя и очень мелко о Чехове. «Для нетребовательного или измученного загадками Чехов как раз. Читать Чехова, что чай пить, никогда не наскучит.
Оттого, может, так и спокойно. Чехова будут читать и перечитывать».
Почему я не поклонник Набокова? Я читаю его по строкам, словно бы водя пальцем по странице.
И хотя я также не большой поклонник штучно-фразового Бабеля, чтение Бабеля не тормозит так, как чтение Набокова. Он обладатель нового зрительного инструмента, через который заставляет глядеть и нас, с нормальным зрением. Это утомительно.
Всё отразилось под размахом
Разумно-ловкого пера...
В. Бенедиктов — И. Гончарову по поводу «Фрегата Паллады»
«Начнёте входить в положение жены, так можете приобресть дурную привычку входит в чужое положение вообще» (Островский. Невольницы).
«Если русский человек не верит в Бога, то это значит, что он верует во что-нибудь другое» (Чехов. На пути).
В РУССКОМ ЖАНРЕ - 28
Одним из наиболее густо получавших Сталинские премии был практически забытый сейчас действительно талантливый актёр Николай Боголюбов — шесть премий!
Мне почему-то кажется, что в этом актёре «Самого» привлекали не только мужественный облик, зычный голос, талант, с которым он сыграл Шахова-Кирова и других, но ещё, а может быть и в первую очередь, то, что Боголюбов был некогда верным мейерхольдовцем. Равно как и Охлопков, Бабанова, Царёв, Ильинский. Все они были в фаворе. Даже независимый Гарин получил Сталинскую в 1941 году.
А вы как думаете: были испорченные дети плохого Мейерхольда, а сделались верные реалисты.
«Проснулся очень рано, мучась определением почерка подписи под какой-то открыткой ко мне: Сталин» (И. Бунин. Дневник, 1 октября 1933 г.).
В СССР широко издавали «Швейка», где каждая строка направлена против государства в принципе, и запрещали, к примеру, Джойса. Притом что «Швейка» воспринимает и малограмотный человек.
«Наш полковник вообще запретил солдатам читать даже “Пражскую правительственную газету”. В солдатской лавке запрещено было завёртывать в газеты сосиски и сыр». (Ярослав Гашек. «Похождения бравого солдата Швейка»).
Поколения советских читателей поражались тут, конечно же, не запрету на чтение, а существованию солдатской лавки с сосисками и сыром!
Пьянство как спутник благородства — черта вовсе не одной русской литературы с её правдолюбцами-пьяницами. Пример — Атос.
«Эдисон был пошляк с атрофированным художественным вкусом».
«... можно сказать и о всех национальных блюдах — как они ни просты, а не переносят переселения».
Прочитав записки Василия Верещагина (очень непохожие на записки живописца!), невольно начинаешь веритьв легенду о его зверском поступке, повторившем злодейство Микеланджело.
Шулер в русской литературе нередко поляк, начиная с Кречинского у Сухово-Кобылина. Вообще поляк малосимпатичен русскому писателю. Не говоря уж о Достоевском, у одного Чехова — омерзительный шантажист Каэтан Пшехоцкий («Драма на охоте»), противный вороватый управляющий Ржевецкий («Барыня»), «поручик из поляков» Ляшкевский («Обыватели»), дни напролёт проводящий за картами и обвиняющий русский народ в безделье. Венчает антипольскую галерею третий Толстой со своим мерзким Стасем Тыклинским («Гиперболоид инженера Гарина»).
«Таким образом, я успокаиваюсь относительно важнейшего отдела “Словесности”. Всё остальное легко получается или пишется» (Чернышевский — Некрасову, по поводу ближайших книжек «Современника», 5 декабря 1856 г.).
Легко пишется — это о себе — несколько листов в каждый номер: критики, науки, публицистики. Почти патология, верно подмеченная Набоковым, тоже ведь пристальным тружеником.
Существование советских литераторов — оставим в данном случае в покое таланты и прочие воздушности — обеспечивалось стабильностью гонорара. Оставим опять-таки неравенство в их распределении, подчеркнём другое — стабильность. То есть, затевая роман, скажем, в двадцать авторских листов, писатель знал, что в журнале он получит за него 6 тысяч рублей, а за отдельное издание — 10. Опять-таки роман могли не напечатать, но в случае публикации были гарантированы именно такие суммы.
И здесь, надо сказать, советский писатель был законным наследником русского писателя. Ну представьте, что Антон Павлович Чехов, вступая на стезю сочинителя, не рассчитывает ни на какие гонорары, то есть на определённые гонорары, подобно нашему современнику. Без гонораров — Достоевский? Горький?! Куприн?!
Блок на золотое, как небо, аи зарабатывал критикой. (Мать сокрушалась: «Саше так трудно деньги достаются, а он их пропивает!».)
Рост гонорара говорил о росте признания.
У современного литератора отнят сильнейший стимул к сочинительству. Работа на ТВ, в СМИ, дающая заработок, отучает писателя от непременного внутреннего ежедневного усилия по складыванию строк, страниц, глав.
Ещё о «Драме на охоте».
Чехов умел быть многословным, он просто сдерживал себя в рассказах, а здесь явно оттягивался на многоречии, кайфовал.
У Чехова — не читатели, но коллеги, известные люди, просят фотокарточек.
Как тогда любили фотографироваться, дарить и выставлять карточки!
Перечитал «Мелкого беса». Впервые встретился с ним не в дореволюционном, а в советском, очень странном издании 1958 года, кемеровского издательства; говорили, директор за него полетел с работы.
Запрет на роман Сологуба малообъясним. Автор не эмигрант. К образу Передонова любил прибегать в статьях Ленин. Роман «направлен против...».
«Сомов. Геологи чересчур много открывают. Рентабельность этих открытий весьма сомнительна. Протасов сравнивает геологов с девицами, которые, торопясь выйти замуж, слишком декольтируются.
Яропегов. То есть хотят угодить властям?»
(М Горький. Сомов и другие)
С 1699 г. продовольствие солдата — 2 фунта хлеба, 1 фунт мяса, 2 чарки вина и 1 чарка пива в сутки и 2 фунта соли и 1,5 фунта крупы в месяц («Родина». 1999, 5,17).
Переведём. 800 г хлеба — буханка, 400 г говядины, 300 г водки, 150 г пива.
Ежедневно.
А мы лепечем про реформу армии, контракты и прочее. На днях мою жену остановил тонкошеий солдатик: «Тётенька, дай пять рублей, я голодный».
3 февраля 2004
От моря брызжи, дождь летучий,
Лети на север, пароход!
А. К. Толстой
Хороший эпиграф к путевым очеркам.
Всегда мечтал написать “Путешествие из Нижнего в Астрахань”. Но уже и официально Волга именуется не рекою, а системой водохранилищ, уже нет ни одного — сгнили или проданы за границу — из десятков ещё в 70-е весьма выносливых пароходов, а в новых четырёхпалубных гигантах вместо ветерка, треплющего занавеску, — кондиционер в закрытых стёклах. Да и рейсов-то нет, одни круизы с американскими и японскими пенсионерами. Нет пристаней с местными дарами природы, в Саратове речной вокзал приватизирован и отдан под магазин бытовой электроники. Всё чаще ловится рыба без чешуи, с тремя головами... воду из реки пить не рекомендуется.
«... сначала взошёл громкий смех, вслед за ним явился...» в дождь — «воздух точно распух...»
«мне... всё ненавистно, начиная с крошечных кусочков мяса, которые нарезывает скупой за хозяина... до огромных кусков живого, но попорченного мяса (дело на водах), одетых в пальто и поглощающих маленькие кусочки, одетые в соус...» Это всё Герцен.
«В нас ум — космополит, но сердце — домосед» (П. Вяземский).
«... искомый результат путешествия — это параллель между чужим и своим» (Гончаров И. А. Фрегат «Паллада»).
Как и подобает литературному пошляку, он никогда не говорил: Толстой, Достоевский, но непременно — Лев Николаевич, Фёдор Михайлович.
Выписывая первый раз («В русском жанре — 10») весёлые названия у передвижников, я поспешил или поленился, вот список полнее.
«Привал арестантов», «Проводы покойника», «Утопленница», «Неутешное горе», «Бедный ужин», «Больной муж», «Всё в прошлом», «Панихида на кладбище», «Беглые в Сибири», «В ожидании приговора суда», «Погорелые», «Нищий», «Больной музыкант», «Последняя весна», «Осуждённый», «Ожидание. У острога», «Узник», «Арест нигилистов», «По этапу», «Круглая сирота», «В семье чужая», «Нищенка», «В дороге. Смерть переселенца», «Возвращение с похорон», «Венчание в тюрьме», «Заключённый», «Арест пропагандиста», «Под конвоем», «Отказ от исповеди перед казнью», «Панихида», «У больного товарища», «Допрос революционерки», «После обыска», «Последний путь шпиона», «Перед поркой», «Порка», «Самосуд», «Жертва фанатизма», «Ослепший художник», «Расстрел», «Больной художник», «Умирающая», «Жертва фанатизма», «У больного учителя», «Бедный ужин».
«...приехал я смирно... теперь сижу, вас не трогаю, пью чай...» («Господа Головлёвы»).
Булгаков любил Щедрина.
Гиппиус называла Эстонию, Латвию, Литву — «прибалтийские пуговицы» (Дневник, 1920).
Лобастенький «боинг».
Самолёт производства саратовского авиазавода Як-42 потерпел катастрофу на горе Олимп в декабре 1997 года.
В советские времена он назывался «Завод комбайнов», хотя все знали, какие «комбайны» он производит. Когда испытывали истребители с вертикальным взлётом, в округе на километр дребезжали стёкла. «Комбайн» — это часть убогого саратовского быта, самого мрачного из городских районов — Заводского (бывшего Сталинского) — с его так называемыми «жилучастками» и прочая.
Как увязать всё это и — Олимп?!
Слово «авария» («аварея») Даль применяет лишь к кораблю.
Вроде бы слово «лётчик» придумал Пришвин, а великим немым назвал кино Леонид Андреев.
Реальные фамилии из телефонной книги Саратова: Сиончиков, Легалина, Комзолов, Стрюздюмова, Гетте, Гиря, Гобято, Траппель, Репетун, Полусмак, Пищ, Ибус.
Сказки жестоки: отрубил голову, кинул в колодец и прочее. Дети совершенно не жалеют тех, с кем эти операции производятся, — врагов, злых волшебников. Что это за сказка, где бы Кощея помиловали?!
Почему совсем маленькие дети едят всё, а потом лет с трёх-пяти начинается отвращение, причём прежде всего и по преимуществу к варёным овощам, капусте, луку, щам и прочему и почти никогда к мясу и фруктам.
Баловство-то баловство, и случается в сытости, но отчего именно эти продукты, а не другие?Р. Моуди и другие исследователи «жизни после смерти» или умирания, записывали у всех, кто побывал в клинической смерти, что при входе туда они видели ослепительно-белый свет.
А в матросской песне рубежа XIX—XX веков «Кочегар» пелось:
На палубу вышел — сознанья уж нет.
В глазах у него помутилось.
Увидел на миг ослепительный свет.
Упал, сердце больше не билось.
Тени туч на холмах Коктебеля.
Пятна солнца на затенённой тучами воде.
Из-под вышедшего из облака солнца, выцветая, выплыли три чёрные чайки, три чёрных зигзага с застывшими крылами, поплыли над морем ко мне, белея при приближении.
Л. И. Толстая, нахохлившись, стоит на краю обрыва, глядя вдаль.
Пейзаж библейский, и вдруг скалы, далёкое море, небо, ветер и — чёрные густые пряди, борода — в них бледное лицо, ветер раздувает белые рукава, треплет гриву. В руках у него портфель. Он — один из странной троицы, в которой девушка ходит с розовым кудрявым зонтиком начала века в высоких ботинках на бантиках, с голубыми полосками на висках и щеках.
Мой печатный дебют.
В 1963 году «Литературная газета» (ещё четырёхполосная) развернула обсуждение списка произведений, выдвинутых на Ленинскую премию.
«Книга Василия Пескова “Шаги по росе” ценнее, по-моему, иных пухлых романов. С. Боровиков, 17 лет, учащийся».
Мне не так уж понравилась большая, иллюстрированная, как альбом, книга Пескова, да и не прочёл я её до конца, но, лишь увидев список на премию, я мгновенно родил фразу «ценнее иных пухлых романов» — словно чёрт, конечно, чёрт, меня в бок толкнул. Эта фраза мне так понравилась, что ради неё я и написал в ЛГ.
Итак, я сразу выступил профессионалом: написал о книге, не прочитав её. Но тот самый, кто толкнул, вложил в уста поганые мои и празднословный, и лукавый: Ленинскую премию дали именно Пескову!
И — год себе прибавил. Было мне шестнадцать, и был я школьник. А семнадцать и учащийся — что-то взрослое.
По тишине аллей —
Потише: не алей!
(Чего это я?)
Перечитывал «Гекльберри Финна» (январь 1998) Прежде очень любил эту книгу, сейчас показались слишком надуманными приключения вымышленного мальчика. Вымышленного — ибо неопределённого, расплывчатого возраста, характера, темперамента. Поразило, впрочем, не это. Поразило другое: как убого жила Америка! Середина XIX века, а быт похлеще российского. Городок на Миссисипи, куда пристали, чтобы дать гастроль, герцог и король, — убожество не только нищеты, но и лени!
Жуют табак, «все улицы и переулки в городе — сплошная грязь; ничего другого там не было и нет, кроме грязи. <... > Повсюду в ней валяются и хрюкают свиньи...» и т. д. Виски, драки, тупость.
Когда же и откуда взялась «деловая Америка»? Её привезли евреи на Восточное побережье? Промышленность двинулась оттуда на запад, в центр, на юг?
Пусть так, но ко времени действия романа Америка уже была воплощением прогресса, куда и ринулись европейцы, русские, евреи, поляки. Уже тогда Америка принялась грабить мир. Кто же его грабил, эти клянчащие друг у друга табачную жвачку?
Или всё дело в том, что писатель решил изобразить «идиотизм» жизни рабовладельческого Юга? В «тенденции»?
«Все очень жалели, что эта девочка умерла, потому что у неё была начата ещё не одна такая картинка, и уже по готовым картинкам всякому было видно, как много потеряли её родные. А по-моему, с её характером ей, наверное, куда веселей на кладбище. Перед болезнью она начала ещё одну картинку. <... > На этой картинке молодая женщина в длинном белом платье собиралась броситься с моста; волосы у неё были распущены, она глядела на луну, по щекам у неё текли слёзы; две руки она сложила на груди, две протянула перед собой, а ещё две простирала к луне. Художница хотела сначала посмотреть, что будет лучше, а потом стереть лишние руки. <... > У молодой женщины на этой картинке было довольно приятное лицо, только рук уж очень много, и от этого она, по-моему, смахивала на паука» (Марк Твен. Приключения Гекльберри Финна).
«... не сводил с него взгляда до тех пор, пока они оба не услышали тиканье часов» (Дж. О'Хара. Свидание в Самарре).
Почему совершенно очевидно и без контекста, что написал американец?
В советском кино и литературе учителя физкультуры почему-то представлены как негодяи. Дело, думаю, не в неприязни к учителю физкультуры, а в том, что изобразить его как тупицу, подонка, развратника и даже шпиона было безопасно — эта социальная категория выпадала из различных степеней социальной и идеологической защиты.
Он не принадлежал ни к стану педагогов, которые коллегой его не считали, именуя физкультурником, ни к стану профессиональных спортсменов, заслуженных мастеров спорта, заслуженных тренеров, чемпионов и рекордсменов — высокооплачиваемых увеселителей и работников идеологического фронта.
О своих учителях физкультуры у меня осталось мало впечатлений. Была учительница, состоящая из шаров, по имени Станислава, имеющая дочку Сталину, учившуюся на два класса старше меня. А был ещё Яков Михайлович, из отставников, высокий, сухой, в кителе, человек строгий, но не злой, у нас он мало вёл уроков. О нём помню две истории. Одна — Лёшка Киселёв, отличавшийся своим, лёшкокиселёвским юмором, желая досадить нашей однокласснице Ольге Гулиде, особе нравной и чопорной, на перемене, вдруг преградив дорогу идущему физруку, плачущим голосом прокричал: «Яков Михалыч, а Яков Михалыч, скажите Гулиде, чего она на меня матом ругается!”». Вскоре Гулида надрывно рыдала, а Киселёва тащили в учительскую.
В центре второй истории всё тот же Кисель. Нашей любимой шуткой, им изобретённой или у кого-то позаимствованной и в общем-то невинной, но выводящей учителя из себя, было позвонить в учительскую, пригласить к телефону Якова Михалыча, и сказать: «Яков Михалыч, это с аэродрома. Прыжки с парашютом отменяются, можете не приезжать». Самым трудным было не рассмеяться в трубку, особенно когда Я. М. начинал кричать: «Сволочь, я тебя всё равно поймаю!». Вероятно, эта шутка исполнялась поколениями школьников, переходя эстафетою.
А ещё у нас во дворе жил Коля Сидоров, учитель физкультуры, горчайший пьяница. С весны и до осени он жил не в доме, а в сарае. Он ходил в майке, сандалетах на босу ногу, а на уроки в школу надевал спортивный трикотажный костюм. Его дворовое прозвище было Исидор.
Мать его была учительница, интеллигентная замкнутая замученная вдова.
Он всегда ездил на велосипеде, а по мере прогресса каким-то чудом (денег у него никогда не было) купил веломоторчик «Киевлянин».
И стал разбиваться на нём. Не раз, не два. Чуть ли не каждый его выезд заканчивался аварией. Весь двор наблюдал, как Исидор, перебегая падающим шагом от дерева к забору, от забора к дереву, пробирался в сарай и выводил двухколёсного друга, и гадали, удастся ли ему выехать на этот раз. Шатаясь, он выводил велосипед на улицу, и — через какое-то время раздавалось хлюпанье чахлого моторчика. К вечеру мать направлялась в больницу. Почему цел оставался велосипед — не могу объяснить. У моего брата хранилась фотография: Коля весь в бинтах. Держит за руль боевого товарища. Лицом Коля, особенно после многочисленных травм и многолетнего употребления, сильно напоминал артиста Сергея Филиппова.
Музработник санатория Черемшаны на мой вопрос, можно ли в г. Хвалынске выпить пива, ответил:
— Бывает периудами.
С ударением на «у» и совершенно серьёзно.
Кто автор слов «Подмосковных вечеров»? Одну строку он заимствовал у М. Исаковского: «Всё здесь замерло до утра».
У Исаковского: «Снова замерло всё до рассвета...» («Одинокая гармонь»).
Кажется, все напрочь забыли, когда вошла в обиход песня «Калина красная». Её открыл публике, уж не знаю, сочинил ли, или повторил мелодию, композитор Ян Френкель в начале 60-х годов. На концерте в Саратове я впервые услышал её со следующим предварением Френкеля. В годы войны на Урале или в Сибири он услышал, как поют её заводские девочки-эвакуированные, и она запала ему в душу, и он её сейчас споёт. Френкель, как и многие композиторы, хорошо пел, вовсе не имея голоса. Кто не согласен — пусть обнаружит следы этой песни ранее названного мной срока. Думаю, что Френкель слышал, а ещё более — сочинил. По советским тогдашним меркам слова «А я пошла с другим» были почти нецензурно вызывающими. Девичья правда была чутко услышана будущим композитором.
Плохие поэты начинают писать стихи для детей, когда они у них появляются. Очень плохие — для внуков. Некрасов и Саша Чёрный были бездетны.
Ремарка в начале пьесы: «Очень богатая квартира. Автор полагается здесь на постановщиков, ибо таких квартир не видел, но догадывается, что они есть».
То, что сызмальства я столь остро ощущал в себе, то, о чём Трифонов в «Доме на набережной» пишет как о редком и дурном свойстве быть никаким, которым обладал Вадим Глебов-Батон, то свойство, которым Горький наделил Клима Самгина (а я убеждён, что Самгин — его автопортрет), то качество я не желаю считать пороком.
Да, я был никакой, и меня наполняли родители, друзья, книги, водка, Волга, женщины, дети и так далее.
Да, смолоду я часто не знал, как следует себя вести, безмерно завидуя определённости поступков других.
Однако в свои 57 лет я точно знаю, что прожитые годы пошли мне на пользу, я делался год от года лучше, интереснее, значительнее. И — самое смешное — всё определённее.
Я не могу сказать того же о тех моих сверстниках, которые получили с рождения дар определённости, ярко выраженной индивидуальности. Я же шёл вперёд по жизни, приобретая и укрепляясь, они же — утрачивая и слабея.
В РУССКОМ ЖАНРЕ - 29
Родившиеся в иные десятилетия объединены этим десятилетием. Но не мы, кто родился в сороковые годы XX века. Нас три поколения в одном десятилетии.
После войны.
Больше всего, конечно нас, послевоенных.
Внутри «сорокадесятников» незримое соперничество не просто возрастное, но потому — до — во время — или после — войны ты родился.
Следующие за нами так остро не воспринимают невозможно огромный долгий предлог «до» в приложении к войне. Мы же росли под это бесконечное «до». Любое воспоминание, история, случай непременно прежде всего апробировалось им — до, во время, или после войны.
Розги «назначали только младенцам до 15-ти лет, дабы заранее от всего отучить» (Евреинов Н. История телесных наказаний в России).
Бунин 20 апреля 1918 г. о воззваниях на стенах: «“Граждане! Все к спорту!” Совершенно невероятно, а истинная правда. Почему к спорту? Откуда залетел в эти анафемские черепа ещё и спорт?» («Окаянные дни»).
В письме к сестре Чехов описывает поездку в Севастополь в Георгиевский монастырь. «И около келий глухо рыдала какая-то женщина, пришедшая на свидание, и говорила монаху умоляющим голосом: «Если ты меня любишь, то уйди». Бунин, вероятно, написал бы вокруг этого рассказ.
Слушая 1 ноября 2004 года по радио «Архиерея» в исполнении О. Табакова (хорошо, но излишне педалировал старомодность интонации), впервые так остро почувствовал: всё, написанное Чеховым, пропитано, перенасыщено, а то и порождено одиночеством.
У Толстого везде друзья, жёны, мужья, родственники, у Достоевского словно все персонажи слиплись, настолько вдруг сближаются, и опять вдруг разъединяются и мгновенно становятся зависимы друг от друга, нуждаются друг в друге в страсти любви или ненависти, у Гончарова хотя бы воспоминание о родительском Доме, у Островского на сцене всегда целое общество купеческое или дворянское, повязанное укладом жизни...
Чехов же одинок абсолютно.
Чехов столько написал не только о гнусности брака, но даже и свадьбы, в которой самое юмористическое лицо жених, что запугал сам себя, превращаясь в Подколёсина.
Едва ли не более женитьбы он страшился отравления рыбой: «Тошнит меня нестерпимо, точно я рыбой отравился» («Без места»); «неприятно было вспоминать про рыбу, которую ел за обедом» («Архиерей»); «За сорок копеек ему дали какой- то холодной рыбы с морковью. Он съел и тотчас же почувствовал, как эта рыба тяжёлым комом заходила в его животе; начались отрыжка, изжога, боль...» («Беда»); «Дедушке дают покушать рыбы, и если он не отравляется и остаётся жив, то её ест вся семья» (Записная книжка).
«Которых один хмель только, как механик своего безжизненного автомата, заставляет делать что-то подобное человеческому...» (Гоголь. Сорочинская ярмарка).
С саратовским поэтом Т. связано немало историй. Расскажу одну.
Мы возвращались с ним с партийного собрания. Промозглый ноябрь, сумерки. Бодрый подпрыгивающий Т. предложил: «Зайдём в «Москву!» На мои сомнения, что там надо раздеваться, делать заказ, долго ждать... он заявил: «Не бойся, ты со взрослым дядей». Лет ему тогда было около шестидесяти, а мне чуть за тридцать.
Мы поднялись в высокий старинный, с высоченными хорами зал ресторана «Москва». Т. в новой необмятой фетровой шляпе по-американски на затылке, в ратиновом пальто решительно присел у столика, и велел официанту соорудить закусочку к поллитре. Вскоре мы принялись за дело. После добавки уж не помню скольких граммов, я обнаружил, что мой собутыльник напился вдребезги. Бросить я его не мог. Расплатившись, кое-как стал спускать его по литой чугунной лестнице. На улице он чуть было взбодрился, и я перевёл его через улицу, и прислонил к забору, огородившему стройку нового здания облисполкома.
Стемнело. Он начал сползать. Ловить машину издали было немыслимо, к тому же могла появиться милиция. Тогда я завёл старшего друга за забор и прислонил его с обратной стороны. Направившись к проезжей части, я услышал звук падения тела. Поэт лёг навзничь в лужу, около лысой головы его в луже покачивалась новенькая шляпа, в которую падали крупные мокрые снежинки.
Итак, я начал ловить машину. Одна за другой они останавливались, согласные на маршрут, но едва лишь я добавлял о «товарище», указывая на забор, из-под которого в свете зажёгшихся фонарей отчётливо рисовались нош в начищенных ботинках, как, мотая отрицательно головою, водители уносились прочь.
Что делать?
После какого-то времени и многих безуспешных попыток, от отчаяния я придумал ход, оказавшийся спасительным. Когда за рулём 21-й «Волги» обнаружилось явно «лицо еврейской национальности», я спросил его: «Извините, вы еврей?» И быстро изложил проблему, показывая при этом на ноги из-под забора, вот гордость саратовской культуры, знаменитый поэт еврейской национальности, ветеран, не рассчитал силы, надо доставить домой. И — водитель согласился! Правда за пятёрку, раза в три более возможного.
«Нормальная деятельность областной организации с многосотенным (!) литературным активом и молодёжной студией, где на постоянной основе в двух возрастных группах занимается более 50 человек» (Юрий Орлов, ответственный секретарь Ивановской писательской организации // ЛГ. 2003, октябрь, № 41).
Среди множества бойких композиторов начала XX века, если не мелодиями (насколько я понимаю посредственными), то названьями выделяется «действительный член Общества европейских композиторов» В. X. Давингоф (сам нотный издатель не из последних). Прошу: «Мечты и шалости гимназистки», вальс; «Бегство слона», марш; «Одесские ласки», вальс; «Вальс юристов»; «Последний вздох на поле брани», пьеса на фортепиано, фисгармонии и для фортепиано со скрипкой; «7000 бомб и гранат», галоп; «Не щекочи», романс-шансонетка; «Пощекочи», романс; «Письмо А. С. Суворину» и непревзойдённый, вероятно, никем вальс «Рентгеновские лучи».
Хорош и репертуар времён нэпа, окрашенный под требуемую идеологию. Итак...
Соавторы знаменитых «Кирпичиков» композитор Павел Герман и автор слов Валентин Кручинин, написали пропасть совширпотреба. Впрочем, у «Кирпичиков» прелестная мелодия, из которой известны два-три куплета, тогда как слушателям предлагался целый производственный роман о любимом героиней Сеньке, которые пронесли своё высокое чувство и через империалистическую войну и пролетарскую разруху, и восстановление народного хозяйства:
На ремонт поистративши год
По советскому, по кирпичику
Возродили мы с Сенькой завод»,
за что Сенька:
«Стал директором, управляющим.
На заводе «товарищ Семён»...
А вот названьица: «Антон-наборщик», «Паровоз 515-Щ», «Шестерёночка» (здесь слова не Германа, а автора знаменитой «Дорогой длинною» К. Подревского).
А как вам репертуар Е. Белогорской, слова всё того же В. Кручинина: «Два аршина ситца», «Шахта № 3». А между прочим, в тридцатые эта самая Белогорская написала с Вадимом Козиным бессмертную «Осень».
А вот два Бориса — Прозоровский (музыка) и Тимофеев (слова), гонят актуальные «Станочек» и «Алименты», одновременно сочиняя «Мы только знакомы», а тот же Герман пишет «Марш сталинской авиации) («Всё выше...») и «Только раз бывает в жизни встреча».
Действительность заставляла двоедушничать талантливых, сформировавшихся до Совдепии людей. Легче, вероятно было тем, кто подобно Алексею Толстому, который по убеждению Бунина, «помирал со смеху», сочиняя революционные тексты. А ещё им помогало владение кафешантанной культурой 1910-х годов. В результате рождались чудовищные сочетания кабацких мелодий с «идейными» текстами.
Тот же Подревский написал слова на мотив популярного фокстрота «Джон Грей», автором которого официально был Матвей Блантер, но поговаривали, что он спёр мелодию на Западе. Текст «Джона Грея» вовсе не тот, что звучал у Андрея Миронова, исполнявшего его в 70-е годы. За огромностью, приведу для наглядности несколько строк.
Джон Грей — рабочий с дока,
Работы в доке много...
И тут в док приезжает буржуазный премьер-министр, агитировать, и рабочий Грей в споре побеждает:
Персон всех вон:
Пусть бросят свой фасон.
Народ возьмёт всю власть на свой манер,
Как это, например,
У нас в СССР.
Ноты выходили по старой традиции чаще в серийном издании репертуара известного певца, в частных издательствах.
Но существовал ещё и музсектор ГИЗа. Прошу внимания: «Пролетарская колыбельная песня»; «Баллада об убитом красноармейце», «Ленин — РККА» (для низкого голоса);. «Песня швейных машинок», «Комсомольская чехарда» (для высокого голоса).
А вот и для среднего голоса дело нашлось: «Рубанок», «Песня деда Софрона», «Сын красноармейца».
И уж вовсе загадочное «Христос воскрес» для двух теноров и баса. Видимо, Бог-отец — бас, а Сын и Дух Святой — тенора. Заметьте, задолго до «Superstar».
Грузинский мятежник Акакий Элиава (2000) — бывший драматический артист. Гамсахурдиа — переводчик, Яндарбиев — стихотворец, Сталин тоже, Менжинский и Чичерин — литераторы, плюс Рейснер с Раскольниковым... список долгий. А как путались с палачами-чекистами поэты и актёры... Неужто России предстоит повторить в том числе и союз пера и нагана?
«В жизни всё причинно, последовательно и условно. Сюрпризами только гадость делается» (Лесков. Смех и горе).
Собака, большая жёлтая дворняга, сильно поранила лапу, кажется сорвала подушечку и пятнает грязно-жёлтый, как её шерсть, снег кровавыми следами. То и дело садится зализывать рану. Рядом ещё две такие же. Я остановился возле, там, где Волжская (бывшая Армянская) сливается с Октябрьской (бывшей Полицейской).
Оттепель, грязь, день якобы праздника якобы Конституции, а вчера войска ввели в Чечню, а Ельцин по старому партийному навыку залёг от греха в больницу (уже пущена острота — отгородился от событий носовой перегородкой, которую ему якобы чинят). В телевизоре вновь горящие танки, молодые лица солдат, обросшие щетиной лица кавказцев, булыжноподобная морда Грачёва и совсем уж тип скомороха из тюзовского спектакля министр МВД Ерин. И нет этому ни конца ни краю.
12 декабря 1994
Самое удивительное, что приходилось слышать мне о жизни лилипутов, это рассказ Каджаны Кантемировой о том, что вокруг цирка, едва приезжает труппа лилипутов, начинаются ошиваться мужчины, желающие спать с лилипутками по причине их миниатюрных параметров и детских голосков. И лилипутки этим прилично зарабатывают, а лилипуты мужского пола, (сами себя они называют маленькие люди), не способные на половую жизнь, главной страстью имеют роскошно одеваться, и в Москве или Ростове, кажется, есть портной, работающий исключительно на лилипутов.
Читаю и читаю Куприна, мало что с наслаждением, но ещё и с чувством вины. Вспомним, с какою лёгкостью мы (беру на себя смелость сказать за многих) перевели его в некоего второстепенного чеховского эпигона, а главное, отдали на съедение вечному его сопернику Бунину.
Мне уж приходилось писать и о заражающей способности Бунина раскладывать по косточкам чужие тексты, так, что справедливость там и не ночевала (зато столь гипнотически мощна сила его слова) и о том, как иные советские литературоведы двинулись за нею, как крысы за дудочкой Нильса.
Но и то сказать, столько лет практически лишённый Бунина русский читатель, дорвавшись, ворвавшись в его волшебное слово, затуманился всерьёз и навсегда, потому как не было, вероятно, в русской прозе XX века слова совершеннее бунинского.
В РУССКОМ ЖАНРЕ - 30
По существу степень трусости старого, затюканного страхом и благополучием Федина куда ярче проявилась не в прятанье от похорон Пастернака, а в том, что он побоялся ответить на открытку Бунина в 1946 году. В то время, когда Симонов с Серовой водили Ивана Алексеевича по парижским ресторанам.
Розанов утверждает, что у Гоголя нет животных. Но если и отбросить свиней и гусаков (а зачем их отбрасывать?), имеются дивная собака в «Шпоньке», щенок Ноздрёва.
Горький заражал своей фразеологией своих адресатов. Федин уже в послевоенные годы пишет в письме: «У меня заболела корью моя внука, очень славная дама семи лет». Если постараться — десятки примеров можно найти почти у всех «серапионов».«Антиинтеллектуализм рус [ской] прозы в противоречии с глубочайшим философским интеллектом поэзии русской» (М Горький, 1909 год).
Из повести «Детство» «плохо пишущего» М. Горького:
...мать, «чистая, гладкая и большая, как лошадь».
«Окно, выпуклое и круглое, точно глаз коня».
«Баржа серая и похожа на мокрицу».
«Такими прозрачными глазами, что мне казалось, сквозь них можно было видеть всё сзади её головы».
«...вдруг, точно с потолка спрыгнул, появился дедушка», «...из серой бороды... уныло опускается длинный багровый нос, похожий на язык».
«Лица людей, поднятые вверх, смешно напоминали мне грязные тарелки после обеда».
«Дети были тихи и незаметны; они были прибиты к земле, как пыль дождём».
«...вихрится кудрявый огонь. В тихой ночи красные цветы его цвели бездымно...».
«Только что лёг в постель — меня вышвырнул из неё нечеловеческий вой».
«Григорий... ходил по кухне, качая головою, точно астраханский верблюд».
«Лицо её жалобно сморщилось и начало таять слезами». «Весною мордовку, вместе со стариком, сборщиком на построение храма, и бутылкой водки, придавило упавшей на них поленницей дров».
В оспе, в кошмаре, мальчик Пешков выбросился из окна, потом долго лежал: «Шаркали по крыше тоскливые вьюги (под эту музыку и росло сердце».
«За обедом, вечерним чаем и ужином часто сидела зелёная старуха, точно гнилой кол в старой изгороди. Глаза у ней были пришиты к лицу невидимыми ниточками, легко выкатываясь из костлявых ям. <... > Брови у неё были точно из отрубей и какие-то приклеенные, Её голые широкие зубы бесшумно перекусывали всё, что она совала в рот... уши двигались и зелёные волосы бородавки тоже шевелились, ползая по жёлтой, сморщенной и противно чистой коже».
«Я не помог, туго связанный тоскою».
«В сиреневом небе растёт веер солнечных лучей...».
«...видны освещённые фонарями ворота завода, раскрытые, как беззубый рот старого нищего, из него густо лезет толпа маленьких людей. В полдень — снова гудок; отваливались чёрные губы ворот, открывая глубокую дыру, завод тошнило пережёванными людьми».
«...было похоже, что трубы не от земли к небу поднялись, а опускаются к земле из этого дымного облака».
«...сугробами снега, посоленными копотью».
«...улица была похожа на челюсть, часть зубов от старости почернела, покривилась, часть их уже вывалилась и неуклюже вставлены новые...».
«Яков, растрёпанный, как всегда, похожий на изработанную метлу».
«Лицо его сморщилось, сошлось к носу, стало жутко похоже на топор».
«Сквозь пыль высовывается опухолями крупный булыжник».
«...рот был открыт, как у рыбы, и в него через верхнюю губу заглядывал острый нос».
Когда дед молился, он становился «всегда на один и тот же сучок половицы, подобный лошадиному глазу».
«...лицо у неё синее, надуто, как пузырь».
«...бабы толстой, красной, шумной, похожей на колокол».
«...парень с лицом, похожим на поднос красной меди». «...вижу, как он прижимал грязным пальцем оторванную ноздрю, и выл, и кашлял, а из-под пальца брызгала кровь в лицо бабушке».
«...он походил на подростка, нарядившегося для шутки стариком. Лицо его было плетёное, как решето, всё из тонких кожаных жгутиков, между ними прыгали, точно чижи в клетке, смешные бойкие глаза...».
«Была она старенькая, и точно её, белую, однажды начал красить разными красками пьяный маляр — начал, да и не кончил <... > и вся она из тряпок шита, костлявая голова... опущена, слабо пристёгнутая к туловищу вздутыми жилами и старой, вытертой кожей».
«... выводил из конюшни серую длинноголовую лошадь; узкогрудая, на тонких ногах, она, выйдя на двор, кланялась всему вокруг, точно смиренная монахиня».
«Под правым ухом у него была глубокая трещина, красная, словно рот; из неё, как зубы, торчали синеватые кусочки».
«... где-то далеко поёт, улетая, колокольчик проезжей тройки, грустный жаворонок русской зимы...».
«Как всегда в минуты таких напряжений, у меня по всему телу вырастали глаза, уши...».
«... то — говорили... то — молчали, словно вдруг уснув», «всё кружилась по комнате бесшумно, как ястреб.
«... маленький нос тоже ездил, как пельмень по тарелке». «Каждый раз, когда она с пёстрой ватагой гостей уходила за ворота, дом точно в землю погружался».
«Рядом — бойня... кровью пахнет так густо, что иногда мне казалось — этот запах колеблется в пыльном воздухе прозрачно-багровой сеткой».
«... мать, протягивая сухие руки без мяса на них, длинная, тонкая, точно ель с обломанными ветвями».
Горький вводил себя в сочинения в качестве персонажа. Я не имею в виду те автобиографические произведения, где действует сам автор, но вот «Бывшие люди» (1897). «Был тут ещё какой-то нелепый юноша, прозванный Кувалдой Метеором. Однажды он явился ночевать и с той поры остался среди этих людей, к их удивлению. Сначала его не замечали—днём он, как и все, уходил изыскивать пропитание, но вечером постоянно торчал около этой дружной компании, и наконец ротмистр заметил его.
— Мальчишка! Ты что такое на сей земле?
Мальчишка храбро и кратко ответил:
— Я — босяк...
Ротмистр критически посмотрел на него. Парень был какой-то длинноволосый, с глуповатой скуластой рожей, украшенной вздёрнутым носом. <...> Потом к нему привыкли и перестали замечать его. А он жил среди них и всё замечал».
Когда говорят о феноменальной памяти Горького, имеют ввиду его способность враз запоминать прочитанное. Но куда важнее другая роль его памяти. Он явился, чтобы увидеть, запомнить и зафиксировать бесчисленное множество сцен русской жизни и русских людей, такого множества их нет ни у кого больше в русской литературе, ни у Глеба Успенского, ни у Чехова, ни у Куприна, ни у кого другого.
В «Вассе Железновой» Рашель спрашивает о скончавшемся Железнове:
«— Он — давно хворал?
Прохор. Это — верно, давно пора!
Рашель. Я неправильно спросила — долго хворал?»
«Ведь если на Блока наклеивать ярлык (а все ярлыки от него отставали), то всё же ни с каким другим, кроме “черносотенного”, к нему и подойти было нельзя» (3. Гиппиус).
«Учпедгиз в руках дельцов.
Главный редактор А. Бортник, зав производственным отделом Фридман, не имеющий даже среднего образования, подрядился переводить художественную литературу. Сотрудник Брухис переводил географию, приятель Бортника Бернштейн переводил учебники», (газ. «Правда». 1952,11 февраля).
«Харьков против Москвы
Председатель Украинского СНК Петровский выступил против договора о ненападении между СССР и Польшей, так как народу обещано освобождение украинцев в Восточной Галиции и Волыни. Сталин заявил, что международная политика — прерогатива Москвы!» (газ. «Новое русское слово». 1932,11 февраля).
Самое напряжённое место в «Дубровском», которое невозможно читать без волнения, когда Дубровский посылает Архипа проверить, отперты ли двери дома, который он собирается поджечь и в котором остались приехавшие реквизировать дом «приказные».
«— Постой, – сказал он Архипу, — кажется, второпях я запер двери в переднюю, поди скорее отопри их.
Архип побежал в сени — двери были отперты. Архип запер их на ключ, примолвя вполголоса: “Как не так, отопри!..” и возвратился к Дубровскому».
Тот его уж не спрашивает про двери. Страшно волнует, чем же были слова Дубровского — приказом запереть двери, про которые он помнил, что открыты, или действительно забывчивостью. И как мне, читателю, отнестись к его поступку. И как автор относится, если он знает, но не соизволяет сообщить читателю правду.
«Образовать в себе из даваемого жизнью нечто истинно достойное писания — какое это редкое счастье! — и какой душевный труд» (Бунин. Жизнь Арсеньева).
... грязно тает
На улицах разрытый снег...
Пушкин. Евгений Онегин. Гл. 8, XXXIX
После этого «грязно тает» — впору и Бунину было бы не начинать.
Пять женщин распухают телесами
На целый век в длину и ширину.
М. Волошин
За все годы лишь раз встретил единомышленника в отношении поэзии Гумилёва: «даровитый ремесленник» (Чуковский. Запись в дневнике от 12.11.1918).
«Великий Князь Александр Михайлович в книге “Бывший Великий Князь” пишет, что царь легко мог удовлетворить все требования рабочих и крестьян, полиция могла бы взять на учёт и выловить всех террористов, но не было никакой возможности бороться с кандидатами в министры, революционерами из среды дворян и аристократии и оппозиционная элита выращивалась русскими университетами» («Новое русское слово». 1932,17 февраля).
«БАР-ДАМЫ». Для привлечения иностранцев, вернее для выкачивания их фунтов и марок при гостиницах Москвы устроены кабаки и бары. <...> За стойкой сидят дамы, в обязанность которых входит не только спаивать гостей, но и всяческим им “угождать”. Словом дом свидания под покровительством Наркоминдел и Наркомфин, и под контролем ГПУ» (газ. «Последние новости». Париж, 1932,13 июля).
«Диктор попросил собрать у громкоговорителей детей. “Гав, гав, бр, гав!» Дети — что за звуки? Вы уверены, что лают собаки? Нет, это капиталисты лают на СССР”. <... > Когда среди человечества распространялись умственные способности, в секторе детского вещания был выходной» («Вечерняя Москва». 1932,16 февраля).
Я думаю, что Сталин спокойно относился к рассказам Зощенко и даже почитывал их. Да собственно, вот свидетельство его приёмного сына: «Из современной литературы Сталин любил Зощенко. Иногда нам с Василием читал вслух. Однажды смеялся чуть не до слёз, а потом сказал: “А здесь товарищ Зощенко вспомнил про ГПУ и изменил концовку!”».
А гнев и последующие гонения начались даже не с «Похождений обезьянки» в 1946-м, а с публикации в «Октябре» «Перед заходом солнца», вещи и в самом деле крайне неуместной в 1943 году.
Ни один русский писатель не обладает такой вариативностью смысла своих сочинений, как Чехов.
В РУССКОМ ЖАНРЕ - 31
В экранизациях Чехова почему-то почти непременным музыкальным сопровождением сделался вальс.
То есть, конечно, не почему-то, а потому, что русский вальс с его меланхолией, провинциальной или старомосковской акварельной грустью, весьма к чеховской тональности подходил. Кроме того, вероятно, традиция восходит к прощальному маршу Саца из финала «Трёх сестёр» во МХАТе. А тогдашние марши и вальсы в исполнении духового оркестра, как бы перетекали друга в друга: из марша исчезала брутальность, из вальса — весёлость.
Замеченная Пушкиным склонность русского человека к тоске и меланхолии: «шлюсь на русские песни» проявилась уже не в его эпоху в удивительной трансформации, которую претерпел в России легкомысленный жизнерадостный вальс. Расцвет русского вальса на рубеже XIX—XX веков явил образцы не только элегические, но даже трагические: «На сопках Маньчжурии».
«Смерть Ивана Ильича».
Где жил Иван Ильич, где умер?
Нигде не сказано. Только раз: «их город». Образ жизни скорее провинциальный. Газета — просто «Ведомости», такие выходили в каждом губернском городе. Служил он в Судебной палате, они были и в обеих столицах, и в губернских центрах. Родом Иван Ильич из Петербурга, после окончания Училища правоведения «уехал в провинцию на место чиновника особых поручений при губернаторе». Потом он переводится судебным следователем в другую губернию, откуда в третью, уже прокурором. Затем он ждёт «места председателя в университетском городе» и не получает его. И, наконец, поднявшийся наверх старый приятель даёт ему место в Министерстве юстиции. В Петербург за местом Иван Ильич ехал через Курск и Москву. Затем сказано, что ему надо было «принимать должность и кроме того... перевезти всё из провинции». Так, стало быть, всё-таки Петербург? Но тогда перед нами, быть может, единственное произведение русской литературы, где действие происходит в столице, но великий город вовсе не присутствует в тексте, нет ни одного описания или хотя бы косвенных признаков столичной жизни.
Всё это, разумеется, неслучайно. Иван Ильич должен был со временем всем — своею службою, привычками, семьёй, всем образом жизни сделаться просто Иваном Ильичём, и тогда только смерть его способна нас ужаснуть, как нам самим предстоящая, но смерть какого-то знакомого, которая не пугает, как не пугает она сослуживцев и даже близких Ивана Ильича.
И ещё спросите себя, если только вы не сейчас читаете повесть, но при этом, конечно же, хорошо её помните: какую фамилию носил Иван Ильич?
Это нелегко. Всего дважды называется она в повести. Причём оба раза как бы не в приложении к живому Ивану Ильичу; первый раз в траурном извещении, второй — отцу его.
«Критику очень полезно написать пьесу, роман, десяток стихотворений — ничто другое не даст ему такого знания литературной техники; но великим критиком он будет, только если поймёт, что творчество не его удел, отчасти наша критика так бесполезна именно потому, что ею между делом занимаются поэты и прозаики. Вполне естественно, что, по их мнению, писать стоит только так, как пишут они сами» (Сомерсет Моэм).
Русскую литературу первой половины XIX века у нас читала Алла Александровна Жук, женщина сколь привлекательная внешне, столь же талантливая и язвительная. Когда начали Гоголя, она предупредила: «Если хоть раз от кого услышу “повесть «Шинэль»” — даже тройки не дождётесь». Думаю, из её студентов уже никто не заменил е на э.
Ещё о поляках в русской литературе. Перечисляя в «Русском жанре» (глава 12) жуликоватых поляков у Чехова, упустил Казимира Михайловича («Степь»), управляющего у богатой графини: «Да и здорово же обирает её этот Казимир Михайлыч! В третьем годе, когда я у неё, помните, шерсть покупал, он на одной моей покупке тысячи три нажил.
— От ляха иного и ждать нельзя, — сказал о. Христофор».
А вот из другой эпохи. Михаил Булгаков, «Киев-город» (1923): «Все, кто раньше делали визит в Киев, уходили из него по-хорошему, ограничиваясь относительно безвредной шестидюймовой стрельбой. <...> Наши европеизированные кузены вздумали щегольнуть своими подрывными средствами и разбили три моста через Днепр, причём Цепной — вдребезги.
И посейчас из воды вместо великолепного сооружения — гордости Киева — торчат только серые унылые быки. А, поляки, поляки... Ай, яй, яй!..
Спасибо сердечное скажет вам русский народ.
Не унывайте, милые киевские граждане! Когда-нибудь поляки перестанут на нас сердиться и отстроят нам новый мост, ещё лучше прежнего. И при этом на свой счёт.
Будьте уверены. Только терпение».
А вот Лесков. В повести «Детские годы» (1874), один из центральных персонажей поляк Пенькновский, самовлюблённый бахвал, дурак и бездельник. Вот несколько цитатпо его и, вообще, польскому поводу: «... большой франт — и, по польскому обычаю, франт довольно безвкусный»; «... в тогдашнем ополяченном киевском обществе поцелуи при уличных встречах знакомых мужчин были делом весьма обыкновенным»; «... он имеет несчастье быть поляком и потому заслуживает извинения».
Впрочем, последняя фраза, которую произносит мать героя, вовсе не так иронична, как звучит вырванная из контекста. «Поляки потеряли свою самостоятельность, — продолжала она, а выше этого несчастья нет; все народы, теряя свою государственную самостоятельность, обыкновенно теряют доблести духа и свойства к его возвышению. Так было с великими греками, римлянами и евреями, и теперь то же самое происходит с поляками. Это ужасный урок».
Как ограничена география бунинской Москвы! Арбат, опять Арбат, ресторан «Прага» («Кавказ», «Муза», «Речной трактир»). Тверская, Тверской бульвар («Генрих». «Мадрид», «Таня»). Ну, ещё Иверская, Красные Ворота, Кремль. Обязательно извозчики к ресторану.
А Петербург? — Невский и Невский! («Жизнь Арсеньева», «Петлистые уши», «Барышня Клара» — там, правда, ещё и Лиговка).
Гениальная, всегда пьянящая меня первая фраза рассказа Бунина «Визитные карточки», в сущности, не совсем точна: «Было начало осени, бежал по опустевшей Волге пароход «Гончаров».
Дело в том, что пустеет Волга не в начале, а в конце осени. В сентябре же навигация в полном разгаре.
Всем известное хорошее название не слишком хорошего фильма Ивана Пырьева «В шесть часов вечера после войны» (сценарий В. Гусева), вероятно, позаимствовано из «Похождений бравого солдата Швейка».
Швейк прощается с драчуном сапёром Водичкой:
«— Так, значит, после войны, в шесть! — орал Водичка.
— Приходи лучше в половине седьмого, на случай если запоздаю! — ответил Швейк.
И ещё раз донёсся издали голос Водички:
— А в шесть часов прийти не сможешь?!
—Ладно, приду в шесть! — услышал Водичка голос удаляющегося товарища».
Однажды наш класс повели, точнее, повезли на экскурсию на шарикоподшипниковый завод. В просторечии «Шарик», о котором саратовцы с гордостью говорили, что 1-й и 2-й шарикоподшипниковые заводы в Москве, а 3-й в Саратове, и уж 4-й в Куйбышеве. Водили по цехам. Особенно запомнился тяжёлый пресс, с уханьем бьющий по раскалённой огненной болванке, набитые мелкими шарикоподшипниками карманы, повышенное внимание тружеников к Витьке Герасимову, который тогда, в 7-м классе, весил больше ста килограмм, что-то у него было с обменом; он, вместо положенной тогда формы, первой советской формы, введённой, кажется, в 1955 году: гимнастёрка с медными пуговицами, брюки навыпуск, ремень из кожзаменителя с пряжкой, вместо формы носил сшитую матерью просторную блузу, летом и зимой насквозь пропитанную пахучим потом, к чему мы, впрочем, привыкли. Запомнилась экскурсия и неким инцидентом, говорящим о тогдашних нравах и о том, что далеко не во всех семьях, как нынче иногда представляется, была поголовная «вера в идеалы коммунизма».
Мы проходили поточной линией красивых, кажется фрезерных, станков, меня чёрт толкнул под локоть, я сунулся поближе к одному из них и, узрев металлическую этикетку «Made in USA», радостно провозгласил: «Америку догоняем, а станки-то американские!».
На следующий день наш классный руководитель Евгения Валентиновна, на перемене увела меня в укромный уголок, и спросила негромко: «Серёжа, вот ты сказал: «Америку догоняем, а станки американские», почему сказал?». Я, естественно, молчал. Она продолжила: «У вас, наверное, так дома говорят? Не бойся, скажи: ты это дома слышал?» Я мужественно отверг её предположение, настаивая на своём авторстве.
Этим дело и кончилось.
А Евгения Валентиновна спустя годы после окончания нами школы, при встрече на улице отворачивалась от нас, учеников класса «А». Мы долго недоумевали, пока кому-то из нас другая пожилая учительница не объяснила, что Е. В. стыдится того, как она обращалась со своим первым выпуском. Настолько с каждым годом ужаснее в её глазах становились ученики, что со временем мы стали представляться ей ангелами.
Когда на «собеседовании» в обкоме комсомола с группой, направляющейся в ГДР, предупредили, что более одного «паласа» привозить нельзя, самая старшая в группе, некрасивая и измождённая девица с начёсом сухих волос, громко, в голос, зарыдала. Потом выяснилось, что ей на путёвку сложились две семьи — её и мужа, с единственной целью, чтобы та привезла несколько «паласов». (Если кто не помнит, так назывались синтетические ковры без ворса.)
Из той же поездки, кажется, 1975 года.
Два парня тащили с собою (поездка была поездом) хоть по тем временам и портативный, но тяжеленный пузатый телевизор в надежде где-нибудь в ГДР посмотреть по нему порнуху из ФРГ, будучи убеждёнными, что по телевидению капстран только её и показывают.
В первом же немецком городе, Котбусе, вечером в ресторане отличился Валера — помощник машиниста из Ртищева, страшно похожий обликом на знаменитого тёзку с «Таганки». Когда столики обносили подносом с коньяком, он пытался вырвать его из рук официанта. Попозже, набравшись, войдя в туалет и не видя меня, он от двери громко заявил: «Ну, вы, немцы! Я вам прямо скажу: я пришёл поссать!».
Жизнь даёт немало примеров, когда человек неожиданно, и, увы, запоздало обнаруживает своё призвание. В чьих- то воспоминаниях (так и не вспомнил, в чьих, считал, что Вертинского, но не нашёл) есть рассказ о шеф-поваре эмигрантского русского ресторана, бывшем губернаторе. Он наслаждался жизнью, проводя весь день на кухне, делая пробы, по утрам самолично закупая на рынке провизию. На вопрос, не жалеет ли тот об утраченном положении, мемуарист получил признание в наконец-то обретённой гармонии существования.
Но призвание может так и пропасть втуне, и никто, включая его носителя, так о нём и не догадается. Разве что случайно.
Некогда обретался в нашей студенческой компании старший из нас по возрасту, где-то служащий инженером Володя Шевченко, по прозвищу Эйсебио. Был он славным парнем. Рыжим, донельзя к тридцати годам пропитым и, как то нередко у русских пьяниц, добрейшей души человеком.
Почему же Эйсебио?
Как-то на пляже, когда рядом играли в футбол, а Шевченко, разлегшись на песке, в карты, к нему подкатился мяч. Он встал и так как до играющих было довольно далеко, не кинул мяч рукою, но, как-то глупо ухмыльнувшись, ударил ногой. Тот, в кого он угодил своим, без преувеличения пушечным, ударом, свалился на песок. К игре в футбол Володя, разумеется, так и не приохотился, разве что когда очень уж приставали, мог ударить по мячу, отправив его в заоблачные дали.
Умер молодым.
Встречи в начале-середине 90-х наиболее преуспевающих по части бесконечных грантов, изданий и лекций за границей, коллег-писателей на родимой московской (куда реже питерской и вовсе никогда провинциальной) почве живо напоминали встречу Несчастливцева и Счастливцева:
— Куда и откуда?
— Из Парижа в Нью-Йорк-c, Геннадий Демьяныч. А вы-с?
— Из Нью-Йорка в Париж.
Когда сейчас единодушно родоначальником оттепельного исповедального романа признаётся Василий Аксёнов, это не совсем так. Я хорошо помню шум вокруг «Коллег» (1960) и особенно «Звёздного билета» (1961). «Коллеги», за исключением ленинградского стиляжного антуража, — типичная история того, как молодые люди по тогдашнему выражению «вступают в жизнь».
Но начало «исповедальная проза» берёт не от «Звёздного билета». До романов Аксёнова в той же «Юности» были опубликованы повести «Хроника времён Виктора Подгурского» (1956) — дебют 21-летнего (!) Анатолия Гладилина, и его же «Дым в глаза» (1959). Потом он написал скучнейшую антикультовскую повесть «Первый день Нового года» и вообще как-то съёжился. Так вот сюжет «Дыма в глаза» строился на том, что мятущемуся в поисках самоутверждения и славы герою некий старичок предлагает возможность прославиться и разбогатеть без всяких на то усилий, наделив его необыкновенным футбольным дарованием. Оно обнаруживается на стадионе, где доселе не игравший в футбол герой, к которому подкатился с поля мяч, на предложение «Пни, авось докатится!» ударяет по мячу совсем как наш Володя Эйсебио.
Н. Е. Шундик рассказывал, как познакомился с Шолоховым.
В середине 50-х годов с кем-то он зашёл в ресторан «Пекин». Там сидел «Серёжа Васильев», стихотворец, пародист, автор знаменитой антисемитской поэмы «Без кого на Руси жить хорошо». У него, по словам Шундика, болел желудок, и он в «Пекине» ел каких-то медуз. Посидели, выпили, и Васильев предложил: «Поехали. Я вас с кем познакомлю».
Взяли такси, приехали в Староконюшенный. Шундик говорит, когда я увидел, что на улицу под летящий снежок в гимнастёрке распояской выходит человек, и узнал его, то обомлел: Шолохов!
Из его рассказа запомнилось, что ещё кто-то, уже за столом, сказал про какую-то даму, что она страшная, как лошадь. На что Шолохов заявил: «Значит ты, мерзавец, ни женщин, ни лошадей не любишь!» И прогнал.
Мне это понравилось.
После «разоблачения» Берия подписчикам Большой советской энциклопедии (2-е изд.) были присланы страницы соответствующего тома, которыми предлагалось заменить одическую статью о Лаврентии Павловиче, предварительно вырезав её и уничтожив.
Может быть, самое здесь ужасное то, что наверху рассчитывали на то, что сознательный покорный подписчик именно так и поступит.
А брюк женщины во времена моего детства не носили, разве что на каких-то производствах. Даже на велосипедах ездили в юбках.
В те времена выпускались дамские велосипеды, в которых в отличие верхняя часть рамы вела из-под руля книзу. (Сейчас-то они в обычае) Но мало этого, у «дамских» над задним колесом от крыла была натянута шёлковая ажурная цветная сетка, чтобы юбку не затянуло в во вращающиеся спицы.
И ещё. Я возвращался из школы, когда услышал свист и крики. Несколько парней свистели вслед девушке в брюках (из плотной материи, суженных книзу). Они свистели и кричали «Хорёк!», что на тогдашнем саратовском жаргоне было синонимом проститутки.
Играло солнце над лугами,
В кудряшках хмеля под кустом,
Лежала, ёрзая ногами,
Семьи мамаша с пастухом.
Спиной траву усердно мяла,
Ласкала задом жизни дно —
С приблудным мужу изменяла,
Семье и детям — заодно.
Монолог СПИДа из поэмы «Ах, люди, люди, человеки...», присланной в журнал «Волга».
В пустых залах саратовского Дома архитектора негромко раздавался томный итальянский голос Эроса Рамазотти, сопровождая выставку, привезённую в Поволжье его земляками из Ломбардии.
«Стул ведьмы», «Кресло допроса», «Жаровня», «Дыба-подвес», «Колесо», «Гаротта», «Аист, или Дочь дворника», «Нюрнбергская дева», «Якорь», «Эльзасский сапог», «Коленодробилка», «Испанская щекотка», «Вилка для еретика», «Скрипка сплетниц». Создатели пыточных орудий обладали своеобразным чёрным юмором, вроде того литературного персонажа из белой контрразведки, который «в операционной» спрашивает пленного большевика: «Ну-с, господин коммунист... как же мы с вами сегодня будем разговаривать — терапевтически или хирургически?».
В выходные, сказала мне служительница, залы не пустуют: на выставку приводят группы учащихся. А мне почудились другие экскурсанты — молчаливые мужчины с внимательными глазами, в начищенных сапогах, кто в чёрных мундирах, кто в гимнастёрках с голубыми петлицами.
Вроде бы нет, ведь обстановка светлая, чистая, не подземелье, не крики жертв, а сладкий голос певца, орудия, пусть и точь-в-точь, но изготовлены специально по немногим сохранившимся образцам, а ещё более по чертежам и рисункам, крови не видели, криков не слышали. Мысли всё же кружат вокруг предмета экспозиции.
Вот славная штучка под названием «Жаровня», очень напоминающая раскладушку, только покрепче, да кандалы на цепочках по бокам приделаны, чтобы клиент не трепыхался, когда под ним разгорается костерок, а давал бы чистосердечные показания о связях с Дьяволом. Ведь кто-то не только укладывал человека в железную койку и разводил под ним огонь, но кто-то сделал её своими трудовыми руками, а прежде чья-то светлая голова её придумала! А кто-то приказал всё это сотворить и применить.
Впрочем, авторство и не скрывалось, да и чего скрывать, если дело государственное? Аккуратные тисочки для зажима больших пальцев сопровождаются пояснительной страничкой, из которой, во-первых, можно узнать, что «Дробление суставов подследственного — один из самых простых и действенных методов пытки», во-вторых увидеть симпатичный старинный чертёжик тисочков, который воспроизводится, как любезно сообщается в той же сопроводиловке, из «Криминальной конституции Терезии» — «справочника процедур допроса и пыток, написанного австрийской эрцгерцогиней Марией-Терезией и опубликованного в Вене в 1769 году». Позвольте, 13-летний Моцарт там концерты уже даёт, а хозяйка империи такие справочники сочиняет! «Это руководство, — читаем далее, — обязывало всех судей любого австрийского суда провести обвиняемого, который отказывался признать вину, через Peinliche Fragen (болезненный допрос, который был не чем иным, как системой выжимания признания посредством серии пыток. Кодекс подробно описывает процедуры пыток, а также даёт научные и рационализаторские рекомендации». Ещё сообщается, что через семь лет сынок венценосной изобретательницы Иосиф Второй пытки запретил. Спасибо, утешили! А то бы Моцарта слушал, а в глазах тисочки, а в тисочках пальчики...
Как ни впечатляют все эти брёвна, цепи, заклёпки, шипы, более всего раздумий вызывает висящая на стене, словно бы в сельском сарае, обычная двуручная пила. К ней старинная картинка: один висит вверх ногами, а двое пилят. Думаешь: когда его душа уже летела на высоте многих тысяч метров над уровнем моря, чем в это время занимались пильщики? Ну вымыли от кровавых кишок и прочего полотно, ну сами умылись... Выпили, наверное, в трактире, закусили, о чём-то таком поболтали — и по домам? Детей воспитывать, жену приласкать. Или не так? А почему же не так? Ведь те, которые поближе, в чёрных мундирах или гимнастёрках с голубыми петлицами, после трудового дня, когда пусть и не двуручной пилой, но тоже ведь приходилось некоторые физические действия производить в контакте с врагом рейха или советского народа... они не в истерике же ежедневной бились и уж точно не лбом об пол стучали в храме, а в шашки играли, в домино, водочку с соседом пили, чаёк, то да сё. Можно это всё понять?
Передвижная выставка из Милана ездит по разным странам с 1984 года. Называется «Exhibition of medieval torture instrument», то есть средневековые орудия пыток, в Саратов прибыла из Нижнего Новгорода, где располагалась (предлагаю оценить наименования) по адресу: Нижегородский острог, пл. Свободы, 2.
«Искусство быть скучным — это сказать всё» (Вольтер).
В РУССКОМ ЖАНРЕ - 32
В разгар гонений на Виктора Некрасова (1963) Никита Хрущёв сказал: «Иногда идейную ясность произведений литературы и искусства атакуют под видом борьбы с риторичностью и назидательностью. В наиболее откровенной форме такие настроения проявились в заметках Некрасова “По обе стороны океана”, напечатанных в журнале “Новый мир”. Оценивая ещё не вышедший на экран фильм “Застава Ильича” («Мне двадцать лет»), он пишет: “Я бесконечно благодарен Хуциеву и Шпаликову, что они не выволокли за седеющие усы на экран всё понимающего, на всё имеющего чёткий, ясный ответ старого рабочего. Появись он со своими поучительными словами — и картина погибла бы”. (Возгласы из зала: “Позор!”) И это пишет советский писатель в советском журнале!»
Фраза и впрямь была на тогдашний слух крутая.
Вспомнил об этом, перечитывая Ильфа и Петрова. То, за что предавали анафеме в 60-е, оказывается, было можно в 30-е.
«Самый страшный персонаж в плохой современной пьесе — это так называемый пожилой рабочий. <... >
Разумеется, пожилой рабочий уж немолод (56 лет). Обязательно носит сапоги на высоких скороходовских каблучках. Разумеется, на нём стальные калининские очки, сатиновая косоворотка под пиджаком, и усы, о которых прейскуранты театральных парикмахерских сообщают кратко и нагло: «Усы колхозные — 80 коп».
Пожилой рабочий всегда и неукоснительно зовётся по имени-отчеству: Иван Тимофеевич, Кузьма Егорыч, Василий Фомич.
Пожилой рабочий — беспартийный, но обладает сверхъестественным классовым чутьём, хотя до некоторой степени находится в тисках прошлого (икону сбрасывает со стены только в третьем действии). Как правило, пожилой рабочий обожает свой станок. Пожилой рабочий часто ворчит и жалуется на кооперацию, но этим он никого не обманет — под грубой оболочкой ворчуна скрывается верное сердце. <... > Таков старожил советской сцены, чудно вычерченный в литературных канцеляриях».
После этого фельетона 1933 года «Листок из альбома» и ко времени выхода тома собраний сочинений Ильфа и Петрова (1961) к театральным Кузьмам Егорычам добавилась целая вереница кинематографических. Но недаром, ох не даром, за годом 1933-м следовали и сороковые-роковые, а главное, начало пятидесятых, когда подобная ядовитость в отношении священного соцреалистического штампа сделалась уже кощунственно опасной.
В своей книге «Синяя птица юности» («Вагриус», 2004) вдова А. Н. Вертинского (поименуем его далее АНВ) Лидия Владимировна вспоминает о том, как они отправились в гости к Пастернаку в то время, как у него была Ахматова.
«Раздаётся телефонный звонок. Звонит старый приятель Вертинского писатель Лев Вениаминович Никулин и сообщает, что сегодня у поэта Бориса Леонидовича Пастернака в доме собираются гости и на вечере будет присутствовать Анна Андреевна Ахматова. Никулин предлагает заехать за нами на машине и отвезти к Пастернаку по его приглашению».
Странноватая форма приглашения в гости в чужой дом. К тому же «старый приятель» имел в литературной среде вполне определённую негативную репутацию, и сомнительно, что он мог вот так запросто явиться к Пастернаку. Да ещё привезти с собою АНВ...
Но встреча-то была. Вот как описывает её, (причём, указывая, что она состоялась весной 1946 года, вскоре после знаменитого вечера Ахматовой и Пастернака в Колонном зале) Мария Белкина (кн. «Скрещение судеб». М.: Книга, 1988): «... зазвонил телефон, и Борис Леонидович снял трубку. Потом он появился в дверях и, несколько смущаясь, стал объяснять, что это звонит Вертинский: . Вертинскому кто- то сказал, он от кого-то услышал, словом, он знает, что здесь сейчас Ахматова... Это становится просто невыносимым, все всё знают, все всё слышат, что делается у тебя за стеной, за запертой дверью! Ты живёшь как под стеклянным колпаком, так невозможно больше, немыслимо жить... Я не скрываю, что у меня Ахматова, я горжусь тем, что у меня Ахматова... Но зачем же об этом надо говорить... И при чём тут Вертинский? Ахматова и Вертинский... А может быть, Ахматова не хочет видеть Вертинского, и это надо будет ему объяснить... Он преклоняется перед Ахматовой, он просит, нет, он умоляет разрешить ему приехать и поцеловать руку Ахматовой...”».
Прервём цитату. Достоверно, по-моему, передана реакция Пастернака, от гнева к испугу, от замешательства к готовности просто не пустить певца на порог. Желание АНВ встретиться с Ахматовой понятно, но и Пастернак-то это всё же Пастернак, а не просто «хозяин квартиры». И притом, что, несомненно Ахматова в тысячу раз ближе АНВ, не мог же он, звоня, вовсе проигнорировать хозяина, заявляя лишь о своём желании видеть Анну Андреевну: Вертинский не был хамом! Правда, надо признать известную бесцеремонность звонка (если только звонил и в самом деле АНВ, а не Л. Никулин, автор чекистских детективов).
Вероятно, правда в том, что всезнающий «старый приятель» и впрямь сообщил АНВ о вечере у Пастернака. Он, если не ошибаюсь, жил в том же доме в Лаврушинском переулке, что и Пастернак, которого, разгневало и напугало — 1946 год! — именно то, что «все всё знают».
Итак, звонок обсуждается, и на вопрос Пастернака, «пускать ли» Вертинского — «может быть, кому-то это неприятно» — Ахматова милостиво соглашается: «пускать, мы поглядим на него, это даже интересно». Допускаю, что с высоты постоянно сознаваемого ею величия она так и ответила, словно бы в дверь стучался и в самом «усталый старый клоун», а квартире собралось великосветское общество. Далее описывается полная неловкости сцена визита АНВ с женою и бутылкой коньяка, который пить «все отказались и наполнили бокалы вином», чтение АНВ стихов Георгия Иванова, и его бестактное утверждение, что «никто из нас здесь — в России — не мог любить Россию, как любили они Россию там... <... > Борис Леонидович, чуя скандал, растворился в тёмном коридоре». Ахматова же, «поправив шаль на плечах», дала отповедь зарвавшемуся гостю, напомнив ему о блокаде Ленинграда.
То, что скандал состоялся, нет сомнений. Он описан и другим мемуаристом (Сильвой Гитович со слов Ольги Берггольц, бывшей участницей того застолья), только там отповедь АНВ даёт не Ахматова, а сам Пастернак. И всё же не верится, что вот так в лоб, чуткий Александр Николаевич, да ещё ощущая враждебность, мог противопоставить эмиграцию и оставшихся в России. Вероятно, прозвучало что-то об особой эмигрантской ностальгии и прочем, и этого было достаточно, чтобы нагоревавшиеся и наголодавшиеся граждане СССР тут же противопоставили себя эмигранту, да к тому же ещё и вернувшемуся, да ещё и преуспевающему!
Главной же, как мне кажется, причиной гнева Ахматовой стали прочитанные АНВ стихи ненавидимого ею, особенно после «Петербургских зим», Георгия Иванова.
Здесь уместно заметить, что Лидия Владимировна объясняет присвоение Вертинским ряда текстов, прежде всего «Над розовым морем» Георгия Иванова, стремлением «познакомить своих слушателей с творчеством Георгия Иванова и других поэтов «Серебряного века». Конечно и такой мотив, вероятно, был.
Но наша литература проклятых лет знала и другие примеры. После уничтожения Григория Белых, его соавтору по «Республике ШКИД» Пантелееву неоднократно предлагали переиздание легендарной книги с тем условием, чтобы на титуле была только его фамилия, на что Алексей Иванович не пошёл, хотя эта книга могла кормить его всю жизнь.
Да, современники-литераторы относились к АНВ разно. Если М. Горький назвал его «сочинителем пошлейших песенок», то Бунин устами явно близкого ему персонажа заметит: «Гениальный человек Вертинский!». Вдова А. Н. Толстого Людмила Ильинична рассказывала мне о том же ироническом интересе мужа к АНВ. О том, как однажды при встрече, Александр Николаевич сообщил Алексею Николаевичу о приобретённом им письменном столе необыкновенной красоты с вензелем Наполеона. Толстой вдогонку ему заметил: ишь ты, письменный стол, да ещё Наполеона! Но сам АНВ пишет, что Алексей Толстой вместе с генералом А. Игнатьевым, были первыми, кто их навестил по приезде.
Булгакову, судя по «Дням Турбиных», где юнкера исполняют «Ваши пальцы пахнут ладаном» и рассказу «Псалом», АНВ был интересен. Высказывались предположения об их знакомстве, ведь они почти ровесники, учились в одной киевской гимназии.
Маяковский и Есенин Вертинского ставили высоко.
Роман Гуль, спокойно относящийся к АНВ, был, тем не менее, возмущён тем, как в Берлине на концерте АНВ вёл себя Илья Эренбург: «... мы знали, для чего сюда пришли. И Эренбург всё это, конечно, прекрасно понимал. Но сидя перед нами, вёл себя нагло, нахально, невоспитанно. После каждой вещи начинал демонстративно хохотать, так и Вертинский мог заметить это с эстрады. Такое отношение к выступлению артиста (любого) мне было противно. И я невольно вспомнил, что ведь совсем ещё недавно этот же Эренбург подражал именно Вертинскому, изо всех сила пиша “под него”, но гораздо хуже. Вот эти перлы Эренбурга:
Иль, может быть, в вечернем будуаре,
Где ровен шаг от бархатных ковров,
Придёте вы ко мне в небрежном пеньюаре,
Слегка усталая от сказок и стихов.
Расклад: Вертинский и — «настоящие поэты», спустя много лет повторился. Высоцкий и — «профессиональные поэты». Известно похлопывание Владимира Семёновича по плечу всемирно обэкраненными шестидесятниками, дескать, молодец, Володя!
Писатель Павленко лицом был вылитый генерал Власов. (Или лучше наоборот?)
Когда Маргарита крушит квартиру критика Латунского, который травил Мастера, её ярость понятна. Нельзя не припомнить при ядовитейшем описании нового писательского дома, что самому Булгакову несправедливо отказали в квартире в «прототипе» романного — вожделенном доме в Лаврушинском переулке. Но — к Маргарите, пролетающей мимо окон обыкновенного московского дома.
«Из любопытства Маргарита заглянула в одно из них. Увидела кухню. Два примуса ревели на плите, возле них стояли две женщины с ложками в руках и переругивались.
— Свет надо тушить за собой в уборной, вот что я вам скажу, Пелагея Петровна, — говорила та женщина, перед которой была кастрюля с какой-то снедью, от которой валил пар, — а то мы на выселение на вас подадим!
— Сами-то вы хороши, — отвечала другая.
— Обе вы хороши, — звучно сказала Маргарита, переваливаясь через подоконник в кухню. Обе ссорящихся повернулись на голос и замерли с грязными ложками в руках. Маргарита осторожно протянула руку между ними, повернула краны в обоих примусах и потушила их. Женщины охнули и открыли рты».
«Бездетная тридцатилетняя Маргарита была женою очень крупного специалиста, к тому же сделавшего важнейшее открытие государственного значения. Муж её был молод, красив, добр, честен и обожал свою жену. Маргарита Николаевна со своим мужем вдвоём занимали весь верх прекрасного особняка в саду в одном из переулков Арбата. <... > Маргарита Николаевна не нуждалась в деньгах. Маргарита Николаевна могла купить всё, что ей нравится. Среди знакомых её мужа попадались интересные люди. Маргарита Николаевна никогда не прикасалась к примусу. Маргарита Николаевна не знала ужасов жить в совместной квартире».
И ей обрушить свой ведьмин сарказм против несчастных обитательниц коммуналки, готовящих жалкий обед на убогой кухне? И впервые прикоснуться наманикюренными пальчиками к злосчастному примусу?
У могилы Шолохова (он похоронен в своей вёшенской усадьбе) Анатолий Софронов вдруг и зачем-то сказал мне, что это он, Софронов, придумал термин «космополиты» применить к советским писателям евреям.
Почему-то мы остались вдвоём, хотя только что у могилы была целая толпа делегации Союза писателей, приехавшей на 80-летие со дня рождения Шолохова. Был свежий майский вечер, в воздухе терпко пахло зеленью. Почему Софронов избрал меня, незнакомого, для своих откровений? Или он всем это рассказывал?
Новый, ужасный и виртуозный, оскорбительный и почти невозможный в тогдашнем литературном контексте, Катаев начался со «Святого колодца», а «Святой колодец» — с наркотических снов перед операцией, столь многозначительной в тексте. Операция же — рутинное удаление аденомы простаты.
Или тогда, в начале 60-х, то была ещё не рутина, и Валентин Петрович даже и здесь стал первым модником, обладателем новой операции, как первого в Москве американского холодильника и прочая.
Да, ещё! Я где-то написал, что Бабель одновременно желал быть и золотым пером, и советским пером, и ему это не удалось.
Так вот: это удалось Валентину Катаеву.
Пожилая преподавательница русского языка и литературы как-то в порыве откровенности призналась, что для неё одна из привлекательных сторон грядущего выхода на пенсию та, что уж более никогда ей не придётся открыть Маяковского.
При публикации в «Звезде» повести Василия Шукшина «Точки зрения» в 1972 году стояла дата 1967. Есть сообщения, что он собирался её экранизировать. «То же самое произошло и с другой идеей Шукшина — желанием экранизировать собственную сатирическую сказку "Точка зрения". Во время обсуждения этой заявки на студии имени Горького коллеги Шукшина внезапно приняли его идею в штыки. Известный режиссёр Сергей Юткевич, к примеру, заявил: "Картина в целом предстаёт настолько неутешительной, что вряд ли она принесёт много радости зрителям, даже желающим надсмеяться над своими недостатками и трудностями в наступающем юбилейном году" (приближалось 50-летие советской власти). Убийственные выводы коллег произвели на Шукшина тягостное впечатление». (Виолетта Баша // Еженедельник «Моя семья»).
«Энергичные люди» печатались в газете «Литературная Россия», если не ошибаюсь, в 1973-м, труппе БДТ Василий Макарович читал свою «сатирическую повесть для театра» в 1974-м. В иных библиографиях обе повести без всяких объяснений датируются последним годом жизни писателя.
Меня при недавнем перечитывании поразило то, чего прежде не заметил (и не встречал у других критиков): прямые пародийные переклички его сатир с «Калиной красной» и — шире — со всей «деревенской» прозой Шукшина.
Разумеется, то, что главная тема её не столько человек земли, сколько тот, что одной ногой в деревне, другой в городе, — об этом сказано давно, и, прежде всего, самим автором во многих его выступлениях; есть у него, между прочим, в неброском и не очень известном рассказе литая формула насчёт этого человека: «Эта семейная пара давно уже не смущается здесь, в большом муравейнике, освоилась. Однако прихватили они с собой не самое лучшее, нет. Обидно. Стыдно. И злость берёт» (рассказ «Петя»).
Или: «Я вижу, как вчерашняя деревенская девушка приехала сюда в город, устроилась продавщицей, и, к ужасу нашему, если она догадается ужаснуться, она прежде всего научилась кричать».
И если собственно «сельские жители» милы писателю, то гамму отрицательных эмоцией и ядовитых наблюдений вызывают они же, превращаясь в энергичных обитателей города.
В «Энергичных людях» один из вороватых персонажей Простой человек пересмеивает Егора Прокудина: «Прощайте... драгоценные мои, — говорил Простой человек, глядя на бутылки. — Красавицы мои. Как я буду без вас? Одно страдание будет, тоска зелёная... Любимые мои. Тяжело мне с вами расставаться, ох, тяжело. <... > Сердце кровью плачет, когда на них смотрю».
Сравним с «Калиной красной»: «Ох, вы мои хорошие!.. И стоят себе: прижухлись с краешку и стоят. Ну, что дождались? Зазеленели... — он ласково потрогал берёзку. — Ох, ох, нарядились-то! Ах, невестушки вы мои, нарядились. И молчат стоят».
Правда, в объяснение сентиментальности Прокудина можно напомнить, что Егор — уголовник, чья преувеличенная сентиментальность известна (на этот счёт по поводу Есенина остро отзывался Бунин, уподобляя его музу разбойничьей).
Но — снова «Энергичные люди». На этот раз вор Аристарх в театрализованной собутыльниками попойке.
— Прощай, родина, — грустно сказал Аристарх. — Берёзки милые...
Курносый всерьёз заплакал и замотал головой.
— Полянки... Простор...
Чернявый дал кулаком по столу.
— Не распускать нюни!
— Инстинкт, — сказал один пожилой с простым лицом.
Чуть позже, по мере захмеления.
— Далеко теперь наши берёзки, — сказал курносый; он уже опять готов был плакать.
— А я люблю избу! — громко и враждебно сказал человек с простым лицом. Я вырос на полатях, и они у меня до сих пор — вот где! — Он стукнул себя в грудь. — Обыкновенную русскую избу. И вы мне с вашими лифтами, с вашими холодильниками... <...>
— Деревню он любит! — тоже очень обозлился брюхатый. — Чего ж ты не едешь в свою деревню? В свою избу? (Напомним, что именно этот вопрос задали Шукшину на встрече с читателями в сибирском Академгородке. — С. Б.)
— У меня её нету.
— А-а... трепачи. Писатель есть один — всё в деревню зовёт! А сам в четырёхкомнатной квартире живёт, паршивец!
Здесь Шукшин уже прямо влезает в негаснущий тогда спор, затеянный писателями-деревенщиками о нравственном преимуществе человека земли перед человеком асфальта. Оппонирующие им критики либерально-коммунистического лагеря непременно напоминали слова Карла Маркса об «идиотизме деревенской жизни». Что же касается призывов владельца четырёхкомнатной квартиры ехать в деревню, то в рассказе «Мастер» Шукшин уже обращался к подобной фигуре. «Его даже писатель один... возил с собой в областной центр, и он там ему оборудовал кабинет... Кабинет они оба додумались подогнать под деревенскую избу. (Писатель был из деревни, тосковал по родному.)
— Во дурные деньги-то! — изумлялись односельчане, когда Сёмка рассказывал, какую они избу уделали в современном городском доме. — XVI век!
— На паркете постелили плах, обстругали их — и всё, даже не покрасили. Стол — тоже из досок сколотили, вдоль стен — лавки, в углу — лежак. На лежаке никаких матрасов, никаких одеял... лежат кошма и тулупы — и всё. Потолок паяльной лампой закоптили — вроде изба по-чёрному топится. Стены горбылём обшили.
Сельские люди только головами качали».
Здесь невольно припоминается знаменитый в те же годы анекдот про Владимира Солоухина. Встречает знакомый Солоухина, грустного-прегрустного. «— Что, Володя, такой грустный, не печатают? — Да нет, четырёхтомничек вот Бог пОслал. — С жильём проблемы? — Отчего ж, слава ГоспОду, четырёхкомнатную квартирёшку построил. — Власть преследует? — Да, нет, вот сейчас из Кремля иду, Орденок к юбилею пОвесили. — Так что ж, ты, мать-перемать, такой грустный? — НародишкО хреновато живёт».
И — к слову, ещё о пародийности у Шукшина. Дедушка в «Точке зрения» сочиняет мемуары, стиль которых пародийно воспроизводит прозу 20-х годов о Гражданской войне, прежде всего Вс. Иванова: «Тут я взял винтовку и шарахнул его. Голубые мозга свистнули на парапет и ухлюпами долго содрогались. В этот момент она вышла из комнаты и подняла свою гадючью головку, стараясь произвести обратное впечатление. Я заклацал затвором, чувствуя, что меня всего обволакивает. “Получай!” — сказал я и её тоже шарахнул. “Гук! Гук! Гук!” — разнеслось по всем комнатам».
И последний, очень для меня неожиданный пример в рассказе, который я вроде бы хорошо помнил. (Ежели было замечено кем-то прежде — прошу прощения.)
Герой одного из самых известных рассказов Шукшина «Миль пардон, мадам!» Бронька Пупков смолоду отстрелил себе на охоте два пальца. «Оба пальца—указательный и средний — принёс домой и схоронил в огороде. И даже сказал такие слова: «Дорогие мои пальчики, спите спокойно до светлого утра!».
Батюшки, да это же перепев рассказа генерала Иволгина из романа «Идиот». Иволгин по словам Лебедева утверждает, что тот якобы похоронил якобы отстреленную французом ногу на Ваганьковском и на памятнике велел выбить строку «Покойся, милый прах, до радостного утра». Шутка, как известно, отдавала немалым кощунством великого писателя: ведь Фёдор Михайлович приводил строку Карамзина с памятника собственной матери!
Вообще, проза Шукшина куда более литературна, чем может показаться.
Экономическую географию (9-й класс, 1963 год) у нас преподавала Лидия Степановна, фамилию забыл. Манерная, тощая, очень белая блондинка с пуговичными глазами и высокой причёской. Словом, похожа на подержанную худую куклу со старыми белыми волосами и старыми голубенькими глазками.
Оно обожала затевать с нами сомнительные, то есть как бы эротические разговоры. Впрочем, они были невинны, совсем не такие, как спустя сорок лет, когда школьная француженка моего младшего сына передала мне через него на прочтение сочинённый ею вполне порнографический рассказ.
Держалась Лидия Степановна с чопорной кокетливостью, но довольно легко поддавалась на провокации и выходила из себя. Как-то она уволокла парту вместе с Сандро и Кольцом, прямо к двери, чтобы легче было выталкивать их вон из класса. Как сейчас вижу заголившуюся спину Кольца, — Кольки Малкина (Господи, и его уже Царствие Небесное!), которого Лидия Степановна за шиворот выдирала из-за парты в дверь. И вышибла-таки! Сандро выскочил сам.
У меня с Лидией Степановной были особые отношения. Дело в том, что я, в отличие от подавляющего большинства одноклассников, её предмет любил. Более того, он был, наряду с английским, предметом моих успехов и гордости, тогда как по литературе я имел нетвёрдую тройку.
Дошло до того, что она стала меня вызывать лишь в тех случаях, когда вопрос ставил весь класс в тупик. И наконец мы с моим другом Ильёй, про которого именно Лидией Степановной была произнесена сакраментальная фраза «Где Петрусенко — там гадость», поставили в тупик её самоё. Она не знала про государство Суринам, а мы знали. Ибо в отличие от неё собирали марки и, когда попались марки с незнакомым названием, довольно быстро выяснили, что таково новое независимое название бывшей Голландской Гвианы в Центральной Америке.
Её крайне огорчило положение в тупике, и наконец, спустя довольно-таки долгое время, она принесла на урок тонкий журнал, не помню точное название — или тогдашнее «Новое время», или какая-то «Международная политика», со страницею, открытой на статье под названием «И Суринам тоже!», где описывались успехи суринамцев на пути освобождения от колониализма.
Моя же история с географией закончилась печально. У меня был план после окончания школы поступать непременно на географический факультет, только ещё не определилось — рисковать ли на МГУ, или ограничиться Саратовским университетом. Там требовалсь сдавать математику, и я так прилежно налёг на алгебру, что пятёрка сохранилась у меня вплоть до аттестата. Географию же я не то чтобы забросил, но со мною произошло то, что великий вождь метко назвал «Головокружением от успехов». Как ни силён я был в экономической географии, но, как-то вдруг вызванный, ответил хорошо, скорее всего очень хорошо, но без обычного блеска, за что, как торжествующе объявила Лидия Степановна: «Другому я бы поставила бы пять, но не тебе». И я получил в наказание оскорбительную четвёрку. Первую по этому предмету. Далее я не придумал ничего умнее, как вовсе перестать отвечать на уроках, и после длинного ряда пятёрок, у меня к концу года выстроился не менее длинный ряд двоек. В результате в аттестате оказалась по профильному для меня предмету унизительная тройка, с которой нечего было и думать поступать на географический.
Лидия Степановна неоднократно и сама, и с помощью моих родителей, пыталась поколебать моё упрямство, но — увы!
Потому и пошёл я на самый никчёмный в тогдашних школьных и студенческих глазах факультет — филологический.
А не закуси я тогда удила, вся моя жизнь, вероятно, сложилась бы иначе.
Но ещё несколько слов про Лидию Степановну.
Спустя годы, встречая кого-нибудь из нас, она приобрела неприятную привычку пронзительным голосом задавать вопросы. Дружка моего Илью (который где гадость), на весь трамвай спросила: «А что, Серёжа пишет?! — Он критик, Лидия Степановна! — Да, критиковать проще, чем самому писать!» — ответила педагог к удовольствию пассажиров.
Я чаще встречал её на нашем районном рынке, так называемой Пешке. Она у самого входа торговала цветами, и избежать встречи было невозможно. Я заранее съёживался, слыша её приветствие, на которое все оборачивались. «Ну что, всё критикуешь?!» — кричала она сквозь заросли гладиолусов и астр. Со временем прибавился новый вопрос: «Серёжа! Тебе не стыдно за твоего преподавателя, что он торгует на рынке?!».
Стыдно было, разумеется, ужасно, но не за то, что он (а) торговала цветами, а за её крик, пронзительный и беспощадный.
... Но и это было уже давно.
В РУССКОМ ЖАНРЕ - 33
Метафизика алкоголя
Вероятно, ни один глагол в русском языке не имеет столько синонимов, как выпить. Марк Фрейдкин в книге «Опыты» (Москва, 1994) пишет: «Словарь синонимов русского языка», изданный между прочим, Институтом русского языка Академии наук СССР, даёт к слову «выпить» 14 основных синонимов, а я даю 194», и он действительно приводит 194 синонима, многие с отсылками к художественным текстам (Гоголь, Некрасов, Булгаков и другие).
Однако поиски в этом направлении беспредельны: так, я без особого труда дополнил 194 синонима ещё пятью. Три из литературы: стукнуть (Фёдор Достоевский), вонзить (Николай Лейкин), нарушить бутылочку (Александр Островский) и один из жизни — натенькаться, и ещё, по бытовому выражению Алексея Толстого — намазаться.
Пример с бесконечным синонимическим рядом, который начало берёт от князя Владимира, очень наглядно и убедительно доказывает бесспорно уникальную, вечную и метафизически необъяснимую роль выпивки в жизни и сознании народа, населяющего территорию бывшей Российской империи, затем РСФСР, теперь России.
Русские писатели пьяницы, потому что они русские? Хорошо. А почему пьяницами были Эдгар По, Уолт Уитмен, Джек Лондон, Шелли, Верлен, О’Генри, Хемингуэй, Фитцжеральд, Фолкнер, Ремарк, Гашек, Стейнбек?.. В США даже вышла работа Альфреда Кейзина «Великий убийца. Пьянство и американские писатели». Автор пишет: «В XX веке выпивка стала не просто “проблемой на всю жизнь”, а убийцей. Она стала казаться естественным компонентом литературной жизни — с её уединённостью, творческим настроем, безумствами и неопределённым положением в обществе, где мерилом служат деньги».
А дело всё в том, что творчеству необходимо возбуждение: любовное, интеллектуальное, эстетическое, и поджечь это возбуждение как нельзя лучше дано алкоголю. (Если верить, хотя и очень анекдотическому примеру, один из первых русских писателей-фантастов Соломин (Стечкин), «ложась спать, клал себе на голову резиновый пузырь с горячей водой. Ему начинали сниться кошмары, жена будила его, и он торопливо записывал свои ужасные сны, чтобы потом использовать их как мотивы для очередной главы романа»). Допущу ещё сравнение, может быть, шокирующее, но точное. Всем мужчинам известно половое возбуждение, наступающее не в пьяном виде, но спустя какое-то (ночь, день) время после выпивки. Совершенно тот же механизм действует с творческой натурой и в отношении сочинительства. У А. Н. Толстого есть на этот счёт эпизод в романе «Сёстры», когда поэт Бессонов, выспавшись после кутежа, чувствует поэтическое возбуждение, которое называется вдохновением. Чехов признавался: «После... я всегда чувствую позыв к творчеству». Известный, ныне к сожалению покойный, актёр Малого театра С. признавался, что лучше всего, легче, вдохновеннее, играет на следующий день после крепкой выпивки.
В сибирском городе, в старину, умер богатый промышленник, владелец винокуренного завода, завещав большую сумму для раздачи бедным. Наследники исполнили волю, но основали три новых кабака, точно рассчитав, что раздаваемые с утра вдовою деньги, к ночи вернутся через кабак.
Таким же образом действовала и царская, и советская власть: и лишь однажды при Ельцине власть отказалась от водочной монополии по причинам, о которых остаётся только гадать. Густо пошёл левак. Есть, есть чего вспомнить из тех лет, каждый чем-нибудь да отравился; я, например, якобы коньяком якобы «Наполеон» в красивой бутылке (мы тогда по-советски ещё доверяли красивым заграничным упаковкам), производимом, как после выяснилось, в братской Польше, видимо, в знак исторического отмщения нам за 1795 и 1939 годы.
Ведь только что едва пережили организованный властью, неистощимой на издевательские выдумки, алкогольный голод, борьбу с пьянством, талоны на водку. Вспомним, друзья?
Две бутылки в месяц. Торговля чудила по-своему, например, продавали водку только в обмен на две пустые бутылки. И — тут же из-под полы по полуторной цене её можно было купить. Вслед за королями жизни — мясниками быстро вставали на ноги и «водочники». А спецразрешения, выдаваемые администрацией на приобретение водки для свадеб и поминок? Сам получал, когда хоронил брата в 1988 году, а после надо было продраться с этою бумажкой сквозь густую толпу в магазине на 2-й Садовой, рискуя ежесекундно получить по морде, отчего лишь слово «поминки» и спасало.
А вскоре последовала и новая карточная система.
Господи! мы ведь и это пережили, а уж старикам их досталось несколько. Моя мать всегда сопоставляла дату моего рождения с послевоенной отменой карточек: «Когда он родился, отменили карточки».
И вот, нате вам из-под кровати!
Водочные талоны были, в отличие от продуктовых, отпечатаны на бумаге с подобием водяных знаков. Печать на талон ставили в местных жилуправлениях. Мой приятель, директор главного саратовского издательства «Коммунист», где печатались талоны, ныне покойный, сам крупный специалист в алкогольном деле, пригласил меня к себе в кабинет, запер дверь, огляделся и достал из ящика стола огромный, ещё не разрезанный лист талонов, штук наверное, на сто: «Бери! — шёпотом сказал он. — Тсс... никому! — «А печать?» — «Найди верного человека в ЖЭУ — поставит, но тсс...» Через другого приятеля я вышел на бухгалтершу ЖЭУ, которая взялась проштамповать талоны за половину их. Вот было счастье!
Это всё крупные этапы, «судьбоносные», по любимому выражению одного из тех, кто эту гадость и затеял, а вертится в памяти какая-то мелочь, вроде того, как вдруг, до талонов ещё, исчезла вовсе из продажи водка, а прилавки заполонило импортное розовое очень дорогое шампанское. Помню в Москве в гастрономе, под гостиницей «Москва», толпу негодующих граждан у прилавка, где продавалось только шотландское виски, стоившее раз в тридцать дороже водки.
Цензура выкидывала тогда любое нейтральное упоминание алкоголя. Нельзя было написать «они выпили». Цензура требовала уточнить: они выпили ситро, или воды, или чаю. Мне рассказывал тогда Евгений Носов, как прицепилась цензура при переиздании к названию его классического, вошедшего в школьные хрестоматии, рассказа «Красное вино Победы». «Я им, сволочам, говорю, — басил Евгений Иванович, — что же мне «Красное ситро Победы» его назвать?»
А потом — кругом! на 180 градусов! Гуляй, ребята! Отмена любых и всяких запретов. Каждый день ошарашивал новизной, только головой успевай вертеть по сторонам.
— Водкой торгуют круглосуточно!
— Водкой торгуют в ларьках!
— Водку разливают в магазинах!
— Водка продаётся в банках, как пиво! В полиэтиленовых пакетах!..
Едва ли не самым ярким и ужасным было появление в продаже спирта, ведь долгие годы спирт в магазинах продавали лишь на Крайнем Севере. И вот он возник на прилавках, без всякой предварительной рекламы, внезапно, в красивых пузырёчках, под разными названиями и национальностями: американский, французский, бельгийский, немецкий. На аккуратных этикетках помещались рекомендательные рисуночки: как, в какой пропорции разводить спирт водою, чтобы он сделался как бы водкою. Более всего процветал спирт «Royal» с белой надписью в кроваво-красной ленте. Внизу полукругом, где на приличных напитках воспроизводят медали, расположился пяток корон, стилизованных под царские, и надписи: Париж, Вена, Москва, Лондон, Осло. A traid mark аж столетний, с 1889 года, крепость 95,5 градусов и что первосортный он и хлебный. Место же производства его — Калифорния. Цена самая щадящая. И — поехало!
Через какое-то время, когда «Рояль» уже залил не только глотки, мозги и желудки, но, кажется, сами города, улицы, дома, его запретили. Но — только в городе. На селе — крестьян не жалко? — без ограничений, разводи, ребята! Но ребята, как я наблюдал три лета подряд в довольно глухом, хоть и всего километрах в ста от Саратова, без асфальта, школы и медпункта селе, и не собирались его разводить. Они пили его чистяком, разве что закусив сорванным на грядке огурцом, а то и просто запивая колодезной водой, справедливо полагая, что в животе всё перемешается. И мешалось.
Детское новогоднее представление «Волшебная хлопушка» в фойе кукольного театра началось с того, что из дверей выбежала немолодая короткая женщина в штанах и тапочках, с нарисованными на потрёпанном лице кошачьими усами и замяукала с пропитой хрипотцой. Печальный баянист (а баянисты всегда бывают или печальные, или пьяные, или пьяные и печальные одновременно) наигрывал в микрофон «В лесу родилась ёлочка». Далее, как положено, являлись чередой Снегурочка с манерами испорченной старшеклассницы, солидный неповоротливый Дед Мороз, и, наконец, гвоздь сюжета — волшебная хлопушка, исполняющая три желания. Чтобы похитить хлопушку, в круг вынеслось действительно страшное существо — худой парень в белом одновременно словно бы невестином и покойницком полупрозрачном газовом платьице, сквозь которое просвечивали волосатые жилистые руки и ноги. Это было Зло, противостоящее Добру в лице Снегурочки и Деда Мороза — Бабка Холодина. Была Бабка с жуткого, читаемого во всех чертах и жестах её, доносящегося своим эфиром до первых рядов, перепоя. Задыхаясь, свистящим шёпотом с не вытравленными шпанскими интонациями бабка посвящала детей в свои зловещие планы: украсть Снегурочку, спрятать подарки и т. д. — по ходу действия превращаясь в других персонажей — Снегурочку, доброго Кота, и стало очевидным, что перед нами настоящий, может быть даже блестяще одарённый актёр, успевший распорядиться своим даром в компании с доброй подружкой русских даровитых людей — водочкой.
Представление стремительно шло к концу, с Холодины пулями летел пот, добрый Кот совсем осип. Когда в детской толпе мы медленно двигались к выходу, я спросил у служительницы, сколько сегодня ещё будет представлений «Хлопушки». Ещё четыре!
В буфете ресторана я разговорился с чеченцем. Это было ещё до первой чеченской войны, ещё только стали долетать сведения и слухи о Дудаеве, движении за независимость и прочем. От официанток и буфетчицы я услышал о чеченцах, месяцами зачем-то живущих в гостинице без видимых дел. Один из них, молодой, крепко, даже угарно пьющий, целыми днями околачивался у буфетной стойки. Я частенько посещал этот буфет. Кавказский человек пожелал со мной познакомиться. Мы выпили. Наконец он привязался: кем работаешь? Я не очень любил отвечать на этот вопрос, но в конце концов сказал: главным редактором журнала «Волга». Секунду он молча смотрел на меня, затем бешено закричал: «Смеёшься надо мной, думаешь, нерусский, так не понимает?! Дурак я, думаешь?». Ещё секунда и, казалось, он бросится на меня. Тут вмешалась буфетчица Татьяна, подтверждая мною сказанное. Он неохотно остывал, и уже спокойно, но угрюмо сказал: «Не может быть!».
Не могло по его разумению быть, чтобы человек, занимающий такую должность, стоял бы как простой работяга в буфете, тогда как ему положено сидеть в отдельном кабинете ресторана, благосклонно угощаясь на чей-то счёт.
Мне предстояла встреча с вдовой А.Н. Толстого Людмилой Ильиничной. Надо было бы накануне удержаться, но я остановился у крепко пьющих московских приятелей. От них звонил вечером Л. И. договориться о времени встречи. В назначенный час позвонил в дверь двухэтажного дома на улице Алексея Толстого (не знаю, доводилось ли когда другой вдове жить на улице имени покойного мужа?). Сумасшедший топот ног по лестнице со второго этажа, хотя «графине», как иронически именовали её, было уже за семьдесят. В недолгое время, после каких-то слов, она подвела меня к обширному овальному столу, где уж стоял армянский коньяки грузинское белое, кажется, «Цинандали» и предложила налить. Я начал было отказываться. «Что Вы, Вам же необходимо!» — решительно сказала советская графиня и взялась за бутылку. И уже, когда выпили — я коньяк, она вино, — обронила: «Я же разговаривала вчера с вами...».
В послевоенные годы в России (за, вероятно, исключением Чувашии, где пиво — национальный продукт), практически была утрачена культура пивоварения. Особенно в провинции. В Москве и Ленинграде ещё производились относительно приличные сорта, да и главное советское пиво — «Жигулёвское» там было повыше качеством. Сорт же этот родился до революции: в городе Самаре австрийский дворянин Альфред фон Вакано построил завод, выбрав место для него из-за особой воды ключей, бьющих из известняков Жигулёвских гор. Всего же советские сорта пива можно было пересчитать по пальцам: кроме «Жигулёвского» было чуть более крепкое «Московское», и тёмное «Бархатное». В Москве производилось вожделенное «Двойное золотое» и «Ленинградское» в маленьких бутылочках.
Пиво в провинции производили жидкое, пены почти не дающее, да ещё и продавцы разбавляли его водой. И для создания пены якобы сыпали туда щепотку стирального порошка. Разливным пивом, так же, как и квасом, торговали или из металлических цистерн на колёсах, или из пузатых деревянных бочек, забитых деревянной же пробкой вверху; чтобы выбить её, надо было всадить остроконечный штуцер, которым заканчивался шланг, ведущий к крану. Перемена пустой бочки на новую занимала немало минут, порой сама продавщица вбивала штуцер, но обычно приглашала желающих из очереди, и тут же являлись любители, под советы, шутки и прибаутки очереди они принимались за дело. В Москве раньше, чем в провинции, с конца пятидесятых появилось пиво в металлических баллонах и пивные-автоматы. В Ленинграде было больше, чем где бы то ни было, уличных пивных киосков, с небывалым нигде более подогревом пива в зимнее время: на электроплитке постоянно стоял чайник с пивом, и желающим добавляли в кружку с холодным ещё и пива горячего. Попозже появилось и чешское пиво в кегах, похожих на алюминиевые яйца. Вообще чешское пиво в советские времена, за исключением столицы, где им постоянно торговали в Парке культуры, проходило по тому же дефицитному разряду, как чёрная икра или армянский коньяк.
В целом же по всей стране пива хронически не хватало и стандартное объявление «Пива нет» украшало прилавки. Помнится, в «Литературной газете» даже карикатура была: к земле подлетают инопланетяне, и видят во весь земной шар объявление: «Пива нет». Место торговца пивом было крайне доходным, попасть на него можно было лишь за хорошую взятку. Где бы ни продавали пиво: в столовой, в бочке на колёсах, пивной — всё становилось мужским клубом. Здесь можно было встретить и приличного старичка, осторожно сосущего из кружки, и шумную молодёжную компанию, и постоянную клиентуру, мешающую прямо в кружке пиво с водкой, производя смесь под названием ёрш — по названию рыбки небольшой, но очень нахальной и колючей, такового же рода действие производила и смесь на выпившего.
Долгие годы стоимость пива по всей территории СССР от Якутии до Грузии оставалась единой; так, «Жигулёвское» пиво в бутылке стоило 37 копеек, из которых 12 занимала цена посуды. Разливное же оно стоило 22 или 24 копейки пол-литровая кружка, которые опять-таки изготовлялись по единому пузатому стандарту.
О баночном пиве жители СССР долгое время не подозревали, лишь опять-таки в столицах его можно было наблюдать в валютных магазинах «Берёзка»; баночное пиво долгое время казалось символом буржуазной роскоши, и в кино, когда требовалось показать западную жизнь, это производили с помощью бутылочек кока-колы и баночного пива.
Теперь пива очень много, сотни сортов. Сравнительно меньше стало импортного, потому что стали производить своего в достатке. В пивных барах и кафе, на воздухе и в помещении, из бутылок и кегов, круглосуточно можно пить сколько угодно. Сбылась вековая мечта советских мужичков? Не совсем.
Пиво плохое было в СССР, и с перебоями, но, добравшись-таки до источника, уж не думали о том, сколько его пить, — сколько влезет! Теперь, когда бутылка или кружка пива стоит рублей 20—50, приходится производить рядовому труженику некие арифметические выкладки. В сравнении с водкой, которая была в советские времена в 10—15 раз дороже пива, теперь пиво подорожало очень заметно. А градус в нём, как известно, невысокий... вот и стоит господин- товарищ икс, которому второй месяц задерживают его мизерную зарплату перед рядами красивых пивных бутылок, и мучительно размышляет...
А ещё мощная пивная пропаганда пугающе овладела юными массами, о чём уже писано-переписано.
Как бы в противовес совмещению пива с водкой существовала ещё и традиция пить водку одновременно с чаем. Разницу взаимодействий точно подметил М. Горький: «... пиво быстро опьяняло людей, уже хорошо выпивших водки» (повесть «Хозяин»). «Пили чай и, одновременно, водку, отчего все не быстро, но мягко и не шумно пьянели» (там же).
Правда, есть ещё и М.Е. Салтыков-Щедрин: «С чаем надобно тоже осторожно: чашку выпей, а сверху рюмочкой прикрой. Чай мокроту накопляет, а водка разбивает» («Господа Головлёвы»).
И, как пьяный сторож, выйдя на дорогу,
Утонул в сугробе, приморозил ногу...
Песня на стихи Есенина любимая, редкое застолье обходилось без неё. А почему, собственно, сторож пьяный? Должность по замыслу и кругу обязанностей самая что ни на есть трезвая, даже и на Руси, где пьяницей почему-то должен быть сапожник: «Портной — вор, сапожник — пьяница» (пословица). Воровству портного ещё можно найти объяснение: при обмерах-размерах, кроях-раскроях может и в свою пользу сработать. А пьянству сапожника? Вероятно, при надомном труде и нерегулярном вознаграждении, более других мастеровых он склонялся к злоупотреблению спиртным. Но почему — сторож? Даже не для рифмы. Но никого из поющих это не удивляет.
Старуха-уборщица в подвальной пивной корит пьяного, стремящегося похулиганить: «Ты ведь это, ты не дома, ты ведь (ищет слово) в учреждении находишься!».
1. Мировой судья, прокурор В. М. Лопатин, впоследствии актёр МХТ под псевдонимом Михайлов, вспоминал, как был приглашён в1889 году ко Льву Николаевичу Толстому участвовать в любительском спектакле «Плоды просвещения». После морозной ночи, проведённой в дороге, путники были разочарованы, не обнаружив за обильным ужином на столе спиртного. К счастью, оказалось, что один из приехавших, осведомлённый о порядках в Ясной Поляне, предусмотрительно запасся водкой: «И вот мы, по очереди, сбегали потихоньку от глаз хозяина в переднюю и здесь, под лестницей, в уголке, согревали себя глотками водки».
2. В рассказе Чехова «У предводительши» (1885) вдова предводителя дворянства в день именин усопшего устраивает роскошный завтрак, но «на столе есть всё... кроме спиртных напитков. Любовь Петровна дала обет не держать в доме карт и спиртных напитков — двух вещей, погубивших её мужа».
Однако опытные гости под разными предлогами по очереди отлучаются в переднюю, откуда возвращаются «с маслеными глазками». Вечером же Любовь Петровна пишет петербургской подруге письмо, где с восторгом рассказывает о заведённой ею в уезде трезвости и описывает возвышенные к ней чувства гостей, один которых после завтрака заплакал, целуя ей руку, другой «от волнения» говорил так, что она не разобрала ни слова, а третьему, от волнения же, и вовсе сделалось дурно.
3. В воспоминаниях Сергея Ермолинского имеется сцена чтения «Записок покойника», устроенного Булгаковым у себя на квартире для мхатовских китов, но «Василию Ивановичу Качалову и Василию Григорьевичу Сахновскому врачи запретили пить вино, и жёны их строго за этим следили. Тогда Лена перед приходом гостей сказала мне, что в передней на книжных стеллажах поставлен графинчик, рюмки и немного закуски. Я должен был время от времени, находя предлог, зазывать в переднюю то Василия Ивановича, то Василия Григорьевича». Что Ермолинский не раз и проделал. «Влаги в графинчике поубавилось, но зато прибавилось — и заметно! — оживление за столом. Нина Николаевна Литовцева, жена Качалова, даже воскликнула: «Смотри, Вася, ты всегда говоришь, что вино за обедом необходимо, а вот сегодня не выпил ни капли, а как оживлён, даже начал читать стихи».
К последнему сюжету есть вариант, как знать, может быть, он вообще — бродячий: Анатолий Мариенгоф («Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги») вспоминает эпизод с Качаловым же, но уже у себя дома. Когда Мариенгоф с Никритиной пригласили Качаловых на раков, Литовцева предупредила, чтобы не было ни капли водки, и вот от стола с лимонадом и раками Качалов то и дело отлучается «по надобности»; хозяин, проследовав за Василием Ивановичем, наблюдает, как тот, «подойдя на цыпочках к вешалке, вынимает из бокового кармана демисезонного пальто плоскую бутылку сорокаградусной и прикладывается к ней».
«А водки, — княгиня спрашивает, — сколько ты можешь употреблять?»
«Не могу знать, — говорит, — ваше сыятельство. Я её ещё досыта никогда не пил».
«Ну, так тебе от меня положение будет три стакана в день пить; довольно это?»
«Не могу знать, ваше сыятельство, а только я три стакана всегда могу пить».
«Ну и на здоровье».
«Всегда здоров буду, ваше сыятельство».
Николай Лесков. Захудалый род
Арестованный молодой аристократ Александр Герцен получает в тюрьме наряду с домашними обедами «бутылку превосходного “Иоганнисберга”. <...> Рябенький квартальный отыскал мою бутылку и, обращаясь ко мне, просил позволения немного выпить. Досадно мне было; однако я сказал, что очень рад. Рюмки у меня не было. Изверг этот взял стакан, налил его до невозможной полноты и вылил его себе внутрь, не переводя дыхания; этот образ вливания спиртов и вин только существует у русских и поляков; я во всей Европе не видал людей, которые бы пили залпом стакан или умели хватить рюмку. Чтоб потерю этого стакана сделать ещё куда чувствительнее, рябенький квартальный, обтирая синим табачным платком губы, благодарил меня, приговаривая: “Мадера хоть куда”» (Герцен А И. Былое и думы).
Крайне наблюдательный и сам пьющий А. Н. Толстой много пьяных подробностей навёл в своих текстах, но бывало чуть- чуть и промахивался. «... лицо его... было нежно-розового цвета, какой бывает у запойно пьющих и жестоких людей».
Про жестоких не скажу, но розовый цвет лица бывает у постоянно пьющих, тогда как запойный, в долгом периоде трезвости, цветом лица порока своего не заявляет.
Улита Никитишна. Смотри, не пьёт ли?
Карп Карпыч. Опять ты всё врёшь! Кто нынче не пьёт! Улита Никитишна. То есть ты спроси, во хмелю-то он каков? Карп Карпыч. Ну, вот это дело!
Улита Никитишна. Потому другой смирный во хмелю, так это нужды нет, всё равно что непьющий.
(Островский А. Н. Не сошлись характерами)
Обычно считается, что пьянство идёт об руку с неряшеством, ленью, необязательностью, неумением сосредоточиться, что не совсем так. Конечно, быт законченного алкоголика, понятно, не слишком комфортен, но в делах крепко пьющий человек, если он ещё не вовсе распался, сохраняет во многих отношениях примерную обязательность и работоспособность. У алкоголика время строго отмерено, в эту щель между похмельем и опохмелкой (повторяю, речь идёт о труженике) надо успеть вместить самое важное на сегодня, будь то укладывание асфальта или сотворение страницы. Утверждаю, что людей умственного труда постоянная выпивка вынуждает быть собранным и в мыслях, и в форме, и, естественно, лаконичным, если угодно даже строгим, и пример тут Веничка Ерофеев и ещё много-много. Тот же Сергей Довлатов. И — Александр Александрович Блок.
Нынче сделалось дурным тоном мешать: на человека употребляющего за чопорным столом параллельно водку и пиво, косятся, а уж ежели он и вина подпустит вслед, тем более креплёного, так в глазах окружающих прочитает себе приговор: «Алкаш!».
И не так уж и нынче, а давненько: вспомним вопрос Воланда Стёпе Лиходееву в знаменитой сцене похмелья: «Однако! Я чувствую, что после водки вы пили портвейн! Помилуйте, да разве это можно делать!».
И всё же страх пред «смешиванием», видимо, уже порождение советской эпохи, не в последнюю, думаю, очередь, из-за снижения качества напитков и продуктов и из-за скоротечности их употребления. Ибо читаем: «Моментально на столе выстроились холодная смирновка во льду, английская горькая, шустовская рябиновка и портвейн Лёве № 50 рядом с бутылкой пикона» (В. Гиляровский. Москва и москвичи).
Встретились не где-нибудь, но в легендарном московском трактире Тестова, не кто-нибудь, но звезда петербургской сцены — Далматов, крупный инженер Григорович, и король репортёров Гиляровский. И требуют: «К закуске чтобы банки да подносы, а не кот наплакал». Балыки, окорока, икра нескольких сортов, поросёнок и прочее. И — вот такая алкогольная смесь. (Пикон, кстати говоря, это род ароматной эссенции, добавлялся в крепкие напитки непосредственно перед употреблением, как, скажем, тоник в джин или настой полыни в водку при приготовлении абсента.) Но и этого набора гурману-рассказчику мало и он пеняет старому официанту:
«— Кузьма, а ведь ты забыл меня.
— Никак нет-с... Извольте посмотреть.
На третьем подносе стояла в салфетке бутылка эля и три стопочки. <... > ... по рюмке сперва белой холодной смирновки со льдом, а потом её же, подкрашенной пикончиком, выпили английской под мозги и зубровки под салат оливье... <... > Выпили по стопке эля «для осадки».
А мы, далёкие и обнищавшие потомки, мы, нынешние актёры, журналисты, инженеры, конечно, не «под зернистую с крошечным расстегаем из налимьих печёнок», но, выпив всё же с аппетитом и наливая вслед пусть не эля, но тоже пивка, говорим: «для лакировки». И значит, жива великая традиция!
Задолго до Гиляровского книгу под названием «Москва и москвичи» (1842—1850) написал Михаил Загоскин, и это описание московских достопримечательностей и нравов, естественно, не обошлось и без интересующей нас темы.
Разумеется, и прежде автор русского бестселлера начала XIX века романа «Юрия Милославский» не обходил употребление алкоголя в отечестве, но выразительных страниц (впрочем, таковых у Загоскина и вовсе днём с огнём поискать) практически нет. Разве что вычитал я в его «Рославлёве» (1831), что очищенную водку называли ещё «зорной», да там же забавный патриотический протест русских помещиков в 1812 году:
«— Аминь! — закричал Ижорский. — Ну-ка, господа, за здравие царя и на гибель французам! Гей, малый! Шампанского!
— Нет, братец, — перервал Буркин,— давай наливки: мы не хотим ничего французского.
— В том-то и дело, любезный! — возразил хозяин. — Выпьем сегодня всё до капли, и чтобы к завтрему в моём доме духу не осталось французского.
— Нет, Николай Степанович, пей, кто хочет, а я не стану — душа не примет. Веришь ли Богу, мне всё французское так опротивело, что и слышать-то о нём не хочется. Разбойники!..
Дворецкий вошёл с подносом, уставленным бокалами.
— Налей ему, Парфён! — закричал хозяин. — Добро, выпей братец, в последний раз...
— Эх, любезный!.. Ну и ну, так и быть; один бокал куда ни шло. Да здравствует русский царь! Ура!.. Проклятый напиток; хуже русского кваса... За здравие русского войска!.. Подлей-ка, брат, ещё. Ура!
— Да убирайся к чёрту с рюмками! — сказал хозяин. — Подавай стаканы: скорей всё выпьем!
— И то правда! — подхватил Буркин, — пить, так пить разом, а то это скверное питьё в горле засядет. Подавай стаканы!»
И сравнения в питии русских с прочими нациями, прежде всего, разумеется, с немцами есть у Загоскина: «... умеренность редко бывает добродетелью русского человека. <... > Немцу что надобно? — бутылку пива, много две. А видели ли вы, как наши мужички пьют брагу? Иной ведь столько нальёт в себя этого хмельного питья, что весь растечёт и сделается почти прозрачным. Немец выпьет с расстановкою небольшую рюмочку шнапсу, да и довольно, а русский человек коли уже выпил один стаканчик «казённого», так подавай ему целый штоф!».
Наблюдения очевидные, да и особых красок Загоскин не нашёл (то ли дело Шиллер у Гоголя!) привожу его затем, чтобы показать, что издавна русских литераторов в поисках национального характера в сопоставлении его с иными, непременно приводило к проблеме русского алкоголя.
Забавно, что в том же монологе некоего камергера выражается надежда, на то, что «у нас так же, как и в Соединённых Штатах, простой народ станет понемногу привыкать пить вместо вина чай...» Я не готов комментировать последнее утверждение. Вероятно, даже очевидно, что американские пионеры были пристрастны к чаю и недаром толчком к войне за независимость стало так называемое бостонское чаепитие, и всё же откуда у российского камергера 40-х годов позапрошлого века убеждение в том, что в США (тогда писали САСШ) предпочитают чай виски — не ведаю.
Двоение в глазах пьющего — давнишний предмет комического в литературе. Так, в знаменитой оперетте «Летучая мышь» у пьяницы-начальника тюрьмы собеседники двоятся в глазах. В комедии А. Н. Островского «Волки и овцы» пьянчуга Мурзавецкий, собираясь объясниться в любви богатой невесте, и имея пред собою престарелую её тётку, видит двоих: «Кажется, обе тут. Так что-то в глазах застилает, мелькает что-то: то одна, то две... нет, две, две... ну, конечно, две».Объясняясь одной, то есть старухе, в ответ на её недоумение отвечает: «Анфуса Тихоновна, оставьте, я вас прошу, я не с вами». И т. д.
А вот из жизни. Приятель сына рассказывал, что за рулём, при удвоении дороги, он зажмуривал один глаз и ехал так, пока глаз не уставал, и он его зажмуривал и открывал другой.
Всё русское да русское. Но есть и нерусское.
Высокий ум.
А руки связаны.
Так начал пить мой друг.
Это японская танка по памяти. И автора не помню.
А вот классик корейской поэзии XVI века Чон Чхоль в переводе Анны Ахматовой.
Я оглянуться не успел,
Как миновали годы.
А много ль дел я совершил,
Разгулу предаваясь?
Да никаких! Так должен я
Гулякой быть до смерти.
В РУССКОМ ЖАНРЕ - 34
Я всё ещё здесь хожу...
Тот, кто не родился и не живёт постоянно на берегу великой реки, не может вообразить, что сознание правобережного жителя, очутившегося на левом берегу (или наоборот) несколько кособочится, словно бы часовая стрелка двинулась в обратную сторону. Вот я родился в правобережном Саратове, много лет живу на Набережной, и, попадая, скажем, даже в Энгельс, на набережной не сразу могу привыкнуть, что Волга течёт не слева направо, а справа налево.
Кстати, многие ли знают, что все крупные правобережные города по Волге носят названия мужского рода, а левобережные — женского?
Правый берег: Рыбинск, Ярославль, Нижний Новгород, Симбирск, Хвалынск, Вольск, Саратов, Камышин, Царицын. Левый: Тверь, Кострома, Казань, Самара, Астрахань. Конечно, есть исключения, скажем, Кинешма на правом берегу. Но все крупные города точно соответствуют правилу.
Так что переименование (дважды!) Царицына, выражаясь современным языком, было гендерно законно, а с переименованием Самары в Куйбышев, Твери в Калинин, или слободы Покровской в Энгельс, произошла словно бы топонимическая перемена пола.
После вчерашнего снега и таяния подморозило и сейчас гололёд. Весь длинный Троицкий собор в освещённых окнах. Много нищих, алкашей и цыганок с кульками детей. Одна нищенка приговаривает: «Всё приму, Господь сегодня всё примет», — и, поднеся подаяние близко к глазам, опускает куски в высокий мешок, а денежку прячет под подол в карман. Слева в ограде очередь у голубого окошечка, где две женщины в одинаковых очках продают свечи.
В нижнем приделе не протолкнуться, над головами танцуют незажженные ещё палочки свечей. Из тёмной ограды пахнет свежими дровами, берёзовые, они навалены горой. Зарешеченные окна храма запотели, как в бане, и движущиеся цветные силуэты за ними таинственны. За собором, напротив музея прямо на снегу сидит бабка с маленьким личном и кричит проходящему рыбаку с рюкзаком и пешней: «Куда идёшь — сегодня рыба не ловится!»
За Волгой заря — из-за синих в темноте туч. Нежно-багровые просветы, а над ними светлая холодно-палевая прорезь. По мосту движутся маленькие светящиеся троллейбусы
7 января 1972 года, Рождество
В заснеженном дворе, среди белых стен и заборов стояла аккуратная с сухонькой старушечьей мордой собачонка и кашляла. Было тихо и бело, и звуки эти бесследно проносились по пустому двору, подтверждая тишину и первый день снега.
Острова повыше Саратова — Дубовая Грива. Рёв катеров, цветные пятна палаток и домиков, музыка, дымки костров.
Сторожа — Коля, лошадино-челюстный, лысый, вялый, фиолетовый от водки и загара, и Лёша — деревянно-мускулистый, в татуировках, со зверовато-весёлым лицом. Ему лет тридцать пять, десять лет сидел, как осторожно сообщил Коля, за «мохнатый сейф». Освободившись, стал жить с женщиной, соблазнил её 17-летнюю дочь, женился, так и живут втроём. Хрупкая детского облика блондиночка странно выглядит рядом с ним. Кроме жены и тёщи живёт ещё с двумя женщинами на базе. Играет на аккордеоне, строит домик, поёт тюремные песни, шугает своих баб.
Два часа (с двенадцати до двух) наблюдал праздник кришнаитов у консерватории. В начало улицы они вкатили колесницу, разукрашенную перильцами и гирляндами, медными луковками по углам, с куполом, затянутым материей. Когда установили колесницу, купол стал медленно вырастать, словно внутри его находился воздушный шар.
Их было человек пятнадцать, потом подвозили они коробки на «тойоте»-фургоне (за рулём кришнаит в сари). Стрижены наголо, только на затылке заплетённая косичка.
Кришнаиты торговали литературой и какими-то свечечками и палочками для возжигания. Беседы разворачивались в основном вокруг одного, видимо, главного пропагандиста, усатого и скуластого. Проповедовал он непринуждённо, просто, но однообразно: это — религия всех религий, она допускает и другие, но она — основа основ, требует воздержания от мясной пищи, то есть трупоядения, от алкоголя, курения и неупорядоченного секса. Близко к нему стояли пожилые женщины, явно увлечённые речью. Время от времени придвигались и полемисты. Старика в военных штанах, крикнувшего «Работать надо, а не дурью маяться!», старухи стали гнать, он в ответ крикнул, что он настоящий коммунист, и ушёл. Один подвыпивший лось лет сорока долго допытывался: «В свои ряды вербуете?» — и, наконец, удалился, по пути схватив схватив за грудь страшноватую девицу и крикнув при этом «Вот моя вера!» Какая-то бабка, хромая, пыталась громко острить по поводу вегетарианства, что оно у нас подневольное, в том смысле, что колбасы не купишь, но отклика не получила. Наконец кришнаиты стали в кружок, забил их тамтам, они стали петь, и в пляску постепенно вовлекались окружающие — и старые, и девушки и парни. Запомнился бледный полуюноша-полумальчик, с редкими жёсткими волосками на мертвенном лице. Он купил у кришнаитов книгу и осторожно в неё заглянул. В это время у храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» зазвонили колокола (за неимением колокольни, они водружены на крыше служебной пристройки, виден был близко звонарь, а чуть позже врубили музыку на проклятом музыкальном фонтане, возведение которого напротив консерватории некогда вызвало «протесты общественности». Всё это одновременно: кришнаитский барабан, колокола и что-то вроде Майкла Джексона из динамиков фонтана.
Поодаль стоял милицейский патруль с дубинками и один милицейский автомобиль. Но всё было пристойно, и они не приближались. Зато телевидение лезло и на колесницу, откуда их попросили кришнаиты, украшавшие свою повозку золочёными как бы коронами, гирляндами роз, какими-то цилиндриками, белыми, золотыми, красными. Когда водрузили нечто вроде опахала на шесте, несколько девиц в миниюбках стали фотографироваться на фоне действа.
Я бы сказал, вялое любопытство царило в толпе. Синее небо, жара, фонтан, подошёл пьяный с боксёром-сукой, на которую бросилась кошка, до тех пор спящая в консерваторской тени, и собака испугалась: глаза маленькой дымчатой кошки горели страшной злобой.
Чем завершались бдения не знаю, ушёл. Все кришнаиты были лицами славяне.
8 августа 1992
Шёл пешком из 1-й советской больницы с перевязки, прошёл весь центр города, а по-старому так и весь город. Почему-то очень коротко получилось, словно бы летел, а не шёл, хотя не спешил, и не к цели. Пять градусов тепла, зима всё задерживается, сыро, всё в мокрых листьях, и всё глухо, легко, вне времени, и — дома, дома!
Что со мною делается с возрастом и осенью? Если раньше когда-то я любил бродить улицами и фантазировать, глядя на окна, силуэты, слыша и нюхая, то нынче я словно бы читаю, даже впитываю, пью подряд городской пейзаж, как текучее непрекращающееся целое.
Это — давно, а сегодня ещё острее, может быть, после запаха больницы, нейрохирургического отделения, больных в коридорах. Как хорош старый Саратов в квартальчиках на Пушкинской (бывшая Малая Кострижная), Шевченко (бывшая Скучная), Яблочкова (бывшая Малая Казачья), Большой Казачьей, и то, что перекрестья дворов, брандмауэров, пустых палисадников, голых ветвей, сырых крылечек, ставень, наличников, бочек, труб, проводов, лавочек, корыт, ступеней, лестниц, железных дверок, кованых крючков и задвижек, водосточных желобов, ржавчины, яркой красноты истлевшего кирпича, перламутра грязных стёкол, желтизны листьев, серости старого дерева, черноты мокрой земли, голубизны белья на верёвках, разноцветности тряпок и одежд, — всё это родное то и дело заслоняется, пересекается, отфонивается нависающими силикатно-кирпичными громадами, делает родное ещё роднёй.
А из людей, что-то пробудивших в памяти в эту дорогу в одиннадцатом часу утра 4 ноября 1992 года, я встретил единственного.
Высокий, сухой старик в военном плаще, шляпе с маленькими полями. Он меня в лицо знать никак не должен, поэтому меня удивило то, что и он в меня вгляделся. Или видел меня по ТВ. Или профессиональная привычка. Хотя по первой специальности он фельдшер, чего уж там. Правда, когда я его наблюдал, был он уже не фельдшер, а генерал-майор безопасности, начальник УКГБ по Саратовской области. Васькин Василий Тимофеевич.
Имя любого начальника КГБ произносилось негромко. Как и возглавляемого им учреждения.
При всей всеми признаваемой независимости отцовского нрава и некоторой левизне убеждений, были области, ступить в которые он, как и всякий член партии, полагал безумием. Однажды он получил по почте письмо оттуда со всякими нехорошими словами в адрес КПСС. Отец прямиком отправился в обком, к первому секретарю, и через пять минут был принят и письмецо передал. Препарируя сейчас тот случай, отчётливо выделяю следующие моменты.
1. Письмо и факт его получения были не такой уж редкостью. Какое-нибудь НТС брало в руки справочник того или другого творческого союза с домашними адресами членов и рассылало некие обращения. Отцу несомненно польстило, когда он прочёл своё имя-отчество-фамилию на антисоветском письме, но, конечно, стало и страшно.
2. Времена были патриархальные, тогда первый секретарь обкома знал в лицо каждого писателя и художника в городе и всегда готов был принять. С конца 60-х такого уже не наблюдалось. Помню, шёл с группой коллег с какого-то собрания в Саратовском отделении СП, которое располагалось неподалёку от обкома, и нам встретился тогдашний персек А. Хомяков, который, прервав свой маршрут, направился к нам и, кивнув остальным, протянул руку мне, и тут я увидел густо окружившие меня злобно-завистливые взгляды товарищей по перу. А просто Хомяков из этой группы совписцев знал в лицо только меня, как главного редактора «Волги».
3. Побежал отец в обком не только, а может быть, и не столько из страха, сколько из дисциплины, а также простого знания действительности: в те годы перлюстрировалась вся почта, получаемая из-за рубежа, даже письмо пионерки из провинции Хайнань саратовской подруге с предложением обменяться портретами вождей и отрядным опытом. Помню, по беспечности, завязал уже куда в более поздние (середина 70-х) года знакомство с француженкой (купил у неё с рук билет в «Таганку»). Проводил до общежития, никаких, упаси бог, поцелуйчиков, но адресами обменялись, ибо возникла у меня корыстная и тайная цель попросить прислать мне из Парижа изданный там сборник стихов и песен кумира моего Александра Вертинского, а повод был тот, что француженка моя, Анна Булодон, была начинающей слависткой и писала диплом по нашей деревенской прозе. С тех пор у меня нет книг Фёдора Абрамова, Евгения Носова, Бориса Можаева и других, ибо послал я на адрес общежития МГУ увесистую посылку, и принялся с нетерпением ждать ответа. Из Москвы он пришёл скоро, в нём была благодарность за книги и неуверенное обещание, вернувшись во Францию, поискать книгу моего любимого Вертинского. Спустя недолгий или долгий срок я получил из Франции письмо, никак не могу даже примерно вспомнить, что в нём Анна писала, но очень хорошо помню, что конверт был явно вскрыт и грубо заклеен. А спустя ещё время, куратор журнала «Волга» из КГБ вдруг спросил меня: «А с Францией больше не переписываешься?». Это у них стиль такой был — пугать: среди какого-нибудь пустяшного разговора вдруг пустить своего серного дыму, показать своё всеохватное о тебе и твоих тайнишках и страстишках знание. И в том, что отец направился с антисоветским посланием в обком, хотя прекрасно знал, что положено бежать в приёмную КГБ на Вольской улице, была пусть своеобразная, но фронда — миновать Ведомство.
Но — к Васькину. Тогда в городе регулярно проводились встречи-беседы с деятелями культуры, где помимо будничной идейно-партийной обработки, бывали и «особые», как подчёркивалось, лекции. Например, по международному положению, их читал главный обкомовский международник, горький пьяница и тупица, из уст которого я своими ушами слышал ответ на чей-то робкий вопрос по поводу ввода войск в Афганистан: «Ничего, мир иногда должен вздрогнуть» (вряд ли бы он позволил себе такую отсебятину, такова стало быть была инструкция для «особых» лекций). Были ещё для тех же деятелей «семинары» при горкоме, на которых — честное слово! — поили водкой, но это отдельная песня.
Встречались с деятелями культуры и работники госбезопасности.
Однажды, в начале 60-х годов пришёл отец домой выпивши, что бывало с ним крайне редко, а точнее после писательских и партийных собраний, был агрессивно-возбуждён, что опять-таки бывало редко, и, призвав меня, потребовал, чтобы я никогда и нигде не болтал, не распускал язык, а главное, никогда никому не давал слушать наши магнитофонные записи и не рассказывал, что у нас записано на магнитофоне. А что у нас было записано на магнитофоне?
Магнитофон был тогда довольно редкой игрушкой, и портативный наш — размером и весом со средний чемодан рижский «Spalis» — так и вовсе. Записано же на нём на толстой плёнке, об которую резались пальцы, было моим старшим братом, радиолюбителем, шестидесятником и пьяницей, несколько получасовых, что казалось чудом, размером с десертную тарелку, кассет: Вертинского, Петра Лещенко, Морфесси, Утёсова, Сокольского, Аллы Баяновой, Алёши Дмитриевича, а также приятной, сладковатой зарубежной эстрады 50-х годов, всяких опавших листьев, бесаме мучо, сэси бон и прочего.
И вот этого-то Васькина, толковавшего за — как тогда утверждали знающие люди — самую высокую в области зарплату притихшим от доверия писателям, я встретил сегодня. Его острые глазки так же внимательно взглянули на меня из-под кустистых бровей, как и в тот вечер середины 70-х, когда и я приобщился к доверенной аудитории писателей и работников журнала «Волга», и уже не в постресторанном пересказе папаши, но собственными ушами слушал о раскрытии в городе работниками госбезопасности группы, члены которой занимались антисоветской пропагандой, для чего слушали и записывали на магнитофон «голоса», перефотографировали книги и журналы враждебного содержания, а также вечерами на квартире — клянусь, именно так и сказал: «при погашенном свете» читали стихи Марины Цветаевой и Пастернака (ударение по последнем слоге, и с мягким знаком и «е» вместе «э» — Пасьтернака), и «нередко эти, с позволения сказать, «чтения» заканчивались (гадливое выражение на фельдшерском лице) оргиями».
Разумеется, провинциальная культура, литература, были в большей степенью задавлены советской властью, более несвободны, чем столичные. Местные деятели не позволяли себе поведения а ля Евтушенко или Любимов. И всё же...
Тогда же, в начале 70-х, в Саратове была «обезврежена» группа неких интеллигентов, про которую упомянул генерал-фельдшер. Чтобы не было политики в чистом виде, им ещё шили распространение порнографии. В областной партийной газете появилась статья «У позорного столба», у героев которой прошли обыски, начались умеренные репрессии, скажем, доцентов переводили в лаборанты, а афиши концертов пианиста Анатолия Катца заклеили объявлениями типа кина вам не будет. Неизвестно, чем бы это закончилось, если бы одна из фигуранток, врач, после обыска не повесилась.
А в те времена наказание за любой идеологический крен с одной стороны, требовало, как нынче выражаются, симметричного, только не ответа, а наказания. Таким образом осуществлялось равновесие между либералами и государственниками, западниками и русофилами. Величайшим мастером по части этого равновесия был Александр Чаковский и его «Литературная газета». Но у самих представителей левого и правого уклонов такая политика одобрения не имела. Все были недовольны и утверждали: западники-либералы, что наверху сочувствуют мракобесам-черносотенцам, а государственники-русофилы, что пресса, с попущения верхов, сплошь захвачена сионистами-русофобами.
И тут органам, а теперь уже больше обкому помог журнал «Волга». В другое время на статьи, которые стали предметом осуждения для баланса с саратовскими «сионистами-западниками» внимания не обратили бы.
Две статьи, которые вызвали беспокойство обкома (конечно, с подачи ЦК, ибо в обкоме такую крамолу не обнаруживали). Одна — саратовского не то доцента, не то профессора пединститута, никому не известной верной ученицы Валерия Друзина что-то о национальном характере в литературе — точно не помню, но, с точки зрения 1949 года, в статье всё было в порядке, обличался космополитизм, воспевались «истоки» и «корни». Вторая — всем известного Михаила Лобанова под названием, кажется, «Стрежень» — о романе Анатолия Иванова «Тени исчезают в полдень», где про одного из персонажей, кулака, было сказано, что он представляет собою опять-таки что-то стрежневое, истоки, корни и т. п. Стрежнем вообще-то называется центральная глубокая и судоходная часть русла, давно вытесненная немецким фарватером. Но критикам патриотического лагеря это слово полюбилось, быть может, они путали его с предельно созвучным словом стержень.
Так вот, как тогда было принято, обком собрал «творческий актив» города на проработку. В здание ТЮЗа стеклись немногочисленные писатели, более многочисленные художники, три-четыре местных композитора, режиссёры, множество актёров, музыкантов, а также киномехаников, завклубами и прочих.
Доклад делал, кажется, секретарь обкома по идеологии, или нет, всего лишь зав. отделом культуры. Это означало тихий задний ход, снижение идеологического градуса мероприятия. Он объявил, что провинившихся не станут уж слишком строго наказывать, а будут воспитывать: «Мы, — сказал он, — будем бороться с катцами за самих катцев». (Да, вспомнил, одним из обвинений пианисту было то, что он исполнял сочинения Шёнберга). Затем по бумажкам, розданным в обкоме, выступали заслуженные артисты и киномеханик, председатель Союза художников и популярный поэт-песенник. В конце предполагалось последнее слово «подсудимых», но, кроме главного редактора журнала «Волга» Н. Е. Шундика, желающих не нашлось. По всем канонам, он должен был покаяться в ошибках, в основном их признать, для приличия с чем-то поспорить, и обещать, что впредь... Вместо этого Николай Елисеевич какое-то время покачался на трибуне, заметно наливаясь краской и яростью. Наконец, дозрев, и, оборотясь к президиуму, закричал: «Американизма не допустим! Не будет в журнале американизма!» — и спрыгнул в зал.
За трибуну вновь встал завотделом культуры обкома, который нудно начал напоминать тезисы своего доклада.
Тогда Шундик, снова запрыгнул на сцену, отодвинул зава и прокричал в микрофон: «А я повторяю: в нашем журнале американизма не дождётесь!».
Создавалась странная ситуация: патриотически настроенный редактор протестовал против американизма, который, получалось, пыталось навязать во вверенном ему журнале саратовское партийное руководство!
И хоть зав ещё бубнил что-то и народная артистка в конце звонким голосом прочитала заготовленную резолюцию, эффект был смазан.
Разумеется, Шундик не повёл бы себя так, если бы не чувствовал за собой и политикой «Волги» высокой московской подцержки. И всё же для откровенного, к тому же публичного наезда на обком, требовалась изрядная смелость.
А главное, добавлю, он преподал собравшимся в ТЮЗе своеобразный пример результативности демагогии, когда вместо многих тусклых слов в ход идёт одно, но очень громкое слово, от которого можно и поёжиться.
На днях вечером жена гуляла во дворе с котом. Он у нас умница, с ним можно ходить как с собакой, не убежит. Остановился у машины.
— Ну что, опять на колёса нальёшь? — спросила его жена.
— Да, нет, я друга поджидаю, — воскликнул из тени дома незамеченный женой мужчина.
Жена, всё ещё не врубившись в недоразумение, продолжает беседу с котом:
— Давай, дуй скорее, а то здесь собак много.
— Каких собак? — уже кричит мужчина. — Что вы ко мне привязались? Чего пугаете?
— Я не с вами, а с котом разговариваю, — объясняет наконец жена.
— А где он?
Жизнь продолжается.
В РУССКОМ ЖАНРЕ - 35
Когда я думаю о тех близких, кто ушёл, почему-то принимаюсь прикидывать, о чём, из появившегося на свет за время их отсутствия, я хотел бы, чтобы они узнали. Прежде всего — компьютер, мобильник и т. д. Но все мои воображаемые беседы с покойными предполагают знакомство лишь с новыми предметами, — но не человеческими отношениями, не новыми нравами или идеями. Про них даже и не вспоминается, словно бы иностранцу из патриотизма не станешь демонстрировать драку или помойку.
В детстве, когда телевизоров ещё не было, а в кино ходили редко, одним из любимых вечерних развлечений были диафильмы. Вся семья усаживалась у края стола, на который ставился хранящийся в специальном чёрном деревянном чемоданчике драгоценный, тяжёлый, тоже чёрный диаскоп, с чёрными же полукруглыми железными корытцами для рулонов плёнки, чёрной же ручкой для перевода кадров, и — главная тайна — опять же чёрным, вывинчивающимся туда-сюда объективом. Обычно управлял диаскопом старший брат, многоопытный и вообще технический человек. Гаснул свет, и в ослепительно вспыхнувшем луче сразу начинали клубиться невесомые живые пылинки.
Пока я не умел читать, с жадностью и нетерпением слушал сопроводительный текст, который обычно читала мама.
Что смотрели? Любимые мультфильмы «Халиф-аист», «Братья Лю», игровые — «Первоклассница», «Чапаев», «Детство» и «В людях» по Горькому.
Экрана в виде простыни не вешали, а показывали на белёной стене, я помню трещины на штукатурке, не замечаемые днём и странно оживающие в волшебном свете диаскопа.
Плёнки хранились в круглых, сперва жестяных, затем всё чаще пластмассовых коробочках с наклейками. Не могу по этому случаю не припомнить, что все изделия из пластмассы ценились тогда гораздо выше металлических, и их было немного: голубая коробка для ниток у мамы, фляжка для ружейного масла у отца, авторучка у брата.
Большой стационарный диаскоп кроме нас, был ещё у моего одноклассника Шурика Бородина, и каждый год на день его рождения, после угощенья, нас усаживали смотреть один и тот же, в трёх частях фильм «Ленин в Октябре». Управлял диаскопом и читал самый старший из гостей, долговязый Володя, тогда, вероятно, семи-восьмиклассник, и каждый раз я с волнением ждал, когда он подойдёт к моменту, когда Владимир Ильич, обличая кого-то из своих противников, кажется, Зиновьева с Каменевым, обзовёт их «проститутками» — слово в доме, а не на улице, совершенно немыслимое, и Володя каждый раз удивлялся: «Смотри-ка — ругается!».
А вот маленькие, ручные диаскопы, тоже жестяные, выкрашенные чёрным, где надо было смотреть в окуляр, подставляя противоположный его бок с матовым стёклышком на солнце или на лампу, такие диаскопы были у многих.
Сейчас диаскоп умиляет своё патриархальностью, но, по существу, он был первым шагом к отчуждению от книги, к которому привели его потомки — телевизор и компьютер.
В недавно опубликованном письме от 23 июня 1922 года Вс. Иванов жалуется А.Н. Толстому, проживающему в пивном и для иностранцев дешёвом Берлине: «Я очень люблю пиво, а стоит оно 2 мил [лиона] бутылка, а за лист плотят 50 мил [лионов] ...». Стало быть, купить он мог за авторский лист 25 бутылок.
Я, естественно, пересчитал на сегодня. Я, правда, не знаю точно, сколько сейчас платят за лист — книги, кажется, вообще перестали оплачиваться полистно, а в журналах, судя потому, что за текст в поллиста я получаю полторы-две тысячи, можно определить тысяч в пять максимум. Я не знаю, какое пиво в 1922 году пил в Петрограде Иванов и сколько было тогда сортов, но на сегодня возьму среднее, не самое дешёвое и не самое дорогое, в 25 рублей бутылка. Стало быть, за авторский лист я могу купить 200 бутылок!
Но в годы «застоя», когда я получал за лист 300 рублей, пиво стоило 37 копеек бутылка, стало быть, я мог купить за лист 750 бутылок!..
Зимой 1968-го или 1969 года мы были в Москве проездом в Ленинград на так называемую называемую «музейную практику»; в то время филологов и историков в зимние каникулы посылали в Москву и Питер. Мы жили в общежитиях МГУ и ЛГУ и ходили — по крайней мере, должны были ходить в Ленинку, Щедринку, ИМЛИ, Пушкинский дом и т. д. Скажу сразу, что долг выполнили не все, а мы, то есть я и мой тогдашний дружок В. В. посещали в столицах совсем иные места. Впрочем, однажды сумели попасть в БДТ на «Мещан», а пропились к тому времени так, что, купив в буфете (белая лепнина в позолоте, зеркальные окна) одну булочку на двоих, ели её в сортире, чтобы была возможность запить водою из-под крана. Так вот, будучи проездом в Москве, и ещё с деньгами, мы отправились не куда-нибудь, а в ресторан «Прага», где, в частности, к запечённой осетрине по-московски грамотно попытались заказать белого вина. Официант сказал, что спросит, кажется, осталась «Анапа». Мы оскорбились и отказались. Лишь спустя годы я узнал, что «Анапою» назывался марочный рислинг, а не забулдыжная «Анна Павловна» ценою в рубль и семь копеек, про которую мы подумали, решив, что официант распознал в нас провинциалов и насмеялся.Ушло из обихода — «запечатанный» про посуду, прежде всего про бутылку водки. Вспомнил два примера, хотя, конечно, их множество. «... вытащил из-под кровати из чемодана запечатанную поллитровку...» (М Булгаков. Один из вариантов к «Мастеру и Маргарите» — «Великий Канцлер»).
«Тебе что, поллитру? У меня запечатанная есть», — говорит нехорошая тётка Алевтина в кинофильме «Дело было в Пенькове». Первый пример — довоенный, второй — послевоенный, начала 50-х. Почему же уже в 60-е «запечатанная» бутылка исчезла из обихода? А потому, что водку перестали запечатывать, перестали заливать горлышко поверх картонной затычки сургучом — белым или красным, и тискать на нём заводской знак. Её придумали закрывать алюминиевой шапочкой, для открывания которой был сделан язычок, точь-в-точь козырёк у кепки, но уже в начале 70-х какая-то сволочь в Госплане додумалась для экономии, а может быть, заодно и в целях борьбы с пьянством, ликвидировать язычок, отчего бутылки мгновенно были прозваны бескозырками, а открывание превратилось в проблему, нередко зубную.
К двадцати пяти годам мир сузился до моих знаний о нём.
Декабрь. Мороз. Весь город — ватный. Низкое снежное небо спускает редкие медленные снежинки — каждая сама по себе.
На Воскресенском кладбище тихо и глухо. Весь шум Новой дороги исчез сразу, хоть она в двух шагах, за забором. Глядят портреты покойников. Разное чувство вызывают могилы. Почему-то больше всего действуют на воображение могилы молодых людей двадцатых годов. Почему? Летние захоронения. Лена Жилковская, 12 мая 1926 года, 17 лет. Появляется тот неуловимый и от этого особенно полный образ, который невозможно выразить прозой: солнечный день, город с утра в слабой мгле с запахом озона, юная покойница, цветы, на кладбище поют птицы, перелетая по-некрасовски с куста на куст...
Неприятное чувство от могил ровесников, но ещё более тяжёлое от детских могил. Если первое — просто страх смерти, то второе — многозначное, причём есть в нём и нечто светлое, а ощущать его страшно. Чисто познавательный интерес вызывают большие памятники духовенству, генералам, евреям-врачам, жёнам тузов.
Записи 1972 года
Некогда — а почему-то в моих воспоминаниях это «некогда» почти всегда старшие классы или первые курсы? — попал нам в руки сборник задач по уголовному праву и надолго сделался излюбленным чтением.
Нет, мы вовсе не смаковали примеры преступлений, но то, как были написаны задачи, выдавало, по нашему мнению, недюжинное чувство юмора его составителей. До сих пор помню наизусть: «Кинорежиссёр Даварет катался в городе Богородске на мотоцикле. Лошадь, управляемая членом сельхозартели “Красный пахарь” Козелковым, испугавшись мотоцикла, понесла и сбила с ног несовершеннолетнюю Клаву Верёвкину».
Мы задыхались от смеха, воображая кинорежиссёра Даварета, который зачем-то катался на мотоцикле в городе Богородске, чем погубил несовершеннолетнюю Клаву Верёвкину. Спустя годы я прибрёл-таки, правда, уже иных лет издания, задачники по уголовному праву и уголовному процессу.
«Пенсионер Лаевский обратился в милицию с письменной жалобой на электромонтёра Католикова... <...> Католиков дважды угрожал ему убийством, заявив в первый раз, что он “переделает ему голову на рукомойник”, а затем угрожал ему «помочь не дожить до первого полёта на Луну». Кроме того, Католиков угрожал соблазнить племянницу Лаевского, за которой ухаживает, заявляя, что ей пора иметь детей, которые должны быть похожи не на дядю, а на него, Католикова».
«В районе было совершено изнасилование. Подозрение пало на Ситника, который был арестован и под конвоем доставлен к следователю Ларину для допроса. Ситник отрицал своё участие в преступлении. Тогда Ларин обратился к милиционеру со словами: “Выведите его и расстреляйте там же, где вчера расстреливали”, Ситник испугался и дал следователю показания о том, что изнасилование совершил он».
Читая это, хочется быть Гашеком.
Был у меня дядя по матери, ленинградский художник Франц Заборовский, в свою очередь по матери, моей бабушке, поляк. Был Франц человеком очень честным, вспыльчивым, вздорным, нетерпеливым и много пьющим.
Он хорошо начинал. После Академии художеств, которую он окончил вскоре после войны, Франц входил в силу как художник-монументалист, расписывал такие престижные здания, как один из павильонов ВДНХ («Рыболовство»), помпезный железнодорожный вокзал в восстанавливающемся Сталинграде и другие. Его главною темой были море, Волга, моряки, рыбаки, лодки, суда. Он и сам был, что называется, заядлым рыбаком, но, увы, его сверхживой темперамент не позволял ему даже и здесь добиться хороших результатов. При отсутствии клёва он тут же бросал место, переходил на другое, третье и т. д.
По его нраву и пристрастию к напиткам с ним вечно приключались неприятные истории.
То, возвращаясь домой, естественно подшофе, Франц не желает обходить группу молодёжи, стоящую на углу проспектов по-тогдашнему Грибоедова и Майорова, то есть Екатерининского и Вознесенского. Тротуары там узенькие, и большому грузному Францу пройти тесно. Он пихает молодёжь и спрашивает: «Зачем вы, стиляги, здесь торчите?» Рассказ об этом и других происшествиях он заканчивал стереотипно: «Очнулся я, конечно, в больнице».
То в знаменитой «Щели» — крохотной распивочной в гостинице «Астория», он за выпивкой чуть не затеет драку с толстеньким дядькой, обвинив его в полном непонимании музыки, пока кто-то не сообщит ему: «Это Василий Павлович Соловьёв-Седой».
Я и сам бывал свидетелем его задора.
Он приехал в Саратов. После обеда мы отправились на «трамвайчике» на Зелёный. «Трамвайчиками» назывались тогда почти исчезнувшие сейчас «Москвичи» с наклонной надстройкой на носу, на которой блестела золотом пятиконечная латунная звезда. По возвращении в Саратов у трапа стали вторично проверять билеты, которые Франц успел выбросить за борт. Рассвирепев, он заорал проверяющей женщине-матросу: «В Ленинграде такого нет, почему у вас тут такая дешёвка?» — «Это я дешёвка?!» — на каковой крик подскочили коллеги, и Франца потащили в милицейский пикет.
Другой раз, уже в Ленинграде, он повёл меня в Русский музей, на выставку художников ЛОСХА (Ленинградское отделение Союза художников), где были и его работы. Утро было зимнее, тёмное. Едва мы вошли в зал, раздался крик Франца, обвинявшего служительницу в том, что свет зажжён так, что его полотна остались в тени. Мне он тут же объяснил: «Это Евсей постарался», и, хромая (после встречи со стилягами он ходил с палочкой), кинулся к распределительному щитку, в котором принялся дёргать рубильники.
Евсей М. — бывший ближайший друг и однокашник Франца по Академии художеств, двигавшийся, в отличие от дяди, не вниз, а вверх, ставший академиком, лауреатом, народным художником. За картину «Победа» — застолье на балконе 9 мая — он получил Ленинскую премию. Франц же утверждал, что Евсей украл у него сюжет этой картины, и непременно показывал собственные этюды на эту тему заходящим гостям.
Этюды — сказано не случайно. Франц редко доводил заготовки до готового полотна. То маленькая дочь шумела, то вчера поругался на отборочной комиссии, то утро промозглое, но дело, как правило, кончалось рестораном, если были деньги, или, на худой конец, «маленькой», которые Франц почему-то предпочитал поллитрам (что, впрочем, не редкость в нашем пьющем отечестве).
С посещением ленинградских музеев у меня и до этого сохранялись в связи с Францем неприятные воспоминания. Будучи с родителями десятилетним мальчиком впервые в Ленинграде, я попал и в Эрмитаж. Руководил нами, естественно, Франц. Набредя в одном из нижних залов на лошадь в кольчуге и экспозицию старинного оружия, я застыл на месте как заворожённый. Но Франц схватил меня за рукав и со словами: «Рембрандта надо смотреть, а не это говно» — потащил вон. Я сопротивлялся, и мама за меня вступилась: «Франя — ему это интереснее, он же мальчик». На что её брат закричал: «А я тысячу раз разглядывал пятки блудного сына и в тысячу первый пойду!».
С друзьями, и не только с Евсеем, Франц, разумеется, постоянно и жестоко ссорился. На моей памяти это было с такими близкими его собутыльниками, как поэт Михаил Дудин и прозаик Виктор Конецкий. Последней рухнула многолетняя дружба со скульптором Александром Кибальниковым, продолжавшаяся ещё с военных саратовских лет. Как-то Борода, как звали Кибальникова друзья, будучи в Питере, зашёл к Францу в мастерскую, где хозяин стал, как обычно, жаловаться лауреату и академику на тяготы жизни. «Да, — посочувствовал Александр Павлович, — друзья у тебя говно». — «Так ведь мой первый друг это ты!» — закричал Франц, после чего они не встречались.
Нетерпение моего дяди достигало таких пределов, что вредило ему буквально во всём.
Здесь не место объяснять почему, — история долгая, но Франц, как и моя мать, и ещё одна сестра, и три брата, родился в Австралии, в Мельбурне, в семье политэмигранта. Вообразить, чем это обернулось для семьи деда, который в 1926 году вернулся на Родину, чтобы помогать строительству социализма — думаю, не стоит. Моего отца и мужа моей тётки исключили из партии, двух дядей расстреляли, третий отсидел семь лет (он-то, правда, за дело: пытался с товарищем реэмигрантом бежать из Армении в Турцию через реку Араке), и, наконец, сам Франц посидел недолго во время учёбы в Сталинградском художественном училище за обнаруженную там карикатуру на Сталина, хотя его авторства, от которого он всегда отпирался, так и не доказали.
Так вот, Франц единственный из всей семьи осуществил общую мечту братьев и сестёр — побывать на родине. Это было в конце 60-х, кажется в 1968-м. Тогда никаких разумеется туристских поездок на Пятый континент не существовало. Сам же Франц с неуживчивостью, биографией, которую см. выше, беспартийностью и злым языком, за границей не бывал ни разу. Но в те годы он по командировке ЛОСХа стал постоянным художником Адмиралтейской судоверфи, завёл знакомства в судоходстве и, как бы то ни было, отправился наконец для отображения труда советских моряков к берегам Австралии с визой на шесть месяцев!
И что же? Ему хватило всего двух месяцев, чтобы расплеваться со всеми близкими и дальними австралийскими родичами и проклясть это, по его выражению, «царство сытых, тупых и равнодушных буржуа» и воротиться в Ленинград другим судном, не дождавшись в Сиднее того, к которому он был приписан.
Из множества историй, связанных с Францем или рассказанных им, в последнее время мне почему-то вспоминается следующая.
Дело было в начале войны в Саратове. Франца на фронт, точно не знаю почему, не брали, и он подвизался художником в саратовском Худфонде, в частности рисовал военные «Агитокна». В те времена под Саратовом в Татищеве формировалась 1-я Польская армия.
Молодёжь в те годы и ещё долгое-долгое время предпочитала отдыхать на танцплощадке в саде Дома офицеров, который по старинке именовали ДК, то есть Дом Красной Армии. Захаживали туда и поляки. И вот как-то дядя Франя видит возмутительную картину. Польский офицер в конфедератке бьёт по щекам вытянувшегося перед ним по стойке смирно польского солдата. Во Франце вскипела шляхетская кровь, приправленная советским воспитанием, он схватил офицера за грудки, сопровождая действо малым польско-русским словарём с выражениями типа «пся крев», «курва», «дупа», «твою маму» и т. д. Офицер попытался сопротивляться, но был сбит наземь тяжёлой рукою моего дяди. Тут какой-то доброхот сообщил ему о приближающемся патруле, после чего дядя перемахнул через забор и был таков.
Царствие тебе Небесное, дядя Франц!
Отчётливо услышал разницу русских и поляков в «уважаемом» господине и «сановном» пане. То есть у нас уважаемый от уважения, а там сановный от сана, от положения. Я понимаю, что уважаемый более подходит к товарищу, чем господину, но и если обратимся к прежним «много- или высокоуважаемый» или «милостивый государь», всё равно в основе определения будет лежать не социальный статус. Пусть были генеральское «ваше превосходительство» или обиходные «ваше благородие» или «высокоблагородие», всё равно: в основе определений лежит человеческий, но не социальный статус.
Андрей Ш. в запое. Лежит, задрав куцый небритый подборок и время от времени требует то водки, то минералки. У ложа сидит его старшая сестра Лена, женщина с навсегда замученным лицом. Оборотясь ко мне, зашедшему проведать больного, говорит:
— А мы так радовались, что мальчик родился.
Какое это, оказывается, счастье, новый текст профессионала Сергея Михалкова к гимну!
«... я тоже, по заказу руководителя Единой русской общины “Мир” Николая Сорокина, написал свой вариант российского гимна и, вполне естественно, относился к тексту Сергея Михалкова с определённой ревностью. Тем более что по сравнению с утверждённым текстом, представляющим собой откровенную идейную пустышку, не соответствующую ни современному состоянию России, ни концепции её развития на будущее, мой вариант, как мне кажется, был наполнен хотя бы каким-то смыслом.
Мы жили великой и трудной судьбою,
пройдя через дни испытаний и бед.
Не зря нашу Русь называли Святою —
она всему миру дарила свой свет!
Русь наша славная, в деле — упорная,
братских народов родная семья!
В вере — свободная, духом — соборная,
к счастью ведёт нас дорога твоя!
Я наткнулся в интернете на текст этого Николая Переяслова под названием «Сто дней миллениума. Из дневника литературного критика». Из текста можно понять, что он прозаик, и критик, и поэт, и ещё какой-то функционер в Союзе писателей России. Дневник старательно подражает таковому же пера Сергея Есина. Хотя, конечно, слабее и, как это ни удивительно, ещё глупее. Чтобы не быть голословным, поцитирую:
«И, отложив на время другой, очень важный для меня роман под названием “Мой дедушка застрелил Берию”, я обложился газетными вырезками о трагедии на АЛЛ “Курск”и принялся записывать так ясно увиденный мною сюжет прямо сразу на компьютере. <... >
...меня окружили такие ароматы цветущего леса и низверглись сверху такие соловьиные громы, что вместо нескольких запланированных на отпуск критических статей я написал там целый роман в стихах, назвав его “Моление о миллениуме”. <...> Нет, наверное, я писатель Третьего тысячелетия, если до 2001 года у меня почти ничего не могло выйти, а тут пошла и критика, и проза... Видимо, всему в этой жизни, как сказала Цветаева, “как драгоценным винам”, должен настать “свой черёд”. Вот и мои вещи дождались своего часа.
В 16.24 поездом № 40 выехал в Уфу на съезд Союза писателей Республики Башкортостан. <... > Если верить отзывам, доклад был чрезвычайно интересным и обстоятельным, но, к сожалению, он был прочитан на башкирском языке, и я там различил только несколько знакомых фамилий и слово “гонорар”. <...> Самое яркое впечатление за этот день — от общения с президентом Башкортостана Муртазой Губайдулловичем Рахимовым. Мы сидели с ним рядом в президиуме и успели хорошо пошептаться...».
«Я удивляюсь, где брали великие люди время на свой дневник? Этот сегодняшний лоскут съел у меня более получасу!» (Дружинин А В. Дневник).
«Женщина, неспособная занять мужа, похожа на скупую маменьку, которая кормит своих детей подло и, когда они не едят, начинает беспокоиться и сокрушаться о том, не больны ли они» (Там же).
Вдруг узнаёшь, когда и где зачинались пороки советского преподавания литературы: «Когда задавалась тема “Мёртвые души”, то требовалось от нас, чтобы в нас звучала, так сказать, общественно-морально-бухгалтерская нотка», — вспоминал учившийся в конце 1910-х в Тенишевском училище Владимир Набоков.
По Хайдеггеру, «экзистенция есть бытиё, направленное к ничто и сознающее свою конечность».
Экзистенциональное время — качественно, конечно и неповторимо.
Свобода = экзистенция. Экзистенция и есть свобода отказаться. Вопрос: от чего?
Этот выбор, вероятно, и определяет жизнь человека.
Вероятно, самое гнусное издевательство над животным, из придуманных человеком, это белка в колесе.
Бывая на той или иной постановке классики на сцене, наблюдая реакцию зрителей, отчётливо понимаю, что живо реагируют они в девяти случаях из десяти не на спектакль, а на доселе неведомый им текст: Грибоедова, Достоевского, Островского, Чехова, Горького.
Особенно Островского!
Богатые помещики, соседи Гурмыжской («Лес» А. Н. Островского), отлично зная степень негодяйства юного её фаворита Буланова, рассуждают:
«— А вот мы жаловались, что людей-то нет. Для новых учреждений нужны новые люди, а их нет. Вот они!
— Что ж, пожалуй; пусть служит, мы неразборчивы».
Фашистов в советском кино очень часто играли прибалты, преимущественно латыши. Можно вообразить, с каким наслаждением они это делали.
Кроссворд «Лауреаты Сталинских премий»
По горизонтали: 1. Балетмейстер спектакля «Горда». 6. Народный артист СССР, снимавшийся в кинокартине «Мусоргский». 7. Автор скульптуры «Трудовая победа». 11. Пьеса Чепурина. 13. Народная республика, о которой композитор Корчмарёв написал сюиту. 14. Вид искусства. 15. Автор сюиты «Река-богатырь». 16. Автор романа «Северная Аврора». 18. Роман Бирюкова. 23. Старейший русский артист, постановщик спектакля «Мещане» в Рязанском театре. 24. Литературный жанр. 26. Автор романа «Жатва». 31. Автор поэмы «Макар Мазай». 32. Один из авторов памятника Т. Г. Шевченко. 33. Пианистка, солистка Московской государственной филармонии. 34. Автор романов «Огни», «Разбег» и «Родной дом», музыки оперы «Семья Тараса».
По вертикали: 1. Роман Баширова. 2. Автор СР и Грузинской ССР. 3. Роман Соколова. 4. Повесть Гладкова. 5. Роман Рыбакова. 8. Режиссёр спектакля «Флаг адмирала» в ЦТСА. 9. Автор пьесы «Флаг адмирала». 10. Композитор, автор «Дагестанской кантаты о Сталине». 12. Автор книги очерков «Путешествие по Советской Армении». 15. Один из авторов скульптурной группы «Требуем мира». 17. Автор романа «Весенние ветры». 19. Автор книги рассказов «По дорогам идут машины». 20. Автор сборника стихов «Поэзия — любимая подруга». 21. Автор повести «Студенты». 22. Заслуженная артистка РСФСР. 23. Народный артист Армянской ССР. 25. Один из скульптурных портретов Конёнкова. 27. Название рассказа Антонова. 28. Картина Яблонской. 29. Вид искусства. 30. Персонаж пьесы Сурова «Рассвет над Москвой».
Журнал «Огонёк». 1951, апрель, №16
Нынче бы за такой кроссворд отгадчику можно было бы безнаказанно посулить большую премию — ведь всё равно никто не угадает.
Который раз, посмотрев по ТВ кинофильм «Весна», поразился тому, как Григорий Александров в 1947 году, видимо, в который раз угадал новые, скорее всего, даже будущие настроения Хозяина и снял комедию, где вовсе нет советской власти и тем более даже намёка на обкомы, райкомы. Роскошно одетые раскованные герои обитают в гигантских жилищах с залами и террасами, разглагольствуют о весне, любви, величии русского духа, одеты с иголочки. Служанка-Раневская катит в спальню хозяйке учёной-Орловой европейский завтрак на сервировочном столике. По улице несутся сверкающие авто. Уличный марш в начале подобен финальному маршу в «Цирке», но там чистая патетика, а здесь она снижена юмористическим мельтешением уворачивающегося от проезжающих автомобилей помрежа.
Проходимец Бубенцов в исполнении Плятта — начальник службы безопасности сверхпередового НИИ не шпион и злодей, а просто болтун и пьяница.
И самое удивительное, что в фильме, вышедшем на экраны спустя два года после окончания войны, ни слова, ни полслова, ни полкадра про войну и оставленные ею следы. Едва ли не единственный военный в картине — пышный и старый генерал-полковник на вечеринке.
И для съёмок, за исключением натурных панорам Манежной, Охотного и Тверской, выбрал Григорий Васильевич гладкую Чехословакию.
Ох, умелец был, а вот в постсталинское время совершенно провалился с чудовищной комедией «Русский сувенир» (1960) про путешествие интуристов по СССР. Я хорошо помню и фильм, и фельетон в «Крокодиле» про киноиностранцев Александрова, одетых гостеприимными сибиряками в атласные ватники, и уже абсолютно маразматический фильм его «Скворец и Лира» (1974), о советских разведчиках, где 72-летняя Орлова за год до смерти играла юную девушку. Редкий был случай, когда оба фильма после недолгого проката были положены на полку вовсе не из-за «идейных просчётов» режиссёра, но причине полной профнепригодности.
В «Русском сувенире» Александров для чего-то раздел донага 58-летнюю супругу. В связи с этим: «Посреди зала, на низенькой эстраде, танцевали девушки и девки, полуголые, голые на три четверти и голые на девять десятых. В общем, на уровне художественных воззрений Гришки Александрова» (Из письма И. Ильфа жене, 1935 г.).
Положительные герои в советских кинофильмах в минуты волнения курили, как опытные наркоманы курят анашу, жадно и глубоко затягиваясь несколько раз подряд.
На помойке у мусорного бака застыл бомж в соответствующем прикиде: обнаружив книгу, он перестал рыться, открыл её и надолго углубился в чтение.
Нельзя избавляться от книг, которые прочитал в детстве. Отрекаться ещё можно, но не отдавать никому. Всё одно захочешь перечитать не просто текст, но ту самую книгу.
Обычный гордый ответ в кино, а из него и в жизни, на вопрос: «Хотел бы ты, заново прожить свою жизнь по-иному?» — «Нет!»
Я же отвечаю: «Да! Совсем, совсем по-иному бы прожил, редко даже соприкасаясь выбором, поступками, укладом и прочим, с тою жизнью, какую прожил».
А ещё меня восхищает трагической смелостью ответ на этот вопрос Дмитрия Саркисовича Мамина-Сибиряка: «Я бы вежливо отказался вообще родиться».
В РУССКОМ ЖАНРЕ - 36
На Немецкой у лотка со старой книгой девица мимоходом бросает спутнице:
— Хм, Булгаков... — его ещё издают?
Ясно, что она из интеллигентной среды. И ясно же, что сказанное принадлежит к разряду «понтов». Но и не менее ясно, что Булгаков для неё глубокая старина, где-то рядом с Толстым, Щедриным, Чеховым. Уж не знаешь, огорчаться ли — не девице, разумеется, а тому, насколько быстро возникла картина русской литературы, которая нам, пожилым, ещё недавно казалась невозможно прогрессивной.
21 ноября 2007
Последнее время, движимый извращённым, возможно, любопытством, я потянулся к специфической литературе времён моего детства. Скачал из интернета, а кое-что и купил в букинисте: книги Ник. Шпанова, Льва Овалова, Вас. Ардаматского, Г. Брянцева, Арк. Адамова — «Война невидимок» (бывшая «Тайна профессора Бураго»), многотомные «Заговорщики» и «Поджигатели», «Над Тиссой», «Рассказы майора Пронина», «Дело “пёстрых”», «И один в поле воин», «Сержант милиции» и т. д.
Дело в том, что в своё время я этих книг не читал, так как дома их ни в коем случае не держали, в детской же библиотеке имени Пушкина их или не было, или не выдавали детям (тогда строго следили за соответствием выдаваемых книг издательскому рекомендательному грифу «Для младшего школьного возраста», «Для среднего школьного возраста», «Для старшего школьного возраста», что было (если забыть о качестве многих из рекомендуемых книг) вовсе неплохо.
В юные же сознательные годы я уж сам сторонился, точнее, стыдился интересоваться какой-нибудь «Куклой госпожи Барк», и имел об этой литературе лишь общее представление, во многом базирующееся на некоей общественной репутации авторов. Так для меня, молодого прогрессиста, было заранее очевидно, что «Поджигатели» — это гнусная заказная стряпня во славу холодной войны, «По тонкому льду» — чекистские сказки, а вот «Дело “пёстрых”»... Ведь на памяти был фильм с юным Олегом Табаковым в роли оступившегося парнишки и Михаилом Пуговкиным в роли рецидивиста Софрона Ложкина, к тому же автор книги — сын автора любимой безмерно «Тайны двух океанов», стало быть, роман должен быть иного, чем воениздатовские поделки, порядка.
Оказалось, что иные представления были неверны. «Дело “пёстрых”» написано крайне плохо, даже действие книги происходит нигде. Сказано, что в Москве, и — вот она какая, большая-пребольшая... Главная портретная деталь персонажей — «аккуратно зачёсанные назад» волосы, растущие на каждой странице. И прочее.
Очень неприятна доносительская составляющая «Дела “пёстрых”» — тогда была в разгаре борьба со стилягами, и здесь стиляги за то, что однокурсница доносит об их танцах-шманцах в институтский комитет комсомола, намереваются её убить, пытаясь нанять «киллера». Ещё хуже, художественно просто невозможно написан роман о таможенниках «Личный досмотр» (1963), а я помню, как он печатался в журнале «Юность» и вызвал шумный интерес. Невольное сопоставление с книгами Адамова-старшего, не только «Тайною двух океанов» (1939), но и «Изгнанием владыки» решительно не в пользу сына. У отца, конечно, же предостаточно перлов чекистской поэтики, типа сцены:
«Пристально глядя на Ирину, он отогнул обшлаг на рукаве. Под обшлагом сверкнул золотой значок.
Ирина перевела глаза на Хинского, и вдруг лицо её вспыхнуло. Она встала и протянула ему обе руки.
— Теперь я всё понимаю, товарищ Хинский! Не могу вам передать, как я рада!» (Адамов Г.Б. Изгнание Владыки. 1938—1940).
И всё же сюжетная выдумка, характеры, особый приключенческий шарм книг Адамова-старшего совершенно недосягаемы для младшего.
Художественное убожество «Дела “пёстрых”» (1956) или «Сержанта милиции» (1957) можно было бы объяснить общим послевоенным падением уровня советской прозы, но вот одиозная «Над Тиссой» (1954) Авдеенко написана просто недурно. Очень интересно выписан быт жителей Западной Украины, ещё только привыкающих, точнее пытающихся приспособиться к тяжёлой руке «старшего брата». Конечно, когда автор принимается за описание шпионов и их американских хозяев, оно понятно, чего выходит, и всё же, всё же...
Ещё смешнее книги, где дело происходит в «Стране жёлтого дьявола», вроде двухтомных «Заговорщиков» Ник. Шпанова, но это отдельная песня. Я уже как-то упоминал книгу Н. Кальма «Дети горчичного рая» (1950), там, помнится, детей в школе поголовно дактилоскопировали, и когда мальчик-негр отказался, его стали жестоко преследовать. В. Крупин, выросший в послевоенной вятской деревушке, как-то рассказывал, что под влиянием подобных книг стал сочинять жалостливые стихи: «Плохо ребятам в Нью-Йорке — не могут кататься с горки. Плохо ребятам в Париже — негде им взять книжек».
Вообще в дни детства моего поколения у нас практически не было никакой информации о реальной жизни за рубежом. В немногих так называемых трофейных американских фильмах, дублированных на немецкий язык и с русскими титрами, вроде «Сестры его дворецкого» с Диной Дурбин, распевающей «Очи чёрные», реальность была чисто голливудская. Переводных же новинок художественных в начале 50-х практически не было. Юрий Трифонов вспоминал: «Был настоящий читательский голод. Помню, каким событием оказалось появление американского романа, вполне посредственного, — Айры Уолферта “Банда Тэккера”. Его читала вся Москва». Поэтому немногие широко доступные произведения советской литературы, где со знанием дела описывалось буржуазное разложение, как «Гиперболоид инженера Гарина», были на этот счёт неоценимым источником. Именно Алексей Толстой разворачивал перед обитающим в скуднейшей послевоенной реальности русским обывателем прейскуранты невиданной сладкой жизни и невиданных нравов. В 20-е годы многие литераторы, побывав на Западе, (примеры — Катаев), непременно живописали под видом обличения, тогдашний гламур (чем, естественно, не занимался не турист, а европеец Эренбург). Однако лишь Толстому в силу насмешливости его таланта, удавалось и сообщать, и высмеивать одномоментно тогдашний гламур.
«...“роллс-ройс” — длинная машина с кузовом из красного дерева»; «Зоя Монроз, одна из самых шикарных женщин Парижа. Она была в белом суконном костюме, обшитом на рукавах, от кисти до локтя, длинным мехом чёрной обезьяны. Её фетровая маленькая шапочка была создана великим Коло. Её дневной автомобиль — чёрный лимузин 24 HP, её прогулочный автомобиль — полубожественный “роллс-ройс 80 НР”, её вечерняя электрическая каретка, внутри — стёганого шёлка, — с вазочками для цветов и серебряными ручками...»; «она взяла в себе в любовники модного журналиста, изменила ему с парламентским деятелем от крупной промышленности и поняла, что самое шикарное в двадцатых годах двадцатого века — это химия. <...> Она сейчас же выехала в Нью-Йорк. Там, на месте, купила, с душой и телом, репортёра большой газеты, — ив прессе появились заметки о приезде в Нью-Йорк самой умной, самой красивой в Европе женщины, которая соединяет профессию балерины с увлечением самой модной наукой — химией, и даже, вместо банальных бриллиантов носит ожерелье из хрустальных шариков, наполненных светящимся газом. Эти шарики подействовали на воображение американцев».
Что уж говорить про воображение советских читателей.
Утверждение, что герой трилогии А. Толстого «Хождение по мукам» Вадим Рощин списан с генерала Е. А. Шиловского, второго мужа третьей жены М. Булгакова и затем супруга дочери А. Толстого от второго брака Марианны Алексеевны, стало кочевать по страницам СМИ. Телефильм о Евгении Шиловском так и называется «Генерал Рощин, муж Маргариты».
А. Толстой и впрямь дружил с зятем, который был моложе его всего на семь лет. Но штука в том, что Рощин появился в первом романе «Сёстры», написанном в эмиграции в 1919 году, и становится одним из главных героев во второй книге трилогии «Восемнадцатый год», который писался в 1925—1927 годах, а с Шиловским Толстой сходится после 1935 года. Так что следы бесед с зятем-генералом (никогда в отличие от Рощина не бывшего белым офицером) могли пригодиться лишь в работе над последним романом трилогии «Хмурое утро», но, во всяком случае, встреча Телегина и Рощина на ростовском вокзале («Восемнадцатый год») никак не могла быть, как порой утверждается, навеяна фактом встречи братьев Шиловских в Гражданскую войну. Толстой в пору её написания с Е. Шиловским не был знаком.
Все помним слова Воланда: «... что-то, воля ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих».
Но задолго до «Мастера и Маргариты» написано: «Кто не пьёт и курит, тот мне всегда внушает подозрение. Это — или скряга, или игрок, или развратник» (Куприн. Поединок).
Меня в одной рецензии на «В русском жанре» уже упрекнули в страсти изыскивать заимствования и радостно их демонстрировать. Да ни страсти, ни радости, просто, когда само бросается глаза, отчего не отметить?
Вот и к Куприну с Булгаковым добавлю аналогичное, из жизни, и ничуть не слабее. Один старый офицер-строевик говаривал: «Не пьют или только очень больные люди, или откровенные сволочи». Точность наблюдения в определениях «очень» и «откровенные», ибо просто больные люди всё-таки пьют, как и та сволочь, которая боится себя обнаружить.
Знаменитый писатель Измаил Александрович Бондаревский («Записки покойника»), воротившись в Москву из Парижа, сыплет рассказами о тамошних гомерических скандалах: «...между министров стоит этот жулик, Кондюков Сашка...».
(Как известно, Бондаревский — карикатура на Ал. Толстого.) Я ещё в первом чтении «Записок покойника» обратил внимание на редкое имя персонажа и наконец вспомнил: «Сашка Путята... сверхъестественный мужчина... двадцать четыре тысячи в год, не считая суточных!.. И с ним вместе Измаилка Александровский... Измаилушка! Вот это были люди!» (Куприн. На покое.). Предельно созвучна и ноздревская интонация. И содержимое болтовни. И имя-отчество- фамилия.
Многим сразу запомнился как пример почти шизофренической демагогии вопрос сельского «мудреца» Глеба Капустина из рассказа Шукшина «Срезал»: «Как вы лично относитесь к проблеме шаманизма в отдельных районах Севера?».
А вот фельетон Ильфа и Петрова «Секрет производства» (1931); там высмеиваются многочисленные придирки к сценарию на коллегии киностудии, среди них и такой: «Недостаточно отражена проблема ликвидации шаманизма в калмыцких степях».
«...машины сравняли неравенство талантов и дарований» (Лесков. Левша).
«О закрой свои бледные ноги» (В. Брюсов).
Точнее, ступни. Ноги, как ножки, давно получили право эстетического, сексуального и иного присутствия в литературе. Пушкин, как известно, у нас начало всех начал, и про ножки он начал, и спустя полтора века ему вернул их злой хулиган Абрам Терц, про его уже, Пушкина, а не дам, тонкие ножки.
Итак, не ноги, а ступни. Почему вы стрижёте ногти на руке, нимало не смущаясь, но та же операция ножная таит в себе нечто интимное? У Юрия Трифонова в «Предварительных итогах» герой, застигнутый взрослой дочерью за подстриганием ногтей на ступне, страшно смущён.
«От того, что она была из нашего круга, где не показывают босых ног, мне всегда было и неловко и очень тянуло смотреть на её ноги» (Бунин. Жизнь Арсеньева).
Митя Карамазов: «Но снять носки ему было даже мучительно: они были очень не чисты, да и нижнее бельё тоже, и теперь все это увидали. А главное (так! — С. Б.), он сам не любил свои ноги, почему-то всю жизнь находил свои большие пальцы на обеих ногах уродливыми, особенно один грубый, плоский, как-то загнувшийся вниз ноготь на правой ноге, и вот теперь все они видят».
Ладно, бывает, мы стыдимся, огорчаемся, реже радуемся, собственным глазам, волосам, ушам, ладоням, что, в общем-то, удел подростка, и всё же особенно во всю жизнь сохраняем досаду на что-то своё врождённое телесное, что нас не устраивает. Или, напротив, подчёркиваем действительные или, чаще, преувеличенные, а то и мнимые, особенно женщинами, собственные физические достоинства. Так рождается культ собственных вроде бы стройных ног, или якобы изящного носика. Умиление своим телом может случиться и внезапно. Однажды в литературе это уместно подметил Алексей Н. Толстой: инженер Телегин, полюбив и получив взаимность, внезапно замечает, что у него большие и красивые руки.
Можно любить или не любить цвет собственных волос и глаз, форму ногтей на руках, мышц рук или форму плеч, форму и размер груди — женщине или полового члена — мужчине, и т. д. Можно так или иначе относиться даже к собственному заду, которого не видишь. Но почему столь повышенно и стыдливо, интимно внимательны мы к ступням собственным и чужим? (Есть очевидная сексуальность в девичьей стопе или родительское умиление в детских пальчиках, но я не об этом.)
«Он жадно взглянул на её голые пятки, похожие на белую репу...» (Бунин. Барышня Клара).
«...с безумием жалости и нежности увидал её пропылённые смуглые девичьи ступни...» (Бунин. Три рубля,).
«Она сняла с голой ноги татарский башмачок, вытряхивая из него пыль, и пошевелила пальцами продолговатой ступни, до половины тёмной от загара» (Бунин. В такую ночь).
«...ступни прекрасные, с удлинёнными пальцами, с тонкой блестящей кожей» (Бунин. Модест).
И — у него же: «...гимназист с ужасом и отвращением увидал то, что прежде видел столько раз совершенно спокойно: голую мужицкую ступню, мертвенно-белую, огромную, плоскую, с безобразно разросшимся большим пальцем, криво лежащим на других пальцах, и худую волосатую берцу, которую Федот, распутав и кинув онучу, стал крепко, с сладостным ожесточением чесать, драть своими твёрдыми, как у зверя, ногтями. Надрав, он пошевелил пальцами ступни, взял в обе руки онучу, залубеневшую, вогнутую и чёрную в тех местах, что были на пятке и подошве, — точно натёртую чёрным воском, — и тряхнул ею, развевая, по свежему ветру, нестерпимое зловоние. “Да, ему ничего не стоит убить! — дрожа, подумал гимназист. — Это нога настоящего убийцы!”» (Ночной разговор).
В рассказе «Тьма» Леонид Андреев описал случай, рассказанный ему эсером П. М. Рутенбергом: революционер скрывается в публичном доме. Рассказ вызвал много шума, резко негативную реакцию Горького и самого Рутенберга, но последнего, к удивлению Горького, более всего обидело «не то, что Леонид сделал из него какого-то неврастеника и идиота. А то, что он так отвратительно описал его ноги». У Андреева: «... волосатой ногой с кривыми, испорченными обувью пальцами. <...> На левом мизинце у того была мозоль, и было почему-то отвратительно и страшно смотреть на этот желтоватый бугорок. И ноги были грязноваты... волосатые, грязноватые ноги с испорченными кривыми пальцами».
М. Шолохов, «Тихий Дон»: «...она открыла одеяло и долго рассматривала мою ступню. Она так резюмировала свои наблюдения.
— У тебя не нога, а лошадиное копыто. Хуже! <...> Сегодня же извольте купить присыпанье от пота: у вас трупный запах от ног!»
И. Ильф, Е. Петров, «Золотой телёнок», порка Васисуалия Лоханкина: «“А может быть, так и надо”, — подумал он, дёргаясь от ударов и разглядывая тёмные, панцирные ногти на ноге Никиты».
А. Куприн, «Яма»: «Ноги у неё до колен голые, огромные ступни самой вульгарной формы: ниже больших пальцев резко выдаются наружу острые, некрасивые, неправильные желваки».
А. Толстой, «Гиперболоид инженера Гарина»: «Особенно страшными казались босые ноги его — большие, синеватые, с отросшими ногтями».
Анатолий Мариенгоф, «Циники»: «Как-то я зашёл к приятелю, когда тот ещё валялся в постели. Из-под одеяла торчала его волосатая голая нога. Между пальцами, короткими и толстыми, как окурки сигар, лежала грязь потными чёрными комочками.
Я выбежал в коридор. Меня стошнило.
А несколько дней спустя, одеваясь, я увидел в своих мохнатых, расплюснутых, когтистых пальцах точно такие же потные комочки грязи. Я нежно выковырял её и поднёс к носу».
Поиграйте, ведь всё равно на пляже делать нечего, в игру: глядеть сперва на ступни, а затем уж в лицо человека, и уверяю вас, очень часто увидите несовпадения, и у яркой молодой стройной брюнетки могут оказаться узловатые словно корни старого дерева, ступни, а у одышливого пожилого толстяка свежие аккуратные лапочки.
«Тебе бы ортопедом, а не литератором быть!» — возможно подумал читатель. Не знаю. Не знаю, я и привёл столько цитат в расчёте на такого, скорее всего, неискреннего читателя. И Горький, который посмеялся над Рутенбергом, не думаю, что он был искренен.
Сорокаградусный полдень. Тесная сберкасса в старом доме. Масляная краска, покрывающая даже древние электрические провода в зарослях мушиных экскрементов, бессмысленные услуги, предлагаемые на стеклянных досках, низкие окошечки, золотые следы лиловых чернил на стекле стола. И долгая, покорная очередь.
Единственное молодое лицо — парень в летней дырчатой кепке. Лишь только появляется очень толстая молодая женщина с ребёнком, он впивается в неё взглядом.
Жара непроходимая, до звона в ушах, тётка со слоновьими и волосатыми ногами, многоступенчатым задом, еле поворачивается от жары, жира, тупости в помещении размером с кухню, заполонённом старухами, а он с угрюмой, тяжкой похотью медленно и безотчётно созерцает ноги, брюхо, грудь. Опять ноги, и — ни разу взгляд его не поднялся к её лицу.
Работал у нас в редакции журнала «Волга» Владимир С. Он пришёл в редакционную сферу, как тогда говорилось, «с производства»: пописывал стихи, ходил в литобъединение, стихи его стали печатать, потом, как члена партии, пригласили служить в издательство и т. д.
Человек был нестандартный. Он ставил себе цель и полностью отдавался её достижению. Так, долгое время такою целью было прочесть и законспектировать все 55 томов Полного собрания сочинений В. И. Ленина. В любую свободную минуту в руках его был синий том с закладкой и карандаш. Таким образом он стремился достичь даже двух целей — овладеть сокровищницей ленинской мысли и утвердить себя прежде всего перед самим собою, как настоящий коммунист, а не те, которые держат книги Ленина в шкафу, но в них не заглядывают.
Другой раз им овладела идея лечебного голодания. Проголодав полностью сколько-то дней, он был отправлен в командировку в город Калинин, где и упал в голодный обморок прямо на вокзальном перроне.
Был он человеком очень работоспособным, усидчивым и пунктуальным. При этом, как ни странно, любил выпить.
Самое интересное в С. было его химкомбинатовское прошлое.
Он и попал-то в Саратов, получив направление на «гигант химии» — завод «Синтеспирт» (затем долгие годы «Нитрон»). Открытие этого предприятия было важным событием для города. И потому, что пресса кричала о новом свершении советской химии, хотя всем было известно, что завод куплен в Италии и собирать его будут при участии и под наблюдением итальянских специалистов. И потому, что шептались о сугубой вредности производства, что с годами подтвердилось во всём ужасающем размахе. Но главным, пожалуй, событием стали сами приехавшие в наш закрытый город итальянцы, поселённые в специальной девятиэтажке на улице Пушкина. Про итальянцев рассказывали, что их кормят привезённой из Италии едой, поят итальянским вином, и при этом получают они сумасшедшие деньги. Что наше начальство совсем с ума посходило, и когда итальянке понадобилось сделать аборт, ей давали общий наркоз (в то время несбыточная мечта наших женщин), а вокруг стояли главврач и начальники обл- и горздравотделов. Ну и т. п.
С. вспоминал о некоем роде трудовой повинности — ночных дежурствах, во время которых надо было сделать то, что официально строго запрещалось — открыть задвижку и спустить в Волгу отработанную воду, отравленную страшным ядом синильной кислоты и другими гадостями.
Все знали, что совершают преступление — и те, кто приказывал, и те, кто исполнял. Они и сами в большинстве ведь и жили тут же, в заводском посёлке. Чтобы притупить возможные угрызения совести, в эту смену всем выдавали спирт — сколько хочешь. С некоторым подъёмом, даже с восторгом, вспоминал С., как он, мастер смены, откручивая вентиль, полупьяный, громко вслух сам себе кричал Маяковского:
Довольно жить законом,
данным Адамом и Евой.
Клячу историю загоним.
Он так воодушевлялся, рассказывая, что виделось: в реку льются кубометры отравы, а мастер чувствует себя героем, типа Александра Матросова.
В перерыве на XIX партконференции, у входа во Дворец съездов я стоял и курил, беседуя с широко известным в узких кругах Юрием Мелентьевым — тогда министром культуры РСФСР, до этого замзавотделом культуры ЦК. Его благосклонная беседа со мной объяснялась тем, что Мелентьев был саратовец, учился в нашем суворовском училище.
Каким образом не помню, но вполне естественно разговор повёлся о толстожурнальных публикациях — едва ли не главных тогдашних событиях. Юрий Серафимович спросил: правда ли, что «Урал» собирается опубликовать набоковский «Дар». «Уже напечатали? А глава о Чернышевском тоже опубликована? Да?! Надо вдарить! Филипп, Филипп! — закричал он стоявшему неподалёку высокому осанистому лысова тому генерал-полковнику с кагэбэшными петлицами — чин— почти немыслимый, равный по советской табели о рангах, вероятно, армейскому маршалу. — Иди сюда!»
Так я рукопожался с Филиппом Денисовичем Бобковым, первым заместителем Председателя КГБ СССР, грозой диссидентов и прочих интеллигентов. Мелентьев, приземистый, с широким щекастым лицом, восточными глазками под стёклами очков, возбуждённо повторил: «Филипп, “Урал” напечатал “Дар” с пасквилем на Чернышевского, этого даже эмигрантские издатели себе не позволили. Надо вдарить! Сергей, вы у себя вдарьте в “Волге”».
Всемогущий Филипп молча курил, глядя тяжёлым взглядом выпуклых светлых глаз.
А на днях в ТВ-передаче «Апокриф» Виктора Ерофеева я услышал, как В. Бондаренко назвал главу о Чернышевском лучшим, что написано в XX веке о русской интеллигенции. Юрий Мелентьев — покровитель «Русской партии» — его не одобрил бы.
Мыслимо ли вообразить, что в наши дни Шукшин был бы «нашим современником», а Высоцкий либералом?!
Богатые помещики, соседи Гурмыжской, отлично зная степень негодяйства юного её фаворита Буланова, рассуждают: «— А вот мы жаловались, что людей-то нет. Для новых учреждений нужны новые люди, а их нет. Вот они!
— Что ж, пожалуй; пусть служит, мы неразборчивы...» (Островский А. Н. Лес).
По ГТРК «Саратов» репортаж о том, что мэрия приобрела 10 новых пылеуборочных машин, «журналисты ознакомились с их устройством», выступил мэр, и т. д. Да возможно ли такое — не говорю в Швейцарии или Канаде или даже Польше, нет, спрашиваю, в Гватемале или Конго журналистов собирают, чтобы продемонстрировать чудо техники XXI века — пылеуборочные машины?!
А пресловутые «подарки»? Почему первыми лицами с помпой перед телекамерами проделывается то, что должно передаваться в рутинном рабочем порядке рядовыми чиновниками?
Но всего позорнее визиты высоких чиновников и депутатов в детские дома, в том числе и для инвалидов, где после вручения детям компьютера или телевизора, купленных за счёт налогоплательщика — за наш с вами счёт, визитёры опасливо усаживаются на ненадёжные детские стульчики, а благодарные дети поют и пляшут пред умильными взглядами бесстыдников и бесстыдниц.
Ермолов, живущий на покое в Орле, «не принимает одних только городских чиновников, а что всякому другому доступ свободен» (Пушкин. Путешествие в Арзрум).
В советском кино действие крайне редко действие происходило в конкретном городе, за исключением Москвы, Ленинграда, ну, ещё довольно редко Одессы и Киева.
Были одновременно два фильма, снятых в правда, не названном — Горьком в конце 50-х годов: «Екатерина Воронина» и «Евдокия». В первом показаны парадные улицы и порт, во втором некая деревянная окраина, надо полагать Кунавино. А недавно блестяще использовал долгие планы Нижнего Новгорода Алексей Балабанов в «Жмурках». Этот режиссёр обладает редким урбанистическим вкусом. Он показал «декадентский» Питер в ленте «Про уродов и людей». И угрюмый, но не как много раз бывшая декорация к Пушкину, Гоголю или Достоевскому, а живой, трамвайный Питер в «Брате».
В нашем Саратове на моей памяти снималось немного фильмов. Первая экранизация романов К. Федина «Первые радости» и «Необыкновенное лето» в 1956—1957 годах Владимиром Басовым, ещё один из первых и фильмов Петра Тодоровского «Верность», где, впрочем, самого города почти не видно.
К чему это я? К тому, что я, провинциал, жалею, что не запечатлевались, или почти не запечатлевались, или снимались безымянно Воронеж и Астрахань, Самара и Тула, Ярославль и Ростов-на-Дону.
Говоря о незапечатленности, я имею в виду не только утерянный архитектурный облик губернских центров, но ещё образ и ритм их жизни, облик горожан и прочая. Правда, существует до их пор практически не востребованная местная кинодокументалистика. Дело в том, что долгое время существовали зональные студии кинохроники. В Саратове — с 1931 года. Помимо документальных и так называемых заказных фильмов (а изредка и игровых) студия снимала киножурнал «Нижнее Поволжье», на закате советской власти бездарно переименованный в «Волжские огни». В зону нашей киностудии входили Астраханская, Сталинградская, Саратовская. Пензенская и Ульяновская области и Калмыцкая АССР. Вообразить только, сколько и чего не наснимали местные киношники за 70 лет!
Лучшее купанье — в дождь.
... А где я купался в своей жизни? И стал я вспоминать.
Волга: Саратов и Саратовская область, Самара, Астрахань, дельта; Дон в Вёшенской и где-то у станции Семикаракорской; Днестр у Тирасполя; Большой Иргиз у города Пугачёва, Малый Караман, Медведица, приток Медведицы Рельня, приток Волги Терешка, вообще всех малых речек и не вспомнить.
Чёрное море: Гагра, Пицунда, Кобулети, Батуми, Геленджик, Анапа, Туапсе, Дедеркой, Коктебель, Одесса, Ялта.
Балтийское море: Эльсинор (по дороге к Копенгагену).
Адриатическое море: Дубровник.
Из всех дороже одно воспоминание: было мне тогда лет тридцать, недалеко от Лысых Гор, где в Медведицу впадает тихая речка Рельня. К вечеру пошёл тёплый бурный дождь со взрывающимися о воду ударами капель, я один из неуютного мокрого сада спустился к Рельне, поплыл, и плыл очень долго, выплыл в Медведицу, и доплыл до плотины здешней маленькой ГЭС, и голый, мокрый, скользя по земле и траве, воротился в дом.
Плыл, казалось, вечно, и у самого лица, на лице лопались водяные пузыри, среди лилий и кувшинок, упругие стебли которых то и дело пытались заплести мне руки, ощущая не границу сред, но цельно воду реки, влагу неба и себя едва ли не той же влагой.
В РУССКОМ ЖАНРЕ - 37
Удивительный всё же народец местные литераторы из профессиональных «патриотов». Послушаешь, а даже и почитаешь кое-что — яростнее врагов у «антинародного режима», как они любят выражаться, и быть не может. И они же вечно толкутся вокруг руководящих кресел, кто бы на них не уселся, клянча на изданьице-переизданьице-званьице к ...летию.
Их исчерпывающая характеристика: «...самою полною сатирою на некоторые литературные общества был бы список членов с означением того, что кем написано». (Пушкин, 1833).
Жила в Саратове писательница П. Её много издавали и переиздавали, её сочинения очень легко ложились в рубрики типа «Тебе в дорогу, романтик!». Какие-то геологи, подростки, путешественники, вроде бы тайны и открытия. Подобный тип писателя дал В. Войнович в «Шапке» — Ефим Рахлин. Сама же она считала себя ученицей и последовательницей Александра Грина. Ну и ладно.
Однажды в журнал «Волга» пришло письмо. Там было написано: «Автору такой-то книги В. П. К вашему сведению: лёд не тонет. Читатель такой-то».
Редакционные люди раздобыли книгу такую-то и нашли. Там юные герои на плоту куда-то передвигаются по замерзающей реке. И для чего-то им понадобилось измерить глубину её. Но чем? И тут один взволнованный юноша-романтик, воскликнув «Эврика!», хватает рюкзак, вытряхивает содержимое и туго набивает его плавающими вокруг льдинками. Привязывает верёвку и опускает в воду, чтобы измерить глубину.
Сейфуллина сказала Форш, что ей трудно писать, так как она, Сейфуллина, стала стара. Форш ответила: «И, мать моя, разве этим местом ты пишешь» (Корней Чуковский. Дневник).
«У Достоевского в “Бесах” нет ведьмы. Почему? Вот лефовцы — это подлинные бесы: Маяковский — это Ставрогин, но Лиля Брик — это ведьма. Почему Достоевский не осмелился поднять руку на ведьму? Мне кажется, что если бы Достоевский посягнул и на это, то самому неоткуда было бы и расти. Ведьмы хороши у Гоголя, но всё-таки нет у него и ни у кого такой отчётливой ведьмы, как Лиля Брик» (Михаил Пришвин. Дневник).
Мой отец Г.Ф. Боровиков по поводу романов его современников — сибирских литераторов, многих из которых он хорошо знал лично, говорил, что они обдирают В. Я. Шишкова, который, в свою очередь, поднялся на «Угрюм-реке», обдирающей Д. С. Мамина-Сибиряка.
Отец, как я понял уже задним числом, обладал недюжинной смелостью. Это проявилось и в том, что он не прервал опасное родство с семьей реэмигранта, многие из которой были репрессированы. И в том, что ещё в 1934 году отказался ехать от жены и только что родившегося сына по решению Сталинградского обкома в райцентр Енотаевск редактором «районки». И в его нескрываемой ненависти к Сталину, за которую его исключённая из партии тёща, моя бабка, у которой два сына были расстреляны, а над кроватью висел вырезанный из «Огонька» цветной портрет вождя, стуча костылём в пол, кричала: «Гриша, в НКВД пойду!». И в той независимости, которая не способствовала его литературнослужебной карьере; в 1952 году его вместе с иркутянином Георгием Марковым пригласили в Москву, в аппарат Союза писателей, и, протерпев около года, отец сбежал в Саратов. И в том, что он, будучи в 1945—1946 годах начальником областного управления издательств и полиграфии, своим волевым решением способствовал изданию монографии не весьма котируемого местной властью Григория Гуковского «Пушкин и русские романтики» (сообщила профессор Е. П. Никитина). И в том, что отец, как спустя годы я услышал от бывших саратовских диссидентов Ю.Л. Болдырева, В.М. Селезнёва, никогда не участвовал в гонениях на инакомыслящих. И, наконец, в той вроде бы мелочи, о которой сейчас расскажу.
Как-то классе в четвёртом-пятом я обнаружил среди старых альбомов и журналов несколько пожелтевших газет. В одних страницы сплошь были заняты стенограммами судебного процесса. Там мелькали знакомые слова — например, троцкизм. И незнакомые фамилии, например, Каменев и Радек. Это не произвело на меня большого впечатления, зато в следующей древней «Правде» я увидел такое, отчего у мальчика, росшего сразу после войны, голова пошла кругом. Странный текст назывался «Визит тов. Молотова в Берлин». И там всем известное лицо с короткими светлыми усиками красовалось в улыбчивой близи от не менее известного лица с короткими чёрными усиками!
Как отец не побоялся хранить эти газеты в сороковые, пятидесятые годы?
А когда «Правда» (1962) напечатала стихотворение Евтушенко «Наследники Сталина», отец вырезал его из газеты и вклеил в сборник поэта «Взмах руки», вышедший в том же году, объяснив: скоро «Наследников» запретят и в книгах не напечатают. Так оно и вышло.
«Предварительные итоги» не во всём сделаны по-трифоновски, а «Обмен» так ещё «сырее». Там — прямые обличения. Там — Белибердяев. И странность сюжета: почему бы герою просто не разойтись с Ритой?
В финале «Долгого прощания» Ребров думает о другой жизни. Вообще, кроме «Дома на набережной», названия всех повестей и романа «Время и место» взаимозаменимы.
Финал «Долгого прощания» почему-то разочаровывает. Кажется, надо бы радоваться за успешного Реброва, но словно бы досадно — пусть бы жил с Лялей. Скороговорка финала резко отлична от остального предыдущего повествования. Главное же: возможно ли такое сознательное перерождение?
Ляля же — прямая отсылка к чеховской Душечке — жалеет всех мужчин, от поэта-инвалида до проходимца Смолянова.
Болезнь Антипова — появление Мирона — из Раскольникова-Разумихина.
«Время и место» (особенно, но и другие) рождает во мне чувство — я хочу быть среди героев. Это свойство книг только больших писателей.
Заманчиво было бы вывести Трифонова из шестидесятнической тоски: «Проливается чёрными ручьями эта музыка прямо в кровь мою».
Только ведь у Окуджавы: «С нами женщины, все они красивы», у Окуджавы: «Может, встретимся в городском саду». У Трифонова же: «Теперь этого здания нет», «Нет их никого во флигелёчке», «Никого из этих мальчиков нет теперь на белом свете».
Трифонов как никто укрупнил ведущую черту советской жизни — разрыв времени и места, невозможность сколько-нибудь гармоничного их соединения.
Почему же только советской, ведь жизнь везде и во все времена беспощадна своею дискретностью.
Но — есть же лондонский паб, который с XVIII века и доныне живёт под тою же вывеской, что и триста лет назад. Хотя бы это, хотя бы это.
Категория совести — ведущая у писателя Юрия Трифонова.
«Он как бы оперировал на себе» («Время и место») — эпиграф к прозе Трифонова.
«С 7 по 12 апреля
Проводится реализация абонементов на книгу А. Дюма “Граф Монте-Кристо” (2 тома).
Запись на формирование очереди: инвалидов войны — с 8 часов 7 апреля, участников войны — с 8 часов 8 апреля.
Дни реализации абонементов: суббота с 9 до 18 часов — инвалидам войны и ветеранам партии (400 шт.), воскресенье — с 9 до 18 часов — участникам войны (350 шт.), четверг с 11 до 20 часов — участникам войны — (350 шт.). Для приобретения абонементов необходимо сдать 40 кг макулатуры. Первоначальная сдача не менее 20 кг. Среда и пятница — доприем макулатуры до 40 кг по имеющимся на руках абонементам.
Адреса приёмных пунктов-магазинов...
Во всех приёмных пунктах-магазинах в обмен на текстильное сырьё и макулатуру реализуются станки для бритья и лезвия производства ФРГ фирмы “Вилаксон”
По САРАТОВВТОРРЕСУРСЫ»
(Саратовская газета «Коммунист». 1990, апрель)
«Багаж гражданки В., выезжающей на постоянное место жительства из Крыма в Грецию, поразил даже видавших виды работников правоохранительных органов: в пяти крупногабаритных контейнерах она собиралась вывезти из страны 14 пианино, 10 холодильников, 338 сервизов, 24 ковра, 1200 комплектов постельных принадлежностей, более 2200 скатертей, 150 электроутюгов, 1200 кусков импортного мыла и других товаров плюс драгоценностей на 15000 рублей. А весь багаж “потянул” на сумму 150000 рублей и уплыл бы за границу на теплоходе “Самуил Маршак”, если бы не работники областного управления ОБХСС, которые теперь выясняют происхождение содержимого пяти контейнеров и причины “халатности” таможенников Керченского торгового порта, пропустивших груз на теплоход» (Московские новости. 1991).
И всё же далеко, однако, мы с тех пор ушли!
Над водою запах разносится быстро и густо. Именно в воде нам легче всего узнать выпившего человека — сивуха бежит впереди него прямиком в ваши ноздри.
Плавательный бассейн при каждом посещении дарит многими незабываемыми запахами. Неизбежными спутниками российской действительности являются всяческие раздевалки нашего отечества, так же как и купе поездов, номера гостиниц, не говорю уж об общественных уборных.
В раздевалке нужно уметь выбрать не отягощающий предстоящую радость плавания стиль поведения — или полная расслабленность, что удаётся не всегда, или скоростное одевание и раздевание. Как бы ни хотелось задержаться в бодрящем контрасте сквозящего морозом ледяного окна и огненно-жаркой батареи, я раздеваюсь, и всё-таки успеваю увидеть и серую сыроватую пыльцу меж ножных пальцев соседа по шкафчику, и смородиновые болячки на его шафранной, как у индуса, спине, нюхнуть почти трупного запаха от его носков. И всё же быстры те мгновения. А уже в душевой вода-матушка окружает, окутывает и защищает меня своим мокрым тёплым плащом. Бегом сквозь кафельный коридор с запахом туалета под высокую стеклянную крышу над волнующейся ванной мутно-голубой воды.
6 декабря 1992 года
«Есть такие должности, которые независимо от более существенных благ, с ними связанных, обретают особую ценность и значительность от сюртуков и жилетов, им присвоенных» (Чарльз Диккенс. Оливер Твист).
Когда у главного редактора журнала «Волга» Николая Шундика вышел новый роман под названием «В стране синеокой», он, как и всякий автор, раздавал и рассылал его с дарственными надписями.
Стол секретарши в предбаннике его кабинета был завален бело-голубыми томами, которые сам Шундик засовывал в большие конверты и надписывал адреса. Из любопытства я заглянул в один из экземпляров. Москва, ЦК КПСС. «Дорогому Василию Филимоновичу Шауро от автора с чувством» и т. д.
Ого! — удивился я. Шауро был заведующим отделом культуры ЦК. Следующим был, кажется, министр культуры Демичев, а далее «Глубокоуважаемому Михаилу Андреевичу Суслову...» И, уже с оторопью, берясь за следующий конверт, я подумал: «Нет-нет, не может быть!»
Было. «Дорогому многоуважаемому Леониду Ильичу...»
«Главному редактору С. Г. Боровикову журнал “Волга”
Работал я гор. Казани СУ-1 газопровода 1961 году.
Однажды не приехала машина за нами, мы добрались на попутных машинах и попали под аварию, меня положили 5-й горбольницу, сотрясением головного мозга.
Они знали эту болезнь. Попал под — сокращений. Отбыл срок 11 лет. Быть там тяжело, столько лет. Настоящее время нахожусь, Волгоградской области гор. Фроловского р-на совхоз “Новый” и опять на работе повторный, сотрясением головного мозга. Если раньше замыкание было временами то сейчас постоянно. Когда находился больнице и спросил про лошадь и сказали нет её тут. Благодатный то я обманул себя, и врачей скорей выписался. Я одно хочу, чтобы знали про её люди!
Как она защищала меня, как везла в больницу, или сколько раз ложилася чтоб я мог сесть в седло.
1981 году приехали на рыбалку с родителями пионеры с района хут. Благодатный. Когда меня увидели то просили, умоляли, чтоб я взял 28-идневного больного жеребёнка среди дохлых телят ещё живого, без кобылы заброшенного! Вот я взял её, рвал себя куртки, брюки на раны! Вылечил — выходил, а как это мне досталося. Чтобы обработать раны, я нанимал людей чтоб держали её. Брал и вино, и водки, и коньяк.
Она выполняла мои просьбы, танцевала на четырёх ногах — гонах, на двух, ложись, встань, большая! А потом начали раскулачивать, 2-х жеребят взяли. Её полгода гоняли пока не погубили жеребёнка. Это зато что она защищала меня, и привезла в больницу. Нас где исчезли документы, Пиночетовским судом судили. Грабили меня как могли. Нас где я сказал секретарю напишите чтоб дело передать областной ОБХСС так, как дело уголовный. Они посмеялись, они знали видимо что там свои Оборотны!.
Что они сделали, толмудистской парадоксальностью.
Это — же суд, нашей Конституции где говорится прав:
Не поступай с другим так, как ты не хотел бы, чтобы поступали с тобой. Поэтому важно, чтобы законы были справедливыми, следствие было публичным...
Меня спрашивают люди, которые знают меня из Ростова и Казани. Сколько буду отбывать срок, после повторной сотрясении.. Презумпции, Ноев — Ковчек. Меня приеледуют, везде и кругом. Я пытался в других районах Михайловский и Даниловский и частный скот. Но остаюсь без работы. Меня судил Коньков. Вот запись на магнитоплёнке:
1. Коньки свои снегурочки, подарил детсад.
Чтоб дети вспоминали его...
2. Сам он вскочил, на коня верхом
Чтоб до Звёздочке дотянутся рукой.
Не доставший он рукой, став на стремена,
Вспомнил Махновские времена.
Махно нет давно уже,—
Но зато Пиночет живой.
3. Взмахнул рукой, попал он тёлочку,
Второй рукой взмахнул он:
Чужую племенную бурёнушку.
4. Лишь бы были червончики,
Лишь бы платили валютчики,—
Мы дойдём до гидро-узла.
У нас мундир, и вера и закон!
Это запись у бывших пионеров, которые учатся учебном заведении
Кулдашев Николай Дмитриевич 1934 г рождений».
Сколько тогда получали редакции писем вроде этого, у меня сохранившегося. При том, что «работа с письмами трудящихся» была поставлена в Советском государстве основательно — каждое требовало регистрации и ответа (что, правда, часто подменяло действенную реакцию), в случаях явной ненормальности автора письма, проверки и меры размывались в пустоту. А сколько их было! От почти уж вовсе замученных бесконечными жизненными невзгодами того времени... Помню письма под общим названием «Просто я работаю волшебником» о том, как автора упрятали в психбольницу: «И они подогнали машину “скорой помощи” прямо к крыльцу моего дома, чтобы проходящие граждане не увидели, как в СССР на практике осуществляется бесплатное медицинское обслуживание».
Человечки с большой буквы.
Насколько помер гуманнее, примиряюще ласковее, чем умер.
Взгрустнётся, бывает, по советскому времени, а тут тебе по ТВ — нет, даже не «Падение Берлина» или «Кавалер Золотой Звезды», а поздний, но поэтому более злокачественный Балуев, знакомиться с которым предложил Вадим Кожевников, а потому ещё и на кинофестиваль... вытащили его в противовес Феллини...
И сразу так легко делается от мысли, что как бы то ни было, но так уже не будет.
В РУССКОМ ЖАНРЕ - 38
Очень давно, едва начав читать толстые книги, я задался вопросом: почему одни писатели нумеруют главы арабскими, а другие римскими цифрами? Почему одни прибегают к делению текста на части, тома, книги, а другие нет?
Ответа не нашёл. Можно было бы начать приводить примеры, но совестно — каждый ведь может взять и сравнить, хоть Толстого, хоть Достоевского, хоть кого хошь.
К своим смешным рассказам Пантелеймон Романов вызывающе не затруднялся подыскивать заголовки. «Крепкий народ», «Нераспорядительный народ», «Дружный народ», «Мелкий народ», «Терпеливый народ», «Гостеприимный народ»; «Хороший комитет», «Хорошая наука», «Хороший характер», «Хорошие места», «Хороший начальник», «Хорошие люди»; «Плохой председатель», «Плохой человек», «Неподходящий человек», «Плохой номер», и т. д.
Есть ли у нас серьёзные работы по заголовкам? Я когда- то интересовался этим (начал с Лескова, крайне изобретательного не только в заголовках, но и в определении жанров своих сочинений), и, как обычно, забросил. А ведь название много говорит о сути писательской. А ещё: «Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт». По воспоминаниям Бунина, Леонид Андреев заставил М. Горького исправить название первой его знаменитой пьесы «На дне», которая первоначально именовалась «На дне жизни». Сам Андреев иногда одновременно импрессионистски резок и практически изобретателен: «Красный смех», «Рассказ о семи повешенных», «Конь в Сенате», «Предстояла кража», «Рассказ, который никогда не будет окончен», «Тот, кто получает пощёчины», но чаще неизобретателен. Горький же явно не трудился над названием: у него есть четыре «Жизни...», пять «Рассказов о...», двадцать один текст просто «О...», три «Случая с...», есть, правда, неожиданный «Город Жёлтого дьявола». Бунин, кажется, почти, как и Горький, равнодушен к названию. Редко-редко — загадка, вроде «Петлистые уши», «Я всё молчу», но фокус в том, что очень часто предельно простое — «Господин из Сан-Франциско», «Солнечный удар», оказывается многомерным. В этом он как бы следует Льву Толстому. У А. Куприна яркие названия наперечёт: «Механическое правосудие», «Запечатанные младенцы» — вот и всё.
Все они учились у Чехова, а он?
У Антона Павловича, как и в его «свадебной» Греции, всё есть. И бесконечные «В...», бесчисленные заголовки-краткие существительные или имена героев. Но зато есть и «Анна на шее», «Весь в дедушку», «Володя большой и Володя маленький», «Герой барыня», «Глупый француз», «Женщина с точки зрения пьяницы», «Живая хронология», «Забыл!!!», «Идиллия — увы и ах!», «Интеллигентное бревно», «Контрабас и флейта», «Кухарка женится», «Лошадиная фамилия», «Мошенники поневоле», «Невидимые миру слёзы», «Пересолил», «Разговор человека с собакой», «Скрипка Ротшильда», «Спать хочется», «Стража под стражей», «Толстый и тонкий», «Умный дворник», «Человек в футляре» и другие — бесконечно!
Вот Достоевский — тут уж и поиски, и находчивость, и ёрничанье, почти неприличное — «Чужая жена и муж под кроватью», и дерзость почти безумная — кто бы ещё мог назвать роман — «Идиот»?!
А Гоголь... одним только (хотя есть и «Нос», и «Вий»), одним только названием «Мёртвые души» (!) — поставил рекорд непобиваемый. Но Толстой, конечно, пожелал с ним соперничать: «Живой труп»!
«Писать не хочется, да и трудно совокупить желание жить с желанием писать» (Чехов — брату Александру. 15 апреля 1894 г.;.
«Сердито, по-хохлацки, поглядел» (Чехов. В родном углу).
«...существо узкое, пьяное и злое» (Чехов. Муж).
Это — уже из Достоевского.
В рассказе Чехова «У знакомых» меня очень поразили строки «С неумением брать от неё (от жизни. — С. Б.) то, что она может дать, и со страстной жаждой того, чего нет и не может быть на земле». Когда узнал, что они записаны им на телеграмме и потом включены в рассказ, понял: они настигли его как откровение.
В последнее время всё большее внимание к Александру III. Мудрено ли!
Положительным цифрам места здесь не хватит. Нехорошо, правда, что обязательно всё у нас с подтекстом. «Патриоты» — с обожанием, потому что инородцев гонял, с Европой свысока изъяснялся. «Либералы» с неприязнью по той же самой причине.
Но, что ни говори, бурный экономический рост и общий, редкий для России политический покой что-нибудь да значат.
Самый безсобытийный русский классик это Чехов. А что если так?
Когда-нибудь в русской истории имена писателя Чехова и императора Александра III будут связаны.
Разве весь Чехов — не свидетельство всепоглощающего ощущения стабильности (или застоя), покоя (или скуки), предчувствия грядущих перемен (потрясений), которым отмечен уникальный для России период правления царя-миротворца?
Оговорюсь на всякий трусливый случай прежде всего в том, что никоим образом не собираюсь апологетизировать царя и установившийся при нём порядок. И всё же народ зря прозвищ не давал, и миротворцем Александра Александровича прозвали не столько за отсутствие войн (в Средней Азии повоевали, и результативно), сколько за общее ощущение мира, отсутствие явных реформ и резких движений.
Разве мир Чехова не иллюстрирует именно это ощущение мира, лишённого движения? Не будет конца примерам — напомним лишь «самый» — «Трёх сестёр» — героев и ситуаций с настроением куда-то двигаться, бежать к какой-то настоящей жизни. А какая эта другая жизнь? Куда и зачем они собираются уезжать, если и там, куда они собираются, царит то же самое — то есть стабильное, почти без намёка на «перемены», «безвременье».
Если взглянуть на большинство повестей, рассказов и пьес Чехова с заявленной мною точки зрения, то станет очевидна конгениальность его сюжетов, идей, а главное поэтики, эпохе Александра III. Ну скажите, можно ли было в другие времена написать немалую повесть о том, как некий петербургский чиновник поселяет у себя даму, а когда она ему надоедает, переезжает на другую квартиру, сообщив ей при этом, что находится в служебной командировке. (Не знаю, почему мне пришёл на ум именно «Рассказ неизвестного человека».)
Конечно, таков не только Чехов, но и та современная ему литература — Лейкин, Потапенко, Щеглов и другие, которую он с невиданной скоростью и силой перерос.
Для Саратова имя живописца Алексея Петровича Боголюбова (1824—1896) не чужое. Алексей Петрович родился в Кузнецком уезде Саратовской губернии — ныне это Пензенская область, основал здесь первый в России общедоступный художественный музей, дав ему имя своего крамольного деда. Входящих в музей встречает портрет роскошного могучего седобородого старца работы И. Е. Репина, бывшего младшим товарищем Боголюбова. В экспозиции музея много работ Боголюбова.
И всё же не ошибусь, если скажу, что даже интеллигентному саратовцу известно о великом земляке две-три строки: внук Радищева, маринист, передвижник. Смею полагать, что многим иногородним искусствоведам ещё известно разве что про его многолетнее пребывание во Франции, да как следствие — прививка барбизонской школы к русскому пейзажу.
Не странно ли: ведь передвижник? Но в советской литературе о передвижниках имя Боголюбова очень часто оказывалось в «и другие». Тенденция эта сильна даже в изданной в перестроечные времена книге главного исследователя передвижничества Фриды Рогинской «Товарищество передвижных художественных выставок» (1989). Ключ отыскивается в примечательной оговорке исследователя: «Даже те из передвижников, которые по происхождению не принадлежали к разночинцам, как Клодты (бароны) или Мясоедов (дворянин), по образу своей жизни и по самосознанию принадлежали к трудовой интеллигенции». Ну, и далее Боголюбов, естественно, выступает как «сложная и противоречивая фигура» с соответствующим выводом: «В то же время деятельность Боголюбова, способствующая развитию демократического искусства, сочеталась с его верноподданнической привязанностью к царствующему дому».
Да что там привязанностью! — тесною дружбой с Александром III, которая позволила царю пошутить в собственноручно написанной поздравительной телеграмме Боголюбову по поводу открытия в Саратове Радищевского музея (1885):
«Благодарю сердечно за телеграмму и радуюсь освящению Радищевского музея, которому от души желаю успеха и процветания на пользу художества и искусства в России. Саша».
Вот в связи с Боголюбовым и царём записи из дневника госсекретаря А. А. Половцева.
«Вечером прогулка по Неве с Боголюбовым, который, живя во Франции в Париже, влюбился в тамошние учреждения по части изящных искусств и предлагает немедленно уничтожить всё у нас существующее и ввести то, что существует во Франции. Как это легко, и какие тут были бы последствия».
(Почти постоянно живя в Париже, Боголюбов был своеобразным культурным атташе России во Франции, много помогая русским художникам.)
«10 июня 1886. Приезжает завтракать Боголюбов. Весьма обиженный тем, что он представлял в Петергофе вчера государю свою картину “Открытие морского канала”. Государь был очень мил и любезен, как всегда, а Владимир Александрович, увидав картину Савицкого, сказал: “Какая дерзость представлять государю пьяных солдат”. Императрица и Елизавета Фёдоровна старались пред Боголюбовым смягчить резкость этой выходки».
Заметим, что картина Савицкого «На войну» изображает сцены проводов на вокзале рекрутов на войну против Турции, что Владимир Александрович — это великий князь, сын Александра II, а Елизавета Фёдоровна — принцесса Гессенская. И ей, и царице неловко перед живописцем за поведение брата царя!
Странные у меня случались «догадки».
Когда-то написал я пародию «С “Веной” в венах» на книгу Олега Михайлова «Куприн» в ЖЗЛ (1981). Там была сцена, где пьяный Куприн и Алексей Толстой на лихаче едут к девкам. И Толстой спрашивает: «А. И., а ты больше с одной или двумя больше любишь?» На что Куприн отвечает: «Щенок! С тремя!».
И вот в недавно опубликованном дневнике Ф. Ф. Фидлера читаем: «Потом он (Куприн. — С. Б.) сказал, что любит иметь дело с двумя женщинами одновременно. Владея одной, он целует и ласкает другую, лежащую рядом» (Фидлер Ф. Ф. Из мира литераторов. М.: НЛО. С. 386). Нет, в самом деле, бином Ньютона я, конечно, не открыл, но как в мою дурацкую башку в 1981 году прилетело почти именно то, о чём Фидлеру рассказывал Куприн в 1904-м?
Вспоминается и трогательное. Как-то году в 1972—1975-м, в журнале «Волга», была очередная «большая» редколлегия. Состав её был тогда обширен — от Кирова до Астрахани, от Калинина до Волгограда, от Ярославля до Пензы, От Костромы до Куйбышева, да ещё Татария, Калмыкия, Чувашия, Мордовия, Марийская республика, тогда ещё без Эл. После редколлегии, естественно, состоялся «товарищеский ужин». Он проходил в большом кабинете ресторана речного вокзала. Среди приехавших членов редколлегии была Маргарита Константиновна Агашина из Волгограда. По завершении банкета спускаемся со второго этажа — мне поручили её сопровождать или я сам нашёлся — не помню, спускаемся по лестнице, и вижу среди оркестрантов своего приятеля саксофониста Юру Колчина... Извинившись, я обогнал Маргариту Константиновну и шепнул Юрке, что эта пожилая женщина — автор текста «А где мне взять такую песню», и пока я возвращался к Агашиной, саксофон уж мягко загудел всем известную мелодию, а следом встал и заиграл весь оркестр. Как тихо радовалась она, как приятно было мне.
На днях по телефону, между прочим, один очень известный современный беллетрист сказал мне, что разочаровался в Гоголе, прямо так и сказал: обнаружил я, что писал-то он не очень...
А у меня как раз был открыт второй том, начало, там, где о ленивом времяпрепровождении Тентетникова: «...он глядел вместо того на какой-нибудь в стороне извив реки, по берегам которой ходил красноносый, красноногий мартын — разумеется, птица, а не человек; он глядел, как этот мартын, поймав рыбу, держал её впоперёк в носу, как бы раздумывая, глотать или не глотать, и глядя в то же время пристально вздоль реки, где в отдаленьи виден был другой мартын, ещё не поймавший рыбы, но глядевший пристально на мартына, уже поймавшего рыбу».
Что это? Что-нибудь хотя бы близкое к этому можно встретить у другого русского писателя?! Помещик отворачивается от зрелища покоса его лугов и глядит на чайку с рыбой в клюве, которая в свою очередь пристально глядит на другую чайку, ещё не поймавшую рыбы, которая пристально же глядит на первую чайку.
Даже авторы «Записок охотника» и «Обыкновенной истории» едва приближались к ничем не замутнённой эпичности, не искривлённой сколько-нибудь «идеей», по выражению Лескова (в «Железной воле»), «не свободной направленческой узостью»...
Утомлённая совесть нежно с телом прощалась.
В РУССКОМ ЖАНРЕ - 39
Под утро где-то внизу захлебнулась канализация, и из палатной раковины поплыла жуткая вонь. Шестеро больных накрылись одеялами с головой.
Вошла нянька тётя Паша:
— Фу! Кто это из вас постарался?! — спросила она.
Я тогда впервые попал в больницу, если не считать пребывания со скарлатиной в областной детской больнице на Соколовой улице. В советское время официально предпочитали не вспоминать, что построена она на средства купчихи Д. Поздеевой, но народная память не желала забывать добра: больницу горожане упорно именовали «Поздеевской». Редкий саратовец в детстве миновал эту больницу. Порядки были строгие — во весь сорокадневный срок никаких посещений! Сельские ребята, привезённые со всей области в Поздеевскую, оставались там месяцами, так как за ними не скоро приезжали (дело было зимой), и, не успев выздороветь от одной инфекции, заражались другой. Старшие устанавливали свои, далёкие от благоприличных, нравы, знакомя остальных с таким, к примеру, устным творчеством:
Широка кровать моя родная,
Много в ней подушек, простыней.
Приходи ко мне, моя родная,
Будем делать маленьких детей!
Помню, две девочки постарше (мне было восемь), задрав казённые рубашонки, подробно ознакомили меня с основами женской анатомии, они же заставляли младших говорить по складам слово «мандарин».
Теперь же, в 1970-м, в палате лежали: курносый русский человек — вылитый Михаил Пуговкин — с суставами, симулянт по фамилии Дзюба (работник райздрава), чёрный, как уголь, шофёр с заболеванием печени и обострением тяжёлого геморроя, молодой худющий парень с подозрением на язву и, наконец, инфарктник, молчавший целые дни. Почему-то более всего меня пугал именно он — от слова инфаркт так и несло близкой могилой. Сейчас, когда я уже трижды инфарктник, прежний страх вспоминаю с недоумением.
«Пуговкин» — я уж так и буду его называть — очень обижался, что ему меньше других дают лекарств и делают уколов. Пока доктор был в палате, он сладко ему улыбался, а как тот выходил, начинал ругать и его, и всю медицину в целом. Неизменно заключая: «При Сталине, небось, всё сполна давали, а эти налево пущают». Он почему-то особенно ненавидел Хрущёва: «с деревни Калиновки Курской губернии... тьфу!». Был он недурной рассказчик, точнее, единственный в палате, потому что инфарктник всегда молчал, чернявый шофёр жаловался после похода в уборную, что опять все кальсоны кровью обмарал, а когда вступал в разговор Дзюба, всех начинало тошнить.
Случаются в жизни такие встречи и такие люди, что кажутся преувеличенными, этакие Лужины или Урии Гипы. А они живут себе и, как правило, благоденствуют. Было Дзюбе лет пятьдесят, бритая до блеска лысая голова в сочетании с густыми бровями, что почему-то типично. Диагноза его не знаю, скорее всего, просто отлёживался. Чин у него в райздраве был невысок, иначе не определили бы в шестиместную палату, но место работы всё-таки сказывалось на отношении к нему персонала. Так, он добился положения лежачего, есть ему приносили, как и инфарктнику, в палату, но главное, чтобы клизмы из-за постоянных, как он говорил, «завалов в кишечнике», ставили ему тоже в палате. Возможно, этот цирк был затеян им с целью получения инвалидности или ещё чего-нибудь практического, но мне тогда казалось, что главной целью было то, что каждый день приходила то одна, то другая молоденькая сестра с судном и резиновым мешком клизмы. И Дзюба, томно растянувшись на спине (на бок, как положено, у него якобы не было сил перевернуться), наслаждался тем, как в виду всей палаты девушка задирала его большое морщинистое хозяйство и засовывала под него кончик клизмы. Мало того, он ещё при этом и приговаривал, что понимает — сестре, должно быть, неприятно, но это её долг, а он и сам медик. Понаблюдав эту отвратительную картину раз или два, я стал выходить из палаты при появлении сестры с клизмой. И в конце, перед выпиской, разгорячась, сказал-таки Дзюбе, что он симулянт и извращенец. Самое удивительное, что Дзюба не ответил.
Ещё помню рассказ «Пуговкина» о любовном приключении в войну. Примерно так.
— Прибываю в Пензу ночью, на улице темнота от затемнения, народу в вокзале полно, в темноте не видно, но гляжу и вижу — сидят девушки. Носы в подолы уткнули. Одна такая... что задок, что передок, здесь полна пазуха. Соображение у меня тогда было холостое, военное. Говорю между прочим: «Что скучаете, девушки?» — «Дак не уехать же!» А у меня тогда книжечка была. Предлагаю той помощь, — при этом Иван Васильевич сморщил короткий нос и погладил себя по выпуклой груди. Короткие ноги в пижамных штанах, которые он свесил с кровати, свело от удовольствия. — Ну, обрадовалась, глазки вытаращила. Предупреждаю: «Расплата натурой». Поняла, конечно, — тут он, рассказчик, конфузно поджал рот: согласна, говорит. Говорю: «Ожидай здеся». — Иван Васильевич приосанился, глаза посуровели. — В кассе народ — разреши, посторонись! — уже небрежно продолжал он, — у меня портупея вот здеся, кобура, книжечку (он сунул руку под пижаму) достаю. Одно место до Кузнецка. Возвращаюсь. «Куда ж, — спрашивает, и сама тут же: — а в парк!».
Рассказ Ивана Васильевича занимает лишь меня да парня-язвенника, опёршегося на худой локоть в широком рукаве больничной рубахи. Жуков, полуоткрыв стальной рот, думает о своём: ему кто-то сообщил, будто слышал, как в ординаторской говорили, что у него цирроз, а это значит скорый конец.
— Поцеловалися, всё, стали совершать акт, всё путём, только чувствую после песок за воротом, что такое? «Да это я с лаптей натрясла. Угодить тебе хотела. Давай отрясу». — И раскрыв рот от вновь переживаемых чувств, он по-гусиному поводит шеей. — Ноги-то, ноги, она, как свечечки, подняла.
На его застенчивых голубых глазах выступают слёзы удовольствия. Неуверенно улыбается парень, инфарктник всё смотрит в окно, Дзюба дрыхнет, выставив свою лысую тыкву из-под одеяла, я размышляю: неужто в войну в пензенском селе ещё были в ходу лапти, а инфарктник по-прежнему смотрит в окно, за которым видны жёлтые верхушки тополей и низкое сырое октябрьское небо.
— С лаптей, говорит! — восторженно повторяет Иван Васильевич и крутит головой. — Ох, беда, смеху с этими бабами!
Второй раз я попал в ту же больницу спустя много лет, с третьим инфарктом. И хотя инфаркт был вовремя остановлен — меня всё же положили в реанимацию. Две высокие койки рядом, куча аппаратуры, проводов, запрет вставать. Я был спокоен. Во-первых сердце сообщало, что его не тряхнуло так, как пять лет назад, когда обширный трансмуральный инфаркт поставил меня на самый краешек, так что детей пригласили, чтобы попрощаться. Во-вторых, опыт. В-третьих, после того, тяжёлого, инфаркта, я вообще стал к грядущему относиться трезвее.
Но уже больница была не прежней, и инфарктник уже никак не мог лежать в одной палате с язвенником. Появились институты. Я, естественно, попал в институт кардиологии.
Особых впечатлений не поведаю, разве что два, ну три.
На вторую мою ночь пребывания в реанимации на соседнюю, а их всего две, не койку, а высокую кровать, для сна крайне неприятную, привезли соседа. Он тяжело дышал, не приходя в сознание, давление падало, вокруг него суетились врач и сёстры. Было это слева от меня, меньше, чем на расстоянии руки. Была ночь, и я очень хотел спать после приступов, «скорой», уколов и прочего, но постоянно пробуждался. Вот соседу подключают какой-то ещё аппарат, вот вводят катетер, так как из-за рухнувшего давления у него не отходит моча. Просыпаясь, я довольно тупо наблюдал за происходящим, пока наконец не догадался спросить у сестры побольше ваты и запихал себе в уши два огромных клока. Осторожно (мешали провода от приборов и трубка капельницы) повернулся на правый бок и мгновенно заснул. Когда я утром проснулся, койка слева уже пустовала. Это была первая смерть рядышком в то лежание, была и вторая, но я не буду про неё рассказывать.
Из реанимации меня перевели в постреанимационную палату, на двоих. Там лежал славный человек, отставной подполковник, ожидавший так называемого стентирования. То есть ему через сосуд в бедре должны ввести гибкую проволоку, на конец которой прикреплено нечто вроде маленького зонтика, который, дойдя до нужного места раскроется и раскроет суженный — стеноз! — сосуд, питающий сердце. Забегая вперёд скажу, что я ещё застал результат операции, и мой сосед, до этого с лиловыми губами, задыхавшийся при каждом шаге, выглядел молодцом.
Но последние два дня перед операцией ему отравил поступивший вместо меня тип (или, как любил говаривать Иван Васильевич из первой истории,— «прототип»; так, вполне по законам русского языка он воспринимал приставку «про» как усилительную — и в его рассказах звучало «эх и тип был, не тип, а прототип!»).
То, что прототипа положили в двухместную палату не из реанимации, с неподтверждённым диагнозом инфаркта, говорило о его среднем уровне блата. Так-то в четырёх-шестиместные клали. Привезли его пьяного — раз. Он тут же принялся курить в палате — два, дежурного врача обругал матом и его за это не выписали — три. Вот что поведал мне подполковник.
А я тем временем перехожу к третьему воспоминанию, тоже связанному с нецензурной лексикой, но чрезвычайно приятному.
Из постреанимационной палаты меня, по звонку моего тогдашнего шефа, человека весьма влиятельного, перевели в отдельную, с ванной, телевизором и т. д.
Располагались «люксы» в сторонке, в отдельном глухом коридорчике, войдя в который, я услышал из приоткрытой двери соседней палаты примерно (или буквально) следующее:
— Сука ... уволю на ... завтра же! Где Пётр? Уволю пидараса в ...! Платёж провела? Какого ...ты там сидишь, ...?! Всех на ... завтра же уволю!
И т. д. Любопытствуя, я чуть заглянул и увидел в комнате маленького пожилого полулысого толстяка, типично американо-гангстерской, итальянской или еврейской наружности — в Голливуде такой знаменитый актёр-толстяк есть — вылитый мой матершинник. Он разговаривал по телефону, положив короткие ножки — опять-таки вполне по-американски — на журнальный столик.
Я слышал сквозь стену и назавтра ту же речь, и, странно, она вовсе не раздражала, но успокаивала и бодрила.
В дальнейшем мне удалось выяснить, что знаток русской речи — главврач одной из саратовских больниц, с чёткой еврейской фамилией и репутацией большого добряка, которого в коллективе обожают. Никого он не увольняет. Просто у него стиль работы такой.
То, что врачей давно и прочно у нас не любят, — факт известный. Дочь одного моего знакомого, придя из поликлиники после удаления зуба, обратилась к отцу: «Пап, иди набей этому козлу морду».
Кроме устойчивой, чуть не с холерных бунтов, народной нелюбви, на этот счёт постаралась и русская литература. «Я ускользнул от Эскулапа, / Худой, обритый — но живой», — это ведь Александр Сергеевич. Конечно, лермонтовский Вернер, или тургеневский Базаров, или чеховский Дымов — герои. Но ведь есть и унизительные сцены «лечения» Кити в «Анне Карениной», и убийственная фраза, если не ошибаюсь, того же Толстого: «Несмотря на все усилия докторов, он всё-таки выздоровел».
Но и у Чехова — врача с огромной практикой, сколько насмешек рассыпано, жутких фраз вроде «Доктор — предисловие гробокопателя». И герои его не только Дымов, но и Ионыч, пьяный фельдшер, алчный стоматолог и т. д.
Насколько я знаю, тема не слишком-то разработана в нашем литературоведении. Давно и много писалось о писателях-врачах, но мало о самом феномене медицины как предмете изображения и анализа. Впрочем, признаюсь, старых книг я не помню, точнее, не знаю, а сейчас ограничился интернетом. А наверняка что-нибудь да было. Наследовала традицию и советская проза. Более других Михаил Зощенко. Все, конечно, помнят больничный плакат: «Выдача трупов от 3-х до 4-х», бойко умирающую в ванне старуху и другие события и детали «Истории болезни» (1936). А то, что герой, лёжа в больнице, успел подцепить разные заболевания вплоть до коклюша, напоминает описанную выше саратовскую детскую инфекционную.
А вот «Плохой обычай» (1924) — про обычай «материальной благодарности» медикам. Сунул рассказчик фельдшеру, и тот, в надежде на дальнейшие подношения, едва не уморил своим сверхвниманием.
Я выше вспоминал о просьбе школьницы отцу побить врача. Это было в 70-е годы. Сейчас участились нападения на «скорую помощь», да и в приёмном покое доктор может стать жертвой нападения пациента. Мы ужасаемся и говорим, что «раньше такого не было». Заглянем в рассказ Зощенко «На посту» (1926). «Очень худая профессия у врачей. Главное — пациент нынче пошёл довольно грубоватый. Не стесняется. Чуть что не понял — драться лезет или вообще убивает врача каким-нибудь предметом. А врач, может, человек интеллигентный, не любит, может, чтобы его убивали.
От этого, может, он нервничает. А только у нас в приёмном покое привычки такой нет, чтобы врачей убивать. У нас, может, с начала революции бессменно на посту один врач стоит. Ни разу его не убили. Фельдшера, действительно, раз отвозили по морде, а врача пальцем не тронули. Он за ширмой был спрятавшись».
Есть у Зощенко и краткая поэтапная формула советского здравоохранения: «У нас на этот счёт довольно быстро. «Скорая помощь». Мариинская больница. Смоленское кладбище» («Иностранцы», 1928). Всего же им написаны многие десятки фельетонов и рассказов о больных и болезнях, врачах и больницах. Именно Зощенко, а одновременно с ним и Булгаков, да и не только они, писали о том, точнее, изображали то, как недоверие и неуважение к докторам и медицине загадочным образом сочетаются в русском народе с патологической страстью к лечению, обнаружению у себя разных болезней, к приёму лекарств. В советские времена, с появлением соцстраха сюда прибавилась массовая симуляция с целью во что бы ни стало добыть бюллетень. Вот рассказ Булгакова «Паршивый тип» (1925). «Пузырёв укусил свою нижнюю губу верхними зубами так, что из неё полилась ручьём кровь. Затем гениальный кровопийца эту кровь стал слизывать и глотать, пока не насосался ею, как клещ. Затем слесарь накрылся шапкой, губу зализал и направился в больницу на приём к доктору Порошкову. <... > Утром... сёдни... кровью рвать стало...» и далее. Но процесс шёл в обе стороны. Смышлёных лекарей всё чаще не удавалось обманывать, куда проще было «сунуть». Взаиморазвращение особенно бурно развилось в годы ласкового брежневского застоя. Ещё примерно тогда же, нет, пораньше, развернулся среди населения обычай писать на врача жалобы. Так врач превращался в «писателя», для которого главным стало не вылечить, а оформить больничную карту и прочие документы так, чтобы комар носу не подточил.
Со стороны же эскулапов возникают новые и новые способы приварка к скудной зарплате. Скажем, со времён андроповской борьбы с диссидентами грехи психиатрии связывались исключительно с принудительным помещением в психушку инакомыслящих.
Но то было гадкое, палаческое, но всё же выполнение приказа, так сказать, «госзаказ». А вот в наши времена широко распространено явление, когда не слишком сердобольные родственники сдают престарелого дедушку, или бабку, или папу, или маму туда, где палаты с решётками, условившись с врачом, точнее с завотделением, что дедушка-бабушка, папа или мама проведут остаток дней в этих палатах, а пенсию, бывает, и повышенную, дедушки-бабушки, папы или мамы будет получать по доверенности врач, то есть завотделением, который, разумеется, не обидит и главврача.
Находчив русский человек! В том числе и в белом халате.
А ещё среди врачей, которые пьют и в целом самые пьющие, — это наркологи.
Что с одной стороны на пользу делу — пьющий врач понимает проблемы больного изнутри. До тех пор, пока его самого не начинают лечить. Вот вам и повторение булгаковского «Морфия» в новые времена. Вообще зависимость доктора от болезни того, кого он лечит, содержится не только в опасности заразиться инфекцией, но и — помните в «Кавказской пленнице» главврача психбольницы, куда Саахов упёк Шурика, как тот чёртиков с плеча сощёлкивал? А задолго до Гайдая русский писатель так охарактеризовал главврача в доме умалишённых: «главный доктор в заведении был добрейший человек в мире, но, без сомнения, более повреждённый, нежели половина больных его...» (Искандер (Герцен А.). Доктор Крупов. 1847).
Пьянство медиков зачастую зависит от места действия и работы. То, что пьют в захолустных больничках, легко объяснимо. Но пьют и в крупных городских клиниках, хотя не все и не во всех. Тут многое зависит от главврача точно по пословице: каков поп... Но даже и в пьющих больницах по алкогольной части особенно отличаются хирурги, передавая, как скрижаль, из поколения в поколения слова то ли Спаскукоцкого, то ли Разумовского: «Русская хирургия будет жива, пока хирурги будут спать с операционными сёстрами, мочиться в раковины в ординаторских и пить казённый спирт».
Мне многократно приходилось пить с хирургами до и после, и даже во время операции. От хирургов не отстают анестезиологи и операционные сёстры. Причём некоторые просто не могут оперировать, не приняв на грудь необходимой дозы. Другие же нечаянно напивались перед операцией, и их приходилось экстренно отрезвлять, а то и — был свидетелем, — по причине полной недееспособности, прятать с глаз долой от начальства куда-то в кастелянскую под груду белья и заменять товарищем по оружию.
Я, конечно, побаивался идти в операционную. И мы с хирургом и анестезиологом, конечно, выпили, точнее, добавили. Вынужден сообщить, что именно мы выпили. Тогда, ночью, был какой неудачный, с точки зрения добывания у старшей сестры спирта, момент, и мой приятель-анестезиолог решил использовать спирт — я хотел было сказать чистый, но точнее, неразбавленный, ибо чистым его нельзя назвать из-за места нахождения—банки, где плавала шёлковая нитка, которой накладывают шов. Больше того, по окаянному стечению обстоятельств, была отключена холодная вода, и этот желтоватый, сильно отзывающий йодом спирт мы разбавили жидким полуостывшим больничным чайком, отчего напиток пожелтел ещё более и стал тёплым.
Да, так было.
Из двух операций, на которых присутствовал, почему-то спокойным меня оставила полостная, на кишечнике, хотя трясущиеся ярко-жёлтые комочки жира, которые во множестве стряхнулись из-под кожи оперируемой (пожилой женщины), запомнились. Но во всяком случае, мне не стало дурно, и я простоял возле стола всю операцию.
Зато вторая — это было в другой раз — заставила меня вскоре покинуть операционную, при её почти абсолютной бескровности. Оперировали женщину лет сорока, она лежала практически одетая — то есть в рубашке до колен. У неё было варикозное воспаление вен на ногах. И вот хирург взял медицинский маркер, кажется, зелёный, и стал обозначать на коже эти вены. Изрисовав ноги, хирург сделал разрезы на концах зелёных линий, подцепил вену каким-то крючком и далее стал наматывать её на стальную (или стеклянную?) палочку, точь-в-точь как червяка. И здесь-то я почувствовал приближение лёгкой дурноты и аккуратно покинул помещение.
Описывать ещё собственные больничные впечатления и воспоминания?
Ведь есть, что вспомнить...
Например, как в результате какой-то чудовищной передозировки — ошибки анестезиолога (мне пилили челюсть под общим наркозом), я не мог прийти в сознание не то что как положено минут через пятнадцать, но почти сутки, и очень хорошо помню, как видел, правда, не описываемый обычно выжившими светящийся коридор, но угольно-чёрное небо, в котором я летел с необыкновенной скоростью и лёгкостью, лишь немного тяготясь ощущаемым внизу собственным телом, к яркой несущейся звезде — комете Галлея (то был год, когда она приблизилась к Земле, и об этом много писали). Наркоз мне дали утром, но лишь к ночи я очнулся, не мог даже пошевелить пальцем, с операционного стола меня перегрузили на каталку. И я постепенно стал шевелить пальцами, конечностями и, шатаясь, встал. Не так давно я встретил хирурга-стоматолога, анестезиолог которого едва не отправил меня на тот свет. Оказалось, что доктор прекрасно помнил и меня, и всю, примерно тридцатилетней давности, историю, и, здороваясь со мною, первым делом воскликнул радостно: «А! комета Галлея!». Да, врачам присуще чувство юмора.
Но — хватит. Я завершаю свои больничные заметки, надеюсь, что время не скоро прибавит мне новых впечатлений.
В РУССКОМ ЖАНРЕ - 40
Счастливы города, в которых живёт или жил настоящий литературный краевед, как, скажем, Евгений Петряев в Вятке, Олег Ласунский в Воронеже. Если же его нет, а профессиональные учёные мало интересуются отчим краем, то по правилу «свято место пусто не бывает» его занимает любитель, чаще всего бойкий журналист, способный отыскать следы всей русской литературы в полуверсте от редакции. Характерными признаками его стиля являются сопряжение любой информации с предметом статьи, кокетливо-загадочная интонация, словно бы автор приглашает читателя совместно отведать сладкого, но ещё запретного плода.
«Илья Ильф и Евгений Петров и представить не могли, что спустя почти восемьдесят лет по мотивам их произведений будет написана новая книга. И не просто книга, а «литературно-краеведческое расследование». Именно так рекомендует назвать своё творение саратовский архитектор и краевед Борис Донецкий» (Борис Донецкий. Ильф и Петров списали город Арбатов с Саратова. // Саратовская газета «Взгляд». 2009, 27 августа).
Впрочем, и Арбатова нашему краеведу показалось недостаточно: в одной из предыдущих публикаций он сумел разглядеть Саратов в селе Васюки из «Двенадцати стульев». Основания — шахматная горячка и план-фантазия о будущем города, опубликованный в местной прессе.
Почему бы каким-то саратовским реалиям и не совпадать с арбатовскими, но наш краевед одержим стремлением доказать, что «авторы не отошли от намерения изобразить именно Саратов» (!) и что «после Одессы, где родились Ильф и Петров, и Москвы, где они жили и работали, Саратов был для них наиболее известным городом». Почему? Ранее он писал — потому, что в «Гудке» одновременно с ними служил Михаил Булгаков, в молодости побывавший в Саратове, а также художник Д. Даран, родом из Саратова. Краеведу представляется, что в «Гудке» целыми днями говорили о Саратове и заразили тем Ильфа, однажды побывавшего в нашем городе. Теперь же так: «Ильф был очень наблюдательным и любопытным человеком — увидит что-то интересное или услышит и запоминает на всю жизнь. Я просто уверен, что он успел погулять по Саратову, посмотреть наши достопримечательности, а потом уговорил соавтора Петрова поместить героев романа в очень похожий городок».
Метод сопряжения чего угодно с чем угодно — основной у саратовского краеведа.
Первый автомобиль, появившийся в Арбатове в конце 20-х годов, имеет, по его мнению, прототипом первые автомобили, появившиеся в Саратове в начале 10-х, а то, что один из них был марки «Адам Опель», служит основанием для происхождения имени Адама Козлевича.
Почему дети лейтенанта Шмидта? — потому что в Саратове были мукомолы Шмидты. А то, что у немцев Шмидтов, как у русских Петровых, — неважно. Почему Бендер? — потому что в Саратове был купец Бендер. Почему у Остапа акушерский саквояж? — потому что в Саратове (только в Саратове?) велась кампания по борьбе с абортами, отсюда же украденное ведро с надписью «Арбатовский родильный дом».
Есть и вовсе юмористические аргументы, вроде рельсы, которую несут по улице (в Саратове же был трамвай — замечает фантазёр), или нарисованных деревьев в ресторанном саду (которые можно было встретить в каждом городе).
Не знаю, был ли у Арбатова точный прототип, скорее всего, это город собирательный, но одну версию могу предложить. Километрах в девяноста от Москвы, на границе Московской и Тульской областей расположился старинный город Серпухов (где бывали именно в годы, предшествовавшие написанию романа, Ильф и Петров).
Сцены в Арбатове начинаются «у белых башенных ворот провинциального кремля». В Серпухове таковой (XVI в.), в отличие от Саратова, имеется. Далее Остап видит лозунг «Привет 5-й окружной конференции женщин и девушек». Административно-территориальная единица «округ», существовавшая до 1930 года, представляла собой нечто среднее между современным областным и районным делением. Серпухов был именно окружным городом тогдашней Московской промышленной области, тогда как Саратов был центром Нижне-Волжского края, или краевым центром.
Вскорости появляется инженер-рвач Талмудовский. Среди не устраивающих его условий жизни в Арбатове то, что «театра нет». Комментарии в связи с Саратовом излишни.
При распределении участков на конференции детей лейтенанта Шмидта отмечено, что «никто не хотел брать университетских центров», а Арбатов был желанным «золотым» участком. Саратов же как раз был одним из четырнадцати университетских городов.
Там же сообщается, что Паниковскому досталось при жеребьёвке нежеланное для промысла детей лейтенанта Шмидта Поволжье, в результате чего он и нарушает конвенцию, появившись в Арбатове, который, следовательно, никак не мог располагаться в Поволжье. Интересно, что в ранних изданиях «Золотого телёнка» Паниковскому выпадало не Поволжье вообще, а Республика немцев Поволжья, и в связи с ней дети лейтенанта Шмидта нелестно высказывались о немцах.
Идея путешествия в Черноморск на автомобиле возникает у Остапа в связи с газетной информацией об автопробеге Москва — Харьков. Саратов на эту трассу при всём желании вынести невозможно, тогда как Серпухов именно на ней и располагается. Более того, ближайшей целью путешественников является бочка с бензином, которая их ждёт в шестидесяти километрах в городе Удоеве. Именно на таком расстоянии от Серпухова по дороге на юг располагается древний городок Одоев.
Был пленум творческих работников в зале Саратовской высшей партийной школы.
Я сидел рядом с поэтом Исаем Тобольским, неподалёку — актёры драмтеатра Олег Янковский и Александр Михайлов, рассказывающие друг другу байки. У Тобольского в руках журнал «Огонёк», где напечатана его поэма. Михайлов попросил: «Разрешите журнал?» Тобольский протянул. Через какое-то время раздался его громкий крик: «Хамство! Хамство!». Даже выступающий на трибуне замолчал. Я и не заметил, как Тобольский вскочил и кричал на актёров, тыча пальцем в последнюю страницу журнала, где они начали заполнять кроссворд. Михайлов, покраснев и извиняясь, протянул ему журнал. «Зачем он мне теперь?! — также громко закричал Тобольский. — Вы его испортили, понимаете?! Испоганили!»
Из президиума секретарь горкома партии И. Б. Ерёмин, инвалид войны с протезом вместо правой руки, постучал как обычно искусственной чёрной кожаной ладонью по столу и громко попросил: «Исай Григорьевич, сядь пожалуйста!».
Но Тобольский не сел, а забегал в проходе вдоль рядов, причитая уже потише: «Так оскорбить поэта, так оскорбить!».
После выхода «антисионистской» поэмы «Исповедь» саратовский поэт долгое время пребывал в непрерывном, как в буквальном, так и переносном, смысле опьянении. Он бесконечно рассказывал, как принёс поэму в редакцию «Волги», где главный редактор Шундик мгновенно прочёл, обнял, поздравил и сказал: «Исай! “Волга” не то место, твоей поэме нужен международный резонанс!». И самолично отправил «Исповедь» в журнал «Огонёк» с рекомендательным письмом Анатолию Софронову. Это первая часть его устной трилогии.
Вторая — та, что буквально через неделю сам Софронов звонит саратовскому поэту и приглашает в столицу за счёт журнала. При встрече Софронов, как и Шундик, обнимает его и поздравляет. Особое место во второй части занимал эпизод с бумажником Софронова. «Исай! — сказал тот младшему коллеге, — пока вам бухгалтерия выплатит гонорар, возьмите у меня». И при этих словах автор «Стряпухи» доставал бумажник, объёмом подобный его чреву. «Никогда бы не поверил, что у человека может быть при себе столько денег», — делился впечатлением саратовец.
В третьей части звучала ужа трагическая нота. Всё чаще Исая Григорьевича можно было видеть в кафе «Юность» (располагавшемся в одном здании с редакцией «Волги») сильно выпившим и в минорном настроении. Перед ним на столе кроме графинчика с коньяком лежал номер газеты «Литературная Россия», где какие-то хулиганы напечатали восторженную рецензию на «Исповедь», которая начиналась примерно так: «Имя автора поэмы “Исповедь”, мужественного советского поэта Исая Тобольского, занесено сионистскими боевиками в чёрные списки по обе стороны океана». Тобольский поднимал на собеседника страдальческий взор, качал лысой головою и вслух повторял эти страшные строки, после чего надолго припадал к фужеру.
Из поэмы «Исповедь» мне запали в память строки, обращённые к брату, уехавшему в Израиль (о чём все узнали впервые из поэмы):
И ни в каких Притонах Тель-Авива
Тебе, Натан,
Не скрыться от меня.
Не спрятаться.
Ничем не заслониться.
С одной стороны, было как-то досадно на откровенно перелетевшие на Ближний Восток вертинские притоны Сан- Франциско, с другой, естественно, одолевал смех: почему пожилой человек должен в Тель-Авиве скрываться, да ещё почему-то в притонах? Или автор поэмы предполагал, что ради них и уезжают?
Успеха «Исповеди» саратовцу показалось мало, и через несколько лет тот же Анатолий Софронов в своём «Огоньке» публикует новую поэму Тобольского «Монолог».
В кармане виза.
Связаны манатки
И пасквилей бумажная гора.
Ты столько лет
Играл с Россией в прятки...
Подбит итог.
Окончена игра.
К любой норе,
К любой чужой берлоге
Приладится безродная душа,
Плакаться о боге.
Только богу барыша.
Каким должно быть радостным созвучием отозвались эти строки у основоположника преследования «безродных космополитов»...
Ульяновский поэт Николай Благов рассказывал, как, приезжая в родное село, на вопросы мужиков о литературных заработках, в десять раз уменьшает сумму гонорара за книгу: вместо трёх тысяч называет триста рублей. И мужики всё равно дивились: за стишки триста рублей!
Отчего-то самые забубённые заведения в Советской России назывались нежно: «Ласточка», «Ромашка», «Колокольчик», «Одуванчик», «Незабудка», «Ландыш» и т. п.
Сейчас видел на улице престарелую, видимо, с больными ногами женщину, на рукаве ватного пальто у неё повязка «Дружинник» вверх ногами. Честное слово! (Запись 1965 года.)
В дымке лет хрущёвская эпоха выглядит, по сравнению со сталинской, оттепельной и вегетарианской, и это справедливо. Хотя и сажали, и расстреливали (Новочеркасск) и казнили беззаконно (валютчики), и отправляли «для пользы дела» на верную смерть военных (Семипалатинск, Новая земля), и мировую войну чуть не развязали и много чего ещё нехорошего. Но и впрямь, массовых посадок и казней не стало.
Я же сейчас про то отличие времён Усатого и Кукурузника, про которое мне ещё не встречалось напоминаний. То есть они встречаются, но не аналитические, а скорее ностальгические, как в кинофильме «Москва слезам не верит», где комсомольский патруль останавливает обнимающуюся парочку: «Вы где находитесь?!».
Я о том небывалом вмешательстве общественности в частную жизнь граждан, которое возникло и расцвело пышным цветом именно при Никите и увяло при Брежневе. Если таковое вмешательство и было в 20-е годы, то оно носило классовый, социальный и политический характер — следили, чтобы не крестили детей в церкви, не держали икон, не пели чего-нибудь царское.
Теперь же в обществе семимильными шагами семилетки несущемся к социализму, стали возникать такие прелестные инструменты вмешательства в частную жизнь, как товарищеские суды, народные дружины, прикрепление передовых к отстающим — на производстве, институтах и даже школах.
Трудно вообразить, что в 1940-м или даже 1950 году на улице вылавливают молодого человека с не той причёской и стригут его наголо или распарывают ему штаны по причине недолжной ширины. Конечно, можно сказать, что в дохрущевские времена иностранных мод, причёсок и тряпок почти не было. Это так и не так. В середине 30-х годов в самом преддверии массовых репрессий и в разгар их в обществе (разумеется, не в глуши, но и в хрущёвские времена со стилягами боролись не в колхозах) достаточно было молодых людей обоего пола, щеголявших в разных там курточках, беретиках, туфельках и т. д., дёргающихся в фокстротах и никому не приходило в голову преследовать их за это, но даже и особо обращать на это внимание. Почитайте хоть Трифонова, хоть «Детей Арбата».
Мне могут возразить, что борьба с низкопоклонством началась при Сталине, но я на это замечу, что она не доходила до ширины брюк и длины волос (а этого практически и не было благодаря железному занавесу).
С выражением «Партбилет на стол!» я встретился лишь раз в жизни. Директором Приволжского книжного издательства какое-то время был Павел Ефимов, пришедший из обкома. Ведущей чертой его было безусловное, без малейших сомнений, повиновение. И хотя времена стояли уже сверхвегетарианские, Паша дрожал и вибрировал при малейшем дуновении сверху. Так, однажды осенью из райкома — всего-навсего из райкома! — потребовали выделить сколько-то человек на картошку в подшефный нашему Фрунзенскому району совхоз, кажется, по имени «Прожектор». А в малочисленной редакции журнала «Волга» народ подобрался или пожилой, или хворый. В издательстве же работало человек пятьдесят. К тому же издательство районные власти не обходили продовольственными пайками, журнал же игнорировали. Картошкой райком озадачивал не «Волгу», а издательство, потому что по тогдашней системе всё материальное — зарплата, гонорар, бумага, транспорт — у него было. Мы же были неимущими творцами прекрасного. Так что райком звонит Паше, а Паша мне. Сколько-то там человек требует. Я ему сказал, что никто от нас не поедет. Он удивился, но ещё более испугался. Словом, второй или третий разговор наш с ним закончился его почти рыданием: «Оба положим партбилеты на стол!». Тут уж я удивился — из кино он что ли эту фразу выкопал?
Жалко его было.
Записи 1970 года, когда я работал в одном НИИ.
Фотограф Капункин об иностранных туристах: «Шпионят. Не х... им вообще у нас делать».
Кинооператор Митин: «А чего ему не пить — он председатель месткома».
Замечательный он человек, Виктор Александрович Митин, фронтовик: «Когда закончилась война, нас повели в цирк». Чем не Генрих Бёлль?
Дальше рассказ о том, как передрались танкисты с заградотрядчиками.
А потом: «Комполка убило прямым попаданием снаряда в спину — куда руки, куда ноги». При этом он улыбался, что было жутко видеть. Чувствуется, да он и сам об этом говорил, что он до сих пор счастлив сознанием того, что остался жив. В зарплату получает пятнадцать-двадцать рублей. Платит алименты. Когда рассказывает о какой-нибудь поездке (прежде он работал на студии кинохроники), заканчивает так: «... взял он (я, они) две (пять, десять) бутылок водки».
Леонид Леонов в старости посетовал, что Есенин неразумно распорядился своим талантом.
Стоило доживать до глубокой старости, чтобы так и не понять, что есенинское — для всех и навсегда, а его многостраничные романы — для немногих и ненадолго.
Запись 30—31 июля 1979 года.
Пароход «Михаил Калинин», бывший «Баянъ» 1912 года постройки, рейс Горький — Астрахань, каюта № 26, 2-й категории.
Пароход, держась кормовой чалкой, разворачивается течением. Это теперь у теплоходов и дизельных есть боковые двигатели для разворотов.
Смотрю с кормы вниз на руль в обегающей его тяжёлой жёлтой волне над отметиной «18» — первой на белой части шкалы, красная же вся под водой.
3-я категория, сидящая на жёстких крашеных лавках. Задумавшийся старик с воблой в одной, бутылкой пива в другой руке.
Всегда волнующее: подвал машинного отделения, где в тесном рассчитанном просторе неумолимо движутся стальные шатуны, вращая вал гребных колёс.
Туманное окошечко, в которое видно рядом колесо в тумане брызг и темноте кожуха.
На носу. Заметил, что цепь правой якорной лебёдки ободрана, тогда как голубая краска левой нетронута. Всё дело в том, что пароход почти всегда пристаёт носом против течения, стало быть левым бортом, а большинство крупных волжских пристаней на правом берегу. (Исключение, когда низовой ветер столь силён, что гонит верхние слои воды против течения, и тогда чалятся правым бортом)
Старик-чуваш в пролёте нижней палубы. Чёрно-седая узкая борода из гладкого сухого лица, чёрные без седины во-лосы. Оказалось, 1904 года рождения. Ездил к сыну в Волгоградскую область, в совхоз рядом с городом Волжский. Сын был женат на русской, которая ему изменяла, теперь женился на чувашке. Сам старик был на фронте, в Берлине. Имеет четверых детей. Говорит о том, что не надо разным нациям жениться, а только между собой. Будет переезжать к сыну.
Ресторан. Бюст Калинина. Доска с надписью «Здесь в 1919 году работал великий русский лётчик нашего времени Валерий Павлович Чкалов». Люстры. Полукруглая дверь. Не кормят: смена. В пустом ресторане завёл разговор. Две официантки Надя и Наташа. Горьковские, как и вся команда. И они, и нижняя буфетчица, к которой я уже наведался, как будто ждали — рассыпались разговором о том, как их плохо снабжают.
Вечером пытался разговорить старпома, но он — важный.
Курсанты из Вольска и ребята-марийцы, провалившиеся на экзаменах в это же училище тыла. Я угощал их вином. Все — скромные.
Прикуривая, обжёг ладонь и пошёл в машину, чтобы капнули маслом. Машинист дежурил Саша, белобрысый парень. Он с готовностью стал рассказывать о машинах, с гордостью за паровые, которые могут обогнать дизеля. Сказал, что понимающие люди, интеллигенция, каждый год от Горького до Астрахани плывут на старых пароходах. Я ходил с ним по пупырчатому стальному полу, меж множества труб, маслёнок, узких лесенок, крашенного суриком поддона и литой чугунной станины. Он сказал мне, что пароход готовят к списыванию. Уже списали «Суворова» и другие.
В кочегарке гул и жар. Бьют пламенем форсунки, и когда заглядываешь в топки — там нежно раскалённая пещера, осыпающаяся слабыми розовыми искрами.
Позвал Сашу, и он пошёл (с опаской). На корме выпили с ним бутылку сухого в чёрной непроглядной ночи.
Потом я прошёлся по палубе кругом, посидел на носу, глядя в чёрный простор, откуда нёсся ветер.
С утра один в пустом ресторане средь деревянных панелей, перегородок со спинками, где на уровне головы алый бархат. Официантки, особенно беленькая Наташа, опять жаловались. Она жена второго штурмана. Их, официанток, две да ещё внизу одна. Получают по восемьдесят рублей. Вычитают за посуду. Один пассажир выбросил в окно суповую миску из нержавейки, объяснив это тем, что она — грязная.
При мне Наташа ходила по каютам в поисках вилок. Живут, как и многие из команды, в горьковском Затоне, где с едой хуже, чем в Горьком.
А за зеркальным окном уже медленно вползала на холмы Сызрань, возникли в тумане серые быки знаменитого железнодорожного моста.
Дождь. Дети смотрят телевизор в салоне.
Внизу в 4-м классе — играют в карты спят на полках, выступах, на полу. Везде мешки, одежда, еда. Торчащие ноги. Запахи.
Трюм и третья палуба завалены мешками с арбузами. На них метки — у кого крест, у кого инициалы, предел же наивности надпись «Наш мешок».
Куйбышев, 1—3 августа
Вновь убедился, как Куйбышев похож на Саратов, только с Волги некрасивей, а внутри богаче (старая часть). Поселили в «Гранд-отеле», русский модерн, обваливающиеся с улицы балконы с закруглениями, везде реалистические картины 50-х годов, а на лестнице старые ещё медальоны с видами синих озёр, красных замков и зелёных дерев. Голова огромного лося на лестничной площадке меж третьим и четвёртым этажом.
Пивной бар у Волги, подвальный, огромный, каких в Саратове нет. Пожилой мужик дядя Миша Девочкин. То врал, что только что освободился из Магадана и приехал на родину. То скрипел зубами, сказал, что весь израненный, что Самару освобождал от белочехов, с Колчаком бился. А лет ему пятьдесят. Когда совсем расхулиганился и его выводили, заплакал и крикнул: «Простите, ребята, нервишки после войны хероваты!»
Я и прежде не раз бывал в Астрахани, но тогда приехал впервые, как главный редактор журнала «Волга», чтобы завизировать статью первого секретаря Астраханского обкома.
В прежние времена первые секретари обкомов всех областей и республик (14 областей и 4 автономные республики), входивших в зону нашего журнала, с большим удовольствием принимали главного редактора, беседовали с ним и охотно откликались на его маленькие просьбы. Так, после общения с первым секретарём Горьковского обкома, один из моих предшественников прямо на ГАЗе приобрёл новую «Волгу-24», каковых в личном пользовании в Саратове, кажется, ещё ни у кого не было.
Увы, настали новые времена. Когда астраханские коллеги-писатели наперебой стали расспрашивать меня, какие дары природы я застал в номере гостинцы «Лотос» и услышали, что из даров там была лишь большая коробка отборных помидоров, они с комическим недоумением переглядывались. По их многолетним наблюдениям и моему рангу в холодильнике должны были бы находиться икра зернистая и паюсная, осетровый балык и коньяк. Ах, Горбачёв, Горбачёв!
Ещё собратья по перу советовали мне обязательно при встрече в обкоме упомянуть, что мне крайне необходимо побывать на тонях, чтобы понаблюдать за тем, как трудятся добытчики осетра, а также на рыбзаводах.
Принял же меня, и то ненадолго, не первый, а второй секретарь, подпись под готовой статьёй с исправлениями я получил от какого-то референта, а в спутники для культурной программы мне был определён завотделом пропаганды, с которым мы и отправились в Астраханский заповедник.
Правда, катер был хорош. Теперь в эпоху всяческих скоростных комфортабельных средств водного передвижения про них забыли, а тогда... «Для служб судового надзора и спасательных станций» в СССР выпускались катера на подводных крыльях «Волга». В народе их называли «Щучки».
Были «Метеоры» — большие суда на подводных крыльях, которые уже при Ельцине сплавили то ли в Китай, то ли ещё куда. На «Метеорах», а прежде них на «Ракетах», за считаные часы жители Саратова добирались до Хвалынска и даже до Самары. На шестиместных же «Щучках» летали начальники.
Вот и я полетел.
Особенно запомнилось невероятное число стоящих на приколе, или полузатонувших, или гниющих на берегу брошенных судов — пассажирских, рыболовных, буксиров. Километр за километром неслись они мимо нас, памятники человеческого труда и бесхозяйственности. А сколько прежде строилось судов по Волге! Разве кто теперь может поверить, что даже в маленьком Балаково до революции было развито судостроительство! А в Саратове лет десять назад уничтожили даже судоремонтный завод с уникальными станками, на которых выгибали из стали, варили корпуса судов для того, чтобы на его месте построить на берегу «элитные» — какие же ещё! — дома не только с автомобильными, но и водными гаражами для катеров. Завода нет, но и домов нет.
Но — ладно. Устье Волги распадается на сотни и тысячи крупных и мелких рукавов. По дороге я вспомнил о наказе астраханских коллег и поинтересовался, побываем ли мы на одной из тоней, где добывают осетра, а также белугу, белорыбицу и прочие сладкозвучные рыбопродукты. Ответом мне был отказ.
А ведь ещё недавно я неоднократно бывал в этих фантастических местах, где рыбаки в непромокаемых комбинезонах тяжко тянут из нешироких проток свои невода, полные рыбы, и женщины в таких же комбинезонах забирают оттуда огромных животрепетных рыбин и бросают их в «прорези» — лодки, полные воды. А под навесом, на ветерке, длинный дощатый стол заполняется угощением, ассортимент которого сводится к немногому: большие миски с багровыми астраханскими помидорами, свежим хлебом, крупными кусками жареного сазана, мутновато-серой зернистой икрой — крупной осетровой и более мелкой белужьей, только что вынутой из распоротого брюха и посоленной, ну и прозрачные запотевшие бутылки в сопровождении добрых гранёных стаканов.
Описать красоту островов и проток, бесчисленное обилие птиц, даже огромных, парящих над катером в высоте орланов-белохвостов, о которых я прежде лишь читал в книге моего отца «В Каспийских джунглях», вышедшей в год моего рождения, нет, описать всю эту красоту мне не дано. Я попросил застопорить катер, чтобы искупаться на чистом месте среди зарослей уже отцветших лотосов. Дело было в конце сентября, вода была свежая и, казалось, ещё пахла цветом, вместо которого среди огромных листьев уж торчали коробочки семян. Я плавал, а мускулистые стебли лотосов мягко заплетали мне руки и ноги, словно утаскивая в зеленоватую глубь.
Мы прибыли наконец на центральный участок заповедника — Дамчик.
Директор Дамчика потчевал нас рыбным обедом с бутылкой коньяка, которую прихватил-таки с собой обкомовец. И, надо сказать, рисковал.
Стоит ли вспомнить жуткую пору мордобойственных очередей у немногих уцелевших винников, ту идеологическую вакханалию, которая накрыла страну. Шёпотом передавались рассказы о том, как сам Егор (который «Борис, ты не прав») лично отлавливал, обнюхивал и увольнял на месте преступления руководителей, вроде замдиректора ТАССа, который принимал иностранцев и отпил с ними чего-то алкогольного. Оживилось стукачество. Рождались монстры, вроде «безалкогольных» комсомольских свадеб, где спиртное наливали под столами из чайников. И при этом, как рассказал мне тогда главный редактор одного столичного журнала, на кремлёвских приёмах открыто подавали вино. А вот в городе Тольятти, где я был весною того года на Днях советской литературы, на банкете столик с бутылками был поставлен подальше от основного стола, так что теоретически можно было подойти или попросить поднести официанта. Но никто из хозяев и писателей — ни бугор делегации Пётр Проскурин, ни восходящая звезда эстрады Михаил Задорнов, ни сам Булат Окуджава этого не сделали. Зато на другой день на водную прогулку к Жигулям, двое дюжих молодцев еле втащили на борт прогулочного катера два огромных мешка — один с жигулёвским пивом, другой с астраханской воблой.
Так что впервые меня видевший астраханский обкомовец не имел никакой гарантии, что по возвращении в город я не настучу на него.
За столом хозяин рассказал нам, что недавно они принимали дорогого и экзотичного гостя — очень популярного английского писателя-натуралиста Джеральда Даррелла, прибывшего в заповедник с молодой женой и переводчиком. Лишь только британец ступил на остров, возник вопрос: где взять для него спиртное. Оказалось, что писатель привык начинать день с пива, продолжать за обедом красным вином, предварительно приняв джина с тоником, а вечером за сигарой наслаждаться добрым стаканом виски или бренди. Растерянный начальник позвонил в обком. Там ответили, что подумают, и назавтра сообщили, что в Дамчик срочно направляется буфетчик с полным ассортиментом того, что требовалось англичанину. Никто, кроме Даррелла, не должен пытаться прикоснуться к привезённому. Не исключено, что гость пожелает расплачиваться валютой, что предусмотрено, и буфетчик подготовлен.
Я не проявил нескромности, и не стал пытать хозяина заповедника на предмет того, угощался ли он со знаменитым гостем.
Лишь недавно понял загадочный вопрос доктора Борменталя (не того, что в Саратове, а первоначального, из «Собачьего сердца»). В ответ на предложение профессора Преображенского выпить обыкновенной русской водки, он спрашивает:
«— Новоблагословенная?
— Бог с вами, голубчик, — отозвался хозяин. — Это спирт. — Дарья Петровна сама отлично готовит водку.
— Не скажите, Филипп Филиппович, все утверждают, что очень приличная. Тридцать градусов.
— А водка должна быть в сорок градусов, а не в тридцать, это во-первых, — наставительно перебил Филипп Филиппович, — а во-вторых, Бог их знает, что они туда плеснули. Вы можете сказать, что им придёт в голову?»
Повесть написана в начале 1925 года, и имеется в виду водка образца декабря 1924 года, так называемая «рыковка», по имени тогдашнего председателя Совнаркома, нашего земляка А. И. Рыкова. Но уже в октябре 1925 года поступила в продажу сорокаградусная, что стало выдающимся событием. В повести Валентина Катаева «Растратчики» (1925), целый уездный городок Калинов живёт ожиданием сорокаградусной, пребывая в трезвой тоске. Но зато, когда началась торговля, «Город Калинов был неузнаваем. Куда только девалась вся его давешняя скука. Окна трактиров и винных лавок пылали. Возле них стояли толпы. <... > Со всех сторон гремели гармоники и бренькали балалайки. В улицах и переулках компаниями и поодиночке шатались калиновские обыватели, пьяные в дым. <... > Дождь и тот пахнул спиртом».
Так вот в вопросе Борменталя я относил определение «новоблагословенная» лишь к ироническому отношению доктора к новой власти, которая благословила производство водки. Определение, однако ж, имеет двойной смысл.
Тот, кому доводилось пить водку московского завода «Кристалл», может прочитать на этикетке, что находится он по адресу ул. Самокатная, 4. А в двадцатые годы улица называлась ещё по-старому — Новоблагословенная, и был там в доме № 4 винный склад № 1, откуда и пошло производство советской водки.
В повести Булгакова, в той же сцене, есть ещё неразгаданная кулинарная деталь. «Зина внесла серебряное крытое блюдо, в котором что-то ворчало. Запах от блюда шёл такой, что рот пса немедленно наполнился жидкой слюной. «Сады Семирамиды!» — подумал он и застучал, как палкой, по паркету хвостом.
— Сюда их! — хищно скомандовал Филипп Филиппович. .. — ... доктор Борменталь, умоляю вас мгновенно эту штучку... — Сам он с этими словами подцепил на лапчатую серебряную вилку что-то похожее на маленький тёмный хлебик. <... > — ... из горячих московских закусок это — первая. Когда-то их великолепно приготовляли в “Славянском базаре”».
Что же это за «хлебик»? Почему писатель устами Преображенского не назвал его?
Авторы фильма «Собачье сердце» обошлись вовсе без «хлебика», заменив его на кокотницу — всем известную металлическую кастрюлечку с длинной ручкой. Сейчас обычно в них подают жюльены, чаще всего грибные или из куриного мяса.
Был у меня по этому поводу диалог с главным поваром саратовского ресторана «Эгоист». Они там тоже пытались разгадать любимую горячую закуску професора Преображенского, но, кажется, безуспешно.
А я вот что нашёл в одной авторитетной книге. Не той, всем известной культовой «Книге о вкусной и здоровой пище», издания 1952 года, а в «Кулинарии», томе объёмом в 956 страниц — руководстве для ресторанных поваров (1955). Если «Книгу о вкусной и здоровой пище» читали, глотая слюнки, то в эту кулинарную библию входишь, словно в музей раритетов, настолько нереальным для советской действительности выглядит предлагаемое множество блюд да и напитков.
По поводу последних не могу не указать, что там имеется семь рецептов только крюшонов, а коктейлей (которые, как нам сейчас кажется, пришли к нам куда позднее с Запада), коктейлей аж 36! А как вам устрицы, запечённые под молочным соусом? Фарш из дичи в слоёном тесте? Рябчик, прослоённый сыром из дичи?
Да, так вот из множества, а точнее из ста двадцати одной горячей закуски под описание «хлебика» подходят совсем немногие. Печёные корзиночки с начинкой из паштета, мозгов и т. д. Крокеты, то есть обвалянные и поджаренные в сухарях кусочки мяса, курицы.
Однако корзиночка не слишком похожа на хлебик, а крокеты как правило круглые. Есть ещё и закуски на хлебе, именуемые тартинками, скажем поджаренный кусочек ржаного хлеба с костным мозгом. Всё это, однако «ворчать» под крышкой никак не может. Остаются, наконец, биточки — не те биточки, которыми кормят в столовой, а весом по 15—20 грамм, и ещё крошечные поджарки. Я бы выбрал поджарку из белуги. Она готовится из нарезанных брусочков драгоценной рыбы и подаётся на горячей сковороде.
Все кинофильмы, где есть Волга, и не вспомнишь, но всегда помню фильм, где Волга предстаёт истинною Волгой. Точнее два фильма. Это «Детство» и «В людях» Марка Донского по Горькому. А ведь вовсе забыли и фильмы и режиссёра. Меж тем он передал в кино русскую провинциальную жизнь так, что и рядом никого нет, разве что Протазанов.
Понял, кажется, смысл строки из любимой песни моего детства «Летят перелётные птицы»: «Не нужен мне берег турецкий». С остальными всё в порядке — «чужая земля не нужна» и Африка, в которую направляются зимовать птицы. Но вот берег турецкий при чём?
А при том, что слова написаны Михаилом Исаковским в 1949 году. Ещё не остыли страсти вокруг послевоенного передела Европы, претензий Сталина на Европу. А берег турецкий это проливы, двухвековая цель Российской империи, как формулировал Достоевский: «Да, Золотой Рог, Константинополь — всё это будет наше».
Когда смотрю кинофильмы моего детства, юности, молодости, я автоматически отмечаю актёров: умер, умер, умерла...
В РУССКОМ ЖАНРЕ - 41
«Откололи с неё чепец, украшенный розами; сняли напудренный парик с её седой и плотно остриженной головы» (Пушкин. Пиковая дама).
А напиши он, как все писали и пишут: «коротко остриженной», где бы это невероятное, прямо-таки на ошупь, впечатление?
«Натуральная» смерть у Некрасова мне ближе, понятнее, необходимее всех романтических поэтических смертей: «В полдневный жар в долине Дагестана...».
«Птичка Божья на гроб опускалася / И, чирикнув, летела в кусты». А «О погоде»?
Пушкин-то, который всё про всё знал, романтизм смерти переадресовал глупому Ленскому...
Великие творцы были аристократами духа и не зависели от «общественного» мнения, не тщились демонстрировать презрение к власти по любому поводу. Так, Валентин Серов, бывший вне политики, взялся писать портрет Николая II — интересно, денежно. А Аркадий Аверченко, политически ничтожный, но либерал, в ответ на чисто человеческое приглашение того же царя посетить его в Зимнем и почитать рассказы, ответил громким отказом, о котором с его подачи раззвонила вся «прогрессивная» пресса.
Методы достижения всемирной славы и репутации до Солженицына обкатал М. Горький. Личное бесстрашие, вера в собственное мессианство, публичный — обязательно публичный! — вызов власти, карнавальность, которую Бунин столь едко подметил в поведении, костюме, манерах Горького, и высмеял Войнович — его Сим Симыч и фамилию-то носит Карнавалов. Да и обыденные пиджачки у него, как и у Горького, не в чести. Непрестанная — устная, печатная борьба. С «contra» всегда проще — отмена крепостного ли права, свобода печати, восхваление коллективного труда, повторение как заклинания слова «земство». С «рго» всегда случалась закавыка. Что мог предложить в качестве позитива даже Герцен — крестьянскую общину!
Замечу, что многажды осмеянный в роли моралиста-поучителя автор «Выбранных мест» и поучает как-то застенчиво, словно даже стыдясь за докуку — уж, извини брат, сказалось словечко по поводу, не хочешь — не слушай... Да и сами советы не советы. Скорее маниловские мечты. Горький же и Солженицын за грудки хватают: делай, как велено!
«Почти невозможно представить себе этого художника с его огромным дарованием — без жезла, без посоха учительского, иногда просто без дубинки... И не в том худое, что учит миру и любви, — учить надо, а в том, что невнимательных и несогласных бьёт тяжёлой книжкой по голове» (Чегодаев И. О Горьком // «Русская Воля». 1916, 24 декабря).
Москва была первой ступенью ссылки, что сейчас кажется невероятным. Казалось бы, какой смысл ссылать провинившегося из Петербурга в старую столицу, остающуюся культурным и умственным центром? Получается, что единственный — удалить от центра власти, от близости власти, и только это.
У Катаева в романе «За власть Советов», который затем был назван «Катакомбы», в 1941 году у «довольно известного юриста» Бачея дома не только домработница и газовая плита, но «в кухне пощёлкивает машинка холодильного шкафа». Домашний холодильник тогда был сенсацией, и был в Москве у одного человека — писателя Валентина Катаева.
Как расчётливо, чтобы не писать напрасно или опасно, он выстраивал свою тетралогию. «Белеет парус одинокий» — 1936 — чего тогда о 905-м годе не написать! Второй книгою по времени написания станет последняя по хронологии — «За власть Советов» (1948), вынужденно переделанная к 1951- му (всё равно не уберёгся, хотя писал о недавнем героическом прошлом). Третья по времени публикации и вторая по хронологии «Хуторок в степи» о смутном, но всё же идейно ясном «позорном десятилетии» появилась в 1956 году, когда только-только что-то развиднелось, а уж о совсем опасном времени, сразу после 1917-го с белыми-красными, то есть по хронологии третий роман «Зимний ветер» печатался последним в 1961 году.
«Потом Ванечка дал кому-то по морде кистью вялого винограда» (В. Катаев. Растратчики. 1926).
«У тебя нет гарантии, что ты не получишь в “Колизее” виноградной кистью по морде от первого попавшего молодого человека» (М. Булгаков. Мастер и Маргарита).
Что это — Булгаков позаимствовал у Катаева, или мода тогда такая была кабацкая — бить по морде кистью винограда?
У Василия Гроссмана («Жизнь и судьба») персонаж, воспоминая Гражданскую, с удивлением отмечает, что самой лихой музыкой для атаки «хоть на Варшаву, хоть на Берлин с голыми руками пойду...» была «По улице ходила большая крокодила».
Ни герой, ни Гроссман просто не знали, что мелодия пресловутой «Крокодилы» это марш «Дни нашей жизни» знаменитого военного капельмейстера, автора многих маршей, Чернецкого.
«№ 36 записка Г. К. Жукова и А. С. Желтова в ЦК КПСС о жалобах генералов и офицеров-отставников на их отрицательное изображение в печати
31 июля 1956 г.
Считаем необходимым доложить Центральному Комитету, что за последнее время в центральной и местной печати стали часто появляться статьи, фельетоны и рассказы, в которых в крайне неприглядном, отталкивающем виде изображаются офицеры Советской Армии, находящиеся в отставке и запасе.
Характерно, что упор при этом делается не столько на сами факты недостойного их поведения как советских граждан, сколько на их принадлежность к офицерскому корпусу, на то, что они получают большие пенсии, живут якобы в роскоши, пьянствуют и т. п.
В саратовской областной газете «Коммунист» (рассказы Г. Боровикова) и в газете «Сталинградская правда» (фельетон в номере за 6 апреля 1955 г.) были опубликованы материалы, в которых офицеры в отставке изображаются опустившимися, никчёмными людьми, носителями чуждых нам пережитков прошлого».
Как-то саратовский писатель Коновалов, вернувшись из Москвы с пленума СП, на котором говорил хитрую речь о молодых, которых и строки не прочитал, и где запил, то с вокзала, боясь идти домой, с чемоданом завернул в «Волгу». Бегал по кабинетам и добрался до нас — меня и вмиг при виде его побледневшей Ольги Г. Тряся мокрыми корявыми усами, надолго прикрывая страшные глаза набрякшими веками, без конца брал у Г. из пачки американские сигареты (которыми сами только лакомились) и вел провокационный разговор: как сподобился быть и даже ночевать у Леонова, как тот перед беседою накинул на телефон ватник и говорил о том, что «Николашка-то, Николашка, садить-то никого не велел, Григорий Иваныч! Александр-то, Александр Первый Иванову-то, живописцу 30 тыщ дал в Рим ехать...». И так очень долго с точными датами (память у него чудовищная, и тем более все это жутко, хотя его и давно знаю, эти точные знания, слова и определения в сочетании с грубым пьяным лицом и нарочито простецким говором), о том, как Микеланджело в каком-то храме при осмотре папой его работы, уронил сверху бревно, которое папу по башке, и как да Винчи тоже папу или кардинала мазнул ненароком по морде кистью, а тот лишь утёрся, а сейчас всякий неграмотный деятель лезет всюду, хамит.
Потом спросив у «Ольги» разрешения спеть, что та с ненатурально заинтересованным лицом разрешила, свесил голову и без голоса, но хорошо, как умеют петь лишь в народе, запел песню про возвращающихся с боя казаков. Пел долго, вздыхая.
Во время всего этого представления раз десять спросил меня со смирением, донесу ли я «дяде Грише» до дому чемоданчик. И когда уже он стал затягивать пребывание, я напомнил. Он униженно сказал, что как только я велю, так он и пойдёт. Вышли.
Он двинулся в горку пешком. «Да на троллейбусе поедем», — говорю я. Он себя хлопнул по карману: «А деньги у тебя есть, Сергей?»Поехали.
В троллейбусе он говорил о молодых. А, вспомнил! Он ещё не сказал речь на пленуме, а лишь ездил утверждать её и во время разговора в редакции несколько раз сказал, как вызвали его в ЦК и упрашивали, а он отказывался: «Я не могу — Виль обидится, он у нас молодыми ведает». Говорил о том, что молодые — гении, что ни Толстому, ни Достоевскому не удалось написать мать так, как они.
В троллейбусе на выходе, униженно-умильно пропускал всех вперёд себя.
Были лужи (кажется, ноябрь). И тут я скажу то, меня поразившее, чего ради, собственно, я и вспомнил этот случай.
Он был пьян. Я трезв. Он стар. Я молод. Он без умолку говорил. Я молчал. Он не смотрел под ноги. Я только туда и смотрел. Но я вдруг увидел, что ноги его сами по себе ступают на редкие сухие места, и брюки и ботинки его совершенно чисты, а у меня заляпаны грязью.
Вот тут мне стало страшно. Было в нём что-то дьявольское. И понял я его успех. Пьяный, много делающий дурного — он всегда ухитрялся ступать по сухому.
А говорил он так: «Молодые-то, Серёга, всех зачеркнули — о войне как пишут! Симонова — на ...! Бубеннова — на ...!» И еще кого-то туда же — на всю улицу. «Чьё влияние, спросишь, чувствуется? В первую очередь: Достоевский. Досто-ев-ский! И Бунин. Ну Бунин, Сергей, Бунин-то, а?»
У самого дома лицо его стало совсем уже страшным, и он зашептал о том, как Василий Белов зазвал его в Вологде к себе и сказал: «Мы не должны выступать, мы должны только писать и не открывать себя врагу. Они ведут с нами истребительную войну».
«Чкалов — это был богатырь! В ЦДРИ, помню, были Ставский, я и Чкалов, ещё кто-то. Валерий заказал двенадцать бутылок коньяка, выпили и поехали летать. У меня был очень бледный вид» (Шолохов в дневнике В. Чивилихина).
У Чехова дьякон говорит, что от водки бас гуще. Слыша великолепные, не только «поставленные» по-старому, по-театральному, но ещё и особо звучные, мужские голоса старых мхатовцев Ливанова, Грибова, Массальского, я не могу не слышать, как в тембрах их отзываются многолетние «вредные привычки». Без них эти великолепные голоса были бы невозможны.
Из мемуаров академика-кораблестроителя Алексея Николаевича Крылова: «Невольно вспоминается образ жизни Андрея Михайловича, продолжавшийся неизменно около пятидесяти лет до самой его смерти в 1895 году. Вставал он рано, часов в шесть, и начинал что-нибудь делать в мастерской, занимавшей две комнаты во втором этаже сеченовского дома. Каждые пять минут он прерывал работу и подходил к висящему на стене шкапчику, в который для него ставился ещё с вечера пузатый графин водки, маленькая рюмочка и блюдечко с мелкими чёрными сухариками; выпивал рюмочку, крякал и закусывал сухариком. К вечеру графин был пуст, Андрей Михайлович весел, выпивал за ужином ещё три или четыре больших рюмки из общего графина и шёл спать.
Порция, которая ему ставилась в шкапчик, составляла три ведра (36 литров) в месяц; этого режима он неуклонно придерживался с 1845 по 1895 г., когда он умер, имея от роду под 80 лет. <... >
Известно, что Иван Михайлович Сеченов по окончании курса Инженерного училища, прослужив недолго в сапёрах, вышел в отставку и поступил на медицинский факультет Московского университета. Здесь он сблизился и подружился с С. П. Боткиным. О чём была докторская диссертация Боткина, я не знаю, но диссертация Ивана Михайловича была на тему: «О влиянии алкоголя на температуру тела человека». Не знаю, служил ли ему его родной братец объектом наблюдений, но только через много лет, в конце 80-х годов, Иван Михайлович передавал такой рассказ С. П. Боткина:
— Вот, Иван Михайлович, был у меня сегодня интересный пациент, ваш земляк; записался заранее, принимаю, здоровается, садится в кресло и начинает сам повествовать:
— Надо вам сказать, профессор, что живу я давно почти безвыездно в деревне, чувствую себя пока здоровым и жизнь веду очень правильную, но всё-таки, попав в Петербург, решил с вами посоветоваться. Скажем, летом встаю я в четыре часа и выпиваю стакан (чайный) водки; мне подают дрожки, я объезжаю поля. Приеду домой около 6 часов, выпью стакан водки и иду обходить усадьбу — скотный двор, конный двор и прочее. Вернусь домой часов в 8, выпью стакан водки, подзакушу и лягу отдохнуть. Встану часов в 11, выпью стакан водки, займусь до 12 со старостой, бурмистром. В 12 часов выпью стакан водки, пообедаю и после обеда прилягу отдохнуть. Встану в 3 часа, выпью стакан водки... и так далее.
— Позвольте вас спросить, давно ли вы ведёте столь правильный образ жизни?
— Я вышел в отставку после взятия Варшавы (Паскевичем в 1831 г. — С. Б.) и поселился в имении, так вот, с тех пор; а то, знаете, в полку, я в кавалерии служил, трудно было соблюдать правильный образ жизни, особенно тогда: только что кончили воевать с турками, как поляки забунтовали. Так, вот, профессор, скажите, какого мне режима придерживаться?
— Продолжайте вести ваш правильный образ жизни, он вам, видимо, на пользу».
В РУССКОМ ЖАНРЕ - 42
Был у меня в 70-е годы знакомый литератор. Благодаря занимаемому посту в столичном издательстве он выпускал там свои книги и настолько всерьёз уверовал в их значимость, что однажды поразил меня, сообщив: «Роман заканчиваю, второй месяц из дома не выхожу!» — «Так прогулялся бы!» — «А вдруг под автобус попаду, роман не закончу!».
«... и растопырил руки, словно хотел поймать курицу» (Булгаков. Записки покойника).
«... руки растопырил, словно курицу поймать хочет» (Салтыков-Щедрин. Благонамеренные речи,).
У Чехова генералов, как у Достоевского князей, он что, хорошо знал их? Сам же сообщил Бунину: «Вас крестил генерал Сипягин, а вот меня купеческий брат Спиридон Титов. Слыхали такое звание?». При этом в его, особенно ранних, рассказах генералов не отличить по поведению и речи от купеческих братьев.
И есть у него постоянная тема простолюдина, достигшего положения, но презираемого барами, в которой очень чувствуется лично пережитое. Удивительно, но этого нет у Горького.
Ещё один постоянный мотив Чехова. Недоумение: «чем этот человек мог так понравиться Зине?» (рассказ «Соседи» и многие другие) Он так назойлив этот мотив, что невозможно не думать, что вопрос исходит от самого Антона Павловича: почему мужчина нравится женщинам?
Это, конечно, присуще многим и многим мужчинам, а может быть, и большинству. На него ответила Ахматова: мы любим тех, кто нами интересуется.
Чехов был очень неуверен в любовных делах, впрочем, и без меня об этом много написали.
Лучшее, какое встречал в литературе засыпание — у Чехова в рассказе «Сон репортёра»: «Пётр Семёнович закрыл глаза и задумался. Множество мыслей, маленьких и больших, закопошилось в его голове. Но скоро все эти мысли покрылись каким-то приятным розовым туманом. Из всех щелей, дыр, окон медленно полезло во все стороны желе, полупрозрачное, мягкое... Потолок стал опускаться... забегали человечки, маленькие лошадки с утиными головками, замахало чьё-то большое мягкое крыло, потекла река...».
Его отношение к сестре, словно крепостному существу. Письма с бесконечными поручениями, чудовищными по объёмам и тяжести для исполнения интеллигентной девушкой.
Вдруг подумал, что у Льва Толстого нет ни одного типа. Характеры — ярчайшие индивидуальности, исследованные до последней клеточки, а типа, соразмерного с гоголевскими, с Опискиным, Обломовым, Базаровым, у него нет.
Замечательный поэт и переводчик Михаил К. как-то рассказывал: начав читать в юные года тома дневников Льва Толстого и встретив там загадочное е. б. ж., стал в естественном направлении юношеских помыслов подставлять туда все подходящие неприличные слова, и именно на эти буквы их было так много, что юный филолог растерялся в фантазиях.
8 июня 2011 года. Областная научная библиотека. В небольшом читальном зале периодики, кроме меня всего один читатель: пожилой, хромой и одноглазый. С отросшими сальными волосами, с клюшкой прислонённой к бедру, он, время от времени, не отрывая взгляда от страницы, нащупывает засаленную болоньевую сумку. Достаёт оттуда кусок прессованной ветчины, отдирает кусок, суёт в рот, жуёт, вытирая иногда пальцы кошмарным даже на вид носовым платком, потом из той же сумки тащит полторашку кваса, отпивает из горлышка, продолжая читать. Перед ним стопка иллюстрированных журналов, но не гламурных, а что-то вроде «Нового времени».
А в зале тишина, бесшумно скользят и шёпотом переговариваются билиотекарши.
Наши жилища не выносят требуемого обилия книг, между тем следует сохранять каждую прочитанную книгу.
Я несколько раз переезжал, разводился, делил книги свои и родительские, раздаривал, относил к букинистам, и всегда оставлял себе прежде всего классику, что было ошибкой. Классика и сейчас классика, бери не хочу, а вот какие-нибудь журналы «Мурзилка» 40-х годов или какая-нибудь там «Библиотечка советского воина»... А между тем все читанные тобою книги необходимы. Вот казалось бы Михалков, — что Михалков?
Но в детстве был у меня сборник его стихов, где было стихотворение «Пионерская посылка». Имелось в виду — на фронт. И почему-то мне особенно нравилась там строфа:
И в надёжной упаковке,
Чтобы выпить в добрый час,
Две московских поллитровки.
Вспоминайте, братцы, нас!
Купил я в 80-е годы очередное избранное поэта: «Пионерская посылка» там была, любимая строфа отсутствовала.
Вот ещё в связи с Михалковым: не могу отделаться от полного созвучия строк:
Я видел: над трупом
Склонилась луна,
И мёртвые губы
Шепнули: «Грена...»
Михаил Светлов, 1926
Из пасти у зверя
Торчит голова.
Ветер доносит слова:
— Непра...
Сергей Михалков, 1936
Справедливое негодование коллег некогда вызвали слова Михалкова в связи с делом Синявского и Даниэля: слава богу, что у нас есть КГБ! А ведь он, по существу, перепел за много лет до него сказанное Михаилом Гершензоном в «Вехах»: «Каковы мы есть, нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом, — бояться его мы должны пуще всех казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами ограждает нас от ярости народа».
А Васисуалий Лоханкин — прямая иллюстрация к текстам «Вех».
Он из тех русских интеллигентов, которые слово «еврей» произносят если и не шёпотом, так оглянувшись.
Под окном умирающими голосами поют пьяные, заботливо подцерживая друг друга.
Вайда в интервью русским СМИ сказал, что современная литература не интересуется современностью. А меня это давно уже волнует, почему исчезли вкус и интерес к современности у настоящих писателей. Подумал: фабула «Мёртвых душ» сейчас возможна разве что у Юлии Латыниной.
Когда Валентин Катаев в «Траве забвения» пишет: «Надо было знать манеру Маяковского покупать! Можно было подумать, что он совсем не знает дробей, а только самую начальную арифметику, да и то всего лишь два действия — сложение и умножение», я в это верю: Маяковский был щедр и расточителен. Но когда далее следует плотоядное перечисление Маяковским приказчику гастрономического ассортимента колбас, вин, шоколада, балыка и прочего, моя вера испаряется: это не Маяковский, а Катаев сладострастно обожает прейскуранты.
Случайно ли, что Катаев в романе «За власть Советов» (после переработки — «Катакомбы») взял одной из сюжетных линий создание комиссионного магазина как места явки подпольщиков?
Во-первых, здесь была возможность немало строк уделить различным товарам. Во-вторых, правоверный писатель хотел на этой истории показать всю пропасть между торговлей советской и торговлей несоветской. Колесничуку, которому поручили быть хозяином магазина, «очень трудно было примириться со своей презренной профессией «“частного» торговца”. <... > Он с детства ненавидел и презирал лавочников? самый факт, что он сделался лавочником, всё время раздражал его. Невозможно было успешно торговать и наживать барыши, не обманывая и не прибегая к мелкому ежедневному мошенничеству, а на это он не был способен».
Но представленная картинка лопается подобно тому, как лопнула коммерция Колесничука, который не ведал, как следует обращаться с векселями — понятия о векселях не имел! — и его надули.
Картинка, на советский взгляд, и смешная, и как бы поучительная, только в неё не верится. Колесничук вырос и сформировался в огромном торговом городе ещё до революции, а главное, служил там бухгалтером в Чаеуправлении до угара нэпа, во время и после угара, и не мог ничего не ведать о векселях. Это, конечно, сказка для советских школьников.
Герои повести В. Катаева «Растратчики» (1928) бухгалтер Филипп Степанович и кассир Ванечка одержимы пьяной мыслью, непременно «обследовать» в Ленинграде бывших графинь и бывших княгинь. И Ванечка наконец встречает «княжну».
Она «сидела вся закутанная в персидскую шаль, положив ногу на ногу, курила папироску и смотрела на него слегка прищуренными черкесскими глазами...». «А княжна, скрестив на груди под шалью ручки и вытянув вперёд тесно сжатые длинные ноги в нежнейших шёлковых чулках и лаковых туфельках, держала в слегка усатом ротике папироску и шурилась сквозь дым черекесскими многообещающими глазами».
Добавим, что «княжна» Ирен то и дело декламирует стихи: трижды Блока, трижды Северянина, забытый нынче романс «Отдай мне эту ночь... Забудь, что завтра день», кричит водителю: «Шофёр на острова! Шофёр на Елагин остров»...
Что же это у нас получается?..
Да ничего, это я так.
Есть ещё в «Растратчиках» и эпизодический колченогий человек, по фамилии Кашкадамов, у которого одна рука и одна нога — искусственные, уполномоченный с удостоверением загадочного Цекомпома, аферист, с лёгкостью наведший страх на московских кутил.
Как-то так кажется, что Иван Пырьев и Михаил Ромм успели замолить грехи «Братьями Карамазовыми» и «Обыкновенным фашизмом».
Почему именно Пырьев и Ромм? Иван Пырьев (1901— 1968) был удостоен Сталинской премии шесть раз. Много. Его одногодок Михаил Ильич Ромм (1901—1971), в нашем либеральном сознании, разумеется, находится по другуюсторону. Однако, сталинских премий сколько? Целых пять премий у Ромма. У Довженко две, так же, как у Александрова, Эйзенштейна. У Пудовкина три. Впрочем, и у Райзмана шесть, но из них две за удачные оперативные документальные ленты и одна за постыдного «Кавалера Золотой Звезды», до чего Пырьев и Ромм не опускались.
Зачем я об этих премиях, которые, как известно, без личного участия их учредителя не присуждались? Затем, что говорим об их времени, в данном случае времени Пырьева и Ромма. Ещё? Сравнивая их послужной список, можно заметить, что именно они по части поощрений шли почти «ноздря в ноздрю» с небольшим опережением у Пырьева. У него три ордена Ленина, у Ромма — два, народным СССР Пырьев стал в 1948 году, Ромм в 1950-м и т. д. Ну и в соответствии с личными наклонностями, Пырьев получил пост гендиректора «Мосфильма», а Ромм профессорскую кафедру. То, что учеником Пырьева был Эльдар Рязанов, а Ромма Тарковский и Шукшин, говорит о том, что оба были мастерами не только на съёмочной площадке. Между прочим, оба мечтали экранизировать «Войну и мир».
Правда, отличия есть. Во-первых, как ни покажется на первый взгляд странным, но у Пырьева конкретных «культовских» грехов несопоставимо меньше, чем у Ромма. Ни в одном своём фильме, даже и там, где поют «Когда нас в бой пошлёт товарищ Сталин», он не отступил от изображения — как, это другое дело — но всё же народной, а неполиткремлёвской жизни, и не вывел на экраны ни Ленина — Сталина, ни мерзких ренегатов в гнусных пенсне с козлиными бородками.
Во-вторых, вся «лакировка действительности» в его картинах, была всё-таки, и я в том убеждён, своеобразно искренним художественным манифестом.
Тогда как снявший классическую «Пышку», Михаил Ильич никак не по зову сердца делал — я имею в виду даже и не «Ленина в Октябре» и «Ленина в 1918 году», а снятые после великой «Мечты» откровенно конъюнктурные ленты «Русский вопрос», «Секретная миссия» и какую-то серую (хотя и в цвете), но словно и не им снятую, костюмную дилогию про адмирала Ушакова.
Но сейчас я о другом, о постсталинском движении сталинских любимцев. Доживи Алексей Толстой до «оттепели», было бы ему в 1956 году всего лишь 73 года, и ох, чего бы он только не успел сочинить плохого про Сталина! Ведь и Шолохов вписал антикультовские страницы в «Они сражались за Родину».
Евтушенко когда-то написал: «могу представить всё, / Но Маяковского в тридцать седьмом представить не могу».
Красиво. Почему именно его? Потому, что он верил в идеалы революции, а тут товарищ Ежов?
А Пастернак? Не в счёт, потому что не верил в идеалы революции и ему не в чем было разочаровываться? Нет, не то. Даже Ильф дожил до 37-го, а Петров так и жил далее. Не то.
В недавно вышедшем тысячестраничном томе «Между молотом и наковальней. Союз писателей ССП, Документы и комментарии»,— «песнь песней» для того, кто пытается понять, что такое были советские писатели — из самых неожиданных для меня оказалось сказанное Михаилом Пришвиным. «Из спецсообщений секретно-политического отдела ГУГБ СССР «О ходе Всесоюзного съезда советских писателей»: «М. М. Пришвин: Всё думаю, как бы поскорее уехать, — скука невыносимая, но отъезд осложняется: становлюсь на виду — дали портрет в “Вечёрке”, берут интервью, Находятся десятки поклонников — Динамов, Ставский. Ставский даже настойчиво просил выступить: “Надо, — говорит — Михаил Михайлович, немножко встряхнуть съезд”. Я ему ответил на это: “Надо-то надо, да обидно вот, что в числе пятидесяти двух писателей для меня не нашлось всё-таки места в президиуме”. Всё время чувствую от этого какую-то нехорошую горечь».
Это Пришвин-то? Отшельник, схимник и — думы о портрете в «Вечёрке» и месте в президиуме...
Перечитывал «Поднятую целину». Конечно, это не бездарная поделка, как нынче в запале кое-кто утверждает. Соцзаказ — несомненно. На сто процентов. Но и в первой, ещё крепко написанной книге, я всё ждал, когда же проклюнется автор «Тихого Дона»? Но нет даже слабого отблеска красок, хотя бы отзвука интонации из «Тихого Дона», словно бы разная рука писала эти романы.
Скачал видеоролик с песней из кинофильма «Ночь над Белградом» в исполнении Татьяны Окуневской. Видел её фильмы, читал и даже рецензировал её мемуары «Татьянин день», словом, сколько помню, всегда ценил её талант и красоту. Здесь же что-то особенное. Поглядев и послушав, понимаешь, почему Тито от неё с ума сошёл: «Небо Хорватии милое...» голос с какой-то невероятной смесью военного «славянского» патриотизма и сексуальности. А глаза, рот, жесты! Чем же, я спрашиваю, наша Окуневская была плоше Марлен Дитрих?
Только спросить некого — разве что на могилку к Кремлёвской стене сходить.
Тогда крупные драматические актрисы и актёры прекрасно пели, при этом не выставляя себя певцами. Ольга Андровская, Сергей Мартинсон, Александр Борисов, Борис Чирков. И сейчас, конечно, поют. Только — это, видимо, у меня уже возрастное отношение — не так поют. В больших залах с целыми концертами выступают, с гастролями ездят. Красавцы — Гусева, Дятлов и другие. Многие другие. И романсы, и Окуджаву, и которые песни о главном. Скучно, пресно, псевдо. Тут как-то Валентин Гафт со слезами вспомнил песню из кинофильма «Иван Никулин русский матрос», да и как удержаться от слёз, едва задребезжит тенорок Бориса Чиркова: «На ветвях израненного тополя...».
В тексте песни «Ночь над Белградом» (слова Бориса Ласкина) со временем почему-то строку «Небо Хорватии милое» изменили на «Небо Белграда милое», а ещё я наткнулся на исполнение песни Эдитой Пьехой. Лучше бы не натыкался.
Не знаю, насколько типична в советском театре пара: муж- главреж, жена-драматург. Во всяком случае, Елизавета Максимовна Бондарева — бывшая провинциальная актриса Елизавета Циммерман, сделавшись женою главного режиссёра, открыла в себе талант драматурга.
Актёр Юрий Каюров вспоминал: «’’Соперницы”, “Хрустальный ключ”, “Чайки над морем”, “Друзья мои” — вот пьесы, ею написанные, Бондаревым поставленные, нами сыгранные по сто и больше раз каждая. А что? Публика ходила и ходила в наш театр, никто силой не загонял».
Силой не силой, но каждый сознательный саратовец хоть по разочку, но их видел. А уж «Чайки над морем», если не путаю, и триста представлений выдержали, о чём сообщали афиши. Так было как-то распределено в провинциальных театрах в известных пропорциях: русская классика, советская классика, зарубежная классика, и — что-то оригинальное, местное.
До приезда супругов Бондаревых Саратовский драмтеатр в этом отношении бедствовал: на весь город был один-единственный драматург Смирнов-Ульяновский. Псевдоним его курьёзен: до 1924 года провинциальный журналист Смирнов подписывался Смирнов-Симбирский. Основным событием его жизни стало то, что он был делегатом 3-го Съезда комсомола, где слышал историческую речь Ленина «О задачах союзов молодёжи». Валентин Александрович в печати и на встречах с читателями часто и охотно рассказывал прежде всего об этом, а не о созданных им пьесах, которых было всего две: «Сын Отечества» (о Радищеве) и «Великий демократ» (о Чернышевском). Но несмотря на всю их идеологическую выдержанность, не только работникам театра, но даже и обкомовцам желалось увидеть на саратовской сцене что-нибудь такое поближе, поживее, повеселее. А Елизавета Максимовна могла написать обо всём — колхозниках, пограничниках, военных моряках.
Саратов был не первым и не последним городом четы Бондаревых. Курск — Чкалов — Бузулук — Ташкент — Владивосток — Куйбышев.
Видимо, наступал день, когда на 301-е представление «Чаек над морем» уже невозможно было продать ни одного билета, и тогда паковались чемоданы. Такая вот страница истории советского театра.
Когда я ежедневно вижу в телевизоре, как две молодые девки с бессовестными глазами, объявив, что нет на свете ничего важнее мужской силы, дают слово пожилому господину в кресле, со сладкой улыбкою вещающему о том, что и в 70 лет сексуальная жизнь мужчины должна быть полноценной и нельзя «предпочитать Достоевского сексу даже и в 74 года», при этом девки и старичок с особым вкусом то и дело произносят слова «потенция» и «эрекция» (передача затеяна, разумеется, для впаривания каких-то снадобий), я вспоминаю больничную палату, где пожилой дядя Коля, услышав, как кто-то из молодых однопалатников в беседе срифмовал — «так — кутак», сказал:
— И-и, милый — какой там кутак! Мы с бабушкой в него играем: на чью сторону упадёт, тому и за хлебом идти.
В РУССКОМ ЖАНРЕ - 43
Давно не перечитывал «Тараса Бульбу». Повесть как-то зависла в моём непрестанно обновляемом чтением других произведений представлении о Гоголе. Причина, думаю, в том, что самый текст в памяти невольно заслонялся с детства знакомым сюжетом, — вплоть до обронённой люльки. И напрасно не перечитывал. А может быть, и к лучшему — в других произведениях всё реже удаётся неожиданно вздрогнуть от поразительных и потрясающих слов.
Сейчас же я о другом, о чём, конечно же, и до меня писали, — но не могу же я попытаться в связи с этим небольшим наблюдением приблизиться к Эвересту, нет, лучше сказать к Казбеку того, что написано о «Тарасе Бульбе». В первых строках первой главы сказано о сыновьях: «Крепкие здоровые лица их были покрыты первым пухом волос, которых не касалась бритва».
И вот прошла лишь ночь, и наутро собирающиеся с отцом в Сечу бурсаки преобразились — здесь шаровары шириною в Чёрное море, но даже и вот: «Их лица, ещё мало загоревшие, казалось, похорошели и побелели; молодые чёрные усы теперь как-то ярче оттеняли белизну их...».
Гоголь ошибся?
Но Гоголь никогда не ошибался. Он просто вообразил вчерашних бурсаков уже козаками, а уж если шаровары в Чёрное море, так и чёрные усы вмиг вырастут.
Ещё раз прошу извинения за то, что кто-то это уже давно заметил и до меня напечатал.
Я владею письмом по старой орфографии. Не благодаря филфаку, где был спецкурс старославянского — так тогда переименовали церковно-славянский, и его-то я как раз не знаю. А по той старой, упразднённой в 1918 году орфографии, отмену которой не могли простить большевикам Бунин и Репин. В период увлечения поэзией Серебряного века я переписывал в тетрадки целые сборники стихов, которые удавалось добыть на короткий срок. Помню богатое издание «Будем как солнце» Бальмонта и квадратные, в бумажных обложках сборники Игоря Северянина.
Бунин в период жизни с Цакни в Одессе не раз жалуется в письмах на живущего в их доме нахального греческого мальчишку Юрия Морфесси — будущего «баяна» кабацко-цыганского репертуара. Вера Николаевна в «Жизни Бунина» пишет, что в эмиграции они встречались. Трудно вообразить эту встречу.
Журнал «Урал» анонсирует: «В первом номере публикуется роман шестнадцати авторов «Шестнадцать карт» — произведение почти уникальное. Почти — потому что подобный прецедент в отечественной литературе всё же был — опубликованный в 1927 году в «Огоньке» роман «Большие пожары», авторами которого были И. Бабель, А. Грин, М. Зощенко, В. Каверин, Л. Леонов, А. Новиков-Прибой, А. Толстой и другие известные писатели. <... > Григорий Аросев, инициатор сего амбициозного проекта, пишет: «Осмелимся предположить, что роман «Шестнадцать карт» получился не хуже «Пожаров». По меньшей мере, он гораздо складнее, и в нём нет таких смешных несоответствий, какие наблюдаются у старшего брата. Хотя, конечно, авторитет Бабеля, Грина и прочих никто сомнению не подвергает”».
Хорошо. Только уральские коллеги явно не ведают, что прецедент «Больших пожаров» был не раз продолжен.
В 1964 в приложении к «Известиям» «Неделя» был опубликован коллективный роман под названием «Смеётся тот, кто смеётся». Затеял его Валентин Катаев, который и написал первую главу. А вот остальные авторы по порядку: Анатолий Гладилин, Юрий Казаков, Лев Славин, Василий Аксёнов, Илья Зверев, Владимир Войнович, Фазиль Искандер, Георгий Владимов.
А ещё группа фантастов опубликовала в 60-е годы в ленинградском журнале «Костёр» роман-буриме «Летающие кочевники». Тогда первую главу написали братья Стругацкие.
А ещё спустя сорок лет главный редактор газеты «Новые времена в Саратове» автор настоящих заметок вспомнил о хорошо забытом старом и предложил коллегам сочинить коллективный роман. Написать первую главу согласился один из авторов романа «Смеётся тот, кто смеётся» Владимир Войнович. Он же придумал и название «Долг платежом зелен». За ним последовали Алексей Слаповский, Роман Арбитман, несколько саратовских журналистов, но идея мало кого увлекла, издатель затею не одобрял, сюжет меж тем запутывался... Однако Слаповский всё-таки сумел его закруглить в последней главе.
«— Однако! Я чувствую, что после водки вы пили портвейн! Помилуйте, да разве можно это делать!» (Булгаков. Мастер и Маргарита).
«— У тебя есть талант! Только ты не тово... не налегай на портвейн. После водки этот сиволдай — смерть!» (Чехов. Юбилей).
«Духовой шкаф потрескивал. В багровых столбах горело вечной огненной мукой и неутолённой страстью лицо Дарьи Петровны. Оно лоснилось и отливало жиром» (Булгаков. Собачье сердце).
«Кухарка Пелагея возилась около печки и, видимо, старалась спрятать куда-нибудь подальше своё лицо. А на её лице Гриша видел целую иллюминацию: оно горело и переливало всеми цветами, начиная с красно-багрового и кончая смертельно-бледным». (Чехов. Гриша).
Сцена в «Собачьем сердце», где профессор Преображенский берёт Шарика, написаны не без влияния «Каштанки», которую подбирает клоун.
В булгаковских «Записках покойника» мне очень нравится следующее место:
«... полный человек в пенсне, который не только решительно отверг моё произведение, но и прочитал мне что-то вроде нотации.
— В вашем рассказе чувствуется подмигивание, — сказал полный человек, и я увидел, что он смотрит на меня с отвращением».
Но вот не какой-то советский редактор, а Корней Чуковский записывает в дневнике 18 марта 1922 года:
«У Замятина есть рассказ “Пещера” — о страшной гибели интеллигентов в Петербурге. Рассказ сгущённый, с фальшивым концом и, как всегда, подмигивающий — но всё же хороший».
Что же, значит, было тогда в ходу это выражение, обозначающее политическую двусмысленность?
Смотрел по ТВ какой-то советский детектив, где главным криминалом — была валюта. И начал вспоминать...
Мы в детстве собирали монеты и бумажные деньги. Были у меня и огромные екатерининские пятаки, и изящные серебряные гривенники времён Александра II, двадцатипятирублёвки с портретом Александра III, и даже огромные катеньки — сторублёвки с портретом Екатерины II, и крохотные несерьёзные керенки. Были невесомые алюминиевые марки ГДР, монгольские монетки с дыркой, китайские бумажки, болгарские монетки, польские бумажные злотые с портретами вельможных панов. Тайком показывали мы, у кого были, рейсхмарки. А кое-кто и золотой пятирублёвик с бородатым Николаем II.
Потом, уж не помню когда, всё чаще в разговорах взрослых стало звучать страшное слово «доллар». От одного его названия уже веяло шпионажем и государственной изменой. А тут ещё подоспел широко озвученный по радио и ТВ, в киножурналах и прессе расстрел по приказу Хрущёва валютчика Яна Рокотова.
Я не помню, когда впервые увидел окаянную бумажку, но хорошо запомнил случай, когда мы с первой женой решили заглянуть в Сочи в магазин «Берёзка», торговавший на валюту. Тогда в 1965 году, как и во времена Торгсина, твёрдую валюту у советских граждан принимали свободно. Это затем началась продажа на пресловутые чеки трёх расцветок. Дальнейшее напомнило известную сцену из романа «Мастер и Маргарита».
Никакой валюты у нас не было, просто решили поглазеть, и тут меня ожидало жестокое унижение. Моя жена, одевавшаяся очень ярко и модно, легко вошла внутрь магазина мимо массивного охранника. Я же замешкался, притом нёс в авоське разнообразные продукты питания, к тому же носил вытянутые на коленках китайские штаны «Дружба» и потёртые сандалии на босу ногу.
И мордатый бугай преградил мне путь, требуя предъявить валюту! Раздавленный, полный патриотического гнева, я остался на улице.
Неотъемлемая писательская привычка — разглядывая незнакомого человека, фантазировать, воображая его происхождение, биографию, характер. Меня от неё отучили в молодости Хемингуэй, а позже — эпизод собственной биографии.
В романе «Иметь и не иметь», который я в пору увлечения Хемингуэем полагал лучшим из его романов, читатель близко знакомится с жизнью контрабандиста Гарри Моргана, в которой главное его семья, дочери и негаснущая любовь к жене, Марии. Затем возникает писатель Ричард Гордон, ведущий безобразную развратную жизнь циника и пьяницы. И вот как-то встречается ему местная женщина. «Посмотреть только на эту коровищу, — подумал он, — интересно, какая она может быть в постели? Что должен чувствовать муж к жене, которая так безобразно расплылась? С кем интересно он путается тут, в городе?» И далее Гордон всё фантазирует про некрасивую толстуху и ненавидящего её воображаемого мужа, намереваясь вставить их в сочиняемый роман.
Читатель уже готов поверить Гордону, когда глава резко, словно ударом, заканчивается фразой: «Женщина, которую он встретил, была Мария, жена Гарри Моргана...».
Случай из моей практики, естественно, юмористического свойства.
Я ехал в Москву (конец 70-х) на заседание так называемого «большого» совета СП СССР по критике, чтобы предстать среди прочих завотделами критики толстых журналов, пред неподвижным тяжёлым взглядом всемогущего секретаря СП Виталия Озерова. Был бы я поразумнее, доклад о работе своего отдела заранее, не спеша и вдумчиво написал бы дома, но, подстрекаемый беспутными друзьями, загулял, и теперь, в поезде, спешно сочинял выступление, перекладывая исписанные листочки, терзаясь похмельем и грядущим на улице Воровского, 52 действом.
В купе кроме меня ехали две средних лет женщины. Они сидели напротив, и через какое-то время одна спросила: «Вы, наверное, профессор?» — «Почему?» — «А вот всё пишете, работаете, мы и решили, что вы учёный...» После паузы вторая добавила: «Жена у вас счастливая». Ну, если сходство с профессором я ещё мог перенести, то предположение о счастливом браке меня озадачило. «Это почему же?» — «А вас сразу видно: непьющий!»
Тогда каждое лето в Саратове гастролировали московские и ленинградские театры. Их афиши унижали моё провинциальное достоинство. Не те, где сообщалось о репертуаре, а состоящие из фото артистов с примечаниями, кто в каких фильмах снимался. Дескать, вы тут в своей деревне только на киноартистов можете клюнуть.
Сейчас забывается, что такое дубляж кинофильмов, а ведь то было целое искусство. Импортные звёзды говорили голосами русских актёров, для которых порой — при не слишком удачной судьбе в кинематографе, дубляж делался основной профессией, как, например, у талантливого актёра и обладателя невероятно красивого и выразительного голоса Владимира Дружникова. А нежный, чарующий голос Виктории Чаевой, отданный ею Софи Лорен, Джине Лолобриджиде, Сильване Мангано и т. д. А Луи де Фюнеса никогда не настиг бы столь бешеный успех у советского зрителя, если бы не особый несравненно-насмешливый голос Владимира Кенигсона. Самое, может быть, удивительное попадание это озвучивание Жана Маре в воистину культовом фильме «Граф Монте-Кристо» Виктором Хохряковым при полном несовпадении мужественно вырезанного лица красавца француза и простецкой русской расплывшейся физиономии артиста Малого театра. А что такое Остап Бендер Арчила Гомиашвили без голоса Юрия Саранцева?
Особая статья — озвучивание мультфильмов. Последнее из всем памятного это дуэт Волка-Папанова и Зайца-Румяновой, но сколько великих творений голосом подарила советская анимация, про которую один из пап римских сказал, что на ней нужно воспитывать христиан. Почти все крупные тогдашние актёры участвовали в озвучивании, и потому особенно дико то, что сейчас производится переозвучивание с заменой их голосов. Восстанавливая старые мультфильмы, освежая цвет, заодно изгоняют из старых фильмов голоса Анастасии Зуевой и Михаила Яншина, Рины Зелёной и Алексея Грибова, Эраста Гарина и Сергея Мартинсона, Бориса Чиркова и Георгия Вицина. Это вопиющее злодейство производится даже и над теми лентами, где внешность рисованных персонажей была списана с актёров, как сапожник-Чирков и клоун-Грибов в «Каштанке» или старуха-Зуева и старик-Чирков в «Сказке про золотую рыбку». Слыша это, хочется подобно персонажу Шукшина произвести по телеэкрану удар валеным сапогом.
Самодеятельные переделки бывает прелестны. У меня среди бумаг обнаружилась без авторских подписей тетрадка замечательных а-ля Лебядкин стихов, и среди них один настолько славный, что я его весь приведу:
Весна. Крестьянин в половодье
На лодке обновляет путь,
И вёсла, словно бы поводья,
Об волны трутся как-нибудь.
Крестьянин зайцев подбирает.
Ах, Господи, ты ль, дед Мазай,
Река, разлившись, отражает
Небес синеющую даль.
Ничтожные картины эти
Я отчего-то написал,
Но вот милее всех на свете
Мне родины и сон, и шквал.
И пусть меня за слог бичуют,
За то, что нет единства форм,
Я, может, сам себя линчую,
Хоть каждый день в потоках волн
Топлю, как праздновал Герасим,
Да обвязав своё Муму,
Но только подвиг сей напрасен,
Ведь слог я Ваш и так ценю.
Любопытно отразилось тогдашнее отношение к Есенину в популярном кинофильме 50-х годов «Дело Румянцева». Строки Есенина возникают там дважды.
«Всё пройдёт, как с белых яблонь дым», — с блатными интонациями цитирует вор-рецидивист, а студентки, трогательно обнявшись, нежно поют: «Выткался на озере алый свет зари».
Ну а бандит, для полноты картины, ещё поёт Вертинского: «В бананово-лимонном Сингапуре».
«— Вы плачете, Иветта... что ваша песня спета... что это лето где-то унеслось в... — Демичев пел непечатное слово. Он был из Марьиной рощи, а там это всегда любили» (Михаил Анчаров. Золотой дождь).
Но дело в том, что не только марьинорощинский парень вместо «в мечту» употребил весьма неприличное слово, а в том, что на самой известной записи на пластинку знаменитого танго «Магнолия» (не более поздние записи с советских концертов, под рояль, а студийная, эмигрантская, под оркестр, где голос автора ещё звонок) отчётливо произносится то самое неприличное слово на букву «п».
Известный питерский коллекционер Н. Н. Калмыков писал мне об этом: «’’Магнолия” (запись 1929 года — вслушайтесь, эта запись сделана АН на пари с «похабочкой”)».
А была певица в Америке москвичка Юлия Запольская, та и вовсе пела «во мглу».
Впрочем, каждый может сам послушать и решить.
«... сновидение есть не что иное, как бессонница воображения...» (Вельтман А. Ф. Странник).
В РУССКОМ ЖАНРЕ - 44
«1934 год. Кремлёвский зал. Совещание у товарища Сталина. Какой должна быть социалистическая столица? Архитекторы, строители, выступая перед членами Политбюро, перед правительством, рисовали первые схемы грандиозной перестройки. Было много фантастического. С лёгким сердцем иные предлагали вытянуть город чуть ли не на сто километров, заново создать столицу» (журнал «Огонёк». 1940, № 19).
Какая-то телемания последних лет — кухни, еда, рецепты. Начинал когда-то Макаревич «Смак», кулинария была там на втором плане, а на первом — беседа, потом пошло-поехало. И чисто рекламные, как у жены Кончаловского, где этикетки крупным планом так и мелькают, и на природе, где два обрюзгших толстяка с плотоядными взорами жарят много мяса на открытом огне, но везде общим для всех рецептов становится непомерное количество специй, а ведущие втолковывают, что в них-то и содержится весь секрет вкуса.
А я вспомнил старика Державина:
Поесть, попить, повеселиться,
Без вредных здравию приправ...
«Для того чтобы получить прозрачную уху, надо произвести оттягивание (осветление) паюсной или зернистой икрой. Для этого 50 г икры растереть в ступке, постепенно добавляя по ложке холодной воды...» (Книга о вкусной и здоровой пище. 1952).
Смешно, но ещё в 60-е годы в советских магазинах продавались не только водка и портвейны, но и ликёры дореволюционных марок — бенедиктин, шартрез, абрикотин и другие.
«Теперь вместо “ханемака”, я получил “опель” — машина исправная, мотор новый, но кузов имеет следы пуль и прострелены стёкла, которые, конечно, заменим». (Вс. Иванов жене и детям из Берлина 9 мая 1945 г.). «...“опель” машина хорошая, но маленькая. Вскоре я поехал в одну армию. Там, увидав скромные размеры моей машины (я поехал на чужой, славинской), подарили мне хорошую. Но у меня не было шофёра <...> Генерал, подаривший мне машину, захотел быть любезным до конца, он послал за мною подаренную мне машину вслед за мной. Но на другой день после моего отъезда. Неопытный шофёр, снятый с грузовой, разбил машину и разбился сам. После этого я поехал в армию ген. Цветаева. Там мне подарили “суперопель-6”. Машина очень хорошая, хотя и прошла очень много: 50000 км, но, надо думать, сделает ещё столько же. Таким образом, на моём счету две разбитых машины и две целых, которые стоят в саду под окнами дачи, на которой я живу...» (он же им же оттуда же 23 мая 1945 г.).
Маршак своим мастерским «Мистером Твистером» породил стихотворный антиамериканский ширпотреб времён холодной войны.
Гуляет по палубе
Важный народ.
Лениво качаясь,
Плывёт пароход.
Усталые птицы —
За волнами вслед,
Как будто им места
В Америке нет.
<...>
Тяжёлые волны
Шумят за бортом...
За ящики спрятался
Маленький Том.
<...>
Шумит за бортом
Голубой океан...
По трапу идёт
Господин капитан.
Губами сигару
Швыряет во рту
Что «чёрный»
Стоит на борту.
— Убрать, чтоб не видел
Цветного щенка! —
Подрагивает щека.
<...>
Вдруг Том покачнулся
И — вниз головой.
И, даже не вскрикнув,
Пропал под водой.
Исай Тобольский. О мальчике Томе (Саратов, 1950)
Спустя восемь лет появился, в общем-то антиамериканский, но очень приличный фильм по рассказу привечаемого тогда в СССР английского писателя Джеймса Олдриджа «Последний дюйм». Не уверен, что сейчас сумеют снять такое классное, пусть и идеологически заказное, кино, с такими планами, пейзажами, музыкой, актёрской игрой и без клюквы.
Что же, «оттепель» не прошла даром?
Но ещё спустя три года официальный классик советской литературы Константин Симонов пишет пьесу «Четвёртый», которую ставят (ненадолго) лучшие театры, и в ней, увы, процент заказного антиамериканизма, не такой, как в его же «Русском вопросе», но всё равно зашкаливает.
Читаешь, читаешь советскую историю от Иосифа I, и не перестаёшь удивляться судьбам людским.
Я хорошо знал, кто такой питерский литературовед Павел Медведев.
Знал — не по фамилии, а в лицо, и актрису, исполнявшую в кино роли волевых советских женщин — например, жену председателя колхоза в экранизации романа Г. Николаевой «Жатва», но могло ли в голову прийти, что это отец и дочь?
Репрессированный отец, друг Михаила Бахтина, близкий знакомый Пастернака, Белого, Есенина, первый редактор сочинений Блока — красавец в галстуке-бабочке. О последних днях Медведева сохранилось свидетельство Николая Заболоцкого : «П. Н. Медведев не только сам не поддавался унынию, но и пытался по мере сил подбодрить других заключённых, которыми до отказа была набита камера». Павел Николаевич Медведев был расстрелян 17 июля 1938 года. Место захоронения неизвестно.
А дочь играла волевых колхозниц! Правда, порода в лице выдавала не крестьянские корни, но каково всё это в целом...
Увлёкся в последнее время скачиванием старых песен.
Ниже — о специфическом сталинском аспекте, а сначала о том, что находятся ещё не ставшие слава богу, старыми ТВ-эрнсто-песнями о главном: прелестный «Мишка», за «пошлость» которого Рудакова и Нечаева тотчас расхлестала пресса. Или: многие ли знают сейчас дивные мелодии «Албанского танго» или «Бакинских огней»?
К сожалению, проклятая память достаёт из детства и непременные дворовые переделки их текстов. Так, вместо «Мишка- Мишка, где твоя улыбка?» стали горланить: «Мишка-Мишка, где твоя сберкнижка?», в «Албанском танго» строку «Гляжу на опустевшую аллею / И грустно отчего-то я не знаю...» заменили на: «Гляжу на опустевшую аллею / И грустно отчего-то мне, еврею...» А уж далее были и вовсе неприличности. Вместо: «Прости меня, но я не виновата. / Что я любить и ждать тебя устала...» дворовые хулиганы пели: «Прости меня, но я не виновата, / Что для тебя моя великовата...».
Отчего именно такая гадость навсегда застревает в детской памяти? На этот счёт замечательное место есть в мемуарах Наталии Ильиной: услышанные в детстве от эстрадного куплетиста строки «Ваня с Машей в том подвале время даром не теряли» в памяти моей застряли на всю жизнь, сколько прекрасных стихотворных строк ушло, забыто, а эта чепуха десятки лет засоряет голову».
Если в предвоенной песенно-патриотической вакханалии преобладали две темы — восхваление Сталина и его соратников.
Нашей песне печаль незнакома,
Веселее её не найти.
Этой песней встречаем наркома,
Дорогого наркома пути!
Суровой чести верный рыцарь,
Народом Берия любим.
Отчизна славная гордится
Бесстрашным маршалом своим... —
то после войны величальные Сталину начинают теснейшим образом переплетаться с таковыми же — Москве: «Кто сегодня поёт о столице, тот о Сталине песню поёт». Песен о Москве с заказными убогими текстами — сочинялись сотни! А композиторы не только безвестные, но и Прокофьев, и Шостакович, и Хачатурян. Из поэтов всех перещеголял К. Симонов каким-то уже заоблачно былинным, без рифм, слогом:
Сталин, слава о нём — словно грома раскат,
Словно стяг над землёю колышется.
И так скромен он стал, множим имя его.
Громче слава ещё не придумана.
А вот слова якобы народные:
Не вмещает стольких вод ширь Днепра сама,
Сколько есть у Сталина светлого ума!
В небе столько звёздочек нету в синеве,
Сколько дум у Сталина в светлой голове!
Рядом с этим откровенным безумием восторга и простецкие вирши Антона Пришельца:
Древний Кремль сверкает позолотой,
Не шелохнут веткой тополя.
В Боровицкие высокие ворота
Выезжает Сталин из Кремля.
Вся Москва — великая, родная,
Расцвела под небом голубым.
И по всей столице Сталин проезжает
По широким улицам прямым.
Он заходит в шумный цех завода,
Он с людьми на стройке говорит.
За хорошую, за честную работу
Мастеров труда благодарит.
На этом поле чудес особняком стоит строго обдуманная и очень профессиональная песня Александра Вертинского «Он» («Чуть седой, как серебряный тополь, он стоит, принимая парад...»).
Песни же о столице приобретают вполне истерический характер:
Танков бешеный ход,
Эскадрилий полёт.
Сотни сил набирает бензин.
Кто ж их всех напоил, не щадя своих сил.
Это я, Москва, бакинец, твой сын.
Ай, хороший город Москва!
То — не птицы поют высоко в синеве
И не плещутся волны морские.
Это слава гремит о великой Москве,
О столице Советской России!
Любой из нас готов идти по рощам и горам,
Тундрам и снегам, джунглям и пескам.
Любой из нас готов лететь по тучам-облакам,
Поплыть по рекам и морям,
Чтоб только повидать Москву родную...
А вот Вадим Малков дерёт рифму у Есенина:
Где старый дом сутулился
В минувшие века,
Идёт прямая улица,
Как песня широка.
Этот Малков отличался наиболее буйной фантазией: если большинство его коллег воспевали мудрость Сталина в Кремле, то он, как и Антон Пришелец, вывел вождя в народ:
Ой ты, поле снеговое,
Зимних ветров перевал...
Говорят, что перед боем
Здесь, на поле,
Лично Сталин побывал!
Ой ты, поле снеговое,
Зимних ветров перевал...
Может, здесь, у перелесков
Трубку взял он, закурил,
О делах земли советской
Он с бойцами
По душам поговорил.
Я убеждён, что вместо долгих и нудных дискуссий на тему: что такое сталинизм и как с ним бороться, надо слушать самим и давать молодым это безумное песнетворчество.
Вероятно, один лишь Алексей Фатьянов умел легко превращать жуткие словесные штампы в лирический текст: «Хорошая девушка Тоня согласно прописке жила», «До чего же климат здешний на любовь влиятелен» и т. д. Даже у Исаковского, поэта более крупного, не было этой лёгкости.
Анастасия Вертинская в интервью (16.08.11 — Денис Бессараб, «ФрАза» </>) на вопрос: «При жизни Вертинского в СССР так и не выпустили ни одной его пластинки?» — отвечает: «Ни одной. Когда он вернулся в Советский Союз в 1943 году, то, вплоть до его смерти, ему не разрешали записываться в профессиональной звукозаписывающей студии».
Это, мягко говоря, неправда.
Апрелевский завод грампластинок выпустил в 1944 году пробные диски Вертинского на 78 оборотов с пятнадцатью старыми и новыми, которые никак не могли быть взяты с эмигрантских дисков, вещами, а писались, естественно, уже в московской студии. Не знаю, как насчёт других, но две из этих пластинок пошли в свободную продажу, они были во многих семьях, в том числе и в нашей: одна «Маленькая балерина», а на обороте «Куст ракитовый», другая «Прощальный ужин», которая ввиду долготы звучания, была записана с обеих сторон.
Когда я слушаю записи выступлений Вертинского в советских концертных залах, то живо воображаю послевоенную советскую элиту, которая в ожидании верховной ласки или гнева и при большом денежном благополучии принялась изображать высший свет. Зрительный ряд здесь можно принять из кинофильма Ивана Пырьева «Сказание о земле Сибирской» (1947) — в антракте концерта — ослепительные дамы и господа, меха, платья до блестящего паркета, цветы в вазах, декольте, бриллианты, коньяк из маленьких стопок, пирожные, кофе и золотые медальки лауреатов Сталинской премии.
И вот — словно бы специально для них приехал осколок империи и звезда декаданса.
Конечно, конечно, в зале ЦДРИ бывали Качалов и Марецкая, Козловский и Топорков, но я не о них, а о «массе» новой «элиты». Тут непременно возникает фигура Константина Симонова (в усах и рядом с Серовой, в бриллиантах и мехах). Да что Симонов, вон в том же зале и Сергей Смирнов, который «поэт горбат, стихи его горбаты», ведь его строчки, как и симоновские, пел бывший печальный Пьеро. Отчего бы в зале не сидеть Анатолию Сурову и Михаилу Бубеннову, Аркадию Первенцеву и Льву Шейнину?
«Но о Вертинском ни словом не обмолвились: ни в газетах, ни по радио, ни на нарождавшемся тогда телевидении. Скорее, выходили ругательные статьи о его “буржуазноупадническом искусстве”, зачем это он вернулся и в таком духе». Это опять А. А. Вертинская в том же интервью. Жаль, что она не назвала ругательных статей, но главное: а что реально можно было написать об авторе «Лилового негра» и «Жёлтого ангела» в тогдашней советской прессе, где любая цитата из настоящего (досоветского) Вертинского показалась бы вторжением иноземной цивилизации? «Перехожу к вопросу о литературном “творчестве” Анны Ахматовой. Её произведения за последнее время появляются в ленинградских журналах в порядке "расширенного воспроизводства". Это так же удивительно и противоестественно, как если бы кто-либо сейчас стал переиздавать произведения Мережковского, Вячеслава Иванова, Михаила Кузьмина, Андрея Белого, Зинаиды Гиппиус, Фёдора Сологуба, Зиновьевой- Аннибал и т. д. и т. п., то есть всех тех, кого наша передовая общественность и литература всегда считали представителями реакционного мракобесия и ренегатства в политике и искусстве» (Андрей Жданов).
Только личным пристрастием Сталина можно было объяснить, что в дни, когда это сказано, как ни в чём не бывало пел Вертинский.
Да и то, что пресса «ни словом» не обмолвилась, неправда. Вот, к примеру, Григорий Александров в рецензии на кинофильм «Заговор обречённых» (журнал «Огонёк», 1945) писал: «Характерную фигуру иезуита и политического интригана рисует А. Вертинский, играющий в картине роль кардинала Бирнча».
Ах, доченьки, доченьки...
В РУССКОМ ЖАНРЕ - 45
В комедии Булгакова «Блаженство» (1934) есть персонаж Михельсон (превратившийся в новом варианте пьесы — «Иване Васильевиче» — в Шпака). Со времён выстрела в Ленина на заводе Михельсона, в литературе эта фамилия возникла, насколько я знаю, только в романе Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» (1927) — Бендер снабжает Воробьянинова удостоверением на имя Конрада Карловича Михельсон.
Сейчас расплодился жанр, форму которого я в силу собственной устарелости определить не могу и не помню, как именуют его продвинутые молодые критики, но эти сочинения кажутся мне написанными по лекалу, предложенному Остапом Бендером:
«Я — эмир-динамит! — кричал он, покачиваясь на высоком хребте. — Если через два дня мы не получим приличной пищи, я взбунтую какие-либо племена. Честное слово! Назначу себя уполномоченным пророка и объявлю священную войну, джихад. Например, Дании. Зачем датчане замучили своего принца Гамлета? При современной политической обстановке даже Лига наций удовлетворится таким поводом к войне. Ей-богу, куплю у англичан на миллион винтовок, — они любят продавать огнестрельное оружие племенам, — и марш-марш в Данию. Германия пропустит — в счёт репараций. Представляете себе вторжение племён в Копенгаген? Впереди всех я на белом верблюде. Ах! Паниковского нет! Ему бы датского гуся!..».
Уже отмечалось, кажется, М. Золотоносовым, что Булгаков использует своеобразный портрет-эвфемизм, обозначающий делягу-еврея. Таков псевдоиностранец в магазине Торгсина в романе «Мастер и Маргарита»: «Низенький, совершенно квадратный человек, бритый до синевы, в роговых очках...». В том же романе — «арамей» которого ударил обезумевший Иван Бездомный: «Мясистое лицо, бритое и упитанное в роговых очках» и другие.
Но, кажется, никто ещё не заметил, что Булгаков здесь буквально следует Алексею Толстому.
«Откуда, из каких чертополохов, после войны вылезли эти жирненькие молодчики, коротенькие ростом, с волосатыми пальцами в перстнях, с воспалёнными щеками, трудно поддающимися бритве? Они суетливо глотали всевозможные напитки с утра и до утра. Волосатые пальцы их плели из воздуха деньги, деньги, деньги...» («Гиперболоид инженера Гарина»).
«Она действительно разорила дюжину скоробогачей, тех самых коротеньких молодчиков с волосатыми пальцами в перстнях и с воспалёнными щеками» (там же).
«... иссиня бритых, сочащихся здоровьем, бешено развязных знатоков по продаже и покупке железнодорожных накладных. ..» («Хмурое утро»). И другие.
В статье Михаила Золотоносова «Сатана в нестерпимом блеске...» («Литературное обозрение». 1991, 5) читаем о вероятном влиянии на автора «Мастера и Маргариты» книг Е. А. Шабельской, сотрудницы откровенно антисемитских изданий, и узнаём, что «гражданским мужем Шабельской стал доктор Алексей Н. Борк, также сотрудник антисемитских изданий и активный член Союза русского народа».
А я вспомнил, что в самой по-моему загадочной из чеховских пьес «Иванове» есть два персонажа, оба родственники главного героя — граф Шабельский и управляющий имением Боркин, пьяницы, шуты и бездельники. Причём Шабельский грубо вышучивает жену Иванова Анну Петровну на предмет её еврейского происхождения, а она не только не оскорблена, но смеётся с ним вместе.
Чехов знал Шабельскую: «Мне снилось, будто я прикладывал припарку на живот Шабельской. Она очень симпатична, и я рад, что был полезен ей хотя во сне» (Письмо А. Суворину от 12 декабря 1894 г.).
В воспоминаниях Александра Амфитеатрова есть «зернистый», по выражению Бунина, портрет Шабельской (псевдоним Александры Станиславовны Монтвид). Женщина из рода классических авантюристок, нечистая на руку морфинистка и алкоголичка, умевшая сводить с ума мужчин. Неслучаен и её союз с доктором Борком, тоже алкоголиком, которого по силе магнетизма Амфитеатров сравнивает с Григорием Распутиным. Также любопытно и характерно, что эти, далёкие, скажем так, от проблем и бедствий русского народа личности, сделались активными функционерами «Союза русского народа». Это я к тому, что столичный воинственный литературный национал-патриотизм, докатившись до наших дней, зачастую обнаруживает среди своих адептов вовсе не людей от сохи, но вполне изломанных в декадентском стиле личностей.
Сюжет с Шабельской имеет ещё одно литературное продолжение. Её крёстный сын участвовал в покушении на Милюкова, в результате которого погиб отец другого знаменитого русского писателя — Владимира Набокова.
У Булгакова в «Самоцветном быте» в главке «Сколько Брокгауза может вынести организм» лентяй-библиотекарь на просьбу рабочего парня посоветовать, что ему читать, адресовал его к словарю Брокгауза. И «что-то ломалось в голове у несчастной жертвы библиотекаря.
— Читаю, читаю, — рассказывал слесарь корреспонденту, — слова лёгкие: Мечислав, Богуслав, и хоть убей не помню — какой кто. Закрою книгу — всё вылетело! Помню одно: Мадриан. Какой, думаю, Мадриан. Нет там никакого Мадриана. На левой стороне есть два Баранецких. Один господин Адриан, другой Мариан. А у меня Мадриан.
У него на глазах были слёзы.
Корреспондент вырвал у него словарь, прекратив пытку. Посоветовал забыть всё, что прочитал...»
А у Чехова есть рассказ «Чтение» о том, как антрепренёр порекомендовал знакомому начальнику канцелярии Семипалатову приучать своих чиновников к чтению и раздал им книги.
«Мердяев завернул книгу и сел писать. Но не писалось ему на этот раз. Руки у него дрожали и глаза косили в разные стороны... На другой день пришёл он на службу заплаканный.
— Четыре раза уже начинал, — сказал он, — но ничего не разберу... Какие-то иностранцы... <... > Бедный Мердяев похудел, осунулся, стал пить. <... > Однажды, придя на службу, вместо того, чтобы садиться за стол, стал среди присутствия на колени, заплакал и сказал:
— Простите меня, православные, за то, что фальшивые бумажки делаю!
Затем он вошёл в кабинет и, став перед Семипалатовым на колени, сказал:
— Простите меня, Ваше Превосходительство: вчера я ребёночка в колодец бросил!»
И начальник наконец понимает, что чиновникам чтение только во вред, и антрепренёра велит не принимать.
Перечитывая «Дом на набережной», я впервые обратил внимание на то, что мать Шулепы охотно соглашалась, когда сын называл её ведьмой: «Алина Фёдоровна кивала с важностью: «Да, ведьма. И горжусь, что ведьма». Её сестра соглашалась: да, ведьма, весь наш род такой, ведьминский. Быть ведьмой считалось чуть ли не заслугой. Во всяком случае, тут был некий аристократизм, на что обе женщины намекали».
Мне пришло в голову, что сразу две известные литературные дамы могут быть уподоблены Алине Фёдоровне. Или — она им.
Нет, я буду не о Серебряном веке, когда на ведьм была мода, и они размножались в литературных салонах. Мои дамы — гражданки СССР.
Собственно, одна из них ведьма как бы опосредованная: ведьма как прототип ведьмы. Я имею в виду, конечно, Елену Сергеевну Нюрнберг-Шиловскую-Булгакову. Коли она общепризнанный прототип Маргариты, то и ведьминских признаков ей не миновать. Ведьмой назвал её таинственный старик, к которому привёл Булгаков. Колдуньей нарекла Ахматова. Сюда же надо добавить уменье Елены Сергеевны очаровывая, делать людей зависимыми, и то, наконец, что в ряду её мужей и любовников не было, скажем, бухгалтеров или рядовых литераторов.
«Наконец, Е. С., по нашему мнению, была предполагаемым посредником между писателем и властью. Её воздействие на некоторые его шаги и важные решения несомненно. Особенно велика роль Е. С. в решении писать пьесу о Сталине.
Булгаков в жизни и творчестве искал сильную женщину, — напомним его упрёк первой жене, о котором она помнила всю жизнь и рассказывала нам более чем полвека спустя: «Ты слабая женщина — не могла меня вывести!» (из Владикавказа. — С. Б.). Такой казалась ему в середине 1920-х Л.Е. Белозёрская — сумевшая в юном возрасте покинуть страну, выжить в эмиграции — и принять решение о возвращении. Для него вряд ли были загадкой обстоятельства жизни в Париже кафешантанной танцовщицы. В конце 1920-х идеальный тип был найден им в Е. С. и дорисован в Маргарите романа», — пишет М. О. Чудакова («Материалы к биографии Е. С. Булгаковой // Тыняновский сб-ник, М., 1998. Вып. 10. С. 607—643).
Вторая же дама нашего сюжета, это понятно, Лиля Брик. Ведьмой первым, кажется, её назвал Пришвин. Но статус ведьмы был очевиден многим её современникам. Среди прочих свойств её было привлекать и завлекать мужчин только высокого социального статуса.
Вот и Алина Фёдоровна легко переходит от одного высокопоставленного «бати» Лёвки к другому, не только не разделив их печальных финалов, но и не снижая в новом браке своего благополучия. Ну, для полного сходства, ещё и к сестре в Париж ездит.
И все они никогда не работали, не служили, не зарабатывали себе на кусок хлеба.
Подумал, что в советской литературе сама поэтика повествования напрямую зависела от кубатуры жилища персонажей. В зарубежной не то. Да и в русской дореволюционной.
Вот, скажем, повествование с каморки Раскольникова естественно переходит вместе с ним в уютную квартирку старухи-процентщицы. И различие комнаты Мышкина у Иволгиных с огромным мрачным домом Рогожина или покоями генерала Епанчина не сказывается на поэтике повествования, как и пребывание дворян Толстого в кавказской хате. А вот тексты советских писателей, где герои обитают в коммуналке или подвале, словно бы художественно разделены с теми, действие которых происходит на изрядной жилплощади.
Порой автор через героя рисовал пропасть между сознанием жильца коммуналки и обитателя большой отдельной квартиры, что очень наглядно в «Доме на Набережной».
Но не в буквальных описаниях жилья дело. Самый текст Андрея Платонова или Зощенко пребывает в другом эстетическом измерении, чем Пастернака или Алексея Толстого. Впервые подумал об этом над строками Пастернака:
Никого не будет в доме,
Кроме сумерек. Один
Зимний день в сквозном проёме
Незадёрнутых гардин.
В подвале и даже хрущёвке такого не напишешь.
Как страшны «Сентиментальные повести» Зощенко, как там силён и заразителен ужас перед жизнью вообще. От года в год мне становится всё очевиднее его трагическое мироощущение, которое принимали — кто за юмор, кто за социальный протест.
Каждый год вновь и вновь поражаясь, перечитываю «Сентиментальные повести», и по степени новых открытий могу сравнить только с перечитыванием Гоголя.
И — каждый раз, открывая, вновь и вновь испытываю любопытство и страх: чем-то он сейчас меня — удивит? — озадачит? — напугает?
И ещё волнение от того, как это сделано, каким воздушным инструментом на каком малом пространстве. Из каких простых слов, часто давно мёртвых слов, которые у него начинают трепетать.
Чехов и Зощенко. Завязка фабулы «Страшной ночи» почти повторяет рассказ Чехова «Упразднили!», но что у одного и что у другого.
Получается, что Зощенко выше Чехова? Здесь — да.
Зощенко и Гоголь — общий внутренний механизм. Булгаков же стилевое подражание Гоголю.
Как мне ненавистен розановский взгляд на Гоголя, продолженный в «Вехах» Бердяевым и продолжаемый и поныне.
Но Розанов был, есть и остаётся, а вот антигоголевская эстафета от него к Бердяеву всё-таки, слава богу, не выдерживала «темпа»: Бердяев был из холоднокровных, а способность Розанова воодушевляться ненавистью к предмету, будто то Гоголь или евреи, непостижима, неприятна и, что там говорить, в силу таланта Василия Васильевича, заразна.
К разгадке причин, по которым Горький вернулся.
Он всегда любил власть (не чужую, а собственную) и во все времена своего восхождения брал её на себя — в качестве ли основателя «Знания», каприйской ли школы, послереволюционных затей — Всемирная литература и прочее.
Здесь же была возможность полной литературной диктатуры под присмотром лишь Сталина, да и то скорей всего
Горький на расстоянии не мог вполне оценить, точнее, примерить на себя, его силу. И — как важный штрих — почему он так снюхался с рапповской шпаной, прежде всего Авербахом? Неужели они могли быть ему симпатичны? Нет, просто они главенствовали. Горький очень чувствовал соотношение времени и власти. Всегда. Потому и мог при Николае II так разнуздаться, что тогда властвовал не царь, а антицаризм. В другую эпоху он бы не позволил себе революционности.
Дело не в личной храбрости, он был человеком, разумеется, мужественным, а в постоянном компасе успеха, эквилибре востребованности. После злосчастного выстрела в грудь, которого он всю жизнь стыдился, Горький сделался твердокаменным карьеристом, заточенным, как нынче выражаются, на успех, на моду. Быть эмигрантским брюзгою — фи! А тут: целая страна, целая литература, падает пред ним ниц:
Я знаю, Вас ценит и власть, и партия,
Вам дали б всё — от любви до квартир.
Прозаики сели пред
Вами на парте б:
— Учи! Верти! —
и т. д. и т. п.
Почти все письма советских писателей Горькому подлы. Да что там почти: можно бы классифицировать их по уровню заложенной и выраженной подлости.
В 1946 году на местах велено было искать своих Зощенко и Ахматову. В Саратове на роль Ахматовой никого не нашли, а вот на место Зощенко определили Александра Матвеенко (1894—1954), вероятно потому, что он писал сказки. Вот газетный отчёт о собрании писателей и литературного актива Саратова.
«Наиболее интересным и самокритичным было выступление поэта тов. Тобольского. Он отметил, что саратовские писатели, и он сам в том же числе, не работают над повышением своего идейно-политического уровня, не изучают марксистко-ленинскую теорию. По мнению тов. Тобольского, оторванность от жизни у тов. Матвеенко привела его к ошибкам зощенковского порядка. Тов. Матвеенко не знает наших людей, плохо знает нашу советскую действительность. Остановившись на недостатках критики, тов. Тобольский признал, что среди местных писателей существовали приятельские отношения, мешающие работе. Профессор Гуковский из приятельских побуждений хвалил произведения Матвеенко, а Матвеенко не воспринимал критически эти суждения» (газ. «Коммунист». 1946, 16 октября).
Да-да, это о великом русском филологе Григории Гуковском, уже пережившем и арест, и блокадную зиму, и эвакуированном с ЛГУ в Саратов. Известно, что предстояло Григорию Александровичу — повторный арест, как космополиту, и смерть в Лефортово. В Саратове в том году Гуковский издал книгу «Пушкин и русские романтики». Его обличитель тоже не сидел сложа руки:
И русской земле
Посылают привет
Вздохнувшие вольно народы.
Да здравствует Сталин!
Да здравствует свет!
Да здравствует солнце свободы!
Гриша, Нина, я и Света
Провели в колхозе лето
И работой, как могли,
Мы колхозу помогли.
Выступал на том собрании и мой отец Григорий Боровиков, чему нашлось место в отчёте: «В прениях выступали также писатели т.т. Розанов и Боровиков. Выступление последнего было крайне путаным, свидетельствующим о том, что тов. Боровиков все ещё не понял указаний ЦК ВКП (б). Тов. Боровиков заявил, например, что он, как писатель, не знает и не может заранее знать идеи произведения, которое собирается написать. Это выясняется, по его мнению, лишь впоследствии, когда произведение уже написано».
Дело не том, что Симонов преклонялся пред Сталиным. Он ведь, к его достоинству, так и не сделался яростным разоблачителем культа, чем разгневал Хрущёва. Впрочем, людям, напрямую общавшимся со Сталиным, я думаю, не так уж сложно психологически было дерзить Хрущу.
Дело в явно пьянящем Симонова властолюбии и сознании вседозволенности. Нравственные нормы существовали для него, но преимущественно в рамках мужских, дружеских, офицерских контактов.
Говорят, что советским Хемингуэем ощущал себя Юлиан Семенов.
Но много раньше его, думаю, Симонов.
Конечно, он и на 10 процентов в первые послевоенные годы не заслуживал той славы и успеха, которые имел. Единственная более-менее стоящая проза — роман «Живые и мёртвые» (который он напрасно продолжил ещё двумя томами), написан много позже.
Драматургия — нулевая.
Поэзия? Здесь точка его славы — «Жди меня». Феноменальный успех этого стихотворения рождён прежде всего и почти исключительно тем, что нарушая традиции, Симонов обратился от имени бойца не к матери, а к жене. И оказалось, что был в своей почти невозможной смелости прав. Культ материнства в военные годы мало что мог дать бойцу, кроме тёплых воспоминаний, к тому же верность матери и не подлежала сомнению. Тогда как тоска по жене и мучительные сомнения в её верности были неизбежны и неизбывны.
К тому же, если оглянуться — традиция истового поклонения матери в русской поэзии не столь уж давняя. Много ли стихов о матери от Державина до Блока, от Пушкина до Некрасова? Да, «Внимая ужасам войны...» и наверняка я что-то упустил, но в главном уверен: в русской поэзии был культ любимой женщины, но не матери.
Культ матери в нашей поэзии начался, скорее всего, с крестьянских поэтов и был доведён до абсолюта Есениным. Родство его стихов с каторжным всхлипом по единственно уважаемой женщине — матери — ядовито высмеял Бунин.
Не помню, кто первый очень верно выделил чужеродность знаменитых «жёлтых дождей» в знаменитом стихотворении. Я это знал с первого чтения и, когда встретил у Эренбурга похвалу «дождям» как единственной поэтической строке в стихотворении, удивился. Это цветовое определение резко выпадает из стилевого контекста.
Впрочем, на этот чужеродный образ обращали внимание такие разные читатели, как А. Твардовский и главный редактор газеты «Правда» П. Поспелов.
«— А что? По-моему, хорошие стихи, — сказал он. — Давайте напечатаем в “Правде”. Почему бы нет? Только вот у вас там есть строчка “жёлтые дожди”... Ну-ка, повторите мне эту строчку.
Я повторил:
— Жди, когда наводят грусть
Жёлтые дожди...”
— Почему “жёлтые”? — спросил Поспелов.
Мне было трудно логически объяснить ему, почему “жёлтые”. Наверное, хотел выразить этим словом свою тоску».
Твардовский — в письме критику В. Александрову: «Мне кажется, что и “жёлтые дожди” плохо, ибо взято из чужого поэтического арсенала» (цит. по ст. Чудаковой М. О. «“Военное” стихотворение Симонова “Жди меня...” (июль 1941 г.) в литературном процессе советского времени» // НЛО, 2002, вып. 58).
Когда умер Симонов, я был в Москве. Узнал о случившемся, не сумев пройти в ЦДЛ, закрытый для подготовки к траурной церемонии, а там уже шептались о завещанных покойным «открытых поминках». Тогда же я услышал слова известного критика из «Русской партии» Л.: «Для них это большая потеря. Другого такого эластичного не скоро найдут».
Слова его меня не то что удивили (находясь в непосредственной близости той среде, я ко многому уже прислушался, а точнее принюхался), удивило противоречие сказанного с очевидным для меня «нееврейством» Симонова.
Можно предположить, что Сталин метил контактного, раскованного, исполнительного «без соплей» Симонова на роль «вечного» Эренбурга. Отсюда бесконечные зарубежные послевоенные командировки Симонова, самая важная из которых — в США — была в компании с Эренбургом. Эренбург представлял для Сталина штучную неповторимую ценность, а он незаменимых людей не любил, тем более такого, как Эренбург. Размышляя об этом, я вдруг, кажется, набрёл на источник старого мифа о мнимом еврейском происхождении Симонова. Миф вполне мог родиться в Кремле и распространяться Лубянкой, с целью создать для Запада образ, подобный образу Эренбурга — либеральный еврей на службе сталинской диктатуры.
Репатриантка Наталия Ильина, которой посоветовали для поступления в Литинститут «заручиться поддержкой писателя с именем» обратилась к Вертинскому, которого хорошо знала по Шанхаю. И Александр Николаевич исполнил просьбу, «написал письмо своим хорошо мне знакомым крупным и острым почерком». Кого же просит 59-летний Вертинский? Всемогущего 33-летнего Симонова. Прямо-таки XVIII век, век фаворитизма. Шёл 1948 год.
Помните из «Золотого телёнка»: да кто ты такой?
А вот кто: Сталинская премия первой степени (1942) — за пьесу «Парень из нашего города», Сталинская премия второй степени (1943) — за пьесу «Русские люди», Сталинская премия второй степени (1946) — за роман «Дни и ночи», Сталинская премия первой степени (1947) — за пьесу «Русский вопрос», Сталинская премия первой степени (1949) — за сборник стихов «Друзья и враги», Сталинская премия второй степени (1950) — за пьесу «Чужая тень».
И — должности, должности, должности...
Твардовский о Симонове: «... что же тогда сказать о Симонове, которому без войны не видать бы своего литературного “Клондайка”, но и война не сделала из него художника».
О большой и тайной власти Петра Павленко говорили много. Самая растиражированная, но, кажется, не вполне подтверждённая история о том, как он присутствовал на Лубянке во время допроса Мандельштама и пристыдил поэта за малодушие. Я же слышал в Крыму восхищённую беседу двух провинциальных писателей о том времени, когда там поселился Павленко.
— На пленуме сказал первому секретарю: вы не соответствуете занимаемой должности, и скоро я вам это докажу. Уехал в Москву, вернулся, и сразу новый пленум — вопрос об освобождении товарища такого-то. Вот так!
Да... Вот времена были! Симонов тоже из тех времён, а не из шестидесятых.
Чекисты убили Есенина?
А «До свиданья, друг мой, до свиданья» — тоже чекисты написали? И «Слушай, поганое сердце...», и «На рукаве своём повешусь...».
Не люблю «традиционных сборов» и возгласов «а помнишь?». Помню.
Но вспоминать не хочу.
Ведь то было с теми, совсем другими, 20—30—40—50 лет назад, а какими они-мы стали сейчас? И как их-нас соотнести друг с другом заново? И уж вовсе нестерпимо неискренне умиляться фото чужих детей и внуков, ловя меж тем взгляды на себе и отвечая взглядом: да, украсило тебя-меня время!
... Было четыре часа утра, час, когда уже окончательно сгинуло вчера (в три оно ещё было живо) и не началось сегодня (в пять оно уже есть); час пробуждения младенцев, котов и пьяниц, час ухода умирающих.

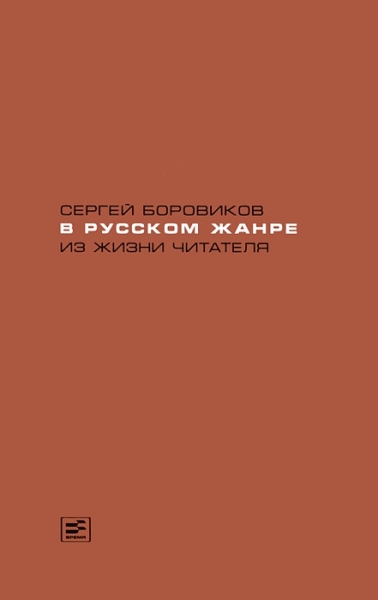
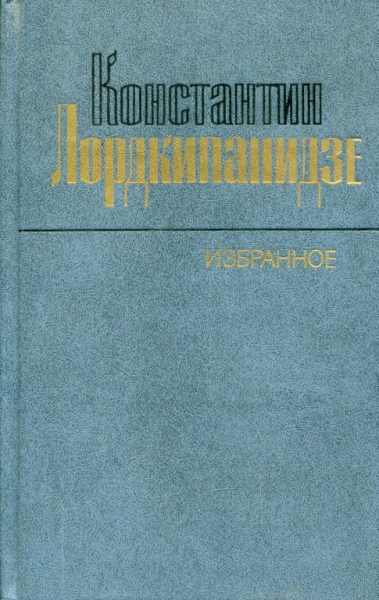
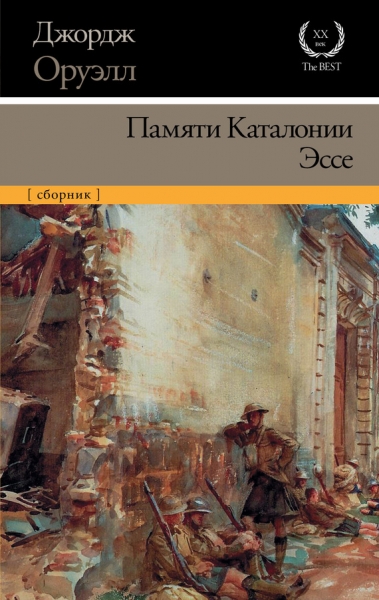
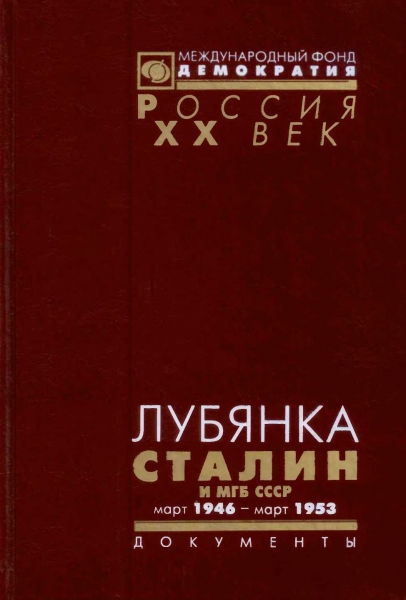

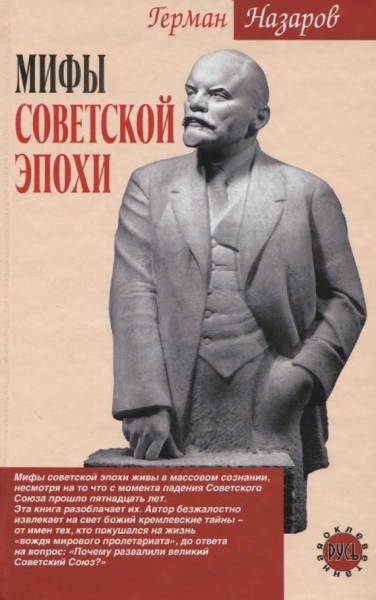

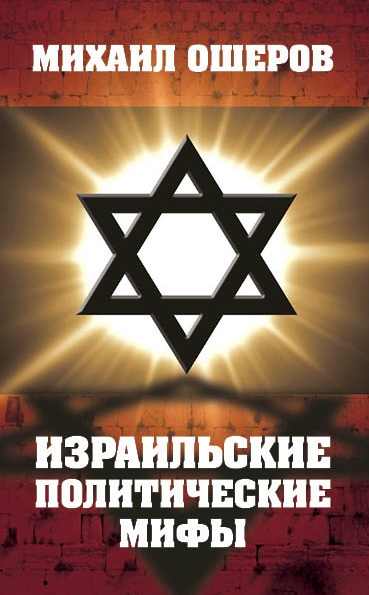
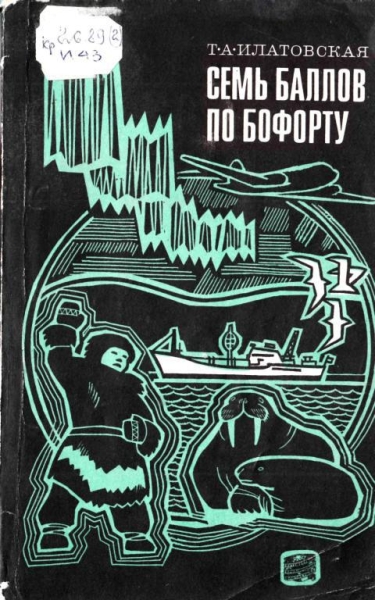

Комментарии к книге «В русском жанре. Из жизни читателя», Сергей Григорьевич Боровиков
Всего 0 комментариев