Замечания по электронной версии книги
Это укороченный вариант книги, а именно, арабский текст записки Абу Дулафа в нем опущен. Для работы с ним рекомендуется полная версия книги, например, djvu-файл по адресу .
Возможно, отдельные буквы кириллицы с диакритическими знаками будут неправильно воспроизводиться на конкретном устройстве (гласные с макронами[надчерками] или согласные с нижними диакритическими знаками "подчерк", "точка" и "чаша") из-за невозможности подобрать точный аналог специфическому шрифту в бумажном издании. В этом случае можно воспользоваться вариантом книги без диакритических знаков.
Справочный аппарат (гиперссылки из текста перевода на комментарии, из списков географических названий и собственных имен к началу соответствующих страниц текста) по возможности обеспечен.
В текст внесены поправки согласно типографскому списку опечаток.
ОТ РЕДАКТОРА
Настоящее издание «Второй записки» Абӯ Дулафа должно войти в свод арабских известий по истории народов СССР, инициаторами которого были В. В. Бартольд и И. Ю. Крачковский. Находка в Мешхеде рукописного кодекса с четырьмя уникальными арабскими географическими произведениями была по достоинству оценена обоими учеными, как только в печати появились первые сведения об этом. В 1924 г. В. В. Бартольдом была представлена для напечатания в «Известиях Российской Академии наук» статья А. 3. Валидова «Мешхедская рукопись Ибн-аль-Факиха»1. В начале 30-х годов, уже после смерти В. В. Бартольда, И. Ю. Крачковским были приняты меры к получению фотографии этого важного сборника, но только в 1935 г. советские ученые получили возможность непосредственно ознакомиться с его содержанием: в этом году в связи с III Международным конгрессом по иранскому искусству и археологии, собравшимся в Ленинграде, фотография Мешхедской рукописи была принесена в дар Академии наук СССР Министерством народного просвещения Ирана. Начавшаяся по инициативе И. Ю. Крачковского работа над подготовкой к изданию записки Ибн Фад̣лāна и «тюркских» частей «Книги о странах» Ибн ал-Фак̣ӣха не касалась пока путешествий Абӯ Дулафа, хотя уже в 1936 г. И. Ю. Крачковским было высказано пожелание об изучении и издании обеих записок Абӯ Дулафа, соотношение которых тогда еще не было ясно.
Изучение «Второй записки» Абӯ Дулафа начато было И. Ю. Крачковским в связи с редактированием выполненных П. К. Жузе переводов частей географического словаря Йāк̣ӯта, относящихся к Кавказу. Внимание И. Ю. Крачковского привлекло значительное количество сведений по Азербайджану, Армении и Грузии, приведенных Йāк̣ӯтом со ссылками на Абӯ Дулафа. Эти сведения отличались бóльшей отчетливостью и определенностью, чем сведения Абӯ Дулафа о Средней Азии, Китае и Индии. Естественным шагом было привлечение обеих записок Абӯ Дулафа, содержащихся в Мешхедской рукописи, их сравнение друг с другом и соотнесение со сведениями в словаре Йāк̣ӯта. Наличие полного текста обеих записок позволило к установленным Хеером 34 цитатам добавить еще 24 без упоминания источника: большая часть «Второй записки» оказалась включенной Иāкӯтом в его труд. Результаты своей работы И. Ю. Крачковский изложил в двух статьях о «Второй записке» Абӯ Дулафа2, в которых не только анализирует записки, но также оценивает способ использования ее сведений Йāк̣ӯтом. В этом отношении работы И. Ю. Крачковского непосредственно примыкают к аналогичной работе В. Р. Розена3; продолжая ту же линию, они представляют вместе с нею замечательные образцы филологической критики арабского средневекового источника. Сюда же надо отнести и возникшую при изучении Йāк̣ӯта работу «К вопросу об анализе поэтических цитат в географическом словаре Йāк̣ӯта»4. Во второй из этих трех работ И. Ю. Крачковский высказал мысль о необходимости издания «Второй записки» и пожелание, «чтобы это издание было осуществлено нашими учеными и чтобы традиция русской науки, давшей в свое время солидную работу В. В. Григорьева о «Первой записке» Абӯ Дулафа, была возобновлена на таком заслуживающем серьезного внимания материале, как вторая его записка»5.
Работа по подготовке к изданию «Второй записки» была начата в 1950 г. Когда она приближалась к завершению, авторы узнали о подготовлявшемся в Англии издании этого памятника В. Ф. Минорским. Благодаря его любезности эта книга была получена в Ленинграде. К этому времени подготовка настоящей работы была закончена, и дирекция Института востоковедения постановила ее напечатать. Из сравнения этих работ выяснилось, что они не дублируют друг друга; кроме того, авторам и редактору не всегда казалось возможным согласиться с чтением автора английского издания; обнаружились также и более серьезные расхождения, в частности это касается подхода к памятнику. В. Ф. Минорский считает, что он отражает одно путешествие Абӯ Дулафа, а авторы настоящего издания вслед за И. Ю. Крачковским рассматривают его как воспоминания о нескольких путешествиях и находят этому подтверждения в скудных данных о жизни Абӯ Дулафа. Это привело к различиям при комментировании: В. Ф. Минорский стремится как можно точнее установить маршрут Абӯ Дулафа, поэтому порой его рассуждения и идентификации кажутся недостаточно убедительными; авторы этого издания ограничились пояснительными примечаниями, дополненными по изданию В. Ф. Минорского. При этом строго оговорены все исправления, внесенные в текст по изданию В. Ф. Минорского, а также расхождения с его чтением и переводом.
АРАБСКИЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК X ВЕКА АБӮ ДУЛАФ И ЕГО «ВТОРАЯ ЗАПИСКА»
Автор «Второй записки»
Весьма скудные данные о жизни автора, которые можно почерпнуть из арабских источников, давно известны в науке и за последнее время были неоднократно изложены в работах А. Рор-Зауера, И. Ю. Крачковского и В. Ф. Минорского1.
Полное имя автора — Абӯ Дулаф Мис‛ар ибн ал-Мухалхил ал-Х̮азраджӣ ал-Йанбӯ‛ӣ — указывает на его арабское происхождение. Если первая нисба в имени Абӯ Дулафа — ал-Х̮азраджӣ — позволяет предполагать, что он был родом из мединского племени х̮азрадж, сыгравшего в VII в. большую роль в организации арабского государства, то вторая — ал-Йанбӯ‛ӣ, вероятно, указывает на место рождения автора — портовый город Йанбу‛ на берегу Красного моря.
Ни время, ни место рождения и смерти Абӯ Дулафа не известны, но бесспорно, что он жил в X в. в восточной части халифата. Немногие биографические сведения об Абӯ Дулафе складываются из отрывочных сообщений, мало связанных друг с другом. Со слов самого Абӯ Дулафа известно, что он состоял на службе при дворе саманидского правителя в Бухаре Насра II ибн Ах̣мада (301–331/914—942); около 331/942 г. совершил поездку в Китай и Индию; в 331–341/942—952 гг. побывал в разных местностях Ирана; пользовался покровительством наместника в Сеистане Абӯ Джа‛фара Мухаммада ибн Ах̣мада, который правил в 331–352/942—963 гг. К этому можно добавить важное свидетельство ан-Надӣма (ум. в 385/995 г.), приводимое им в ал-Фихристе (закончен в 377/987 г.), о своем личном знакомстве и общении с Абӯ Дулафом2. Наконец, согласно сообщению ас̱-С̱а‛āлибӣ (350–429/961—1038) в его поэтической антологии Йатймат ад-дахр, Абӯ Дулаф бывал при дворе буидского везира Исмā‛ӣла ибн ‛Аббāда ас̣-С̣āхиба (ум. в 385/995 г.)3.
Абӯ Дулаф известен как путешественник, географ и поэт. У ан-Надӣма4 он назван джаувāла, т. е. человек, который обошел многие страны. Ас̱-С̱а‛āлибӣ5 в изысканных выражениях дает Абӯ Дулафу аналогичную характеристику, приводя в подтверждение своих слов стихи самого Абӯ Дулафа:
У ал-К̣азвӣнӣ встречается подобное же высказывание о нем6: «Он был знаменитым путешественником, который объездил многие страны и видел их диковинки».
Почти все источники, упоминающие Абӯ Дулафа, называют его поэтом, но только в Йатӣмат ад-дахр сохранились некоторые образцы его поэтического творчества: несколько кратких отрывков и одна большая к̣ас̣ӣда7. Ас̱-С̱а‛āлибӣ записал их от своих старших современников, непосредственно общавшихся с Абӯ Дулафом.
Прекрасный знаток поэзии — ас̱-С̱а‛āлибӣ считает Абӯ Дулафа изящным, необычайно остроумным и язвительным поэтом8; он причисляет его к поэтическим знаменитостям своей эпохи, собравшимся вокруг прославленного мецената и довольно известного литератора ас̣-С̣āх̣иба9.
Свой шедевр — к̣ас̣ӣду с рифмой на букву рā Абӯ Дулаф преподнес ас̣-С̣āх̣ибу и получил за нее щедрое вознаграждение от восхищенного покровителя10. Помимо художественных достоинств, она интересна и как источник для характеристики личности автора. К̣ас̣ӣда прославляет образ жизни так называемых «банӯ Сāсāн», или «сасанова племени». Последнее представляло собой, как выяснено А. Л. Троицкой11, своего рода корпорацию, или цех нищих, бродяг, фокусников, дрессировщиков. Из к̣ас̣ӣды мы узнаем, что бродяжничество и попрошайничество — основные «добродетели» «сасанова племени». Главное для членов этой организации — обманом, уловками, притворством и т. п. заставить раскошелиться человека какой бы он ни был народности, религии, сословия, состояния, возраста и пола в любой стране и при любых обстоятельствах. Вот, например, некоторые занятия и уловки членов этой корпорации: они торговали благовониями, амулетами и лекарствами от разных недугов, объявляли себя вернувшимися из византийского или иного плена или из тюрьмы, прикидывались, смотря по обстоятельствам, христианами или иудеями, шиитами или суннитами, слепыми, глухими, больными проказой или кожными болезнями, предсказывали судьбу, гадали, крали и т. п.12 Автор к̣ас̣ӣды любуется подчас отталкивающими пороками «потомков Сāсāна» и их нарочитой непочтительностью к религии, ее обрядам и служителям.
Абӯ Дулаф широко использовал в к̣ас̣ӣде слова из тайного языка «сасанова племени», попутно снабжая их пояснениями. Языком этим он прекрасно владел и с успехом обучил ему ас̣-С̣āх̣иба13.
Весьма примечательно, что Абӯ Дулаф объявляет себя членом этой организации14:
Однако с какой степенью уверенности можно полагаться на заверение Абӯ Дулафа о его принадлежности к «сасанову племени»? Ведь многое в к̣ас̣ӣде можно отнести за счет художественного обобщения и творческой фантазии поэта. Но едва ли в этом можно видеть лишь литературный прием. Обнаруживаемое поэтом в к̣ас̣ӣде блестящее знание жизни и тайного языка «сасанова племени» свидетельствует по меньшей мере о его тесном и длительном общении с представителями этой корпорации.
Связь Абӯ Дулафа со столь своеобразной социальной средой, порожденной средневековым феодальным городом на Ближнем Востоке, проливает яркий свет на жизнь и творчество этого поэта и делает его одной из колоритных фигур той эпохи.
Географические сочинения Абӯ Дулафа и их изучение
В средневековой арабской географической литературе отчетливо прослеживаются два основных направления: математическое, или астрономическое, и описательное. Кроме того, в XII–XIV вв. с развитием этих направлений на материалах относящихся к ним сочинений создаются компилятивные памятники справочного характера, наиболее значительным из которых является «Географический словарь» Йāк̣ӯта.
Наряду со специальными географическими трудами, составленными учеными-географами, к сочинениям описательного направления относятся различные записки и воспоминания путешественников, в которых они рассказывают о жизни стран и городов, лежавших на их пути. В памятниках такого рода часто отсутствуют свойственные традициям жанра географической литературы композиционные приемы; часто в них встречаются фантастические сюжеты, сведения, собранные понаслышке, но вместе с тем они дают ряд интересных и правдивых свидетельств, живых и тонких наблюдений. Оригинальность содержания этих памятников и обусловила их роль как источников для специальных географических трудов типа «Географического словаря» Йāк̣ӯта.
Часто автограф и немногочисленные списки этих первоисточников терялись, но они продолжали жить во многих цитатах, иногда анонимных; в последнем случае их сведения незаметно сливались с материалом компилятора, и под чужим именем, в иных хронологических рамках они становились известными исследователю; только последующие находки утерянных сочинений выясняют всю важность той роли, которую они сыграли в науке.
К числу таких памятников относится описание путешествий Абӯ Дулафа, отрывки из которого сохранились в «Географическом словаре» Йāк̣ӯта и «Космографии» ал-К̣азвӣнӣ. Сообщения Абӯ Дулафа о немусульманских странах и народах, о тюркских племенах Средней и Центральной Азии, о Китае и Индии были извлечены из этих трудов и подвергнуты исследованию. В результате этого ученые пришли к резко отрицательным выводам и поставили под сомнение как реальность путешествий, так и авторство Абӯ Дулафа15.
Открытие в 1923 г. в Мешхеде уникальной рукописи сборника географических сочинений дало в распоряжение ученых оригинал описания путешествий Абӯ Дулафа. Выяснилось, что оно представляет два самостоятельных, но тесно связанных друг с другом сочинения16; по-видимому, от самого автора исходят их заглавия — рисāла (‛послание, записка’) с порядковыми номерами: первая и вторая.
В 1939 г. немецкий арабист Рор-Зауер снова перевел и подверг анализу «Первую записку» Абӯ Дулафа о его путешествии в Китай 17. Он поставил под сомнение резко отрицательные выводы ряда ученых о достоверности путешествия Абӯ Дулафа и фактического материала «Записки», а И. Ю. Крачковский поддержал его еще некоторыми дополнительными соображениями 18. В целом о «Первой записке» в науке сложилось такое мнение: она не представляет собой дневника путешествия, а составлена, по всей вероятности, впоследствии, по памяти, и содержит наряду с достоверными много неточных, приблизительных и туманных сведений и даже фантастических выдумок.
Отрывки из «Второй записки» становились известными в науке по мере того, как издавались те большие компилятивные сочинения, в которые она вошла по частям, с указанием имени Абӯ Дулафа или анонимно. В 1848 г. Ф. Вюстенфельд осуществил издание второй части космографии ал-К̣азвӣнӣ (600–682/1203—1283) Āс̱āр ал-билāд, где «Вторая записка» цитирована 24 раза, но только в семи случаях со ссылкой на Абӯ Дулафа19; в вышедшей через год первой части «Космографии» ‛Аджā’иб ал-мах̮лӯк̣āт из четырех цитат только одна анонимная20. В «Географическом словаре» Йāк̣ӯта, изданном также Ф. Вюстенфельдом в 1866–1873 гг., было установлено 34 цитаты из «Второй записки» 21, а исследование И. Ю. Крачковского, который определил еще 24 анонимные цитаты22, показало полный объем использования этого сочинения Йāк̣ӯтом. В сокращении «Географического словаря» Йāк̣ӯта, составленном ‛Абд ал-Му’мином ибн ‛Абд ал-Х̣ак̣к̣ом (ум. в 1339 г.) и изданном Йейнболлем в 1852–1864 гг., также сохранились извлечения из «Второй записки», но имя ее автора упоминается еще реже23.
Текст указанных сочинений этих трех авторов, а следовательно, и Абӯ Дулафа привлекался в ряде исследований, главным образом по исторической географии. Однако «Второй записке» долго не уделялось серьезного внимания.
В начале 40-х годов П. К. Жузе подготовил перевод извлеченных из «Географического словаря» Иāкӯта отрывков, содержащих сведения об Азербайджане и Кавказе вообще. При редактировании этих переводов И. Ю. Крачковский использовал Мешхедскую рукопись и установил, что значительная часть материала Йāк̣ӯта о Кавказе заимствована из «Второй записки» Абӯ Дулафа. Это позволило И. Ю. Крачковскому внести ясность в понимание затруднительных мест в тексте Йāк̣ӯта и исправить переводы. Углубившись в исследование, он проанализировал значительную часть содержания «Второй записки» и данные об ее авторе; свои выводы он изложил в не раз упоминавшейся нами статье, которая положила начало изучению «Второй записки» Абӯ Дулафа как в нашей стране, так и за рубежом. В 1950 г. И. Ю. Крачковский в другой статье еще раз показал, сколь велико значение Мешхедской рукописи для критики текста Йāк̣ӯта24.
В 1950–1951 гг. были сделаны первые шаги к изданию «Второй записки»: подготовлен первоначальный вариант текста с переводом и примечаниями. Его выполнили в качестве дипломных работ студенты кафедры арабской филологии восточного факультета Ленинградского государственного университета П. Г. Булгаков, X. 3. Губайдуллин и А. Б. Халидов под руководством доцента В. И. Беляева.
Известный ученый, издавший ряд памятников арабской и персидской литературы, В. Ф. Минорский привлекал материалы Абӯ Дулафа из «Географического словаря» Йāк̣ӯта как в отдельных исследованиях, так и статьях в «Энциклопедии ислама»25. Ему принадлежат также две статьи, посвященные специально «Второй записке» Абӯ Дулафа26. В 1955 г. в Каире вышло в свет подготовленное им издание этого сочинения27. Оно выполнено со всей тщательностью и основательностью, присущей многочисленным трудам В. Ф. Минорского. Обширные познания и опыт долголетней работы в области исторической географии Передней Азии помогли ему в создании содержательного комментария. Построение работы — общепринятое при издании памятников письменности: введение, арабский текст, перевод, комментарий и указатели. Весь текст и соответственно перевод и комментарий разбиты на 72 параграфа. Лишь значительное количество опечаток в английском тексте, опечатки и пропуски отдельных слов в арабском тексте несколько нарушают общее впечатление.
«Вторая записка» Абӯ Дулафа и ее место, в арабской географической литературе
Если «Первая записка» претендует на описание одного определенного путешествия, то «Вторая записка», по утверждению автора, должна составить продолжение «Первой» и содержать в себе весь опыт его путешествий, «все то, свидетелем чего я был, и… большую часть того, очевидцем чего я был»28. Цель своего труда автор видит в его поучительности и полезности, «дабы этим могли воспользоваться ищущие назидания, чтобы обладатели достоинства и спокойствия могли им руководствоваться и чтобы просветился разум того, кто лишен возможности путешествовать по земле»29.
Назидательный характер присущ многим жанрам средневековой литературы, в особенности адабу. Занимательность сюжета, живость изложения и образность языка приближают «Вторую записку» к художественной литературе, что и не удивительно, поскольку автор был поэтом.
Композиционно работа выглядит, как маршрут некоего путешествия, которое начинается от города аш-Шӣза в Южном Азербайджане и проходит сначала на север до Баку, затем на Тифлис, оттуда через Ардебиль в Шахразур и, наконец, более или менее последовательно, на восток через Кармисин — Хамадан — Рей — Табаристан — Кумис — Тус — Нишапур до Герата, после описания которого Абӯ Дулаф переходит к характеристике Исфахана и городов Хузистана, чем и завершается сочинение. Часто отдельные описания Абӯ Дулаф связывает выражениями вроде: «Я дошел до…», «Ты пройдешь к…» и т. п.
Очевидно, как расположение материала, так и эти связующие фразы являются лишь композиционным приемом автора, и, по предположению И. Ю. Крачковского, едва ли в этой последовательности надо видеть строго выдержанный маршрут30.
В то же время надо отметить, что некоторые описываемые в «Записке» места Абӯ Дулаф едва ли посетил. Вероятно, он плохо знал Дайлам и Хорезм, поскольку не дает о них подробных сведений, а ограничивается общей краткой характеристикой, что резко контрастирует с обстоятельными описаниями хорошо знакомых ему мест. Сомнение в личном посещении некоторых городов и селений вызывают слова Абӯ Дулафа, которыми он предваряет описание их достопримечательностей: «Говорят, там имеется…» Таким образом, напрашивается вывод о том, что Абӯ Дулаф иногда использовал сведения, полученные из вторых рук, через различных информаторов, что, судя по «Первой записке», не чуждо его методу.
В «Записке» иногда не говорится ни об исходном, ни о конечном пункте путешествия, в его маршруте нет законченности, а несколько звеньев слабо связаны между собой: неожиданны переходы от общей характеристики Армении, которой предшествует описание Арарата, к Шахразуру и, еще более, от Нишапура к Исфахану. Сюда следует еще добавить хронологическую непоследовательность: при описании событий в Шахразуре Абӯ Дулаф указывает дату 341/952-53 г., а значительно ниже он сообщает, что был в Кармисине в 340/951-52 г. Все это говорит в пользу того, что данное сочинение основано на материалах, собранных автором при совершении многих поездок и впоследствии восстановленных по памяти.
Выясняется довольно отчетливо, что при составлении своей «Записки» Абӯ Дулаф, будучи образованным человеком, но не географом, намеренно придерживался традиций арабской географической литературы. Об этом говорит и расположение материала в виде единого маршрута, и наличие ряда традиционных компонентов в отдельных описаниях. Как и во всех географических сочинениях описательного жанра, в «Записке», как правило, указываются: обязательная общая характеристика объекта описания (область ли это, город, селение, озеро, гора и т. п.), его величина, местоположение, обеспеченность (в случае если это населенный пункт) водой, фруктами и прочими благами, различные достопримечательности и т. д.
Абӯ Дулаф старается как можно меньше говорить о себе и не приводит почти никаких бытовых подробностей о своих поездках; не сообщает он также никаких данных исторического, административного, маршрутного или географического характера, которые могли быть известны из других сочинений или официальных источников. Скупо и лаконично он описывает наиболее яркие достопримечательности, которые ему приходилось видеть, и, следуя своему фиктивному маршруту, умело набирает яркую мозаику из описаний редких памятников архитектуры, диковинных явлений природы и интересных легенд. По-видимому, одним из первых авторов он упоминает о добыче нефти в Баку и о легендарном камнерезе Фархаде; он же с риском для жизни восходит на Демавенд и разоблачает миф о Д̣ах̣х̣āке.
Поиски занимательных сюжетов для своих покровителей, а также прямая связь Абӯ Дулафа с деятельностью «банӯ Сāсāн» определили основную тематику «Второй записки».
Прежде всего обращает на себя внимание интерес Абӯ Дулафа к залежам различных полезных ископаемых, что, по собственным его словам, было связано с его занятиями фармакологией и алхимией. Абӯ Дулаф указывает более 40 месторождений ископаемых — золота, свинца, ртути, меди, квасцов и многих других.
В этой же связи следует упомянуть о большом интересе Абӯ Дулафа к минеральным источникам и лекарственным свойствам некоторых растений.
Едва ли не самое большое место в «Записке» занимают описания архитектурных памятников, преимущественно древних, которые могли быть неизвестны его покровителям. Особенно подробно описаны памятники сасанидской эпохи31.
Абӯ Дулаф приводит ряд легенд и преданий большей частью на основании устной народной традиции, рассказы об отдельных интересных явлениях природы, ряд сведений исторического, экономического, историко-культурного и географического порядка.
Таков характер содержания «Второй записки». Большая насыщенность интересным, зачастую нигде больше не встречающимся и в основном достоверным материалом ставит ее в число ценных источников по истории и исторической географии Закавказья и Ирана. Особый интерес представляют сведения о нефтяных источниках Баку, полезных ископаемых Армении, банях и мельницах Тифлиса, сведения этнографического характера об Армении, о Джурджане и некоторых районах Хорасана32.
В сочинении Абӯ Дулафа отчетливо прослеживаются две линии: точное описание явлений природы и особое внимание ко всему яркому и необыкновенному, к достопримечательностям и чудесам.
Двоякий характер сведений, их недостатки и достоинства объясняются сложностью жизни и личности автора.
Вспомним в этой связи, что вопрос о достоверности сведений Абӯ Дулафа всегда стоял очень остро. Как среди восточных авторов, так и среди европейских востоковедов существует традиция настороженно-недоверчивого отношения к Абӯ Дулафу. Еще ан-Надӣм не поверил сообщению Абӯ Дулафа о размерах столицы Китая33. Многочисленные критические и язвительные замечания Йāк̣ӯта по адресу Абӯ Дулафа были высказаны, по веско аргументированному предположению И. Ю. Крачковского34, под влиянием редактора сборника Мешхедской рукописи.
Недоверие востоковедов к Абӯ Дулафу могло быть вызвано не только отмеченным выше противоречивым характером его сведений, но и замечаниями столь авторитетных арабских ученых, как ан-Надӣм и Йāк̣ӯт.
Связь Абӯ Дулафа с «банӯ Сāсāн» определила, по-видимому, его естественнонаучные и медицинско-фармакологические интересы, а также дала ему большой опыт в наблюдении и сравнении стран и людей, хотя и сказалась отрицательно в его небрежном отношении к фактам и привычном стремлении пускать людям пыль в глаза. Поэтому его сведения следует рассматривать в каждом случае особо, чтобы определить меру истины и выдумки в них. Во всяком случае даже самые невероятные, казалось бы, сообщения имеют под собой реальную почву. Конкретному рассмотрению этих вопросов будет уделено место в примечаниях.
К вопросу о редакции и времени написания сочинения
Как явствует из предисловия ко «Второй записке» и из замечаний составителя сборника, она, как и «Первая записка»35, предназначена для двух его покровителей, имена которых выяснить не удалось.
По получении авторской рукописи один из этих покровителей включил ее в упомянутый сборник. Сведений о других копиях или редакциях сочинения, исходящих от автора, не сохранилось. Сличение Мешхедской рукописи с текстом Йāк̣ӯта и ал-К̣азвӣнӣ убеждает в том, что они пользовались «Запиской» Абӯ Дулафа в редакции Мешхедской рукописи, но вопрос, пользовался ли Йāк̣ӯт этой же самой Мешхедской рукописью, окончательно может быть разрешен только после сличения всех четырех сочинений сборника с цитатами Йāк̣ӯта.
Но «Записка» все же прошла через руки неизвестного нам редактора, в которых она могла подвергнуться изменениям. Авторский текст едва ли менялся, но он мог быть сокращен, подобно сочинениям Ибн ал-Фак̣ӣха и Ибн Фад̣лāна. К сожалению, это трудно установить: в тексте имеются и неожиданные перерывы в изложении, и трудные для понимания места, которые могут быть отнесены и за счет автора, и редактора, и переписчиков.
О времени написания «Второй записки» мы можем судить только по следующему указанию Абӯ Дулафа: он писал это сочинение в момент правления в Табаристане алида по прозвищу ас̱-С̱ā’ир. Под таким прозвищем в литературе упоминается алид-хусейнид Абӯ-л-Фад̣л ас̱-С̱ā’ир, однако дата его правления точно не известна.
Согласно Ибн Исфандийāру36, Абӯ-л-Фад̣л ас̱-С̱ā’ир ал-‛Алавӣ, племянник алида ан-Нāс̣ира ал-Кабӣра, в 50-х годах X в. боролся за власть с Буидами в Табаристāне то в союзе с Вашмгиром, то самостоятельно. X. Ф. Амедроз37 указывает как дату смерти Абӯ-л-Фад̣ла 345/956-57 г. Однако З̣ахӣр ад-Дӣн ал-Мар‛ашӣ, автор одной из наиболее основательных историй Табаристана, сообщает, что в 350/961-62 г. ас̱-С̱ā’ир совершил военный поход из Гиляна и Дайлама в Табаристāн, и рассказывает о его борьбе с правителем Джибāла и с Буидами, не приводя никаких других дат, связанных с его жизнью и деятельностью38. К этим данным можно добавить важное нумизматическое свидетельство: Абӯ-л-Фад̣л Джа‛фар ас̱-С̱ā’ир фӣллāх ал-‛Алавӣ чеканил монеты в Хаусаме (горной местности за Табаристāном и Дайламом) в 341/952-53 г., о чем говорят два хаусамских дирхема 341 г. х., находящихся в Королевском минцкабинете в Стокгольме и в Музее истории Азербайджана39. При описании событий в Шахразӯре Абӯ Дулаф упоминает ту же дату — 341 г. х. Следовательно, «Вторая записка» Абӯ Дулафа и сам сборник, представленный Мешхедской рукописью, были составлены в те же годы или несколько позже.
Мешхедская рукопись и настоящее издание
Поскольку вся рукопись переписана одной рукой и имеет однородные внешние данные, нет необходимости повторять ее описание, данное А. П. Ковалевским в предисловии к переводу сочинения Ибн Фад̣лāна40, где приводится и имеющаяся о ней литература. Укажем только объем интересующей нас «Второй записки»: она занимает 15 листов (лл. 182б—196б). Текст, написанный убористым насхом средней величины, расположен по 19 строк на странице. Дата списка отсутствует; судя по почерку, рукопись относится, вероятно, к XIII в.
Настоящее издание состоит из трех основных частей: критического текста с подстрочными примечаниями к нему, перевода и примечаний к переводу.
При издании сочинения Абӯ Дулафа за основу мы брали Мешхедскую рукопись, но для критики текста нами систематически привлекались цитаты из «Второй записки» Абӯ Дулафа в «Географическом словаре» Йāк̣ӯта как по изданию Вюстенфельда, так и по четырем спискам этого сочинения из хранилища Института народов Азии 41. Географические сочинения Закāрӣйи ал-К̣азвӣнӣ для этой цели не привлекались, так как последний использовал фрагменты из «Второй записки» только через Йāк̣ӯта. Отдельные добавления по географическому словарю Йāк̣ӯта, восполняющие пропуски в тексте Мешхедской рукописи, заключены в квадратные скобки.
В примечаниях к тексту нами систематически указываются соотношение цитат Йāк̣ӯта с текстом «Второй записки», исправления, вносимые в текст согласно Йāк̣ӯту или по нашей конъектуре, все более или менее значительные разночтения и, наконец, особое или неполное написание (scriptio defectiva) отдельных слов в рукописи. Однако ряд палеографических особенностей рукописи и некоторые явные ошибки переписчика в примечаниях не оговариваются. Сюда, например, относятся: отсутствие диакритических знаков при тех или иных буквах или их смещение; постоянное отсутствие хамзы во всех положениях; замена хамзы маддой; появление алифа ал-вик̣āйа в конце недостаточного глагола в первом лице единственного числа несовершенного вида; неправильный падеж имени числительного; своеобразие написания отдельных букв и вязей и т. п.
В примечаниях к тексту приняты следующие сокращения:
Доб. — добавляет.
Йāк̣. — Jacut’s geographisches Wörterbuch, hrsg. von F. Wustenfeld, I–VI, Leipzig, 1866–1870.
Кон. цит. — конец цитаты.
MP — Фотокопия Мешхедской рукописи, хранящаяся в Ленинградском отделении ИНА АН СССР, Ф В 202.
Нач. цит. — начало цитаты.
Оп. — опускает.
По конъект. — по конъектуре.
Рук. — рукопись.
Цель комментариев к переводу — дать объяснение некоторым географическим названиям, терминам, именам лиц и отдельным сюжетам «Записки». Авторы, рассчитывая на широкий круг читателей, позволили себе разъяснение некоторых вещей, известных специалистам, не перегружая примечания подробностями и деталями; это облегчение примечаний, как надеются авторы, компенсируется постоянными почти при каждом примечании отсылками читателя к соответствующей литературе, где специалист может выяснить интересующие его подробности.
П. Булгаков и А. Халидов
ВТОРАЯ ЗАПИСКА АБӮ ДУЛАФА ПЕРЕВОД
<ВТОРАЯ ЗАПИСКА1, КОТОРУЮ ОН2 ПОСЛАЛ НАМ ПОСЛЕ ТОЙ, ЧТО МЫ ЗАПИСАЛИ3>
Сначала я расскажу о естественных залежах [полезных ископаемых]10 и удивительных явлениях, связанных с залежами, так как они наиболее общеполезны, и при этом буду стремиться к краткости. Аллах — владыка содействия, и его мне достаточно, ибо он лучший помощник.
Что касается золота аш-Шӣза, то оно трех разновидностей. Разновидность, известная под названием ал-к̣ӯмисӣ23, — это земля, на которую льют воду, и она уносится [водой], а остаются крупинки золота, как пылинки, которые собирают при помощи ртути. Она красная, цвета х̮алӯк̣а24, тяжелая, чистая, яркая, огнеупорная, мягкая, ковкая.
Другая разновидность называется аш-шахранӣ25; ее находят в виде самородков весом от одной хаббы26 до десяти мискалей27; она яркая, твердая, тяжелая, только в ней немного сухости28.
Третья разновидность называется ас-саджāбаз̱ӣ29; она белая, мягкая, тяжелая при пробе, красная, окрашивается купоросом.
Арсеник аш-Шӣза пластинчатый, с небольшим количеством земли; он употребляется для убранств и украшений, и из него, в частности, жители Ис̣фахāна делают геммы, но среди них нет красных.
Ртуть аш-Шӣза лучше хорасанской, тяжелее и чище. Мы расспросили о ней, и соотношение [ее содержания] в породе рудникового серебра оказалось один к тридцати, а мы подобного не находили на Востоке. Что касается его серебра, то оно дорого вследствие дороговизны угля у них.
Стена этого города окружает [также] озеро30, находящееся посреди него; дна этого озера невозможно достать. Я бросил в него лот [длиной] четырнадцать с лишним тысяч локтей31, но груз его не достиг дна и не пришел в состояние покоя. Площадь его около хашимитского джариба32. Когда его водой смачивают землю, она тотчас превращается в твердый камень. Из него вытекают семь каналов, каждый из которых спускается к мельнице, а затем выходит [из города] под стеной.
Там имеется весьма почитаемый храм огня33, от которого зажигаются огни огнепоклонников на востоке и на западе. На вершине его купола — серебряный полумесяц34, являющийся его талисманом. Некоторые эмиры и завоеватели пытались сорвать его, но не смогли.
<Эти слова тоже из преувеличений Абӯ Дулафа35>.
К чудесам этого храма относится также то, что его очаг пламенеет в течение семисот лет и в нем совсем нет золы, хотя горение не прекращалось ни на какое время.
Когда враг подступает к этому городу и устанавливает баллисту против его стены, ее камни падают в упомянутое нами озеро; если же он отодвинет свою баллисту хотя бы, например, на локоть, камни падают вне стены.
Предание об основании этого города таково: до Хурмуза, царя персов, дошло известие о том, что в Иерусалиме, в селении, называемом Байт Лах̣м 37, родится некое благословенное дитя, младенец, и что приношением ему должно быть золото38, оливковое масло и ладан. И он послал одного из своих доверенных лиц с большим количеством денег, приказывая ему купить в Иерусалиме тысячу кинтаров39 оливкового масла, а ладан он вез с собой. Он также приказал ему отправиться в Иерусалим и расспросить об этом младенце, а когда разузнает о нем, отдать этот дар его матери и возвестить ей о тех почестях, славе и добрых делах, которые ожидают ее ребенка, попросить ее благословить царя и жителей его царства.
Этот человек, выполнив все, что было ему приказано, отправился к Марии и, передав ей то, что было отправлено с ним, сообщил ей о благодати, [ниспосланной] ее ребенку. Когда он пожелал возвратиться от нее, она передала ему мешок земли и сказала: «Сообщи своему господину, что на этой земле будет постройка». Он взял его и удалился; добравшись до места аш-Шӣза, а оно было тогда пустыней, он умер, но перед своей смертью, почувствовав ее приближение, он закопал там мешок.
Это известие дошло до царя, и, как утверждают персы, он направил одного из своих людей, приказав ему: «Иди на то место, где умер посланный нами, и построй над тем мешком храм огня». Он спросил: «А как я узнаю место, где он находится?» Тот ответил: «Ступай, и от тебя это не скроется». По прибытии на то место он в недоумении не знал, что предпринять; когда же наступил вечер и осенила его ночь, он увидел большой свет, исходящий из одного места неподалеку от него. Тогда он понял, что это то место, которое он искал; он отправился туда, очертил вокруг света линию и заночевал. Утром он приказал построить здание на той черте; и это тот храм огня, что находится в аш-Шӣзе40.
Из этого города я вышел в другой город, в четырех фарсахах41, известный под названием ар-Рāн42, в котором находится рудник золота тяжелого, белого, серебристого, красного при пробе. Если к десяти частям его прибавить одну часть серебра, то оно становится красным. Я нашел там рудник свинца и приготовил из него окись свинца43, и получилось у меня из каждого манна44 [руды] полтора даника 45 серебра; и я не обнаружил [подобного] в других свинцовых46 рудниках47.
Оттуда я отправился к Вāдӣ Исфандӯйа51, где нашел много горячих источников с баурак̣ом52, полезных только от судорог53; там есть также источник, излечивающий стертые ноги54.
От этой реки я направился к руднику красного купороса сӯрӣ55, в котором летом образуется белое золото и становится красным с внутренней стороны.
Оттуда я выехал в ат̣-Т̣арм56 и нашел там и в Занджāне несколько хороших мест добычи купоросов, превосходящих египетское, кипрское и керманское. Там же я обнаружил места добычи баурак̣а и белых и красных квасцов. Я нашел там горячий источник, который исцеляет старые раны, но не свежие, а также ключ, источающий воду, которая при соприкосновении с воздухом каменеет и в жидком состоянии помогает от течи матки, а в твердом — от язв на спине осла. Я нашел там также белые камни, которые заменяют ал-бāз̱изахр 57.
Я достиг крепости царя Дайлама, которая известна под названием Самӣрāн58, и увидел там среди ее построек и изделий то, чего не видел ни в одной из резиденций царей. Дело в том, что там две тысячи восемьсот пятьдесят с лишним больших и малых домов; ее владетель, Мух̣аммад ибн Мусāфир59, когда обращал внимание на хороший товар или искусное изделие, расспрашивал про [изготовившего] их мастера и, когда узнавал о его местонахождении, посылал ему столько денег, сколько могло бы прельстить его, и он обещал ему вдвое больше, лишь бы тот приехал к нему. Когда же тот оказывался у него, он препятствовал ему выехать из замка до конца жизни. Он обычно брал детей своих подданных и отдавал их в ремесла; он имел большие доходы, малые расходы, был богат, обладал громадными сокровищами. И он находился в таком положении, пока его сыновья не замыслили восстать против него из жалости к тем людям, которые были у них || (184Б) на положении пленников.
Затем я возвратился в Азербайджан по горам61 до Мӯк̣āна62. Я шел восемьдесят фарсахов под деревьями по берегу Великого моря Табаристāна63, пока я не дошел до места, называемого Бāкӯйа64, принадлежащего к областям65 Ширвāна66. Там я нашел источник нефти, ежедневная арендная плата которого достигает тысячи дирхемов, а возле него — другой источник, изливающий беспрерывно, днем и ночью, белую, как жасминовое масло67, нефть; откуп последнего равен первому.
Оттуда я отправился по стране армян, пока не достиг Тифлиса; а это — город, дальше которого не распространен ислам. По городу протекает река, называемая ал-Курр68, которая впадает в море. По реке есть действующие мельницы (колеса?). Тифлис окружает огромная стена. В городе находятся очень жаркие бани, которые не требуют ни топки, ни доставки воды. Причина же этого [ясна] для обладающих сметливостью, [а это] избавляет меня от необходимости разъяснять ее. Я хотел пойти к пещере ат̣-Т̣айс 69, чтобы посмотреть на нее, но это было невозможно из-за ее недоступности, и я удовлетворился обязательным (?)70.
Оттуда — в Ардабӣл71. Я прошел через горы ал-Вайзӯр72, К̣абāн73, Х̮āджӣн74, ар-Руб‛75, Х̣андāн76 и ал-Баз̱з̱айн77. Там — место добычи квасцов, называющихся по этой местности, а это — красные квасцы, известные [также] под названием йеменских. Оттуда их доставляют в Йемен и Вāсит̣78. Шерсть в Вāсит̣е окрашивается только ими, и они более стойкие, чем египетские. В ал-Баз̱з̱айне, Ардабӣле и вышеупомянутых горах находятся горячие источники, исцеляющие только коросту.
Около него — река ар-Расс 83, вдоль по реке — чудесные гранаты, подобных которым я не видел ни в одной стране. Там же — восхитительные смоквы. Изюм же его сушится в печах, потому что у них солнце не показывается из-за частых туманов84 и небо никогда не бывает ясным. У них мало серы, которую находят кусками у ручьев. Если женщины пьют ее с похлебкой, они полнеют.
Река ар-Расс выходит в Баласаджāнскую степь85, которая простирается (по широте?) до берега моря, а по долготе86 от Барзанда87 до Барда‛а88. В этой же степи — Варс̱āн89 и ал-Байлак̣āн90. В этой степи находится пять тысяч или более заброшенных селений, хотя стены и постройки, уцелевшие от разрушения благодаря хорошей и здоровой почве, продолжают стоять. Говорят, что те селения принадлежали властителям ар-Расса, которых упоминает Аллах всевышний в Коране91. Говорят, что они — воинство Джāлӯта 92, которое погубили Дā’ӯд93 и Сулаймāн 94, — мир им — когда они отказались платить харадж95. Джāлӯт был убит в Урмии96, и там его могила. В Урмии также находятся храм Победы и храм Величия 97.
В Урмии98 есть еще горькое озеро, вокруг которого нет никакой растительности и близ которого не водятся никакие животные. Посреди его — горы, называемые Кабӯз̱āн 99, и там расположены селения, в которых живут матросы [с] судов этого озера. А его окружность равна 50 фарсахам, и пересечь его поперек можно за одну ночь. Из него добывают блестящую соль, которая походит на цинк. На его восточном берегу бьют ключи, вода100 которых при соприкосновении с воздухом превращается в камень, и ключи, которые несут в озеро горькую, кислую и соленую воду, которая, будучи вылита на ртуть, тотчас расщепляет и превращает ее в сухой камень.
Жителям этой страны свойственна услужливость к гостю, щедрость в угощении, а также доброе послушание своим священнослужителям, так что, когда к кому-либо из них приходит кончина, он призывает священника, дает ему денег и исповедуется ему в одном из совершенных им грехов, а священник, уже даровав ему прощение и отпущение прочих его грехов, молит о прощении и этого греха. Говорят также, что священник расстилает свою ризу и всякий раз, как тот называет грех, он открывает руку, затем сжимает ее и говорит: «Я принял его»; потом он бросает грех в эту ризу. Когда у исповедующегося не остается ни одного греха, священник подбирает ризу и уносит ее, говоря: «Я забрал твои грехи и брошу130 их в степи» — и вселяет он в душу исповедующегося [уверенность в] прощении и снисхождении. Такого обряда нет ни в одной вере131, кроме как среди этих [людей], а они — только часть армян. Голоса их при обучении Евангелию и ритм их напевов приятнее и чище, чем голоса других толков христиан. Пение их более располагает к плачу опечаленного, склонного по своей природе к скорби и стону, чем надгробные вопли арабов, а их церковные мелодии приятнее для слуха [человека] восприимчивого и чуткого, ибо и радость и ликование [происходят] от песенных повторов. И говорят, что строй их пения под аккомпанемент струн приятен и верен132.
В Армении мало памятников древности; там имеется рудник желтого марказита140, но тот, который находится на территории аш-Шӣза, в селении, известном под названием Нимрāвар 141, лучше его; мне кажется, я не видел подобного.
Армения граничит142 с горами ал-Х̣ӯр (?)143, затем — с горами Дāс. н144, далее — с ал-Х̣.рāнӣйа145 и Нирӣз146. А Нирӣз этот был владением, подвластным племени ат̣-т̣ай147. Это был край, куда [многие] стремились, там бывали Абӯ Таммāм148, ал-Бух̣турӣ149 и другие. Ее владетеля, ‛Алӣ ибн Мурра ат̣-Т̣ā’ӣ, много прославляли, к нему стекались поэты и возвращались от него с богатыми дарами. Впоследствии страной овладело курдское племя, известное [под названием] хаз̱бāнӣйа150. Они захватили город, стерли его с лица земли, разорили его рустāк̣и и снесли его древние памятники. Такое положение длилось некоторое время. Когда же ослабла центральная власть и курды почувствовали себя в безопасности от притязаний правителей и походов эмиров, они восстановили то, что разрушили, и возвысились в том краю, подобно своим предшественникам, и простерли его селения вплоть до ас-Салак̣а151, ад-Дӣнавара и округов Шахразӯра.
Оттуда семь фарсахов до Дайламистāна160. Когда дайламиты во времена Хосроев выступали из своей страны для набега, они располагались лагерем в этом селении. Оставив пешее войско в этом селении, они рассыпались по стране, опустошая ее; закончив набег, они возвращались в селение и оттуда отправлялись в постоянное местопребывание. Оно и по сей день носит их имя.
В Шахразӯре есть другой город, менее непокорный и храбрый, известный как Бӣр161. Жители его — шииты, салихиты-зейдиты 162, которые приняли ислам из рук Зайда ибн ‛Алӣ163. Этот город — убежище всяких бродяг и пристанище всех разбойников. В 341 году164 жители Нӣм-аз-рай напали на жителей этого города, перебили их, ограбили и пожгли огнем из ревности за религию и внешнее понимание шариата165.
Этот город построил Дāрā сын Дāрā170, ни ал-Искандар171 не овладел им, и жители его не поддержали его призыва, ни мусульмане не смогли захватить город и овладеть им, и жители его приняли ислам уже после того, как мусульмане отчаялись в их покорении.
Узурпаторы из числа его жителей до наших дней утверждают, что они из потомков Т̣āлӯта. Его округа примыкают к Х̮āник̣ӣну и Карх̮ Джуддāну172; последний известен виноградом ас-сунāйа173, малым распространением глазных болезней и оспы. Оттуда на пути в Х̮āник̣ӣн встречается река Тāмаррā174.
В Х̮āник̣ӣне — обильный источник нефти, приносящий большой доход; там же на его реке — мост, имеющий большое значение. Он состоит из двадцати четырех арок, а каждая арка в двадцать локтей [ширины]. По нему пролегает хорасанский тракт на Куфу и Мекку. Эта дорога доходит до дороги к К̣ас̣р Шӣрӣн175 — высоким постройкам, которые взор бессилен охватить, а мысль не в состоянии объять. Они [представляют] множество связанных друг с другом айвāнов, покоев, кладовых, арок, мест для прогулок, бельведеров, портиков, ипподромов, мест охоты, светелок и вилл176, которые обладающий разумом подолгу созерцает; они говорят о могуществе, силе и долголетии; размышляющий находит в них назидание. Царем, построившим их, был Абарвӣз177. В Хулвāне178 также имеются памятники архитектуры, подобные тем, что в К̣ас̣р Шӣрӣне.
Оттуда — к Т̣āк̣ ал-Х̣аджжāму179. А это — каменная арка удивительной постройки, с высокой вершиной, на главной дороге в теснине между двумя горами.
От него — к Мāз̱арустāну180, а это — одинокий огромный айвāн с большою площадкой и пришедшим в запустение садом перед ним. Построил его Бахрāм Джӯр181. Снег выпадает на его половине, обращенной к востоку и к Хорāсāну, и не выпадает на другой, обращенной к Ираку.
Оттуда — в Мардж ал-К̣ал‛а182. А это — обширная равнина, на которой имеются остатки древней183 крепости удивительной постройки.
Вблизи него расположена еще одна гора, а на горе — келья186, известная под названием Дайр ал-Гāр187. Она была названа этим именем, как некоторые утверждают, по такой причине: Абӯ Нувāс 188 выехал из Ирака, направляясь в Хорāсāн, и прибыл в эту [келью]. Там жил беспутный189 монах с красивым лицом и изящной фигурой, который принял Абӯ Нувāса и угостил его, не стремясь достигнуть при этом какой-то цели190. Когда они выпили, Абӯ Нувāс предложил, ему вступить в сношения, и тот согласился. Удовлетворив желание, монах изменил своему слову и воспротивился Абӯ Нувāсу. Тогда Абӯ Нувāс убил его. И по сей день никто в этой келье не живет. Она является местом сбора хулванских красавцев, которые пьют там по этой причине, а также потому, что местность эта приятная и здоровая. На [стене] кельи, как говорят, рукою самого Абӯ Нувāса написано:
«Этот монах не был справедлив, поскольку вступал в сношения с людьми, а сам не отдавался».
В Мардж ал-К̣ал‛а — красивый город с очень холодным климатом и студеной водой, а около него — крепость, которая высится над садами, но только она заброшена. Говорят, что Абарвӣз убил одного из своих сыновей в этой крепости и из-за этого она пришла в запустение. Беджкем ат-Туркӣ191 задумал отстроить ее, но умер прежде, чем осуществил свой замысел.
Оттуда — в ат̣-Т̣азар192, а это город с соборной мечетью в обширной степи. В городе — громадный айвāн, построенный Х̮усраугирдом, сыном Шāхāна 193. Других памятников, помимо этого, там нет.
Оттуда сворачивают вправо, к Мāсабаз̱āну 194 и Михриджāнк̣азак̣у 195. А они [объединяют] несколько городов, в числе которых Арӣваджāн 196 — красивый город в степи среди гор, изобилующий деревьями, с многочисленными горячими источниками и месторождениями серы, купороса, баурак̣а и соли. Его вода выходит к ал-Банданӣджайну197 и орошает там финиковые пальмы. Там нет ничего достопримечательного, кроме трех горячих источников и родника. Если кто-нибудь сделает промывание водой родника, она оказывает сильное слабительное действие, а если выпьет ее, она вызывает сильную рвоту соками198, что вредно отражается на нервах головы.
От этого города до ар-Радд ва-л-Б. рāу199 несколько фарсахов. Там находится могила ал-Махдӣ 200. Там нет ничего достопримечательного, кроме здания, следы которого стерлись и от которого не осталось никаких признаков.
Затем оттуда выходят к ас-Сӣравāну201, где имеются прекрасные памятники архитектуры и удивительные жилища.
Оттуда — в К̣армӣсӣн 205. Это чудесный, красивый город внутри которого нет другого памятника, кроме развалин одного дома, который, говорят, был удивительным. В 340 году 206 мы были там очевидцами удивительного случая, а именно: кто-то из начальствующих лиц города пожелал построить дворец, предназначая его для себя, своего гарема и слуг. Зодчие начертили для него план дворца. Когда он начал рыть фундамент, там обнаружилось здание; тогда он углубился в его обследование, это привело его ко дворцу, по виду похожему на тот, который начертили для него 207, так что их никак нельзя было отличить ни по их камню, ни по их залам, ни по их дворам, ни по их куполам, ни по их покоям. Утверждают, что этот дворец — творение того, кто изобразил Шабдӣза 208.
<А это сообщение также, по нашему мнению, является вымыслом Абӯ Дулафа> 209.
Абӯ Дулаф говорит: изваяние Шабдӣза210 находится на расстоянии фарсаха от города К̣армӣсӣна; это — всадник на коне из камня, на нем кольчуга, не скрепленная ничем железным211. Ясно различаются кольчужная ткань и гвозди, вбитые в нее. Тот, кто смотрит на него, не сомневается в том, что он движется. Это изваяние изображает Барвӣза, восседающего на своем коне Шабдӣзе. И нет на земле подобного ему изваяния. В своде, внутри которого находится это изваяние, имеются несколько изображений женщин и мужчин, пеших и конных; а перед ним изображен мужчина в одежде работника: на его голове коническая шапка212, он опоясан и держит в руке лопату213, как будто копает ею землю, а из-под его ноги струится вода214.
От этого места ты идешь к мосту, [перекинутому] через широкую реку215. Он подобен мосту Х̮āник̣ӣна, но сделан еще прочнее.
Оттуда — к высоко поднимающейся горе, которую называют Сумайра216. На ней есть удивительные изображения и чудесная резьба217, исполнение которых, как рассказывают, Хосрой Абарвӣз поручил Фархāз̱у218 Мудрому. За этим местом находится большой, изумительной постройки мост через глубокую реку219.
После этого места — самый большой и самый прочный мост из всех упомянутых ранее; он известен под названием Мост ан-Ну‛мāна 224. Причина его постройки такова: во время одной из своих поездок к Хосрою 225 ан-Ну‛мāн ибн ал-Мунз̱ир 226 проезжал через большую и очень глубокую реку с трудным спуском и подъемом. И в то время как он разведывал ее, он нагнал женщину с ребенком, которая, желая переправиться, задрала платье, а ребенка посадила себе на шею. Когда подошла его свита, она от испуга и смущения опустила платье, ребенок сорвался с ее шеи и утонул. Ан-Ну‛мāна опечалило это, он проникся к ней жалостью и дал обет построить на этом месте мост. Он просил разрешения Хосроя на это, но тот отказал ему, дабы не было никаких следов арабов в стране персов. Когда же Бахрāм Джӯбӣн227вышел сражаться против Абарвӣза, он обратился за помощью к ан-Ну‛мāну. Тот оказал ему помощь на некоторых поставленных им условиях. В эти условия входило то, что Бахрāм назначит ему половину хараджа с Бирса 228 и Кӯсы 229 и что ан-Ну‛мāн построит мост, о котором мы выше говорили. Бахрāм Джӯбӣн согласился на это, а когда он удалился, ан-Ну‛мāн построил упомянутый мост.
От этого моста ты идешь к селению, известному под названием Дастаджирд Кисравӣйа 230, в котором есть удивительные здания — дворцы и айвāны. Все они построены из обтесанных кусков скалы, и тот, кто на них смотрит, не усумнится в том, что это одна вытесанная скала.
Оттуда — к другому селению, называемому Валāшджирд231, богатому источниками; говорят, что в нем тысяча источников, воды которых сливаются в одну реку.
Оттуда — в Мāз̱арāн 232, а это озеро, из которого вытекает вода в таком большом количестве, что она вращает сто различных, разнообразных жерновов. Возле озера — величественный замок Хосроя, а перед ним — пруд233 и большой сад.
От него до места, известного как Мат̣бах̮ Кисрā 236, — четыре фарсаха. А этот Мат̣бах̮ — огромная постройка в степи; вокруг него совсем нет возделанных мест. Абарвӣз, как мы упоминали, останавливался в К̣ас̣р ал-Лус̣ӯс̣, а сын его, Шāхмардāн237 — в Асадāбāде 238; между Мат̣бах̮ом и К̣ас̣р ал-Лус̣ӯс̣ — четыре фарсаха, а между ним и Асадāбāдом — три фарсаха.
Когда царь хотел есть, рабы выстраивались в два ряда от К̣ас̣р ал-Лус̣ӯс̣ до места Мат̣бах̮а, — а между ними четыре фарсаха, — и блюда для него передавали один другому. Точно так же — от Мат̣бах̮а до Асадāбāда, а между ними три фарсаха. Асадāбāд назван по имени Асада ибн З̱ӯ-с-Сарва ал-Х̣имйарӣ 239.
Оттуда — в Хамадāн. Хамадāн — город Дāрā сына Дāрā. В середине Хамадāна — древняя мадӣна240. Это большой город, построенный на [каменной] площадке вышиной в тридцать локтей; у него четверо высоких сводчатых ворот. Облюбовав это место, Дāрā построил город; а оно было болотистой зарослью, изобилующей дикими зверями, и оставалось таким, пока не сошла оттуда вода и не построили там город.
Рассказывают, что город этот был древним и что Дāрā, когда двинулся против него З̱ӯ-л-Карнайн241, просил совета у своих везиров относительно укрепленного города, в котором он мог бы сохранить свою семью и сокровища. Один из них сказал ему: «Я знаю заброшенный город меж высоких гор и труднопроходимых дорог; если царь отстроит его и поместит в нем на сохранение свои сокровища, поручив его защиту четырем тысячам своих верных [воинов], то он будет недоступен для любого, кто будет пытаться на него напасть», — и он описал ему город. Дāрā отправился туда и, осмотрев его, удостоверился, что город будет недоступен для всякого, кто пожелает им [овладеть]. Он отстроил его, устроил потайные хранилища для своих богатств и сокровищ и, собрав в нем свою семью, поручил его своим надежным [войскам].
Почва Хамадāна вся золотоносная, только там мало угля, и на него тратится столько же, сколько получается дохода, и в этом нет прибыли. В городе нет ни горячих источников, ни ископаемых, кроме места добычи камня сунбāз̱адж243, которое поддерживает их (жителей).
За селением Абӯ Аййӯба, известным под названием ад-Дуккāн 244, на расстоянии одного фарсаха, лежит селение, в котором находится озеро, с виду небольшой величины, но дна которого невозможно достать. Говорят, что в нем утонул какой-то персидский царь и его мать отправилась туда, имея при себе много денег, и она обещала щедро одарить того, кто вытащит его [тело] или что-либо из его костей; водолазы сделали все, что было в их силах, но не смогли достать дна озера. Когда она увидела это, приказала засыпать озеро, и принесли столько земли, что невозможно себе и представить; ее бросали в озеро, но оно не высыхало. Когда ей не удалось засыпать его, она удалилась, а около озера — ужасающий огромный земляной холм, который, как говорят, был принесен за один раз: она оставила его для того, чтобы люди узнали, как много земли было принесено и брошено в озеро, но все было напрасно 245.
Относительно воды, которая под Шабдӣзом, в Кармӣсӣне, мне сообщили, что, если отчеканить тысячу дирхемов и бросить в нее при температуре плавления, они увеличиваются на шесть дирхемов, но причины этого я не знаю.
Из Хамадāна ты отправляешься в Нихāванд, а в нем имеются бык и рыба, искусно сделанные из камня 250. Рассказывают, что это — талисман против некоторых бедствий, которые случались там. В Нихāванде прекрасные памятники персов и в центре — крепость удивительной постройки и высоты. Там имеются могилы арабов, павших мучениками за веру в начале ислама, в том числе могила ‛Амра ибн Ма‛дӣкариба 251.
Вода его, по общему мнению ученых, здоровая и полезная.
Там растет дерево х̮иллāф252, из которого делают с̣аула-джāн 253; подобного ему по прочности и доброкачественности нет ни в одной стране.
Говорят, что один из послов царя румов был послан к ал-Ма’мӯну 254, когда он был в Мерве, и вручил ему письмо. Ал-Ма’мӯн, прочитав письмо, дал в распоряжение посла отряд воинов и написал наместнику в Нихāванде, чтобы он позволил послу делать то, что он захочет. И когда тот прибыл к наместнику, он сказал ему: «Делай, что пожелаешь». И он отправился к восточным воротам и измерил в локтях расстояние между двумя створками, затем вырыл в середине измеренного расстояния около двадцати локтей и, добравшись до большого камня, приказал вывернуть его; вывернули его, и вот — под ним маленькое помещение, а в помещении — два золотых запертых сундука. Он их взял и вернулся к ал-Ма’мӯну, а последний послал с ним людей, которые доставили его к его государю, и никто не знает, что было в этих сундуках 255.
После него — в Карадж 256, где нет хосройских памятников, но там памятники рода Абӯ Дулафа 257 и величественные красивые здания, указывающие на большое царство 258. В нем есть горячие источники, ключи и родники. Он лежит на большой дороге между ал-Ахвāзом и ар-Реем и между Ис̣фахāном и Хамадāном.
После него — К̣умм 259; это город новый, построенный при исламе, в котором нет памятников, принадлежащих неарабам. Его построил Т̣улайх̣а ибн ал-Ах̣вас̣ ал-Аш‛арӣ260. В городе имеются колодцы, подобных которым по приятности [вкуса] и холодности [воды] нет на земле; говорят, что летом иногда из них достают снег. Постройки в городе из обожженного кирпича, а погреба там необыкновенно хорошие.
Эта крепость известна под названием Дайр Каджӣн261, вокруг нее большие объемистые цистерны, выдолбленные в камне. В ар-Рее нет персидских памятников, так как арабы стерли там следы персов и разрушили их постройки.
В середине ар-Рея находится также мадӣна, примечательная своими железными воротами и огромной стеной; в городе есть соборная мечеть. Посреди мадӣны находится также высокая гора, на которой стоит укрепленная цитадель, построенная Рāфи‛ ибн Харс̱амой 262. В настоящее время она разрушена. Над городом возвышается гора, известная под названием Табарак 263; на горе есть постройки — памятники персов и наӯсы 264; в ней есть также рудники золота и серебра 265, доход от которых не равняется тому, что на них расходуется.
В ар-Рее с восточной стороны находится место, которое называется Джӣлāбāз 266. Там есть постройки, айвāны, высокие своды, пруды, замечательные сооружения для увеселений, которые построил Мардāвӣдж267. Тот, кто на них смотрит, не сомневается, что это древние хосройские постройки. Там есть большая страшная тюрьма 268, окруженная глубоким озером, на котором — тростниковые заросли. Она построена из глины на земляной площадке. В ней невозможно сделать подкоп, и оттуда не спасется преступник какой бы то ни было хитростью. Среди крепостных сооружений такого рода я не видел ничего подобного.
<Это сообщение, думаем мы, тоже одна из «штучек» Абӯ Дулафа> 270.
Из ар-Рея вышло некоторое число ученых, секретарей в поэтов. В ар-Рее271 были и вожди, и землевладельцы272; среди них — ал-Джарӣш ибн Ах̣мад 273, владелец тысячи деревень, где не было ни одного джариба, приобретенного насильственным путем274, пожалованного 275 или обеленного 276. Когда он являлся в «град мира» 277, то его медицинские сокровища 278, помимо всего прочего, перевозились на ста верблюдах. Когда он являлся на прием к везиру, ему расстилался молитвенный коврик, а это не делалось ни для одного властителя 279, кроме как для него.
Воды ар-Рея пресные, нездоровые. Там река, называемая ас-Сӯрӣн 280. Я заметил, что жители города остерегались ее. Она слыла у них злосчастной, и они не приближались к ней. Я спросил, в чем тут дело, и один старец из их среды сказал мне: «Причина этого в том, что меч, которым был убит Йах̣йā ибн Зайд281, — мир ему — был омыт в этой реке». Там изготовляются рейские ткани, которых не выделывают нигде во всем остальном мире, кроме как в их городе. Я сам видел штуку ее размером около двухсот пядей, которую продали за десять тысяч дирхемов. Жители ар-Рея коварные, тупые и хитрые.
У них есть подземный ход, где их никто не может настигнуть; говорят, что некоторые из них ведут подкопы на много фарсахов и строят ходы под реками, подобными Тигру, и под большими каналами; рейский подземный ход вошел в поговорку. Жители ар-Рея дерзко проливают кровь и убивают.
К ар-Рею относится рустāк̣, называемый К̣ас̣рāн 282, а это огромные высокие горы: если его жители отказываются платить харадж халифу 283, то последний ничего не может с ними поделать, и вот у правителя ар-Рея находятся их заложники. Большая часть фруктов ар-Рея — из этих гор.
Земля города примыкает к горам банӯ Кāрин284, Дунбāванду285 и горам ад-Дайлама и Табаристāна.
В одной части рейских гор я видел озеро площадью около джариба, в которое в зимние и весенние дни стекают воды рек этих гор и потоков их ущелий, но количество воды в нем не прибывает и не убывает ни зимой, ни летом, в то время как за один из зимних или весенних дней [в него] вливается столько воды, что, если бы она разлилась по земле, образовала бы бушующее море. Вокруг этого озера — поля нарциссов, фиалок и роз. Недалеко от озера — развалины древнего замка, от которого осталась только часть стен и купол над дверью его дворца; но я не нашел никого, кто рассказал бы о нем что-нибудь.
Дунбāванд— два города, один из которых известен под названием Вайма 286, а другой — Шаламба 287; в каждом из них есть соборная мечеть. Между этими городами много селений, высоких гор, и проходит между ними речная долина, называемая Вāдӣ-л-Хабр 288, замечательная, богатая деревьями, изобилующая горячими источниками, ручьями, болотными зарослями289. Воды этой реки достигают Х̮увāра Рейского 290. В этой Вайме временами бывает сильный ветер, который дует днем и ночью на протяжении нескольких определенных дней в году, порою до трех месяцев. Никакая завеса не спасает от него человека, и часто он губит всякого, кого застигнет где-нибудь на дороге или в пустыне. Поэтому жители этого города переселяются, уходя от него в близлежащие горы, и укрываются там, пока не минует период ветра, и тогда они возвращаются в свои жилища.
В Дунбāванде находится огромная, высоко вздымающаяся и величественная гора, с верхушки которой ни зимой, ни летом не сходит снег; ни один человек не в состоянии ни подняться на ее вершину, ни приблизиться к ней. Называют ее горой Бӣварасфа291. Она видна людям и из Мардж ал-К̣ал‛а, и из горного прохода Хамадāна. Тому, кто на нее смотрит из ар-Рея, кажется, что она возвышается прямо над ним и что расстояние между нею и городом — один-два фарсаха, в то время как между ними — 30 фарсахов.
Я обратил на это внимание и стал наблюдать. Остановившись в этой местности, я начал взбираться на гору, пока не достиг ее середины с громадным трудом и риском для жизни. Не думаю, чтобы кто-нибудь поднимался выше того места, которого я достиг. Да, я даже думаю, что ни один человек не добирался и до него. Я осмотрел горы и обнаружил источник серы, вокруг которого была закаменевшая сера. Когда взошло над нею солнце и стало жарко палить, вспыхнул в ней огонь. Рядом с этой серой опускается под гору лощина, в которую врываются со всех сторон встречные ветры; среди них возникают ритмические звуки в самых разнохарактерных созвучиях: порой наподобие ржания лошади, то словно крик осла, то вроде людского говора. Тому, кто прислушивается к ним, слышится нечто подобное внятной речи, не поддающейся пониманию, но и не совсем бессмысленной; ему кажется, что это — речь бедуина, язык человеческого существа. А тот дым, про который утверждают, что он — дыхание Бӣварāсба, — испарение этого источника серы. И это обстоятельство привело к возникновению этих представлений, которые утвердились среди простонародья.
В одной из лощин этой горы, я нашел остатки древнего здания и вокруг него следы295, указывающие на то, что здесь были летние резиденции некоторых Хосроев.
Когда жители этой местности видят, что муравьи стараются запасти как можно больше зерен, они знают, что будет засушливый и неурожайный год. Когда же у них льют проливные дожди и жители терпят от них ущерб, они, желая, прекращения ливней, льют козье молоко на огонь, и те прекращаются. Я неоднократно проверял достоверность этого утверждения и убедился, что они в этом правы.
Стоит только кому-нибудь увидеть вершину этой горы в какое-либо время лишенной снежного покрова, как происходит смута и проливается кровь в той стороне, с которой ее видели лишенной снежного покрова. Эта примета тоже верна, по общему утверждению жителей той местности.
Вблизи этой горы находится место добычи сурьмы, ал-мартака296, свинца и купороса.
Там производят также восхитительные одежды; стоимость некоторых из них доходит до нескольких динаров; и его платки также славятся во всех странах.
Эта область примыкает к Джурджāну. Люди проезжают из ар-Рея в Джурджāн по большой дороге среди пустыни; влево от этой дороги возвышаются горы Т̣абаристāна. В этих горах, где-то между Симнāном303 и Дāмгāном304, находится ущелье, из которого в некоторые времена года дует ветер на того, кто проезжает большой дорогой; кого бы ветер ни настиг, он губит его, хотя бы тот был закутан в меха. Между дорогой и этим ущельем — один фарсах, ширина выхода ущелья примерно четыреста локтей, а губительное действие ветра распространяется до двух фарсахов; чего бы ни коснулся этот ветер, он превращает его как бы в прах.
Ущелье и близкую к нему часть дороги называют ал-Мāз̱арāн 305. И вот я помню: ехал я туда проездом и со мною было около двухсот человек, если не больше, а верховых животных и того более. Налетел на нас этот ветер, и никто не уцелел из людей и животных, кроме меня и еще одного человека, — не иначе. А дело в том, что наши верховые животные были очень выносливы и довезли нас до сводчатой постройки и водоема, которые оказались у дороги. Мы спрятались в этой постройке и пребывали три дня и три ночи в полной растерянности и в бессознательном состоянии. Затем мы пришли в себя и обнаружили, что животные уже издохли. И послал нам на счастье Аллах, великий и славный, караван, который забрал нас, когда мы были уже на краю гибели.
Ад-Дāмгāн — красивый город, изобилующий фруктами. Фрукты его до крайности…(?) 307 Ветры там не прекращаются ни днем, ни ночью. В городе — замечательный распределитель воды времен Хосроев. Вода, вытекая из одной пещеры в горе и падая через него, разделяется на сто двадцать долей для ста двадцати рустāк̣ов 308. Одна доля не превышает другую, и это невозможно упорядочить, помимо такого распределения 309. Этот распределитель — диковинный. Я не видел в других странах подобного ему и не встречал лучшего.
Там находится одно селение, известное под названием К̣арйат ал-Джаммāлӣн 310, в котором есть источник, текущий кровью. В этом нет сомнения, ибо он обладает всеми признаками крови. Если в него бросить ртуть, она в тот же миг превратится в сухой, покрытый узорами твердый камень. Это селение также известно под названием Фанджāр311. В ад-Дāмгāне превосходные, красивые, ярко-красного цвета яблоки, называемые ал-к̣ӯмисӣ, которые вывозят в Ирак.
В ад-Дāмгāне имеются также места добычи купоросов и соли, а серы нет. В нем есть большие прииски золота.
Из ад-Дāмгāна — в большое селение, похожее на городок, называемое Бист̣ам312, откуда родом Абӯ Йазӣд ал-Бист̣āмӣ 313, милосердие Аллаха над ним! В городе — хорошие яблоки, известные как ал-бист̣āмӣ; они вывозятся в Ирак. У этого селения две замечательные особенности: первая — то, что никогда не увидишь среди его жителей страстно любящего, а когда туда приезжает кто-нибудь со страстью в душе и пьет воду этого селения, страсть у него проходит. Вторая — то, что там никогда не страдают болезнью глаз. В Бист̣āме нет никаких ископаемых, за исключением небольшого количества магнезита. Там есть горькая вода, помогающая против дурного запаха изо рта, когда ее пьют натощак, а если этой водой делают промывание, она исцеляет внутренние опухоли.
В Бист̣āме пропадает аромат даже у самого лучшего индийского сорта алойного дерева и усиливается запах мускуса, амбры, камфары и других видов благовоний, но у алойного дерева аромат исчезает314.
На одном холме у реки стоит необычайно обширный замок с высокими стенами и множеством построек и комнат; говорят, что он принадлежит к постройкам Шāбӯра З̱ӯ-л-Актāф 316. Куры в Бист̣āме не клюют навоза317.
Свернув налево, я отправился оттуда в Джурджāн по спускам, подъемам и страшным вāдӣ.
Джурджāн красивый город на большой реке, на границе равнинных и горных стран, суши и моря. В городе растут финиковые пальмы, оливковые деревья, орехи, гранаты, сахарный тростник и лимоны. Там изготовляют прекрасный шелк, окраска которого очень прочна. В нем много камней с удивительными свойствами и водятся большие змеи, которые приводят в ужас того, кто на них смотрит, однако они безвредны.
Оттуда я отправился по пустыне Хорезма318 и увидел там много следов, оставленных арабскими и неарабскими властителями. Деревьев и болотных зарослей в Хорезме очень много. Снег там не выпадает, а дожди идут непрерывно, почти не прекращаясь; он примыкает к рустāк̣ам Найсāбӯра и также к рустāк̣у, известному под названием Исфӣнак̣āн 319, в котором в некие времена провалилось тридцать с лишним селений; и вот ворвался туда сильный ветер и поднял из этого провала красный песок 320, который он пронес по воздуху мимо областей Т̣ӯса и Найсāбӯра, покрыв расстояние приблизительно 150… [фарсахов?] 321 Это — то, свидетелем чего я был и что я узнал. Дело в том, что я проезжал по этому рустāк̣у, а он до чрезвычайности возделан, богат садами и изрезан каналами; не успел я остановиться в Найсāбӯре, как до меня дошла весть о том, что в Исфӣнак̣āне — провал. Я возвратился, чтобы взглянуть на него, и увидел, что земля провалилась примерно на глубину ста ростов человека или даже больше, и увидел я потоки воды, ниспадающие туда с краев обвала.
В Найсāбӯре нет видимых памятников арабов или персов, за исключением нескольких зданий, построенных кем-то из Тахиридов по подобию древних строений. Нишапурская вода имеет свойство возбуждать похоть и злобу. Мало кто может избежать этого, разве только тот, кто пьет мало воды в нем; жителям города это [свойство] хорошо известно, и чаще всего от него страдают чужестранцы. Женщины в Найсāбӯре чрезвычайно красивы, и они мало противятся тем, кто их домогается. Там есть медный рудник, который превосходит своими качествами остальные рудники на земле. Есть там и крупный ревень; он растет, пока одна его тростинка не становится весом в пятьдесят маннов и больше. Тот, кто услышит эти мои слова, будет считать их преувеличением, но я рассказываю только то, свидетелем чего я был и что я видел. Там есть крупная айва. Я взвесил один из плодов, и оказался его вес четыреста двадцать с лишним дирхемов 329.
В центре Найсāбӯра находится старый город с высокими стенами, большим рвом и грозными башнями.
На границе Найсāбӯра расположен город Херāт, из которого вывозят замечательный хорасанский изюм и кишмиш. Говорят, что З̱ӯ-л-Карнайн построил его стены, как и древние стены Ис̣фахāна.
В Ис̣фахāне много прекрасных памятников зодчества. Между ним и ал-Ахвāзом находится мост Ӣз̱аджа 330, он принадлежит к числу прославленных чудес, так как построен из камней на очень глубоком безводном русле реки.
В Ӣз̱адже331 часты землетрясения, там много рудников и растет один вид к̣āк̣уллā 332, сок которого помогает при подагре. В Ӣзадже есть древний храм огня 333, который пламенел до времен ар-Рашӣда 334. За ним, в двух фарсахах в сторону Басры, находится водоворот, — а это место слияния рек, — известный под названием Фам ал-Баувāб 335. Когда попадает в него человек или верховое животное, этот водоворот крутит его все время, пока он не умрет, а затем выбрасывает его на берег без того, чтобы он исчез под водой или покрыла его волна. Это диковинное явление, ибо то, что попадает туда, не тонет, и вода не смыкается над ним.
Харадж начинают там взимать за месяц до персидского Наурӯза336. Этот обычай расходится с обычаем взимания хараджа в остальной части мира. Дальше Ӣз̱аджа не заходит прилив и отлив, хотя он — самая низменная часть ал-Ахвāза, расположенная намного ниже остальных его частей. Сочность сахарного тростника в Ӣз̱адже на четыре десятых выше сочности его в прочих местах ал-Ахвāза. Леденцы изготовляются в Ӣз̱адже так же, как и леденцы сиджистанские 337.
Через Сӯк̣ ал-Ахвāз 338 протекают различные реки и каналы, в том числе самая большая река339, а это — река Тустара, которая протекает по его окраинам. От нее отходит другая большая река340, которая течет по городу. Через эту реку перекинут мост, возле которого построена красивая просторная мечеть. На этой реке находятся замечательные мельницы и удивительные оросительные колеса; ее волны во время половодья становятся красными, она течет к ал-Бāсийāну341 и в море342.
На самой большой реке 345 стоит красивая, дивная плотина346, прочно построенная из тесаных камней. Она преграждает воду для нескольких каналов. Напротив плотины находится мечеть ‛Алӣ ибн Мӯсы ар-Рид̣ā; он разметил место ее постройки, когда проезжал по этой местности, прибыв из Медины и направляясь в Хорасан. В городе есть и другой канал, который проходит по его окраинам с восточной стороны. Вытекает он из реки 347 и называется Шӯр Āб 348. В городе — незначительные хосройские памятники.
Оттуда — в Рāмхурмуз 349, а это — большой город. Дорога от него на Даурак̣350 проходит мимо храмов огня по безводной безлюдной пустыне. В Рāмхурмузе много древних удивительных зданий, а в его областях много рудников. Редко где я видел соль, более крепкую по своему строению, чем его соль. В Даурак̣е имеются остатки древних построек К̣убāз̱а сына Дāрā351. Там много зверей, но только они избегают пастись в некоторых местах этого края и ни в коем случае, ни по какому поводу туда не заходят. Говорят, что эта особенность — от талисмана, который сделала для К̣убāз̱а его мать, потому что он пристрастился к охоте в тех краях и часто на некоторое время пренебрегал делами государства. И, говорят, она приготовила этот талисман для того, чтобы звери избегали тех мест, где К̣убā̱з обычно охотился.
Там водятся смертельно ядовитые гады; ужаленный ими не выздоравливает. В этой местности есть также источники желтой морской серы 352, которая светится всю ночь. В других местах такой серы нет. Если оттуда перенести некоторое количество ее в другое место, она перестает светиться. Если к ней поднести не дауракский огонь и зажечь им эту серу, он сожжет ее всю без остатка, тогда как местный огонь ее не сжигает. Это — одно из удивительных, диковинных явлений, и нет возможности узнать причину этого. Его жителям присуща такая щедрость, которой нет у других жителей ал-Ахвāза. Большинство женщин Даурак̣а не отталкивают рук тех, кто дотрагивается до них. Ревность среди местных жителей редка.
Канал Масрук̣āн пересекает много областей и орошает обширные земли; начинается он у Тустара. Тустар богат памятниками древности, разными диковинками и достопримечательностями. В нем находится могила Дāнийāла 357, — мир ему — а говорят еще, что она в ас-Сӯсе 358. Там есть несколько мостов и плотина359; подобной ей я не видел ни в одной стране. Там много всяких рудников. Большинство зданий в Тустаре было воздвигнуто К.р.д.-Джушнасом, сыном Шāхмарда 360, а он был одним из знатных персов, который уделял много внимания зданиям, крепости и прочности их постройки. Там же находился замечательный и знаменитый мост, который построила его сестра Х̮варāз̱āм Ардашӣр (Х̮урраз̱āз̱ или Х̮варāз̱, мать Ардашӣра?). Она именно та, которая прибегла к хитрости и убила одного из царей Йемена.
Дело в том, что этот царь убил ее брата, а затем, после его убийства, он женился на ней. И когда ее вопреки ее воле везли к нему в свадебном поезде, она переодела в девичье платье нескольких взятых с собой юношей, сыновей персидских царей, и сказала им: «Вот ваших царей и главарей перебил царь арабов! И вас он убьет, когда узнает о вас. Так его не удовлетворило то, что он совершил, и вот он насильно захватил вашу царицу, дочь ваших царей! Но я решила убить его, а что вы об этом думаете?» Те ответили: «Мы покорны твоей власти. Прикажи нам что хочешь!» Тогда она сказала: «Когда меня введут к нему, входите вместе со мною, как будто вы — мои служанки. Когда я останусь с ним наедине и ударю его кинжалом, который будет со мною, пусть при вас тоже будут кинжалы, и вот когда я сделаю это, бросайтесь на него!» Юноши ответили: «Мы поступим так, как ты желаешь!» И вот когда ее ввели к царю, он остался с нею наедине и не подозревал, что с нею юноши, принимая их за служанок; она ударила его кинжалом, юноши бросились и убили его. Затем она бежала с ними в место, близ которого оказалась свита и стража убитого, и они расправились [также] с этими.
Долго этот мост оставался в таком состоянии, пока, наконец, Абӯ ‛Абдаллāх Мух̣аммад ибн Ах̣мад ал-К̣уммӣ362, известный под прозвищем «аш-Шайх̮», везир ал-Хасана ибн Бувайха363, не восстановил то, что было разрушено, и не соорудил мост заново. Он собрал мастеров и зодчих и все свои силы и энергию отдал этому делу. Люди в специальных корзинах с помощью блоков и веревок опускались туда и, достигнув фундамента, расплавляли свинец с железом и заливали этим камни. Возвести арку оказалось для него возможным только через несколько лет.
Говорят, что на эту постройку, помимо платы рабочим, бòльшая часть которых пришла из рустāк̣ов Ӣз̱аджа и Ис̣фахāна для отбывания повинности, было истрачено 350 000 динаров.
Для людей, обладающих разумом, в созерцании его и рассмотрении его — назидание.
КОММЕНТАРИИ
Рисāла в ту эпоху (X в.) обозначало также особый жанр художественной литературы, а впоследствии закрепилось в науке в значении ‛трактат’. Сам автор и Йāк̣ӯт неоднократно называют это произведение рисāла. (Об употреблении этого слова в «Географическом словаре» Йāк̣ӯта см.: Ибн Фадлан, 1939, стр. 87, прим. 1.)
Вслед за И. Ю. Крачковским (Крачковский, Вторая записка, стр. 284) мы принимаем вариант Йāк̣ӯта — Шахразӯр; в этом случае сообщение Абӯ Дулафа принимает более определенный географический смысл, так как Тах̮т-и Сулаймāн, а следовательно, и древний аш-Шӣз расположен примерно в центре четырехугольника, образуемого городами Марāга, Занджāн, Шахразӯр и Дӣнавар.
Вполне очевидно, что в тексте какая-то путаница, и трудно отдать предпочтение одной из двух точек зрения.
По мнению В. Ф. Минорского, следующие ниже сведения Абӯ Дулафа не могут относиться к Каппадокии, расположенной между Арменией и Пафлагонией, и поэтому он предлагает под Афлӯгӯнией понимать Кӯгӯнию (арм. Колонеиа). В таком случае под «страной между Арменией и Кӯгӯнией» можно понимать бассейн западного Евфрата, где расположены города Кемах̮, Диврик и др. (Minorsky, Abū-Dulaf, р. 77–78).
В. Ф. Минорский усматривает в этом попытку Абӯ Дулафа объяснить снежные лавины (Minorsky,Abū-Dulaf, р. 80–81).
Выше речь шла о возвышении (дуккāн) из камня или скалы в селении Абӯ Аййӯб, а в данном контексте ад-Дуккāн выступает как другое название селения Абӯ Аййӯб; некоторые арабские географы предполагали, что это два различных пункта, но и в таком случае они должны находиться близко друг от друга. Херцфельд отождествил Дуккāн с нынешним Тах̣т-и Шӣрӣн (Minorsky, Abū-Dulaf, р. 93–94).
Наш текст, называя этим именем одну из горных лощин, не противоречит вышесказанному, ибо запад Т̣абаристāна действительно представляет гористую страну, а название города обычно распространялось на его окрестность [или, как в нашем тексте, на лощину (долину), где этот город находился]. См.: ал-Мук̣аддасӣ, стр. 355, 360, 373; Le Strange, р. 174. В. Ф. Минорский полагает, что сообщение Абӯ Дулафа о Х̮ашме основано на слухах и что город был не в Т̣абаристāне, а в Гиляне (Minorsky, Abū-Dulaf, стр. 103).
Рассказ Абӯ Дулафа отражает действительные исторические события, развернувшиеся после того, как Хосрой II Парвӣз в 628 г. был убит своим сыном Шӣрӯйа. Отцеубийца правил только семь месяцев, и после его смерти придворные провозгласили царем его семилетнего сына Ардашӣра III. Регентом был назначен Мих-Āз̱ар-Гушнас. Знаменитый полководец Шахр-Барāз, обеспокоенный решениями, принятыми без его ведома, двинулся с византийской границы в столицу, где по его прибытии юный царь и регент были убиты (в апреле 630 г.). Шахр-Барāз сам сел на трон, женившись на Бōрāн — дочери Хосроя Парвӣза. Шесть недель спустя Шахр-Барāз был убит заговорщиками, возглавляемыми Пус-Фаррӯх̮ом, который служил в страже. Бōрāн была провозглашена царицей, и она назначила Пус-Фаррӯх̮а своим везиром. В 631 г. Бōрāн умерла, и ей наследовала ее сестра Āзармӣдух̮т. Оскорбленная домогательствами испехбеда некоролевского рода Фаррӯх̮-Хурмизда, она назначила ему свидание, в то же время повелев страже схватить и обезглавить его. Сын испехбеда прибыл в столицу с войском и убил Āзармӣдух̮т.
Таким образом, убившая узурпатора царица у Абӯ Дулафа воплощает Бōрāн, а в ее имени Хварāз̱āм, возможно, отразилось имя Āзармӣдух̮т. Ее убитый «брат» — Ардашӣр III. Царь Йемена — Шахр-Барāз. Ее строительные идеи поддержал вельможа Мих-Āз̱ар-Гушнас (= К.р.д. — Джушнас ибн Шāхмард?). Впрочем, в легенде могли отразиться и более древние элементы.
Вовсе не обязательно, чтобы имя строительницы моста, известного под названием Мост Х̮урразāз̱, было Х̮урразāз̱ (оно обычно встречается как мужское имя). Следует еще отметить, что в числе лиц, владевших сасанидским троном после Хосроя II Парвӣза, ал-Бӣрӯнӣ (со ссылкой на Х̣амзу ‛ал-Ис̣фахāнӣ) называет имена Джушанасбенде и Хурразадхусра (Абурейхан Бируни, Избранные произведения, т. I. Памятники минувших поколений, перевод М. А. Салье, Ташкент, 1957, стр. 126, 127, 129). Тот же ал-Бӣрӯнӣ в числе персидских наместников Йемена (в конце VI — начале VII в.) называет имена Хурзад (Хуразāд?), Шахр и Хуррахусра (там же, стр. 134).
ПРИЛОЖЕНИЯ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ СОКРАЩЕНИЯ
Бартольд, Обзор — В. В. Бартольд, Историко-географический обзор Ирана, СПб., 1913.
Булгаков — П. Г. Булгаков, Сведения арабских географов IX — начала X веков о маршрутах и городах Средней Азии, Л., 1954 (автореферат дисс.).
Григорьев, Об арабском путешественнике — В. В. Григорьев, Об арабском путешественнике Х-го века Абу Долефе и странствовании его по Средней Азии («Журнал Министерства народного просвещения», ч. CLXIII, СПб., 1872, сентябрь, отд. II), стр. 1—45.
История народов Узбекистана — «История народов Узбекистана», т. I, С древнейших времен до начала XVI века, под ред. проф. С. П. Толстова, проф. В. Ю. Захидова и канд. ист. наук Я. Г. Гулямова и Р. Б. Набиева, Ташкент, 1950.
Ибн Фадлан, 1939 — Путешествие Ибн Фадлана на Волгу, под редакцией И. Ю. Крачковского, М.—Л., 1939.
Ибн Фадлан, 1956 — А. П. Ковалевский, Книга Ахмеда Ибн-Фадлана о его путешествии на Волгу в 921–922 гг., Харьков, 1956.
ИРАН — «Известия Российской Академии наук».
Канон — Абу Али Ибн Сина (Авиценна), Канон врачебной науки, т. I–II, Ташкент, 1954–1956.
Крачковский, Вторая записка — И. Ю. Крачковский, Вторая записка Абӯ Дулафа в географическом словаре Йāк̣ӯта (Избранные сочинения, т. I, М.—Л., 1955), стр. 280–292.
Крачковский, Шахразӯр — И. Ю. Крачковский, Шахразӯр в географическом словаре Йāк̣ӯта и в записке Абӯ Дулафа (Избранные сочинения, I, М. — Л., 1955), стр. 293–298.
Лэн Пуль — Стэнли Лэн Пуль, Мусульманские династии, перевод В. В. Бартольда, СПб., 1899.
Миклухо-Маклай — Н. Д. Миклухо-Маклай, Географическое сочинение XIII в. на персидском языке («Ученые Записки Института востоковедения АН СССР», т. IX, 1954), стр. 175–219.
Миллер — Персидско-русский словарь, составил Б. В. Миллер, изд. 2, М., 1953.
МИТТ — «Материалы по истории туркмен и Туркмении», т. I, VII–XV вв. Арабские и персидские источники, под редакцией С. Л. Волина, А. А. Ромаскевича и А. Ю. Якубовского, М.—Л., 1939.
Очерки истории СССР — Очерки истории СССР, т. 1–2, Период феодализма IX–XV вв., под ред. Грекова. М., 1953.
Патканов — Армянская география VII в., текст и перевод издал К. П. Патканов, СПб., 1877.
Пигулевская, Византия и Иран — Н. В. Пигулевская, Византия и Иран на рубеже VI и VII веков, М.—Л., 1946.
Ягелло — Полный персидско-арабско-русский словарь, составил И. Д. Ягелло, Ташкент, 1910.
ал-Балāз̱урӣ — Liber expugnationis regionum, auctore Imámo Ahmed ibn Jahia ibn Djábir al-Beládsori, ed. M. J. de Goeje, Lugduni-Batavorum, 1866.
Ибн ал-Ас̱ӣр — Ibn-el-Athiri, Chronicon quod perfectissimum inscribitur, ed C. J. Tornberg, vol. I–XIV, Lugduni-Batavorum, 1867–1876.
Ибн ал-Байт̣āр — Traité des simples par ibn al-Beithar, traduction du L. Leclere, Notices et extraits de Manuscrits de la Bibliothèque Nationale et autres bibliothèques, Paris, vol. 23, 1877; vol. 25, 1881; vol. 26, 1883.
Ибн Х̮урдāдбех — «Kitâb al-masâlik wa’l-mamâlik auctore Abu’l-Kâsim Obaidallah ibn Abdallah ibn Khordâdhbeh», ed. M. J. de Goeje, Lugduni-Batavorum, BGA, VI, 1889.
ал-Ис̣т̣ах̮рӣ — Viae regnorum, Descriptio ditionis moslemicae auctore Abu Ishák al-Fárisi al-Istakhri, ed M. J. de Goeje, Lugduni-Batavorum, BGA, I, 1870.
Йāк̣ӯт — Jacut’s geographisches Wörterbuch, aus den Handschriften zu Berlin, St.-Petersburg und Paris, auf Kosten der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, hrsg. von F. Wüstenfeld, Bd. I–VI, Leipzig, 1866–1873.
ал-Йа‛к̣ӯбӣ — Kitâb al-Boldân auctore Ahmed ibn abî Jakûb ibn Wâdhih al-Kâtib al-Jakûbî, ed. M. J. de Goeje Lugduni-Batavorum, BGA, VII, 1892.
Коран — Corani textus Arabicus… G. Fluegel, Lipsiae, 1858.
ал-Мас‛ӯдӣ — Kitâb at-tanbîh wa’l-ischrâf auctore al-Masûdî, ed. M. J. de Goeje, Lugduni-Batavorum, BGA, VIII, 1894.
ал-Мас‛ӯдӣ, Мурӯдж аз-захаб — Maçoudi, Les prairies d’or, texte et traduction par C. Barbier de Meynard et Pavet de Courteille, vol. I–IX, Paris, 1861–1877.
ал-Мук̣аддасӣ — Descriptio Imperii Moslemici auctore Schamso’d-dîn Abû Abdollâh Mohammed ibn Ahmed ibn abî Bekr al-Bannâ al-Basschâri al-Mokaddasi, ed. M. J. de Goeje, Lugduni-Batavorum, BGA, III, 1877.
ат̣-Т̣абарӣ — Annales quos scripsit Abu Djafar Mohammed ibn Djarir at-Tabari, cum aliis, ed. M. J. de Goeje, Lugduni-Batavorum, I ser., pars 1–6, 1879–1898; II ser., pars 1–3, 1881–1889; III ser., pars 1–4, 1879–1890; Indices, 1901.
Х̣амза ал-Ис̣фахāнӣ — Hamzae Ispahanensis annalium libri X, ed. J. M. E. Gottwaldt, t. I–II, Petropoli-Lipsiae, 1844–1848.
Belot — J. B. Belot, Vocabulaire arabe-français, Beyrouth, 1893.
Ibn Ḥauḳal— «Opus geographicum auctore Ibn Haukal (Abu’l-Ḳasim ibn Ḥauḳal al-Naṣībī)… „Liber imaginis terrae“ edidit collato textu primae editionis aliisque fontibus adhibitis J. H. Kramers», BGA, II; Editio secunda, fasc. 1–2, Lugduni-Batavorum, 1938–1939.
BGA — «Bibliotheca Geographorum Arabicorum, ed. M. J. de Goeje», Lugduni-Batavorum.
GAL–C. Brockelmann, Geschichte der Arabischen Litteratur, Bd I, Weimar, 1898; Bd II, Berlin, 1902 (SB I — Erster Supplementband, Leiden, 1937, SB II — Zweiter Supplementband, Leiden, 1938).
BSOAS — «Bulletin of the School of Oriental and African Studies», University of London.
Cazwini, Kosmographie — Zakarija Ben Muhammed Ben Mahmud el-Cazwini’s Kosmographie, I–II, hrsg. von F. Wüstenfeld, Göttingen, 1848–1849.
Dozy — R. Dozy, Supplément aux dictionnaires arabes, I–II, Leyde, 1881.
EI — «Encyklopaedie des Islām», Leiden — Leipzig, 1908–1938.
EI, NE — «The Encyclopaedia of Islām», New Edition, Leiden — London.
G. Ir. Ph. — «Grundriss der iranischen Philologie», Bd II, Strassburg, 1896–1904.
GMS — «Е. J. W. Gibb Memorial Series» (NS — New Series).
Ḥudūd al-‛Ālam — Ḥudūd al-‛Ālam, The Regions of the World, a Persian Geography 372 A. H. — 982 A. D., translated and explained by V. Minorsky, with the Preface by V. V. Barthold (d. 1930) translated from the Russian (GMS, NS, XI), London, 1937.
Ibn Isfadiyar — An Abridged Translation of the History of Tabaristan compiled about A. H. 613 (A. D. 1216), by Muhammad b. al~Hasan b. Isfandiyar, based on the India Office ms. compared with two mss. in the British Museum by E. G. Browne (GMS, II), Leiden, 1906.
Jackson — Persia past and present. A Book of Travel and Research by A. V. Williams Jackson, New York — London, 1906.
Justi — F. Justi, Iranisches Namenbuch, Marburg, 1895.
Kazimirksy — A. de Biberstein Kazimirski, Dictionnaire arabe-français, vol. 1–2, Paris, 1860.
Lane — Arabic-English Lexicon by E. W. Lane. Vol. I–VIII, London, 1863–1893.
Le Strange — Le Strange, The lands of the eastern Caliphate, Mesopotamia, Persia and Central Asia from the Moslem conquest to the time of Timur, Cambridge, 1930.
Marquart, Untersuchungen — J. Marquart, Untersuchungen zur Geschichte von Eran, Bd I–II, Göttingen — Leipzig, 1896–1905.
Melgunoff — G. Melgunoff, Das Südliche Ufer des Kaspischen Meers oder die Nordprovinzen Persiens, Leipzig, 1868.
Minorsky, Abū-Dulaf — Abū-Dulaf Mis‛ar Ibn Muhalhil‛s Travels in Iran (circa A. D. 950), Arabic text with an English translation and commentary by Prof. V. Minorsky, Cairo University Press, 1955.
Minorsky, Caucasica, IV — V. Minorsky, I Sahl ibn Sunbat of Shakki and Arran; II The Caucasian Vassals of Marzuban in 344/955 (Caucasica IV, BSOAS, 1953, XV/3), p. 504–529.
Minorsky, Two Iranian Legends — V. Minorsky, Two Iranian Legends in Abu Dulaf’s Second Risala («Archaeologica Orientalia in Memoriam Ernst Herzfeld». New York, 1952), p. 172–178.
Rabino — H. L. Rabino, Mázandarán and Astarábád (GMS, VII), London, 1928.
Rohr-Sauer, Des Abu Dulaf Bericht — A. Rohr-Sauer, Des Abû Dulaf Bericht über seine Reise nach Turkestan, China und Indien, neu übersetzt und untersucht («Bonner Orientalische Studien», Heft 26, Stuttgart, 1939).
Ruska — Ruska J., Das Steinbuch des Aristoteles nach den arabischen Handschriften der Bibliotheque Nationale, Heidelberg, 1912.
Sauvaire — M. H. Sauvaire, Materiaux pour servir à l’histoire de la numismatique et de metrologie musulmanes,vol.I–III, Paris, 1882–1885.
Schwarz — P. Schwarz, Iran im Mittelalter nach den arabischen Geographen, Bd I–IX, Leipzig — Stuttgart — Berlin, 1896–1936.
Sehir-eddin — Sehir-eddin’s Geschichte von Tabaristan, Rujan und Mazanderan, Persischer Text, hrsg.von Dr.B. Dorn, St.-Petersburg, 1850.
Stein — Old Routes of Western Irān. Narrative of an archaeological Journey carried out and recorded by Sir Aurel Stein, London, 1940.
Zambaur — E. de Zambaur, Manuel de généalogie et de chronologie pour l’histoire de l’Islam, Hanovre, 1927.
УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ
Азербайджан 184 б
Ардабӣл 184 б
Армения 185 б, 186 б
Арраджāн 196 а
Арӣваджāн 188 б
Асадāбāд 189 б
Āсак 195 б
‛Аскар Мукрам 195 а
Афлӯгӯнийа 186 а
ал-Ахвāз 190 б, 195 а, 195 б
Бāджунайс 185 б
ал-Баз̱з̱айн 184 б
ал-Байлак̣āн 185 а
Бāкӯйа 184 б
Баласаджанская степь 185 а
ал-Банданӣджайн 188 а
Банӯ К̣āрин, горы 192 а
Барда‛а 185 а
Барзанд 185 а
ал-Бāсийāн 195 а
Басра 195 а
Бирс 189 а
Бистāм 193 б
Бухара 182 б
Вāдӣ Исфандӯйа 184 а
Вāдӣ āл-курд 185 а
Вāдӣ-л-Хабр 192 а
ал-Вайзӯр 184 б
Вайма 192 а
Валāшджирд 189 а
Варӣмāн 186 а
Варс̱āн 185 а
Вāсит̣ 184 б
Великое море Т̣абаристāна 184 б
Вифлеем 183 б
Дайлам 184 а, 192 а
Дайламистāн 187 а
Дайр ал-Гāр 188 а
Дайр Каджӣн 191 а
Дайр ал-Х̣имйар 184 а
Дāмгāн 193 а, 193 б
Дāс. н 186 б
Дастаджирд Кисравӣйа — 189 а
Даурак̣ 195 б
Джӣлāбāз 191 а
Джурджāн 193 а, 194 а
Дӣнавар 183 а, 186 б, 190 а
Дуздāн 187 а
Дунбāванд 192 а
Египет 196 а
аз-Залам 187 а
Занджāн 183 а, 184 а
Зарāванд 185 б
Йемен 184 б, 194 б, 196 а
Иерусалим 183 б
Ӣ̱задж 195 а, 196 б
Индия 182 б
Ирак 187 б, 188 а, 193 б
Ис̣фахāн 183 а, 190 б, 194 б, 196 б
Исфинак̣āн 194 а
К̣абāн 184 б
Кабӯз̱āн 185 а
Карадж 190 б
К̣армӣсӣн 188 б, 190 б
Карх̮ Джуддāн 187 б
К̣ас̣р ал-Лус̣ӯс̣ 189 а, 189 б
К̣ас̣рāн 191 б
К̣ас̣р Шӣрӣн 187 б
Ках̣лāн 194 б
Китай 182 б, 194 б
К̣умм 190 б
ал-Курр 184 б
Кӯс̱ā 189 а
Куфа 187 б
Мāз̱арāн 189 а
ал-Мāз̱арāн 193 а
Мāз̱арустāн 187 б
Мардж ал-К̣ал‛а 187 б, 188 а, 192 а
Мāсабаз̱āн 188 а
Мāсӣс 186 а
ал-Масрук̣āн 195 а, 196 а
Мат̣бах̮ Кисрā 189 б
ал-Медина 195 б
Мекка 187 б
ал-Мерāга 183 а
Мерв 190 б
Михриджāнказак 188 а
Мӯк̣āн 184 б
ал-Мукрāн 185 б
Найсāбӯр 194 а, 194 б
Нӣм аз-рāй 186 б, 187 а
Нимрāвар 186 б
Нирӣз 186 б
Нис̣ӣбӣн 186 а, 187 а
Нихāванд 190 б
ар-Радд ва-л-Б. рау 188 а
Рāмхурмуз 195 б
ар-Рāн 183 б
ар-Расс 185 а
ар-Рейй 190 б, 191 а, 191 б, 192 а, 193 а
ар-Руб‛ 184 б
ас̱-С̱аймара 188 б, 190 б
ас-Салак̣ 186 б
Салмāс 185 а
Самӣрāн 184 а
Сармāх̮ 189 а
Симнāн 193 а, 193 б
ас-Сӣравāн 188 а
Сӯк̣ ал-Ахвāз 195 а
Сумайра 188 б
ас-Сӯрӣн 191 б
ас-Сӯс 190 б, 196 а
Т̣абарак 191 а
Т.абаристāн 192 а, 192 б, 193 а
ат̣-Т̣азар 188 а
ат̣-Т̣айс 184 б
Т̣āк̣ ал-Х̣аджжāм 187 б
Тāмаррā 187 б
ат̣-Т̣арм 184 а
ат̣-Т̣архāн 188 б
Тигр 191 б
ат-Тӣз 185 б
Тифлис 184 б
Т̣ӯс 194 а
Тустар 195 а, 196 а
Урмия 185 а
Фам ал-Баувāб 195 а
Х̮āджӣн 184 б
Хамадāн 189 б, 190 а, 190 б, 192 а
Х̣андāн 184 б
Х̮āник̣ӣн 187 б, 188 б
Х̮ашм 192 б
Херāт 194 б
Х̣ӣзāн 185 б
ал-Хиндиджāн 196 а
Х̮орāсāн 187 б, 188 а, 191 а, 195 б
Хорезм 194 а
ал-Х.рāнийа 186 б
Х̮увāр Рейский 192 а
Х̣улвāн 187 б, 188 а
ал-Х̣ӯр (?) 186 б
Шаламба 192 а
Ша‛рāн 187 а
Шахразӯр 183 а, 186 б, 187 а
аш-Шӣз 183 а, 183 б, 186 б, 187 а
Ширвāн 184 б
Шӯр Āб 195 б
УКАЗАТЕЛЬ СОБСТВЕННЫХ ИМЕН, НАЗВАНИЙ ПЛЕМЕН И НАРОДОВ
Абӯ ‛Абдаллāх Мух̣аммад ибн Ах̣мад ал-К̣уммӣ 196 б
Абӯ Аййӯб 189 а
Абӯ Дулаф 183 а, 188 б, 191 б
Абӯ Дулаф (ал-‛Иджлӣ) 190 б
Абӯ Йазӣд ал-Бист̣āмӣ 193 б
Абӯ Нувас 188 а
Абӯ Таммāм 186 б
‛Алиды 192 б
‛Алӣ ибн Мурр ат̣-Т̣ā’ӣ 186 б
‛Алӣ ибн Мӯсā ар-Рид̣ā 194 а, 195 б
‛Амр ибн Ма‛дӣкариб 190 б
Аристотель 190 а
Асад ибн З̱ӯ-с-Сарв ал-Х̣имйарӣ 189 б
Ас‛ад ибн Абӯ Йа‛фур 194 б
Афрӣдӯн 192 а
Бāбак 185 а
банӯ сулайм 185 б
Бахрāм Джӯбӣн 189 а
Бахрāм Джӯр 187 б
Беджкем ат-Туркӣ 188 а
Бӣварāсб, Бӣварāсф 192 а
ал-Бух̣турӣ 186 б
Дайлам (дейлемиты) 184 б, 187 а
Дāнийāл 196 а
ад-Дā‛ӣ 193 а
Дāрā сын Дāрā 187 б, 189 б
Дā’ӯд 185 а, 187 а, 187 б
джалāлӣйа 187 а
Джāлӯт 185 а, 187 б
ал-Джарӣш ибн Ахмад 191 б
Джурхум 189 а
Зайд ибн ‛Алӣ 187 а
Йах̣йā ибн Зайд 191 б
йāбисāн 188 а
Исрā’ӣл 187 б
К.р. д Джуснас сын Шāхмарда 196 а
К̣убāз̱ сын Дāрā 195 б
ал-Ма’мӯн 190 б
Мардāвӣдж 191 а
Мария 183 б
ал-Махдӣ 188 а
ал-Мисма‛ӣ 196 б
Мух̣аммад ибн Мусāфир 184 а
ан-Нāс̣ир 193 а
ан-Ну‛мāн ибн ал-Мунз̱ир 189 а
Рāфи‛ ибн Харс̱ама 191 а
ар-Рашӣд 194 а, 195 а
ар-рӯм (народ) 190 б
ас̱-Сā’ир 193 а
Сах̮р 192 а
Сулаймāн 185 а, 187 а, 192 а
Сулаймāн ибн ‛Абдаллāх ибн Т̣āхир 192 б — 193 а
сӯлӣйа 187 а
ат̣-т̣ай 186 б
Т̣āлӯт 187 б
Т̣āхириды 194 б
Т̣улайх̣а ибн ал-Ах̣вас̣ ал-Аш‛арӣ ’ 190 б
‛Умар ибн ‛Абд ал-‛Азӣз 187 а
Фархāз̱ Мудрый 188 б
ал-Хāдӣ 193 а
хаз̱бāнӣйа 186 б
х̣акамӣйа 187 а
ал-Х̣асан ибн Бувайх 196 б
Х̮варāз̱āм Ардашӣр (Х̮урраз̱āз̱ или Х̮варāз̱, мать Ардашӣра) 196 а
ал-хинд (народ) 196 а
Хосрой, Хосрои 187 а, 189 а, 189 б, 192 б
Хосрой Абарвӣз 188 б; см. Абарвӣз
Х̮.р. рāз̱ 196 б
Х̣умайд ибн К̣ах̣т̣аба 194 а
Хурмуз ибн Х̮усраушӣр ибн Бахрāм 183 а
Х̮усраугирд сын Шāхāна 188 а
Шабдӣз 188 б, 190 б
Шāбӯр З̱ӯ-л-Актāф 194 а
Шāхмардāн 189 б
Примечания
ИРАН, VI серия, 1924, стр. 237–248.
Крачковский, Вторая записка; Крачковский, Шахразӯр.
В. Розен, Пролегомена к новому изданию Ибн Фадлана [ЗВО,XV (1902–1903), 1904], стр. 39–73.
И. Ю. Крачковский, Избранные сочинения, т. I, М.—Л., 1955, стр. 273–279.
Крачковский, Вторая записка, стр. 292.
Rohr-Sauer, Des Abû Dulaf Bericht; Крачковский, Вторая записка, стр. 280–281; W. Minorsky, Abū Dulaf (EI, NE, I).
Kitāb al-Fihrist, hrsg. von G. Flügel, Leipzig, 1871, I, стр. 346,30.
Ас̱-С̱а‛āлибӣ, Йатӣмат ад-дахр, III, Дамаск, 1304/1886, стр. 174–175.
Kitāb al-Fihrist, I, стр. 346,30.
Ас̱-С̱а‛āлибӣ, Йатӣмат ад-дахр, III, стр. 174, 17–19.
Cazwini, Kosmographie, II, стр.267, 13–14.
Ас̱-С̱а‛āлибӣ, Йатӣмат ад-дахр, III, стр. 174–194.
Там же, стр. 174, 16–17.
Там же, стр. 32, 21.
Там же, стр. 175, 7.
А. Л. Троицкая, Арго цеха артистов и музыкантов Средней Азии («Советское востоковедение», т. V, 1948), стр. 260–261.
Интересно еще отметить сходство уловок и приемов и беззаботно-циничного отношения к жизни и людям у Абӯ Зайда ас-Сарӯджӣ — героя мак̣āм Бадӣ‛ аз-Замāна ал-Хамадāнӣ и «потомков Сāсāна» в изображении Абӯ Дулафа. Не случайно младший современник и передатчик стихов Абӯ Дулафа Бадӣ‛ аз-Замāн вложил одно его стихотворение в уста своего героя, а также сочинил мак̣āму, специально посвященную «сасанову племени» (ас̱-С̱а‛āлибӣ, Йатӣмат ад-дахр, III, стр. 176, 6–10).
Там же, стр. 175, 3–4.
Там же, стр. 176, 18–21.
Обзор литературы дан Рор-Зауером (Rohr-Sauer, Des Abû Dulaf Bericht, S. 9—14) и И. Ю. Крачковским (Крачковский, Вторая записка, стр. 281–283).
К. Брокельман (С. Brockelmann, GAL, Bd I, S. 229) вообще все географические сведения Абӯ Дулафа относит к одному сочинению, которое у Брокельмана названо ‛Аджā’иб ал-булдāн. Однако в дополнительном томе (Erster Supplementband, Leiden, 1937, S. 407), вышедшем после находки Мешхедской рукописи, он это название не приводит.
Rohr-Sauer, Des Abû Dulaf Bericht.
Крачковский, Вторая записка, стр. 282–283.
Cazwini, Kosmographie, II, цитаты со ссылкой: стр. 130, 13–15; стр. 186,14–17; стр. 245, 1–9; стр. 266,10–22; стр. 267, 3–13; стр. 302, 14–20; стр. 333, 8–18; без ссылки: стр. 172, 26–29; стр. 194, 23–27; стр. 196, 30; стр. 201,17 — 202, 6; стр. 205, 1–6; стр. 234, 11–12; стр. 239, 15–17; стр. 248,27 — 249,3; стр. 251,2–3; стр. 290, 14–20; стр. 295,23–24; стр. 300,17–21; стр. 302, 23–26; стр. 332,12–17; стр. 337, 8–15; стр. 348, 25; стр. 389, 10–12.
Cazwini, Kosmographie, I, со ссылкой: стр. 155, 25—156, 1; стр. 158, 10–30; стр. 181,14–17; без ссылки: стр. 191, 19–23.
В работе F. J. Heer, Die historischen und geographischen Quellen in Jacut’s Geographischem Wörterbuch, Strassburg, 1898, S 22, b (пропущена ссылка на т. I, стр. 513, 15—514, 1).
Крачковский, Вторая записка, стр. 287 и примечания (по-видимому, следует прибавить еще ссылку на Йāк̣ӯт, т. I, стр. 784, 24 и т. IV, стр. 858, 1–2).
Lexicon Geographicum, ed. Т. G. J. Juynboll, I–VI; цитат всего 37, с упоминанием Абӯ Дулафа собственно только одна:
I, стр. 53, 11–14; см. еще: I, стр. 6, прим. 5; анонимные: I, стр. 6, 7–8; стр. 59,9; стр. 82,2–6; стр. 106, 15–16; стр. 111, 4_5; стр. 122, 2–3; стр. 131, 2–3; стр. 188, 10–11: стр. 279, 10–11; стр. 386, 11–14; стр. 414,6_7; стр. 436, 13–14; стр. 438, 11–14; стр. 443, 14–15; стр. 456, 10; стр. 509, 3; стр. 516,7.
II, стр. 27, 2–3; стр. 67, 6–8, стр. 91, 10–17; стр. 136, 13—15; стр. 140, 15; стр. 199, 14 —200, 2; стр. 204, 2–3; стр. 216, 3–11; стр. 416, 10–12; стр. 449,1_4; стр. 454, 2_18; стр. 455, 7–8.
III, стр. 28, 1–4; стр. 28, 8–11; стр. 30, 11—31, 3; стр. 114, 44—115, 2; стр. 296, 8–9; стр. 323, 3–4; стр. 325, 2–3.
Крачковский, Шахразӯр.
Значительная их часть указана ниже, в примечаниях.
V. Minorsky, La deuxième risala d’Abu Dulaf («Oriens», 1952), p. 23–27; Minorsky, Two Iranian Legends.
Minorsky, Abū-Dulaf (31 стр, арабского текста + 136 стр.). — Автор прислал свою книгу в ответ на нашу просьбу в дар библиотеке Ленинградского отделения Института востоковедения АН СССР, выразив в своем письме сожаление по поводу взаимной неосведомленности о параллельной работе.
См. перевод, стр. 31.
См. перевод, стр. 31.
Крачковский, Вторая записка, стр. 292.
Абӯ Дулаф не представляет в этом отношении исключения. «Через много лет после арабского завоевания развалины, покрывающие Персию, возбуждают удивление арабов, и их географы IX–X веков считают долгом перечислять главнейшие постройки Сасанидов и упоминать, что там-то Хосрой выстроил в свое время деревню, там замок, там крепость, там мост» (К. А. Иностранцев, Сасанидские этюды, СПб., 1909, стр. 4).
Более подробное изложение содержания «Записки» см. в статье П. Г. Булгакова и А. Б. Халидова «„Вторая записка" путешественника X века Абӯ Дулафа» («Советское востоковедение», 1957, № 3), стр. 60–71.
Kitāb al-Fihrist, I, S. 350, 16.
Крачковский, Вторая записка, стр. 287.
Мешхедская рукопись, л. 31б; русский перевод: Ибн Фадлан, 1939, стр. 27; л. 175а, 7 и сл.; немецкий перевод: Rohr-Sauer, Des Abû Dulaf Bericht, S. 15–16; русский: Ибн Фадлан, 1939, стр. 28–29; л. 1826; русский перевод Абӯ Дулафа см. ниже: стр. 31 и примечания 1–6, ср. также Ибн Фадлан, 1939, стр. 29.
An Abridged Translation of the History of Tabaristan compiled about A. H. 613 (A. D. 1216) by Muhammad b. al-Hasan b. Isfandiyar, based on the India Office ms. compared with two mss. in the British Museum, by E. G. Browne (GMS, II), Leyden, 1905, p. 222–223.
The Eclipse of the Abbasid Caliphate, edited, translated and elucidated by H. F. Amedroz and D. S. Margoliouth, vol. I, Oxford, 1920, p. 276, note 3.
Sehir-eddin, стр. 314. — По-видимому, основываясь на данном сообщении З̣ахӣр ад-Дӣна, Г. Мельгунов датирует появление ас̱-С̱а’ира на политической арене 961 годом (Melgunof, S. 58).
И. Г. Добровольский, Алидский памятный серебряный динар середины XI века. Доклад, прочитанный на сессии арабистов в мае 1959 г. в Ленинграде.
См. Ибн Фадлан, 1939, стр. 23–26.
Рукописи С 588, С 589, С 590 и D 128. Характеристику данных рукописей см. Ибн Фадлан, 1939, стр. 177.

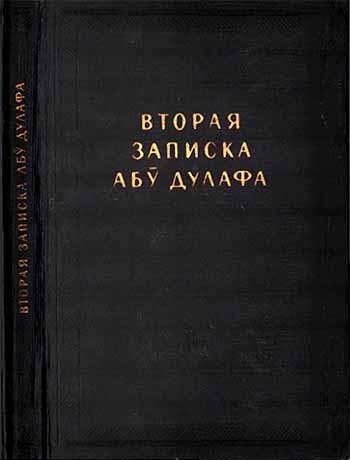


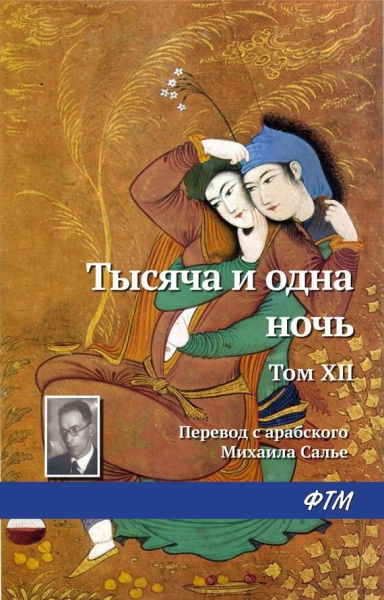
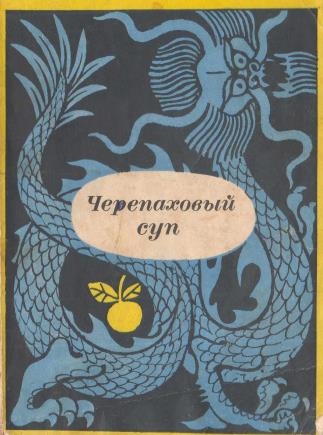
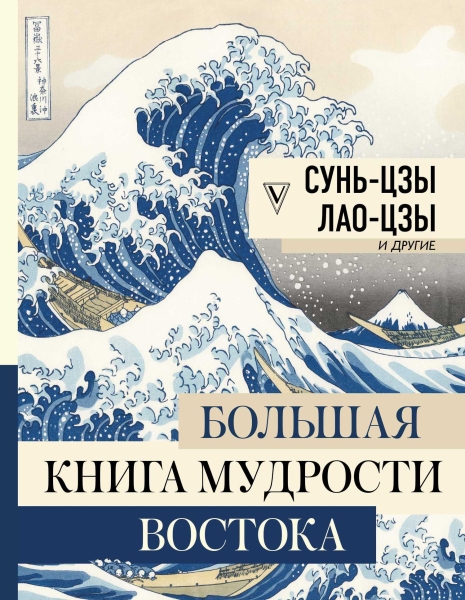
Комментарии к книге «Вторая записка Абу Дулафа», Абу Дулаф Аль-Хазраджи
Всего 0 комментариев