Для чтения книги купите её на ЛитРес
Реклама. ООО ЛИТРЕС, ИНН 7719571260, erid: 2VfnxyNkZrY
Галина Захарова Федина Пасха
© Издательство «Сатисъ», оригинал-макет, оформление, 2011
© Г. Захарова, текст, составление, 2011
Многострадальный Иов
Как-то под вечер бабушка дочитала Феде Библию. Уже темнело. Через заиндевелое стекло тускло мерцали фонари деревянных столбов. Вдали смутно чернел лес. Где-то залаяла и смолкла собака. А в доме Феди было тихо, тепло, уютно. Уже прошли Рождество и Старый год, а у них еще повсюду стояли вазочки, баночки с еловыми ветками. Бабушка никогда не рубила елки. Она собирала сломанные после бури ветки и, вместе с Федей, украшала их. Веток было так много, что от них еще стоял крепкий еловый дух. На ветках висели оставшиеся со старых времен игрушки, Федины фонарики, цепочки. Висели там, на самом видном месте и шоколадные Снегурочка и Снеговичок, завернутые в блестящие обертки. Федя любил поглядывать на них. Наконец, не выдержал и спросил:
– А… долго там будет еще висеть наша еда?
– Какая еда? – не поняла бабушка.
– Ну… где Снеговичок и Снегурочка…
Бабушка огляделась и засмеялась.
– Вот оно что? А я и забыла.
Погладила его по голове.
– Ну снимай их, а вечерком попьем чай. Или пусть до чая повисят, а? Федя немного расстроился, но мотнул головой.
– Не переживай, – поглядела на него бабушка.
– Твои огорчения, как песчинка перед невзгодами многострадального Иова.
– А кто такой Иов? – оживился Федя. Расскажи, пожалуйста.
Бабушка обычно бывала занята и всегда просила подождать. А тут начала сразу:
– Ну, слушай. Только давай сядем тут, на скамеечку, перед самоварчиком. Ноги подъустали.
Она отнесла в свою комнатку Библию и села за стол. Федя, оперев локти на стол, выжидательно смотрел на бабушку.
– Было это очень давно. Еще во времена Моисея. Где-то в Аравии. Жил там очень хороший человек по имени Иов. Был он очень благочестивый и богатый и было у него семь сыновей и три дочери. Дети были дружны между собой, никогда не ссорились и слушались родителей. Все люди эту семью очень уважали… Как-то собрались Ангелы пред Богом, как всегда, диавол тоже решил предстать пред Богом. Ему было очень неприятно и завидно, что Иов очень богатый и любит Бога.
– Что тебе надо? – спросил его Бог, хотя заранее все знал: и мысли диавола, и что будет с Иовом. Диавол сказал:
– Ты думаешь, он такой богатый и счастливый, что любит и благотворит тебя? Думаешь, он так прост? Не-е-е. Вот попробуй-ка отними от него все: и богатство его большое, и детей, и все, что у него есть. Какой он тогда будет? Богу, конечно, все было известно, но чтобы показать множеству людей правду, он разрешил диаволу отнять у Иова все, что у него было. В один день прибегают его слуги и плачут, большие стада отняли у них разбойники. Дом, где жили его взрослые дети, повалило бурей, дом свалился и задавил всех детей. Когда Иов узнал, что случилось все это за один день, он был потрясен от горя. Но сказал:
– Наг я родился от матери моей, наг возвращуся и в землю. Господь знает, что со мной делать. Господь дал – Господь и взял. Да будет имя Его всегда благословенно. Вот какой мужественный был Иов.
Диаволу даже противно сделалось, зависть черная так и точила его. Он снова предстал пред Богом и с ухмылкой сказал Ему:
– Это еще можно выдержать, а вот попробуй зарази его тело насквозь заразной тяжелой болезнью. Вот тут-то он по-другому заговорит. Ха-ха.
Бог был уверен в Иове и поэтому опять разрешил диаволу поразить его какой-нибудь болезнью. Тут уж диавол постарался. Все тело Иова стало гнить, покрылось заразными гнойными струпьями с головы до самых ног. И все это очень болело и чесалось. Горшечным осколком скоблил Иов гной со всего тела и чесал его. При этом от него шел тяжелый нестерпимый запах. Все друзья его покинули. Многие думали, что Бог наказал Иова за большие грехи. Его отвезли в другое место, где он сидел одинокий на навозной куче, чесался и очень страдал. Жена плакала, упрекала, зарабатывая гроши тяжелым трудом. Но Иов отвечал ей:
– Супруга моя, неужели мы должны принимать от Бога только хорошее, а плохое не принимать? Он сам знает, что с нами делать. Да будет имя Его всегда благословенно.
– Бедненький, – тихо сказал Федя. Как же так он мог вынести? Столько терпеть ради Господа.
– Вот поэтому внучек, его и называли Иов Многострадальный. И Бог за такие слова еще больше возблагодарил Иова. Он очень быстро выздоровел. У него снова родилось семь сыновей и три дочери. Богатства ему прибавилось еще больше. Жил он очень счастливо и долго – сто сорок лет.
– Как бы и мне пострадать за Господа? – спросил Федя. – Чтобы доказать, что я Его тоже люблю.
– Ты из-за конфеток, наверное, тоже страдал, – засмеялась бабушка. Федя покраснел:
– Это же мелочи.
– Господь, внучек, лишние трудности не даст человеку. Он знает, кто какой крест должен нести достойно. Много дает Он нам возможности потерпеть, да мы не всегда понимаем. Прости меня, Господи.
– А если Он нам дает мало трудностей, значит… Он не так нас любит…
Бабушка взглянула на внука. Вздохнула.
– Нам Он уже дал некоторые страдания.
– Какие? – удивился Федя. – Мы сейчас с тобой хорошо живем.
Бабушка долго грустно смотрела на него. Обняла.
– У тебя, Феденька, катастрофа отняла твоих папу и маму. Ты это знаешь. Они у тебя были хорошие и добрые. В храм ходили. Я, наверное, для тебя тогда осталась дома, а тебя откинула через окно, в траву.
Она нежно гладила его русую макушку волос, поцеловала ее. Прошлое как будто всколыхнулось, возвращаясь, страшно оживало… Федя молчал. Он чувствовал ее состояние и уже хотел заплакать. Обняв бабушку за шею и кое-как справившись с собой, сказал:
– Ну, что делать? Ты ж сама всегда говорила – значит так надо. Слава Богу. А давай-ка, бабушка, поставим с тобой самовар-то. С этими конфетками. Тебе Снегурку, мне Снеговика. Бабушка улыбнулась. Вытерла слезы.
– Спасибо, внучек. Мы с тобой, конечно, не одни. С нами наш Великий Бог. Он-то не оставит нас.
Она перекрестила Федю и они неожиданно для себя обнялись.
Бабушка вспоминает…
Целый день назойливо крутилась метель, согнав всех по домам и, словно чувствуя свою силу, без сопротивления, так разошлась, что не могла успокоиться уже вторые сутки.
Шел Великий пост. В один из его морозных дней бабушка решила подложить в печку побольше березовых поленьев, они дольше горят и дают особый жар. Федя сидел тут же и завороженно глядел в жаркое месиво огня, где искрясь, начало трещать новое полено. Огненные блики весело играли на его лице.
– Хорошо-то как, – медленно произнес он. – На улице холодрыга, жуть, а тут тепло и уютно…
– Да, внучек, – решив засунуть еще одно полено, ответила бабушка. – Господь им дает.
– А ты, когда маленькая была, ну, как я – ты постилась?
– Нет. Бабушка грустно улыбнулась. Мы почти все свое детство постились.
Федя удивился:
– Это как же? – и выжидательно посмотрел на нее. – Ведь постятся только сорок дней, а там уж другие посты.
Бабушка вздохнула. Помолчала. Закрыла печку:
– Мы, детка, по-другому жили. Только долго рассказывать. Потом когда-нибудь.
– Бабушка! – почти простонал он. – Я тебя очень-очень прошу. Сейчас все равно уже вечер. Дела у тебя уже сделаны. А ты мне про себя еще ни разу не рассказывала. Бабушка, бабуленька моя, расскажи, а?
– …Ну, ладно. Помоги-ка сначала ты мне перетащить сюда мое кресло, ну, ты знаешь какое.
Все было быстро сделано.
– Ну, слушай. Родилась после войны сразу. Мой папа, вернувшись с флота, работал кузнецом, но вскоре умер от рака. Это болезнь такая. Осталось нас у мамы трое, и еще родиться должна была моя младшая сестренка. Старшей – семь, мне – четыре, брату моему – два. Мама работала в совхозе. Прибежит, покормит младшую и опять бежит на работу. Старшая возилась с ней, а я таскала чайником воду из колонки и выливала в ведро, потом одевала брата и мы шли на улицу. Так и жили. Голодновато было, но соседи чем могли, помогали. Спаси их, Господи. А когда подросли, уж легче стало, намажем солью кусок хлеба и на улицу… Летом-то благодать! Часто по лесам ходили, коренья какие-то ели, щавель. А грибов да ягод нанесешь – как на праздник вволю наешься. Зимой-то похуже – картошка, хлеб. А то очистки от картошки посолим и на печь, тоже вкусно. Вот, почему-то уголь любила очень. Поищу в печке получше, пооботру да и в рот. Хрум-хрум… – Бабушка улыбнулась. Федя открыл рот. – Организму, наверное, нужно… А то еще бывало, привезут по рельсам на свинарник маленькие вагончики с отходами для свиней. Иногда попадется надтреснутый арбуз, колхозники сами его себе забирают, дыни. Старшие ребятишки тоже что-то ловят в вагончиках, а нам уж то, что остается. Засунем руки, по самые плечи, в вонючее месиво и долго шарим там наощупь: то персик выковыряешь, то сливинки, яблочко – пооботрешь об себя и в рот. Взрослые нас гоняли.
А то обнаружим где-нибудь в деревянном складе, в боковой щелочке, жмых. Это на корм скоту идет. Прессованные семечки. Выковыряем пальцем или палочкой и наслаждаемся – вкусно! Вот так и постились, внучек.
– Как же вы так? – растерялся Федя.
– Вы же и умереть могли. А хлеб-то всегда был?
– Хлеб был. Но, помню, у мамы не было денег и она купила нам только полбуханки. И почему-то он был мороженый. Мама отрезает нам, а мы ссоримся меж собой, кому побольше. Мама вдруг на нас закричала, велела сосать его, а потом заплакала. Мы тогда испугались, притихли и стали сосать мороженый хлеб, как конфетку. – Бабушка поковырялась в поленьях и опять огонь весело побежал по своей жертве, жадно обхватывая ее всю.
– Бабушка, а конфет, что ли, вы совсем не ели?
– Почему же? – она улыбнулась. – Что ж мы не такие, как вы, дети были? Тоже любили. Только, как бы тебе сказать,… мы их зарабатывали.
– Как это? – изумился Федя.
Бабушка задумалась, заправила под косынку выбившуюся прядку:
– Где-то далеко от дома была большая старая свалка, куда валили мусор из города. Мы туда и наведывались, чтоб мама не знала. Пойдем с кем-нибудь и бродим там часами, бутылки ищем, банки. За бутылки больше давали, по рубль десять за штуку, помню. Да еще чего-нибудь там подбирали интересного. В карманы запихивали…Бутылки мыли и ходили сдавать в наш магазин, стыдновато было, продавцы про это знали, иногда ворчали, разглядывали их на свет, а потом сворачивали маленький кулечек и клали туда грамм сто пятьдесят коровки. Подушечек больше давали. Рады мы были очень, что конфеты дают на заработанные нашим трудом.
Федя хотел помешать кочергой в печке.
– Рано еще, – остановила его бабушка. – Когда поленья почти сгорят и угольков много будет, тогда пошебурши там, а сейчас видишь, как весело там трещат.
– А игрушки у вас были? – помолчав, спросил Федя. – Были. Некоторые. Но мы любили их сами придумывать. Моей дочкой была маленькая скамеечка. Я поставлю ее вверх, через две верхние палки надену какую-нибудь кофту от младшей сестры, штаны, валенки и так она была похожа на большую куклу!
– Ха-ха-ха, – засмеялся Федя. – Ишь как вы придумывали, а еще что?
– Ну, вот опрокидывали табурет, привязывали к нему веревочку, садился кто-нибудь туда и… поехали. Стол накроем до полу длинным покрывалом – вот тебе и дом. Там и играли. В прятки играли, в штандер, в чижика, лапту.
– А аттракционы у вас были какие-нибудь?
– Какие аттракционы? – засмеялась бабушка. – Зачем они? Вот, пожалуй, вместо этого иногда к нам приезжала большая машина-фургон. Продавец открывал двери, а мы с жадностью смотрели, что там у него внутри: куча новой обуви, одежда, свистульки глиняные, шарики, петушки на палочке, пряники… Продавец давал все это за тряпки. Мы носились всюду в поисках ветхого рванья и клянчили купить хотя бы свистульку. Но родители поглядывали на одежду. Мне очень хотелось кожаные сандалии с дырочками. Мы все тогда бегали босиком, вплодь до заморозков.
– И не болели?
– Нет. Порежемся если где стеклом, кровь посочится и перестанет.
– А Бог вам тогда помогал?
Бабушка помолчала:
– По совести сказать, не особо мы тогда верили. Время было очень тяжелое. Церковь была гонима, внучек. Храмы закрывали, а батюшек отправляли далеко в лагеря, мучили их и расстреливали. Все всего боялись.
Она помолчала, вздохнула…
– Они теперь как новомученики российские. Святые. У нас не было особой веры. Висела лишь высоко в углу какая-то маленькая темная иконка, а кто там был – мы и не знали. – Бабушка перекрестилась. – Прости нас, Господи… Вот, правда, на Троицу, хорошо помню, бегали в лес, за березой. Прикрепим, где только можно: за спинками железных кроватей, за фотографиями на столе… Намоем полы чисто, добела, настелем листьями из камыша – дух такой стоит! – крепкий, березо вый! – Она приоткрыла печку: – Ну, теперь бери и мешай кочергой, головешечку-то раздолбай получше да осторожно-то на пол… А я пойду, на часы взгляну. Смотри-ка, метель-то не унимается. Федя присел на корточки. Лицо его обдало жаром углей. Они завороженно перемигивались и, казалось, тихо успокаивали добрым теплым уютом…
– Все, детка, закрывай печь и пошли спать. Тебе уже пора.
– Бабушка, – спросил Федя.
– А зимой, вот в такую погоду, вы тоже дома сидели?
– Не-а, – улыбнулась она. – Мы с горы любили кататься. Дома сестру оставим и идем с братом. Я его накутаю – и на гору. А там он уже сам соображает. Там гора больша-а-я была и все с нее катались на старых санях-розвальнях, ну, в лошадей запрягают которые. Не знаю, кто их нам дал. Наваливаемся целой кучей, один на другого. Кричим, визжим. Кто во что горазд. Долго сани катятся вниз, прямо в реку, и надо еще умудриться спрыгнуть, когда они начнут сворачивать в реку. Так кучей с ходу и валились. Крику, смеху, слез!.. Вот тебе и аттракцион. Тащили их все вместе в гору и опять заново. Приходили к вечеру мокрые и с сосульками в волосах.
– Вы так трудно жили, что плохо верили в Бога? А? Бабушка?
– Не-е, внучек, Господь нас оберегал все равно. Да мы особо и не страдали, что мало ели. Не до этого было. А Господь, ты же знаешь, всех любит, как солнышко, и плохим, и хорошим дает и ждет, когда мы поумнеем. А еще бывало погода к дождю. Темно становится, тревожно. Ка-а-а-к грохнет Господь – так небо наполовину раскалывает. Опять грохот. Мама крестится – ли-и-вень! Мы к окну, хватаем горшки с цветами, фуксии, розочки, герани – и скорей под ливень. Вот им хорошо!.. А потом солнышко. Как не бывало – радуга, а мы давно уж полумокрые бегаем по теплой грязи и лужам с пузырьками, смеемся. Сами, наверное, как воробьи. И у других, по дворам, тоже много разных цветов выставлено было. О грустном нам некогда было думать. Мы просто жили и играли. Ой, – воскликнула вдруг бабушка, хлопнув себя по лбу. – Забыла. До сих пор не знаю, как объяснить, но я разговаривала с Ангелом. И он всегда внимательно меня выслушивал.
– А ты его видела?
– Нет. Ни разу. Но, помню, самое сокровенное накопится в душе, даже маме не говорила, а все ему рассказывала. Он всегда молчал, но я знала, что он долго и терпеливо выслушивал меня. Очень многим я с ним делилась, все добросовестно рассказывала и успокоенная засыпала. Как-то мама удивленно спросила меня:
– А что ты во сне часто говоришь «Ангелочек, Ангелочек…»?
Мне тогда почему-то было очень стыдно, что мое тайное раскрыто. Долго я с ним еще делилась, а потом как-то все это прошло. Мы все грешные люди, детка.
Вьюга все еще выла за окном, настырно пролезая сквозь щели окон. Бабушка открыла печь – угольки потухли. Она подтянулась, закрыла боковую заслонку, осторожно спустилась, подцепляя на совочек выпавшие угольки, и забросила их обратно в печку, поглядела на внука – глаза у него уже закрывались. Тапок длинно свисал с ноги, размышляя – упасть или не упасть… Она медленно погладила его белобрысую головку, помогла встать:
– Пойдем, дитятко мое, до кровати, заворожила тебя своими разговорами. Пойдем-ка, радость моя. Завтра ж и тебе «на работу».
Федина Пасха
– Ну, пошли, – наконец сказала бабушка.
Постояла. О чем-то подумала. Внимательно посмотрела на приодетого внука.
Взволнованный, немного напряженный, он смотрел на бабушку и ждал. Пошли. Христос Воскресе! Солнышко, ласковый ветерок, доносящий откуда-то, едва уловимое веяние свежей зелени. Федя, прикрыв один глаз ладонью, посмотрел на небо: тучки мелкие и светлые сжались по сторонам как бы за ненадобностью, предоставляя на этот день обширное ярко-синее небо.
Уже вовсю заливался благовест, обещая сегодня особенный день. Колокола весело будоражили Федю. Ему казалось, что этот перезвон был как будто разноцветным – разные звуки раздавались во все стороны: Бам-бом! Динь-дон! Дан – баи!.. Пасха! Христос Воскресе! Навстречу шли знакомые люди и радостно приветствовали: Христос Воскресе! Воистину Воскресе! Улыбались все. И от этих слов Феде становилось очень радостно, и он все думал, сколько народу еще так будет приветствовать.
Бабушка была одета в темно-бордовую шерстяную кофту с торчащим из-под нее маленьким белым воротничком и простой белый платочек в мелких красных цветочках. Но еще было холодновато и она взяла с собой старенький серый плащик. Люди торопились в храм: кто с мешочками, кто с корзиночками. Федя знал, что у всех там лежит: куличи, яички, пасха из творога и еще чего-нибудь. Бабушка тоже несла полиэтиленовый мешок. Все спешили в церковь. – Бам-бом! Динь-дон! Дон-динь-бомм! Христос Воскресе!
Народу-то в храме – не протолкнуться. Приходили и из других деревень – в белых, розовых, красных платочках, в основном в белых. Все нарядные, радостные, какие-то светящиеся, хоть и уставшие от давки. На аналоях вместо черных – белые с блестками покрытия. Батюшки и вся паства тоже в белых ризах. Взяв за руку Федю, бабушка сказала:
– Ты, деточка, держись, а то затолкать могут, потеряешься.
В суете и песнопениях он не расслышал ее, зато увидел. Где-то мелькнула голова Гришки. Видел и других знакомых ребят. Протолкнувшись, наконец, к батюшке на исповедь, бабушка попросила Федю стоять здесь и не отходить никуда, а она только поставит свечи и придет, и добавила, чтобы Федя хорошенько вспомнил все свои грехи.
Да, действительно, про исповедь-то он и позабыл, целуясь и толкаясь в храме. А Господь-то главное на это посмотрит! Еще вдруг и не простит? Федя стал сосредоточенно вспоминать, что он там нагрешил. Его подталкивали, сжимали, кто-то проходил задевая за локти. Но бабушка ему всегда говорила: вперед пропускай всегда стареньких и больных.
– Ты уже молодой человек и должен учиться терпеть.
Федя и не обижался, видя, что все время топчется на одном месте.
– Значит, так Господу угодно, – говорила часто бабушка.
Какая разница где стоять, думал он, все равно, хоть не толкаться. И подумать надо…
…Солнечные лучи, пробиваясь через цветные окна, как посланцы от Бога, разгуливали по всему храму, где хотели и тоже, казалось, восклицали вместе с кадившим всюду батюшкой: Христос Воскресе! И цветной уставший и радостный народ дружно весело гремел: Воистину Воскресе! Глаза у батюшки были совсем усталые, но из них любовным ручейком сочилась постоянная светлая радость. Весело, легонько вскидывал он кадило и, казалось, из самой глубины растроганной души вылетали эти драгоценные золотые слова: Христос Воскресе! И от них как будто разлетались солнечные лучи и опять дружно гремело в храме: Воистину Воскресе! Диакон, приноравливаясь к кадилу, тоже как-то особенно радостно, по-детски играя, подкидывал тлеющий уголек. Христос Воскресе! Воистину Воскресе!
Подошла, наконец, очередь Феди к исповеди. У аналоя он опустил голову. Священник, о. Мирослав, мягко положил руку на его вихрастую голову:
– Ну-с, молодой человек, – Феодор тебя звать? Что у тебя там за грехи?
– Бабушку не всегда слушаюсь. Бывает, что и совредничаю. – Он еще ниже наклонил голову. Сказать или не сказать? Надо… – Вчера вечером, у бабушки, выковырял дырку. Туда вовнутрь. Ну, вверх, туда. Попробовать, как у нее получилось.
Отец Мирослав удивился:
– А сбоку-то чего не отщипнул, зачем дырку-то ковырять?
– Ну… Ну, чтоб не видела… – Федя покраснел.
– Она заметила б это сегодня, когда будет разрезать, а в Пасху нельзя сердиться…
– Ишь, какой расчетливый, – улыбнулся батюшка. – Ну что ж, потом не забудь извиниться. – Он накрыл его голову епитрахилью, перекрестил: – Разрешаются грехи раба Божьего Феодора…
И как будто легче стало. А тут он увидел пробирающегося к нему Гришку.
– Христос Воскресе!
– Воистину Воскресе! – ответил Федя немного порозовев от необычного приветствия.
– Ну, как исповедовался?
– Ага. А ты?
– А я еще вчера ночью.
– Как так? – изумился Федя. – Кто ж ночью исповедуется? В Пасху-то.
– Здрасте! – значительно посмотрел Гришка на него. – Вчера-то еще, пожалуй, главнее-то было. Знаешь, сколько тут народу ночью стояло? Мне разрешили родители. А с двенадцати ночи все стали кричать: Христос Воскресе! – и целоваться, и сразу на Крестный Ход пошли. Я тоже со всеми. Даже запомнил, как пели. Гришка прищурил глаза и посмотрел вверх.
– Во! Воскресение Твое Христе Боже, Ангели пою-ю-т на небесех… Дальше я немного забыл, но все равно запомнил.
– Жаль. Надо было и мне отпроситься у бабушки. Я не знал.
– А бабулька твоя тоже была ночью. Вчера все взрослые причащались.
– А вот та-а-ак, – передразнил его Гришка. – Как ты спал, она и причащалась. Я сам видел. Да вон она сама к тебе идет. Ну, я пошел. К своим, а то волноваться начнут.
Но спросить Федя не успел. Открылись врата и на амвоне показался другой батюшка с Чашей, о. Василий.
– Иди, деточка, – подтолкнула бабушка.
– А я здесь постою.
Федя положил на грудь сложенные крестом руки, правую на левую, протолкался к группе причащающихся детей и встал последним.
– …Еще верую, яко сие есть самое пречистое Тело Твое и сия есть самая честная Кровь Твоя.
…Федя затаил дыхание… Что-то живое, настоящее вливалось в его душу, и от волнения даже стали выкатываться слезинки.
– …Причащается раб Божий Феодор…
И вновь с клироса взлетают, текут радостно, как ручейки, песнопения:
– Христос Воскресе из мертвых.
И вновь взлетают слова:
– Светися, светися, Новый Иерусалим! Слава бо Господня на Тебе воссия!.. – стройная мощь певчих на клиросе уже торжествует на все лады.
– Пасха! Красная Пасха!..
Когда счастливый, розовый от волнения, Федя подошел к бабушке, она обняла его и звонко поцеловала три раза.
– Ну, вот, деточка, теперь ты вроде как Ангел, – и перекрестив, добавила:
– Храни тебя Христос!
Феде казалось, что повсюду все только светлое: праздничный звон на колокольне, ризы батюшек и диаконов, накидки на аналоях, платочки, улыбки людей. И всем им хотелось любить и обязательно сделать что-нибудь доброе. Взволнованный, забыв спросить, почему бабушка его оставила ночью, произнес:
– Когда я принял причастие, мне, бабушка, сделалось так хорошо и даже весело.
– Она не успела ответить, как опять послышалось: – Христос Воскресе! – Воистину Воскресе! И они, вместе со всеми, влились в общий торжественный хор. – Воистину Воскресе!
Бабушка дала ему свечи:
– Сейчас будет Крестный Ход, – сказала она.
– Второй Крестный Ход? – удивился Федя. – Ведь ночью был. – Бабушка тоже удивилась и посмотрела на него. – Откуда ты знаешь? – Гришка сказал. Но я не сержусь на тебя, что не разбудила. Наверное, так надо… – Бабушка опять поцеловала его:
– Ну, пошли на улицу.
Впереди, с большим Крестом, медленно и торжественно, шел диакон, за ним братия, батюшки, певчие и народ. Народ валил и валил из церкви, сливаясь в Крестный Ход. Феде показалось даже, что у всех внутри, как и у него, находились Христовы огоньки. Большие и маленькие. У некоторых иконы в вышитых чистых полотенчиках с кистями.
Первый раз, когда батюшки брызгали всех водичкой, до Феди не долетело ни капельки.
В третий раз, когда они уже стояли рядом с певчими, отец Мирослав, лукаво-весело взглянув на Федю, щедро крестообразно побрызгал его с бабушкой. Федя ойкнул от неожиданности и засмеялся вместе со всеми – во как освятили-то! Стал приглаживать свои волосы. Бабушка тоже – косынка у нее наполовину была мокрая. И все вокруг улыбались, глядя на них, но Федя знал, что это не над ним смеются, а тоже от радости. Христос Воскресе!
Потом все расходились по домам.
– Хороший день подарил нам сегодня Господь, – сказала бабушка, глядя на внука. – Потому что Он любит нас, хрупких, немощных.
– Хороший, – довольно подтвердил Федя. Он так был насыщен этим праздником, что не знал, что еще сказать, но немного подумав, добавил: – Это не то, что Новый Год. Там все напридумано. И подарки тоже. А здесь все настоящее, живое, и не найдя, что толком еще сказать, остановился и серьезно взглянул на бабушку. Она тоже остановилась, глядя на него.
– Что, деточка, забыли чего?
Федя смущенно смотрел на нее.
– Нет, бабушка, не забыли. Просто знаешь… Глаза его смотрели куда-то вверх, в сторону.
Бабушка совсем удивилась.
– Ну… я там, у тебя, дырочку сделал…
– Какую дырочку? – бабушка оглядела себя. – Зачем?
– Да нет. Я у тебя в куличе вчера дырку проковырял. А там было вкусно, я там еще тогда проковырял, в серединке и вверх туда…
– Так чего с серединки-то, тоже удивилась бабушка.
– Ну как…чтоб по краям не было видно…
Бабушка удивилась и, засмеявшись, потрепала его по еще не высохшей голове.
– Ну что ж с тобой поделать? Вот отрежу выгрызанное и угощу тебя. Это все равно уже освященное. Согласен?
Федя засмеялся:
– Согласен, бабушка, – и вдруг сказал ей.
– Христос Воскресе!
Так уж получилось, что Федя остался с бабушкой. Она отправляла его в детский садик, а сама старалась успеть сделать все дела до вечера, чтоб у нее было побольше времени для занятий с внуком. Федя любил разные книжки, но бабушка старалась больше читать про разных святых или рассказывать о Господе. И хотя Федя почти наизусть знал кассету о преподобном Серафиме Саровском, но его больше тянуло к тем книгам, которые им читали в детском саду.
Когда наступал вечер, Федя привычно копался в книгах, давно уже перечитанных.
– Давай, бабушка, что-нибудь про царевичей. Или нет. Давай «Мишкину кашу», там смешно.
– Да хватит нам этой каши, – отвечала бабушка, – наелись.
Федя начинает, как обычно, жалобным голосом тянуть:
– Ну, ба-а-бушка, ну, последний разок, а? Ну, пожалуйста.
Сердце бабушки и начнет помаленьку таять:
– Ну уж если только последний. Ладно. Больше не буду.
А на другой день такой же разговор. Но бабушка уже непреклонна:
– Нет, внучек. В детском саду вам и так много рассказывают: про Тотош всяких, Чебурашек, еще поди и Шрека показывали.
Федя слегка покраснел:
– Бабушка, он добрый.
– Хм. А зверушки разве не могут быть добрыми? Нет, внучек, пойди и ты мне сегодня на встречу. Я тебе прочитаю еще одну главу из Нового Завета.
– Но ведь я и так знаю, кто создал Землю, – уныло протянул Федя, – и про Адама, и про Еву, про змея и что Божия Матерь наша родила Иисуса Христа.
– Этого недостаточно, внучек. Все мы обязаны знать Закон Божий и быть грамотными. А будем больше читать, будем задумываться и учиться жить по-Божески.
– Но там даже и картинок нет, – оправдывался Федя. – И не все понятно. Нет, – покачал он головой, – я не хочу читать эту фигню.
Лицо у бабушки стало строгим.
– Что ты сейчас сказал? – Федя покраснел. Он и сам был не рад, что так сказал, но слово уже вылетело. Бабушка сняла очки, долго внимательно смотрела на него. Глаза ее опустились. Она как-то вдруг сникла, и не найдя, что сказать, убрала книгу на место. Затем повернулась к нему спиной и ушла. Федя пошел за ней.
– Бабушка, прости меня, я не так хотел сказать… прости меня…
Бабушка долго молчала и тихонько сказала перекрестившись:
– Прости меня, Господи, это я виновата.
Но Федя услышав, перебил ее:
– Да нет, это я виноват!
Она посмотрела на него и тихо стала рассказывать:
– Знал бы ты, внучек, как Иисус наш Сладчайший страдал за нас. Сколько Он народу помогал, а когда вели Его на распятие, все отвернулись от Его. Даже любимые ученики. Его били, плевали в лицо, издевались… народу много было. Все злые, распаленные, глаза горят, машут руками, кричат – Распни Его! Распни! – Глаза бабушки наполнились слезами. Она вытерла их.
– Колючими иглами закрепили на голове Его терновый венец… потом рученьки и ноженьки Его прибили толстыми ржавыми гвоздями. И ОН, наш БОГ! – висел на том кресте… часами за нас… Один. Родненький наш. Как же Он терпел!..Только Мамочка Его, Боженька наша, стояла, плакала на коленочках:
– Свете, Сыночек мой, скорбит душа моя по Тебе!.. – Женщины еще там стояли.
Бабушка опять вытерла слезы. У Феди тоже защипало в носу. Бабушка посмотрела на него испытующим взглядом. Видя его замешательство, взяла за руку и тихонько подвела к иконе.
– Вот, Феденька, мы с тобой видели как исповедуются верующие люди перед батюшкой. Вот и ты, как умеешь, попробуй попроси своими словами. Только искренне: так мол и так, сказал такое слово, не подумавши. Сейчас я затеплю лампадку, подожди.
Федя стоял долго, смотрел на Иисуса Христа, жалел его и думал, какие бы подобрать слова, чтоб Господь увидел, что виноват он, Федя. Перекрестился, но не знал, как сказать.
– Не бойся, – сказала бабушка. – Господь поймет тебя…
Но Федя смотрел на икону, чувствуя, что внутри застряла какая-то скорбь, что-то нехорошо шевельнулось и запросилось наружу.
– Прости, Господи, что я сказал бабушке «фигню», – наконец выдавил он.
Бабушка сказала:
– Это не меня, внучек, это на Закон Божий ты так. Попробуй-ка снова.
Трудно было думать. Мысли, как каменные, лениво переворачивались между собой. Чувство вины перемешалось со словами.
– Господи, прости, что я сказал на Закон Божий «фигня».
– Да что ты все повторяешь это дурное слово! – укоризненно воскликнула бабушка. Твой Бог тебя очень любит. Сколько доброты своей Он на нас изливает. Он смотрит на тебя и уж простил тебе. Он и врагов тех простил. Но ты-то уж посердечней скажи.
От этих слов, от своей вины, бессилия ему стало жарко и захотелось заплакать. Рукавом вытер подступившие слезы:
– Господи, я, я… я застрелю это дурное слово и не буду его никогда повторять! Прости Ты меня, а?..
Почуяв свободу, быстро-быстро покатились по щекам маленькие слезинки и как-то теперь уж захотелось ему глубоко и свободно вздохнуть, улыбнуться и… Бабушка обняла его.
– Ну вот и молодец. Вот и хорошо. Только уж без стрельбы-то. – Феде показалось, что он сделал сейчас какое-то очень главное дело. Но он сам уж, не зная почему, сказал:
– Ну давай читать с тобой следующую главу. Надо нам все это знать. Надо.
Бабушкин урок
Хорошо помогал бабушке на кухне Федя. Наливал воды в кастрюлю, мыл тарелки и даже пробовал чистить картошку. Под конец сам не выдержал:
– Бабушка, я молодец? Смотри, сколько тебе помог! Бабушка довольно улыбнулась:
– Сегодня ты мне очень помог, Феденька. Спасибо тебе.
– А так бы тебе трудновато пришлось без меня, – удовлетворенно заметил Федя, – если бы не я. Бабушка внимательно посмотрела на внука:
– Наверное, Феденька. Но я бы и сама справилась, только времени на это ушло больше.
– Ну, все-таки ты мною довольна? – домогался Федя и повторил. – Молодец я сегодня?
– Знаешь, внучек, мы сегодня оба довольны. И тебе приятно, что помог мне, и я довольна. Только излишне хвалить себя. Надо быть как бы скромнее – не трубить о себе, а оставаться скромным. Сделал доброе дело – и слава Богу. А если привыкнешь, что тебя часто хвалят, начнешь сердиться, плакать, а где и руки в ход пускать. Приучишь себя к скромности – и тебе легче будет и людям приятно.
– Бабушка, – спросил Федя – а ты никогда-никогда не хвалилась?
– Всяко бывало, внучек. Конечно, тоже хватало. Господь-то все видит. И наказывал не раз. Бабушка задумалась.
– А расскажи, пожалуйста, как Господь тебя наказал за грех?
Бабушка посмотрела на часы:
– Ладно время еще есть. Где бы мне тут присесть? – оглянулась она. Федя, убрав тряпку, подставил ей табуретку.
– Садись, бабушка, рассказывай скорей.
– Ну, слушай. Только давно это было, а почему-то запомнилось. Мне тогда еще лет десять было. Жили мы очень бедно. Жили без отца, нас было четверо. Но была у нас козочка и она нас очень спасала. И все бы ничего. Вот с одеждой было туговато. Босиком бегали чуть ли не до заморозков. Помню очень долго я упрашивала маму купить мне платье. Хоть какое-нибудь. На барахолке. Раньше это у нас считалось как ярмарка. В определенный день съезжались люди в одно место и продавали, кто что хотел. Долго уговаривала маму. Наконец, поехали мы туда. Помню летом, давка там была… Все продают, кричат. А каких платьев там только не было… Я все хваталась то за одно, то за другое и устало, умоляюще просила:
– Давай это, мама, давай это.
Платье было очень красивое. Белое, из штапеля, с раскиданными на нем васильками, ромашками – круглый воротничок, рукавчики фонариком на резиночке – все тогда носили. Кушачок. Уж так оно мне понравилось! Куда и усталость девалась? Мама, глядя на меня, тоже рада. Приехали мы домой, мама делами занялась, да и мне надо помогать, а я платьем своим любуюсь. Как оно мне шло! Кручусь перед зеркалом и так, и этак – никак от себя не оторваться. А потом кружусь по комнате, представляя себя Золушкой. Какая была и какая стала!
Мама уже поругивала меня – поздно приехали, а коза не загнана. Но никак с платьем не расстаться. Решила в новом пойти, ведь не испачкаю его, да и на улице посмотрят, какое у меня платье. Пошла. А надо было переходить канаву, которая тянулась из кузницы, где ремонтировали тогда трактора, комбайны… все масла и грязь сливали в эту канаву, а чтоб никто не упал в нее, в конце ее сделали мостик. Но мы никогда не доходили до конца канавы – всегда перепрыгивали через нее. Сейчас вот думаю, зачем так далеко мостик был – перекинули бы две доски и готово.
– Бабушка, – нетерпеливо перебил внук, – а дальше-то что было?
Ну вот значит, перепрыгнула я тогда, как обычно, канаву. Вынула колышек, обмотала его веревкой, чтоб покороче был, и обратным путем к канаве. Коза – прыг через нее и меня потянула рывком – веревка-то короткая была. А я не успела. И в эту канаву. Поднимаюсь… Течет с моего платья зловещая зеленая жижа. Только клочок белый от платья…
– И попало тебе, – пожалел бабушку Федя.
– Этого почему-то не помню. Наверное. Бабушка задумчиво вздохнула. Видишь, как иногда Господь нас воспитывает. И правильно – не хвались. И слава Богу за все.
Тяжкий грех
– Бабушка, – как-то спросил Федя, – ты мне когда-то обещала рассказать про твой самый главный грех.
Бабушка сидела в своем любимом стареньком кресле, довязывая внуку второй носок. Спицы как будто играли быстрым блеском в ее руках.
– Разве я тебе такое обещала? – она поглядела на него удивленно.
– Конечно. Я запомнил и все ждал, когда ты расскажешь.
Бабушка на время отложила вязание. Внимательно посмотрела на внука.
– Только вот я не знаю, можно ли тебе рассказывать такое. Тебе подрасти еще надо.
– Расскажи, пожалуйста, – умоляюще глядел на нее Федя. – Это же ведь не совсем страшно? Должен же и я, наверное, когда-то узнать грехи большие?
Бабушка внимательно смотрела на внука, мучимая вопросом – стоит или нет.
– Это считается большим грехом, Феденька, что когда-то сотворила я.
Но, Федя, казалось, еще больше разгорелся:
– Бабушка, а вдруг и я когда-нибудь совершу такой грех? А может тебе неудобно его рассказывать? – бабушка как будто немного очнулась. Подумала. Глубоко вздохнула.
– Ну, хорошо, слушай. Она снова взяла спицы и зачем-то опять долго разглядывала их.
Училась я тогда в интернате, в пятом классе. В семье у нас было четверо детей, а мама одна. Особых подруг у меня не было, вероятно одевалась я бедновато, была тихая. Училась тоже не очень хорошо. Особенно по математике. Все бы было и ничего, но надо так случиться, что мне понравился один мальчик. Он сидел за мной по парте. Парты – это небольшие наклонные деревянные столы на двоих учеников, в середине, в отверстие, воткнуты были чернильницы. Мы писали не как сейчас, а перышками. Когда встаешь из-за парты, чтобы ответить учителю, приоткрываешь нижнюю как бы дверцу, чтоб удобнее было вставать. Мальчик этот был красивый очень, хорошо учился, но самое главное – не обижал девчонок и ни с кем не дрался. Был очень дружелюбный, веселый. Звали его Володя. Помню, наши мальчишки любили чем-нибудь обидеть слабых, придумать прозвище. Меня особенно. Да не буду об этом. Девочки не защищали, учителя как будто тоже не обращали внимание на всякие мелочи. Даже за партой никто не хотел со мной сидеть и сидела я всегда одна, как отверженная. А это было очень мучительно. – Федя слушал. Смотрел, как опять быстро замелькали у бабушки спицы. – Только Володя не обижал меня и мы с ним даже о чем-то переговаривались. Это очень согревало меня. Казалось, светил внутри единственный слабый фонарик. Как бы хотелось с ним вести нормальную дружбу. Но я сама думала, что я – гадкий утенок, и даже не помышляла свободно с ним разговаривать. Хотя осмеливалась еще надеяться, что я ему, может, немного нравлюсь. Эта крохотная надежда давала какой-то единственный стержень. И стоило ему иногда со мной пошутить – сказать какое-нибудь единственное словечко с улыбкой, как теплая волна охватывала весь мой организм. Казалось, внутри что-то менялось от радости, укрепляя мой жизненный стержень. Теплая волна долго еще держалась внутри, согревала и уже хотелось думать, что он ко мне не равнодушен. Может потихоньку скрывает. От каждых редких, нечаянных, его фраз, казалось, внутри все вновь и вновь обжигало от радости и надежды. Жизнь становилась светлей, радостней и даже как-то реальней.
– Ты понимаешь что-нибудь? – спросила она, взглянув на Федю.
– Да, бабушка, ты хотела дружить с хорошим мальчиком, который не дрался. Ну, рассказывай скорее, дальше-то как?
– Ну слушай, детка. Спустя какое-то время произошло воровство. Тогда считалось серьезным происшествием. У одной из девочек, из нашей палаты, украли деньги. Стали всех перебирать и остановились на мне. Я стала оправдываться, хотя почему-то чувствовала стыд, что подумали на меня.
Для этого случая всех нас собрали на линейку и завуч школы, при всех, объявила мою фамилию. Я стояла как скованная. Все внутри как-то застыло в черном пламени, как будто все светлое внутри сгорало. Даже мой маленький стержень. Боялась поднять глаза, но они искали Володю, и через головы увидела его в первых рядах. Лицо его было немного удивленным. Бабушка отложила снова вязание, задумалась.
– До сих пор помню то сокрушаюшее чувство горя и стыда. И еще страшней был страх, что меня выведут на середину зала. После всего этого опустошенная, подкошенная несправедливостью, в нашей палате снова и снова опухшая от слез, отрицала свою вину. Долго девочки пытались меня заставить признаться. Они убеждали меня:
– Признайся честно. Мы тебе простим. Ведь и так уж все знают, сколько же можно отпираться?
Совершенно обессиленная от всего, я подумала, какая разница, может и правда простят? Призналась.
– Да, я украла деньги, простите.
Все сразу притихли. Успокоились, уговорив меня. Но изменения никакого не произошло. Суровые молчаливые взгляды.
Заранее скажу, что выяснилось, деньги украл Мишка Завьялов. Наши спальни соединялись незакрывающимися дверями. У него нашли деньги. Он признался. Но заново все производить никто не стал. Устали, наверное. Бабушка задумчиво посмотрела куда-то вдаль.
– После этого жизнь уже потеряла для меня всякий смысл. Я, наверное, была уже никто. Не хотелось жить.
Бабушка достала из-под рукава тряпочку, вытерла появившиеся слезинки.
– Стала пить чернила, чтобы отравиться, выпила полбутылки – противно, кисло. И чтоб долго не думать, взяла в нашей домовой мастерской среднюю иглу.
– Помню, стою в школе, у стеночки. Рядом круглая печка топится, стеночка теплая. Напротив гардероб, там никого нет, баба Феня, гардеробщица наша, пошла звонить в колокольчик, что начался урок. Ребята еще пробегли мимо меня. Улучила момент, сунула иглу в рот. Поставила вертикально над горлом и осторожно впихнула ее во внутрь. Заглотнула слюной. Игла там как будто размышляла идти ей или не идти. Потом потихоньку, словно чего-то боясь, медленно, неуверенно поползла вниз. Забыла, каким концом я ее вставила. После этого мне так стало страшно и жалко себя. Я ведь сейчас погибну! Зачем? Зачем это сделала?! Глупая! Сильна все-таки жизнь. Зачем! Что сейчас с собой сделала. О Господи!!! Только тогда я вспомнила немного о Боге, хотя никогда и не ходила в церковь, и ничего не знала. А тогда как-то вспомнилось. Но не просила. А только произнесла:
«Господи…» Но было уже не до дальнейших раздумий. Я продолжала стоять у теплой стеночки и ждать, что будет. Ребята уже почти все разошлись по классам. А я ощущала, как внутри она осторожно, слегка покалывая, как будто ей там было неудобно, шла все ниже и ниже.
Федя открыв рот, со страхом смотрел на бабушку.
– И ты от этого не умерла!
Бабушка грустно улыбнулась.
– Как видишь. Наверное, Богу моему было неугодно… Постояла я так у стеночки и не торопясь пошла в класс. До сих пор не могу понять, ведь игла-то не маленькая. Тонкая и острая… Это было, внучек, покушение на самоубийство. Таких людей даже не отпевают в церкви батюшки наши. Не подают за них записочки, даже на кладбище их нельзя хоронить. Где-нибудь от него подальше. А ведь после смерти-то внучек как страшно. Дорога прямо в ад. А ты видел картинки-то эти. Есть и похуже. И человек-самоубийца будет мучиться очень и очень долго. До настоящего Страшного Суда. Да и потом ему не поздоровится. Вот как Господь наказывает. Мы, внучек, никакого права не имеем сами кончать свою жизнь. Нас создал Бог, Он наш Хозяин, а не мы, грешные. Надо слушаться, любить Его, жить по-божески…
Бабушка опять глубоко вздохнула после слез, хотела взять носок, но раздумав положила его на место. Молчал и Федя.
– Это и правда большой грех, бабушка, – задумчиво произнес он.
– Ты ведь такая хорошая.
– Да, внучек мой. Я очень тогда провинилась пред Богом. Исповедовалась конечно. Сколько лет, а все помню. Спасибо Господу, что спас меня тогда.
На глазах у нее опять появились слезинки. Она подошла к маленькой иконке, висевшей справа от окна, стала тяжело опускаться на колени. Федя подбежал, хотел помочь, но бабушка молча погладила его по плечу. Она долго смотрела на икону тихонько шепча:
– Дай Господи, душеньке моей еще выплакаться, прости, прости меня… – и крестилась, крестилась…
Господи, помоги
Сидел как-то Федя с бабушкой около дома. Уже давно вечер, а хоть загорай. Солнце вовсю играет через деревянные заборинки и многочисленные лучики заливают глаза. Федя жмурится. Бабушка перебирала остатки старой картошки, срывая с нее светлые длинные росточки.
– Видишь, – сказала она, – как они в темноте растут, а при свете они так не выросли бы. Когда сажают картофель, его держат в подвалах – там и сыро, и темно. Ишь, какие усы-то!
Федя подумал и спросил:
– Почему мы темноты боимся?
– Хм, – бабушка озадаченно посмотрела на внука. – К чему ты?
– Но ведь мы знаем, что есть Бог, чего нам бояться? Он всегда защитит нас.
– А-а-а, вон ты что, – помолчав, ответила бабушка. – Но все в Божиих руках.
Она задумчиво открывала ростки.
Это только святые ничего не боятся, а мы еще не умеем полагаться на Бога. Больше на себя надеемся, вот Господь иногда и попускает для нашего смирения.
Убрав картошку в ведро, а ростки в мисочку, она, не торопясь, начала вставать.
– Бабушка, – спросил Федя, – а тебе когда-нибудь было страшно днем?
– Было, – помолчав, задумчиво сказала она. – Ну, пошли домой, готовить уже пора.
– Бабушка, – в нетерпении загорелся Федя и даже затопал ногами, – расскажи хоть, а я тебе дома все помогу, вот увидишь, бабушка!
Подставив под себя поудобней скамеечку и снова усевшись на нее, бабушка сказала: – Ну слушай. Давно это было. А вот почему-то до сих пор помню. Гостила я как-то у подруги в деревне. И все порывалась сходить в лес за грибами. А такая была страстница до грибов. Как чуть начнут появляться – сразу в лес.
Подруга меня еще все отговаривала:
– Не ходи одна-то, лес глухой, далеко от дома. Да и деревня вся встревожена – бандит сбежал из тюрьмы. Ходили по домам, искали. Ему и прятаться только в нашем лесу. Да и бурелома там много. Редко кто ходит да и то по два-три человека.
А мне вот зогорелось идти и все тут… До чего ж хочется грибков пособирать! Я подругу успокаиваю – по краешку, мол, буду ходить, найду дорогу-то. Соседка еще зачем-то пришла. Тоже отговаривала – все только говорят об этом. Днем-то страшно! Не ходи.
Пошла. Ножик на всякий случай взяла. Вроде как защищаться. Лес-то большой. В глубине души себя успокаивала: прямо уж так, с корзинкой поймает? Больше разговоров. А сама хожу по лесу. Зорко оглядываюсь. Тишина. Птички не поют, отпелись за лето. Хоть бы звук какой. Грибы собирать неинтересно – все прислушиваюсь… Набрала немного и увидела куст с ежевикой. А ягод-то! Весь обсыпанный. И все такие крупные! Про грибы забыла. Стала есть. Огляделась, а дальше еще больше обсыпано. Пожалела, что бидончик с собой не взяла. Набрала б. А потом как-то наклонилась я за крупной ягодой – чувствую сильный запах махорки. Курево такое. Во мне так все и замерло. Не знаю, что делать. Думаю, может показалось? Принюхиваюсь – воняет. Да крепко так. Жутко стало. Животный страх нашел. И тут во мне что-то тоненько вдруг проснулось потянулось к Богу. Гос-с-поди, помоги мне. Страшно! Тишина зловещая прямо. Две души только. Моя и того… Господи, скорей! Слезы выступили. Как птичку, думаю. Раз и все. Господи, помоги!!!
Потом как-то стала соображать, хотя вся от страха окаменевшая была. Кричать надо. Вроде как вразумление было. Стала кричать:
– Ко-о-ля… Ты скоро? Я у вы-ы-хода… Чего? А сама ем ягоду, шуршу ветвями, болтаю корзинку, скребу по ней, чтоб как будто ответа не слышно.
– Ла-а-дно, – снова кричу, – Зина-то где-е-е? И иду в противоположную сторону даже не торопясь, чтобы не догадался. А потом, за деревьями уж, как помчусь! Краем глаза посматриваю в ту сторону, скорей бегу к канаве, откуда я выходила, еще не очень-то и надеясь, что она там. Запыхалась, лезу через коряги, как ненормальная, и твержу: «Господи, помоги. Господи, помоги».
Провалилась в воду, думала, что трава, подол разорвала, опять в жижу какую-то… Потом, слава Богу, просвет показался, там – поле. Слава Тебе, Господи!..
– А ножик-то был у тебя? – помолчав спросил Федя. – Если что…
– Да какой там ножик? Не до него было – задумчиво произнесла бабушка, видимо все еще переживая. – Я, как суслик, заморочена от страха была. Если б не Господь. Хоть слабенько просила, но с верой. И помог. Ну, да ладно. Пойдем домой. На, держи мисочку. Слава Тебе, Господи! – Бабушка перекрестилась и, неторопливо поднявшись со скамеечки, пошла домой.
Прабабушка
Жил Федя со своей бабушкой Олей. И с ними доживала свой век прабабушка Надя. Высохшая, притихшая, будто оторванная от дерева ветка, устало удерживала она свою жизнь. Время от времени она поднимала свою дряблую руку и медленно крестила себя.
А шестилетний Федя редко забегал в эту комнату. У него была своя весна, а у прабабушки осень. Баба Оля ухаживала за своей мамой, но однажды и сама занемогла. Позвала внука, погладив его по голове, попросила:
– Феденька, внучок, мне сегодня что-то нездоровится, бабушку-то я покормила, да вот забыла носки одеть. Сегодня холодно что-то. Там они лежат, под матрасом, у нее в ногах. – Федя огорчился и даже немного испугался – он еще ни разу не подходил близко к своей прабабушке и лишь иногда забегая, мельком видел торчавшее из-под одеяла ее желто-зеленое лицо. А тут еще носки.
– А когда ты встанешь?
Бабушка устало взглянула на внука:
– Да вот, приму сейчас лекарство, полежу немного… Уж сходил бы ты, Феденька… холодно ей.
– А может она подождет? – спросил он. – Что, не потерпеть ей, что ли?
Бабушка промолчала.
Немного постояв, Федя пошел в другую комнату. Подошел к кровати, уныло глянул на дряблые опущенные веки. Какая-то она вся сушеная, застывшая. Он подошел ближе, неохотно вытянув из-под матраса серые носки. Бабушка открыла глаза, удивленно взглянув на него.
– Носки тебе одеть надо, – сказал Федя и стал брезгливо напяливать их на холодные ступни с синими пятками. А второй носок вообще не надевался – на большом пальце рос толстый желтый ноготь и задевал его.
– Ой, – вскрикнула бабушка, – больно!
– Так ты сама-то хоть сунь ногу туда, – обиделся Федя. Бабушка молчала.
– Ой, ей, ей!
– Ногу, ногу, ноготь-то свой, – чуть не кричал Федя. – Вот возьму и брошу – будешь в одном носке лежать.
– Может, мне встать? – отозвалась из другой комнаты бабушка Оля.
– Не надо, – пропыхтел Федя, с трудом засовывая злополучный ноготь в узкую резинку. – Все. Лежи. Спи. – Натянул уголок одеяла. Ему показалось, что руки у него стали грязными. Стряхнул их, подошел к рукомойнику. С мылом чисто помыл, отряхнул себя и почему-то снова помыл руки.
На другой день бабушке стало полегче. Острая боль в пояснице прошла. Сделав обычные дела, обмотав себя большим пуховым платком, села в свое старенькое креслице и попросила:
– Феденька, внучек, достань-ка со шкафа во-он тот небольшой чемоданчик. Встань на табуреточку.
– А зачем тебе, бабушка?
– Да вот, кое-что хочу показать тебе – только осторожненько там.
Федя медленно стащил со шкафа небольшой коричневый чемоданчик с четырьмя металлическими уголками. Сдунул с него пыль.
– Тише, – сказала бабушка, принеси мокрую тряпку. Сколько он уж там лежит, а все не добраться.
Обтерла его со всех сторон и, наконец, щелкнул замочек на чемоданчике. Сняв крышку, она неторопливо перекладывала обмотанные белой ниткой, разные желтые пакеты и, наконец, вынула оттуда альбом. Открыла сиреневую бархатную обложку, где Федя успел прочитать крупными печатными буквами:
– Наденьке в…
На второй обложке он увидел улыбающуюся девушку в старомодном, но красивом платье.
– Это – моя мама, твоя прабабушка Надя. Здесь ей двадцать лет.
Девушка весело смотрела куда-то чуть вверх и в сторону. Взгляд живой и ласковый, Федя с удивлением всматривался в свежее красивое лицо. Не верил, неужели это та Надя, которую он почти не замечал. Эта только все время лежала да крестила себя.
Баба Оля медленно переворачивала страницы…
– Вот видишь, твоя прабабушка едет на целину пахать земли и сеять на них хлеб. Вот видишь, с этим чемоданчиком, который ты достал из шкафа. Вот она из окошка поезда кому-то машет рукой, может твоему прадеду. Здесь она… – бабушка медленно перелистывает страницы… – здесь ее родственники, знакомые. Вот, смотри, видишь, девушка стоит в ватных штанах, фуфайке. За спиной ружье. Это она была в охране. Склад с оружием. Строгая какая! А вот здесь лежат у пулемета – бабушка указала на молодого бойца в теплой ушанке, с выбившейся из-под шапки завитушкой. А я уж после войны родилась. А вот ее награждают медалью. За что – не помню. У нее три медали было и орден. Вот она из палатки выглядывает, смеется кому-то.
Федя долго всматривался в серьезные лица молодых далеких людей в широких штанах и длинных скромных платьях. У бабы Нади все время на голове косыночка, завязанная сзади. Последние листы альбома почему-то были пусты, хотя в них и оставались белые обрывки от фото. Лишь в самом конце сохранилась одна фотография, где прабабушка Надя шла в середине Крестного хода в завязанном вокруг головы платочке.
– Наверное, боялись еще. Тогда было сильное гонение на Церковь. Боялись всего. Чуть что – в лагеря или расстреливали за Иисуса Христа. И как у нее сохранилась эта фотография? Это сейчас мы с тобой свободно ходим в храм Божий и много народу ходит, а раньше… – бабушка вздохнула и замолчала.
– А что раньше-то было? – спросил Федя.
– Так всех прямо и расстреливали?
– Страшно было, Феденька. Потом расскажу обязательно. Да и почитаю тебе.
Бабушка погладила его по голове. Федя задумался. Казалось, нахлынула на него смешанная старая и молодая жизнь, ему еще неизвестная и в которой все, наверное, как и у него. Все было главным: война с ружьем, медали, Крестный ход… у них тоже, наверное, была своя главная жизнь, может быть главней, чем у него… А его-то еще и не было!..
Федя, сам не зная зачем, пошел в комнату к прабабушке. Она лежала уже на боку. Он остановился перед ней, представляя, как бы сейчас она стояла у пулемета или бежала куда-нибудь, или воспитывала б своего внука, его папу. Он тихонько подошел к ней поближе… нерешительно потрогал седые теплые волосы. Бабушка открыла глаза. Удивилась и как будто улыбнулась.
Ему показалось, что стало у него как бы две прабабушки: одна та, молодая Надя, с первой обложки альбома и из той ее жизни – и эта прабабушка, тоже Надя, теперь уже лежащая и уходящая в свою настоящую жизнь. Уйдет к Господу. Глаза бабушки с удивлением смотрели на Федю и, казалось, спрашивали:
– Что тебе, мой дорогой?..
– Бабушка, тебе что-нибудь надо? Может, воды принести? Ты позови меня, если что. Ладно? А носок тот, второй, это у меня первый раз так. Ну, ничего. Я приноровлюсь. Вот увидишь.
Где-то совсем рядом затарахтела машина. Бабушка подошла к окну, чуть приоткрыла занавесочку.
– К кому бы это? – подумала она, провожая ее взглядом.
– Вроде как и мимо едет, – но заметив, что машина все-таки направляется в ее сторону, она немного заволновалась и стала сосредоточенно думать. К ней никто не собирался, да и предупредили бы. И пока она размышляла и собиралась уже идти в сени, как в дверь постучали.
– Входите, у меня открыто.
– Можно? – На пороге стоял приятный, средних лет, мужчина в рабочей спецовке. Увидев иконы, на лету перекрестился и, едва переведя дух, спросил:
– Красочки не желаете? Хорошего качества. Белая и коричневая. Эмалевая. Только белой поменьше.
– А что за краска? – переспросила бабуля.
– Да говорю же – эмалевая. Белая и для пола. Сто рублей литр.
– А сколько белой осталось?
Мужчина почесал затылок.
– У меня там где-то четверть бака. Давай мать, в магазине такую не купишь. Ну как, будем брать?
– Дайте мне подумать, – растерялась бабушка.
– Сядь, сынок, на стул, передохни.
– Да некогда, мать, там водитель меня ждет. Обещал довезти краску. Самому-то не дотащить. Ну как?
– А где краска-то, сынок?
– В машине, я же говорю, с водителем. Принеси? Есть там воронка, только тару свою. Ну как, мать? Только думай быстрей. А в смысле дороговизны она того стоит. Поверь мне. В магазине попробуй найди такую, а цены сейчас сама знаешь.
– А откуда краска-то?
Мужчина нетерпеливо повернул голову:
– Ну, е мое. Я маляр сам. Все честным путем. В конце концов не хочешь – не надо, я к другим поеду. Быстро возьмут. Принести краску?…
– Ну, ладно. Мне бы литра полтора так.
– Ну, наконец-то. Давай за полтора сто тридцать возьму. Остальные – себе на чай. Старость надо уважать, – засмеялся он. – Только побыстрей уж, водитель заест. Вот посмотрите, жалеть не будете.
Бабушка пошла во вторую комнатку, в спальню, прикрыв за собой дверь. Открыла ключиком шкаф, засунула руку под чистое белье. Достала в несколько раз свернутую белую тряпочку, развернула ее, на всякий случай посмотрела в проем двери. Достала сотенную, еще две бумажки. Осторожно, снова завернув в тряпочку, на всякий случай засунула поглубже в белье. Закрыла шкафчик, ключ положила подальше на верх шкафа. Федюшка придет, достанет.
Мужчина нетерпеливо посматривал на часы, переминаясь с ноги на ногу.
– На, возьми, сынок. Там полтора литра-то наберется?
– Раз деньги взял – значит наберу. Давай быстренько свою тару, а я бак вытащу. Значит белую вытаскивать?
– Беленькую. Мне на одно окошко хватит.
Бабушка торопливо пошла в маленькую кладовочку. Банки были сложены в пустом деревянном ящике из-под картошки, но которые помельче стояли почти в самом низу. Пришлось вынимать большие банки, снимать ящики. Добравшись, наконец, до нижних, бабушка достала две литровых, обтерла их и засеменила на крыльцо. Машины там не было. Еще не веря, она поглядела по сторонам – может, отъехали куда.
Вдруг дошло. Хлопнула несколько раз себя по лбу: вот тебе и на! Ни лисицы, ни воротника, ни шубы. Так тебе, глупая, и надо! И снова постучала себя по голове. А ведь крестился!
– Пойдем краску посмотрим.
Села на крылечко, сложив руки на коленях. Прибежал зачем-то Федя. Удивился – бабушка, кажется, еще не стучала себя по голове. За всю его жизнь ни разу.
– Что случилось, бабушка? Опять что-нибудь забыла? – Она не отвечала и как будто не замечала его.
– Ну, ты подумай, – тихонько говорила она.
– А? Красочки захотела. Перед иконой не перекрестилась – побежала за банками. Вот, Феденька, как Господь искушает. Так мне и надо!
Федя никогда еще не видел такую бабушку, он завороженно глядел на ее лицо и ничего не понимал. Затем потряс ее за руки:
– Бабушка, ты почему такая?
Бабушка пришла в себя, медленно перевела взгляд на внука. Вздохнула:
– Приезжал ко мне на машине какой-то дядя-маляр. Сказал, что продает краску для окна, а сам деньги взял и, пока я доставала банку, исчез. Артист-аферист.
– А кто такой аферист?
– Есть, Феденька, у нас нечестные люди, аферисты: на улице, на работе, по домам ходят. Вот и до нас, в деревню, добрались. Они умеют так красиво и как будто правдиво рассказать, что люди им верят. И я вот, попалась на удочку. Выманят деньги и скорей скрываются. И ты, Феденька, будь осторожней – мало ли меня дома не будет. Чужим никому не открывай. Хоть святые так и не поступают, но мы с тобой еще немощные, слабые.
– Не беспокойся, бабушка, – тихо сказал он. – Не переживай. Я могу и потерпеть, если денег нет. Вон у нас на огороде сколько добра. Ни от чего не откажусь.
– Спасибо, деточка. А деньги что ж? Никто их не вернет. Знаешь, а пойдем-ка мы сейчас с тобой самовар ставить.
– Давай уж чай пить, – махнул рукой Федя. – Я тебя поддерживать буду. Ну их эти деньги, – и добавил. – А конфетки-то у тебя простые или шоколадные?
В скверике
Вышли бабушка и Федя из храма и снова перекрестились.
– Давай, внучек, посидим здесь, в скверике, отдохнем немного, – сказала бабушка, – ноги что-то сегодня болят, – гулинек покормим.
В скверике было много зелени. Мирно порхали птички, будто перенимая благодать от выходящих из храма. Солнышко…
– Хорошо ты, Феденька, помолился, – когда они сели на лавочку, сказала бабушка. – Тебя даже батюшка заметил, просфору дал.
Она неторопливо подбрасывала голубям крошки.
– Господь видел, как ты старался и Ангелы, наверное, записали у себя. Федя довольно покраснел.
Ему и самому было, пожалуй, приятно в этот раз стоять на литургии. Он наклонил голову к бабушкиному уху и прошептал: – Бабушка, смотри, вон пьяница остановилась и молится.
Бабушка повернула голову: опухшее, но трезвое издерганное, с синеватыми кровоподтеками лицо, всклоченные, спутавшиеся волосы, кое-как забранные сзади. Шелковое, не первой свежести, платье почему-то подоткнуто спереди, грязные пятки на шпильках. Она сосредоточенно, не глядя ни на кого, смотрела вверх, на купол храма, где высился большой золотой крест, и что-то шептала. Рядом с ней стоял, как будто нехотя, мужчина, то и дело дергая ее за платье. Небритое дерзковатое лицо. В руках держал за горлышко недопитую бутылку кока-колы. В нетерпении он стал сильнее тянуть книзу ее платье: хватит, мол, придуриваться – пошли. Но она не обращала на него внимания, крестилась и что-то быстро сосредоточенно шептала, как будто торопилась сказать, крестясь и слегка наклоняя голову. Мужчина, переминаясь с ноги на ногу, позевывая, глядел по сторонам и все сильнее дергал ее за платье. Она не замечала ничего вокруг, крестилась, лицо ее слегка перекосилось, вероятно от горечи, она стала громко шмыгать носом, утирая лицо рукой, и опять что-то горячо шептала, глядя наверх. Прохожие равнодушно обтекали ее, оглядываясь потом назад. Мужчина, наконец, не утерпев, сильно ткнул сзади. Она дернулась вперед, но, как будто напоследок, застыла и еще выше подняла вверх лицо, отмахнувшись от него рукой. Тот, разозлившись, грубо толкнул ее в бок. Она упала. Неуклюже встав на колени, упершись руками об асфальт, по-детски приподнявшись сзади, медленно поднялась. Опустив голову, устало поплелась за ним.
– Бабушка, мне ее жалко, – тихо сказал Федя.
– А как Бог к ней отнесется?
– Не знаю, внучек. Она старалась молиться Богу, пусть хоть и немного. – Бабушка вытерла слезу у края глаза.
– Думаю, наверное, Господь услышал ее. Видишь, друг-то ее все толкал, торопил, а она все равно молилась. Пусть и не такая, как все, а сердцем-то к Нему обращалась. Мы вот пошли с тобой в храм, как положено, да еще похвалились.
Бабушка перекрестилась:
– Прости меня, грешную. Помнишь, читала я тебе, как один человек молился Богу и хвалился: смотри, мол, Господи, я и пощусь, и денег бедным даю, сколько надо, и дела какие хорошие делаю, не то, что вон тот грешник. А тот стоит где-то в отдалении храма на коленях – головой в пол, боится даже поднять ее от грехов своих, только просит: Боже милостив! Буди мне грешному. Наверное, и эта женщина тяжесть свою чувствует, грехи свои, немощь и просит Бога помочь и простить ее. Кается. Ох, бедняжка!
– Бабушка, а я похож на мытаря, ты ведь сейчас про него рассказывала?
Она потрясла его за голову и улыбнулась:
– Ну какой из тебя мытарь? Чего из тебя взять-то! Твое дело любить Бога, да слушаться. Жизнь у тебя еще большая.
– А много людей грешных?
Бабушка вздохнула:
– Хватает внучек. Но Господь всех нас любит и ждет, когда мы исправимся.
– Это, наверное, не трудно жить, как следует, – удивился Федя. – Делай всегда хорошее да и все.
– А ты всегда слушаешься бабушку? И ни с кем не ссоришься? – Федя отвел глаза в сторону, смущенно посмотрел куда-то вверх.
– Вот и у взрослых так. Все вроде хорошего хотят. Да путь-то к Богу узкий, трудный, а страстей всяких вокруг полно, всего хочется. Себе-то поприятней, полегче. Вниз по лестнице Феденька всегда легче идти, чем вверх.
Бабушка опять вздохнула и перекрестилась:
– Спаси ее, Господи.
Федя немного подумав, сказал серьезно:
– Может ты, бабушка, и будешь надо мной смеяться, но я буду идти именно узким путем. Давай сумку твою понесу.
– Спасибо, внучек. Сумка-то у меня пустая. Ну, вставай, голубок мой, домой пора. Она нагнулась, поцеловала его в макушку и добавила:
– Мытарек ты мой, давай руку, через дорогу переходить надо.
Суп с молитвой
– Бабушка, – сказал Федя, доедая последнюю ложку супа и принимаясь за гречневую кашу, – почему у тебя такое все вкусное? В детском саду и то не так.
– А чем вас там кормят? – заинтересовалась бабушка.
– Ну, как чем? Там и супы тоже дают всякие, котлетки, йогурты и гречневую кашу тоже. Только почему-то она не такая вкусная.
Глаза у бабушки засветились.
– Я знаю этот секрет. Только ты доешь сначала. Потом скажу. Сейчас тебе еще и чайку с кипреем налью.
– А что такое кипрень?
– Это травка такая. Иван-чай называется. Ее любили в старину пить. Заварят в чайничке и сверху на самовар ставят, чтоб заварка покрепче была. И пьют. Ох и вкуснятина! На вот тебе чаек. Как-нибудь, на днях, пойдем собирать ее на зиму – сушить. Там, как море ее – красотища!
Федя допил чай.
– Ну бабушка, расскажи мне, что ты в суп-то подкладываешь?
Она многозначительно посмотрела на внука, глаза ее, казалось, улыбались.
– Когда готовлю любую пищу, я кладу туда… молитву.
– Как так, – изумленно раскрыл глаза Федя и засмеялся.
– Как ты ее туда положишь, руками что ли?
– Зачем же, – улыбнулась бабушка.
– Во-первых, перед любым делом я благословлюсь сначала, а потом начинаю читать молитвы, которые я знаю. Даже совсем маленькие. Лишь бы от души.
– Бабушка, а это же ведь трудно, – продолжал удивляться Федя, – надо ведь размышлять, как картошку нарезать, воды налить и много всего – как ты при этом еще можешь и молиться? Ты же не можешь разорваться?
– А это просто. Я же молитвы наизусть знаю и готовлю не в первый раз. Одно другому не мешает. А Господь слышит и помогает. Вот и стараюсь, чтобы все было вкусно.
– Надо же, – удивился Федя, – как хорошо-то. И приправы никакой не надо. Я даже не слыхал, как ты варила суп с молитвой. И ты всегда-всегда молишься, а вдруг где-нибудь споткнешься?
Бабушка засмеялась.
– Это же внучек не волшебные заклинания, а живое слово к Богу. Ему любовь наша нужна, а не заговоры. А наша сердечная молитва к Нему – это и есть частичка теплой живой любви к Нему. Он радуется нам и помогает, когда чувствует нашу молитву.
– Здорово, – сказал Федя и даже приоткрыл рот. – Вот бы и мне так научиться варить суп. Я бы посмотрел, как он у меня с молитвой получится.
– Тут внучек и проверять нечего. Верующие люди многие так делают. Дело ведь не в том, чтобы суп варить. Есть самые разные случаи, когда молитвы очень необходимы.
– А какие это случаи?
– Это ты можешь и сам догадаться. Вот, например. Я видела, ты вчера с Гришей чего-то сердился, размахивая руками, выкрикивал…
– Да это он первый начал, – оправдывался Федя, – говорит, это я спицу у велосипеда выгнул. А она сама выскочила. Пусть не врет!
– Вот видишь. Не разобрался толком и скорей руки в ход. А теперь не разговариваете.
– Но ведь он первый начал…
– Какая разница – первый или последний. Не оправдывайся. А вот не стал бы размахивать руками, а стерпел бы и вспомнил молитву: Господи, помоги! Тихонько. Не обиделся бы, а разобрался с ним. Вот попробуй сейчас, если хочешь, подойди к иконочке. Попроси у Господа, чтоб помог помириться тебе молитвами, которые ты знаешь. И когда пойдешь к Грише, не сердись на него и молись про себя, что знаешь. Хорошо? А я пойду сейчас в огород и не буду тебе мешать.
…Ласково, тепло поглаживало солнышко землю, высоко в небе купался жаворонок, туда-сюда сновали всякие насекомые: бабочки, мушки, стрекозки. Где-то далеко мычали коровы. Бабушка уже добирала небольшую корзиночку блестящей смородины, когда, запыхавшись, чуть не наткнувшись на нее, прибежал Федя.
– Бабушка, – едва отдышавшись, сказал он, – мы помирились с Гришкой. – Он сам, оказывается, хотел прийти ко мне. Я ему даже про суп рассказал. Услышал меня Господь!
Бабушка поглаживала Федю по голове.
– Ну вот и умница. Только Господа не забывай благодарить и постарайся больше не ссориться.
– Бабушка, а можно я сейчас к Гришке пойду?
– Можно. Только уж прополи пожалуйста эту грядочку. Вон какая она махонькая. А там гуляй хоть до вечера.
– Ла-а-дно, – довольно улыбнулся Федя.
– Ну и хитренькая ты у меня, – и добавил серьезно, обняв ее, – зато самая любимая!
– Федя, – озабоченно спросила бабушка, – не видел, где я оставила свои вставные зубы?
– Нет, бабушка, твоих зубов я не видел. Может ты со столика сама куда-нибудь убрала, – и стал тоже их искать.
– Нет, – сокрушенно отвечала бабушка, – они у меня всегда на одном месте лежали. Ну право странно даже.
Федя внимательно осматривал все вокруг. Пошел на кухню – может там где. Или за посуду заложила? Стал отодвигать на столе посуду: тарелки, кастрюли, чашки. Достав табуретку, полез в буфет. Стал там разглядывать чашки, вазочки для варенья, чайные ложки… заглянул в старый потрескавшийся бокал – нигде бабушкиных зубов не было. Куда ж они могли деться? Решил пойти в сени. Вдруг там где. А там и на огород.
Хорошо-то как! Везде разлило свои лучи солнышко. Даже под заросли кустов малины пробрались вездесущие его лучики. Благодатно! Кланяются в клумбе крупные головки ромашек, а бабушкина курица ожесточенно, задней костяшкой лапы, выковыривает там ямку. А когда вернулся в комнату, бабушка все еще искала.
– Не нашла еще?
– Да нет, не нашла, – огорченно, рассеянно ответила она. Тревожно, в который раз, осматривая комнату.
– Ведь всегда на одно и то же место клала. Дайка вспомню снова, куда ж я их могла положить на ночь?
Долго искали бабушкины зубы. Федя уж и под кроватью смотрел – вдруг там. Нигде не было зубов. Время идет, а дела стоят. Расстроилась бабушка. Как без зубов-то! А потом решила – не ищи, внучек. Так, наверное, Богу угодно. Мы с тобой расстроились и полдня потеряли. Зачем голову заморачивать? Когда-нибудь найдутся. Ты делай свои дела, а я – свои. А там видно будет.
Федя долго и внимательно смотрел на бабушку. Потом набрал в рот очень много воздуха – он всегда так делал, когда хотел сказать что-то очень важное. Хитро прищурив глаза, он выпустил воздух и значительно протянул:
– Ба-а-а-бушка, А ЗУБЫ – ТО ТВОИ НА МЕСТЕ У ТЕБЯ! Посмотри в зеркало! Тут бабушка и ахнула, открыла рот и замерла. Потом хлопнула себя по лбу:
– Во заклинило-то! Вот спасибо Тебе, Господи! Это ж надо так, а! Вот смирились мы с тобой – тут же Господь и подает. Вот как Он нас воспитывает! Она несколько раз радостно и торопливо перекрестилась.
– Всем управляет Господь, Феденька!
– Бабушка, – спросил как-то Федя, – ты мне как-то рассказывала про святых. Много про них знаешь.
– Нет, внучек, есть много книг про жития святых, и они все очень поучительны. Разве упомнишь все? Вот все собираюсь купить Четьи Минеи, да не накопить пока.
– Ну, расскажи хоть, про кого знаешь, – попросил Федя.
Бабушка задумалась.
– Хорошо, но только давай-ка сначала покормим нашу козочку, сенца ей подкинем, внучек, курочек надо, Шарика нашего в будке. Они же не будут слушать Священное Писание. Их покорми. Они будут сыты, спокойны и довольны. Ну-ка, засучивай рукава и принеси курочкам водички из колодца и в другом поможешь.
– Хорошо, – обрадовался Федя. – Ты меня, бабушка не стесняйся, проси, что надо делать. Это же все добрые дела – помощь тебе.
Бабушка улыбнулась:
– Быстрей справимся – больше расскажу.
Еще солнышко вовсю светило за горизонтом, а бабушка уже садилась на старенькое низкое крылечко, поросшее кое-где травкой. Она любила частенько летом садиться на него. Дожидаясь иногда заката, а может и встречать завтрашний день. Федя пристроился на нижней ступеньке, помахивая тонким прутиком. Шарик, увидев их, подбежал, виляя хвостиком. Затем обежал дом и уселся на травке, недалеко от крылечка, как будто тоже приготовился слушать.
Бабушка глубоко вдохнула и выдохнула.
– Ну, слушай. Было это очень давно. Еще до Рождества Христова. Жил такой пророк Иона. Он был преемником святого пророка Елисея. Как-то Бог попросил его отправиться в Ниневию и предупредить там людей, чтобы они исправились и покаялись Богу. Иначе Он истребит город. Но Ионе не очень-то хотелось ехать туда. Он так рассуждал: Бог все равно милостив, простит их, если они покаются. А если не исправятся, то так им и надо, по заслугам. Чтоб они поняли, сколько зла они Богу сделали. Он сел на другой корабль и поплыл по своим делам. Но тут в море поднялась такая буря, что корабельщики даже подумали, что кто-то из них очень провинился. Тут Иона признался, что он очень не угодил Богу. И пусть его тогда бросят в бушующую бездну. Корабельщики сначала не хотели. Но видно, побоявшись за свои жизни, все-таки бросили его за борт. Хоть и жалко было живого-то человека бросать…И тут же буря стихла. Удивились они. А тут, откуда ни возьмись, появился огромный кит и проглотил Иону, по велению Божиему.
– Бабушка, – тихонько перебил Федя, – а я слышал, что киты питаются только мелкой рыбешкой. Как он мог человека целого проглотить?
– У Бога все возможно. Что он захочет. А может это была такая акула. Кто знает? Ну, слушай дальше, что произошло: Иона не умер во чреве кита. Чувствуя свою вину, он усиленно молился там Богу. Три дня молился.
– А как он там, на коленочках что ли? – удивился Федя. Изумленно раскрыв глаза и открыв рот.
– Какая разница? Главное он там очень молился. Бог выслушал молитву Ионы и заставил кита выбросить Иону на берег той же Ниневии. Понял он, что от Бога никуда не уйдешь. Отправился в Ниневию, к народу. Обратился ко всем людям, чтоб перестали грешить и покаялись Богу, иначе Он всех накажет. Народ послушался Иону. Все пошли в храм, покаялись и три дня даже постились. Милостивый Бог их всех простил, даже Иону. А Иона все-таки забрался на высокую гору, думая, что Бог всех истребит. На горе было очень жарко. Бог повелел вырасти там, на горе, около Ионы, большой тыкве, чтобы листья ее покрывали его от жары. Но Иона все сидел и ждал, как будет истреблен город за непослушание. Он не знал, что милостивый Бог всех простил уж. А за упрямство Ионы Он завел в листьях тыквы червя и червь поел все листья, и опять Ионе стало очень жарко. Ему стало жалко эту огромную тыкву. Да и устал он сидеть на этой горе и ждать. Изнывая от жары, он часто вздыхал и уже хотел, чтобы Бог прибрал его к Себе. Но Бог явился к нему и сказал: «Вот ты спрятался на горе да жалеешь о тыкве, что ее поели черви, а сам сидишь тут и ждешь, чтобы Я истребил всех ниневитян, которые живут внизу. А как же Мне не пожалеть весь огромный народ, в котором очень много неповинных младенцев и многих безвинных людей. Тебе их не жалко, кроме этой тыквы?» Иона смутился и все понял. Он спустился с горы, еще раз попросил прощения у Бога и отправился к себе домой. Вот и все, внучек.
Бабушка долго всматривалась за горизонт.
– Смотри, Феденька, солнышко как будто тоже слушало нас, а теперь закатывается. Посмотри, как оно красиво разливается по всему горизонту.
– Это Господу тоже угодно, – помолчав ответил Федя. Это Он и заставил кита проглотить Иону и простил его.
Он тихонько погладил сморщенные усталые руки бабушки, лежащие на коленях.
– Тебя Он тоже любит, – тихо сказал Федя. – У тебя почти грехов-то нет.
Прибежал Шарик и стал чесаться боком о край крыльца.
– Нет, – грустно ответила бабушка. – Грехов-то у меня хватает. Как-нибудь расскажу. Если Господь позволит. Ну, а сейчас пошли домой. Пора. – Она нежно пошебуршила Федин затылок и поцеловала его.
Шли Федя с бабушкой из церкви. Они давно уж топали по узкой тропинке, а сзади долго еще раздавался веселый переливчатый колокольный звон. И от этого небо казалось выше и солнечней, вокруг все наполнялось радостью, а в душе было светло и трепетно. Бабушка смотрела по сторонам тропинки. Лицо ее светилось.
– Смотри, Феденька, как везде красиво-то!
Федя осмотрелся по сторонам: налево от тропинки тянулись зеленые поля, но на них ничего не было посажено – росла одна трава, на другой стороне колосилась рожь, у самого края и ближе к лесу росли березки, рябины, дубочки. Ничего, казалось, особенного не было – везде так. Но, чтобы не обижать бабушку, мотнул головой, а потом не удержавшись все-таки спросил:
– Бабушка, а почему все тебе так нравится, даже больше, чем мне?
– Ну, как же? – растерялась она. – Смотри, благодать-то везде какая! Мы с тобой сегодня причастились, вот в душе стало легко и радостно, внучек. Может и смотрится от этого глубже. Вот, давай-ка свернем к полю, где рожь. Отдохнем немного.
Они перешагнули через небольшую канавку, бабушка остановилась:
– Вот это душистая белая метелочка, на облачко похожая, называется лабазник. Понюхай, как пахнет. Федя наклонился, глубоко вдохнул и закрыл глаза:
– Ой, как и вправду пахнет! Вот это да! Как будто медом. А это что за цветочек? Смотри, бабушка, как желтенький шарик, а лепесточки так друг друга покрывают. Он сорвал, понюхал его. Какой запах тонкий! Бабушка, понюхай, на!
– Это купальница, внучек. Только цветочки лучше не рвать. А этот даже занесен в Красную книгу. Это означает, что этих цветочков стало очень мало. Цветочки и растения как бы чувствуют, что их сорвут и печалятся даже.
– Бабушка, а кто создал все эти запахи?
– Ты же знаешь, Феденька. Конечно же, Бог. Он не просто создал для нас все, чтоб нам везде хорошо и удобно было. Он сделал, чтобы мы наслаждались, радовались и прославляли Его. Во-о-н там, в густенькой травке, вон там, в низинке, прячется скромная маленькая фиалочка, как будто боится чего. Федь, а вон, смотри, сколько там колокольчиков-то! Синь-то какая! И ромашки головки к солнышку тянут, а вот – рожь. Смотри, внучек, сколько зернышек в одном колоске. Из этих зернышек пекут хлеб. А колосьев этих – море… Ветер их колышет – море волнами играет!
И правда, загляделся Федя.
– Краси-и-во. Ой, смотри, кажется, это василек! Они еще в полях растут! Бабушка, как он тут красиво смотрится. Как глазок во ржи. Синий-синий!
Закинув руки за голову, Федя завалился в рожь и, неожиданно для себя, затянул от радости:
– Ого-го-о-оо!
Ветерок ласково трепал его волосы. В высокой глубине неба, никуда не торопясь, плыли белые пушистые облачка. Казалось, они снисходительно посматривали на него – нам тоже здесь хорошо, свободно…
Рядом, правее, трепещет осинка. Кажется, она к чему-то прислушается, замрет, а потом как задрожит листиками! Будто что-то страшное услышала.
– Бабушка, а как все-таки доказать, что все это создал Бог?
– Ну, ты опять за свое, – немного огорчилась она. – Ну, сам подумай, кто может вырезать каждый изгиб цветка, хоть колокольчика – инженер, что ли? – Федя засмеялся.
– Ну, вот. А у нас за домом, в пруду, видел, кувшинки плавают? Красота какая! Бог все сделал! И травушку эту Господню – она нежно погладила ее рукой. И мы с тобой тоже Божии создания…
– Но ведь Бога еще никто не видел, – упрямился Федя, хотя чувствовал, что несет ересь, но ему просто хотелось покрепче утвердиться в себе.
– Доказательства ученых – это еще не вера, внучек, – сказала бабушка.
– Вот, где-то я читала или слышала, уж не помню. По-моему архиепископ Лука. Знаменитый врач. Вот к нему и приступили тоже, как ты: Докажи мол, а он и говорит:
– Операцию мозга я делал, а ума там не нашел. Так же и чувств разных. Как ты их увидишь? Если что невидимо, это не значит, что ничего там нет. Верить надо. Тогда и поймешь.
– А мне вообще-то сейчас радостно, – согласился Федя.
– Нам, наверное, много Господь дает, бабушка. Он нам всю жизнь дает.
– Вот и умница, правильно говоришь. А то заладил – докажи, да докажи – верить надо. Вот и все. Вон, букашек тут в траве сколько. Все бегают, работают и их создал Господь. А сколько Он нам, созданиям Своим, дает! Только нам должное воздавать надо.
Бабушка почему-то вздохнула.
– А как это должное воздавать?
– Ходи в храм, Феденька, слушайся старших, помогай, кому трудно, не обижайся, не дерись…
– Это сло-о-о-жно.
– Конечно. А у нас, взрослых, легче? Надо в благодарность за все и послужить Господу. А что не так, где не сдержался – иди к батюшке, покайся и Господь простит тебя. Это и называется – жить по-Божески. Ну, давай, вставай, внучек – вон, рожь-то помял как. Отдохнули и домой. Завтра баню топить, дел много.
– Я тебе дров натаскаю, бабушка. И воды принесу. А ты, бабушка, поставишь где-нибудь там табуреточку из дому и будешь мне советы давать. Ладно?
Бабушка засмеялась:
– Помощничек ты мой! Как тебя сегодня надоумило.
– Да, бабушка, – серьезно ответил Федя.
– С этого вечера я постараюсь жить по-Божески.
Торопились бабушка с Федей домой. До остановки было еще далеко, а дождь вовсю хлестал по асфальту. Вдруг Федя отстал от нее и поднял раздавленный ногами росточек цветка.
– Скорей, внучек, – торопила бабушка, – что ты там подобрал?
Он подбежал к ней, держа в руках раздавленный мясистый стебель.
– Бабушка, мне его жалко стало. Он такой несчастный, смотри, у него еще цветочек есть.
– Не выживет, на нем живого места нет, побежали скорей, а то совсем промокнем.
– Ба-а-бушка…
– Ну, хорошо. Положи его сверху. Хотя, давай я сама его в полиэтиленовый мешочек.
Придя домой, Федя первым делом налил в стаканчик воды. Ему казалось, что он спасет этот замученный росток. Осторожно вынул из пакета мясистый израненый стебель с ярко красным завядшим цветочком. Опустил в стакан, но росток безжизненно повис через край стакана.
– Загибнет, – участливо сказала бабушка. Может, ему какой костылек поставить?
– Какой костылек? – не понял Федя.
– Ну, палочку какую-нибудь. Чтоб он опирался на нее.
Федя обрадовался и побежал на улицу искать палку. Прибежал, запыхавшийся, с большим сучком.
– Этого много, дай мне веточку. – Бабушка отломала маленький прутик. – Вот этот, пожалуй. А сучек отнесем к печке. – Она достала бинтик и осторожно обмотала росток. – Теперь посмотрим. Поставь его на подоконник, ближе к солнышку.
…Первое время Федя то и дело подбегал к росточку и внимательно разглядывал, не изменилось ли там чего. Ему думалось, что это его маленький питомец, сыночек, и хотелось, чтобы он скорее выздоровел. Чтобы ожил. Но все пока было по-прежнему.
Прошла неделя. Федя уже не бегал каждый день к своему подопечному, свыкаясь с грустным предчувствием, что он уже не выпрямится. Но как-то бабушка подозвала его к окну:
– Смотри, росточек-то твой окреп немного.
Федя с недоверием всматривался в хрупкий забинтованный стебелек. Он же совсем недавно смотрел, не появились ли на нем новые цветочки.
– Нет бабушка, – протянул он. – Ничего на нем не растет.
– Потерпи еще, он должен сначала выпрямиться, ожить, а потом уж обрастать.
Федя очень внимательно разглядывал цветок. Действительно, хотя стебель и не мог стоять, но цветочек стал как будто сверху поярче, веселей.
– Ой, бабушка и правда. Смотри, а где бинтик кончается, как будто бугорок появился. Вот сюда, смотри.
Бабушка долго вглядывалась, но без очков ничего не видела.
– Все равно, – сказала она, – он тянется к жизни. К солнышку. Давай еще немного подождем, там видно будет. – И она с улыбкой продолжала:
– Ты, ведь, когда болеешь, не можешь сразу выздороветь. Пока в постели больной лежишь, лекарства принимаешь, чай с травками пьешь. Так и росточек твой со временем наберется сил, отогреется на солнышке, отдохнет… Все по воле Божией…
Федя был доволен – это был его маленький питомец. Его живая надежда. Ему казалось, что этот крошечный росток был его сыночком, которого он спасал. А если бы он тогда прошел мимо… А теперь он оживает. Скорей бы уж.
Но чем больше он терпел, тем невыносимей было ждать. Он долго не подходил к окну. Ему казалось, что там давно уж проклюнулись листики, а сам росток пустил белые нити корешков. Но ведь больного человека тоже надо навещать. Мерить температуру. Он тоже должен навестить своего больного. Вдруг ему нужна «скорая помощь».
Он подошел к окну и побежал скорей на кухню.
– Бабушка, бабушка! – закричал он взволнованным голосом, – иди скорей.
– Что случилось, Феденька? – испугалась она. И вытирая об передник руки, направилась в комнату.
– Смотри, он уже немного выпрямился и бутончики маленькие с боков торчат. Вот он какой. Сам выздоровел. А как этот цветок называется?
Бабушка внимательно рассматривала его. Не знаю как по-научному, но в народе его называют «Ванька мокрый».
– Почему это мокрый? – засмеялся Федя.
– Он очень любит влагу. И требует обильного полива. Когда разрастется, он покроется яркими красными цветами. Вот как этот. Вот окрепнет, посадим его в горшочек. Будем поливать.
Федя был очень рад, что принес росточек домой. Он уже представлял, как этот больной стебелек превратится в зеленое цветущее деревце, а через форточку даже будут залетать бабочки и садиться на него, дрожа крылышками.
Настало время, когда бабушка принесла, наконец, откуда-то из кладовки небольшой глиняный горшочек с дыркой внутри. Федя наблюдал, как она положила туда немного дренажа и засыпала земелькой. Сделала углубление и, сняв бинт, осторожно опустила кончик стебелька с небольшими корешками в углубление. Засыпала землей и чуть прижала ее.
– Можно я сам полью? – попросил Федя. Он взял стакан с колодезной водой и стал наблюдать, как земля тихо поглощает воду.
– Вот теперь внучек, цветочек твой должен привыкнуть к новой почве. А чтобы он лучше приживался, костылек можно пока оставить. И опять его к солнышку, в теплое место. Только не забывай поливать.
Теперь Федя чуть не каждый день заботливо поливал свой росточек. А спустя какое-то время заметил сразу три маленьких красных бутончика. Побежал к бабушке. Надев очки, она подошла к окну.
– Ишь, как головки-то свои тянет. К Богу. К свету. – И погладив Федю по голове, сказала:
– Вот внучек. Мы все должны также терпеть и переносить скорби, болезни, как твой росточек. А я, глупая, к смерти его приговорила, – и от души, широко перекрестившись, сказала:
– Слава Богу за все!
Страшные картинки
Федя сидел за столом и подолгу рассматривал какие-то картинки в книге. Бабушка сначала не обращала внимания, а потом почему-то насторожилась: свои книги он знал уже все. Когда он стал переворачивать большой лист, бабушка подошла к столу. Федя, увидев ее, смутился и поскорей закрыл большую обложку книги.
– А что там такое? – спросила бабушка.
– Это одна девочка в детском саду дала мне посмотреть. На один денек только.
– Ну, а картинки мне посмотреть можно?
– Да нет, – засмущался Федя. – Это все равно тебе не интересно.
– А тебе, значит, интересно?
– Не знаю, – тихо произнес Федя. – Наверное, интересно…
– Ну, уж покажи…
Федя, нехотя, раскрыл наугад большую яркую книгу. На бабушку глянули кишащие змеи с гнилыми острыми зубами, мерзкие кроваво-синие вампиры, ехидно скрывающие улыбку…
– Тьфу тебя, образина, – перекрестившись испугалась бабушка. – Закрой ее и дай мне. Я вынесу ее из дома, а завтра отдам родителям этой девочки. Она наскоро завернула ее в газету и, еще раз перекрестившись, вышла во двор. Федя не сопротивлялся. Он и так, с самого начала, понял, что нехорошо это. Но в детском саду ребята тоже смотрели. И у некоторых есть такие. Завтра, наверное, девочка будет ругаться или даже плакать, что не принес книгу. Федя виновато чесал затылок, а потом решил сходить во двор, узнать, куда бабушка унесла книгу. Но в сенях уже увидел ее. Бабушка была взволнована, но спокойно сказала:
– Пойдем в мою комнатку – кое-что тебе расскажу.
– Вот, видишь, – она показала рукой на ряды разных книг, когда они вошли. – Да ты и сам знаешь. Вот Евангелие, которое мы читали. Новый Завет, вот твоя детская Библия… Ты видел хоть на одной из них такие картинки?
– Нет, – тихо ответил Федя. – Прости меня, бабушка. Я знаю, что виноват.
– Хорошо. Я вижу, что ты понял. Здесь пишут правду о том, что было на самом деле. Пишут святые Писания. Здесь все о святом. Думаю, ты понимаешь.
Федя серьезно мотнул головой.
– Но не будем больше об этих… – бабушка поморщилась и предложила:
– Давай я тебе о другом расскажу, как умею, конечно. Да ты присядь хоть.
Бабушка снова медленно обвела рукой книги:
– Здесь у меня собрано все самое дорогое. Без Евангелия нам нельзя жить. Старый Завет дорог. Новый Завет. А сколько святых рассказывают в них. Они раскрывают самые драгоценные советы, как нам жить. Сколько примеров показывают, что именно так надо жить. И как Господь потом за это награждает. Тяжко жилось святым, как бы их не мучили – они всегда тянулись к своему небесному Отцу и Божией Матери. Потому что они очень чувствовали настоящую силу, красоту и справедливость. Многие из них душой своей как бы с радостью побывали там, на небесах. Во множестве книг они описывают, что видели и чувствовали. Да и нам, простым грешным людям, Господь помогает. Но враг человеческий, Федя, тоже не дремлет. Он так и смотрит, кому бы очень навредить, кого б ужалить посильней. А если и сделает зло, то очень радуется. Он, как вор, тайно, чтоб его не заметили, и книжки вредные подсунет, и мультики с разными уродцами и страшилищами, а то и добрым прикинется, вроде там зеленый этот …как его…Шрек. Да. Войны всякие, драки, кровь, стрельба… Это все враг. Вот поэтому нам, любящим своего Господа, надо уходить от него. Сделал плохое, тут же сделай хорошее, доброе. Это очень трудно. Но Господь видит, что ты стараешься, и поможет тебе с радостью. Да и тебе легче жить будет и веселей, когда с Господом.
– Бабушка, – сказал Федя, – я вспомнил еще. Эта девочка, которая дала мне книжку, сама боится: посмотрит немного картинку и сразу захлопывает ее. А потом снова так. Тоже боится.
– Это все вражье. Где послабей – враг туда скорей. Родители девочки, наверное, не знают этого. Вот и ты теперь подумай на будущее. Но я о святых еще не докончила. У них есть самое главное оружие: смирение, пост и молитва. Они видят, как враг нападает, да еще какой! Они его рр-ааз! Ружьем этим, он тут же бежит в страхе. Это я образно так. Ты понимаешь? – Федя серьезно мотнул головой. – И еще всю свою нелегкую жизнь они помогали нам, людям. И видя такую усердную жизнь, Господь взял их поближе к Себе после смерти. Так что, Феденька, нам есть всегда кому молиться. А как внучек там радуются душеньки не только святых, но даже и простых людей! Как хорошо-то там им в Царствии Небесном! Радуются там, видят оттуда, как мы непонятно тут живем. Жалеют нас. Скорбят. Стараются изо всех сил помочь нам, молят своего Господа, и Он милостивый помогает нам. Видит, какие мы слабенькие, но как-то стараемся идти к Нему. Помяни нас, Господи, во Царствии Твоем, – перекрестилась бабушка, вытерев слезинку.
– Бабушка, а ты прочитаешь, какие святые жили в раю?
– Обязательно, деточка. Только не сегодня. Вот как только освобожусь, а в детском саду ты уж старайся не смотреть такие фильмы.
– Хорошо, бабушка. А можно мне сейчас погулять?
– Иди, внучек, – немного удивилась она такому переходу. – Я тоже делами займусь.
На улице стало темнеть, а Феди еще не было. Бабушка немного забеспокоилась. Что ж так его долго нет… Вышла на крылечко.
– Фе-е-дя-а! – Никого. – Федя! Ты где? Иди домой. – Тревога заползала внутрь и нехорошо шевелилась там. – Фе-е-дь!..
Где он? К Грише, что ли, пошел?.. Она спустилась с крылечка и обошла дом. У яблони, за кустом крыжовника, увидела дым. Скорей туда. Федя, измазанный пеплом, дожигал ту книгу. Толстые корочки лениво горели синим тонким пламенем. Увидев бабушку, он встал на ноги:
– О, Господи! – простонала она, обхватив руками голову. – Как же ты можешь чужое! А спички зачем?
Федя молчал, глядя на кучу черного пепла, и виновато объяснил:
– Пусть уж лучше никому она не достанется. Я завтра сам скажу ей все. Бабушка, – взглянул он на нее, – а все-таки я, наверное, правильно сделал, что сжег? А? – он с надеждой смотрел на нее и ждал, что она скажет.
– Самовольник ты, – ответила бабушка и, вздохнув, грустно добавила. – Ну и будет же нам жарко обоим!
Внеземные…
– Ольга Матвеевна, можно к Вам? – не стучась по привычке, зашла соседка.
– А-а-а, Катю-юша, – сказала бабушка.
– Заходи, заходи. Чего у тебя хорошего? Катя, женщина лет тридцати пяти, присела на краешек лавки у окна.
– Да все одно и то же, теть Оля. Заботы да хлопоты одни. Вот собралась готовить, а соли-то и нет. Вся на квашение капусты ушла. До магазина далеко, не хочется из-за соли, а другие тоже квасят.
– Да конечно же дам, – ответила бабушка.
– Как мама-то твоя?
– Да ничего, получше стала, уже ходит. А я вот, Ольга Матвеевна, решила газетку Вам принести. – Катя зашуршала в кармане и стала разглаживать сложенную вчетверо газету. – Мы уже все перечитали. Интересно. Про НЛО там всякое, полтер… гейсты, тьфу, язык сломаешь. Но это как бы с научной точки зрения.
– Избави Бог, – перекрестилась бабушка.
– Этого мне не надо.
– Ну, я так и знала, – огорчилась Катя. – Это же, теть Оля, не про ведьм и колдунов. Это уфологические наблюдения ученых. Их высказывания.
– Не надо мне их высказываний, не уговаривай, Катенька. Пойду-ка я принесу тебе соль.
Бабушка вышла. Тут же из комнаты вышел Федя. Поздоровался.
– Здравствуй, Федя, – ответила тетя Катя. – Вырос ты как быстро-то. Скоро совсем взрослый станешь.
– Теть Катя, я слышал Вы чего-то интересное хотели бабушке рассказать, а мне можно это?
Катя покосилась в сторону, куда ушла бабушка, и значительно посмотрев на него, негромко сказала:
– Я газету ей принесла почитать, но бабушка не хочет. Тебе-то тоже не мешает знать про НЛО и пришельцев с другой планеты, про полтер… – Катя опять запнулась, – гейстов.
– А что такое полтер…рейс? – спросил Федя.
– А это ты, допустим, сидишь в комнате и вдруг, ни с того, ни с сего шкаф ваш начинает двигаться, как у Мойдодыра, или начинает одеяло летать, или кран сам откручивается и течет вода, да что угодно.
Федя раскрыл рот.
– Вот видишь, – полушепотом заговорила Катя, заметив, что он заинтересовался. – А есть еще внеземная цивилизация, откуда на всяких летающих тарелках прилетают к нам всякие зеленые человечки, они обследуют нас и даже похищают. Много случаев таких.
– Все, все, все! – послышался голос уже входящей бабушки. – Катенька, уж прости меня, но не будем больше об этом. Я верую только в Бога. Не сердись на меня. На тебе соль.
– Спасибо, – разочарованно протянула Катя. – А я-то думала – обрадую. Что тут у нас нового в деревне еще. Жаль, тетя Оля. Ну, я уж пойду. Дел много.
– Храни тебя Господь, Катюша. Не сердись.
Федя разочарованно стоял и ничего не мог понять. Что еще хотела рассказать тетя Катя и почему бабушка не стала ее слушать? Ему казалось, что мир, в котором он живет, стал еще больше и таинственней. И кто такие зеленые человечки? С другой земли, что ли? Все сильнее и сильнее разгоралось у него любопытство. Кто они такие?.. Федя терпел, стесняясь спросить бабушку, все крутился около нее в надежде, что она сама расскажет, но она разговаривала с ним о другом, как ни в чем не бывало. Наконец, не выдержав, подошел к ней и, глядя в глаза, умоляюще тихо попросил:
– Бабушка, расскажи про этих…ну, про которых тетя Катя рассказывала.
Она выпрямилась. Посмотрела на внука. Помолчала. Федя, затаив дыхание, смотрел на нее – вдруг откажет? Ему уже казалось, что если бабушка откажется, он не выдержит и заплачет от великой и несправедливой обиды.
– Ну, хорошо, Федя. Вот доделаю дела, сядем потом с тобой на крылечко, там и расскажу.
Долго ждал Федя когда, наконец, вышла на улицу бабушка. Словно испытывая его терпение, она долго внимательно глядела на небо, разглядывая плывущие по нему облака и о чем-то думая. Села на ступеньку, неторопясь разгладила складки платья. Вздохнула.
– Феденька, я как-то объясняла тебе раньше, что кроме нашего самого главного Святого Бога со множеством светлых и святых небесных Ангелов есть еще… как бы тебе объяснить – темные духи зла, наши враги. Как и у нас, на земле. Они ненавидят все доброе и хорошее. Поэтому им хочется вредить людям, особенно тем, кто слабо верит в Бога.
Федя широко раскрыл глаза:
– Они там, наверху?
– Они могут быть везде. Вот и приходят к тем, кто ими интересуется и мало ходит в церковь. Пугают людей, творят, что вздумают. Им нравится, что люди не понимают, пугаются, вот и ворочают вражьи силы шкафы и всякие пакости делают: то посуда бьется, то графин поднимается, что угодно. Мы-то их не видим, а они видят и слышат, вот и издеваются эти полтергейсты. Ну их. – Бабушка перекрестилась. – Вот люди бы пошли скорей в церковь, поговорили бы с батюшкой, причастились, комнату освятили. Эти тандалашки мигом исчезли бы. Они очень боятся Бога, креста и молитв. Люди зовут, не зная, милицию, а что милиция может? Вот поэтому, внучек, нам в эти темные таинственности опасно нос совать. Прости меня, Господи.
– Бабушка, а эти человечки-то зеленые, тетя Катя говорила? – спросил Федя.
– Эти тоже оттуда. Прилетают на НЛО – неопознанных летающих объектах. То есть у нас, допустим, самолеты, а у них – разные формы, похожие на тарелки. Что им тут надо, мы не знаем, вот ими и интересуются, как будто они с другой планеты. Хорошего они еще никому ничего не приносили. Зеленые, серые уроды вторгаются к нам, пугают. Я по радио слышала, Федя, православную передачу о двух случаях, когда летающий объект хотел приблизиться к людям, они стали молиться и он сразу же скрылся. Боятся Бога, молитв, креста.
Бабушка опять перекрестилась. Федя тоже.
– Так что давай, детка, будем держаться светлого и чистого. Подальше от этой грязи. Ты понял? И в детском саду, если и начнут говорить что-нибудь об этом, не верь, уходи.
– Хорошо, бабушка, – ответил Федя.
– Надо интересоваться, бабушка, тем, что нужно и полезно, а не тем, что интересно, зато вредно, – сделал он для себя неожиданный вывод.
– Да ты умница у меня, – улыбнулась бабушка, – ты сейчас очень правильно сказал. Мало ли чего таинственного там, в космосе. У нас своих дел хватает. Пойду-ка я, пока не забыла, побрызгаю в доме водичкой, а вечером мы с тобой, как всегда, зажжем лампадку, хорошо?
– Какая же ты у меня умная, – радостно воскликнул Федя, – все-то ты знаешь.
– Ума тут, Феденька, много не надо. А если что – все Господь дает.
Пропалывала бабушка в огороде морковку. Сидела на скамеечке, выдергивала сорняки. И все время невольно прислушивалась, поглядывала на соседний забор, откуда надрывался телевизор и слышались частые возгласы: «Ввау! Ввау!» Может, кого-то зовут? Вздохнула за свое любопытство.
Но это незнакомое слово ее еще больше разжигало и никак не давало покоя. Дополов грядочку, хотела начать другую, но все-таки не вытерпев и растирая двумя руками спину, направилась к соседке Лизе, пятидесятидвухлетней хозяйственной женщине.
А к ней на выходные приехал сын Петр с невесткой Леной и внуком Сережей.
– Здравствуй, соседушка моя! – обнялась с ней бабушка.
– Как твое здоровье? Все хлопочешь?
– Да ничего пока, Ольга Матвеевна.
– Всяко бывает. Вы-то как? – Прогнала кошку со стула. – Присядьте.
– Спасибо. Живу потихоньку. Слава Богу. Только вот, Лизонька, прости уж меня за любопытство, – она немного замялась. – Полю я свои грядки и все время от вас слышу – какого Ввау зовут, кто это?
– Петр и Лена прыснули от смеха, лукаво поглядывая друг на друга и деликатно сдерживая смешок, замолкли. Петя значительно крякнув, обьяснил: – Ввау, уважаемая Ольга Петровна, это, когда… ну, уж о-очень хочется выразить свои эмоции. Как на футболе. Или во время парадов, в Ваши годы, и в революцию еще люди кричали «ура!»
– В театре кричали «браво», не знаю, как сейчас. Давно не была, – дополнила Лиза. – Но там было уж как-то покультурней.
– Мать, то было раньше. Сейчас время другое: прогресс, наука, информация. Вы как бы уже отошли в свое время, понимаешь?
– Уж молчал бы, – махнула рукой Лиза. Эка важность – эмоции свои выплескивать. Ребенка своего лучше воспитай, как следует. Не вы, а он вас в руки свои взял.
– Слышь, Петр, вдруг сказала ему Лена. Кстати. – Она прикрыла дверь, где сидел перед телевизором десятилетний Сережа, и приглушенным голосом продолжала. – Разговаривает он, значит, по телефону с кем-то. Обхватил обеими руками трубку и громко нашептывает: «Не могу сегодня! Понимаешь? Мои два шнурка сегодня дома торчат. Не-мо-гу». Прикинь! – Лена значительно посмотрела на мужа и свекровь. – Это наш драгоценный сыночек. Я в шоке!
Тут все зашумели, заспорили, открыли двери и позвали Сережу. Бабушка извинилась и под шум незаметно вышла.
Придя в свою комнатку, помолилась перед иконой. Не торопясь, пошла допалывать свои грядки, все еще крестясь и что-то нашептывая.
А когда, нагулявшись, пришел Федя, она дала ему корзину с бельем и они пошли на речку полоскать. Склонившись с мостков, бабушка отжимала тряпки и давала Феде. Он встряхивал и аккуратно складывал белье в корзину. Солнышко, отработав за день, по-вечернему спокойно разливалось по всему горизонту. Федя любовался розово-голубым небом. Бабушка, закончив полоскать, устало выпрямилась, заправила выбившиеся волосы в косынку.
– Пойдем-ка, присядем на травку и отдохнем, – Федя устроился рядом.
– …Знаешь, внучек, – задумчиво произнесла она. – Сейчас, мне кажется, вся природа здесь разговаривает и молится Богу.
– Как это? И вода?.. – оба помолчали.
– …Вот послушай… маленькие волнышки облизывают камни, и в ответ они ла-а-асково перекатываются. Слышишь? Как будто переговариваются. И ветерок что-то шепнул осинке во-он там. Слышишь, сейчас рыбка плеснула… Может, я не так тебе объясняю. Но, когда-нибудь ты почувствуешь, что все и везде славит Бога. И так иногда, Феденька, от этого хорошо бывает!
Федя нашел камешек, плюхнул в воду. Помолчал.
– А помнишь, бабушка, еще как-то, когда мы шли за водой к колодцу, на ветке сидели две птички. Ты еще тогда сказала: Это они переговариваются: одна спрашивает другую – (чик-чирик) может улетим? Другая ей – не бойся (чик-чирик), это они за водой пришли. Наберут и уйдут. Это правда? – Бабушка обняла внука. – Да, они разговаривают. По-Божески.
– Животные и те: коровушка о чем-то спрашивает – му-у-у, кошечка, петушок с курочками. Слышал, как они иногда стрекочут? Мы еще с тобой спать будем, а с раннего утра столько щебета и пения в саду! – Она помолчала. Повернула к нему голову. – А вы в детском саду разговариваете по-Божески? Федя смущенно засмеялся:
– Не всегда, бабушка.
– А говорят там «ввау»?
Федя с удивлением посмотрел на нее, словно свалился с Луны на Землю.
– Говорят, а что? Мне это слово почему-то не нравится, но все говорят и я, а потом стараюсь не повторять. И еще говорят «круто» или «каиф». Но это не все так ребята.
– Ну, а как ты думаешь, нужны эти слова?
– Нет. Они как будто чужие. И я их вообще даже не произношу.
Бабушка расправила смявшийся передник. – Эти слова, да и другие многие, как ты правильно сказал, чужие и совершенно не нужные. И зачем их восклицать, если можно и словами договориться. Господь дал нам тонкую красивую структуру, дал нам особое назначение – сознание и душу. Жить и разговаривать поэтому мы тоже должны по-Божески. Уж выкинь, Феденька, из своей головки ненужные и чужие слова. Речь Божеская теплая, хорошая. Как разговаривали святые все, любящие Бога, люди.
Они сидели и молчали. Бабушка думала: как хорошо, что она живет в такой деревне. Внучок подрастает, будет ее помощником. И кто знает, может он и в священники пойдет? Она посмотрела на небо.
– Смотри, закат-то. Как будто из ведра по всему горизонту оранжевым золотом облили.
А Федя про себя тихонько смеялся и представлял: вот бабушка тоже бы воскликнула «ввау! во, дают! круто!» Но она была для него – самая лучшая, самая прекрасная на свете. И устыдившись своих мыслей, в благодарность, он тихонько погладил ее уставшие морщинистые руки.
Яблочко от змея
Бабушка на кухне замешивала тесто. Скрипнув дверью, в сенях показался Федя. Тихонько подошел к ней с интригующим взглядом:
– Ба-буш-ка. Я. При-был. К месс-ту. Назначени-я. Мож-но. Я. Пой-ду. Сно-ва к Гриш-ке.
Плотно сложив руки по швам, кружился вокруг нее, чеканя каждый шаг ногой, словно они были у него привинчены шурупами.
– Ты чего, Феденька, – удивилась она.
– Опять что-нибудь придумал?
– Так. Точно. Я. Робот. В ме-ня за-ло-же-на ин-фор-ма-ция. Сей-час. Я. В рас-ходе. Надо. Сно-ва. К не-му.
Бабушка вздохнула. Стряхнула с руки муку. Укоризненно посмотрела на внука и снова глубоко вздохнула:
– Может все-таки не стоит ходить?
– Бабушка, – забыв, что он робот, сказал Федя. – Знаешь, как там по телевизору показывают интересно про роботов. Они такие умные! Почти как люди. Все почти могут исполнять!
Она грустно посмотрела на него:
– Когда-то со мной был хороший, добрый, живой мальчик. Внучек мой Федя. Он мне много помогал, все любил придумывать. Мы вместе читали Евангелие, Новый Завет. А сейчас передо мной стоит какой-то робот и ждет, когда в него заложат информацию.
Федя смутился и виновато шмыгнул носом:
– Но это всего лишь игра, бабушка, – он, казалось, и непонимал, что же здесь плохого, если он все равно живой, а это игра. Но с другой стороны, чувствовал, что-то не так. А почему не так – не мог понять. Он теребил у себя пуговичку и продолжал оправдываться. – Но ведь у нас все равно нет телевизора!
– Ну, во-первых, если насчет телевизора, то он как… – бабушка задумалась. – Он, как Змей, соблазняет людей своими вкусными передачами. Да, да, именно вкусными. Стоит только включить. А передачи, они тоже, как райское яблочко. Или я уж неправильно сравниваю. Господь-то меня поймет, он все ведает. Дай-ка сяду, внучек, – сказала она на ходу к рукомойнику, – руки помою. Я тебе объясню, как умею. А может и не так сужу. Ну уж ладно, как умею. Пошли в комнату.
Сев в старенькое креслице, бабушка замолчала, собираясь с мыслями.
Федя немного удивился, что бабушка даже бросила свое дело:
– Ну, а насчет робота?..
Глаза бабушки вдруг сделались напряженными и сосредоточенными:
– Люди, Феденька, тоже вроде как заправляются различной информацией. Телевизор-то многие смотрят каждый день: кино там всякое, игры, развлечения, поучения разные, новости. Люди привыкли ко всякой информации. Не надо думать своей головой – чик – и телевизор тебе чего только не покажет – по разным каналам. Все много знают.
– Ну и хорошо, что много знают, – Федя с интересом смотрел на нее.
– Нет, внучек, – бабушка задумалась.
– Раньше люди без телевизора обходились, думали всегда своей головой. Много было и умных людей, талантливых, даже неграмотных. Господь много дает человеку. Да и люди были другими. Как будто лучше. Больше по душе смотрели. А сейчас, Феденька, люди всего лишь много знают, а передачи-то по телевизору часто лукавые бывают, а то их иногда лучше и не смотреть. Один срам. А мы все смотрим – все познаем, отгадываем кроссворды, в играх побеждаем, кто умней сравниваем и душеньки-то наши заростают… – бабушка скорбно посмотрела на внука. Голос ее как-то дрогнул, на глазах выступили слезы. Вытерев их передником, она продолжала:
– Душенька-то в нашей темнице давно хочет вырваться наружу. Плачет там горькими слезами, стенает – свободы хочет. В церковь просится, освободиться от грехов своих. А мы не слышим. Вбираем в себя эту серую массу и думаем, что становимся все умнее, и не замечаем, что понемножку становимся, как роботы. Живем не своей душой, а холодной информацией.
– Но ведь люди… – неуверенно произнес Федя, – все равно ведь не железки и не совсем роботы.
– А душу ты их видел?
– Не-ет, – удивился он.
Все мы люди думаем, что нормальны и здоровы. Но, к сожалению, от этого практического ума мы живем, как нам выгодно: не как совесть подскажет, если по-Божески, а как ты – поудобней.
Федя задумался. Для него все люди были добрыми и хорошими, как учила бабушка. А тут на тебе. Гришка про это, наверное, знать не знает – знай себе передачки разные смотрит. Они ведь недавно новый телевизор купили. Плоский какой-то.
– Бабушка, а люди-роботы это страшно?
– Страшно, внучек. – Она задумчиво погладила его по голове. – Таким людям ничто не стоит сделать что-нибудь плохое ради себя: украсть, обидеть, убить.
– И много таких людей?
– Откуда мне знать? Господь знает. Много еще здоровых нормальных людей. Они ходят в храм, снимают потихоньку свои грехи с души батюшке и стараются жить по-Божески. Только в этом наше и спасение. Хоть и трудно иногда бывает, зато спокойней. Как бы под крылышком Бога живем. Помнишь 90-й псалом «и под крылом Его надеися»?
– Как это ты так бабушка, много знаешь-то? Живем в деревне. Без телевизора, а ты… – Федя улыбнулся.
– Это Господь мне помогает. Книжечки-то почитываю иногда из свечной лавки и про этот ящик-змей начиталась. Может, что и не так сказала. Господи, прости меня, грешную, перед отроком. – Бабушка, вздохнув, перекрестилась. – Но уж Феденька, как-то не по сердцу сегодня ты роботом был. Расстроилась. Как механизм какой.
– Я не пойду сейчас к Гришке, – твердо сказал Федя. – Как ты думаешь, что лучше мне сейчас надо сделать, чтоб грехи выходили из души?
Бабушка засмеялась. Погладила его по голове:
– А кто вчера загнал кошку под ящик и забыл – гулять убежал?
– Ох, бабушка!
– Да уж ладно. Услышала мяуканье – освободила. Вот пойди, налей-ка ей молочка. И знаешь, что можно сделать? Не сходить ли тебе к тете Люсе и наносить ей дровишек в баню, она сегодня топить будет. Вот хорошо бы. А я ей сегодня пирожков к вечеру напеку.
– Согласен, – радостно подпрыгнул Федя. Ему почему-то сделалось легко и радостно.
– Я теперь буду везде искать разные добрые дела и стараться выполнять их. Правда, бабушка?
– Хорошо, – ласково улыбнулась бабушка, – только вот слушаться меня не забывай. Это тоже в Законе Божием сказано!
Она поднялась, с помощью Феди, с кресла и заспешила на кухню.
– Батюшки, тесто-то мое там от меня сбегать собралось. Ах, Господи!
Тихо на улочке. Тепло. Солнышко. Народу мало. Кто на работе, кто где. Медленно расхаживали молодые мамы с колясками, бегали, обнюхиваясь бездомные собаки. Кошки от них стремились в уверенное место – под машины. На скамейку, подложив газетки (молодежь теперь сидит на спинках скамеек), усаживались три бабушки. Одной лет шестьдесят восемь, другой примерно столько же, а старшей – семьдесят восемь. Все вроде переговорено. Но та, что помоложе-сказала:
– Чего это только мы плохое да страшное перебираем. Давайте-ка, что повеселей сегодня. И так-то жизнь такая да мы тут сидим, причесываем. Вот ты хоть, Зина, как самая старшая, начинай. Может, вспомнишь? Жизнь-то большая.
– Да что нового-то, считай всю жизнь в деревне прожила. Одна работа да забота. Никуда не ездила, кроме церкви. Да, поди и у вас тоже раньше так. Это сейчас все по-другому.
– Ну хоть уж что-нибудь?.. К родне-то своей ездила ведь?
– Ездила. Что-то им надо было. А вот как раз об этом и вспомнила, – оживилась Зинаида. – Купили они там себе билеты в театор, да что-то у них там не вышло. Один билет-то продали, а второй некому. Ну ко мне потом уж пристали, возьми уж. Да какой говорю мне театор, всю жизнь в деревне прожила, куда его мне. Не хочу. Ну они меня опять тут уговаривать, хоть раз в жизни-то. Сколько людей любят театоры. А то придется деньги на ветер выкидывать. Ну тут уж меня заело, значит, как это деньги на ветер. Согласилась. Рассказали они мне, что да как. Поехала. Нашла этот театор. Повесилась, как и все, в гардеробе ихнем. Талончик дали. Место по билету люди показали. Села. Жду. Начался спектакль. Шторы раздвинулись. Все в костюмах красивых, картины там интересные. Сначала как-то и не сообразила, о чем разговор-то идет, а потом как-будто приноровилась. А потом, ни с того, ни с сего, выходит на середину мужчина в белой рубашке и черных штанах и ва-а-жно так сказал: «Анн-траакт!» Все захлопали в ладоши. Шторы стали сами закрываться. Люди тоже стали вставать со своих мест и расходиться. Я тоже встала и пошла в гардероб. Дали мне по талончику одежду и я пошла домой. Там тоже, чуть позже приехали наши и спрашивают: «Как спектакль, понравился?»
«Да вот, – говорю, – ничего не поняла».
«Как же так, ты же до конца сидела?»
«Да. Там, когда сказали антракт, и все стали тоже расходиться».
Смеялись мы, правда, все. Ну да что делать. Мне-то и даром его не надо. Не сравнить с деревней. Тишина. Птицы вовсю кличут. А то и звон утренний. Как затянет нежный. Серебристый такой, как будто из поднебесья. Вот хорошо-то! А театоры-то эти… А! – махнула Зина рукой.
Ну вот видишь Зина, вспомнила ведь. Память-то хорошая. Старушки оживились.
– Теперь, Петровна, за тобой очередь.
– Ладно, слушайте. Только это не смешное. Но хорошее. Даже, наверное святое. В позапрошлый год был большой праздник – Крещение Господне. Ну я службу-то всю отстояла, а купаться в проруби далеко идти. Не смогла. Ну, думаю, попробую-ка я дома облиться. Праздник-то большой. А раньше-то не обливалась никогда. Думаю, надо облиться, и как-то так загорелась. А у нас холодновато было. Налила три железных таза ледяной водой, и страшно стало – как обливаться-то буду. Думаю, святая вода с этого дня, она повсюду святая.
– Да, да, – закивали старушки, – это верно. Где только есть вода, все освящено. Ну, вот, – вздохнув, продолжала Петровна.
– Разделась я до рубашки, а саму аж гусем трясет. Страшно! Сунула палец в таз. Холодная! Что делать, не знаю. Страх такой. Думаю, вот сейчас обольюсь – умру или с ума сойду. Кончится скоро моя жизнь. Вся дрожу. Прости меня, Господи, мне казалось – на казнь иду. А потом решилась. Умру – значит за Господа, а Он к себе отправит. Не долго думая, подняла я этот железный таз, да и на голову себе: «Во имя Отца!» Р-Раз! Бросила таз, скорей опять перекрестилась: «И сына!» Второй – на голову. Сама очумела от холода, уж ничего не соображаю, опять перекрестилась – в третий раз: «И Святаго Духа!» И опять, как ошалевшая. Сердце подскакивает чуть не под потолок, дышу быстро так, как запыхавшись, все внутри как будто ошарашено, не ожидало! А потом как залило теплом-то! Ох, как хорошо стало! Как счастье какое! Дрожь прошла. Как, бабоньки, хорошо-то было! Даже и не сказать! Спасибо Тебе, Господи. Она посмотрела на Него и перекрестилась.
– Ну, а что потом-то не стала обливаться? – Петровна промолчала, махнула рукой. – Ах. Не знаю. Страшно уж очень. Начинать особенно. Как работа какая. Но вам советую, попробуйте кто-нибудь. Вот узнаете.
– Конечно, – поддержали ее старушки, – не всякий решится.
Последняя из них, Любовь Ивановна, повернула голову в сторону.
– Ишь, опять собаки стаями собираются. Боюсь их. Как был такой случай…
– Ну, ты не заговаривайся, – предупредили ее старушки. – Теперь твоя очередь. Мы свой долг выполнили.
– Вы, как в советские времена: все очереди, выполнение плана, долга. А мне тоже что-то веселое не вспомнить – хоть убей. В голове винегред. Только вот недавно маленький такой случай. Глупый, наверное. Хожу я за внуком Женей в детский сад, ну, за Женей своим. Он у меня веселый, и когда мы с ним идем по дороге, он никогда спокойно не шагает. Все вприпрыжку, да как-то еще особенно. Подпрыгнет на одной ноге, другую руку вверх, на другой ноге, другую руку, то как-то так перевернется интересно и уж обе руки вверх вскидывает. И всю дорогу и так, и этак, и не устает. Это почти гимнастика у него такая. А так аппетитно смотреть на своего внучка Женьку. Попробовала я ему подражать, значит. Интересно стало, как бы это у меня получилось? Ногу свою как-то вперед, да еще противоположную руку вверх. Сердце дрогнуло. Он второй раз и бежит вперед вприпрыжку, ну прямо, как птичка. Легко так бежит, как порхает, да еще чего-то поцвинкивает. Энергию некуда девать. А я-то толстая. Тоже вторую ногу вперед, да пытаюсь на другой подпрыгнуть. А руку-то еще наверх. Там, впереди где-то, присел на корточки, чего-то ковырять стал. Я к нему, глупая, тоже таким манером подбиралась (и чего это мне в голову пришло?). Иду, подпрыгиваю то на одной ножке, запыхалась вовсю, то на другой и уж обе руки вверх. Тяжело-то так. Все внутри глухо стучит, что-то там недовольно, отдышка пошла. Потом очнулась – вдруг сзади кто смотрит – и похолодела. За мной шел молодой человек, и глядя на меня уж очень значимо, и так прокалывающее прямо улыбался. Он понял все. А меня потом жаром от стыда обдало. Вот, думаю, дура ты старая погналась за ребенком. Потом пошла нормально. Отдышалась. Старушки помолчали. Задумавшись, самая старшая, Зина сказала:
– А знаете, девчата, вот говорят сейчас все о кризисе. Все всего боятся: фирмы, партии всякие, богатые. А по мне так если живешь бедно, то все это не страшно. Ведь не призывал Господь нас к цивилизации всякой, к деньгам, к власти. Только народ простой жалко. Столько терпит. А я утром, например, сварю простой кашки, щец из кислой капусты, да много еще чего есть простого. Телевизор мне не надо. Новости всякие, сплетни – тоже страшно. И знаете, мне кажется, живу я как будто на тихом дне. Никому не нужна, кроме Господа, никто меня не трогает. Как будто Господь Сам уберегает меня, убогую, от грязной поверхности на это дно. И как-то покойно. А поболеть где-то даже и полезно. Церковь не забывать только. А там как Господь Сам рассудит. Мы свое отжили.
– А все-таки хочется хоть рыбки-то хорошей поесть. Путассу надоело.
– А карбонатиков не хочешь? Или ложкой икру красную. Или куда в лазурные берега…
– Да ну вас.
Опять помолчали.
– Ой, бабочки, вспомнила я, – сказала Петровна. – Нас однажды из церкви стал подвозить на своей богатой машине один молодой мужчина. Андреем, кажется, зовут. Крепкий такой, веселый. Мы прямо таяли от его галантности. Он подолгу в храме стоит. Много старушек у его машины собирается. Всем-то подможет залезть, нас еще много как-то умещалось. Потом каждой опять подможет вылезти. А потом как-то посадил новую старушку. Она едва ходит. Бедненько так одета. Ее еще никто не знает. Довез он ее, значит, помог вылезти. Эта старушка спрашивает: «А сколько надо заплатить?»
Андрей ей: «Да не надо денег. Я так.»
Она долго-долго так стояла, не понимала. Мы ждем, думаем, что она чего-то сказать хочет. Она вдруг низко-низко поклонилась ему и заплакала. Рукавом глаза вытирала.
– А кто она? Может чем помочь? Узнай.
Да говорю ж, новенькая. Попробую. Сразу-то боюсь. Помолчали, повздыхали.
– Цветы-то поливать скоро будем. Много их везде поливать-то.
– Подождем. Я землю трогала, влажная. Прополоть бы надо.
А потом поредела скамеечка. Уходили бабушки поочередно, забирая свои газетки. Через некоторое время пришли из школы старшие ребята с девчатами и, словно воробьи, облепили скамейку. Закуривали и бросали пустые пачки мимо стоящей рядом урны.
Недалеко от деревянного дома стояла сосна. Под ее узловатыми корнями кто-то вырыл большое углубление и там давно жила бездомная собака со щенятами. Собака вылезла на солнышко и сидела, наблюдая за происходящим. Двое детей, лет четырех и пяти, усиленно заставляли кормиться из блюдечка щенят. Те, мягко прыгая друг на друга, играли в нападалки. Третьего малыша, своего братика полутора лет, посадили на корень и велели сидеть, не баловаться.
Девочка медленно, педантично выговаривала щенкам:
– Ну что вы за дети такие! Кто же с ногами залезает на блюдечко? Хм. Вот я заберу его – будете так баловаться.
Мальчик чуть постарше предложил:
– А я пойду за травой. Им постелить надо.
Пошли за травой. Девочка на ходу задумалась.
– Нарву им цветочков.
– Не нужны им цветочки! Им травку постелить надо!
– Нет нужны! Они будут нюхать их. Это для здоровья полезно.
Горячо обсуждая и размахивая руками, они деловито отправились на луг, оставив сидеть своего маленького братика. Поняв, что остался один, он хотел подняться с корней, но завалился на спину, вверх тормашками, и, не двигаясь, наверное соображал, что ему надо делать – плакать или в таком положении ждать.
Игривым щенкам показалось внутри мало места, один из них вылез и прыгнул на валявшегося малыша, наверное не понимая, что это такое, другой тут же его нагнал и между ними началась возня. Они бегали по нему, лизали в лицо. Тот, ничего не понимая, попытался перевернуться на бок, но щенята играли на нем, не доставляя малышу никаких неудобств. А он пыхтел, ворочался, думал, как бы ему подняться.
Собака сидела, спокойно наблюдала со стороны за детской возней и, наверное, тоже думала. По всей морде чувствовалось, что она уж очень всем довольна. Все хорошо. Все благополучно. Вот, мои детки играют с человеческим дитем. Он еще беспомощный. Только мои, пожалуй, поумней его. И, наверное, даже размышляла: почему у людей всесильных такие беспомощные дети. Впрочем, что-то они уж очень заигрались на нем. Она мягко тяфкнула и, не торопясь, поплелась в нору. Щенята, забыв об игре, бросились за ней.
А пока маленький братик кувыркался на четвереньках, пытаясь подняться на ноги, пришли дети, принесли трав и цветов, стряхнули с малыша листья и снова посадили его на корень, велели сидеть смирно и не баловаться.
Весна. Вчера прошел дождь, а сегодня с утра уже солнышко. Я спускалась потихоньку, по глинистой тропинке парка, к трамваю. Деревья в свежей листве дышали тонким Божественным ароматом. Каждый раз проходила мимо наваленной груды железа, бывшей когда-то времянкой с тремя маленькими грядками. Говорили, когда-то раньше тут жил одинокий мужчина. Он выполнял какую-то хозяйственную службу.
А теперь, как невидимый крест, торчала эта, никому не нужная, груда развалин, как затонувший корабль в буйной заросли крапивы и мусора. Но.
Где-то там свистнул соловей. И замолчал. Я остановилась. Ни кустов, ни деревьев там не было, кроме одного чахленького кустика, продиравшегося из ращелин к свету, к небу. Именно оттуда доносилось еще неразборчивое клокотание, наверное, прочищал горлышко.
– Цвинь-цвинь, клекк!
Как живой дух – ласкающее веянее воздуха. Пропорхала мимо ярко-желтая бабочка, качалось на тонких ножках море белых ветрениц. И вдруг в природе как будто все замерло в ожидании чего-то необычайного.
И действительно. Скоро опять оттуда послышалось легкое посвистывание и нежно-торопливое клокотание необычных трелей, и после небольшой паузы разлилась песенка с благодатным небесным призывом «Аллилуйя!». Солнцем сверкнули его неземные переливы, пронизывая все вокруг. Не из глубины парка, средь зеленого торжества, а оттуда, из небольшого чахлого кустика, посреди той железной развалины. Именно оттуда доносилось неземное для нашего привычного слуха пение. Ненужный хлам… и золотые чарующе-переливающие трели. Может для кого-то? Может, он, как посланец из той неизвестной для нас неземной жизни, выполнял волю Божью, подавал свой знак? А мы, в суете своей, еще не можем понять… Или сравнивал он жизнь нашу и неземное, необычное…
Я боялась, что птичка упорхнет скоро, но она не торопилась:
– Фььюфф, клекк! Чуф-чуф, цвинь, – и вновь заливался и подкатывал волной под самое сердце. Целебным бальзамом медленно разливалось и освещалось в моей грешной душе, побуждая ее просыпаться, и уже не понимала, что там происходит. А он пел:
– Люди, дорогие! Оторвитесь от вашей покареженной жизни, ведь есть там, на небесах, наш Господь! Как много Он подарит вам! Там радость, покой, свет. Ну, поверьте же мне, люди!
А, может, пел он и о другом и незримо виделось: там, высоко, в синей-синей живой глубине неба, расправив свои крылышки, купалась птичка, изливая райское благодарение Богу. Аллилуйя!
И, казалось, что-то смутилось внутри, то ли радоваться разбухшим светлым мыслям, находящимся еще в беспорядке, или плакать от прикосновения грязного с чистым, когда острый солнечный луч касается темного и больного внутри.
«Чух-чух-чух – вторил паровозик…»
– Чух-чух-чух, – вторит паровозик. – Чух-чух.
Спите ночью люди спокойно, довезу вас до места. И мы потихоньку засыпаем под его мерные уговоры в полной уверенности, что он непременно довезет до наших остановок. А везет меня дизель-паровозик до Вологды. Уже скоро, ехать где-то часа полтора.
Совсем, почти невидимо. Но если всмотреться…
Между мелькавшими деревьями едва заметен радужный круг с цветным ядрышком – завихрением внутри. Вокруг него повторялся радужный круг, радиусом побольше с такой же расцветкой. Было где-то полвосьмого утра, почти все спали. Хотя, если не вглядываться, то и не видно. А может, все-таки показалось? Вот самый маленький круг и смутные, но вполне различимые, незаметно переходящие очертания оттенков: вот синий переходит в зеленый, желтый, розовый, сиреневый… от пролетевших назад перелесков на весь свободный небосклон, вдруг неожиданно открылось множество разных колец в правильном интервале каждый. Когда шли бесконечные поля и совсем уж огромный, одиннадцатый круг занимал почти все небо. Впечатление, что все небо как будто стесняясь слабо сияет почти невидимым радужным светом.
И почти незримая удивительная красота небосвода мягко вошла в мою душу тихой благодарностью… долго еще украшала радуга обширные Вологодские поля, собранную кучу домишек, кусты, грустные российские леса и всю нашу неприхотливую бедную русскую душу, торопливо убегавшую за окошком в прошлое.
«Возвращаясь из Горицкого монастыря…»
Возвращалась я из Горицкого монастыря через Череповец, а поезд до Санкт-Петербурга должен быть еще не скоро. Зашла в небольшой садик, где потише, прочла Акафист Смоленской Божией Матери, направилась в часовенку Николая Чудотворца, около вокзала. Поставила свечу, помолилась, постояла и хотела уже уходить, как вдруг вспомнила, что давно везде ищу карманный Псалтирь на церковнославянском. Может здесь? Но свечница грустно покачала головой:
– Не было такого. – Я уже собралась переступить порог, но сзади услышала:
– Постойте.
Присев на корточки, женщина долго ворошила какую-то старую литературу и, наконец, подала мне маленькую книжицу в кожаном переплете:
– Вот, возьмите. Его оставил молодой человек, Дмитрий, и просил помолиться за него.
– Я не могла найти слов благодарности, наверное, Боженьке моей и преподобному святому Николаю. И тебя, молодой человек Дмитрий – спаси, Господи.
«Пультик» – нечаянная радость
Ходил по вагонам метро мальчик лет шести. Грязный, в рваненьком. На шее картонка:
– Помогите бедному ребенку Христа Бога ради.
Кто-то бросал ему. Но как будто не этим был ребенок озабочен. Он поспешно дошел до конца вагона, остановившись как раз около меня и уткнувшись в детский красный пультик, что-то помечал.
– Это что, сейчас подарили?
– Угу, – и подойдя вплотную ко мне продолжал:
– Смотри, нажимаю на эту кнопку, слышишь? А здесь нажимаю – должен быть голос… вот слушай!
– Ух, ты! Здорово!
Вблизи надпись на картонке коробила совесть.
– Яблочка хочешь?
– И денежку возьми.
Взял, даже не посмотрев сколько. Смачно захрустел яблочком и опять грязным пальчиком в пульт:
– Слушай, а здесь вот… – но вовремя опомнившись, дернулся в толпу выходивших людей.
Вижу через стекло электрички – опять бредет с большой картонкой на груди. Но чувствую: не видит детское сердце тяготы своей, горит душа огоньком нечаянной радости, а остальное в жизни – мелочи.
А хорошо мыть чугуны на речке! Наскребла Настя из-под камешков песочку, пошаркала по краям. Отдраив и помыв большой закопченный чугун, она встала, окинула взглядом широкую реку. И залило внутри радостью: спокойная глубоководная Шексна ласково булькала по перекатам, неторопливо облизывала пальцы ног. Лениво тянутся длинные самоходные баржи, груженые лесом и гравием.
Там, на барже, даже как будто заметила одиноко стоящего человека, облокотившегося на перила и тоже, казалось, разглядывающего проплывавшую мимо его церквушку. Синее небо и такая же река… И все бы слилось, если бы за ними, на том берегу, не тянулась длинная полоса зеленой тверди, с рассыпавшимися на ней русскими домишками. Солнце ласково, но уже предзакатно, окрасило голубую благодать своим отражением. Звонили ко всенощной…
Быстренько окунув и сполоснув чугунок, Настя заторопилась: отнести его в трапезную, переодеться.
Нитью петляла узкая тропинка к храму. Настя торопилась, поправляя косынку, но уже подойдя к лесенке храма, неожиданно остановилась. Свадьба. Вокруг кучки народу, машины, а на самой лестнице, куда ей надо подняться, только чуть выше – стояли невеста с женихом. Склонив головы друг к другу, замерли в ожидании фотографа. Но что-то не выходило.
– Леша, – советовали ему снизу, – руку-то не убирай, да не так, чуть повыше. – И они вновь замирали, опять склонившись друг к другу.
В храм не пройти. И Настя опустила голову в смущении, украдкой взглянула на невесту, когда, наконец, щелкнут.
Невеста была чудо как хороша! Все в ней было тонко, изящно, все тщательно продумано: венок из качающихся на тонких ножках бутончиков и рассыпанных лепестков цветов покрывал красиво убранную голову, от платья волнами разлилась белизна, маленькие чудные бутончики, переходящие в нежнейшие розочки, осыпанные по краям мелким жемчугом. Многочисленные воланы мерцающим блеском струились в длинном шлейфе, конец которого послушно держал мальчик лет четырех. Запомнились их лица. Его и ее. Замерли на миг в своей любви. Утонули в ней. Его лицо собранно, сдержанно. В ее взгляде какая-то детская смелость, надежда на своего супруга. Настя еще толком не смогла понять, как этот миг был уже снят на фото. Все засуетились, деловито заговорили, засмеялись. Зафыркали машины, отъехали.
Тихо помолившись, опустив голову, она, наконец, стала подниматься наверх. В церкви уже шла всенощная. Прихожан было мало. Батюшка уходил в алтарь, размахивая кадилом. Запах ладана, мирное потрескивание свечей мягко уводило Настю в привычную жизнь.
…Но тот взгляд на лестнице… Невеста. В белом платье. Сама красивая, сильная, загадочная… Он любит ее. Это было видно, как нежно и робко брал ее за руку, терялся.
Волна стыда вдруг окатила ее – сколько народу там стояло и она там, Настя, в центре, почти рядом с ними, в невзрачной длинной юбке, допотопной линялой кофте, черном платке с торчащими прядями волос. Она посмотрела на свои красные замученные пальцы с длинным штрихом сажи, а у невесты сетчатые перчатки до локтей, на которых покоились гордые каллы, и ей стало жаль себя: заморенную, молодую, но уставшую от недосыпаний и трудов. Настя рассеянно молилась, клала пустые поклоны, начиная испытывать чувство какой-то отдаленной несправедливости, которая стала приближаться все быстрей и уже начинала понемногу ее возмущать. Подумалось – зачем уехала от матери? Зачем подвиги не по силам? Она еще молода, такая же, как и та невеста. И тоже бы как у них… Не пострижена ведь, паломница, приехавшая сюда в отпуск, ненадолго. Спасаются, ведь и в миру. Жить, как люди. Молиться, любить…
Настя крестилась и чувствовала: вытекает что-то из ее души и может навсегда потеряться. Уходит накопленное с трудом. На мгновение ей показалось, что вся ее жизнь – эти поездки, послушания – все это большая, как будто необходимая, игра и когда с годами это потихоньку уйдет, все встанет на свои места.
Ей стало жарко. Распятый на кресте Господь мученически глядел на нее. Святой угодник Николай ожег пронзительным взглядом. Что-то внутри остановилось, замерло. Запуталось…
В решетчатых окошках дрожал лист клена, потом, наконец, глянуло ярко – оранжевое светило. Оно мягко залило беленую печь, кочергу, осветив столик с просфорами и девушку. Настя еще не могла разобраться в хаосе мыслей, но постепенно начала успокаиваться и все уже становилось на свои места. Посмотрела на Господа. Сколько Ему пришлось… Чистый, безгрешный… А она-то? Позавидовала. Откуда-то из глубины души подползла благодатная слеза. Только с Господом. Он Жених. Он-то не оставит. Мысли изменялись, оживленно опережая одна другую. Муж дает жене свои блага, зависящие от Бога. Они могут рассыпаться от всяких причин, а Господь дает духовные блага, сладостные и даже упавших от грехов своих не бросит, подберет. В любви даст чистой силы. Он все может дать. Чистое, хорошее.
Волна нежности неторопливо возвращалась, подтекала, обволакивала смущение ее души. Взглянула на иконы: серьезные лики святых устало и ласково смотрели на нее. Под ними – живым глазком мерцающие лампадки. В миру все меняется. Свадьба блеснет одним днем и утонет в буднях. Здесь – все настоящее, живое. Пусть и незримое. Только добраться трудно. Зато…
И будто в согласии с ее душой, в глубине свода церковного купола высоко взлетели и долго парили ангелами два чистых женских сопрано:
– Света твоего зарями просвети Дево, мрак неведения отгоняющи!
Слезы светлые, крупными горошинами покатились по лицу. Стало вдруг спокойно. Хорошо. Легко.
– Прости меня, Господи!
Сделав широкое крестное знамение, она низко поклонилась, вытерла просветлевшее лицо и улыбнулась.
Настя и сама не знала, почему ей захотелось непременно написать письмо Богу. Выговориться. Каждый раз ей казалось – плохо она каялась батюшке. Что-то всегда было не так. Вот и после сегодняшней исповеди она была не спокойна.
Затемно она возвращалась со всенощной по едва освещаемой редкими фонарями дороге. Казалось, все утонуло в ночи, замерло. Только распластанные по дороге тени ветвей неугомонно подрагивали. Настя задумалась.
Страшно и дерзновенно показалось ей обращаться к Самому Господу. А с другой стороны, чувствовала – Он сейчас с ней, тут, рядом. Здесь. И как будто разрешает ей, понимает. Ждет. Ведь завтра причащение.
Возвратившись домой, первым делом она освободила стол, достала из пачки чистый лист бумаги. Собралась с мыслями. Задумалась. С благоговением, осторожно, аккуратно вывела:
– Господи, я пишу тебе…
Множество мыслей, давно скопившихся, с нетерпением ждало своего выхода. Разом нахлынуло и замерло:
– Грехов-то у меня, Господи!..
Защипало в носу, из самой глубины души потянулась первая длинная слеза и застряла на реснице.
– Я знаю, Господи мой… Ты со мной сейчас, слышишь меня, понимаешь.
Ей даже показалось, что в глубокой тишине существует незримая Божественная сила. Господь тут, рядом с ней. Ждет. Мысли рвались наружу. Все было необходимо и важно.
– Господи, вот смотри.
Настя задумалась, как правильно написать.
– Прочитала я Иоанна Златоуста о посте. Как точно, глубоко и сильно у него сказано! До слез. Каждая строчка впивается в разум. И после всего этого я показалась себе такой…
Настя опять задумалась, как бы обозвать себя похуже, но не находила подходящих слов.
– Ты поймешь меня, Господи, какая же я… И такая открылась мне решимость! Все, думаю, буду поститься, терпеть, чтобы к Тебе поближе… Долгое время витала в небесах справедливости и даже удивлялась – раньше-то как жила? Радость духа, просветление. Ложка в рот не лезла. Думала: наконец-то с чревоугодием сдвинулось.
Настя оторвалась от письма. Машинально посмотрела в окно. Было уже совсем темно. Тихо. Прочитала написанное и заторопилась дальше.
– Но, наверное, сатана решил меня переиграть по-своему. Через два дня, когда я осталась одна с ребенком в квартире новых русских…Гос-с-поди, мой! Вот где поджидало-то меня искушение. Даже показалось, как будто раздвинулся занавес, за которым таился мой грех. А мне, Господи, так тяжело было устоять… Нет, чтобы помолиться, ребенком заняться. Одна лишь только мысль – там! В холодильнике. Все в голове запуталось, смешалось.
Настя чувствовала, как ее начинало обволакивать стыдом. Опустила голову. Стыдно писать.
– А там… чего только там нет: янтарный виноград, конфеты, ценою с полмесячную зарплату. Икорка лососевая, остатки изумительных пирожных, оставленных специально для меня, какие-то моллюски морские, нежнейшие персики – вот-вот потекут, шоколад, коктейли…
Все это на картинках только видела.
Ум мой затуманился, Господи. Все хорошее, правильное куда-то разбежалось. Забыв все от алчности, пробую – все по верхам, Господи, где кусну, где отщипну. Какая-то злая неудовлетворенность. Как животное. Хуже. Все ем, ем… И чувствую, сатана где-то рядом. Наблюдает, ухмыляется. Насте в какой-то миг показалось – раскрылась у нее внутри душа. В коррозии грехов, которыми она грешила после исповеди. Они как будто жили там, неопознанные, скрытые, отдавали смрадом. А грех чревоугодия тяжелым камнем придавливал душу с одной стороны, не давая ей свободы. Жаром и стыдом полыхнуло у нее внутри:
– Как же Ты терпишь меня, Господи!
Слезы будто того и ждали, торопливо покатились по щекам на стол, на письмо. Спазмы давили горло.
– Прости меня, дрянную… помоги мне, не получается… Уже не сдерживаясь, она плакала, то и дело шмыгая носом, вытирала рукавом глаза. А слезы все текли.
– Прости меня, Господи…
Все накопившееся внутри уже прорвалось наружу. Остановилось. Стало чуть легче.
– Солнышко мое светлое, Господи! Оглянись на меня, прими меня, глупую. Помоги, никак без Тебя…
Дописав до конца, вволю наплакавшись, Настя совсем уж успокоилась, еще раз вытерев мокрое лицо. Неторопливо, аккуратно сложила письмо. Положила в конверт, где хранились такие же. Стало как будто легче и она даже улыбнулась. Прошла гроза.
– Я люблю Тебя, Господи. – Машинально перекрестилась она. – Я люблю Тебя и буду исправляться – прости меня. Прости.
Мне кажется, нет такого человека, у которого в жизни не остались бы в памяти светлые случаи, когда Господь дарил ему маленькое чудо.
И порой так неожиданно, когда вовсе и не ждешь, когда внутрь твоей души заглядывает светлая маленькая нежность, производя что-нибудь необычное. И как бы ты не чувствовал себя скверным человеком – войдет тихонько живая светлая радость – с тобою Сам Господь. Как-то утром, развернув свой складень иконочек, я привычно стояла на утренней молитве и когда заканчивала, вдруг показалось на маленькой иконочке Святой Троицы, во весь ее размер, за какие-то доли секунд, желтое солнышко с очень густыми лучами. А половина солнышка с такими же лучами одновременно появилась на иконочке Казанской Божией Матери. И как будто бы в самую душу запало крепкое краткое вразумление: вот у тебя в сердце должен быть единый Бог. Единая Святая Троица. И Пресвятая Мария. Все.
И хотя прошло уже достаточно времени с того краткого мгновения, зрительно в памяти я вижу то солнышко с очень густыми лучами. Слава Тебе, Боже мой. Прости меня, грешную.
Послушание
Не спалось. Назойлива одна и та же мысль: завтра опять на кухню. Все лето у горячей плиты, с раннего утра до поздна, в промежутках успеть одной вымыть посуду. Вначале ей это нравилось – тарелки, вилки, ложки, все мыльное летит в мойку. Все быстро. И вот стоят уже на широченном железном подносе горки чашек, нахлобученных одна на другую. Звякают на свои места ложки, вилки, громоздкие кастрюли нахально теснят на полке пищевые котлы. Порядок. Ольга любила все делать быстро и даже была довольна своим послушанием. Но за весь жаркий июль стала уставать. Понимала, что это послушание, зная, что Господь каждому дает свое. Видит ее душу. И пусть уж ей скоро за двадцать, все-таки тяжковато каждый день стоять у раскаленной плиты, отмахиваясь от назойливых мух, заглядывать с головой в большую старинную духовку. Печь представлялась даже в чем-то властной над ней, зависимой, кормящей всех и занимающей чуть ли не полкомнаты в полуподвале с низкими подслеповатыми окошками, закрытыми частой решеткой.
А как бы хотелось пойти хоть на короткое время к тенистой заводи, над которой развалилась ветвь раскидистой ивы – единственный укромный уголок, где можно сидеть (как Аленушка, обняв колени) и с теплой грустью смотреть на тихую обласканную гладь с плавающим одиноким листом, и думать…
…Или, например, вчера: после сильного ливня, в дальних уголках ограды монастыря, где кончаются все дорожки, пошлепала бы босиком по теплым, с пузырьками, лужам, нащупывая, где поглубже, как любила ходить дома, в детстве, и чувствовать теплую благодать земли, ощущая в себе детскую свежесть и благодарность Богу. Но эта плита… Было еще без десяти. Рановато. Может матушка Варвара пошлет другого на послушание. Скажет:
– Сегодня тебе, Ольга, на огород.
Вот там-то благодать – ветерок, птички, стрекозки. Все летает и радуется. А тут у печи…
Или хоть на сенокос: тут только шевелись да собирай граблями в охапку душистое свежее сено, глядишь – уже копна. Ветерок-то гуляет, весело, скорей-скорей, а вдруг дождь? В деревне выросла – знает. А там уже и высокую скирду граблями с бочков разравнивать…
Как-то незаметно зароились мысли. Одна сменялась противоположной и обе как будто правильные. Но так не могло быть. Потом заметила: рождались плоды, но быстро портились, загнивали и рождался новый плод, как будто бы хороший, но она чувствовала червоточинку, как бы какую-то незаслуженную обиду, которая упорно пробивалась наружу, желая казаться правильной, но незаметно переходила в зависть. Казалось, внутри шевелилось и возмущалось сознание и твердило ей: несправедливость есть везде. Может матушка в суете дел упустила тебя. Напомни ей. Ничего страшного нет. Ты же еще не послушница. Время идет, скоро уже осень и уж нигде не будут порхать в саду бабочки. Все у жаркой плиты. Разум везде нужен. Ольга задумалась: может матушка Варвара и впрямь забыла – ведь часто меняются послушницы в монастыре – везде и все надо уметь делать, не только на кухне. Ольга приготовилась собраться с мыслями, считая их разумными, но ее отвергла другая мысль: опомнись, Бог смотрит на тебя, ждет и оценит по твоим поступкам. Не искушайся. Это было тоже верно. Терпеть…
Было еще рано. Ольга встала уставшая, ощущая в душе что-то наподобие кризиса. Как хлеб, разрезанный на две равные части. С любой стороны все верно. Ольга зевнула. Посмотрела в окошко. Между домом и старым коровником виднелся залив. Ласточки уже деловито мешались перед окном. Что им надо в такую рань? Солнце драгоценным алмазом простреливало ажурную сень листвы, уже давно забывшую вчерашнюю грозу. И вдруг почему-то вспомнился, недавно сломанный грозой, большой сук с еще зеленоватыми яблочками. Листья еще не успели завянуть, спуская свои слезинки после вчерашнего дождя и, казалось, радостно стремились к солнцу и свету не думая сохнуть, как будто бы ничего и не было. Только красивые головки созревших яблок послушно лежали меж завядшей трепещущей листвы, предчувствуя свою недалекую кончину, ожидая Божие расположение.
Ольга еще не понимала, но что-то уж смутно ей подсказывало. У нее сейчас тоже непогода. Нудная зарождающаяся усталость. Давила ломающая безысходность. Не так, как у той яблоньки. Та трепещет и живет, не думая о последних деньках, хотя Господь и отмерил ей свою печать смерти. И как будто подтолкнуло. Устала, но продолжай. Это послушание. Устал – не убежишь от этого. Жизнь главней. Значит – тянись, живи. А Господь еще посмотрит, как ты. Вот и вся наука. Смирись и уповай на Бога. А там – что будет. Пробежала вереница сомнений и остановилась. Все. Пора на кухню.
…А через семь дней Ольгу перевели в просфорную, вместо занемогшей послушницы, а оттуда – на месяц убирать сено.
Все уже было готово к отъезду. Водитель стоял у машины, дожидаясь пока, наконец, не заложили в кузов сложенные одно в другое, грохочущие ведра. Закрыл кузов.
– Ну что, садимся? – спросила мать Капитолина, оглядывая всех.
Одетые, как и подобает, для работ на подворье, в резиновых сапогах и готовые ехать, мы оглядели друг друга.
– Вроде все. Нет, Лариса еще не пришла.
– А она-то знает? Ну-ка, быстренько кто-нибудь, – мать Капитолина обернулась ко мне, – давай, Наталья, одна нога там, другая здесь…Скажи, уже садимся. Шофер ждет.
Я паломница.
Матушка благословила нас ехать на подворье, белить коровник.
На улице земля давно покрылась зеленым пушком, весело, суетливо чирикали воробушки и коровкам пора переходить на свои дачные участки. Бегом заторопилась в кельи, где жила часть послушников и паломников. Келья, где жила Лариса, последняя. Миг – и я уже у входных дверей, в коридоре. Он длинный и узкий. По бокам – отдыхавшие зимой печки с оставшимися дровинами, сложенная аккуратно, по стеночкам, разная обувь. Торопливо затопала по скрипящим затертым крашеным доскам, быстро догнала неторопливо идущую впереди меня монахиню. Тонко волновался из стороны в сторону черный шлейф от ее клобука, черная мантия приглушенно шуршала, обметая полы, обувь по сторонам. Она шла, не оборачиваясь, слыша за собой явное нетерпеливое топанье, которым я стремилась показать, что очень спешу, но все же продолжала медленно шествовать, как будто идет только она одна.
– Пропустила б, – думаю. – Мне же срочно. Ларису надо… Если монахиня не свернет куда-нибудь, что ж делать? Попросить? Вроде здесь не принято. А как тогда? Она ведь не знает, что люди ждут.
Монахиня шла очень неторопливо, даже с еще большим спокойствием, сосредоточившись, по-видимому, на своем. А может, специально? Или молилась?..
Я не видела ее лица даже в профиль. Как обойти ее? Там уже, наверное, ждут и волнуются, что нет теперь двоих. А вдруг и Ларисы нет в келье. За это время мы бы с ней уже выходили на улицу, а тут еще идти да идти до конца длинного коридора и когда все-таки она свернет? Господи, почему так! Она же ведь знает, что я иду за ней. Нога в ногу. Ну, скорей же, скорей!.. Где ж ее келья? В нетерпении даже стала шмыгать носом, тяжко вздыхать. Но обойти ее никак. Бочком – глуповато. Или такая старая, что медлит. Может, воспитывает?..
Глядя на ее спину, я как будто почувствовала, что она тоже думает:
– Как бы то ни было, – говорила ее спина, – но потерпеть ей полезно.
По неприличному топанию и тяжким вздохам она, наверное, догадалась, что это не послушница – те уже знают порядки – эта новая. Пусть поучится терпеть. Смирение еще никому не вредило и ничего плохого из этого не произойдет. Спокойней. Иди за мной.
Так решив, я потихоньку стала успокаиваться. Что делать? Кто-то хлопал входными дверями сзади, поскрипывали половицы и опять тишина. А я все плелась. Наверное, так и надо Богу. Тихо тянулась за ней неторопливым шагом, соглашаясь и с собой, что мне это полезнее, чем нестись по коридору. Может, эти считанные минуты Господь дал мне для вразумления… Отходили навязчивые мысли. Значит, так надо. Ничего не случится.
И только я успокоилась, как из последней кельи выходит Лариса и закрывает ее на ключ. Значит, знала.
Но я как бы и не очень обрадовалась. Как будто перегорело. Что-то свершилось для меня необходимое, полезный урок, пусть не по моей воле. Монахиня, встретившись с нею, вежливо посторонилась едва заметным поклоном и пошла дальше. Слава Тебе, Господи, за все.
Про курочек
Отец Макарий как-то благословил временно курочек кормить. Вроде как на послушание. Пошли мы знакомиться. Отец Макарий показал курятник. Он чем-то напоминал большое футбольное поле, огороженное высокой железной сеткой. Может, здесь когда-то гоняли мяч, а теперь бегают куры. Стайками дернутся куда-то и замрут. Постоят, расходятся. Все почему-то рыжие – голов этак двести. Нигде не имела дела с курами. Страшновато. У большинства из них плешивые горлышки, у других – спинки. Может, каких витаминов им… Добрались до небольшого загончика на столбах, засыпанного опилками. Круглые плетеные корзинки и ящики с сеном, где, по идее, должны нестись яйца. Куры сначала встрепенулись, но увидев, что с нас взять нечего, стали ковырять задними костяшками опилки и что-то там клевать. Те, которые на яйцах по заданию, тоскливо нахохлились. На жердочке сидела пара, остренько поглядывая на нас, готовая тотчас вспорхнуть.
Вылезли из курятника. Отряхнувшись, отец Макарий повел меня на другое поселение, огороженное той же сеткой, но маленькое. Здесь неторопливо расхаживали четыре черненькие курочки, блестящие, с яркой рыжей пестринкой, и петушок. У последнего гребень мягкий, мясистый, то и дело валился в разные стороны. Они тоже опасливо поглядывали на нас, но продолжали рыться в мучнистой шелухе сена. Заглянули в курятник. Отец Макарий пояснил, что эти куры несутся нерегулярно, отчего – неизвестно. Словом, все показал, разъяснил. С завтрашнего дня я на послушании.
С утра уже вовсю радовало солнышко. Всякая тварь при деле: куда-то уж несется стрекоза, делают круги бабочки, шмель вовсю шебуршит в недрах ароматного шиповника, а жирный червяк, ловко пристроившись в лопухе капусты, вовсю его уплетает. Кур бы сюда. Сделав по норме кучу драгоценных кормов с добавлением репы, свеклы, моркови и прочей растительной дребедени, нагруженная большим широким тазом и с зажатыми в двух локтях корзинами для собирания яиц, направляюсь к калитке.
Но куры, уловив каким-то неизвестным телетайпным способом, уж давно вычислили мое появление. Огромная стая кур, с поднятыми вверх головками, насмерть стояла вплотную у калитки, которую я должна была открыть. Остальная команда, до которых еще «не дошел слух», кособоко подскакивая уже неслась, размахивая крыльями и крича на все футбольное поле (Ну, правда!): «Родная наша пришла! Корм несет!» И у калитки те, которые насмерть, тоже подтверждают: «Несет! Несет! Сами видим! Дожидались!»
Всполошился весь куриный народ – несутся на всех скоростях, подлетают сверху. От дикого кудахтанья и криков и я заразилась:
– Вы что не ели никогда, – кричу, – что за люди! Всем достанется! Да… дайте калитку-то хоть…. О, Господи! – С трудом закрыв калитку, усиленно пробираюсь со своим тазом к месту кормежки. Но меня как будто уже не было. Были голодная орава и корм. Прыгают на таз. Облепили его – не удержать. Бросила на землю.
– А ну, кышь отсюда! – Размахиваю руками, ногами. Никак. Машут крыльями, взлетают на плечи, на голову, а с них – в гущу таза. Ходят друг по друг у.
– А ну-у-у! – Теряю всякое терпенье. – Таз-то донести!
А навстречу еще несется, летит, торопится остальной рыжий народ с ободранными грудками, шеями. Вертолетом машут крыльями, точно прицеливаясь к еде. «Да-ют, да-ю-ют!» – кричал всполошенный народ. «Налетай, братцы!» Ну, прямо как в прежние времена у нас, в России, когда что-то выбрасывали в магазинах.
Ставлю, где придется. Часть кормов разбрасываю по сторонам вместе с курами. Крики, перья. Всклоченные, с дикими глазами, отбирали у других, яростно работая клювами, лапами.
Ф-фу. Вроде разобралась. Прихватив корзиночки пошла в загончик за яйцами, но не увидела ни одной особи – от огромной массы кур, только в одном ящике сиротливо лежали два яичка. Не донеслись? Никого нет. Все ушли на «фронт». Постепенно всеобщий шум становился равномерней. Наевшиеся, отходили в сторону, напивались водичкой, задирая ободранные шейки вверх, (мне казалось, даже видела, как по ним внутри текла целительная водичка), другие тюркали клочки зелени, вытирали клювики. Пошла потом к элитным курочкам. Эти не летели, как те, сумасшедшие. Эти господа как будто и не взглянули, когда им было насыпано в кормушку. Только чуть насторожились: одна из них как-то нехотя глянула, говоря: «А-а-а, это ты пришла!» Рядом красивый петушок поклевывал что-то, изредка косясь в мою сторону: «Ну, давай-давай». Ты сама по себе, мы сами по себе. Заглянула в клеточку. Из трех гнезд – одно яйцо. Не густо. Сутки работают, трое дома. Но стоило закрыть за ними калитку, элитный петушок тут же застрекотал: «Кушать, кушать подано – все сюда!» А те и сами знают, подбежали клюют скорей. Ни споров тебе ни криков. Культура.
А еще в монастыре, в свое обеденное время, приходят кошки. Как бомжи, они со всем согласны и, если нет для них приличной пищи, не брезгают кормом для кур, а то и погрызут сухой хлебушек. Наедятся, налижутся и разбредутся кто куда, оставляя рой прыгающих блох. Как-то приблудились еще два котенка месяца на три. Слабые, полудохленькие, они на второй день пошли к элитным курочкам. Но петушок по первому разу так долбанул их, что те едва живы остались. Спасибо монахам – оклемались.
Как-то вечером…
Двухлетняя Оленька сидела за столом и кушала кашку. Потом, наверное, ей надоело возиться с большой ложкой, она стала раскачиваться на табуретке и петь песенки.
– Давай, доченька, помогу, две ложечки осталось? – подошла к ней мама.
Но в этот момент одна расшатавшаяся ножка вывалилась из отверстия. Оленька упала и заплакала. Закатилась негромким плачем. А вдохнуть воздух уже не смогла.
Мать знала, что с ней однажды так было – закатываться. Да и с другими случалось. Взяла на ручки, стала успокаивать, надеясь, что она «выкатится» назад, но дочь молчала. Пять секунд… девять…
Сильная тревога и паника охватили ее, а вдруг… Похлопала по спинке, потрясла – ребенок лежал на ее руках притихший, взгляд бессмысленный.
Секунды отсчитывались в голове жутким хронометром. Двадцать пять… двадцать восемь… Телефон – не успеть. Дернулась к крану, судорожно отвинтила до конца, до ледяной воды. Намочила лицо, шею, трясла.
– Доченька, очнись, крошка моя, что с тобой?
Ничего. Как будто почувствовалась легкость детского тельца. Девочка обвисла на руках матери. Появилась первая зловещая синева под носом, подкрадывалась к подбородку. Жуткий страх сковал ее. В бессилии она трясла мокрого ребенка и вновь мочила холодной водой. Минута?! Больше?! Конец?.. Она не знала, что делать!.. Что!
– Господи! Вступись! Помешай ей! Иисус Христос. Я верю в Тебя. Ты ведь все можешь! Ольга святая, проси скорей Господа, чтоб не допустил. Она пыталась вспомнить отрывочные мольбы, какие-то слова, все бессвязно.
Но живой болью заполонила все, что должен услышать Бог и даже на миг показалось, что спасет Он ее дочь.
– Боженька! Царица Небесная, уговори скорей Господа, чтоб помог. Скорей, я ничего не могу сделать!..
Обезумев и уже не понимая, что делает, судорожным рывком рванула законопаченную на зиму узкую половину окна. Бумага скрипела и нехотя рвалась. Как могла, высунула туда ребенка. Холодный морозный воздух вмиг сцепил мокрую головку и шею девочки. Она едва заметно вдохнула, слабенько заплакала. Мать вытащила ребенка, закрыла раму. Прижала к себе. Девочка открыла глаза.
– Вот и хорошо. Умница моя, – улыбнулась мать. – Сейчас молочка тепленького нальем, где кружка наша?
– Спать хочу, – слабо проговорила дочка, – в кроватку.
Поцеловав дочь, заботливо подоткнув одеяльце, она тихонько прикрыла дверь. Раздвинула стекло серванта, вынула из него полузабытую темную иконку, подаренную еще бабушкой. Вгляделась. На нее с грустью смотрела Богородица, или показалось?
– Что же ты забыла меня, чадо мое…
Достала тряпочку, обтерла ее и вдруг неожиданно зарыдала. Глухо. С надрывом. Слезы торопливо катились по щекам. Встала на колени. А если б не просила? Значит, была надежда? Значит, есть Бог. Боженька. Они ей помогли. Она перекрестилась и тихонько заплакала. Но было уже легче. Как будто пронеслась черная, зловещая туча. Теперь светлей, спокойней, она знала – у нее есть теперь Бог и ее Оленька.
«Свекровь моя…»
Свекровь моя, хорошая женщина, к сожалению слабо верующая, все никак не могла оторваться от бразильских сериалов, где каждый поступок героя уж непременно разрывался от всего сердца и души. И никакими словами и делами ее было не отвлечь. Как подходило время, она ближе подвигала стул, и мне даже казалось, у нее текли слюни в очередном предвкушении, она все время поглядывала на часы, чтоб ни-ни и через некоторое время душа ее утопала в цветочно-медовом суррогате чувств. С судорожным переживанием в поисках справедливости, где какой-нибудь нерасторопный Антонио по всей Бразилии, несколько серий, искал свою любимую, а она, как оказалось… Словом, все мои многочисленные старания против телевизора ни на миг не оставили ее всклокоченного интереса, а что ж дальше-то? Но вот начался, наконец, Великий пост. Устав от бессилия, я взмолилась внутренне от сердца:
– Господи, сделай как-нибудь, чтоб заглох этот ящик! Отведи от нас пагубу эту! Помоги! Вечером, накануне, помолилась, а телевизор три раза осенила крещеной водой: Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь!
На другой день, к вечеру, к началу сериала свекровь моя не пришла. Я даже удивилась и спросила:
– А как же сериал? – свекровь промолчала. И на весь большой пост, и даже после него, телевизор как отрубился, заглох. Потом уж свекровь сказала, что устала от моего нытья, а потом уже как будто успокоилась и находила уже другие дела. Но я-то знала, оказал помощь, услышал меня, грешную, Господь мой, Всемилостивый. С тех пор телевизор она уже не смотрела. А года через два мы его выкинули.
Осенние мотивы
Стою с корзинкой в руках, замираю. Осень, здравствуй! И желтая листва, обдав меня осенней сыростью, тихо зашелестела. Здравствуй, моя осень… Давно не могла вырваться. Суетные, неотложные дела все не отпускали. И совсем уж становилось невмоготу, глядя в утренней электричке на полусонных грибников с рюкзаками и корзинками. Тихо. Необычно и даже немного жутковато после привычного городского шума. Сапоги мягко ступают в подушке пушистого влажного мха, звучно чавкают. Недовольно, будто их покой нарушили, хрустят полусгнившие сучья. В этой живой тишине леса, кажется, острей ощущается присутствие Господа. И можно тихонько, в полголоса, помолиться. Деревья, как люди Божьи, окружают меня и слушают. И мне хорошо, как среди своих.
Клюква. Одна щечка, спавшая во мху, зеленая, а другая ярко зарумянилась – ну, попробуй же! Брр! Мох долго не кончался, из-под ног неожиданно выскакивали лягушки и, ленясь прыгать, тут же замирали. Не заблудиться бы. Остановилась – ни звука. И почему-то подумалось, показалось, что в этом бесконечном молчании черных сгнивших сучьев, воткнутых в зыбкую трясину… кто-то чужой молча провожает взглядом. Остановилась. Но что в голову-то лезет? Место знакомо. На всякий случай все-таки перекрестилась. Мох кончался. Выглянуло солнце, уставшее за лето, и картина, как декорация, поменялась: появилось много молоденьких елочек, дрожит ажурная березка, прощально, зазывно трепещут листья осинки, – и, конечно же, среди них старые деревья, кто во что горазд. Порыв ветра – и все сразу затрепетало, заговорило… Здравствуй, мой лес. Здравствуй, осень!
Она приветствует меня как цыганка, одетая в пестрое, из лоскутков, платье. В такт налетевшему ветру цыганка дерзко часто задрожала плечами, распустила широкими волнами платье…
Спасибо, Господи, что даришь нам, грешным, Свою красоту тихую. Шершавый ствол сосны, травушку Твою глажу. Господи… Все здесь Твое. И грибы Твои, играющие со мной в прятки: ну-ка, мол, давай, поищи нас. Спешу к старой ели, приподнимаю ее широкий темно-зеленый подол. Она царапает грубыми ветвями, заскорузлыми и крепкими, сыплет за ворот рыжие иглинки, не хочет расставаться с рыжей семейкой лисичек. Стоп. Во-он у той березки, утопающей в пахучем вереске, наверняка белый, а в той манящей шелковистой травке, в осоке – увидим жирную оранжевую шляпку подосиновика. Скорей туда – увы! Грибочки мои, укромненько притаившись, похихикивают, наблюдая за мной. Попробуй, найди хоть черный груздь. Облепится листьями и сидит себе. Прошел мимо – твое, мол, дело – иди дальше. Волнушки, тоже хитренькие, спрячутся где-нибудь под папоротниками, да еще в густой траве, и пока не догадаешься наклониться, ни за что не выглянут. Таинственный, невидимый подберезовик манит к себе, обещая превратиться в белый. А пока я добираюсь до него, успевает куда-нибудь улизнуть.
Вздрогнула от легкого порыва осинка и замерла, а крохотный паучок, воспользовавшись этим, торопливо пополз по невидимой ниточке. Блестят невысохшие слезинки на ветках сосны. Висит прозрачная капелька – вот-вот упадет…
Пора уходить. Жаль. Хоть незаметно, но корзиночка моя уж полнехонька. Прячу найденные грибочки под папоротником. Прощай, сегодняшняя осень! Молодая она была в бабье лето, прогретое солнцем, пропитанная душистым ароматом лета. И первые одинокие желтые листья, первую середину осени никто не хотел замечать. А она все больше и больше проявляла свой характер: носилась ветром по еще теплым полям, прятала в тучах солнце и уж дышала ночными заморозками… Скоро уйдет она в небытие.
Осень рождается, живет, неугасая, дарит нам свои плоды – подавая нам свой недвусмысленный пример. Господь вразумляет нас тоже терпеть болезни, скорби и после нашей смерти дать нам свои плоды…
Ой, чуть не наступила ногой. Боровик! Да еще какой! Стоит спокойненько так, будто давно уж поджидал: низенький, пузатенький. Хорошо у Тебя, Господи! Тихо…светло… Мне-то за что, многогрешной. Прости меня, Господи…
Бреду опять по унылому мху. Но что-то уже новое вселяется, освежает, радует. Слава Тебе, Боже за все…
«Что-то потянуло в парк…»
Что-то потянуло в парк. Нашла, наконец, время. Утопая в пушистом снегу, собирала прошлогодние травинки, шишечки какие-то. Ветви с ажурными пупырышками. Бороздила снег, подбираясь к каждой Божией веточке, которая в прошлом году еще радовалась, качаясь в ласковых дуновениях ветерка. Теперь пришло и ее время умереть. Так же, как и у нас. Кудрявый кипрей, дрожащая шляпка медуницы, полынь и множество колеблющихся между ними травинок своими очертаниями тонко подчеркивали их особую красоту на белом снегу. Так и хочется сорвать… Свежий морозный ветерок наводил порядок в верхушках сосен, сдувая кусочки хлопьев. Рассеиваясь в вышине, падает легкая снежная пыль. Тихо. Сколько уж брожу и ни души. Празднуют люди 8 марта. Вон там, в глубине леска, высокие дудки-зонтики, надо и до них. Приноравливаю к русым волосам разнотравья шишечки ольхи. Глаза ищут что-нибудь красненькое, но рябины в этом году не было.
Все замерло. Будто чего-то ждет. Спокойная простота. И думаю: не надо ничего накручивать от жизни, усложнять. Все уж создано по Богу. Жизнь и все нужные ее законы. И оживало странное светлое чувство – Боженька… хотелось долго повторять это дорогое слово – Боженька, моя звездочка!.. Просыпалась детская светлая радость, и уже тихонько полилось это драгоценное слово – Боженька моя!.. Что-то внутри таяло в трепетном чувстве, память искала молитвы…
Приглядывала каждую веточку к букетику. Черные сморщенные горошинки смотрелись в желтых травинках, а вон там, из-под снега, торчит зеленый сосновый ежик. С верхушек высоких деревьев спустил Господь вьющуюся снежную пыль. Она заволновалась, торжественно спускаясь клубами дыма с высоты вниз. Смотри туда, вверх, в морозную тишину. Приятной сердечной прохладой разливалось внутри, все хотелось повторять:
– Царица Небесная! Боженька моя!.. хоть миг в мою сторону, лучик драгоценный…
Никто не торопил. Будто в гостях. Тихо. Спокойно. Красиво… Не смотрюсь я, грешная, в этой тихой благодати. Сколько ж напахала в своей жизни, в неверии! Как теперь? Прости меня, упрямую в грехах, немощную…
А вот и солнышко, наконец, заглянуло сюда, раздвинув серятину туч. Радостным алмазом стрельнуло сквозь ветви в душу. Цвинькнула птичка. Слава Тебе, Господи! За все. И за цветочки Твои. Радовали они нас летом, чаруя ароматом, цветом. Теперь стоят на костяных ножках, передавая нам что-то свое, неземное, очень похожее на нашу жизнь. А мы как? Тоже от Бога. От земли. И должны жить, как эти цветы. Радовать Господа. Служить. И так же умирать. Пустыми телами в землю. А души? Где они там будут? Вот уж заволокло снежной пеленой меж верхушками дерев, заволновалось клубами снежного дыма и как будто там, в мыслимой глубине, рождалась мысль: живите, любите, кайтесь – самое главное на земле. Что-то коснулось в благодатном порыве, захолостнуло внутри от осознанного согласия. Ведь так все ясно и просто. Радостно заструились в душе живительные нити-мысли: запоминай. И держись. Господь рядом с тобой. Кажется, ручеек тоненький совсем, еще немного грехов – и он затихнет, но даже от тоненькой течи становится влажной душа. Как бы любовь постоянно подтекает – не забывает нас Господь. Тихо. Спокойно душе. Наступила внутренняя незанятая пауза. Уже почувствовала: вполз холодный темный червячок сомнения: это сейчас ты такая, нагулялась, надышалась, а потом-то? Суета ведь сожрет. И как бы в подтверждение, из дальнего уголка парка, появилась ватага парней. Спорили, хохотали. Ухожу. Солнышко опять заволокло. Прощальным взглядом окинула деревья, видевшие мои мысли, лесочек, и, «бразды пушистые взбивая», – к основной дорожке, унося с собой цветочки от моей Боженьки и Господа. Родилась мысль: нет, наверное не потрачен сегодняшний день. Это как птица с раненым крылом – хочет взлететь к небесам, собрав все свои силы. И страстное желание помогает ей, пусть на миг, попытаться оторваться от земли…взлететь.
Так и душа моя, грехолюбивая, израненная, пыталась тоже взлететь пусть хоть на миг. Но туда. К небесам…
Уже было поздно, темно, когда я возвращалась домой со всенощной, накануне Рождества. Стоял крепкий мороз и я решила сократить путь, спустившись вниз, к мостику, через небольшой лесок. Шла быстро, обдумывая предпраздничные дела. Но это мало спасало. Как в русской сказке, дотошный Морозко все крутился вокруг меня, похватывая за щеки, руки, нос и шутя, приговаривал: – А тепло ли тебе, сударынька?
Тонкая, едва заметная, тропинка быстренько привела меня к маленькому мостику. Остановилась. Тишина и чернота холодной ночи пугали. Ни души. Ни звука. И чуть заострилась внутри тревога. Помолилась. Оглядевшись вокруг, замерла: страхи, мороз – все внезапно утонуло в ослепительно-белоснежной ночи. Над крошечной речушкой, с плавающим в ней бликом от единственного фонаря, заботливо склонилось несколько высоких деревьев, схваченных толстым пушистым слоем инея. Стволы их будто одеты в белый мех. В черной морозной тишине они долго и неторопливо, словно удивляясь, рассматривали свою необычную белизну в тихой темной глади воды.
Слабый электрический свет усиливал этот торжественный парад в ночи. Тут же, в снежном пуху, скручен мелкий искристый кустарник, напоминающий чем-то детский чепчик. Многочисленные тонкие ветвистые кружева причудливо переплетаются в искрящихся белоснежных венчиках.
– Свят. Свят. Свят еси Ты, Господи. Тонкая снежная простынка, над которой склонились балдахином деревья, мерцала разноцветными мириадами волшебного живого блеска. И все это тихо сияло ослепительной белизной в темной предрождественской ночи. Все пребывало в светлой любви и покое:
– Света от Света…
Чуть повыше мостика, из небольшого снежного заноса, крестиком вылезала нетерпеливая молодая сосенка, остальные торчали любопытными носиками и ждали, что будет дальше. Сонные уточки, всегда тут обитавшие, спрятались где-нибудь рядом, под мостиком, или в заштрихованных белым инеем камышах, но к заутрене они разбредутся по мелкой зыби речушки, чтоб распевать рождественские песни.
Казалось, все готово к большому торжеству. Все ждало. Посмотрела на небо. Там, где-то в далекой-далекой живой глубине, рассыпано несколько звездочек. Одна из них как будто… зазвенела… то-о-о-ненько… А вдруг та самая, наверное… С Рождеством Тебя, Господин наш! Сене небесная, Светоносная – радуйся Благодатная! Не хочу уходить. Ни мыслей, ни страха.
Но Морозко поторапливает. Иду и оглядываюсь. В детской радости очень хочется обнять все это и воскликнуть:
– С Рождеством Христовым! Слава Тебе, Господи! Слава Богу за все!
«Выходной день – ноябрьской зимой…»
Выходной день – ноябрьской зимой. Рано утром бреду на остановку трамвая. Еще вчера, чуть ли не сутки, путались по ветру тяжелые хлопья снега, а к вечеру была такая слякоть, хоть не выходи из дома. К утру, от злого пронизывающего ветра, все это крепко замерзло. Он и утром все еще не давал покоя редким прохожим. Неуютный вагон трамвая мало спасал от холода внутри. В окне согнанные за ночь мрачные тучи плотно облепили все небо. Кое-где они обрывались и в промежутках едва виднелись синие кусочки. Везде было холодно. Все было серо. Мрачно. Тяжким бременем наваливалась на душу и выползала такая же серая мысль: полумертвая жизнь, мертвые слова, люди, дома, реклама. Тучи тянулись бесконечной темно-серой лавиной, и не будет им конца… И вдруг!.. В маленький проем стрельнули и рассыпались яркие веселые лучи! Драгоценным солнечным алмазом брызнули в глаза, ласково заливая окна вагона, площадку, сиденья. Тут почему-то подумалось: Господь со мною! Их торопливо заслонили многоэтажные чудовища домов. Стало опять мрачно. Но они вновь вынырнули радостным веселым блеском. Казалось, происходила борьба на секунды: темные мертвые громады недовольно торопливо заслоняли солнце, но оно быстро увиливало от них – и снова мне веселый свет в глаза: Господь с тобою! Шеренги домов, магазинов-ларьков, столбов мешали и заслоняли свет, но за секунды радостной благодатью рассыпались лучики в душе, согревая ее, убеждая: Господь с тобою! Долго длилась эта незаметная борьба неуклюжей тьмы и зайчиков-лучиков. Всю дорогу то и дело весело мелькало: Господь с тобою! И подумалось враз: «Победил свет, он отогрел мою душу – что мне все это? Жить надо, терпеть. И не унывать. Ведь со мною Господь.»
Неожиданность
Трапезная в этом монастыре большая, светлая, всюду иконы в аккуратно расшитых полотенчиках, на столах стаканчики с ветками сосны. А работы много, только успевай всех накормить, убрать. Мое послушание – мыть полы. И я уже давно размахивала тряпкой на швабре, а две женщины не уходили, убирая последнюю посуду со столов. Они жаловались, как болят ноги, на бури какие-то. Но так Богу угодно, согласились они, снимая, наконец, передники, собираясь уходить. Мне было жаль их. А может еще и день такой. За окошком, в серой морозной грусти, застыли древа рябин – на каждой кисти клочки снега. Все за окошком тоже как будто устало и находилось в спячке.
Я еще не закончила мыть большую трапезную, отодвигая бесконечные стулья, лавки, как на смену пришли две молоденькие девушки-регенты – послушницы. Расставляя ловко по всем столам тарелки, они засомневались, какую тональность брать: ми-минор или выше. Одна из них кашлянула в ладошку и «взлетела» сильным, хорошо поставленным, голосом:
– Честне-е-ейшая Херуви-и-и-м и Славнейшая без сравнения Сера-а-фии-им. Звуки красиво и весело пронзили будничную тишину и покатились девичьим колокольчиком по столам, скамьям. Подруга ее, не дослушав, тонко влилась в мотив и все большое пространство трапезной наполнилось нежными неожиданными благоуханными словами:
– Сущую Богородицу Тя велича-а-а-а-ем.
Вновь и вновь плыла чудная молитва уже двух девушек. От светлых чистых звуков, казалось, все ожило. В решетчатые монастырские окна вдруг удивленно заглянуло солнце, ласково заливая веселым светом поющих девушек, замирало на иконках, заигрывало на столах, в граненых стаканчиках, меж сосновых веток, гладило стены. А девушки, раскладывая ложки аккуратно под каждой тарелкой, легко переключались на различные диссонансы голоса:
– Без истления Бога Слова рождшу-у-ю, Сущую Бо-го-ро-дицу Тя Вели-и-ча-а-а-а-ем.
Казалось, все заиграло в свете, ожило и было необъяснимо. Светлая грусть быстро разбередила мою душу, освежила ее, заволновала. Затрепетала в блаженном порыве. Жадно ловила чудное проникновение переливающихся слов, но девушки-регенты, расставив по столам все, что надо, так же быстро ушли помогать другим, на кухню. А я так и стояла, растерянная, со шваброй в руках и долго еще старалась поймать и задержать в наступившей тишине звуки той чудной молитвы.
«Помню чудное мгновенье…»
Девочка… Я еще подходила к церкви, а она как-то легко и привычно кланялась вратам. Длинная черная юбка, фуфаечка, ботинки на ногах. Монашка? Когда подошла, она повернулась ко мне, нараспев произнесла:
– Закры-ы-то еще, ма-а-тушка! Поздравляю Вас с праздником Вхождения в храм Богоро-о-дицы!
И как будто пришибло внутрь: взгляд сильный, светлый, искренний. Розовое от мороза лицо. Приветливая улыбка. Все свежее, чистое и как будто летящее…
Но прежде, чем я успела сообразить и ответить, она еще раз сделала легкий поклон, ловко надела тонкие варежки и, свернув за угол церкви, растаяла, оставив в моей нерасторопной душе благодатное чувство.
«Во время разошедшейся и мучавший меня болезни…»
Во время разошедшейся и мучавшей меня болезни гриппом ночью открылся еще и сильный кашель. Изнурительный, изворачивающий все нутро на изнанку. Знала, что и соседи не спят за стенкой, и ничего не могла сделать, казалось, всему этому не будет конца. Устала. Рассердилась на себя. Налила полстакана святой воды, выпила и в сердцах попросила:
– Господи, уйми мой кашель! Ну, помоги!
И кашель почти тут же сник. Удивилась, успокоилась, уснула. А на утро, почувствовав себя лучше, даже решилась в воскресенье сходить в церковь. На литургии иногда бросало то в жар, то в холод, но хоть бы кашлянула – ни разу.
Боялась, что нахожусь еще в стадии болезни, и нечего тут искушать Бога, приду домой – будет еще хуже. Но эти мысли невольно поджимала и думала – ведь я у Бога. После литургии все-таки просила кого-нибудь подвезти на машине, но все было занято. Пришлось идти пешком. Болезнь начала было опять коварно подбираться ко мне, знобило. Но как-будто кто вразумил:
– Ничего, иди пешком. Не бойся.
И я пошла. Может и не так много – три небольших остановки, а там – сразу в постель. И тут почувствовала – сзади выглянуло солнышко, высвечивая мохнатые серые тучи. Показалось, Господь провожает:
– Иди, иди, все хорошо.
Спокойно, легко стало. Пошла. Морозный ветерок уже не смущал, я шла, оглядываясь, боясь, что вдруг оно исчезнет, но постоянно ловила ласковую мысль:
– Иди, иди, ничего с тобой не случится.
Я верила и как будто внутри согревалось, успокаивалось. Так солнышко сзади и провожало до самого дома, чувствовалось спиной его тепло. А на другой день я уже почти здорова.
Слава Тебе, Господи! Хорошо с Тобой!
«Ну вот, не как не могу – так иногда захочется мороженого…»
Ну вот, никак не могу – так иногда захочется мороженого, ну сил никаких нет! Откладываю дела и бегом в магазин. Там выбираю в большом количестве разных сортов «пособлазнительнее» и повкусней.
Приду домой, разложу по чашкам и наслаждаюсь….
А если до магазина лень идти, где-нибудь поблизости выбираю мороженое «поэкзотичней».
И так я привыкла, что без мороженого (именно вкусного) и жизнь не могла представить лучше. Появилась зависимость.
А потом, с какого-то времени, стала замечать, что кто-то решил за меня взяться. Стала даже чувствовать: как съем вкусное мороженое, так – какая-нибудь крупная неприятность. Вначале я не могла поверить, но стала замечать, что это уже «стабильная» случайность. Как мороженое, так невольно жду неприятностей: то за телефон якобы не уплачу – отключают по ошибке на долго, потом бегаю и доказываю, то по крупному делу отказали или столько за день накопится мелких колючих неудач, что находишься уже в полном отчаянии.
Я уже стала побаиваться, но никак, с непривычки, себе не отказать. Внутри так и гложет, ворочается, просит. Куплю какой-нибудь скромный стаканчик, может, думаю, пролетит? Опять – хлоп! Серьезно заболела ближайшая родственница и приходилось отпрашиваться с работы, ездить, переживать… Ну, никакой поблажки! И поневоле, с тяжелым чувством, пришлось прекращать мои «грешные нежности» и каяться в них. Тяжело от резких тормозов, а что поделать? Но время постепенно все дальше отделяло меня от мороженого, которое, казалось, все больше растворялось в мыслях. Сатана однажды уж пытался возобновить мой грех, но Небесные Силы умело отвели его, подарив мне маленькую свободу над моим искушением. Слава Тебе, Господи, что зришь на меня, грешную.
Одна православная семья пригласила меня немного побыть с двумя девочками. Одной – два с половиной годика, другой – четыре. Мама преподавала музыку, папа строил храм. Квартира, которую они временно снимали, находилась в загазованном месте. Комнаты большие, но в них не было современного дизайна, здесь господствовал свой, особый, дух: на стенах висели иконы большие и маленькие. Мама предложила мне раздеться, тут же подбежали две девочки, и не церемонясь, стали щебетать:
– А как Вас зовут, тетя? Это Вы будете с нами заниматься?
Младшая девчурка, взяв меня за руку, потянула ее к низу и громко зашептала:
– А Настя сама все время катается на качелях, а мне не дает. Я и так долго стою в очеледи, а она все лавно катается.
Мама с укоризной посмотрела на малышку:
– А жаловаться, Аришка, тоже не хорошо. Чем стоять в очереди, нашла бы другое дело, собери лучше игрушки, хорошо? А с Наташей мы сейчас поговорим.
Она погладила ее по головке и отпустила, с ласковой грустью поглядев на меня:
– Папа недавно решил сделать им вот такие качели, – бросила взгляд на потолок, – но вот стали ссориться.
Я посмотрела туда и только тут заметила, что в центре большой комнаты, к потолку высотой в три с половиной метра, приделаны длинные взрослые качели. Размах их свободно шел до середины, или даже до конца, второй комнаты. Это было так необычно, что мне тоже очень захотелось покататься. Мама, словно почувствовав это, улыбнулась и предложила:
– Если хотите, можете и Вы.
Я смущенно отказалась и поблагодарила. Наташа, наконец, спустилась и тут же хотела снова залезать на качели, но мама остановила:
– Наташенька, Аришка еще маленькая и ей тоже очень хочется покататься, не обижай ее, хорошо? Я сейчас ухожу, а вы идите мыть руки и завтракать. И слушайтесь вашу няню. Идите.
Я пошла следом за Аришкой. У мамы было все приготовлено. Я села на свое место, незаметно озираясь по сторонам.
– А помолиться? – сказала Наташа, вскарабкиваясь на стул перед иконой.
Аришка двумя руками тоже взяла свою табуреточку.
Я покраснела и встала:
– Отче Наш… – сложив три крошечных пальчика, девочки добросовестно шептали:
– Богородице Дево…
Помолившись, малышки взяли по куску хлеба и ловко стали его уплетать с постной пшенной кашей.
– А вы молочко не пьете? – спросила я у них.
– Мы, тетя, постимся, – ответила Наташа. – Сегодня же среда. – Прожевав кашу предложила: – Берите хлеба побольше, Вы же взрослая. – И, помолчав, добавила: – Мы любим хлеб.
Тронутая этим действием, немного жалея маленькую Аришку – вот с молочком бы ей – я тоже старалась не отставать.
Девочки между тем быстро поев, облизали ложки и отнесли в раковину. Уже у стола поблагодарили опять Господа и вприпрыжку побежали одеваться, напевая на ходу свои детские песенки.
Наконец, одевшись, мы отправились на улицу. Вот тут-то и было самое тяжкое. Гулять было негде: рев машин, автобусов окружил, как только мы вышли на маленький тротуар. Но Наташа, деловито взяв меня и Аришку за руки, уверенно пошла вперед:
– Пойдемте, я знаю место, где мы всегда гуляем. Аришка, не отрывайся от тетиной руки.
Мы заняли весь тротуарчик и юркнули куда-то под арку. Там, по маленькому глухому изрытому переулочку, снова свернули под арку и очутились… в каменном колодце, окруженном мрачными высокими дряхлыми домами. Зато тишина. Тихий снег. Полусломанные детские качельки, контейнер для мусора и хилое деревце. К качелям девочки не подошли, зато, обступив меня, привычно, как будто они тут не в первый раз, предложили:
– Тетя, давайте поиграем.
– А во что? – спросила я.
Аришка похлопала себя по груди:
– Я буду петусек, а Вы – лисичка. А Натася будет котом.
– Нет уж, – запротестовала Наташа.
– Я буду петушком, тетя лисой, а ты, Аришка, котиком. Все. – Она широко развела руками, как на сцене. – Давайте начинать!
Я растерялась: а как начинать-то? Впрочем, слушайте:
– Жили-были кот, петух и лиса. Вот собрался кот в лес по дрова, а петушок дома остался…
Площадка была совсем крохотной, не особо и разбежишься. Хорошо, хоть снег поприятней и воздух, конечно, почище.
– Тетя, – спросила Аришка, – а где мне длова лубить? – и тут же предложила, отойдя шага на четыре.
– Правильно, Ариша, – поддержала я ее. – Ну, слушайте дальше. Сидит дома петушок. – Наташа, как маленькая артистка, стала старательно разводить руками – подметать пол, зачем-то качать ими, выжидательно посматривая на меня… мол… давайте, пойте. Я старалась изо всех сил, как только умела. Хитро прищурив глаза сла-а-денько запела:
– Петушок, петушок, золотой гребешок! Выгляни в окошко, дам овса тебе немножко…
Петушок-Наташа, встав поближе ко мне, вытянул шею. Я хвать его!.. Тут уж за ней дело не стало. Как закричит она! Вырывается, визжит! Аришка до этого двумя сцепленными руками колола дрова – выскочила и отняла петушка у лисы. Понравилось обеим. Снова все на свои места. Я опять лукаво начинаю петь и предлагать овес. Петушку не терпится, ждет, чтоб его скорей схватила лиса, я опять хватаю его, опять Аришка… и вдруг случилось неожиданное.
– Тетя, тетя, смотрите, зернушки!
Мы, запыхавшись, тут же остановились. Сколько тут уже бегали, но ничего не видели. Горстка овса была как бы аккуратно подкинута, лежала поверх снега, не разнесенная нашими ногами. Да и откуда она могла быть здесь, на крохотной площадке, избеганной вдоль и поперек? Мы взяли зернышки в руки.
– Это же Бог нам послал! – радостно закричала Наташа и запрыгала, смеясь, закружилась в возбуждении. – Это Господь нам подбросил, потому что мы играли в петушка. А петушок зернышки-то любит! – Глаза ее горели живым справедливым блеском.
– Это Бог, это Бог, – повторяла за ней Аришка, хлопая в ладоши. – Тетя, давайте снова играть, – предложила Наташа, – может Господь еще чего даст!
Я обняла девочек. Их радость передалась мне и прошла внутрь души. С нами так близко был Господь. Он навестил своих маленьких друзей в этом сыром мрачном колодце и доверчивому слабому петушку послал зернышек. Радостные и разгоряченные малышки нетерпеливо-вопросительно смотрели на меня и ждали, готовые снова ринуться от меня наутек, забыв уже свои роли.
Лет семь назад это было. А не забыть. Вспоминалось часто…
Я занималась в одной православной семье с семилетним отроком Павлом. Как-то зимой отправилась с ним гулять на Неву. В тот день был какой-то православный праздник. Мы с Пашей решили пойти в небольшой храм, недалеко от Петропавловской крепости. Литургия еще не закончилась, мы поставили свечи к празднику, поклонились иконам и отправились на Неву. День был морозный, солнечный. Паша радостно перепрыгивал через стоящие торчком льдины и в гладких промежутках между ними скользил ногами. А я, радуясь просто хорошему дню, поглядывала на небо, заодно и на моего воспитанника.
Небо было чистым. Без единого облачка. Синева его была поразительно глубокая. Я пыталась найти хотя бы одно, заблудившееся облачко, как вдруг прямо передо мною, посреди этого огромного синего пространства, увидела большой светлый крест, вытянутый из облачка длинными узкими полосами. Над ним сияла большая красивая радуга. Рядом, справа и слева от большого креста, на одном уровне с ним – два маленьких крестика. А над ними тоже маленькие радужки. Три креста! Все это было так отчетливо видно, не могла поверить и насмотреться. Потом опомнилась:
– Паша, скорей смотри на небо! Видишь? Вон там! Кресты! А радужки-то над нами какие?!
Паша задрал голову:
– О-о! И правда здорово! – он долго удивленно, не отрываясь, смотрел на небо, приложив от солнца ладонь козырьком ко лбу. Я оглядываюсь вокруг – нет ли еще кого на Неве. Но мы были одни. Долго смотрела на кресты и все не могла поверить. Может это какое-то обманчивое видение, по моему тщеславию. А может это для ребенка. Вполне возможно. Длилось это дивное видение минут сорок.
Радужки над малыми крестиками, начали потихоньку таять. Потом веселый радужный мостик над большим крестом стал сливаться, теряя отчетливую поочередность цветовой гаммы, растворялся в сине-солнечной глубине, пока совсем не исчез. Стали потихоньку бледнеть и также исчезать в небесной глубине маленькие крестики. Большой крест долго еще стоял в изумительной глубокой тихой синеве, как бы давая знать всем о чем-то очень назидающем и главном. Потом он постепенно, будто не торопясь, медленно растворился, оставляя в моей душе незабываемое глубокое благоговейное чувство.
На остановке
Повадилась кормить синичек на остановке трамвая. Ждать долго. Напротив лесок. Морозец. Красиво. Тихо. Протягиваю ладонь с семечками. Где-то здесь, в недрах дремлющих в инее ветвей, живет моя синичка. Две синички. А вот и она. Да не одна, а с подружкой. Полминутки ожидания – и моя смелая пташка садится прямо на ладонь. Хвать! И назад. Семечку обрабатывать. Подружка ее волнуется: как бы семечку достать? Долетит до середины, а дальше уж по земле – скок-скок, головку вверх, может, брошу? Жаль кроху, но я упрямая: сядь на ладошку – получишь. Покрутилась и улетела ни с чем. Откуда-то сбоку еще три синички. Осторожно покрутившись, деликатно уступали друг дружке – одна, потом вторая, третья…Ну, а как же без воробьев-то! Бросила горсточку – как магнитом. Вмиг. Мгновенно притянулись, галдят, кто во что горазд. Склевав, рассыпались, кто куда, головки вверх – туда-сюда поглядывают. Озорники. Тут и ворона подоспела – как бы не прозевать, бочком на ветку села, качается. Наблюдает за пиршеством в отдалении – мало ли что?
А та, моя, без предрассудков, синичка уже клювик обтирает. Рр-раз! – и опять на ладони, откинула непонравившуюся семечку, другую, третью, выбрала получше – и к себе назад. И чудо! Трусливая ее подружка тоже решилась подлететь к ладони, замерла в воздухе, в отчаянии схватила, что попало – и стрелой к себе! Вот умница-то! Давно бы так.
Но тут, к сожалению, трамвай подошел. Все птахи, как по команде, по своим местам.
А мне – по своим. Подарил мне Господь маленькую радость. Каждому свое. Да будет Господь и с вами.
«У метро пела женщина…»
У метро пела женщина. Молодая, слепая. С протянутой рукой. Вокруг шум, толкотня, порнография с прилавков. Люди туда-сюда. Совали копеечки, но большинство – мимо. А она длинно и протяжно пела. В отрывках уловила: просила Ангелочков на небесах, чтобы помогли ее доченьке. Но никто ее не слушал. Не до нее. Затерялся голос в торговой суете. Проходивший мимо мужик буркнул, засовывая бутылку в боковой карман:
– Ангелочки там… самим, блин, есть нечего и им еще…
…Прости нас, женщина. Ты, в горести своей, сильней нас. Помоги, Господи, тебе и твоей доченьке. И прости Ты нас, грешных…



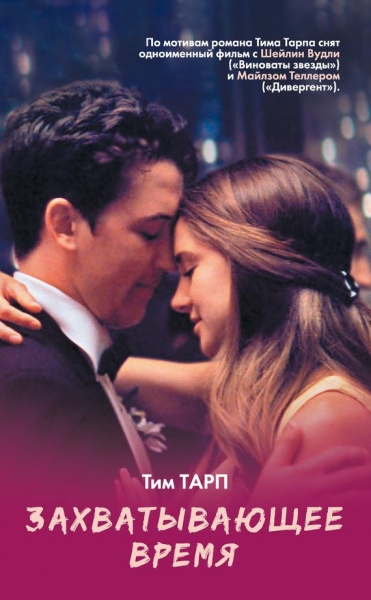






Комментарии к книге «Федина Пасха (сборник)», Галина И. Захарова
Всего 0 комментариев