Борис Мирза Девушка из разноцветных яблок
Оформление серии Алексея Дурасова
© Мирза Б., текст, 2020
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2020
Повести и рассказы из новой книги писателя Бориса Мирзы стали известны задолго до ее выхода в свет – множество читателей в соцсетях оценили и полюбили эту пронзительную, стилистически оригинальную прозу. В сборник вошли повести и короткие новеллы о жизни и любви, в которых исповедальная проза сменяется портретами современников, а истории большого города – мифами маленького приморского поселка и далекой псковской деревни.
Без работы сидел долго и вдруг звонок.
Звонит какая-то секретарша или продюсерша, – тогда уже было модно всех поголовно делать продюсерами, даже если вчера они столы передвигали. А уж бывших секретарш – тем более.
Говорит, хочет со мной встретиться главный.
Я, естественно, обрадовался, а еще больше обрадовалась жена. Видимо, устала донашивать замшевый пиджак, который мне отдал друг, так как сам носил только модные.
Плюхнулся я в первое попавшееся такси и ломанул в Останкино. Весь отглаженный и прилизанный.
Еду. Вижу, таксист на меня поглядывает искоса. Изучает. Ну пусть, думаю. Мне сосредоточиться надо перед встречей, чтобы прилизанной прической в грязь не ударить. Но таксист, видимо, считав с моего лица достаточно, начал разговор:
– На работу?
– Ну да, можно так сказать.
– И не тяжело тебе там?
Я хотел было сказать, что мне не там тяжело, а здесь и дома – смотреть, как жена, собираясь в свой театр на репетицию, отпаривает замшевый пиджак, который на мне видели три поколения ее предшественниц. Но не сказал…
– Всяко бывает, – говорю.
Таксист, мужик за пятьдесят, коренастый и такой весь основательный от козырька кепки до массивного живота…
– Это понятно. – Таксист смотрит на меня иронично. Видимо, из-за врожденной наблюдательности или богатого жизненного опыта он про меня все понял. – Работа тяжелая…
И не успеваю я согласиться и рассказать, что в редакции «Аналогии преступлений» монтировал фильм трое суток без сна, как таксист добавляет:
– Конечно. По тебе видно. Ты парень русский, хороший. Тебя в этот улей только кабели таскать и возьмут. Я по лицу вижу.
– Интересно, – говорю я, – а кого возьмут?
– Ясное дело, своих. Или этих, с ориентацией, или евреев. Там вообще одни евреи на жирных должностях. Ведь вот, хочу тебе сказать, скользкий народ. Везде, где можно, своих пихают, а русский народ типа тебя притесняют, вот в чем парадокс…
Я вдруг разозлился.
– Знаете, – сказал, стараясь быть суровым, – вы это прекратите! Так нельзя! Нельзя вот так вот взять и походя целый народ назвать скользким! Это же мерзко! Гадко! Неправильно! Будете продолжать, я попрошу остановить и выйду.
Здесь я прибавил матерное слово, которое оказалось к месту и по воздействию перекрыло всю предыдущую речь.
– Ладно, – сказал таксист. И поправил кепку. – Может, ты и не кабели таскать допустим. Но как-то это не типично…
– А в кепке ездить в машине – это типично? – спросил я.
Мужик вдруг захохотал.
– Парадокс! – изрек он. – Может, она мне нравится. Кепка-то.
Доехали. Я расплатился и вышел. И не успел сделать два шага в сторону двадцатого подъезда, как услышал крик таксиста:
– Осторожнее там! Смотри, чтобы тебя не съели. Держи крепко честь русского мужика.
Я пожал плечами и пошел в улей.
В приемной главного меня встретила продюсерша, сидевшая за столом секретарши.
– Владимир Иванович сейчас будет, – сказала она. – Задерживается. Хотите чаю?
– Хочу, – говорю.
А про себя думаю: какое хорошее русское имя у главного. Сам Владимир, а папа Иван. И тут же вижу табличку. На дверях в его кабинет. «ИВАНОВ». Владимир Иванович Иванов. «Что бы ты сказал, мой темный таксист, обуреваемый самым низкопробным антисемитизмом, если бы увидел эту табличку?» – успеваю подумать я, когда сам обладатель русского имени и фамилии входит в приемную.
– Аааа! – басит он. – Рад, рад. Пойдемте, как следует побеседуем! Начинаем мы интереснейший документальный проект!
И вот мы с Ивановым В. И. проходим в его кабинет, где он усаживается за огромный, красивый, темного дерева стол, а я пристраиваюсь в удобное кресло для посетителей.
И первое, что я вижу на этом самом роскошном столе, – флажок, какие крепят на машины к послам. Или ставят на стол консулу.
Да, на столе стоит флаг.
И это бело-голубой флаг Израиля.
Домой я опять еду на такси. Таксист в этот раз тощий, с какими-то свалявшимися волосами и молчаливый.
Только в самом конце пути он вдруг спрашивает:
– А правда, что у вас там чуть ли не половина педики?
– Не знаю, – говорю я, а сам думаю о другом. – Возможно. Очень правдоподобная версия. Кто нас всех знает?
Таксист больше не мешает мне думать.
Думать о том, что, судя по всему, работу я не получу.
И о том, что замшевый пиджак вполне красивый, хоть и пообтерся на рукавах.
Вкус рябины
– Уезжаешь?
– Чего ж ты, – спрашивают, – уезжаешь? Плохо, что ли, было жить?
– Хорошо жилось.
– А чего тогда?
– Иногда бывает рябина хорошая, но горькая…
Да, мне все здесь знакомо. Вся моя прошлая жизнь тут без остатка.
Куда я ни взгляну, а все что-нибудь помню. Хорошо жилось.
Так жилось, словно совсем маленький мальчишка, рябину по первому морозу жуешь.
Горько, а хорошо.
Вот она, рябина. Во дворе. И наш двухэтажный дом на восемь квартир. Наша квартира на первом этаже. Окна на улицу и окна во двор.
Рябина всегда была. И сейчас, летом, листьями шумит…
Старая. Хотели было спилить. Но дядя Коля из соседней квартиры напился пьяный и рабочим угрожал.
Они сказали:
– Мы все равно придем, только с милицией.
А он ответил, что ему безразлично.
Но не так, а матом. А тетя Вера из другой, соседней квартиры, сказала, что дядя Коля герой. Так и сказала:
– Герой ты, – сказала, – Коля. Не дал спилить.
А дядя Коля от этого стал пунцовым, напился и почему-то заплакал, и долго потом разговаривал сам с собой:
– Жизнь прошла. Прошла жизнь.
Улица тихая у нас. Машины едва проедут. Так, грузовик иногда.
Грузчики Вася и Петя коробки разгружали. И всякий другой товар. Вася и Петя похожи очень. Хотя один высокий, другой низкий. Один весь седой, а другой лысый. У одного нос такой приплюснутый, точно ему жена сковородой по морде дала. А у другого морковкой. Острый, как будто комариный.
Кричит мне однажды Вася или Петя, не разберешь:
– Иди сюда, чего угощу.
Подхожу, а он из поломанного картонного ящика пригоршню ирисок достал.
– Угощайся, – сказал, – бери. Мы не жадные.
– Спасибо, – отвечаю, – дядя… Только вот не знаю, как зовут вас. Петя или Вася?
– Да какая разница? – махнул он рукой. – Нас все путают. Грузчик, он и есть грузчик. Самая нужная профессия. Товар, понимаешь. Нужно сохранять, а не только доставка.
– Так вот, – говорю, – коробку-то повредили.
– Ничего, – ответил, – не взыщут. Ты ешь ириски-то. Пломбы не береги.
Товар носили на рыночек. Через дорогу как раз черный ход. Разгрузка. И весовая.
А на рынке капуста. Пробуй не хочу. Но я не хочу. Это новенькому пробовать дадут, а мне нет. Меня тут все знали. Знали, что я у бабы Матрены буду брать. У нее капуста самая вкусная. И огурцы.
Матрена – не настоящее ее имя.
– Так почему вас Матреной-то называют?
– Ну это прозвище такое. Типа как кличка, что ли.
– А что значит?
– А значит, – говорила Матрена, – что я дура непутевая.
Матрена действительно была непутевая. То передник потеряет, то ведро с квашеной капустой уронит, то выручку пропьет.
И кричала, и ругалась сама на себя.
– Матрена, ты непутевая. Тварь, не человек.
Так мамка прозвала. Да на рынок послала. Теперь вот торгует.
Самой вкусной капустой и огурцами.
И они такими будут всегда. Пока не исчезнет рынок на нашей улице.
А вон в том доме дети повешенца живут. В неделю остались без матери и отца.
Любил он ее, говорят, сильно. Добивался. Всяко подходы искал. А она все в сторону смотрела. Все то ли уехать куда в столицу хотела, то ли принца ждала. Да столица-то далеко, а принц все не ехал. Принц не ехал, а вот влюбленный который год рядом. Вышла за него.
И все он ей далеким от идеала казался. И не принц, и от рубашки всегда запах. Так-то мужик вроде и ничего. Не хуже других.
Но не принц, и с запахом.
Повешенец, ясное дело, повесился в конце концов. Он долго собирался. Жену пугал.
– Стерва ты и сволочь. Жисть с тобой сплошной яд. Повешусь.
– Так зачем, – она говорит, – тебе вешаться? Иди живи на все четыре стороны. Алименты только не просрочивай.
А он говорит:
– Я, – говорит, – детей люблю. Куда мне? Смотри, – говорит, – повешусь!
Так ведь и не врал. Вешался чуть не раз в месяц. Вроде как и по-настоящему, а и в шутку. Все пьяный, конечно. А раз, видно, так пошутил, что и повесился. Прям на вешалке в коридоре.
Она-то домой быстро успела, еще бычок, что у него изо рта выпал, дотлеть на полу не дотлел. Быстро, но поздно. Помер, хоть и вынули.
В конце августа это было.
– Словно камень с души упал, – сказала жена после поминок. – Праздник на душе-то. Еще неделю праздновать буду, а потом поедем к тетке в Рязань.
Пила неделю с соседями. А через неделю померла сердцем. Жара была в том августе. Такая жара!
Двое детей осталось, Пашка и Мария. Он старший, душа-парень, младшую и вырастил. Школа тоже помогала обедами.
Пашку все любили. За то, что он не такой, как родители.
Совсем другой.
А напротив, за рынком, Толя-дурак жил. В старом доме послевоенном. Какое-то у Толи заболевание было неизвестной природы.
– Вылечить его нельзя, – говорил доктор районный Степан Степанович. – И на ремиссию тоже рассчитывать не приходится. Встали на учет в диспансер, пенсию получили и будет с вас.
– А делать-то что нам? – спрашивает Толина мама. – Жить-то как, коли он опять чудить начнет?
– Ничего, – отвечает доктор. – Таблетки давайте согласно рецепту. Будет чуть больше человека напоминать. Он ведь не опасный, сынок-то ваш. По статистике, такие, прямо говоря, родителей редко переживают. Что-то да случается…
Толик продолжал чудить и когда подрос.
Бегал по улице зимой и летом одетый тепло, в шапке-ушанке, на подбородке завязанной.
Все ему холодно, что минус тридцать, что плюс.
И поговорить любил. Но так отрывисто.
Скажет что-то такое невразумительное и смотрит светлым взглядом, точно понимания ждет.
– Поешь рябинки-то по морозу.
– Это зачем?
– Хорошая рябинка.
– Да ну, – отвечал я, – горькая! Разве ж это хорошо?
– Иногда, когда горько, хорошо. Бывает рябина хорошая, но горькая…
– Что ты такое несешь?
– Брежнев, – говорил, – если и умрет, то не совсем. А так только. Без Брежнева никак нельзя.
– Иди, – ему отвечали. – Будешь этот бред нести, и нас с тобою вместе заарестуют. Разговоры твои мутные.
– Ничего не мутные, – не обижался Толик. – Я и мыться могу. И яичницу с колбасой и без, когда нет колбасы. А как дорогой Леонид Ильич помрет, то колбасы-то и не станет. Вы тогда больше укропа крошите. В яичнице укроп – дело полезное! И сытость. Трудно будет без Брежнева жить. Натерпимся еще. Как уж эти капиталисты над нами поизмываются тогда. Ох, беда, товарищи вы, товарищи!
– Все же хорошо, Толя! – говорили ему.
– Иногда плохо, когда только хорошее! – отвечал он несуразицу.
И так болтал, пока не прогонят силой.
Пережил он и папу с мамой, и доктора Степан Степаныча, и Брежнева.
Когда Брежнева хоронили, сильно плакал. Стоял на улице нашей, на ноябрьском холодном ветру, кутался в пальто и, плотно натянув ушанку, голосил на всю улицу:
– Кончилась страна рабочих и крестьян, сожрут теперь капиталисты!
Забрали дурака в больницу. Насовсем. Хоть он и пытался говорить, что и мыться сам умеет, и пенсию забрать, и расписаться, и приготовить может яичницу без колбасы, но с укропом.
Квартиру их в старом доме за рынком объединили с другой, и теперь там офис…
Рябина, которую спас дядя Коля, стоит во дворе. Хоть и нет Толи-дурака, который исчез, с такими обычно что-то да случается…
И тетя Вера вышла замуж, да уехала в другой район. Жизнь прошла. Жизнь прошла…
Уезжаю и я.
– Уезжаешь?
– Чего ж ты, – спрашивают – уезжаешь? Плохо, что ли, было жить?
– Хорошо жилось.
– А чего тогда?
– Иногда бывает рябина хорошая, но горькая…
Я никогда не любил Богородицу.
Как все верующие – почитал, совершал поклоны и, когда упоминалось Ее имя, на богослужении и в утренних-вечерних молитвах, произносил слова, величания, просьбы…
Но все это было совершенно формально и даже несколько с усилием. Потому как Богородица была женщиной. А в прошлой своей жизни к женщинам я относился очень хорошо – романтизировал, влюблялся, оберегал, помогал, женился, воспитывал детей, но всегда считал себя ответственным за все и полагал совершенно постыдным просить о чем-то женщин. Уважение вызывали лишь те представительницы слабого пола, которые выполняли мужские функции – работали, воспитывали детей, содержали семью…
И вправду, в Евангелии Богородица не запомнилась мне ничем, кроме того, что Ее посетил ангел и сообщил Ей Благую весть. Иисус же и вовсе отказался с Ней общаться, когда она пришла к Нему. Указав на учеников, сказал: «Вот матерь моя и братья мои…»
Моя дочка Соня несколько изменила мое отношение к Богородице, когда я увидел, как она, будучи лет пяти, подбежала в храме к иконе и что-то долго и весело шептала, то и дело глядя на Ее образ. «Общается, как со своей родной мамой», – подумал я. И улыбнулся, даже немножко позавидовав такой детской вере.
Сам-то я разговаривать ни с кем не решался. Есть молитвослов. Есть положенные как ежедневное упражнение молитвы. Пятнадцать минут в день можешь и отдать Богу, в конце концов. Ну и попутно женщине, родившей Его. Раз уж так положено.
Ведя довольно бурную и беспорядочную жизнь, правило я нарушал, но тоже подобное особым каким-то грехом не считал. Во-первых, это нудная вещь – удерживать ум в уже сотни раз прочитанном тексте, во-вторых…
Было и во-вторых, и в-третьих…
Но та же Соня иногда опровергала мои доводы своим странным умением не молиться, но разговаривать с Богом и Богородицей.
Однажды она захотела посмотреть мультфильм – кажется, это был милый мультик про девочку и пса под названием «Вольт». Но диск выглядел ужасающе. Весь грязный и исцарапанный. Такой, что его и в проигрыватель-то засунуть страшно. Я вспомнил, как младшая дочка Таня играла этим диском в хоккей, возя его по пыльному полу.
– Сонь, – сказал я, – этот диск нерабочий. Но мы обязательно сходим в «Матрицу», и я куплю тебе этот фильм.
– Ничего, – сказала в ответ Соня, – я сейчас помолюсь, и он заработает.
Мы с женой переглянулись. Молись не молись, мертвые диски не работают. Я испугался. Ведь Сонькина вера была в опасности…
Я всегда считал себя способным быстро находить нужные слова. Я спокойно импровизировал многочасовые лекции, в конце концов…
У меня была пара мгновений, чтобы собраться, пока Соня ходит около иконы с уничтоженным диском в руках и что-то шепчет. Я даже разобрал слова: «пожалуйста», «очень хочется»…
И вот она наконец обернулась и направилась с диском к телевизору.
Я преградил ей путь и, присев на корточки, сказал:
– Понимаешь, Бог и Богородица всегда слышат наши молитвы, но не всегда выполняют. Может быть, тебе и не полезно именно сейчас смотреть мультфильм. Но к вечеру мы сходим…
– Давай поставим, – сказала Соня.
И я сдался. Ну что ж. Когда-то ребенок должен столкнуться с тем, что Бог не всегда по первому требованию выполняет все наши пожелания…
Я взял у Сони диск и поставил.
«Вольт» запустился. Соня, ничуть не удивившись, села на диван и стала смотреть. Видимо, действительно очень соскучилась по этому мультику.
Мы с женой так и остались стоять.
– Если бы хоть с горчичное зерно… – сказала жена.
И я только кивнул и ушел в свой кабинет…
Но эта история не многому меня научила. Сейчас я себя оправдываю тем, что даже Апостолы, видя чудеса, совершенные над хлебами, не вразумились.
А потом Соня умерла, а я уехал в Феодосию.
Перед смертью, в тот страшный день, когда мы ждали «Скорую», Соня попросила поставить ей акафист Богородице. Я включил его на айфоне, и она слушала.
А когда вошла жена и начала что-то говорить мне, а я ей, то Соня вдруг сказала:
– Подождите, дайте дослушать…
Здесь, в Феодосии, я прожил полгода после похорон. Жизнь сузилась и истончилась. Я должен был поддерживать жену и дочерей и, если получится, не ссориться с тещей.
Когда появлялась возможность, я прятался в кабинете на втором этаже и делал вялые попытки писать и упорные и многочасовые попытки молиться по молитвослову…
Но невозможно по-настоящему что-то написать, когда, закрывая глаза, ты видишь только Соню. Невозможно знать, что она не с тобой. Невозможно не иметь ничего от нее, теперешней…
И вот в самый тяжелый час я вспомнил Соньку, слушающую молитвы. И все на том же айфоне (проклятый гаджет пережил мою дочку) включил тот самый акафист.
Все как-то сошлось в одно. Богородица, женщина, которую я почитал, но не любил, Сонька в храме и дома с диском в руках, разговаривающая с Ней как с давно знакомой и любимой, и я. Разбитый, раздавленный, уничтоженный.
Под звук акафиста доплелся я до икон, висящих над моим столом в кабинете, и взмолился. Это было именно то. Я не молился, не молитвословил, не разговаривал.
Я плакал и просил.
«Ты, в которую так верила Соня, Ты матерь Бога, Ты можешь меня понять, и хоть я никогда не любил Тебя, помоги мне, мне ужасно хочется иметь хоть какой-то знак о том, что с Соней все хорошо, что она с Тобой, хоть какой-нибудь знак, который даст мне понять…»
Акафист кончился, и жена позвала меня ехать в центр, получить перевод из Москвы и пройтись по магазинам.
В Феодосии на Галерейной улице я пошел в банк, а жена решила прогуляться по магазинам. И когда, получив перевод, я вышел на улицу, то увидел бегущую мне навстречу супругу. Она плакала. В этом не было ничего удивительного, за полгода мы привыкли к слезам.
Удивительное, невозможное, совершенно немыслимое случилось пятью минутами позже…
Жена потянула меня в музей Грина. И там на одном из стендов стояла фигурка. Это был маленький уплывающий кораблик с красными парусами. Я сначала не понял, но жена мне сказала:
И я прочел чуть ниже на бумажке, что эта поделка Софии Мирзы из поселка Ермолино Дмитровского района.
– Победила другая игрушка, – сказала нам подошедшая работник музея, – но мы в последний момент решили выставить и эту…
– Я помню, она должна была участвовать в конкурсе по Грину, – сказала жена. – Все объяснимо.
– Скажи, – ответил я, – каков шанс, что детская поделка, слепленная в Подмосковье, не выигравшая конкурс, появится в музее Грина в Феодосии, где окажемся и мы, и ты случайно зайдешь туда именно в тот момент, когда ненадолго открылась эта экспозиция?
– Я, честно говоря, думала и надеялась… вдруг я что-то увижу.
– Если хоть с горчичное зерно… – ответил я.
Не знаю, много ли изменил во мне тот случай. Стал ли я лучше и мудрее. Не думаю. Ведь даже Апостолы не вразумились чудом с хлебами. Чего уж обо мне говорить…
Но за тот момент, за этот маленький плывущий вдаль корабль я благодарен Богородице.
И буду всегда.
Дом над рекой
– Ехать, – говорю, – ехать надо.
– Почему надо? – спрашивает. – Что мне там?
– А здесь тебе что?
Что ей здесь? Осень бесконечная. Дождь пузырями по речке. Осока, увядшая в воде. Туман у черного леса.
Дом на холме над рекой.
Капли по стеклу.
– Ты знаешь.
Она мне рассказывает…
…Я с ним самая лучшая. Это тебе трудно понять. Ты всю жизнь стать самым лучшим стремишься, чтобы только в своих глазах таким быть. Оттого и покоя тебе нет. А я с ним – лучшая. Не знаю, как объяснить.
Вот приду домой, и чего бы дома не было, все лучшая. Он это умел. Работник – так себе. В совхозе к нему без уважения. К работе не то что равнодушный, но без сметки…
Только одно качество у него было, но такое, что можно все отдать. Уж если чего решил, то все. Верен своему решению. Мог бы жениться на Светке из Колпина, на Маше из Белья, да на ком еще… А у нас с ним любовь не любовь. А так. Ходили в гляделки играли… Мамаша у него ух противная. Продавщицу в сельмаге видел? Та, что старая. Вот. Злющая. Сказала, с кем хочешь ходи, хошь женись, хошь подженись, а не с ней. Ее, говорит, мать бросила. Дурная кровь. Как кутенка, подбросила в мешке, нешто утопить. Так и она, какая жена? С детдома взятая. Такие все равно потом стезю свою найдут. По рукам да по мужикам.
А он, вишь ты, упертый. Прямой. Без денег, без родительского разрешения, да к моим-то приемным пришел. Пешком через три деревни. Батька сказал, работник ты вот какой, не гожий, а что верный, так в том вся суть. Не продашь.
Она молчит. И я молчу…
Теперь уж никакой рыбалки. Запоздал я. Осень. Рыба в озера ушла до следующей весны. Так у меня всегда. Запоздал. На озеро еще можно, но холодно, сыро, да и бесполезно. Затаилась рыба до зимнего клева.
Дома натоплено у нее и всегда чисто. Хотя когда ей прибирать? С утра рано в Сергейцево шагает пешком на автобус, который в город на работу отвезет…
– Ну вот, хоть в Сергейцево переезжай. Не придется тащиться каждое утро по три кило.
– А дом там такой есть? Чтобы на пригорке, над рекой?
– Такого нет. – Я сдаюсь сразу. Не упертый я. Не прямой. – Может, другой есть? Этот-то красивый, и место, правда, замечательное. Только старый. Покосился уже. Того гляди и съедет с пригорка в реку.
Я пытаюсь шутить. Но с ней не выходит. Такая же прямая, как он.
Что ты? Он был прямее. Как рельса, про него батя говорил. От родителей ко мне ушел. Бате пообещал, что всю жизнь в этом доме со мной.
Мне с ним по первому году очень трудно пришлось. Мне страсти хотелось. Знаешь, не улыбайся только, женской такой. Чтобы бежать, стремиться, чтобы в объятья, глаза закрыв и голову запрокинув. Чтобы уехать куда-то, сорваться. Плакать чтобы. И ревновать. А его к кому ревновать? Какой, спрашивает, смысл? Ты самая лучшая. И родителям своим то же самое сказал. Она, говорит, лучшая. Я-то знала поначалу, что нет. Что вот, видишь, нос? Длинноват. Ну и кое-че не видишь.
Через год уверилась. Я для него лучшая.
– Я не говорю, что не устаешь. Еще как устаешь от таких. Бате моему приемному обещал меня беречь, дом беречь. Да так и все. Как вкопали рельсу. Никуда. Ни за что. И мне уже не сбежать, не отказаться. Я для него самая лучшая. За все десять лет сколько сказал – столько сделал. Ни на минуту не опоздал. Здоровье бычье. Работал так себе, говорят, но все вовремя всегда. И домой, представляешь, ни разу не опоздал. Что ты, спрашиваю, с мужиками не пошалишь. Все шалят. Все мужики у нас шалят. Водкой ли, девками ли. А чаще тем и другим. Мало ли зарослей у реки.
Мне бы что? Стаканчик-то и можно мужику…
А он все свое. Ты у меня самая лучшая. На что мне?
И потом я почувствовала. Поняла, знаешь. Я самая лучшая.
Да, мне все понятно. Такая история. Деревенские бывают упертые, как быки, бывают верные, как воины под присягой, и несгибаемые, как шпалы. Редкий тип. Но вот такой. Кстати, не слишком приятный. Меня иначе как прохиндея не воспринимал. Хоть и знал, что я порядочный, но намерений и дел моих не одобрял. Не гнал меня, но и не зазывал.
– Нет, не считал он тебя прохиндеем. Просто ты из другого мира приехал. А ему это все до лампочки было. Пришел – садись. Нужен дом? Не продам. Почему?
– Знаю. Слово он дал. Отцу твоему дал слово. А коли он пообещал, пиши пропало.
– Да. Верный. Он говорил, нельзя со слова свернуть. Смешно, правда? Вот так живешь и не знаешь, что дальше будет, а со слова свернуть нельзя. Никогда не продаст наш дом над рекой…
Я знаю все, что дальше будет.
Будет осень. Такая же бесконечная и непостижимая, как этот озерный край. Будут дрова щелкать в печке. Будут капли постукивать в окно. А за окном, там, внизу, дождь пузырями по речке. Осока, увядшая в воде. Туман у черного леса…
Парень несгибаемый, как шпала, верный и прямой, упал у колеса трактора и умер, так быстро, что «Скорая» не успела. Сосуд в голове. Или тромб.
Впервые тогда не вернулся с работы вовремя.
Все простили. И родители, что после ухода слова не сказали.
И загибающийся совхоз его простил, что не ценил.
Парень такой был, такой…
Какой уж был…
– Не важно, – говорю, – что теперь мне дом не нужен, я куплю. Ехать тебе надо.
– Почему надо? – спрашивает. – Что мне там?
– А здесь тебе что? Ни совхоза. Ни деревни за десять лет, ни…
– Ни мужа, – заканчивает она за меня. – Я не такая, как он. Мне страсти хотелось. Чтобы плакать, чтобы ревновать. Думала, люди должны расти вместе. Друг друга жалеть. Друг друга учить… А он знаешь чему меня научил?
– Через год уверилась, что я самая лучшая, что там нос. А потом, что со слова свернуть нельзя.
– Так ты никакого слова и не давала.
– А он дал. Вот так живешь и не знаешь, что дальше будет, а со слова свернуть нельзя.
И я понимаю, что не продаст она этот дом. И, сказать честно, дом нужен был мне, пока еще деревня была жива, пока в эти края не пришло запустение…
А оно пришло, ровно тогда, когда он ушел.
– Ехать, – говорю, – ехать надо.
– Почему надо? – спрашивает. – Что мне там?
– А здесь тебе что?
Что ей здесь? Осень бесконечная. Дождь пузырями по речке. Осока, увядшая в воде. Туман у черного леса.
Дом над рекой.
Капли по стеклу.
– Ты знаешь. Наш дом над рекой.
Мышка в клетке
Муж у нее хороший человек. Просто немного неромантичный. Но хороший.
«Немного» – глупое слово. Муж у нее совсем неромантичный человек.
Высокий, чуть полноватый. С грубоватыми чертами лица, что, впрочем, всегда компенсируется выражением снисходительной мягкости и терпения.
Он говорит:
– Как хорошо, что мы оба считаем, что дарить цветы – пошлость. Зачем убивать цветы, вырывать их и дарить? Правда?
Он давно забыл, что это только его, а не общие их мысли.
Трупы цветов. Она слушала и соглашалась. Вернее, не опровергала, хотя казалось очевидным, что эти цветы и растят для того, чтобы они приносили радость…
Но ему то ли выгодно, что не надо тратиться на бессмысленные подарки, то ли он правда вывел целую теорию о трупах цветов…
Ей всего тридцать пять и ему немногим больше. Она смотрит на себя в зеркало. Маленькая блондинка, чем-то похожая на лисичку. Остротой черт, наверное. И выглядит вполне еще ничего. Привычно следит за собой. Мужчины на улицах оборачиваются. Незнакомые все еще обращаются к ней: «Девушка…»
«Зато, – думает она, – с ним спокойно. За него всегда можно быть уверенным. Хороший человек. Честный. Не предаст».
Ее мать восхищается зятем. Какой он, что называется, настоящий семьянин. Все время думает о хозяйстве, о детях. В доме всегда порядок.
– Всегда! Посмотри, какой он у тебя! Зарабатывает. Следит. В доме всегда ножи точены. Лампочки экономные. Перегорела – вот и запас. В кладовке. А видела в кладовке-то какой порядок? Все по номерам. Как в кладовке – так и в жизни. Порядок.
Ее мать восхищается им. А она молчит.
– Опять же ты жизни не знаешь. Как еще отец так любит своих детей?! Все внимание им.
Да, он ответственно относится к детям.
Все эти аргументы приводят ее в какой-то непонятный ступор. И она пока не догадывается почему.
– Может, у вас что-то с этим не так? – допрашивает мать.
– С чем? – Дочь, конечно, поняла, про что пойдет речь, но хочет заставить маму сказать все прямо.
Это не так просто.
– Ну с этим! – И мать многозначительно поднимает и опускает брови.
– С этим все в полном порядке. В строго отведенное для этого время все достигают удовлетворения, как по расписанию.
– Чего еще хотеть?!
Мать и правда не понимает. Ее муж пил. Быстро потерял форму и при этом успевал где-то подгулять. Ее муж умер от инфаркта в туалете. Ее муж был сплошной нелепостью.
– В чем ваша проблема? Он хороший, отличный даже, работящий, честный. Это все тоже регулярно…
– У нас нет проблем.
– Тогда чего ты сидишь на балконе, как только минутка выдастся? Сидит с телефоном и курит. Курение вредно, между прочим.
– А вот я, – дочка начинает злиться, – может, хочу сделать что-то вредное! Вот посидеть на балконе! На воздухе! Покурить! Испортить здоровье!
– У тебя дети! Ты мать!
Дочка молчит. Не отвечает. Берет пачку сигарет, смартфон и идет курить на балкон.
– Надо мне вас оставить в покое. Может, из-за меня все? Матери должны жить отдельно!
О нет. Конечно, нет! Она прекрасная теща. И если бы не ее помощь с детьми, если бы не ее правильное и тактичное поведение, то, возможно, они давно бы развелись. И потом, кто бы сидел с детьми?
Уж точно не дочь.
Приходит с работы он. Садится есть.
– Ты никогда не хвалишь то, что я готовлю. Тебе не нравится?
– Нравится, что ты? Все нормально.
– Мы ходим к Саранским, у него жена всегда готовит один и тот же салат. И он от восторга только что не захлебывается. «Попробуйте салат! Восторг! Какой рис! Какие креветки!» Я готовлю хуже?
– Нет, ты, конечно, лучше.
– Но ты не орешь про мои рис и креветки, почему?
Он задумывается.
– Мне неудобно хвастаться.
Доев, он складывает посуду в посудомойку, засыпает по инструкции порошок, ставит правильный режим, нажимает кнопку «СТАРТ».
– Тебе неудобно хвастаться?! – Голос ее дрожит. – Это что, ты приготовил? Хвастаться можно тем, что твое! А это я приготовила. Ты все съел. Тебе понравилось?! Или все же неудобно хвастаться крепостной поварихой Настькой?
– Что ты? Вот взбеленилась.
– Ничего. – Она вдруг резко успокаивается. – Пойду на балкон. Покурю.
И тут он, хотя и понимает, что надо бы удержаться, но не может справиться со своей натурой.
– Это вредно. Ты вредишь здоровью.
Она уже с пачкой сигарет в руках. У раскрытой двери на балкон:
– Тело мое. Хочу – врежу.
– Ты мать моих детей, подумай об этом хотя бы.
– А ты отец моих. Кем мы еще друг другу приходимся? – спрашивает она и, не выслушав ответа, закрывает дверь.
Теща, которая присутствовала при этом разговоре, подходит к нему и, несколько стесняясь, задает важный вопрос:
– У вас с ней все в порядке, Василий?
– Ну, в какой семье без ссор, – пожимает плечами он.
– Я о другом.
– О чем, простите?
Теща затрудняется. Но в конце концов находит проверенный способ.
– Как у мужа и жены, простите за вопрос? – говорит она и, приподняв и опустив брови, показывает весь тайный смысл и опасность своего вопроса.
– Ах, об этом! – Василий пожимает плечами. – Все в пределах нормы, по-моему…
А она ушла на балкон. Это ее любимое место. Здесь всегдашний склад вещей, которые «могут понадобиться» и которые, конечно, никогда не пригодятся. Здесь табуретка, заляпанная краской, которая осталась после ремонта. Здесь пепельница в виде клубники, которую ей подарили одногруппницы в училище на день рождения.
Но главное – здесь ветер. У них такой ветреный балкон, возможно потому, что предпоследний этаж. И красивый вид на лесопарк.
Муж, один раз похвалив вид с балкона, с тех пор использовал его только для хранения вещей, которые «могут еще пригодиться».
А для нее это самое лучшее место в их квартире. Пока дети в школе, или гуляют, или с бабушкой, она может выйти, и смотреть вдаль, и думать ни о чем, мечтать о чем-то расплывчатом и несбыточном и радоваться, что у них такой балкон, на котором всегда ветер.
Ей приятно подставлять ветру лицо. А когда он стихает, ей нравится ловить каждое, пусть самое небольшое дуновение. Ей нравится курить…
– Курение – это зло и безответственность, – говорит он. – Ты, во-первых, наносишь вред себе, во-вторых, показываешь дурной пример детям… И наконец, курящая женщина похожа на пепельницу. И пахнет так же. Отвратительно.
– Я пепельница-клубничка, полная окурков, – отвечает она. Он морщится.
– Если бы ты не курила, ты могла бы почувствовать, как отвратительно пахнет курящий человек… А у курящих людей способность обонять атрофируется. Но главное для меня, что ты мать наших детей…
– А для меня главное, что ты отец наших детей.
Она уходит на балкон. Закуривает. Смотрит. Кругом. Чувствует небольшой ветерок.
Улыбается и думает: «Да, надо бросить. Прав отец моих детей».
А вдалеке лесопарк, а внизу машины разноцветные и люди как муравьи. А вверху небо.
На кухне слышно, как муж разогревает обед. Шкворчит сковородка.
– Мне надоело! – кричит она. – Надоело!
– Что? – Он отвечает с кухни и то ли спрашивает ее о проблеме, то ли просто не расслышал.
– Я хочу букет мертвых цветов, убитых недавно! Шампанского! Курить в ванной!
Он стоит в дверях балкона.
И смотрит на нее. Спокойный и безмятежный.
– Зачем? Шампанского можно, конечно… Ты что, плачешь? Почему?
– Потому что я мышка.
– Ты оглох? Я – мышка.
– Больше на лисичку похожа.
– Нет, я мышка. Папа когда-то давно поймал мышку. Настоящую дикую мышку. Не лабораторную. Она была такая черная и маленькая. Он ее посадил в трехлитровую банку и подарил мне. Она поначалу совсем не могла жить в неволе. Металась по банке. Пыталась выпрыгнуть. А потом папа купил на птичьем рынке отличную клетку. Кажется, для хомяка. С колесом, домиком и опилками. Там был ящичек для корма и бутылочка-поилка. Но мышке не нравилось. Она пыталась грызть дно. Рыть ход в опилках. Металась по клетке… Понимаешь?
– Мыши плохо пахнут.
– Да, моя тоже плохо пахла. Вероятно, курила. Так вот. Через пару недель она привыкла. И стала как хомяк. Она стала скучным хомяком.
– Нельзя дикое животное держать в клетке. Тем более мышь.
– Я тоже так думаю.
– Мы всегда с тобой находим общий язык, – говорит он и улыбается.
– Да, – отвечает она. – Потому что я стала хомяком. Клетка захлопнулась.
– Не понимаю, к чему это.
– К мертвым цветам. К тому, чтобы надраться шампанским, прокурить все вокруг.
– Дети вернутся с бабушкой.
– А мы про это забудем! Слышишь, просто забудем! Ты даже не понимаешь, насколько будет лучше, если мы на пару часов забудем о том, что цветы дохнут, сигареты отравляют, а дети нуждаются!
– Не кричи. Дети вернулись. Я все понял. Тебе не хватает внимания. Это моя вина…
Ссора так и не перерастает в скандал.
Дети ждут ужина.
В дальней комнате бабушка громким театральным шепотом сообщает в трубку мобильного:
– Уверена, что у них проблемы именно с этим!
Через пару дней, вечером, когда она возвращается домой после целого дня хлопот, ее встречает идеальная семья. Дети с бабушкой, и муж сияет.
– Я понял, что мало обращал внимания. И вот решил приготовить тебе сюрприз. Да, дети?
Дети кивают. Теща улыбается.
– Сюрприз?
– Да! Мы эгоистично забывали о тебе. Да, дети? Так вот. Что тут говорить? Пойди взгляни. Проходи!
Она проходит. В комнату. И дальше на балкон.
Теперь отсюда вынесли весь мусор. Помыли. Почистили. Поставили кресло.
И застеклили.
– Вот тут включается вытяжка, – говорит он. – Можно комфортно курить. Если уж тебе это необходимо. Ты рада?
Она молчит. И не смотрит на него. Дети уходят в комнату.
– Я думал, тебе будет приятно.
– Спасибо, – отвечает она, – мне очень приятно. Я вижу, как вы все меня любите. Как ты заботишься…
Она обнимает и целует его в щеку.
– Спасибо. А теперь я обновлю мой стерильный балкон.
– Теперь это твоя лоджия, – говорит он и довольный уходит на кухню.
Она вынимает пачку сигарет. Закуривает. Садится в кресло. И через мгновение, спохватившись, включает вытяжку.
Здесь теперь так чисто. Так стерильно чисто.
– Клетка захлопнулась, – говорит она. И тушит едва начатую сигарету в чистую пепельницу. – Мышка стала хомяком.
Рассекая тьму
Он все боится не успеть. Чуть опоздаешь, и пошло-поехало. Одно цепляется за другое, минута натыкается на другую, час прилипает к часу, и за днем обязательно приходит вечер.
Он боится не успеть попасть домой до темноты.
Ничего мистического, просто от постоянного глядения в монитор компьютера, в экран айпеда, смартфона или в белые листы тетради что-то случилось и к вечеру зрение его падает. Слепой котенок в очках, которые устарели. Сколько сейчас? Какой минус? Минус четыре или уже минус пять?
Объясняй теперь офтальмологу, что просто боялся не успеть и работал, работал, работал…
Все писал: в компьютер, в айпед, в тетрадь.
(Море их мать
и сестра их тетрадь
вот уж в течение многих столетий.)
Но все в прошлом. В хороших очках можно и во тьме.
Да и в этот раз он обязательно успеет до наступления ночи.
Летит его «Тойота», сумерки еще не наступили. И музыка хорошая.
(Море ты море, ты – родина волн.)
С ней просто не так страшно.
А весело оттого, что у него сегодня родился сын. Сегодня, спустя два дня после Нового года.
Тот самый, маленький живой человек, которому можно сказать: «Здравствуй. Давай знакомиться? Мне очень хочется узнать, какой ты».
У него родился сын. Какое счастье!
Сын! Сын! Сын!
(Волны – это морские дети.)
Сумерки и туман. Отличное сочетание. А уж если второе января, то…
– Чего ж вы делаете-то, а?! Я чуть в вас не въехал!
– Прости брат, забыл!
– Чего забыл?
– Аварийку включить.
И вдруг, где-то впереди, где-то там, в тумане, за вереницей машин, моргающих аварийными огнями, женский крик.
– Это они! Они на встречку!
И вот уже закончились скандалы и нужно пробираться туда, вперед.
Потому что там случилось что-то очень плохое.
Господи! Там случилось что-то очень плохое! Господи!
(И жили они хорошо.
И часто молились.
Море – Богу,
и дети – Богу.)
Одна машина, вернее, то, что от нее осталось, была когда-то «Ауди ТТ», лежит на боку с продавленной крышей и совсем без переда.
Женская машина. К ней, как минута к минуте, приклеивается женский крик, который он слышал недавно:
«Это они! Они на встречку» – еще на бегу, когда лес проносился, как черные волны, мимо.
(Море их мать и сестра их тетрадь.)
– Мужчины, миленькие, – кричит она и вытирает ладонью кровь со лба. – Я не пила ни капельки! У меня дети дома! В городе со свекровью, правда-правда!
– Да успокойте ее! Помогите!
– Кровь надо подтереть.
– Женщина, никто вас не винит.
– Это они… они на встречку!
Она садится на обочину, в грязь, плачет и растирает кровь по лицу, отталкивая того, кто прибежал к ней с аптечкой.
Внутри, во чреве помятой, искореженной рыбы, которая когда-то была «Ладой Гранта», двое.
Один впереди, там, где должен быть руль. Но руля нет. Нет ни руля, ни лобового стекла, а только…
(Море ты море, ты – родина волн.)
Один спереди, но его уже нет.
Другой сзади.
И вокруг мужики – водители. Кто-то светит мобильником, двое пытаются отогнуть дверь и еще один, с зубилом и кувалдой, не знает, как подобраться.
– Надо машиной дернуть, у меня трос хороший, рывковый.
– Нельзя, сдвинем, менты приедут, нельзя…
– Чего нельзя, вон парень на «прадике», выдернет эту дверь и все дела.
– Я что, я могу…
– Может, он еще живой…
Живой. В свете мобильника белая-белая рука парня, зажатого между промятой крышей дохлой рыбы-гранты и кожаным, залитым чем-то черным сиденьем, вдруг дернулась, и пальцы пошевелились.
– Жив! Я видел! Рука дернулась! Давай зубило, мужик! Давай, говорю, зубило!
И он вырывает у мужика зубило и выхватывает кувалду с такой яростью, что тот даже не сопротивляется.
Удар. Удар. Удар.
У меня родился сын!
– Парень, подожди, сейчас подцепим!
– Его рука дернулась! Я видел. Вытащим его, говорю, вытащим!
Удар. Удар.
– Мальчики! Это не я, они на встречку! Пожалуйста! Господи!
Удар. Удар.
– Окна оставшиеся выбить!
(Учил он двери и окна играть,
в берег, в бессмертие, в сон и в тетрадь.)
Кувалда летит мимо и натыкается на руку, как минута натыкается на минуту, и волна боли накатывает черная, а за ней другая, и они затягивают все.
(Волны – это морские дети.)
У меня сегодня родился сын. Жена еще в роддоме, конечно, она лежит в палате на три койки. С такими же мамашками они обсуждают качество памперсов и мужей.
Обсуждают квартиры и дома, в которых живут. И родителей. И родителей мужей.
И в палате у них тепло. И дома тепло.
А здесь, кажется, какие-то капли. Дождь.
(И вырос на месте дождливом дом. Жил дом хорошо.)
– Врача, врача пропустите!
– Пустите!
– Мы дверь отогнули.
– Тот еще, может, жив. Сзади. Спереди-то точно труп…
И доктор смотрит на парня, что зажат во чреве рыбы-гранты, и щупает шею и руку. И говорит:
– Давно уже нет. Наверное, сразу. Мгновенно.
Дождь. Идет дождь.
Пахнет бензином. Как сильно пахнет бензином.
(А после на небо переселились.
Откуда брызгали дождем.)
– Доктор, гляньте, вон парень руку разбил! Кувалдой, когда доставали.
– Этого в травмпункт надо. Сейчас обработаем…
– Я сам доеду. У меня сын родился.
– Поздравляю. Второе января. Повсюду в кюветах алкашня лежит. Тут не только сына родишь. Кого угодно родишь, лишь бы другую работу найти.
– О, менты приехали…
И все-таки ведь он жил. У него совсем недавно шевелилась рука.
– Я всегда запоминаю детали. У него шевелилась рука. Я видел.
– Теперь чего уж. Вон, ментам расскажешь…
– Они вылетели на встречку! У меня машина, кредит недоплачен еще!
– Рука такая белая. Кисть дернулась и пальцы пошевелились. Я всегда записываю детали…
(В берег, в бессмертие, в сон и в тетрадь.)
Он едет домой. И дождь льет. Стучит по стеклам. Он все боится не успеть. Ведь чуть опоздаешь, и пошло-поехало. Одно цепляется за другое, минута натыкается на другую, час прилипает к часу, и за днем обязательно приходит вечер.
Конечно, теперь придется ехать в ночи. Он этого и боялся. Не успел приехать засветло.
Но где-то за спиной его жена в палате роддома прижимает к груди новорожденного сына. Им хорошо и тепло вместе.
Там маленький живой человек, которому можно сказать: «Здравствуй. Давай знакомиться? Мне очень хочется узнать, какой ты».
А его впереди ждет монитор компьютера, экран айпеда или просто тетрадь.
(Море их мать и сестра их тетрадь.)
Он летит вперед.
(…вот уж в течение многих столетий.)
И «Тойота» фарами рассекает тьму.
Никому не нужная ворона
Учитель был маленький, худой, в вечном коричневом костюме, перемазанном мелом. В учительской шептались, что от него сбежала жена к коллеге, и сам он вынужден был уйти из института, где работал, чтобы не стать бесконечной мишенью для насмешек. Чуть позже это узнали и мы, ученики.
Внешне он напоминал уменьшенную копию пародиста Иванова, который вел телепередачу и издевался над чужими стихами.
Передача была популярна, и учителя тут же прозвали Вокругсмеха.
Вокругсмеха преподавал у нас недолго, заменяя ушедшую в декрет любимую учительницу литературы Анну Абрамовну.
С ней мы могли рассуждать, разбирать произведения по-своему, высказывать мысли. Я очень увлекся этим.
Мы проходили «Горе от ума» и как раз про эту пьесу я, казалось, придумал интересную, не соответствующую школьному учебнику версию. Дело в том, что…
Но Анна Абрамовна неожиданно ушла в декрет.
То есть этого можно было ожидать, глядя на ее все увеличивающийся живот. Но я все равно был обескуражен и расстроен. Каков-то будет новый учитель? И можно ли будет ему рассказать мою идею?
Разочарование меня постигло сразу. Вместо стремительной, живой и острой на язык Анны Абрамовны предстал перед нами измазанный мелом карлик – Вокругсмеха.
– Сегодня мы будем изучать параграф… – Он полистал учебник. – Параграф…
– В учебнике нет параграфов, – крикнул кто-то с задних рядов. – Это ж не физика.
– И задач тоже нет, – сказали откуда-то справа, – это не Рымкевич.
Класс заржал. Задачник Рымкевича был пыткой для многих.
– Тише, тише, – сказал Вокругсмеха. – Тема: «Образ Чацкого». В плане его соответствия передовой мысли того времени…
После этого Вокругсмеха понес все, что обычно говорят по теме. Словно бы он хорошо выучил нужный несуществующий параграф. В классе заскучали.
– На каком месяце Анна Абрамовна была? – прошептала красавица Нонна Джиоева, моя соседка по парте.
– В смысле? – не понял Вася Шведов. – Ааа! Кто ж ее знает.
И обратился ко мне доверительно:
– Вот кого бы я отбуцкал, так это Рымкевича. Попадись он мне. Прям его же задачником и по башке.
– Тише! Тише! – Вокругсмеха остановил урок и посмотрел на нас сквозь очки. – Вам что-то непонятно? Есть вопросы?
«Ну наконец-то, – подумал я. – Наступил мой звездный час».
– Да! У меня вопрос, – поднялся и даже сделал полшага в проход между партами. – Вот вы говорите, что Чацкий – образ декабриста. Предвестник дворянского революционного движения, так?
– Так, – кивнул Вокругсмеха. Видно было, что он растерян.
– А я думаю иначе. Какой же он декабрист, если так глупо вступает в препирательство с теми, кто легко может донести на него. В частности, с Молчалиным и Фамусовым. У декабристов было Тайное общество. Конспирация! А это просто болтун! Пушкин сказал: Чацкий, конечно, дурак, но Грибоедов очень умен…
Я почувствовал, что класс замер. Покосился на Нонну. Она улыбалась.
– Теперь возьмем Софью… Разве же Чацкий мог не видеть, что она ему изменяет? Он что, слепой? Или глупый?
По наступившей вдруг мертвой тишине я понял, что сказал что-то не то. Даже Нонна отвернулась и смотрела в окно.
Я осекся. Взглянул на Вокругсмеха. Он смотрел на меня.
Потом словно бы увидел свой испачканный мелом пиджак и отряхнул его.
– Это твой вопрос? – сказал он.
– Да, – ответил я и сел за парту.
– Понимаешь, если рассуждать чисто психологически, то вполне понятно, почему Чацкий не подозревал Софью. Быть может, он излишне прямолинеен, быть может, не красив, даже, может, и не талантлив, и, конечно, о карьере речи нет… – Вокругсмеха задумался на мгновение и продолжил: – Но не замечал он потому, что любил Софью. Когда любишь, то не можешь подумать плохо, понимаешь? И все время уговариваешь себя, что все хорошо. Ты, получается, как слепой.
– И зачем такая любовь? – вдруг сказала Нонна с места. – Вот я бы…
– Нет, нет! – перебил ее Вокругсмеха. – Любовь в данном случае драматическая пружина…
– Ты же любишь и тебя же дурят, – сказал Шведов. И прибавил короткое ругательство.
– Тише, тише! – сказал Вокругсмеха. И вроде бы в наступившей тишине хотел добавить еще что-то, и даже набрал для этого воздуха в грудь, но передумал. И понес опять привычную пургу из учебника…
После уроков я играл в футбол в школьном спортзале до тех пор, пока не начало смеркаться. Надо было идти домой.
Но в коридоре меня окликнул Вокругсмеха:
– Тоже домой не идешь, вольнодумец?
– Иду вот, – хмуро ответил я, опасаясь, что он будет ругать меня за выступление на уроке.
– Мне вот тоже торопиться некуда, – сказал Вокругсмеха. – Иди сюда.
Он стоял у окна, и я подошел к нему.
– Я думаю, ты прав, – сказал он и стал смотреть в окно. Его взгляд блуждал где-то вверху, на крыше второго школьного корпуса. – Ты прав, в нашей литературе слишком много идеологии. И мало человеческих отношений.
Я кивнул, хотя вовсе и не пытался это высказать на уроке.
– Но знаешь, чего еще меньше?
– Смотри. – Он указал на крышу. – Видишь, там скачет ворона.
– Она скачет туда-сюда. И таскает обертку от мороженого. Зима, холодно, одинокая ворона и обертка. Видишь?
– Вот этого и не хватает, понимаешь? Никому не интересны ощущения, мгновения, атмосфера, всем нужны типы характера, движение мысли, идеологическая борьба. Никому не нужна ворона с оберткой…
Я ничего не понял, но меня вдруг поразила эта ворона, она прыгала там, на крыше, в зимних сумерках. Почему? Зачем? Прыгала давно. Таскала бумажку и ничего не выражала. В рассказе о ней не было мысли, не было ничего типического, никакого сюжета, только вечер, летящий снег, черные пятна гудрона на обледеневшей крыше и серебристая бумажка.
– Думаешь, ей там одиноко? – спросил Вокругсмеха.
– Животным не бывает одиноко, – ответил я неуверенно.
– Жаль, – сказал Вокругсмеха и улыбнулся. – Получается, никому не нужная ворона. Нет в ней движения мысли. Борьбы идей. Что ж, неумолимое время и его течение…
Он посмотрел на часы. Потом попрощался и пошел по коридору.
Я видел его растрепанную прическу и пиджак, испачканный мелом, еще пару мгновений. Маленький и худой, он брел по коридору.
А когда он ушел, я обернулся и посмотрел в окно. Ворона была все еще там. В сумерках прыгала по крыше. Перетягивала обертку от мороженого с места на место.
В ней не было морали и смысла. Она не участвовала в борьбе идей. Трудно было сказать, глупа она или умна. Она ничего не символизировала и ничего не выражала.
Это была просто никому не нужная ворона.
Они живут в самом центре Москвы в старом переулке, где комната в коммуналке стоит дороже трехкомнатной квартиры в Чертанове.
Но у них не комната в коммуналке. У них шесть комнат, большая квартира.
В одной из них живет она, и у нее есть все.
Хотелось бы, чтобы она была похожа на маму, но получилось наоборот. Старший брат, что называется, мамин, а она…
От папы ей достались и круглое лицо, и близорукость, и вздернутый нос, и сосредоточенность.
А надо бы радоваться.
«Надо радоваться, – говорит мать, которая еще помнит самую что ни на есть бедную жизнь в маленьком подмосковном городке с романтичным названием Электроугли. – Надо радоваться, у тебя есть все. У большинства детей и доли того нету, что есть у тебя! Для этого наш папа и работает».
«Наш папа» мать произносит с придыханием и даже чуть-чуть приглушает голос. В доме культ отца. Он не какой-нибудь бандит из девяностых, не какой-нибудь тупой коммерсант, только и стремящийся, чтобы уворовать откуда только можно. Нет.
«Наш папа» – бизнесмен высокого уровня. Он сам, практически единолично создал корпорацию, оборот которой…
Тут мама произносит действительно астрономическую цифру, которая произвела бы впечатление на большинство людей планеты, но не на дочь. Просто девочка одиннадцати лет уже, наверное, тысячу раз слышала про эти сотни миллионов. Они для нее – привычный пустой звук.
«Наш папа создал это все своим умом, мозгом, понимаешь? И великой работоспособностью».
Мама так и говорит: «великой». И стоит ли хихикать над ее пафосом? Работоспособность отца такова, что в сутки спит он не более пяти часов. Только спит и работает, спит и работает. Любой бы согласился на те деньги, которые есть у нашего папы. Но смог бы хоть кто-нибудь положить всю жизнь на то, чтобы их заработать?
«Это все для нас! – говорит мама. – Наш папа – уникальный человек!»
Это правда. Ее папа уникален. Еще в школе он, в отличие от одноклассников, все успевал.
Приходил из школы, делал уроки сразу, потом занимался музыкой, убирался в комнате и еще успевал расчесать специальной щеткой кота и погулять.
Он так и говорил:
«Если что-нибудь не сделаю, уроки там или музыку, то все, и погулять нормально не смогу».
«А я плевал на уроки и музыку, – отвечал ему приятель-одноклассник. – Иду сразу гулять».
Ну и где он сейчас? Побирается где-нибудь в отделе продаж МТС, а у нашего папы – оборот.
Об этом говорят часто. У них так принято, напоминать о значимости.
Еще для мамы важно, чтобы дочка не забывала, как некоторые дети людей ее круга, что на свете есть и бедные ведь…
«Не все могут так жить, как мы! Что ты думаешь, нету бедных детей? Подумай о том, как они живут!»
«Как живут бедные? – думает она. – У них все бедное. И няньки бедные, и водители, и репетиторы. А когда они возвращаются домой, то в холодильники у них нету натуральных соков, а сплошная вредная кока-кола».
Она представляет огромный холодильник, набитый пепси и кока-колой.
«Им трудно делать уроки. У них нет репетиторов по каждому предмету. Они все делают сами. Вот наш папа тоже всегда…»
Тут следует история про папу и про то, как он приходил из школы и сразу делал уроки, занимался музыкой, причесывал кота.
Дочка любит отца почти до болезненности… Но он так редко бывает рядом. А когда бывает, то не знает, как с ней играть, но они все равно счастливы. Она ему показывает ролики из своего приложения в айпеде. Ей нравится смотреть и делать ролики. И папе нравится смотреть. Чужие, конечно, свои она ему не показывает. Она была так рада, когда узнала, что папа даже отослал один из тех роликов своему коллеге…
Однако это бывает так редко. Отец всегда на работе. Это все ради них, но он всегда, всегда на работе. А мама…
Она больше любит брата. У нее старший брат, он учится в Англии и внешне похож на мать. А нутром в отца.
«Из твоего брата выйдет толк! – говорит мама. – Он всегда…»
Да, брат – это хороший пример. Когда он приезжает на каникулы, все так счастливы…
«Как нам повезло с сыном! Это надо же, мальчик даже подростком не сделал ничего постыдного! Теперь надо на нее обратить внимание!»
«У нее нет трудностей».
А она что? Она молчит. Она сносно учится. Делает все уроки. Репетиторы всегда рядом.
Она тоже не делает ничего постыдного…
Хотя есть кое-что: когда выдается минута без надзора, она гримируется под Чакки.
У нее есть косметика. Мама считает, это можно. Девочки должны учиться краситься. Аккуратно и со вкусом.
И вот дочка рисует себе кровь, шрамы и злую ухмылку на лице.
И мечтает о постыдном. Когда-нибудь к ней войдет репетитор со своей вечной папкой и специальной педагогической улыбкой, а она достанет большие ножницы для бумаги и…
Конечно, она не будет убивать ее. А просто напугает:
– Хай, айм Чакки!
И отца, который поздно вечером вернется, пахнущий утренним парфюмом, сигаретами и немножко алкоголем:
– Хай, ахахаха!
И маме, которая твердит о том, как важно…
– Ай вонт ту плей! Хай, ахаха!
И всем, всем, всем:
– Ай, хахаха!
Она не делает ничего постыдного. Нет. Только мечтает.
«Привет, я Чакки!» – бормочет она, засыпая. Она только мечтает.
И будет мечтать.
Когда умерла Анечка из третьего подъезда, то все сказали, что просто вот она была такая полная, и из-за этого…
А Женька говорил прямо:
– Кусок жира попал в аппендицит. Произошел разрыв – и капут. Так-то от аппендицита не умирают.
И все во дворе ходили какие-то пришибленные, но никто не жалел Анечку. Все точно были неприятно удивлены и подавлены. Вот, мол, был ребенок, пусть даже толстый, если не сказать жирный, и на тебе, умер. Паршивая история. Люди от аппендикса мрут.
А мне было ее жаль. Потому что завтра нам обещали во двор песок завезти. Дядя Гена обещал. И целую кучу насыпать в песочницу. И мы все ждали. Особенно Анечка. Так-то с ней не особо играли, а когда песок горой – другое дело.
У Анечки было много кукол. Таких маленьких кукол. И когда песок привозили, то она выносила их во двор и расставляла по всей горе, в разных позах. А потом мы все играли в этих кукол. Делали в горке домики и норки. И Аня была главной, потому что куклы ее.
Правда, дня через два-три гора исчезала. Выравнивалась. И Аня больше не вытаскивала своих кукол. Пупсы, она их называла. А мы, за глаза, а иногда и в глаза, звали ее Пупсом.
Нет горы – нет игры.
И о толстой Анечке забывали.
Да, у нее были смешные толстые ладошки, которые потели изнутри…
Дня два назад она сказала мне, мол, дядя Гена песок обещал.
Ну раз обещал, значит, привезет, он такой, этот дядя Гена.
Привезет, будет игра. Домиков настроим.
Анечка вынесет своих многочисленных кукол-пупсов и станет на время главной. А мы будем восхищаться, как ловко она сшила все эти игрушечные платьица и костюмчики…
Все сказали, что она умерла от лишнего веса. Что так-то аппендицит не страшно.
Чик и все.
Но меня еще долго тревожили вопросы. Куда делись ее куклы, которых она с такой любовью обшивала? Всем ли ребятам хотелось плакать, когда дядя Гена привез на грузовике песок?
И смогу ли я забыть ее толстые ладошки, а потом хоть как-то избыть чувство стыда за то, что дразнил ее Пупсом?
Меня еще долго тревожили эти вопросы.
Быть может, дня два или три.
Человек-загадка
На вопрос, когда лучше позвонить, он вдруг вздрагивает и спешит перебить:
– Нет-нет. Я сам позвоню.
Спрашиваю:
– Сколько с меня?
Бормочет что-то невнятное. Я не могу разобрать. Переспрашиваю:
– Как, не знаете? А кто же знает?
– Я не сказал «не знаю», я сказал «не надо».
– Как это «не надо»? Вот… – Я копаюсь в карманах. – Пятьсот рублей хотя бы. Вы же работали.
– Спасибо. – На секунду его лицо будто освещается изнутри, ровным, каким-то нездешним светом.
Он отворачивается и начинает собираться. Только что Николай починил мне газовую колонку для нагревания воды. И теперь этот седой сухопарый мужчина складывает вещи в старенькую сумку…
Везу его домой. Он опять молчит. Сначала заинтересовавшись моим внедорожником, Николай слушает рассказ молча, кажется, равнодушно и больше заинтересованности темой не проявляет. Теребит колено, точно оно у него болит. Смотрит перед собой.
– Николай, а почему вы от денег хотели отказаться?
– Так они счастья не приносят.
Да, деньги не приносят счастья, думаю. В связи с этим можно не брать плату за вызов.
– Но вы же работали! Я тоже не мог не заплатить. Думаете, я бы воспользовался тем, что вам деньги не приносят счастья?
Он поворачивается ко мне, и опять его лицо светится изнутри.
– Да! – отвечаю. – Такая свежая мысль, человек за свою работу должен получать деньги.
Он улыбается. Его свет угасает.
– Давайте в понедельник, после шести, вам трубу заменим. Видели, она там потрескалась.
– Конечно. Сколько нужно на новую? Давайте я дам.
– Нет. – Он опять равнодушно смотрит вперед и теребит колено. – Я куплю.
– Хорошо, когда позвонить?
– Я сам позвоню…
Другие электрики, сантехники, слесаря отзываются о нем одновременно с уважением и иронической улыбкой. Он хоть и лучший мастер в поселке, но им не конкурент. Запойный.
– Говорят, он запойный, – рассказываю я жене. – Странно, никогда его пьяным не видел.
– Жалко, – вздыхает жена. – Интересный мужчина и такая болезнь. Откуда, почему…
– Я не знаю. Его не разговоришь. – В мужской красоте я не понимаю, вижу в правильных чертах Николая лишь мягкость и некоторое своеобразное благородство. – Он действительно интересный?
– Да, конечно, – отвечает жена. – Видел его глаза?..
В понедельник Николай не появляется. Не звонит и во вторник. Пришедший вместо него сантехник пожимает плечами:
– Ушел в себя.
– Так и сколько он будет в себе?
– Не знаю. Он необщительный. Человек-загадка. Кто ж его знает?
В среду набираю Николаю.
– Приходите, – говорю. – Все-таки давайте трубу у колонки поменяем.
– Я сейчас не могу, – короткий ответ.
– Хорошо, – соглашаюсь я и не знаю, как продолжать.
– У меня мама умерла.
Я бормочу слова соболезнования. И в конце разговора, забывшись, спрашиваю:
– Когда позвонить?
– Я сам, я сам позвоню…
Через неделю, прощаемся… Он заменил мне трубу, отказался назвать стоимость работы, согласился с моей ценой, на мгновение просветлел лицом, так, будто впервые видит столь хорошего человека, и попросил довезти до дому. Здесь близко. Я с радостью повез. Это моя последняя надежда хоть что-то узнать о загадочном Николае.
– Шумно у меня, – говорю, – дети замучили: то болеют, то хулиганят, то школа, то подготовка…
Молчит, теребит колено.
– А вы один живете?
– Теперь да.
Молчим. Едем.
– В случае чего поможете?
– Конечно.
– Вы всегда здесь?
– Всегда. С детства.
– И родители отсюда?
– Отец местный был, мать из Симферополя. Была.
– Значит, крымчанин настоящий.
– Получается так.
– Мне нравится Крым. Хочу здесь остаться пожить.
– Да? – Он поворачивается ко мне, и лицо его светится совершенно волшебным светом. – Надо вам тот насос, что в гараже, подключить. Напор будет больше. Я там все знаю. Ведь это я его когда-то ставил… – И как бы предупреждая мой вопрос: – Я сам позвоню.
Я так ничего и не узнаю о нем, хотя позже мне покажут окно квартиры в пятиэтажке, где он живет. И под окном я увижу старую облезшую модельку советского истребителя – игрушку, привязанную к подоконнику.
Я так ничего и не узнаю.
А пока смотрю, как он, чуть сутулясь, уходит от меня в раннюю крымскую осень. Бредет. Останавливается. Глядит куда-то вверх, на кроны начинающих желтеть деревьев. И, я уверен, лицо его светится в этот момент.
Ровным, каким-то нездешним светом.
«И свет во тьме светит…»
Памяти моей крестной матери Нины Георгиевны Бруни
Сейчас, когда я пишу эти строки, от той жизни, что я тщусь воспроизвести, не осталось ничего.
Только Зеленая книга.
То ли время так умело стирает любое присутствие деталей прошлой эпохи из жизни людей, то ли предметы, да и сами люди столь недолговечны, но прошедшие тридцать два года погрузили в пучину небытия весь материальный мир, что окружал меня тогда, весь реальный мир, что был мною, оставив лишь дымку воспоминаний. Которые – и это надо признать, – вполне возможно, являются уже больше чем наполовину плодом моего воображения.
Что же осталось верного, крепкого и неизменного оттуда, из той жизни, минувшей, канувшей, прошедшей?
Зеленая книга. Зеленая книга.
Да, сейчас, когда я пишу эти строки, от той жизни, что я тщусь воспроизвести, не осталось ничего, но Зеленая книга лежит рядом со мной. Она почти не пострадала от времени. Несколько первых страниц помялись да переплет истрепался на корешке…
Даже ее имя казалось мне невзрачным. Ну что такое Ира? Скука. Мы все в нашей компании (или, как тогда говорили, тусовке) имели звучные имена, яркие англоязычные прозвища. Иногда их получали по какому-то поводу, иногда из-за какого-то случая. А чаще придумывали себе сами. По Москве, Питеру, Львову, Минску, да по всему СССР ходило множество Стивов, Литлов, Джонов, Фредов…
Причудливых прозвищ, которые прибавлялись к имени, тоже хватало. На ум сразу приходят Майк Чернуха, Юра Террорист, Миша Красноштан, Леша Хоббит, Ира Скай и многие, многие другие…
Так что, когда она представилась, назвавшись просто – Ира, без какой-либо приставки, я даже поморщился.
Ну что такое Ира?
Я пытаюсь вспомнить, откуда в той квартире, где мы ночевали, читая Зеленую книгу, взялся ломик, которым я прогнал Боцмана, и не могу, но точно помню, ломик там был. Еще был старый круглый стол без скатерти, со вспучившейся от сырости и возраста столешницей, такой же дряхлый венский стул и диван без ножек…
Боцман явился неожиданно и приказал Ире собираться. Он был гораздо старше меня, думаю лет на десять или больше, так что в то время ему было около тридцати. Боцманом его прозвали за своеобразную шкиперскую бородку, которую он, видимо, сильно ценил и за которой следил…
Больше ничего выдающегося в нем не было. Этот человечек, вполне цивильный инженер, имеющий к нашей тусовке весьма далекое отношение, был Ириным любовником. Где-то познакомившись с ней, он разыгрывал страстную любовь будучи при этом женат, а Иру держал здесь, на хипповском «флэту», в нежилой квартире первого этажа. На втором этаже обитала знаменитая пара хиппарей Паша и Маша. Их «флэт» был местом тусовки днем и вечером, но ночевать часто приходилось на первом этаже.
Так вот, в тот вечер Боцман явно был недоволен чем-то. То ли тем, что дома у него не ладилось, то ли Ирой, то ли моим с ней соседством.
Скандал, разгоравшийся за стеной, принимал серьезные формы. Я слышал крики, звуки борьбы. Видимо, Ира не хотела собираться. Я встревожился. Честно говоря, было от чего. Несмотря на мирные декларации, наше общество было по-звериному жестоким. Иногда жестокость доходила до полной дикости.
Но пока это была простая возня. Возможно, она оборвется – криком, хлопками пощечин или, того лучше, звуками любви, как уже часто бывало.
Однако через пару минут я услышал мужской крик, как будто Боцман попал сам себе молотком по пальцу, а через пару мгновений ко мне в комнату влетела Ира.
Внешне она была невзрачной. Такая обычная кудрявая девочка с третьей парты. Когда я впервые увидел ее, то подумал: «Ей не место среди нас». Не место среди ярких и убогих, среди уродливых и прекрасных.
Ира была обычным воробьем. Правильные черты лица, тонкий заостренный носик, серые глаза…
Сейчас, когда я тщусь воспроизвести ту призрачную жизнь, что разбилась на мелкие осколки, смешалась с дорожной пылью и исчезла во времени, я могу вспомнить многое, но не ее лицо. Я почти не помню ее лица.
Только тонкие, почти прозрачные руки с бледными ладонями и белыми пальцами. А в ее руках ярким пятном видится мне – Зеленая книга.
Был вечер, когда Ира вбежала ко мне в комнату.
Желтая, слабая лампочка, что горела под потолком, делала все окружающие предметы мутно-зыбкими. Но даже в этой зыбкости кровь на Ириных губах была видна отчетливо. Красный след, на верхней и нижней губе. И на щеке слева.
Она успела лишь сделать два шага и прижаться к противоположной от меня стене, как в дверь вошел Боцман.
Боцман был мужчина некрупный. И, как сейчас я думаю, не слишком уверенный в себе. Он делал вид, что покровительствует Ире.
Подтянутый и аккуратный, что в нашей среде было редкостью, а еще и властный, в комнату ко мне он зашел, как к себе домой.
– Пошли! – сказал он Ире.
Эта кровь у нее на щеке и губах… И вид испуганный, загнанный какой-то.
– Здороваться надо, – сказал я. – И разрешения спрашивать, когда хочешь зайти в чужую комнату. Приличные мальчики всегда так делают.
– Тебя спросить забыли, пионер, – ответил Боцман и, в два шага оказавшись рядом с Ирой, схватил ее за руку.
Я пытаюсь вспомнить, откуда в той квартире взялся ломик, и не могу. Да и имеет ли это значение?
Мы жили в неверном, зыбком, как мутный свет пятидесятиваттной лампочки, мире. В нем был хаос. Вместо ломика мог оказаться топор, вместо Иры любая другая хиппушка…
Я схватил ломик и ударил им по круглому столу. Грохот. Стол сложился пополам и развалился. Второй удар пришелся по венскому стулу – спинка брызнула фонтаном щепок.
Больше ломать мне было нечего, и я бросил ломик в Боцмана. К счастью, промахнулся. Вернее, ломик, ударившись о дверной косяк и отскочив, стукнул Боцмана в плечо и со звоном грохнулся на паркет.
Совершенно ошалев от содеянного, я вдруг спокойно сел на диван, сказав:
– Когда входишь, надо здороваться. – Будто именно невежливость Боцмана, а не избитая девушка, вызвала вспышку моего гнева.
Боцман держался за плечо и смотрел на нас. «Сейчас он поднимет ломик и…»
Но Боцман не стал ничего поднимать.
Он ошарашенно смотрел на меня, потом взглянул на Иру.
– Идиоты малолетние. Сейчас менты приедут!
Развернулся и вышел. А мы остались.
Я посмотрел на Иру, которая все еще жалась к стене.
– Менты не приедут. Участковый был в среду. Мы им до лампочки. Максимум Пашка проснется.
– Не проснется. Он в отрубе.
– Тогда и вовсе. Давай спать, – предложил я.
– Подожди, – сказала Ира. – Мне там страшно. Можно я посижу у тебя?
Я задумался. Отношения в нашей тусовке были вольные, но у меня только-только начался роман с вполне домашней милой девочкой Сашей, и я не хотел изменять.
– Нет-нет. Мы почитаем вслух, – сказала Ира. – Просто почитаем.
– Почитаем?
– Ну да. У тебя большой диван. У меня есть подушка и плед. И лампа. У меня там еще лампа есть. Маленькая. И мы выключим большой свет. Заляжем на диван, и я тебе почитаю. Хочешь?
Я вдруг подумал, что ничего лучше быть не может. Лампа. Подушка. Плед. Девушка. И что там еще? Ах да, книга.
– Что будем читать? Какую книгу?
– Зеленую, – сказала она и ушла в свою комнату.
Книга действительно была объемным фолиантом зеленого цвета. Ира удобно устроилась на диване, завернувшись в плед, и начала читать при свете лампы.
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога.
Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков.
И свет во тьме светит, и тьма не объяла его…»
Это было Евангелие от Иоанна.
Я никогда не читал и не слышал этого раньше.
Когда-то отец дал мне почитать редкую книгу – «Мастер и Маргарита», сказав, что в ней можно узнать и о Христе. Но тот герой понравился мне меньше всего. Это был жалкий и плоский в сравнении с Воландом и Бездомным персонаж, который что-то бормотал…
Той ночью же я услышал совсем немного, но уже на второй главе я понял, что тот, о ком повествует Зеленая книга, сильно отличается от персонажа Булгакова. Он отличался вообще ото всех, про кого я слышал и читал до сих пор. Человек, который… «сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец и волов; и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул», был совершенно живой. Я не только видел и чувствовал все происходящее, но и понимал, что столкнулся с какой-то доселе невиданной правдой. С реальностью, которая точно существовала, но не имела с моим миром ничего общего. Я не мог этого выговорить и объяснить. Прямо сейчас, именно так, прямо сейчас Христос, точно такой, как в Зеленой книге, превращал воду в вино по просьбе матери. И прямо сейчас Боцман проходил медицинское освидетельствование в травмпункте. Прямо сейчас шел по воде и укорял маловеров, прямо сейчас наркоман Паша лежал этажом выше на кушетке, закатав себе что-то в вену, и в это же время Христос кормил хлебом пять тысяч человек. Прямо сейчас Боцман в отделении милиции писал заявление, и прямо сейчас воины сплетали венец из терна для Христа…
Все, что происходило в Зеленой книге, было самой настоящей реальностью. И эта реальность не только никак не соприкасалась с моей, но вдруг сделала мою жизнь какой-то ненастоящей, блеклой, уродливой.
На дворе была глубокая ночь, когда мы закончили читать. Я посмотрел на Иру и, желая скрыть потрясение, спросил…
– Это тебе, – сказала Ира. И дала мне Зеленую книгу. – За то, что защитил меня. Она теперь всегда будет с тобой.
– Потому что мы нашли друг друга. Мы тут все, как дети, которые потерялись. И ищут друг друга во тьме.
– Откуда у тебя это книга?
– Взяла из дома, когда убегала. Это книга отца…
– А он… – хотел было спросить я, но не знал как.
– Он священник. Поп, по-вашему.
– Он читал тебе эту книгу?
– И ты все-таки сбежала от него? Или он умер?
– Нет, он стал пить. Я не люблю, когда он пьет.
– Многие пьют вообще-то. Некоторые торчат…
– Понимаешь, в его случае это было…
– Неправильно? – хотел помочь я.
– Нет. – Она покачала головой. И задумалась. – Понимаешь, мы так же с ним читали… И получается…
– Он как будто это все предал?
Мы не спали ту ночь. И, надо ли добавлять, не притронулись друг к другу. Мы разговаривали о книге, я задал много вопросов, Ира, оказывается, многое знала…
– Кажется, я почти все понял, но вот эта женщина, с которой Христос говорил про воду… Там совсем тяжело…
– Тебе тоже понравилась эта глава? Про встречу с Самарянкой?
– Да, только она какая-то загадочная.
– «Вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную…» – процитировала Ира и вдруг широко улыбнулась. Улыбка на миг преобразила ее лицо со следами побоев. Она вся точно осветилась этой улыбкой.
«И свет во тьме светит, и тьма не объяла его», – подумал я почему-то.
Милиция явилась под утро. Нас забрали.
Когда нас уводили, Ира шепнула, что, когда меня выпустят, я могу забрать Зеленую книгу себе. Она указала глазами на подоконник.
Да. Зеленая книга лежала там.
Иру вроде бы отпустили быстро, сняв показания. Меня же, как уже имевшего психиатрическую статью, отправили в пятнадцатую больницу.
Я вышел через пару месяцев, и дальше все было так, как я уже описывал в других рассказах. Я вернулся домой к родителям. Потом приехал на «флэт» к Пашке. Тот скончался от передоза. Мне удалось пробраться на первый этаж, но, уж конечно, Зеленой книги там не было. Глупо было думать, что Ирин подарок дождется меня в этом притоне. Он не дождался меня, как не дождалась и Ира. Она исчезла. Возможно, вернулась домой к отцу. Если честно, я надеюсь на это. Мне даже хочется досочинить что-то в этом роде. Но, пожалуй, не буду. В той жизни встречи и расставания навсегда были нормальным делом. В конце концов, мы оставались лишь детьми, ищущими друг друга во тьме…
Во тьме мы встречались и расставались, навсегда исчезая во тьму.
Тем же летом я крестился на дому у моей искренне верующей тетки.
Священник остался доволен моим знанием Евангелия. И почти никто не заметил, как я удивился, когда после свершения Таинства тетя вручила мне подарок.
Это была Библия «посевовского» издания. В обложке зеленого цвета.
Она теперь всегда будет со мной.
Противная обезьяна
Мне было четырнадцать, и я любил смотреть в предвечернее небо. Еще мне нравилось носить вельветовую кепку и поливать ее одеколоном «Ожен».
Мама ругалась: «Куда все время одеколон пропадает?» – но понюхать мою кепку не догадалась.
Мне было четырнадцать, и летнее предвечернее небо, всегда разное – фиолетовое с розовым, голубое и тревожное, – волновало меня.
Я любил смотреть на окна многоэтажных домов и думать, что где-то там живет моя любовь, именно та, что одна на всю жизнь. И стоит ей сообразить и выйти – а тут как тут на скамеечке сижу я, в кепке, залитой одеколоном.
Но небо, тревожное и далекое, странное и величественное, нравилось мне больше всего.
Было время, когда ко мне на скамейку подсаживался длинный бородатый мужчина – ухажер тети Веры. У тети Веры было несколько ухажеров. Не вместе, конечно, а поочередно. И вот один из них, тот самый, бородатый, был режиссер.
Так как вокруг все считали меня склонным к актерству, но слишком нервным, то тут же рассказали, что вот этот длинный бородатый – «настоящий актер-режиссер с телевидения».
Звали его Михаилом. Когда он видел меня, сидящего на скамейке, то обязательно морщился, как будто глядел на жабу с оторванной лапой.
Морщился, но все равно подсаживался. И начинал тихим и вкрадчивым голосом говорить:
– Все в действии надо выражать, понимаешь ты. Нельзя без него. Невозможно.
– Понимаю.
– Действие – оно, брат, залог всего. Что ты ни выражай.
– Понимаю.
– Вот что ты хочешь выразить, как творческая личность?
– Не знаю. Я вот все на небо смотрю. Хочу его выразить.
– Это можно. Через действие…
– То есть как? – Я и вправду заинтересовался. Как через какое-то действие выразить небо.
– Ну, два человека, спорят. У одного телескоп. Другой, понимаешь, романтик… получается конфликт…
Мне стало скучно. Я сидел и смотрел на окна, и за каждым из них, возможно, жила моя будущая любовь.
Однажды я побывал у тети Веры в гостях. Ей было около тридцати, и она неизменно жила с одним из кандидатов в мужья. Когда мы с родителями пришли по приглашению тети Веры, дабы поддержать интеллигентное общество, на ее день рождения, в кандидатах ходил как раз он – дядя Михаил, актер-режиссер.
– Учился у Хейфеца, – тихо сказала мне тетя Вера. Я не знал, кто это, но сделал вид, что потрясен.
Тетя Вера между тем сияла. Я все пытался понять, что в ней изменилось, кроме красного платья. Потом заметил, что она накрашена и сильно надушена. Была она худа и невысока. Из тех женщин, которые вроде ничего себе. Но мне она нравилась, конечно. Собственно, в четырнадцать лет мне нравились буквально все взрослые женщины, кроме тех, у кого излишний вес, и совсем старушек.
Но в тот вечер тетя Вера была неотразима. Пока все выпивали белое вино (так тетя Вера и говорила: «Хотите белого вина?» И, так как другого вина на столе не было, то все хотели именно белого) и говорили тосты, мои родители из вежливости оставались в гостях, но как только народ перешел к растворимому кофе, сослались на трудный завтрашний день и заторопились домой.
Мне же разрешили остаться. Благо жили мы в том же подъезде двумя этажами ниже…
Во время кофе все достали сигареты. Зачем-то выключили свет, оставив горящим желтый торшер. Включили пластинку Джо Дассена. Гости начали танцевать.
Дядя Михаил сидел и курил. Тетя Вера, присев рядом на ручку кресла, что-то шептала ему. Причем мне показалось, она настаивает. Объясняет. Просит. При этом она все время поправляла ему воротник рубахи.
Но дядя Михаил курил и иногда отрицательно качал головой на ее слова.
Тогда тетя Вера встала и подошла ко мне.
– Что же ты не танцуешь? – спросила она и, схватив мою руку, потянула меня танцевать.
Я был не против. Единственное, танцевать было трудно, потому что тетя Вера очень прижималась.
Я удивился. Неужто она влюбилась в меня? Вела она себя именно так. Время от времени, танцуя, я видел дядю Михаила. Он курил и, бросая взгляды на меня, морщился, как обычно.
А мгновения тянулись, и я все думал, когда же тетя Вера заговорит о своей любви…
И вот она действительно губами приблизилась к моему уху и прошептала…
То, что она прошептала, было в тот момент настолько странным, что я помню и слова, и интонацию до сих пор.
– Джо Дассен умер, – сказала она. – Но он навсегда останется в наших сердцах.
И тут музыка кончилась.
Я отпустил тетю Веру и сел на место. Она зачем-то пошла на кухню. Я отхлебнул остывший уже, горький кофе. И не заметил, как ко мне подошел дядя Михаил. Он тоже наклонился и тихо сказал мне:
– Противная ты обезьяна.
И сел на место.
Я совершенно не знал, что делать. И когда все гости стали собираться, ушел и я. Если бы тетя Вера любила меня, то, наверное, остановила бы. Но она только сказала:
– Пока, заходи к нам еще.
На следующий день дядя Михаил опять вышел во двор с сигаретой и, поморщившись, присел со мной рядом.
– Есть ответственность личности перед зрителем, – сказал он. – Морально-этические критерии. Это основа.
Я не понял, но кивнул.
– Слушай, а что от тебя так одеколоном воняет? – спросил он. – Ну нельзя так. Ты же ведь мужчина все-таки… а не какой-нибудь там… ты ведь не какой-нибудь там?
– Нет, – ответил я, – не какой-нибудь.
Я встал и пошел к подъезду.
– Погоди ты, личность! Ты что, обиделся?
– Нет… – Я помолчал. – Мне кажется, тетя Вера вас не любит. Это она все от безысходности.
Дядя Михаил не разозлился. Просто вдруг посмотрел на меня удивленно.
– Слова-то какие знает. – И повторил, точно пробуя слово на вкус: – Без-ыс-ход-ность…
– А еще, – сказал я, – я не какой-нибудь. Просто кошка наша, Муська, мне кепку обоссала. Вот я и лью одеколоном. А то запах не отстирывается.
Зачем я это сказал, не знаю. Как не знаю, какое впечатление произвело на актера-режиссера мое откровение.
В следующий раз я увидел его только по телевизору. Он играл джинна в детской передаче по третьему каналу.
А у тети Веры появился другой. Дядя Василий. Про которого она восхищенно сказала мне, что он физик. Ученый.
Но мне было все равно. Я совсем не ощущал себя противной обезьяной, но меня очень волновал вопрос: кто же я на самом деле? И еще меня волновали светящиеся окна соседних домов, за которыми, возможно, жила моя единственная, вечная любовь.
И небо. Синее и фиолетовое. В розовых прожилках. Бесконечное предвечернее небо.
Дойти до моря
Нет, не сама с собой она говорит, орет, ругается.
Не сама с собой, как думают те, кто ее совсем не знает.
Она разговаривает с ногами так, будто они отдельные живые существа.
И не слишком, кстати, приятные.
Кричит на них почем зря.
– Ну пошли! Пошли! Хватит подгибаться, мать-перемать.
И ковыляет так целеустремленно, что не смогу придумать причины, зачем я сам бы таким усилием воли пошел.
Что могло бы меня к таким мукам подвигнуть?
Но она бредет, опираясь на палку.
А иногда в порыве злобы бьет этой палкой себе по ноге. И бьет так, что, кажется, должна бы упасть старушка и взвыть от боли, а нет. Орет и лупит палкой по ноге:
– Пошла! Пошла, говорю.
Упрямая старуха.
Мое любопытство удовлетворили наши бабки из прихода в храме.
– Как же, Сильевна это, – рассказывают. – Характер противный. Ругача-а-а-я!
– Сильевна?
– Ну да, так кличут. Баба Галя еще. Галина Васильевна. С тех пор как Петька ее помер, ноги подкашиваться стали. И характер еще хуже сделался. И так-то был не то чтобы.
– Не то чтобы. Стервь же всегда. Просто Петька ее смягчал. Недаром же сказано – прилепись, мол, к мужу. Вот Петька – чудо был. Такой мужик!..
И я узнаю о Петьке…
…Старушки наши благообразные, тихие одуванчики, приободряются, оживляются и даже хорошеют при воспоминании о нем.
Лица светлеют, а слова теплеют.
– Да, Петька, Петька… Хороший был мужик. Правильный. И для всех слово найдет.
– Слово? – спрашиваю.
– Да. Такой ободрительный был. Как чего скажет – точно поцелует.
– Слушай, чего ты такое несешь про покойника-то? Поцелует! Ишь ты, размечталась. Не слушай ее. Хороший он был, душевный. Душой ласковый.
И я вижу, что старушки мои вовсе и не старушки, а женщины, которые вспоминают чужого Петьку как какой-то свой тайный, почти сказочный идеал.
– Душевный, а полюбил стервь.
– Может, и не полюбил. Просто сунулся по молодости, а дальше что – порядочный мужик был, страдал…
– Опять врешь. Любил он Сильевну! Цветы сажал ей.
– Может, она красивая была? – спрашиваю.
– А и ничего себе. Так гожая.
– Марыська у сто раз лучше. Ан нет. Точно околдовала Петьку стервь.
И бабки переключаются на спор о какой-то Марыське, которая и на лицо, и на фигуру была лучше всех, да рано померла…
Так что историю про цветы под балконом Сильевны я узнаю позже.
Собственно, и истории никакой нет. Петька, работавший на корабельном заводе в нашем приморском поселке, был совершенно обычным поселковым парнем. Может быть, действительно чересчур добрым, почти до бесхарактерности преданным и одновременно физически сильным. Вот от бесхарактерности этой и переехал он жить ближе к заводу. В панельную пятиэтажку. Переехал куда не хотел. Он-то вырос в частном секторе в своем доме. Любил на маленьком участке розы сажать-поливать. И росли они в местном климате огромными благоухающими кустами…
Но Сильевна, как всегда, победила. Дом продали брату Петьки в рассрочку. Деньги потратили на хорошую гэдээровскую мебель да остатки прожили.
А квартиру получили от завода Петькиного, где его ценили.
Ходить на работу стало близко, а розы…
Клумбу Петька быстро организовал рядом с подъездом, отгородив угол шинами. В тенистом дворе розы росли плохо. Редкие листья, еще реже цветок-другой. Палки. Но под неусыпным Петькиным контролем не умирали. А с годами так и вовсе превратились в крепкие невысокие кусты…
Сильевна всегда ругала Петьку и за вот эту дурацкую страсть к цветоводству, и за общую какую-то бесшабашность с бесхребетностью, и за…
Всегда находилось за что.
Петька же в ответ шутил и шел на поводу. При этом розы не бросал.
Как не бросал и стервь, которая, по мнению всего поселка, губила своей стервозностью отличного парня Петьку.
Но сгубить его было нельзя. Разве что расстроить. Это ей удавалось.
А так жил он и будто не замечал, с кем живет. Веселый бежал на завод. Веселый возвращался с завода к своим розам и к ней, Галочке.
– Ты, Петька, смотри! Всем на заводе заказы давать будут. Уж не профукай!
– Не профукаю, Галочка.
– Не профукай, говорю, а то, знаю тебя, опять уступишь какой-нибудь фифе вашей. Смотри!
– Да уж только раз! У нее, чай, вон двое. Мальчишки. Ей нужнее.
– Смотри, говорю. Мальчишки у нее. Нам мяса тоже надо. Она вон неизвестно от кого нагуляла…
– Чего это неизвестно, Галюнь. Известно. Посадили Серегу.
– Вот я и говорю, не надо неизвестно от кого детей носить. Ворье.
– Трудно женщине одной.
– Это мне с тобой, шалопаем, трудно! Другие вон. А ты!
Петька замолкал и думал о чем-то, мрачнел ненадолго. А потом взгляд его опять теплел.
– А что, Галина Васильевна, коли опять мясо в заказе будет, заготовим мы с тобой знатный шашлык и пойдем к морю.
– Чего это. Все ты сашлык, сашлык! Да на море.
– Мясо в уксусе замачивается. С луком, говорю. И жарим на углях. Технология!
– Не люблю я море! Воняет там гнилым.
– А коли ветер? Дойти до моря вдвоем уже дело, Галюня. От моря добреют…
Но вместе на море дойти так и не привелось.
Заказы исчезали на их пятиметровой кухне, деньги пропадали в загашнике.
А Петя неизменно ходил на завод и с завода, сопровождаемый грустными взглядами местных барышень.
Они старались как-то сойтись с Петей, и вовсе не для тайных утех. Просто разговор с ним был для всех радостью и даже как будто отдыхом. А он не отказывал никому ни в помощи, ни в разговоре.
Красивый, добрый, бесхребетный.
Если б не она, то все бы раздал, всем бы помог да по рукам и пошел. И пусть стервью кличут.
А он как будто бы и вправду, пока жив был, смягчал ее. Умел как-то подход найти.
И когда они после ругани, разговоров и любви засыпали под утро на полуторной кровати рядом, то она становилась совсем другой, обвивала его, как трава ствол дерева, прижималась и шептала:
– Эх ты, Петька-шалопай.
– Нам бы мальчика, Галюнь…
– Куда – сюда, что ль?
– Да хоть бы и сюда, потеснимся.
– Спи уж, потеснится он. Вот дадут от завода чего побольше площадью, тогда…
– В доме-то лучше было, просторнее.
– Еще что?
– А еще нам с тобой до моря бы дойти, шашлык, понимаешь…
– Хорошо, вот премию получишь…
Прошел уже не один десяток лет с тех пор, как умер Петька, а его все вспоминают.
На рынке и в храме бабульки, да и мужики – те, что выжили после девяностых… Точно Петька этот оставил какой-то след, что-то такое сделал, что вспоминают они все, да не говорят.
– Хороший мужик был. Душевный.
– Душой ласковый.
И умер Петька не по пьянке. Опять помогал на втором этаже антенну закреплять. Лестница деревянная подломилась. Упал, спиной ушибся.
Домой сам пришел. Лег, таблетку анальгина попросил. Ночь простонал, а к утру и глаз не открыл.
И сказал только странное, в бреду, наверное:
– Галюнь, скажи Васе, что там, во дворе, у сарая, я хороший инструмент запрятал, хотел его пользоваться научить, как вырастет.
– Какого Васю, какой сарай, какой инструмент, от кого запрятал?
Она не понимала, что Петя помирает, думала, отлежится.
– От тебя. Ты бы не позволила…
Но не было ни сарая, ни инструмента, а кто такой Вася, она так и не догадалась.
Похоронить Петьку помог весь поселок.
Потом, уже после похорон, она пересчитывала деньги, которые ей дали Петины друзья с завода и из поселка. И поразилась, какая огромная сумма получилась, можно было купить новую мебель даже… И после девятого дня она все доставала деньги и пересчитывала, сама уже не знала зачем.
А беда с ногами у Гали случилась позже. Когда вдруг увидела она то, что знали все уже больше года. Розы Петины засохли. Превратились в палки. Умерли вместе с ним.
В прошлой жизни она их не любила. Не смотрела, отворачивалась, не поощряя мужнину блажь.
А тут увидела. И закричала. И упала, точно по ногам ей палкой ударили…
Соседи услышали крик, выбежали, понесли домой.
А она их ругала. Точно прорвало ее, точно возненавидела она всех, весь мир и себя прежде всего. И ноги свои, которые с тех пор стали слабые, едва двигались, волочились. И она била их палкой, как бездомных собак. Как врагов.
Но лежать дома отказывалась. Каждый день шаг за шагом она шла куда-то, орала, ругала всех прохожих.
Лупила палкой по ногам. Потому что больше достать никого не могла. Животные и люди сторонились в ужасе.
Бабки в храме рассказали, что кричит она, злится, потому что никак не дойдет.
– Злоба стервь держит на земле. Угубила Петьку.
– Врача бы вызвала, был бы жив. Сама знает.
– А куда она ходит каждый день?
– До моря. Да не дойдет. Это ж два с лишком километра.
– Может, ее довести? – спрашиваю.
– Нет, – машут рукой бабульки, – она не согласная. Получишь клюкой. Она уж так много лет на прогулки ходит. До магазина ли, дальше, и как домой-то потом приползает?
– Кто знает… одно слово, стервь.
Я тоже боюсь подойти к этой старухе.
Которая каждый день ругает и бьет свои ноги.
Которая каждый день, еле передвигаясь, бредет до моря.
И не может дойти.
Беби, живи
– Папа, поиграй со мной, – попросила пятилетняя Наташа. И выложила на кровать пару своих любимых кукол. – Эту зовут Бьянка, а эту Беби.
С одной стороны, то, что поутру не надо вылезать из постели, обрадовало меня. Но с другой – раз появились куклы с именами, то явно придется играть в ролевые игры. А я с возрастом как-то утратил энергию и такую способность…
– Давай поиграем, – говорю.
Я совсем не могу отказывать дочкам. А они пользуются этим. С тоской приготовился говорить кукольным голосом за Бьянку.
– Пап! Нужно надеть на Беби платье! У нее как-то снялось.
Снимать и надевать платья я еще не разучился. Особого рвения не нужно, а опыт как раз пригодится.
Не тут-то было.
Как Наташа умудрилась снять с куклы платье, которое, видимо, по мнению разработчиков, должно было быть на ней всегда, это один вопрос. Как надеть платье, которое и снять-то невозможно?
– По-моему, Беби здесь холодно, без одежды, – сказала Наташа.
– Сейчас. – Я попытался натянуть платье на куклу через голову. Не налезло. – Сейчас.
Потянулся и прикрыл форточку.
– Все равно ее надо одеть. Посмотри, какое красивое платье!
– Да, малыш. – Я попробовал напялить платье на Беби снизу. Мешали пухлые и кривые кукольные ножки. – Как ты его сняла-то вообще?
– Не знаю. – Наташа пожала плечами. – Пап, а Беби сейчас не больно?
– Да нет! – ответил я и на всякий случай прекратил сдавливать Беби грудную клетку. – Я просто хотел прижать руки… Может, поиграем пока без платья?
– Паааап, ты что? Например, Беби и Бьянка пойдут гулять. И одна девочка без платья. Как ты себе это представляешь? – спросила Наташа, явно подражая маме или бабушке.
Я представил.
– Ну, представить-то я могу. Допустим, они идут на пляж. Она уже сняла платье. А Бьянка постарше. Стесняется снимать платье по дороге. Как тебе такое?
– Все хорошо, папа. Но сейчас зима. На пляже прохладно. Можно заболеть гайморитом.
– О! И мы будем лечить Беби! Сделаем промывание. Кукушку!
Наташа подала мне платье.
– Может, просто не ходить зимой голой?
– А она морж!
– Пап! Беби – кукла-человек, а не кукла-животное! Давай просто наденем платье!
Я сдался и принялся одевать Беби. В голову мне пришло два варианта. Первый: распороть платье там, где должны быть застежки или молния. Я стал вспоминать, как однажды пытался в самый важный момент расстегивать такую молнию и никак…
– Пап! Ты все сидишь, думаешь и совсем не играешь!
– Что лучше сделать, застежки или молнию? – спросил я в надежде отвлечь Наташино внимание теоретическим разговором.
– Лучше бы мне не снимать с нее платье, – вздохнула Наташа. – А ты, папа, умеешь шить?
– Нет. Вот распороть я бы, наверное, смог.
Перспектива вставать с кровати и идти искать ножницы, нитку и иголку не радовала.
– Есть второй вариант… – сказал я и задумался. Да, был второй вариант. Платье не надевалось на Беби, потому что мешали руки.
– Какой вариант?
– Мы сделаем Беби небольшую медицинскую операцию.
– Папа! Ты оторвал ей руку! – вскрикнула Наташа. – Ей же больно!
– Что ты! Это же медицинская операция. – Быстро, чтобы Наташа не успела возразить, я отвернул у куклы руку. Потребовалось лишь небольшое усилие. – По показаниям. Сейчас мы… – я задумался над медицинским термином, – отсоединим ей вторую конечность и потом наденем платье и пришьем все обратно.
– Ты забыл наркоз.
– Нет, что ты, – соврал я. – Наркоз я сделал. И местный, и общий. Как можно отры… ампутировать руки без наркоза. Представляешь, как бы ты орала, если бы тебе отрезали руку совсем без обезболивания?
Наташа представила. Пока она замолкла, я осуществил первую часть плана. То есть отложил оторванные руки. И попытался одеть Беби. Не пролезала голова. Как они вообще делают этих кукол?!
– Пап, а разве так можно? При наркозе голову отрывать?
– При наркозе можно, сейчас и не такие пересадки делают!
Теперь платье легко наделось. Я воодушевился.
– Почти готово. Беби в платье!
– Но пока она без рук и головы. Ты сделаешь ей пересадку обратно?
– Конечно! Легко! Нам же надо успеть, пока держится наркоз! Представь себе, ты отходишь от наркоза, а голова лежит отдельно! Ты такая думаешь: как хочется пить! Начинаешь шарить вокруг себя руками, а рук-то и нет! Они отдельно! Ха-ха.
– Папа, пожалуйста, приделай Беби руки!
Я ошибся. Руки приделать было сложно. Казалось бы: вот дырка в плече, вот рука с простым креплением. Когда я производил ампутацию, то подумал, что починка займет не более пяти минут. Не тут-то было. Края отверстия в плече загибались, кривились, подламывались, но никак не хотели принимать в себя руку. Наконец вроде удалось.
– Пап, смотри, платье застряло в плече.
Действительно, ткань как-то затолкнулась внутрь.
– Это ничего, – растянул губы я, изображая Улыбку Уверенного Отца. – Мы сейчас все легко исправим.
Это было действительно легко. Я просто потянул за подол, и ткань вылезла. Но вместе с ней опять выпала рука.
– Папа, операция прошла неудачно? – спросила дочка.
– Все удачно! Сейчас я вставлю, сейчас…
Я пытался и так, и эдак. Вкручивал, но рука просто проворачивалась. Сильно нажимал, но от этого лишь деформировалось туловище. Пытался протащить руку изнутри, через дырку от головы, но мешала растопыренная Бебина ладошка.
От напряжения я вспотел. Хотелось принять душ.
– А Беби не умрет? – спросила Наташа.
– Нет, конечно! От чего? – Рука куклы в очередной раз сорвалась и упала. – От болевого шока, что ль?
– Я не знаю, – ответила Наташа. – Сколько можно существовать без головы под наркозом? Папа, а что такое болевой шок?
Я не ответил. Только пробормотал:
– Сейчас все прикрутим на место. Просто терпеливо подожди. Это лишь обычный наркоз.
Наташа села рядом, принялась терпеливо ждать и запела песню на мотив «Солнечный круг, небо вокруг», знакомый ей с детства:
– Беби, живи! Не умирай! Это обычный наркоз лишь!..
Рука наконец встала на место.
– Смотри! – крикнул я. – Вот видишь! Получилось.
– Ура! – ответила мне Наташа. – Надеюсь, с головой будет так же просто!
С головой оказалось так же тяжело. Там крепление было пожестче. Только вот когда наконец раздался щелчок (похожий на хруст позвонков) и голова встала на место, у Беби отпала левая нога.
– С головой все же лучше… Даже без руки и ноги, – успокоила меня Наташа. – Главное, что наркоз пока не отошел.
– Главное, – говорю, – что мы платье надели. И теперь Беби может идти купаться зимой.
– Да! – обрадовалась Наташа. – Давай, пап, вставляй руку и ногу…
В юности я один день работал на автосервисе. Мой отец, который трудился там полжизни, хотел пристроить и меня. Но к вечеру прогнал. Я сломал какую-то деталь, которую, по его словам, невозможно было сломать. К технике у меня склонности не оказалось. Отца я разочаровал, кажется, навсегда…
Однако с ногой и рукой куклы я через полчаса справился. Мне было страшно навсегда разочаровать дочь.
Она, устав ждать, ушла играть с другой куклой. А когда вернулась и я передал ей Беби, со всеми конечностями на нужных местах и в платье, Наташа протянула мне Бьянку:
– Вот, – сказала она. – Я мыла Бьянку в ванной, и в нее залилась вода. Нужно оторвать ей голову и вылить. Если можно, под наркозом…
Со временем
Когда я просыпаюсь утром и, не вставая с постели, открываю занавеску на окне, то слышу море. Особенно хорошо, когда залив штормит, но даже в штиль я слышу его. Как будто Аня шепчет мне: «Дурак! Какой же ты дурак…»
И от этого мурашки по коже.
А она шепчет, шепчет…
И под шепот моря я иду на кухню и готовлю макароны на завтрак. Я люблю макароны на завтрак.
Раньше, давно, макарон было мало. С дырками, без дырок и ракушки. Всего три сорта.
А потом, со временем, появились разные макароны. Всякие итальянские, и румынские, и наши. Бантики, конвертики, короткие трубочки и гнезда.
Однажды я купил тонкие, как нитки, макароны, которые назывались «анжели капелли». Или «капелли анжели». Я забыл. Было написано по-иностранному, но я посмотрел в интернете, как переводится. Знаете как? Прическа ангела.
Вот. Я люблю есть на завтрак прическу ангела с сыром. А если прически нет (в продмаге она пропала со временем), то я ем поочередно трубочки, конвертики, бантики и спагетти.
С сыром, конечно.
Мне никогда не надоест шепот моря за окном и макароны с сыром на завтрак.
Еще давно, я жил в детдоме, там макароны давали только на ужин. Зимой с суховатым мясом, а летом с овощной подливкой.
Я спросил на кухне: «Почему нельзя летом давать макароны с мясом?»
А повариха тетя Маша говорит: «Летом, – говорит, – с мясом нельзя по ГОСТу. Летом, мол, вы все потравитесь с этой тухлятины».
Ну, я еще спросил: «А со временем можно будет делать макароны на завтрак, пусть и с кабачковой подливкой?»
Она говорит: «Вот школу закончишь и ПТУ, пойдешь работать, будешь круглый год макароны жрать».
«Со временем, – говорю, – мечты сбываются».
«Чего ты заладил, – говорит, – со временем, со временем, вот зубы на полку положишь, и будет тебе со временем».
Она была права. Не то чтобы я после детдома зубы на полку положил, но макароны мог есть всегда.
Окрошку нельзя зимой, а летом – макароны с мясом.
Теперь мне макароны с сыром можно всегда.
Макароны с мясом я разлюбил. У меня никак не получается сварить кусок мяса, чтобы, провернутый, он был таким же жестким и хрустящим, как у нас в детдоме.
А тереть сыр в макароны меня научил Вася.
Вася мой друг.
У него есть сестра Аня. Мы зовем ее Анка. Почему, я не знаю. А Вася еще добавлял: пулеметчица.
И хотя Вася и Анка давным-давно уехали из нашего городка, но я их помню. Они настоящие друзья.
У меня теперь много друзей по работе. Я – сантехник, работаю по району. У сантехников всегда много друзей.
Не все друзья одинаковые. Таких, как Вася и Анка, у меня уже нет, и хоть им я не делал сантехнику, но дружили мы крепко.
Первой уехала Анка. В смысле Аня.
Уехала учиться. Я говорил ей: «Зачем? Можно же учиться здесь». Например, у нас есть техникум, где учат парикмахеров. И еще стипендию дают. Пять тысяч, между прочим. Когда я прохожу мимо техникума, то всегда замедляю шаг там, где первый этаж, слева на углу. Все самые красивые девчонки учатся там. Я бреду под окнами и слушаю, как они болтают. Чирикают, как птицы.
Однажды я шел под окнами, а они курили в форточку. Видимо, нарушали закон, у нас нельзя курить в помещении. Я думал сказать им это, но решил пройти мимо. Нельзя вмешиваться в личную жизнь.
А они говорят:
– Иди сюда, мы на тебе полубокс отрабатывать будем.
А я говорю:
– Я не люблю, когда на мне бокс отрабатывают. Тем более вы курите в помещении, а это спортсменам нельзя и законом запрещено.
А они сигареты попрятали и говорят:
– Иди, мы тебя пострижем! Бесплатно!
И я согласился. Хотя мне это было очень трудно. Слишком много красивых девушек сразу. И все шутят.
Но потом я даже привык. К концу стрижки. И все ждал, что они меня опять позовут. Всегда с работы и на работу ходил мимо тех окон. Но они что-то не позвали.
Жалко. Все самые красивые девушки – парикмахеры.
Я говорю Анке:
– Анка, шла бы учиться на парикмахера. Ты очень подходишь.
– Во-первых, – отвечает, – я не Анка, а Аня, а во-вторых, почему это ты думаешь, что парикмахер – это то, что мне нужно?
– Все самые лучшие девушки там, – говорю. – А потом, вот ты уедешь, там выйдешь замуж и не вернешься.
– Может, и так. А ты что же, будешь жалеть?
– Да, – говорю, – мы могли бы пожениться со временем.
А она как захохочет.
– Да разве за друзей замуж выходят? Мы ж с детства вместе, я знаю, говорит, где у тебя заплатка на трусах и какие ты программы смотреть будешь, если на телевизор накопишь.
– Я тоже знаю, – говорю. – Все же ты подумай. Уедешь, а, может, там из окна не будет слышно море.
– Никакой романтики, – говорит. – Парикмахерские курсы и море.
– Зря ты так. Там лучшие девушки. А море… – говорю я и во рту у меня становится сухо. – Можешь прошептать мне что-нибудь на ухо? Это не будет ничего значить.
– Конечно, не будет, – говорит она и наклоняется к моему уху.
Она так близко, что я чувствую сладковатый запах дезодоранта, созданного специально для женщин.
– Дурак, – шепчет и моему уху становится щекотно. – Какой же ты дурак!
– Вот! – говорю я. – Так и шепчет море. Прям мурашки по коже. Теперь я всегда буду слушать море, а слышать твой шепот.
– Учился бы ты у настоящих парней, – говорит Анка. – Настоящий парень поехал бы вслед за девушкой, если бы любил.
– А зачем настоящий парень поедет за ней? Если бы она любила настоящего парня, то осталась бы и закончила парикмахерские курсы, например.
– Дурак. Просто дурак.
Это теперь мне будет шептать море по утрам.
Она уехала и не вернулась.
Вася тоже уехал. Но если Анка рванула в Москву за настоящим мужчиной, хотя, по ее идее, это настоящий мужчина должен был ехать за ней, то Вася – потому что был недоволен.
Странно. Вася всегда был всем недоволен. То школой, то учительницей, то их с Анкой родителями, то еще чем-то.
И всегда строил планы.
– Поеду, – говорит, – в Москву, учиться.
– Это, – отвечаю – дело хорошее, а на кого там?
– В универ, на философа.
Я аж опешил:
– Будешь в бочке жить со временем?
– Почему?!
– Ну помнишь, в школе рассказывали, философ жил в бочке.
– Ах ты, серость, – говорит он и морщится. – Философия – особая форма познания мира, вырабатывающая систему знаний о наиболее общих характеристиках, предельно-обобщающих понятиях и фундаментальных принципах реальности.
– Ясно, – говорю. – Тут без бочки не обойдется. А кем работают философы? Их куда распределяют?
– В институты.
– А там они что вырабатывают? Систему знаний о наиболее общих принципах?
– Дурак ты, дурак, – говорит Вася, как его сестра Анка. Хорошо хоть не на ухо.
Он уехал и, конечно, не вернулся. Жаль, мы так здорово дружили втроем.
И вот прошло много лет. У меня есть квартира. Если смотреть из окна кухни, то видно море. По утрам я слышу его шепот.
Я отучился в ПТУ и работаю сантехником. У меня много друзей. Они часто звонят и говорят, что хотят видеть меня. После того как мы попьем чаю, я помогаю им с сантехникой.
У нас в городке такая старая сантехника! Дома в основном строились, еще когда голодал американский ученый Чарльз Хайдер. Когда мы с Васей еще не были знакомы. И вот теперь трубы все ломаются как ни попадя, и со временем их все нужно будет заменить. Но денег пока у государства на это нет. Поэтому у меня много друзей. А еще появился интернет. Сначала я зарегистрировался в «Одноклассниках» и нашел там большинство моих знакомых, кому я чиню и чищу трубы. И Анку нашел.
Мы с ней стали переписываться, и она говорит, что у нее все хорошо. Работает парикмахером, кстати. Я так и думал, потому что все красивые девушки учатся на парикмахеров.
Пишет, что третий муж добрый. Они хотят уехать в Финляндию, как только супруг бросит пить. Его туда друзья зовут. Анка говорит, что там для ее дочки будет лучше.
«Социалка, – пишет, – другая».
«А море там есть?» – спрашиваю.
«Есть, – отвечает, – но холодное».
Вот хотелось спросить: зачем было уезжать от нас, чтобы мечтать о Финляндии, где холодное море и какая-то социалка и муж-алкоголик?
«Жила бы здесь, – пишу, – давно бы уже все было, и квартира, и море теплое. И клиентов на стрижку летом полно, мужиков можно вообще наголо. Пусть лысина подзагорит! А социалка, что социалка? Ты хоть знаешь, сколько у нас сортов макарон теперь? Со временем появились всякие: итальянские, румынские и наши. Бантики, конвертики, короткие трубочки и гнезда.
Однажды я купил тонкие, как нитки макароны, которые назывались “анжели капелли”. Или “капелли анжели”. Я забыл».
А она отвечает:
«Дурак. Какой же ты дурак».
«Какой был, такой и остался, – отвечаю, – нам меняться некогда. Много друзей и работы. Вот если бы приехала – то увидела б, как у нас хорошо».
Но она почему-то не ответила. Может, в Финляндии проблемы с интернетом. Не знаю. У нас кабельное провели со временем.
Аня научила меня, как найти Васю. Он в «Одноклассники» не ходит. Говорит, это – сайт для дебилов. Он сидит в фейсбуке. Мне пришлось там зарегистрироваться. «Одноклассниками» управлять легко. Вот так пишешь новость. Вот так ставишь «класс» чужим фотографиям. А письма писать можно вот тут.
Фейсбук – как космический корабль. Интересно, но ничего непонятно. Зато я много про Васю узнал. И мы с ним опять подружились. Правда, потом он куда-то исчез.
У Васи все сложилось относительно хорошо. В бочке ему жить не пришлось, но и в институт философом его, видать, не взяли. Или сам не пошел. Со временем он уехал из Москвы. Хотел стать настоящим попом, работал даже в храме, ходил там со свечой за священником. Не знаю, мне почему-то кажется, это совсем неплохо, после философского института. Но, говорит, в попы его не взяли. Потому что он там какой-то закон их нарушил. Женился второй раз, что ли. Но, он говорит, всюду блат. И обижается.
«Не буду, – говорит, – Патриарха поминать».
«А зачем его поминать? Он же вроде живой!»
«Дурак ты, – говорит, – дурак».
Я не разбираюсь, чем там Патриарх его обидел и кто это Патриарх вообще. Часы, говорит, у него пропадают и коммунисту орден какой-то дал. Но, значит, хорошо, что не стал священником, как и философом. Вдруг ему бы пришлось с этим Патриархом работать? А он его даже поминать не может.
И потом стал Вася фермером где-то в Курской области. Почему не у нас? Овощи сами из земли прут? Воду можно из водохранилища брать. Зачем в Курск-то? А он только злится у себя в фейсбуке. А заодно на политику ругается. Все ему плохо.
Я в политике не очень-то разбираюсь. Но как-то не пойму, почему Васе так плохо. Когда он до нашего возраста делал, что хочет. И философом был, но не в бочке. И почти что попом со свечкой и в наряде. Вот и свиней теперь растит в Курске. Куда ни прыгнет – все ему не так. Может, если бы остался, все не так плохо было бы. У нас столько сортов макарон! И овощи прут из-под земли, только поливай.
Так ему и написал. А он отвечает:
«Как ты, дурак, с нечистой совестью живешь?»
Я не понял. Почему с нечистой? Как так?
Вот, мол, говорит, брат того сидит в тюрьме, за убеждения, ты не знаешь?
«Я не знаю, у нас тут в девяностые полгородка село за убеждения. Все убеждены были, что можно красть. И покрали все. Кое-кто, кто менее осмотрителен, сел со временем. Так что мне теперь поделать?»
Он говорит:
«Ты дурак, – говорит, – ограничу возможность тебе общаться. Пока не поймешь, что прямо сейчас, за твое право быть свободным, люди голодают!»
Я ему написал:
«Голодают – это плохо. Мне очень не нравится, когда у кого-то нечего есть.
Помнишь, у нас, когда мы еще мальчишками были, все за Чарльза Хайдера переживали. Мол, говорили, голодает. И дни считали прямо в районной газете. Такая картинка была, человек с бородой и смотрит на нас. И количество дней. Надо было вырезать, вписать свое имя и послать американскому президенту. Мол, хватит парню голодать.
Я очень переживал тогда. Скупил на все деньги газет и посылал по одному письму в день! Ведь человеку нечего есть, там, в их Америке.
И все вырезали. И вписали имена. И спасли его. Перестал Чарльз Хайдер голодать.
Только вот, помнишь, через дорогу тетя Зоя жила, в домике рядом с ветеринаркой. Все орала, что помирает. Что, мол, давление, а сын бросил. А к ней даже «Скорая» приезжать отказывалась. Воняло у нее, жуть. Старуха была. И есть всегда было нечего. И она, в отличие от американского героя Чарльза Хайдера, померла в жару… Вот, думаю, и сейчас где-то рядом орет какая-нибудь тетя Зоя. Правда, не за мою свободу, но есть ей тоже охота, и одеться и помыться. Может принесешь ей своих фермерских даров?»
После того как я это ему написал, он из фейсбука своего куда-то пропал. И не пишет, и его самого не найти. Жаль. Так хлопотно было там регистрироваться. Надеюсь, со временем он найдется. Я ж просто совет хотел дать. Мол, какая разница, не можешь одного накормить – накорми того, кто у тебя рядом…
Надеюсь, и Анка мне ответит. Все-таки мы старые друзья.
И я напишу им, что у меня все хорошо. По утрам я ем макароны с сыром.
А море шепчет мне, твоим голосом, Анка:
«Дурак ты, дурак».
Она встает в восемь часов утра и начинает орать в трубку телефона всякие несуразности про то, что ей приснилось нынешней ночью. И про то, как она провела предыдущий вечер. Тихо она разговаривать просто не умеет. Так, в телефонном режиме, она общается с подругой Тосей каждое утро. Каждый будний день, поэтому мне не нужен будильник. Меня она в разговоре упоминает обязательно, потому что я часть ее жизни.
– Спит! – кричит она. – Сейчас проснется и пойдет на работу!
Этот удивительный факт она сообщает Тосе всякое утро как новость. Судя по всему, та бурно реагирует, потому что Женечка некоторое время молчит и слушает.
– Конечно! Я всегда ему говорю! Пусть бы играл в футбол!
Да. Она всегда мне говорит эту и другую чушь. По ее мнению, я должен в выходные выходить и играть в футбол на спортплощадку, которую она называет «коробочкой».
– Сходил бы на «коробочку», поиграл бы в футбол с мужиками!
Сама она в футбол не играет, но смотрит по кабельному телевидению английскую премьер-лигу. Болеет за «Арсенал». Женечка уже потеряла надежду привлечь меня к этому полезному времяпрепровождению. Но результаты и подробности матча она, ворвавшись ко мне в комнату, сообщает два раза – в перерыве и после окончания матча.
– Этот ужасный, ужасный Тейлор! – кричит она мне в ухо.
– Что натворил этот гад? – спрашиваю я уныло.
– Это невообразимо! – Она сжимает кулаки. – Он въехал прямой ногой Эдуардо да Силва, понимаешь?!
– Кто куда въехал?
– Я думаю, он нарочно! Это так страшно! Так страшно! Понимаешь, может быть, Эдуардо придется закончить карьеру…
– Ужас, – говорю я, чтобы что-нибудь сказать.
– Ты не понимаешь! Он просто сломал ему ногу пополам!
Она едва сдерживает слезы, но я не волнуюсь. Привык. Через пятнадцать минут она вновь упрется взглядом в экран и будет неотрывно следить за происходящим на поле.
– Они пришьют ему новую ножку, и он опять побежит по дорожке, – говорю я.
– Играть не сможет! Понимаешь, не сможет играть. Я за то, чтобы дисквалифицировать его пожизненно.
– Кого? Ты ж говоришь, что он и так играть не сможет…
– Тейлора! Этого убийцу! Дисквалифицировать!
Она рубит рукой воздух, как вождь на броневике.
– Ага, и четвертовать… – говорю я ей в тон.
– Ты не понимаешь! – огорчается она. – Я тебе объясню…
Но тут из соседней комнаты раздается голос комментатора – матч продолжается.
– Потом! – обрывает она начатый монолог. И убегает смотреть вторую половину матча.
Естественно, я так и не узнаю, что же она хотела мне разъяснить.
Я просыпаюсь от ее разговора по телефону и думаю об ужасной несправедливости. Почему мы живем в таких домах, где крик слышен через стенку? Из чего они делают эти стенки? И вдруг в мои бытовые размышления врывается острая мысль любопытного ученого: а был бы слышен Женечкин крик, если бы мы жили в «сталинском» доме? Сумел ли бы этот невыносимый голосок пробить толщу кирпича?
Я лежу и смотрю в потолок. Тоскливо думаю о том, что надо бы сделать в квартире звукоизоляцию. Это пресные мысли, тягучие и бесполезные, потому что сам знаю – я никогда не займусь этим. Энергии не хватит.
Мы живем вместе, хотя нам давно бы пора разъехаться. Ни общих интересов, ни общих дел. Мы почти не мешаем друг другу (если не считать ее прорезывающего бетон голоса), и лишь редко у нас бывают ссоры. Можно сказать, что мы живем хорошо, дружно.
– Тебе нужно убраться из этой квартиры! Понимаешь ты?! – кричит она, как только я прихожу домой с работы. – Это совершенно необходимо!
Я останавливаюсь, ставлю портфель на ковер и смотрю на нее.
– Можно, я сниму плащ, вымою руки, перекушу чего-нибудь, а потом мы обсудим детали моего ухода из этой квартиры?..
– Время уходит! – Она грозно смотрит на меня и стремительно убегает в свою комнату; секунда – и оттуда раздается мерзкий голос футбольного аналитика из телеящика. Больше она к этому вопросу сегодня не вернется.
Я иду на кухню разогревать себе ужин.
Мне, наверное, надо покинуть эту квартиру. Переехать. Жить одному без Женечки.
За стеной раздаются страшные ругательства. Только Женечке удается так страшно ругаться и при этом не употреблять матерных слов. Я не вдумываюсь, какие причины могли вызвать такую бурную реакцию. Наверняка кто-то «плохой» забил гол кому-то «хорошему». Или что-то не так сказал бедолага-телеведущий. Теперь ему будет икаться долго.
Утром она бежит на свою так называемую работу. В руках ее – кастрюлька баланды для гаражного пса Шарика. Шарик прибился к гаражным сторожам и сам нашел себе работу – охранять своих хозяев и их собственность. Сторожа этого не оценили, уж больно вид у пса был жалкий. То есть выгнать не выгнали, но и постоянной кормежкой не обеспечили. Тогда за дело взялась со свойственным ей энтузиазмом Женечка. Буквально за месяц Шарик из замызганного песика превратился в роскошного кобеля с пушистой жесткой шерстью и гордой осанкой. Теперь уже сторожа не чурались кормить служаку. Шарик начал разрастаться. Породистые псы с уважением и опаской обходили его, понурив головы. А сторожа хвалились:
– Вон какого мерина выкормили. Всех пожрет!
А Женечка по утрам продолжала таскать ему бадьи с едой.
– Понимаешь! Он голодает там! – кричала она мне.
– Он ест то же, что и я. И больше меня.
– Но ты можешь за себя постоять, а он…
– Мне кажется, если стравить нас с Шариком, то победителем однозначно будет объявлен пес смердящий. Разъелся он на твоих харчах…
– Он не смердит, а обыкновенно пахнет псиной!
И так до бесконечности – она всегда найдет что ответить, и последнее слово всегда останется за ней.
Работает она в совершенно непонятной мне организации – типа соцзащиты что-то. Бегает с сумками по квартирам стариков, помогает, выполняет поручения. Зарабатывает копейки. На мое предложение бросить работу она возмущенно машет руками и кричит:
– Ты не понимаешь!
И это правда. Да, я не понимаю.
В воскресенье она идет в храм на литургию. Вместе с Тосей они ходят на исповедь к одному и тому же батюшке уже несколько лет. После службы пьют чай на кухне, обе светящиеся и умиротворенные. Я вхожу к ним, чтобы взять чашку чая и уйти обратно к себе в комнату.
– Что, – ехидно спрашивает Женечка, – опять не выспался?
– Ага, – говорю, – устал.
– Слышь, Тося! – кричит она. – Он устал! Только встал – уже устал! Ух ты, стихами вышло!.. Когда ты устать-то успел?! Только же проснулся!
– Вчера был тяжелый день, – говорю. – Трудные переговоры.
– Что вы там делаете-то, на работе вашей? – успевает задать мне вопрос Тося.
– Ничего! – безапелляционно заявляет Женечка. – Из денег делают деньги. Ни-че-го!
– Как это из денег деньги? – спрашивает Тося.
– Тося, ты дура! Перестань городить чушь! – отвечает Женечка. Но Тося не реагирует – ей не обидно, она привыкла.
Я встаю и ухожу с чашкой чая, сажусь к монитору компьютера. Слышу вслед крик:
– Опять пошел к своим воображаемым друзьям! Ты подумай, Тось, а! Сыч! Совсем старик стал!
Я надеваю наушники. Становится ясно, для чего Бах писал свои дивные фуги. Женечкиных криков почти не слышно.
Так вечером я спасаюсь от нее, слушая музыку и читая с монитора книги. Я не разделяю ни одного из ее увлечений. Даже чтение у нас разное. И я задаюсь вопросом, на который она уже давно ответила, – стоит ли действительно нам жить вместе?
Утром не слышу ее голоса. Я проспал. Но не это беспокоит меня. Я несусь в ее комнату, роняя на пол тумбочку, чуть не выломав свою дверь, спеша открыть.
Она лежит на полу, лицо ее странно перекошено, глаза закрыты.
– Женечка! – ору я. И совсем глупо: – Ты чего?!
Я вызываю «Скорую»:
– Не знаю, без сознания, возраст 74 года. – Голос мой срывается. – Пожалуйста, приезжайте скорее!
Диктую адрес.
Врач, получивший от меня стодолларовую купюру, участливо спрашивает:
– Мама ваша?
– Нет, – отвечаю, – сестра матери, тетка, но она воспитала. Она как мать.
– Ясно, – говорит он, пока санитары грузят Женечку в машину. – Трудно будет. Насколько серьезная ситуация, надо еще определить, но инсульт, сами понимаете…
Я понимаю.
Они уходят.
Я остаюсь дома. В тишине. В полной, бесконечной тишине.
Она вернулась домой из больницы. Ей пока нельзя говорить, но, по совету врачей, я поставил ей доску с магнитными буковками для детей. Теперь она может складывать слова и целые предложения. Первое, что она потребовала, это результатов матчей «Арсенала» за то время, пока она пролежала в реанимации и отделении.
Предупрежденный врачами, я не сказал о поражении от «Тотенхема». Женечку нельзя расстраивать.
Днем ворвалась Тося. Вся в слезах, долго говорила Женечке о том, что она ее любит, что отец Георгий о ней спрашивал, – и еще, и еще, плача и выдавая на гора тонны слов, Тося рассказала все новости.
И встала, будто ожидая ответа.
Рука Женечки потянулась к буквам. Она с трудом подбирала их и клеила к доске. Вскоре мы смогли прочитать надпись:
ТОСЯ ТЫ ДУРА.
Когда Тося ушла, я остался один с Женечкой. Она подозвала меня и жестом попросила дать ей доску. Я принес.
Она написала:
ТЕБЕ НУЖНО УЙТИ.
Потом подумала и написала еще:
ЖЕНИТЬСЯ. ПОКА ЖИВА.
Я долго смотрел на разноцветные буквы на доске. Потом повернулся к Женечке.
– Ладно. Только пока не умирай. – Я изобразил на лице улыбку. – Подожди пока.
Она потянулась и, взяв две буквы, приложила их к доске:
Я потоптался еще, не зная, что сказать.
– Ладно, пойду.
Она смотрела на меня.
– «Арсенал» – чемпион.
И тут мне показалось, она улыбнулась. Закрыла и открыла глаза.
Я ушел в свою комнату.
Сел перед монитором, как всегда. И заплакал. То ли от горя, что все это произошло с моей Женечкой, то ли от счастья, что эта молодая девчонка в теле старушки осталась жива.
Я подумал, что надо поставить будильник. Во всяком случае, пока Женечка не начала опять орать.
Что начнет, я верил безоговорочно.
Неразгаданная загадка любви
– Ох, помру я, – орала Люся, – вот помру! Что делать будешь?
И даже могла слезу пустить, от жалости к себе и к непутевому мужу Сашке. Лежала с мокрым полотенцем на голове. Мучилась головными болями, которые называла «аристократически» – мигрэнь.
Даже с болями и мокрым полотенцем на лбу сама себе она нравилась. Статная. И как-то успевала она все. И мужу угрожать вдовством, и стонать от боли, и собою любоваться. Женщина широкой души и фигуры.
– Помираю, все! – стонала Люся. – Чего молчишь, истукан?!
– Какой костюм надеть на похороны. Тот коричневый, модный, или серый в елочку.
– Вот гад! – Люся приподнималась на локтях, чтобы посмотреть на бесстыжую Сашкину морду. – О себе-то подумай! Тебе-то каково будет? Кто за тобой уследит? Кто тебя накормит-оденет-причешет? Ты ж уже к сороковому дню будешь похож на Филиппа Киркорова с похмелья!
От крика и поворота головы боли усиливались, и Люся валилась обратно на подушку.
– Найду себе молодую. Отплачем на поминках и махнем в Сочи. В двухместный номер для новобрачных с душем и санузлом.
– Вот гад! Подожди, встану ща, будешь у меня пятый угол искать.
– Не встанешь! Ты уже все, на исходе. А мне надо как-то жизнь налаживать.
– Я тебе налажу! – Люся вставала и брала в руки полотенце, как ремень. – Я тебе ща лысину отполирую. Чтоб ты в Сочи светился на солнце!
Сашка убегал в туалет, запирался и оттуда орал:
– Вона как я твою мигрэнь излечил! Мигом вскочила! Я ж как знахарь! Раз, только два слова нашептал – и таво!
– Вылезай давай, гад! Чего сидишь? Медвежья болезнь, поди от страха? Вылезай, не трусь.
– Милая! Дай мне возможность побыть одному! Я поднял тебя со смертного одра. Устал. У меня потеря энергии. Я должен восстановиться.
Конечно, у Сашки не было на примете никакой молодухи. Уж это я знал точно. Как и то, что головные боли Люси были хоть и частые, но не смертельные.
Мы все, вся наша компания, подсмеивались над этой парой. Считали их простыми и бесхитростными.
– Интересно, вот они собачатся друг с другом, живут кое-как, денег все время нет, ростом он ее ниже, да и не подходят совсем, что их вместе держит?
– Лень, просто. Не хотят пока других искать…
– Да ну. Какая лень? Сашка работящий. Я с ним на рынке торговал в бытность… Железный парень Сашка.
– Не, не в лени дело, конечно. Трудностей особых не было. Да пока на грани, все благополучно, может, и живут. Случись чего, она его и бросит. Девка видная. На полголовы его выше.
– Может, и так, хотя и сейчас жизнь у них не фонтан. А вот всё вместе. Это неразгаданная загадка любви…
Короче, в долгосрочности их брака сомневались.
Однако, играя с ними в преферанс, большими любителями которого мы все были, я замечал, что не такие уж они и простофили. И считать, и блефовать умели…
И когда держали карты в руках, становились даже чем-то похожи друг на друга. Одинаково щурились. Повторяли одинаковые присказки: «Карты ближе к орденам», «Знал бы прикуп – жил бы в Сочи», «Два паса – в прикупе чудеса»…
Но на чем держится их брак в остальное время, понять было трудно. И десять лет уже прошло, и больше. Не подходят друг другу – и все.
Ссорятся. То Сашка доведет Люсю своими шуточками и колкостями, то Люся так заденет его, что он бесится, рвет и мечет… Но все как-то не разваливалась их семья. В компании нашей все уже по второму кругу пошли, а эти все вместе, все грызут друг друга, все буянят, все в преферанс играют, щурясь и взятки считая…
И вот однажды – звонок по телефону. Сашка звонит. Голос спокойный.
– Надо встретиться. У тебя дача свободная? Мне жить негде.
– Как в смысле негде?
– Ушел я. Совсем. Всему приходит конец.
Я попытался выкрутиться, надеясь, что все несерьезно. Но оказалось серьезно. Серьезно настолько, что жить теперь Сашке было негде. И нужна моральная поддержка. Оправдания, что завтра мне нужно как штык быть в Москве, так как у меня сессия в институте, Сашка отринул, сказав:
– Не можешь пропустить пару зачетов ради друга?
Конечно, пропустить зачеты я мог. Где-то в середине обучения я развелся с женой, и Сашка с Люсей гостеприимно разрешили мне пожить у них. Так что я был в долгу. Да и просто, мы с Сашкой – друзья.
– Конечно, дача свободная, – сказал я в трубку, – надо только затариться и ребят позвать.
– Ребята все уже здесь. И Толик, и Дюша.
Анатолий и Андрей оказались верными друзьями. Оба среди недели нашли возможность поехать ко мне на дачу.
Хотя это было трудно. У обоих были жены. Причем обе самые что ни на есть проблемные. Толик – харизматичный режиссер, будущий продюсер, недавно по второму разу женился на молодой девочке. Лет восемнадцати. Самому ему было чуть за тридцать. Влюбился он сильно и ревновал. Старался не отставать от молодой супруги. Жизнь они вели изматывающе веселую. Причем девушка к браку явно была не готова. Убираться в квартире толком не хотела, готовила по вдохновению, курила и бездельничала.
Толик днем работал и по сто раз звонил домой с проверками, а вечером ругался и нежничал. Сочетание тоже не самое полезное. За год такой жизни он вымотался. Реже выбирался к нам, на посиделки с преферансом. Казалось, что мы, а тем более Сашка с Люсей, отдаляемся от него с каждым днем. Однако на призыв он откликнулся. Друг есть друг.
Дюша тоже приехал. Со скандалом. Жена его бушевала. Она боялась, что Дюша запьет. С ним это иногда случалось. Несмотря на бодрые заверения, что все под контролем. Дюша был очень талантливым. Настолько, что в театре, где он работал, ему раз за разом прощали запои. Настолько талантливым, что жена за женой боролись за его здоровье с бесчисленными компаниями и собутыльниками. Но Дюша все-таки приехал.
Итак, мы вчетвером, затарившись продуктами, поехали ко мне на дачу.
– Друзья! Я хочу выпить за дружбу, – сказал Сашка и налил всем. – Одна дружба стоит десятка браков. Ведь что получается? Страсть остывает, любовь проходит, а дружба – нет! Дружба остается! Выпьем, мужики. Выпьем. Не за временное. За вечное.
– Я не буду, – сказал Дюша. – Мне только дай.
– Да, тебе не надо. Но я прям чувствую, душой ты со мной. Со всеми нами.
– Еще бы, – сказал Дюша и отвернулся, чтобы не смотреть на рюмки.
– Ты теперь толком расскажи. Что у вас там с Люси приключилось? – спросил Толик.
– Не знаю. – Сашка достал сигарету. – Слово за слово. Поначалу из-за ерунды. Но как-то дошли до таких глубин…
– Туманно. Ты проблему сформулируй.
– Самое худшее, что могло произойти! – изрек Сашка и уставился на скатерть.
Мы переглянулись.
– Изменила неужто? – спросил Толик.
Сашка удивился:
– Дурак, что ли? С кем ей изменять-то?!
– Не знаю. Ты сказал – самое худшее. Я и подумал…
– Она сказала, – перебил Сашка, – что я – бездарность.
– Да ты что?!
– Ага. Нет, говорит, у тебя таланта ни на что. Пустое место, говорит.
– Не может быть!
– Она права, – заключил Дюша.
– Из-за этого ты нас сюда привез? Тоже мне новость.
– И вы друзья? – возмутился Сашка. – Женщины за что любят?
Все задумались.
– За талант! А если она во мне таланта не видит – значит, и любви нет.
– Я в тебе тоже таланта не вижу, – заявил Дюша.
– От тебя мне любви и не надо. Достаточно уважения. Вот скажи, ты меня уважаешь?
– Началось, – вздохнул Толик.
– Ребят, может, не будем? – Я попытался остановить начинающуюся ссору, но она прошла сама собой.
Дюша подумал и ответил:
– Уважаю. Иначе чего бы я с тобой дружил?
– Вот, – удовлетворенно вздохнул Сашка.
– Но талантов в тебе не вижу.
– Вредный ты, Дюша. А он есть. Талант-то!
– Ну какой?
– Да, правда, Сашк, расскажи. Откройся миру!
Мы были злы, конечно. Отложенные дела, пропущенные зачеты, обиженная семья. Все это ради него, нашего талантливого друга…
– Хорошо, – сказал Сашка. – Я вам скажу.
Он сделал драматическую паузу.
– Я умею говорить наоборот.
– Это как?
– Покажи-ка!
– Давай, не томи.
Сашка кивнул, сосредоточился. Лицо его стало каким-то нездешним. И вдруг выдал:
– Ууууживанен, ааааруд аааксюл!
– Что это? – спросил Дюша.
– Это его талант. Круто, Саш!
– Я не понимаю! – Дюша начал сердиться. Но Толик не стал ему помогать.
– Здорово, Сашк! Настоящий талант!
– Что он сказал?! На каком языке?!
– Да. – Сашка, обрадованный было произведенным эффектом, опять взгрустнул. – Правильно она говорит. Талант какой-то бесполезный. Что с него толку? Вроде как ты. Тоже рассказы пишешь, и что толку?
– Талант есть, – ответил я, – значит, надо развивать. Бог дал, а ты в ответе.
– Как развивать-то? – удивился Сашка.
– Не знаю. Я в этой области не специалист.
– Ну например, – вклинился в нашу беседу Толик, – возьми поэму «Евгений Онегин» и исполни наоборот. Сможешь?
– Смогу! Но вот думаю, будет ли это кому-нибудь интересно?!
– А че? Вполне! Вот этот же рассказы пишет. Тоже не бог весть какое откровение. Но он не сдается. Аудитория появится. Не боись.
– Вот! Спасибо, друзья! А она…
– А что она?! Мы вон своих побросали, тоже небось хорошего не жди, а сценарист наш вообще один и зачеты пропустил. Короче, плюнь на Люську и развивай талант!
– И разовью!
– И плюнь! На кой нам эти бабы!
– Ну давай! Слюной!
– Ребят, погодите, это моя дача!
Но куда там. Сашка встал и смачно плюнул на пол. Раздались аплодисменты.
И в этот момент в дверном проеме появилась Люся.
– Сашенька!
Сашка развернулся к двери и увидел Люсю. Та с жалостью и любовью смотрела на мужа.
– Люська, – выдохнул Сашка.
– Мой хороший, я такси взяла. Поедем домой?
Сашка молча оглянулся на нас.
– Я борщ приготовила. Тебя ждала. Милый мой, поедем домой?
Сашка посмотрел на Люсю и сказал:
– Аааакнисюль!
И протянул к ней руки.
– Да, мой хороший.
– Ребят, мы поедем. Люся борщ приготовила!
– Конечно, поезжайте!
– Мы ж не сомневались!
– Куда он без тебя, Люсь.
– Семья есть семья…
– Молодцы.
Люся и Саша уехали. Чего ждать-то, ведь счетчик тикает.
Мы остались сидеть.
– Чего он ей сказал-то? – спросил Дюша мрачно и посмотрел на водку.
– Акнисюль. Это значит…
– Не надо. И так понятно. Наливай.
– Зачеты побоку. Дела побоку. Семьи побоку. А он…
– Уехал развивать свой талант.
– Самый важный.
– Ну какой, какой?
– Неразгаданная загадка любви, – ответил Толик.
И был прав.
Это были самые что ни на есть успешные молодые люди. Они все время смеялись и шутили. Кажется, из того времени (или, может быть, раньше?) в литературе пошла мода на байки, смешные истории и бесконечную иронию, которая за насмешками скрывала слабость, пустоту и, конечно, страх.
Тогда, в восемьдесят пятом, меня не интересовали тенденции и судьбы русской литературы. Мне было пятнадцать. Кажется, я впервые сильно влюбился, а также впервые столкнулся с обществом, или, точнее, прослойкой, которую впоследствии иначе как лушпайкой не называл…
Но об этом позже.
Да, шел восемьдесят пятый год. Я приехал в археологическую экспедицию. Фактически первый раз путешествовал без мамы с папой…
– Ничего, – шепнула мама, провожая меня на поезд. – Здесь люди из нашей среды. Обычные интеллигентные люди…
Уже в вагоне оказалось, что мама не совсем права. То есть, конечно, да, повсюду была самая что ни на есть интеллигенция, но они все же сильно отличались от того круга, в котором проходило мое взросление.
Первым, на что я обратил внимание, было бесконечное коверканье слов ради словесной шутки.
Солидная полная тетенька лет тридцати пяти, формой иссиня-черной прически напоминавшая одуванчик, поправляла резинку сползавшего с плеч сарафана и кричала:
– Мне нужен носильник и потаскун!
На этот юмор никто не реагировал. Ей просто помогли донести вещи. Я же никак не мог понять, почему она говорит так. И все смотрел на нее, на ее полную шею и плечи, на которых выступили бисеринки пота.
– Влюбляться рано, молодой чемодан, – сказала она, заметив мой взгляд. – Занимайте места согласно купленным билетам…
Потом, уже совсем скоро, я перестану удивляться такому юмору. Потому что вокруг меня так будут шутить все. Это доведенное до автоматизма коверканье языка станет привычным и мне…
Начались беседы. К беседам я привык дома. У нас тоже разговаривали о важном, непонятном и даже, кажется, запретном…
Но в вагоне и беседы отличались. Я вдруг обратил внимание на то, что все здесь стараются уколоть друг друга. Все немножко надменны и ироничны. Особенно в качестве цели для насмешек моим новым знакомым приглянулся я. Вернее, крестик, висящий у меня на груди.
Крестился я за год до поездки. После этого в церкви не бывал и религиозной литературы не читал, кроме Евангелия, которое крестная мне подарила по завершении таинства. Но крестик мне носить нравилось. Вот это и сделало меня объектом всякого рода подколок по пути к месту археологических раскопок.
Молодой ученый, которого все звали Мишенька, был похож на смешного зверя – ленивца. Он часто снимал и протирал краем застиранной майки очки. И когда оказывался без очков, то подслеповато щурился и беспомощно улыбался.
Мишенька, посмотрев на мой крестик, ухмыльнулся улыбкой слепого ленивца и спросил:
– А крепок ли ты в вере, молодой человек?
Я не знал, что ответить.
Разговор происходил в тамбуре, и, чтобы потянуть время, я зажег сигарету.
Отвечать мне не пришлось.
– Я не понимаю, что эти люди имеют в виду, когда говорят: крепок в вере, не крепок, – раздалось за моей спиной. – По-моему, либо веришь, либо нет. Вот так…
Я обернулся. Ну да, это был он. Персонаж, которого я заметил еще на перроне. Крючковатым носом и бородкой он напоминал пародию на Мефистофеля скульптора Антокольского. Маленькая ее копия стояла на столе у моего деда-психиатра.
Кривой нос, бородка, презрительно искривленный рот, черные кудряшки волос с проседью. Это был Владимир Аркадьевич. Преподаватель истории в институте. Репетитор. Мне он казался глубоким стариком, хотя ему не было и сорока…
– Веришь или нет, – повторил он, словно пробуя на вкус слова. – Да. Удобно быть христианином, молодой человек. Получил индульгенцию и греши дальше. Вы знаете, что такое индульгенция?
– Это в Средние века было… – пробормотал я, понимая, что это взрослый мужчина, историк, не может не знать.
– А сейчас? Каково устройство отпущения грехов в вашей церкви? Просто так отпускают?
На самом деле я точно не знал, каково устройство. Но пробормотал:
– Просто так.
– Бесплатно? Но хоть бумагу-то выписывают?
– Ничего им не выписывают. Это ж бесплатно, – хихикнул Мишенька. – Будут они за так бумагу тратить.
– Вам надо создать свою церковь, – сказал Владимир Аркадьевич и положил руку мне на плечо. – Собираете пятьдесят человек и регистрируете. Вот это по-настоящему!
Видя, что я мало образован и беспомощен, и Владимир Аркадьевич, и Мишенька и многие другие продолжали посмеиваться над моей якобы глубокой религиозностью.
Каждый завтрак математик и программист Боря начинал с обращения ко мне:
– Что вы можете поделать с тем, юноша, что сама идея Бога не нужна для развития человека? В ней просто нет необходимости. Как вы отреагируете на такую посылку?
Я не реагировал. На самом деле, хоть и могло показаться, эти насмешки не были травлей. Здесь так привыкли общаться. Все насмешничали над всеми. И я со своим крестиком и полным отсутствием знаний не был исключением. Я был просто частью их развлечения. И видимо, не самой интересной.
Больше всего их интересовала не критика религии, а разговоры о внешней политике.
– Нефть! Нефть – вот основа конфликта!
– А где нефть, там всегда кровь.
– Ты думаешь, они откажутся?! О нет. Даже не думай!
И так до бесконечности. Мне же были совсем неинтересны их рассуждения.
Арабы, евреи, Ближний Восток, Америка.
Работали эти люди здорово. Не за страх, как говорится. Видно было, что на раскопки они приехали не ради моря. Их все же интересовало то, над чем они трудятся здесь.
– Что такое наука? – спрашивал Владимир Аркадьевич двух своих учениц, студенток, которых он сам подготовил в институт и помог поступить. – Это способ удовлетворить свое любопытство. И при этом получать неплохую зарплату! То есть ты удовлетворяешься за государственный счет!
Девушки внимали. Обе они приехали позже. Их привез на машине Евгений, чуть более молодой коллега Владимира Аркадьевича.
Женя был полноват, красив и вальяжен. К тому же неплохо играл на гитаре и пел. В основном это были сладкие песни Энгельберта Хампердинка и задушевные Булата Окуджавы. Причем Окуджаву он пел сладко, как Хампердинка, а Хампердинка – задушевно, как Окуджаву.
Девушки смотрели на него с обожанием…
Я был равнодушен к их компании. Да, мне было одиноко, и я писал грустные письма домой маме. Но все же я умел сопротивляться. Например, невзирая на насмешки, днем, в перерыве между работой, я уходил в степь, делал вид, что молюсь. Молиться я и не пытался, потому как не умел, но мог час просидеть, скрестив ноги и закрыв глаза. Ко мне даже не приставали в это время. Лишь однажды, пройдя мимо, Евгений презрительно бросил:
– Восток в другой стороне!
Я сидел у моря и делал вид, что молюсь. Сначала различал звуки волн, набегавших на берег, но вскоре они сливались в единый гул и исчезали, уступая место полной тишине. Тишина была черная и цветная одновременно. Я точно впадал в состояние какого-то совершенного одиночества, никак не ограниченного временем. Выходить из него не хотелось…
Вдруг в мою уютную темноту ворвался звонкий девичий голос:
– Считаешь волны?
Я открыл глаза и посмотрел на нее. Вернее, попытался. Она стояла на фоне солнца, и я видел только ее силуэт.
– Что? – пробормотал я, пытаясь прикрыть глаза ладонью.
– Считаешь волны?
Я ничего не понял.
– Разве можно считать волны?
– Теоретически можно, – сказала девушка и села рядом со мной.
Мне она показалась очень красивой и странной. Ее внешность, спутанные, точно солома, русые волосы до плеч, веснушки, едва заметные, курносый нос – все было обычным, милым, да, но обычным. А вот глаза у нее были странными. Но я никак не мог уловить, в чем странность этих глаз, делающих и все лицо необычным. Однако оно было необычно настолько, что я, забыв про стеснение, которое испытывал перед всеми девушками, глядел на это чудо не отрываясь.
– Все дело, – сказала она, – в том, что глаза разные.
– В смысле? – Я смутился и отвернулся.
– Я вижу, ты смотришь, пытаешься понять. Но дело в том, что у меня два выражения лица. Не одно, как у всех, а два. Видишь две половины? Не подходят друг другу. Дело в глазах. Один удивленный…
Она закрыла пол-лица, и действительно я увидел, что выражение этой половины выглядело удивленным, а то и больше – обескураженным.
– Видишь? – спросила она меня.
– Вижу. – Я вдруг улыбнулся. – Ты как бы говоришь: «О, ни фига себе!»
Она тоже улыбнулась, но быстро перекинула ладонь, прикрыв другую сторону лица:
– А теперь? Второй какой?
Теперь половина лица ее была весьма скептическая.
– Эта сторона говорит: «Да ну, фигня!»
Она засмеялась и отняла руку от лица.
– Тебя как зовут?
– А меня Стася. Так бабушка звала. Пойдем в лагерь. Чего ты тут сидишь?
– Изображаю.
– Да ничего… Просто, чтобы отстали…
– А! Дразнят, что ли?
– Немного.
– Это ничего. Это они от страха. Лушпайка же.
– Лушпайка. Я их так зову. Знаешь, мне бабушка рассказывала. Она с моими родителями еще у моря жила. И я тоже. Вон там. – Она махнула рукой куда-то в сторону западного побережья.
– Не очень. Так вот. Дома давно нет, а пристань до сих пор есть. Родное место. Так вот, бабушка с подругами выходили к пристани смотреть на море и грызть подсолнухи. Нагрызут, бывало, много. Плюют прям на пристань. Казалось бы, грязь. А нет. Ветер подует или волна плеснет – и нету шелухи. Они эту шелуху лушпайкой называли. Вот…
Она задумалась, и мне показалось, что в ее глазах видны и ветер, и пристань, и море…
– А почему наши-то…
– Не знаю. Они все, как лушпайка. Собираются, шуршат, шутят все время, ерничают, а ветер подует – и нет лушпайки. Сдуло.
– Я, получается, тоже лушпайка?
Она промолчала.
– Пойдем в лагерь, – сказала и протянула мне руку.
Я взял ее руку и, как обычно, не нашел правильных слов.
– А ты откуда взялась?
Она улыбнулась.
– Не очень-то любезно для кавалера. Ведь ты мой кавалер?
Я был одновременно в восторге и сильно напуган.
– Получается так.
– Ну, тогда ты должен быть другим. Или ты хочешь сказать, что я опять ошиблась в человеке? Я иногда ошибаюсь… Вижу человека и делаю так…
Тут она закрыла ладонью часть лица. Выражение ее стало милым и удивленным. Она посмотрела на меня и сказала:
– Ух! Ни фига себе!
И, помолчав, добавила:
– Я сезонная. Поварихой. У лушпаек женщины хорошо пирожные пекут. С кремом. А как суп на много народу надо сварить, так нет. И тут уж моя фортуна. Третий год.
Мы подружились со Стасей, несмотря на то что она была старше. Хотя, наверное, это она подружилась со мной. Про меня же можно было сказать, как тогда говорили: влопался по самые уши.
Я старался чаще дежурить по кухне, да и просто, вместо работы на раскопе помогал ей рубить дрова, разжигать буржуйку, носить воду, мыть посуду.
Мне нравилось, как она готовит, как отвечает на мои разговоры взглядами, в зависимости от того, что я говорю. Либо смотрит одной стороной, либо другой. Я рассказывал ей про то, какими ужасными были скифские воины, про то, что раньше море было далеко, про то, что на самом деле я собираюсь в будущем стать археологом, но она смотрела скептически, одной стороной лица:
«Да ну, фигня!»
И я сбивался и шел наливать воду в котелок, а возвращаясь, говорил:
– Ты мне очень нравишься. Я твой кавалер. Сама сказала.
И она смотрела другой стороной:
«Ух! Ни фига себе!»
Большого опыта общения с женщинами у меня не было. И я все не решался сделать хоть какой-то шаг. А Стася, видимо, и не торопила события, ожидая, что я предприму…
И первое время я, совершенно утратив бдительность, не замечал, как реагируют на мое поведение Мишенька, Евгений, Владимир Аркадьевич и другие.
Лишь где-то недели через две я понял, что разговоры их сместились от моей религиозности в сторону наших со Стасей отношений.
Я обнаружил это так неожиданно и так болезненно воспринял, что до сих пор у меня осталось ощущение, сравнимое с состоянием, когда температура тела подходит к критической точке. Все казалось каким-то бредово-нереальным, отрывочно-вычурным.
Я вдруг обнаружил, что над нами издеваются. Это было вечером. Все собрались после ужина за столом под тентом. Стася ушла на море мыть посуду. А я ждал и готовился сегодня в ночь где-нибудь на пляже признаться ей в любви.
И вдруг услышал, что небольшая компания обсуждает Стасю. Я как-то сразу понял, что это не шутки, что они говорят именно про нее и правду. Еще через пару минут я понял, что они говорят это специально, чтобы слышал я.
Опять их любимые шуточки, опять любование собой. Опять слова-словечки…
Оказалось, что Стася три сезона работает здесь. И три сезона у нее разные кавалеры. Одним из которых был Мишенька.
– Как, кстати, тебе, Миш? – спросил Владимир Аркадьевич. – Сердце наполнилось чувством томления? Помнится счастье утекшее?
– Да ну! Сезонная.
А Евгений, отложив на время свой обычный репертуар, взял гитару и пропел:
И как-то особенно болезненно и гулко прозвучал голос Владимира Аркадьевича:
– Переходящее красное знамя.
Я подошел к ним. Стоял и не знал, что сказать или сделать. И только сквозь какой-то туман услышал слова Мишеньки, обращенные ко мне:
– Ты чего?
И к товарищам:
– Завязывайте. У него лицо дергается. Как бы инсульт не хватил. Эй! В себя приди! Бывает у пятнадцатилетних инсульт?
Вдруг лицо Владимира Аркадьевича приблизилось ко мне или я приблизился к его лицу, руки мои сами вцепились в ветровку у его шеи. Я держал его крепко. Лицо его, физиономия уцененного Мефистофеля с бородкой и карими глазами расплывались передо мной. Я ничего не мог сделать, только вцепился в куртку, держал крепко, не оторвать, и бормотал:
– Это кто переходящее, кто переходящее, кто?
Мне казалось, я ору. Меня отцепили и оттащили за другую сторону стола…
И тут явилась Стася с тазом посуды в руках и громогласно объявила:
– Вон сколько намыла! Ловко?
Все молчали. Евгений опять взял гитару и запел песню про виноградную косточку и желание созвать гостей. Ему стали подпевать.
Следующий день был в экспедиции выходным. Особым развлечением обитателей нашего лагеря были походы. Разбившись на компании, люди уходили вдоль моря, чтобы попасть к такому же морю, но в другом месте. Где «красивая бухта», где можно «мило понырять» и где, конечно же, можно выпить своей компанией, без посторонних. Я почти всегда оказывался посторонним, но от этого не страдал. Выходной день под навесом на пляже рядом с лагерем мне очень нравился. Я ложился в тени и наполовину спал, наполовину мечтал весь день до вечера…
Но в тот день поспать мне не удалось. Дело в том, что Стася не уехала домой, как обычно в выходные.
Она зашла под навес и села рядом со мной.
– Считаешь волны? – спросила она и повернулась ко мне скептической частью лица.
– Теоретически это возможно, – ответил я и улыбнулся. – Но я не умею считать волны.
– А хочешь, вместо теории займемся практикой?
– В смысле?
– Как все, пойдем в поход.
Я вскочил так быстро, что зацепился ногами за песок и покачнулся. И от радости попытался шутить.
– Куда пойдем? На Фиг или за Фиг?
Так обычно острили здешние археологи. Впрочем, не только здешние, и в другой экспедиции, раньше, я слышал, что кто-то назвал ближайший мыс Фигом и повторял эту дурацкую шутку…
– Мы пойдем туда, где можно считать волны.
– Пойдем, – согласился я. А она вдруг добавила:
– В одно очень странное место.
И произнесла она это так, что у меня вдруг защемило сердце и стало одновременно грустно, тревожно и сладко…
Мы шли над берегом моря. Спуститься к нему было трудно, обрыв был довольно высокий, но кое-где появлялись узкие крутые тропинки, ведущие вниз, к воде. На мое предложение искупаться Стася качала головой: мол, не время, после.
А море внизу было темным, почти черным и изумрудно-зеленым, с белыми барашками пены.
– Так хочется купаться, прыгнуть прям в волну. Жарко.
– Подожди. – Стася перекинула холщовую сумку, которую взяла с собой, с плеча на плечо и достала оттуда две белые панамки. – Вот, теперь мы с тобой одна команда. Пошли. Уже скоро.
– Посмотри, видишь? – спросила Стася, остановившись на пригорке над морем.
Она посмотрела на меня удивленным взглядом.
– Вот здесь, наступи ногой. Чувствуешь?
– Что-то вроде бы какие-то бугорки.
– Это дом. Наш дом.
Я наконец увидел. Над землей, едва видный, торчал каменный фундамент дома. Если не знать – не заметишь.
– А где же сам дом?
– Самого дома давно нет. Сам дом теперь там. – Она махнула рукой куда-то далеко, в сторону от моря.
– Очень маленький поселок. Укрупнили. Тогда так делали.
– Давно. Я еще девочкой была…
От дома вниз к морю вела едва заметная тропинка. И сейчас Стася смотрела именно в том направлении и улыбалась.
– Грустно, – сказал я, чтобы что-нибудь сказать. – Для чего? Зачем?
– А это важно? Зачем тебе знать причины? Есть места, из которых ты уезжаешь, а твое сердце остается там. И не важно, может быть, и названия у места уже нет, и дом твой едва виднеется из-за травы, но сердце навсегда здесь…
– Ты привела меня к своему сердцу, получается.
– Получается так. Но оно не совсем здесь.
– Надо спуститься по тропинке. Пошли? – И она протянула мне руку.
Я взял ее ладонь. Она была узкой и, на удивление, прохладной.
Странно, но внизу было куда более ветрено, чем наверху.
– Это потому, что эффект трубы. Здесь всегда так. Приятно.
Внизу, в излучине, оказалась маленькая каменная пристань. Она была между двумя скалами, спрятана от волн открытого моря.
– Когда-то здесь стояли лодки. Дед был рыбаком. Ставил сети… А я ждала его, грызла подсолнухи и считала волны.
– Я не умею считать волны.
– Ты их не слышишь. Нет способности. Или привычки. – Она улыбнулась, шагнула на пристань и вдруг избавилась от майки и юбки, оставшись в купальнике. – Поплавать хочешь?
– Конечно. Море здесь такое… – Я действительно наконец сумел перевести взгляд на море.
– Тревожное. Чужое. Даже страшно.
– Это ничего. Здесь не утонем. Только не надо заплывать.
И она вдруг, легко разбежавшись, рыбкой прыгнула с причала.
Я стал раздеваться. Сбросил шорты и рубаху. Зашел на причал. Без сандалий влажные камни кололи ноги. Море темное, сине-зеленое, грозное. Просто разбежаться и броситься, как она?
Я, осторожно переступая, сел на край причала. Набежавшая волна забрызгала меня, заставила оттолкнуться и спрыгнуть…
Под водой мелькнули Стасины ноги и красный купальник. Мелькнули и исчезли. Я вынырнул и, с трудом подтянувшись, залез обратно на причал.
Стаси не было видно. Уже через две минуты я начал беспокоиться, а через пять нервничать. Я вскочил и ходил босиком по причалу, забыв про боль в ступнях. Поколебавшись, заорал во все горло:
– Стася! – И еще раз, чувствуя всю нелепость своих попыток: – Стасяааа!
– Что случилось?
Я обернулся. Сзади стояла Стася. Ее волосы замотаны в полотенце. В руках продуктовая сумка из ткани.
– Я думал, ты…
– Утонула? – Она посмотрела на меня «скептической стороной». – Я не могу здесь утонуть.
– Здесь мое сердце.
– Ты говорила. Но волны.
– Волны, как руки матери. Ласковые. На горизонте горы старые, с морщинами, как лицо деда. И волны мягкие, как мамины ладони…
Я посмотрел на горизонт. Там действительно были горы.
– Я просто оплыла вокруг и поднялась там. По тропинке. А ты испугался?
– Испугался.
– Зато смотри, что у меня есть. – Она достала из сумки два подсолнуха. – Мы здесь на пристани с подругой сидели и считали волны. И подсолнухи лущили. Хорошо. Будешь?
Она прошла ближе к воде и села на пристань. Протянула мне один подсолнух.
– В сумке было два подсолнуха, – сказала она. – Два – это уменьшаемое. Я отдала один подсолнух тебе. Один – это вычитаемое. Какова разность?
– Правильно. Мы все и всегда одни.
– Я с тобой.
– Правда? – Она посмотрела на меня удивленной стороной. – Сегодня. Сейчас. Навсегда?
– Да. Так что один подсолнух плюс один. Это сумма.
Мы грызли семечки. И бросали очистки на пристань.
– Бросай, не бойся. Это и есть лушпайка. Обязательно придет волна побольше и смоет ее. Мы всегда дожидались, и всегда она приходила. Ни одна лушпайка не останется. Все смоет.
Она улыбнулась и, осторожно опершись на локоть, прилегла на пристань.
– Я научу тебя считать волны. Ложись рядом.
Я лег. Пристань была мокрой и прохладной.
– Закрой глаза. Дождись, пока все звуки исчезнут. Даже мой голос. Кроме волн. Ты услышишь.
И я услышал. Волны. Гул. Шелест. Плеск.
Я отчетливо слышал каждую волну.
– Считай. И когда будет десятая волна… – Она вдруг замолчала.
– Когда будет десятая волна, ты можешь поцеловать меня…
Темно-зеленые тревожные волны. Ты не утонешь, потому что здесь твое сердце. Горы – это лицо отца. Ты промелькнешь в воде, как луч света с поверхности в глубине. Волны. Волны. Темно-зеленые. Нежные и тревожные.
Сегодня. Сейчас. Навсегда.
– Мы лежим на очистках от семечек.
– Разве. Посмотри. Их смыло. Как я тебе говорила. Это лушпайка.
– Кстати, о лушпайке. Говорят, ты вступился за меня?
– Кто тебе сказал? Не очень удачно вышло.
– Сами и сказали.
– Даже в морду не сунул. Растерялся.
– Они сказали…
– Я знаю. Переходящее знамя.
– Вот гады.
– Почему? Они по-своему правы. Только они все объясняют так, как им понятно. Для них так проще. Потому что они сами такие.
Мы всегда в других видим только то, что есть в нас самих.
– А почему ты говоришь, что они правы? Хотя нет! Слушай! Не говори мне.
– Потому что правы. Каждое лето экспедиция приезжает. Уже два года. И в первый, и во второй раз я надеялась. Я думала…
– Ты думала, это любовь?
– Да. Глупо, правда? Взрослая тетка.
– Не говори так.
– Почему? Каждый раз они говорят такие слова. Умные. А на деле кто они?
– Лушпайка.
– Да. А я переходящее знамя.
Мы помолчали. Звук волн куда-то исчез. И море казалось просто мутной серой водой.
– Слушай, – начал я, запнулся, но все же решился, – а ты была с ними здесь?
– Нет, – усмехнулась она. И посмотрела скептически. – Что ты? Здесь мое сердце. А с ними в палатке.
Я вздохнул.
– Ничего. Я тоже много раз ошибался.
– Никогда не ври. Не будь как они.
Я понимал, о чем она. Вернее, чувствовал. Тогда еще только чувствовал. Потом, после, повзрослев, я узнал, как легко даются обещания и как дешево они стоят. Узнал о том, что их бесконечный витиеватый юмор – лишь продолжение страха, их знания – лишь набор бесполезных фактов, которые не нужны никому, кроме них, их чувства – лишь способ более-менее комфортно устроить свое тело и нехитро удовлетворить инстинкты.
Но это потом, после.
А пока я, благодаря Стасе, научился их не замечать.
Настоящего романа со Стасей у нас не было. Она не переехала ко мне в палатку, как я мечтал. По выходным мы ходили в странное место, к морю и горам. Туда, где было ее сердце.
Там мы грызли семечки, купались и считали волны.
Не знаю, любили ли мы друг друга, но с ней я очень изменился. Я научился ее внимательности, ее необидчивости, ее одиночеству…
Но самое лучшее было вот что.
Я научился легко презирать и спокойно не замечать лушпайку.
О наших отношениях со Стасей они знали и, как обычно, пытались острить.
– Ходите теперь вместе к старому причалу грустить? – спрашивал Владимир Аркадьевич.
Но меня уже нельзя было вывести из себя:
– Мы считаем волны.
– Романтично. На обломках жизни.
– Прям как в повести максимально горького писателя, – поддержал его Мишаня.
– Да. – Мне вдруг опять захотелось вырвать клок из бороды уцененного Мефистофеля. – Какой-то товарищ с образованием младшего научного сотрудника, считающий, что наука – это способ удовлетворять любопытство за государственный счет, написал работу по необходимости укрупнения малых поселков. И эта галиматья превратилась в директиву. И вот у Стаси снесли дом. Хотите пошутить на эту тему?
Желающих шутить не нашлось. Только Владимир Аркадьевич, историк по профессии, сказал:
– Понимаете, юноша бледный со взором горящим, то, про что вы рассказываете, это, как вам ни обидно, исторические процессы. Происходит то, что происходит…
– Все собрались у костра. Сейчас начнут петь, – сказала Стася.
– Это так обычно. Угадаешь, что за песня?
– Про комиссаров в пыльных шлемах.
– Или про юного гусара, влюбленного в Наталию.
– В Амалию.
– Это одно и то же.
– Ты дашь мне адрес? Я буду писать.
– Нет. Тебе не надо писать.
– Это почему?
– Потому что ты едешь туда, где твое сердце.
– Я не знаю, где мое сердце. Мне сейчас кажется…
– Не говори, не говори!
Я замолчал. Мы оба не угадали. Пели красивую песню про последний троллейбус. Лучшее из их репертуара.
– Не надо писать. Не надо обещать. И пожалуйста, миленький, никогда не обманывай. Не будь таким, как они. Приедешь следующим летом. Ведь ты мой кавалер. Поймешь, где твое сердце. Тогда…
И не вини себя. Ты ничего не обещал, и я не обещала. Так сложатся обстоятельства, такая выпадет судьба, ты не виноват.
Я не приехал ни следующим летом, ни через год. Все случилось ровно как предсказывала Стася. Так сложились обстоятельства, такая выпала судьба.
Я пытался узнать про Стасю у общих знакомых, регулярно ездивших в экспедицию. Говорят, она больше не нанималась. И никто ее не видел. Так сложились обстоятельства, такая выпала судьба.
Мне так легче думать. Хотя Стася, живущая внутри меня, иногда смотрит удивленной стороной:
«Ты сам-то в это веришь?»
А потом усмехается скептически:
«Да ладно! Какая фигня!»
Зато лет тридцать спустя я попал в компанию тех, с кем когда-то был в археологической экспедиции. Это были такие традиционные ежегодные встречи. За столом увидел почти всех, кого помнил. Все были узнаваемы, только смешно загримированы под старость. Евгений располнел и облысел. Но все так же тискал гитару и все так же был объектом внимания пожилых экспедиционных девочек. Только теперь задушевного Окуджаву сменил туманный Щербаков. Хампердинк остался на месте. В области зарубежной эстрады развития, видимо, не произошло.
Мишани не было. Про него с усмешкой говорили, что он ушел в монастырь. Разочаровался в мирском.
Владимир Аркадьевич заметно хромал. Болели ноги. Он теперь уже не напоминал облезлого Мефистофеля. Теперь он был грустным дедом морозом на пенсии.
Седые волосы, и борода, и взгляд такой несчастный, что я, наверное, пожалел бы его, если бы не услышал прежнее. Тоном, не терпящим возражений, они вещали про нефть и кризис, про скорый крах одних и освобождение других. Арабы, евреи, Ближний Восток. Тридцать лет прошло. Тридцать лет.
Только прежнего азарта не было в их шуточках и разговорах, а сквозь маску всезнания, как запах пота из-под слоя дезодоранта, просачивались в речах Владимира Аркадьевича, в его словах, горькая обида на жизнь и разочарование.
Я почувствовал это. Но ни радости, ни грусти не испытал. Мне бы и хотелось ощутить что-то подобное, но что я видел перед собой?
– Скажите, как теперь ваш институт? – спросил я его. – Удается в нынешние времена удовлетворять любопытство за государственный счет?
– Ничего нет хорошего в нынешних временах.
И кто-то шепнул мне:
– Больше не работает. Их кафедру сильно сократили.
Владимир Аркадьевич, видимо, услышал и стал вдруг нервно и зло проклинать ситуацию, страну, буржуев…
Видно было, что на этот раз он не врет и не насмехается, его жизнь была разбита.
Мне вдруг захотелось уйти. Я поднялся и посмотрел на Владимира Аркадьевича.
– То, про что вы рассказываете, это, как вам ни обидно, исторические процессы. Происходит то, что происходит.
– Что? – повернулся и взглянул на меня.
– Исторические процессы, – сказал я. – Как ни обидно, лушпайка.
– Бестактность, – пожал плечами, не глядя на меня, Евгений. И взял гитару. – Не обращайте внимания, Владимир.
В комнате заиграла гитара. Пели про август, катамаран и конец практики…
А я уже бежал по зимней улице, мимо новостроек, серо-синих в вечернем морозном воздухе, и думал, что где-то там, далеко, все еще есть та бухта, тот причал и горы, все в морщинах, как лица наших постаревших отцов.
И те волны.
Тревожные, но мягкие и нежные, как ты, Стася.
Сегодня. Сейчас. Навсегда.
– Вот вы машину на дорожку поставили, а это пешеходная дорожка. – Он улыбается и смотрит ясными голубыми глазами.
– Хорошо, уберу, – отвечаю я радостному деду. – Мне несложно.
– Конечно, несложно. Пять секунд. Я специально предупредить прибежал, а то, знаете…
Он замолкает и ждет, пока я сдаю назад на своем неповоротливом джипе.
– Да тут просто опасно машину оставлять. Клиенты – вон те, что на спа, и те, что в поликлинику частную, ставят машины, а потом дед Законник приходит и бьет их. Прям палкой по капоту…
– Так его в конце концов посадят… – Я заинтересовываюсь. Вижу, что есть возможность узнать об интересном персонаже. Вылезаю из-за руля.
Мой собеседник – подтянутый спортивный мужчина где-то за пятьдесят, может, к шестидесяти. Понятное дело, местный. На морщинистом лице «вечный» загар. И яркие-яркие голубые глаза.
– Не посадят, – отвечает. – Он даже не выплатил ни копейки. Все суды выигрывает. Сутяга.
Я задумываюсь. Смотрю, достаточно ли я отъехал от дорожки. Вроде достаточно. Мне все равно нужно дождаться жену. А голубоглазый не уходит.
– Скажите, ведь вы с ним знакомы?
– Ну с дедом Законником, что машины калечит, а потом суды выигрывает.
– Знаком, конечно. – Он широко улыбается и добавляет: – Его здесь, в Береговом, все знают.
– А в чем его мотив?
– Ну для чего он это делает? Что ему нужно?
– Как «что нужно»? Ясно что. Чтобы не ставили машины на дорожку.
– Понятно. Ну, мне тоже не нравится, когда закон нарушают…
– А машину на дорожку поставили.
– Ведь я же убрал. Но вот скажите. Ну вот мы с вами, например, не лупим машины, которые формально нарушили закон, но никому не мешают…
– А ведь ему мешают. – Мой голубоглазый собеседник становится суровым. – Нарушают же закон, так?
– Ну вот. Вот дед их и наказывает. По закону.
– Погодите, ну по закону надо ГИБДД вызвать. Оштрафовать нарушителя. А не палкой по капоту.
– ГИБДД? Вы их вызвать пробовали? Да они к следующему вечеру только и приедут. – Он смотрит на меня вызывающе. Голубые глаза его, кажется, видят меня насквозь.
– Не пробовал. Меня обычно не сильно беспокоят вопросы неправильной парковки.
– Никого не беспокоят. И ГИБДД тоже.
– Ясно, – говорю. – Значит, надо палкой.
– Получается так.
– Так ведь убить его могут.
– Могут. Но не убили пока. Все, кто могли его по голове стукнуть и закопать, сами закопанные лежат. И «каски» у всех. Вот и не связываются…
– Ясно, – говорю. – У меня тоже КАСКО, и гоняться за дедом я бы не стал.
Мы молчим. И раз уж он не уходит, я прошу:
– Расскажите про него. Кто он? Почему стал таким?
– Ась? В чем его мотив? – Он широко улыбается.
– Да нет. Просто про человека.
– Ну жил мужик, жил. Военный он. Служил, пока козлы страну не развалили. Уволился из рядов. Пошел на судостроительный работать. Пока козлы не закрыли завод. Ну и совсем на пенсию переселился. Жена хвостом крутанула.
– Развелась в смысле?
– Ушла. К сестре жить. Ты, говорит, стал невыносим. Законником его прозвала. Мол, придирался к ней.
– А она-то что?
– Много чего. И по счетчику воды не вовремя показания…
– Жалко ее. – Он вдруг как-то сморщился, точно откусил лимон. – Как теперь одна-то жить будет в пожилом возрасте?
Я вздыхаю. Пожимаю плечами, всем видом стараясь показать, что да. Жизнь трудная.
– Ну, – говорю, – ничего. Ему, наверное, тоже непросто. Обслуживать себя на старости лет.
– Этот справится. Он все умеет. И дел у него много. – Мой собеседник вдруг широко улыбается. – За козлами-то надо следить. Те, которые неверно паркуют автотранспорт. Только, может, вечером трудно. Когда телевизор надоедает.
– Это да. Надо.
– Но вы отъехали. Вам бояться нечего. Ладно. Пойду. На рынок схожу. Счастливо оставаться.
– До свиданья. Спасибо за беседу.
Я смотрю ему вслед. Он идет, чуть сутулясь, уверенной походкой делового человека или бывшего военного… И тут наконец я догадываюсь:
– На рынке тоже парковка?
Он оборачивается и смотрит на меня святящимися голубыми глазами:
– Да. До белой линии. Если, стало быть, по закону. До белой линии.
Передо мной счастливый человек. Он будет занят весь день, борясь и перевоспитывая козлов.
И ему никогда не бывает грустно. Может, только вечером…
Когда надоедает телевизор.
Мост для Поли
В жене Сергею нравилось решительно все.
И то, что она худая и почти нет груди.
И то, что она совсем, казалось, бескровная и бледная.
И личико остренькое и скуластое.
И длинноватый тонкий носик.
И глаза такие зеленые и бездонные.
И русые прямые волосы, всегда собранные в пучок.
И то, что ее зовут необычным для деревни именем – Поля. И несмотря на то что, с тех пор как он привез ее из райцентра в свою деревенскую избу, прошло почти двадцать лет, он все еще с ума сходил в ожидании ночи с ней, когда она с утра, каким-то ведомым только ей способом давала понять, что сегодня ночью ей хотелось бы близости.
Весь день он ходил радостный: и работал на тракторе радостно, и подмигивал всем подряд, и даже пытался шутить с односельчанами, что у него выходило плохо, неуклюже, и он это знал. Но все равно не удерживался и шутил.
С годами близость между супругами стала случаться реже, но совершенно не утратила привлекательности. Сергей млел при одной мысли, что он скоро поцелует жену в шею, а она громко выдохнет, и это будет означать, что вот, да, она любит и хочет его. Как всегда.
В деревне их браком реже восхищались, а чаще завидовали. Особенно женщины. Сергей не пил и много работал.
Хозяйка, в деревенском понимании этого слова, Поля была плохая. Ни скотины, ни огорода не держала. А только выращивала астры в палисаднике, да и все. Но Сергею было все равно. Все, что он любил, Поля готовила из продуктов, привезенных автолавкой. И готовила вкусно.
Она любила его и искренне гордилась сильным, трезвым и всегда влюбленным в нее мужем. Требуя от него только одного: чтобы он называл кетчуп – кетчупом, а не кепчуком, как привык, и не смел называть табуретку тубареткой. Она была совсем слабенькой. Вместе с тем местные врачи не находили у нее никаких болезней.
Поля любила ходить по ягоды. И однажды с полуупреком сказала Сергею: «Вот жаль, что у нас мостика нет. Трудно в поле ходить через речку-то». Сказала и забыла, пошла с ведром по ягоды.
А Сергей не забыл. Он скорее удивился. Ну что такого трудного? Поколения и поколения деревенских женщин ходили вброд. А ей, видишь ты, трудно. Он покачал головой и задумался, глядя ей вслед и, сам того не сознавая, привычно восторгаясь, как грациозно она несет ведро, держа его чуть на отлете…
Пока она ходила по ягоды, он съездил в совхоз и выпросил у директора досок. Немного – и директор быстро уступил. Два бревна Сергей выпилил из брошенной покосившейся избы на краю деревни. И из всего этого сколотил для Поли мост.
И когда она возвращалась с ведерком малины, то увидела мост и сидящего рядом с ним Сергея, поставила ведро у речки, а сама медленно, словно модель на подиуме, прошлась по мосту. И на середине вдруг бросила на Сергея быстрый взгляд и подмигнула. Сергей сглотнул. Она выглядела так величаво-победительно! Будто королева, которая благосклонно взирает на влюбленного пажа. И когда она подмигнула, то Сергей подумал, что, вероятно, у них опять будет замечательная ночь…
Но вечером случилось несчастье. Поля перебирала ягоды и вдруг упала в обморок. Упала тяжело и с таким грохотом, какой невозможно было предположить от падения худенькой женщины. Сергей почему-то сразу понял, что это не шутка, не женский обморочек, что случилась какая-то ужасная беда.
Он вызвал «Скорую» из райцентра, а потом осмотрел Полю. Она дышала. Ровно и спокойно. Только глаза закатились, и видны были одни белки. Он поднял ее на руки. И понес в баню. Там он снял с нее мокрый халат и стал обтирать теплой водой и полотенцем. Поля пришла в себя. «Что ты делаешь? – спросила она. – Что со мной?» И, увидев халат, заплакала: «Как стыдно! Ой, как стыдно!»
«Что ты, елки-палки! – Сергей не знал, что сказать, и тоже заплакал. – Сейчас доктор приедет».
Он вытер ее и отнес домой. И она, такая хрупкая, лежала, прижавшись к нему всем телом и головой. И только ноги свисали безвольно с его руки.
«Ну, может, надо будет немного и полечиться», – сказал доктор из районной поликлиники и сделал укол.
Лечение заняло не больше года. После чего Поля умерла в больнице от рака крови.
Это был ужасный год. Обмороки стали частыми. Сопровождались они временной потерей памяти и многими другими неприятными последствиями, так что смерть стала облегчением для нее. А для него…
Поминки всей деревней кончились песнями и дракой, в которой Сергей не участвовал. Повинуясь какому-то трудно осознаваемому чувству, он пошел туда, где видел свою жену в последний раз здоровой. К мосту.
За тот год, пока Поля болела, он ни разу не был здесь. И вот теперь он увидел, что мост сожгли. Сделал это кто-то из тех, кто сейчас сидел на поминках. Обугленные остатки досок торчали, как гнилые зубы, черные бревна были сдвинуты и с одного берега упали в воду.
Вся боль, которая год копилась у него внутри, вдруг сосредоточилась здесь, и ее единым выражением был разрушенный и сожженный мост. Он быстро зашагал обратно к дому. Виновник сидел там. Оставалось узнать – кто и…
Что будет делать и как узнавать, он не знал. Любой, любой мог сжечь, вся эта серая толпа за длинным столом. Сергей распахнул дверь, и разговор сразу, в одно мгновение, умолк. Люди почувствовали: что-то неладное творится со вдовцом.
– Кто сжег Полин мост? – спросил он. И когда ему не ответили, добавил: – Всех убью.
Сказал так просто, что каждый сидящий за столом понял – да, убьет. Томительную тишину прервала бабуля по кличке Командир, бывшая бригадирша в совхозе:
– Вставайте, пакостники, кто сжег!
Сергей молча посмотрел на сидящих за столом. Пакостники боялись подняться. И каждый, почти каждый мог сделать это. Люди сидели серой массой, боясь поднять глаза от тарелок.
И тогда Сергей вдруг почувствовал, что устал. Что Поле не нужен его мост. Что она не пойдет больше за ягодой. Что она умерла.
Он сел на лавку и, закрыв лицо руками, заплакал. Заплакал как мальчишка, постанывая и всхлипывая. Громко. Навзрыд.
На следующий день он приехал на тракторе на склад, и ему без разговоров выдали еще досок. Бревна он выпилил там же, где и раньше. И когда он вез их по деревне, то люди кивали и здоровались с ним, как обычно.
И он, как обычно, отвечал им.
К вечеру он сколотил новый мост. Вся деревня слышала, как он пилит бревна бензопилой, как шлифует доски и забивает гвозди.
Придя домой, он лег спать, и ему снилась Поля, идущая через мост, и он все хотел позвать ее, да не мог…
Сергей проспал почти сутки и, проснувшись, сразу пошел к мосту, сам не зная зачем. И когда он пришел туда, то, наверное, первый раз за год улыбнулся.
Кто-то, пока Сергей спал, приделал к мосту перила.
И Бог улыбается мне
Моя бабушка говорит, что если совпадения происходят в жизни – то это Бог улыбается тебе.
Не знаю, не знаю. Мне Бог улыбается, когда погода солнечная. И когда на нашем участке трассы нету раздавленных кошек.
Дело в том, что я тружусь дорожным рабочим на платной трассе. У нас есть оранжевый грузовичок со всяким инструментом. И еще есть оранжевые жилеты со светящимися вставками. Я всегда работаю днем, поэтому, чтобы посмотреть, как вставки светятся, мне пришлось выйти на улицу ночью. Действительно светятся.
Сейчас весна и погода солнечная. Это очень хорошо. Я специально сажусь в кузов нашего грузовичка, чтобы не дышать сигаретным дымом. Мой напарник высаживает больше пачки в день. И мне кажется, что мой светящийся жилет больше чем наполовину состоит из вони и пепла.
Пусть себе курит за рулем. А я в кузове щурюсь на солнце и вместо тупых разговоров слушаю оперу в плеере.
Бабушка говорит, что я странный. Ну, может быть.
Она считает меня странным потому, что я, по ее выражению, ни к чему не стремлюсь. И я, по ее же выражению, инфантильный.
Насчет стремления – это она зря. Я стремлюсь накопить на квартиру. Да, я не беру ипотеку. Но каждый месяц я откладываю ту же самую сумму, которую другие выплачивают по ипотеке. Только я никому не должен. Лет через тридцать у меня будет своя квартира.
Когда я так говорю, то бабушка заявляет, что она не верит, что мне двадцать пять лет. Бабушка кричит, что я рассуждаю, как тринадцатилетний. И что через тридцать лет у меня точно будет квартира, так как она умрет, не вынеся моей тупости.
Еще она считает, что от меня пахнет дохлыми кошками. Это точно неправда. Мой жилет пахнет окурками; противно, конечно, но к дохлым кошкам это отношения не имеет. Я внимательно слежу за гигиеной и моюсь два раза в день.
Вероятно, сказывается то, что она ненавидит мою работу. И считает ее главным признаком инфантилизма.
«Другие стремятся», – говорит моя бабушка и вздыхает. А я молчу.
Я вижу, как они стремятся. Однажды впрягшись, как лошади, они тянут лямку бесконечного зарабатывания. У них ипотеки и машины в кредит.
«Ну не всем же жить с бабушкой! – говорит моя бабушка и вздыхает. А я молчу. – Некоторые женятся. Семью заводят. Божеское дело».
Бабушка, как всегда, права. Семья, конечно, дело божеское. Непонятно только, почему все мои семейные ровесники выглядят такими унылыми и мечтают хоть ненадолго улизнуть и отдохнуть, как они выражаются, на стороне.
Вот когда я отдыхаю на этой стороне, то считается, что я в поиске. А когда они – то измена. И возможность лишиться божеского дела и счастья платежей по ипотеке.
Так что я не стремлюсь. Просто коплю на квартиру. Но держу это в тайне. Ведь самое важное должно оставаться тайной.
Мне нравится моя работа. Мы ездим в грузовике и следим за состоянием платной дороги. Есть и свои трудности.
Сейчас наступила весна. Май. И солнышко светит так, что я могу ездить в кузове и слушать оперу. Это, конечно, не трудность, а удовольствие. У меня отличный цифровой плеер.
Тепло, спокойно, в ушах наушники…
А трудность в том, что по весне кошки начинают лезть на трассу. То ли у них миграция какая-то, то ли они тоже к чему-то стремятся.
В принципе, как говорит мой напарник, мы не обязаны убирать кошачьи трупики. Пройдет большая уборочная машина, смоет все струей и соберет крутящимися щетками.
Но я все равно убираю кошек с дороги. Мы останавливаемся, я спрыгиваю и специальной палкой цепляю останки. Противно только поначалу.
Мертвые кошки похожи на костюм, брошенный под колеса. Хозяин давно забыл про его существование, а костюм валяется и постепенно превращается в бесформенную тряпку. Его уже не восстановишь. Не поставишь заплатку, не зашьешь.
Бабушка говорит, что все возможно тому, кто верит. То есть если она с верой помолится Богу, то Он выполнит все, что полезно для ее души.
Не знаю, не знаю. Я пока не пробовал молиться, чтобы душа кошки вернулась в свой костюм. Потому что, во-первых, я подозреваю, что это будет неполезно для кошкиной души, а во-вторых, каждый раз, когда я встречаю кошачий трупик, «костюм» уже сильно испорчен. Будет ли кошке комфортно возвращаться в него?
Бабушка сердится, когда я задаю подобные вопросы. И кричит, что я ничего не понимаю. И что у меня нет никакой логики.
Ну не знаю, не знаю…
Чтобы не слышать ее крики и причитания, я слушаю оперу. Вообще-то я всегда ее слушаю, когда не надо слушать людей.
Мне нравится одна певица. У меня всегда с собой ее арии. Она поет письмо Татьяны Онегину. А кроме того, исполняет много других арий и на русском, и на итальянском. Но когда я услышал эту, то почему-то почувствовал, что она обращена прямо ко мне. Теперь я слушаю ее, когда еду в своем грузовичке. Ее голос в моих наушниках всегда, даже когда я соскребаю испорченные кошачьи костюмы с асфальта…
В интернете я нашел ее фотографию. Певица оказалась очень-очень красивой.
Теперь ее портрет, распечатанный на хорошем принтере, висит у меня над кроватью.
Бабушка говорит, что это тоже признак инфантилизма – пускать слюни на недостижимую светскую львицу, вместо того чтобы найти простую и хорошую девушку.
А я отвечаю, что мне попадались и простые, и хорошие отдельно. Но вместе – никогда.
На это бабушка заявляет, что понимает, почему избавились от меня мои родители и сослали к ней.
А я говорю:
– Ну не знаю, не знаю. Мне хорошо с тобой. Твоя еда гораздо вкуснее.
Бабушка считает, что я так и проживу всю свою жизнь и со мной ничего хорошего не случится.
– А как же совпадения? – спрашиваю я. – Ведь это улыбка Бога.
Но она только машет рукой. Видно, забыла свои же слова.
А я не забыл.
Совпадение произошло со мной вчера. Вчера со мной произошло совпадение.
Я ехал в кузове, когда увидел ее. Колесо ее «Мерседеса» было пробито. Она остановилась прямо на моем пути. На обочине.
Я бы все равно помог. В конце концов, я помогаю даже измятым кошачьим костюмам перекочевать в утиль. Почему бы не помочь человеку, неспособному поменять колесо на своей машине?
Но – вот совпадение – это оказалась она. Обычно женщины в жизни очень отличаются от своих фотографий. Во всяком случае, все мои подружки отличались. Даже размер груди. Я не знаю, почему так. Наверное, это эффект фотооптики.
А она была такая же, как на фото, только глаза не такие ярко-зеленые.
– Здравствуйте. Помочь вам поменять колесо?
– Конечно!
Она, кажется, хочет рассердиться на меня, но не знает за что.
Глаза не такие зеленые, как на портрете на моей стене. И лицо не спокойное, а нервное. Губа верхняя чуть подергивается.
Видно, она сама пыталась поднять машину и открутить колесо. Шея вся в капельках пота, и одна большая капля скатилась под блузку, между грудей.
– Что это вы на меня так смотрите?
– Вы очень красивая. Только глаза у вас не такие зеленые, как на фото.
Она выглядит растерянной.
– Я им говорила «не надо». А они… – Она замолкает.
И я так и не узнаю, что и кому она говорила. И что говорили ей они. Одно понимаю точно – это она не с глазами разговаривала.
– Наверное, это эффект оптики, – говорю я, чтобы подбодрить ее.
– Эффект от фотооптики. Глаза. Но в жизни вы еще красивее, чем на фото…
Она улыбается. И сама рассматривает меня с удивлением, как будто я кошка, пережившая столкновение с «КамАЗом».
– Вы знаете, кто я?
– Конечно.
Я называю ее имя.
– Вы любите оперу?
Я задумываюсь. Да, наверное, я люблю оперу. Но точнее и правдивее будет сказать, что я люблю ее арии и фотопортрет с зелеными глазами.
– Да, я люблю оперу.
– Это очень странно, никогда бы не подумала… – Тут она осекается и замолкает. – Поможете поменять колесо?
– Вы хотели сказать, что дорожный рабочий не может любить арии. Это не совсем так. Когда я слушаю ваше письмо Татьяны, мне кажется, что ангелы вышивают звездами по ночному небу.
– Я помогу сменить колесо.
У нее отличный домкрат, хороший баллонный ключ и совсем новая машина. Болты еще не прикипели. Я отлично умею менять колеса. Она стоит надо мной.
– Что вы сказали про ангелов?
Я отвернул уже второй болт.
– Всегда, когда я слушаю, как вы поете эту арию, мне представляются ангелы с иглами для вышивания, которые пришивают звезды к ночному небу.
Я делаю усилие, и вот на земле еще один болт.
– Вы очень странный. Вы знаете об этом?
– Да. Бабушка мне часто об этом говорит. Именно такими словами. Говорит: ты очень странный.
– Ну, я не бабушка, – усмехается она.
– Это точно. Просто говорите точно так же. Еще бабушка говорит, что я инфантильный, потому что люблю вас, а не простую хорошую девушку…
Я кручу домкрат. Это нужно делать внимательно и аккуратно.
– Вы любите меня, вы сказали?
– Ваши арии. Особенно письмо Татьяны.
Достаю запаску из багажника. А в салоне у нее портрет кошки прикреплен к торпеде. Рыжая, ушастая.
– Какая ушастая!
– Это абиссинская кошка. Одна из самых древних пород.
– Красавица.
– Вы любите кошек?
Я не знаю, как ответить.
– Да. Они бывают такие живые.
– Да! И очень веселые.
– Все кошки живые и веселые, – говорю я, – потому что, когда они не живые и не веселые, это уже не кошка, а только ее измятый костюм.
– Вы очень странный.
– Да, так говорит моя бабушка.
Я поменял колесо, и теперь она роется в кошельке. Ветер растрепал ее волосы. Это тоже очень красиво. Почти как ария Татьяны.
– Вот, – говорит она и протягивает мне тысячу.
– Не надо.
Я не знаю, как ей объяснить это.
– Потому что на эти деньги все равно не купить отдельной квартиры, а брать ипотеку я не хочу. Скажите, ведь то, что мы встретились, это совпадение?
– Да. В определенном роде – да.
– Ну хорошо. Я очень счастлив. У меня всегда с собой ваши арии. До свиданья.
– Подождите! – Она бежит к машине и открывает пассажирскую дверь, наклоняется и роется в бардачке. Я отворачиваюсь, потому что мне стыдно смотреть. На простую хорошую девушку мне смотреть было бы не стыдно. – Вот!
Она протягивает мне CD-диск. Это ее арии, а на обложке тот самый портрет с зелеными глазами.
– Тот самый портрет, – говорю я.
– Тот самый. И здесь есть письмо Татьяны.
– Я очень счастлив, спасибо. Хотя я не смогу слушать этот диск.
– Потому что у меня отличный цифровой плеер, но он не проигрывает CD.
Мы молчим.
– Но пусть все равно он останется у меня. На память.
– Пусть. – Она улыбается. – Хочешь, я распишусь тебе на диске?
– Конечно! Иначе бабушка не поверит в такое совпадение!
– У тебя есть ручка?
– Нет. А у вас?
– У меня тоже нет.
– Ладно. Тогда пусть совпадение останется тайной.
Я задумываюсь и вспоминаю.
– Ведь самое важное должно оставаться тайной.
– Ты очень странный.
Я, конечно, соглашаюсь. Тут они с бабушкой правы.
Мы прощаемся. Она уезжает. А я возвращаюсь в грузовичок. Бужу напарника. Слушаю его скабрезные шутки, и мы опять едем по нашему платному шоссе. Кошки не перебегают нам дорогу. Ни абиссинские, ни простые.
Я щурюсь на солнце.
Вспоминаю о том важном совпадении, которое только что произошло. Благодарю Бога и улыбаюсь Ему.
И чувствую, что Он улыбается мне в ответ.
Девушка из разноцветных яблок
Когда-то давно на самой окраине Москвы – там, где кончались асфальтированные дороги, рядом с еловым лесом, с одной стороны, и большим яблоневым садом – с другой, располагался совхозный рынок. Это был ряд металлических серых столов с подведенной к ним водой и большими стоками-желобами. Наверное, для того чтобы мыть фрукты и овощи.
В октябре рынок уже не работал, из людного торжища он превращался в заброшенное, пустынное место. Вода уже не текла из кранов. Остатки битых яблок в ящиках догнивали окончательно. Пустота и тишина.
Вот туда мы и бегали с одной странной девочкой из соседней школы.
Я познакомился с ней на улице, потому что имел романтическую привычку гулять в одиночестве и мечтать. Мне нравились новые высокие башни на окраинах. Вечерами в квартирах зажигался свет, и я мог представлять тех, кто живет там. И как они живут. И…
– А там кто-то живет?
Я обернулся и увидел ее. Она была чуть постарше. Мне было тринадцать. А ей четырнадцать. Но одета она была еще совсем по-детски. Бледно-красное платье в маленькую белую клеточку, коричневая мальчишеская куртка и сапожки с двумя ремешками и застежками сверху из ближайшего магазина, какие носили многие девчонки в ту осень…
– Конечно, кто-то живет, – ответил я. Мне было тревожно и вместе с тем интересно. Опыта общения с девочками один на один я не имел.
– Я спросила, ждешь ли ты кого-то? Кто-то должен выйти? Ты все время смотришь на окна.
Я не знал, как ответить. Ее лицо привлекало и отталкивало меня. Оно состояло из двух половин. Да, я знаю, что любое лицо состоит из двух половинок, но в ее случае это были две столь разные половинки, что из них не составлялось целое лицо. Одна половина казалась вполне обыкновенным живым девчачьим лицом, а со второй что-то ужасное случилось. Вторая половина была мертвой. Все черты как будто те же, но неподвижные и чуть опущенные по сравнению с другой половиной. Особенно губы. Уголок губ, загнутый вниз. Мертвый уголок.
Когда она говорила, то жила только левая часть лица, а правая оставалась почти неподвижной и печальной…
– Ты смотришь на меня. Я уродина? Настолько, что ты даже не слышал, что я спросила?
– Нет! Я слышал. Я просто представляю то, как живут там люди. Фантазирую их жизнь. Думаю, например, что вон в том окне, в той квартире, сейчас день рождения. И у них такой треугольный, как пирамида, торт со взбитыми сливками и клубникой…
Я говорил бы бесконечно, лишь бы скрыть то, что она разгадала во мне. Да, ее лицо было неприятно отталкивающим – и да, первое слово, которое возникло у меня, было «уродина».
Я говорил бы бесконечно, но она прервала меня.
– Это такая болезнь. И это не болезнь лица, а головы… Но врач говорит, у меня есть возможности для жизни.
– А отчего такая болезнь? – спросил я, стараясь не смотреть ей в лицо.
– А отчего бывают все болезни?
Я задумался. Точного ответа на такой странный вопрос я не знал. Вот, например…
– Не знаю, – сказал я. – Вот, например, если ходить осенью с мокрыми ногами, то возникнет простуда. Если есть только конфеты и газировку и начать курить, может быть язва…
Я остановился, потому что понял, что она не очень слушает меня.
– Ты любишь гулять один, смотреть и представлять…
– Я тоже. Хочешь, будем гулять одни вдвоем?..
Меня поразила эта странная формула: одни вдвоем. Я задумался.
– Не бойся. Никто тебя не увидит со мной. Мы будем гулять далеко. И ты расскажешь мне то, что представляешь. Я покажу тебе одно место…
– Я не боюсь, – ответил я.
– Боишься, конечно. Ничего такого в этом нет.
Она была права. Меньше всего я хотел, чтобы нас с этой девочкой увидели вместе. Слухи распространялись быстро, и мне никак не оправдаться, когда в школе объявят, что я гуляю с уродиной. В слово «гуляю» обязательно бы вложили тот самый тревожный и сладкий смысл, о котором мы с ребятами рассуждали, рассматривая самодельные карты с обнаженными тетками вместо обычных мастей…
– Не боюсь, – сказал я.
– Упрямый, – улыбнулась она одной стороной лица. – Нас никто не увидит, потому что мы будем гулять в таком месте, где никого-никого нет. Там ты сможешь рассказать, а я смогу слушать. Хочешь?
– Тогда смотри. Завтра встретимся за кругом – там, где конечная у шестьсот восемьдесят второго…
– Я покажу тебе необычное место. Там тебя со мной уже никто не увидит…
Я кивнул, а она назвала время встречи, и мы попрощались. Домой я бежал счастливый, сам не понимая почему.
Возможно, просто потому, что на этой земле появился кто-то, кому интересны мои фантазии про людей.
Когда-то давно на самой окраине Москвы – там, где кончались асфальтированные дороги, рядом с еловым лесом, с одной стороны, и большим яблоневым садом – с другой, располагался совхозный рынок.
В начале октября еще совсем тепло.
И гулять по яблоневому саду, рядами тянущемуся до самого леса, было хорошо.
То, что издалека видится ровным и одинаковым, вблизи оказывается разнообразным, необычным, неповторимым. Сколько раз я убеждался, что, если приблизить любой предмет, он теряет однообразность и становится единственным и волшебным. Вот мы подходим к яблоне, одной из ряда одинаковых яблонь, и она оказывается непохожей на другие. Длина веток, их расположение, изгибы, все это…
Вдруг начался осенний дождь. Он пошел так быстро и неожиданно ниоткуда, будто кто-то вверху открыл кран. Крупные холодные капли…
– Бежим! – крикнула она. И, схватив меня за руку, побежала.
До этого дня я никогда не бегал с девчонкой за руку.
А когда мы забрались под рыночный стол и слушали, как стучат капли, она сказала:
– Теперь уже можно отпустить руку.
И я отпустил.
– А ты всегда делаешь то, что тебе говорят? Или тебе неприятно было держать меня за руку?..
– Нет, – ответил я. – Не всегда.
Она выпустила мою руку и повернулась ко мне. На этот раз я смотрел на нее, не отводя глаз.
Правой рукой она закрыла мертвую часть лица. И произнесла:
Я было хотел переспросить, что я должен увидеть, но мгновенно понял и сам. И от этого понимания у меня пересохло во рту так, что я едва смог разлепить губы.
– Какая ты красивая! – прошептал я.
– Ты видишь?
– Это мой фокус.
Это был ее фокус. Впоследствии я множество раз изучал половины своего лица. Да. Она верно объяснила – они разные. Фокус состоит в том, что одна половина лица добрая, а другая злая, и, возможно, так у всех людей, но не у нее…
– Какая ты красивая! – повторил я.
Она все не отнимала руки от лица. И смотрела на меня одним глазом. И во взгляде ее и улыбке чувствовалось что-то торжествующе блестящее, чего я никогда не видел ни у кого раньше.
– Как это случилось? – спросил я и сразу пожалел об этом.
– Папа толкнул.
– Толкнул?
– Да. Он не нарочно. Вернее, нарочно, но… – Она убрала руку и отвернулась. – Он хотел оттолкнуть меня, но не хотел, чтобы я так ударилась. Он был пьяный, как всегда. И ругался с мамой. И решил уйти от нас, потому что мама его достала, «достала орать»… Он пошел в коридор, а я бросилась за ним и схватила за плащ. Я его очень любила. Но он решил уйти и оттолкнул меня. Слишком сильно. Случайно.
– Ты ударилась?
– Ого-го как. Виском об полочку, где телефон стоял. Я высокая была, мне шесть лет было.
– И сразу лицо онемело?
– Не-е-ет! – Она вдруг улыбнулась. – Сразу я увидела этот сад. Будто я по нему бегу, а из меня летят яблоки. Мы с мамой часто ходили сюда гулять. И вот, представляешь – сначала чернота, а потом я бегу по саду и из правой стороны головы и руки у меня летят яблоки. Много. Красные, зеленые, желтые… и падают… и тогда я закричала: «Мама! Я сейчас вся высыплюсь…» – сейчас вся высыплюсь яблоками на землю, хотела сказать я. Но сказала просто – высыплюсь…
– А дальше?
– В больнице спасли. Говорили, жизни не угрожает. Мама подруге по секрету от меня сказала, что, может, лучше бы и не спасали.
– Как? – Я так вскрикнул, потому что не верил, что взрослые способны на такое злодейство.
– Кому я такая буду нужна.
– Не понимаю.
– Поймешь потом. Когда повзрослеешь.
Я опять взял ее руку.
– Когда я повзрослею, ты мне будешь нужна.
– Ничего себе. Это потому, что ты умеешь видеть необычное в простых предметах?
– Или потому, что ты маленький врунишка?
– Нет. Я уже взрослый. Я могу всем в школе рассказать, что мы гуляем!
Я сам не понял, как это вырвалось у меня. Но я верил, что смогу. Смогу быть тем самым, из-за которого эта девочка с лицом из двух половинок, эта девочка, состоящая из разноцветных рассыпающихся яблок, эта полукрасавица поймет, что она осталась жить не напрасно…
– Хочешь, я поцелую тебя красивой половиной? – спросила она и, прикрыв часть лица рукою, опять посмотрела на меня.
– Хочу, – прошептал я.
– Хорошо. Только не тяни губы. – Она усмехнулась. – Для первого раза можно и в щеку.
И она несколько раз нежно дотронулась губами до моей щеки, и мне показалось, что если бы я тоже состоял из разноцветных яблок, как она, то я бы распался на множество плодов и лежал бы под рыночным столом так, что меня никому не собрать…
Когда-то давно на самой окраине Москвы – там, где кончались асфальтированные дороги, рядом с еловым лесом, с одной стороны, и большим яблоневым садом – с другой, располагался совхозный рынок.
Теперь его нет. На том месте нет ни сада, ни леса. Там высотки и супермаркет.
Я многое понял, когда повзрослел. И почти разучился видеть необычное в простых вещах.
Но неизменным остается одно. С тех пор я не боюсь сказать вот что.
На том самом месте я гулял с девочкой, которую все, даже родители, считали уродиной. Я гулял с той девочкой, которая была удивительной красавицей.
Я гулял с ней и боялся, что она вот-вот рассыплется и окажется около моих ног.
Множеством разноцветных яблок…
Дипьер, кантар…
Пока в России Пушкин длится,
Метелям не задуть свечу.
Он приехал прошлым летом, командированный немецким Пушкинским центром в Москву. Точной цели его поездки я не выяснял, просто мне позвонил мой близкий друг, немецкий режиссер Ханнес Келлер, и сказал, что вот, мол, приедет их местный «ботаник»-пушкинист. Я удивился, что в Германии такие бывают, и сразу представил себе жалкого библиотечного червя, живущего на весьма скромную зарплату. Ханнес попросил встретить его товарища и помочь разобраться в новом для него городе.
Я ошибся – он выглядел отнюдь не как «ботаник». Когда я стоял в аэропорту, держа в руках глупую табличку с его именем, ко мне подошел элегантно одетый блондин с необычно асимметричной прической. На одной стороне головы волосы были выбриты, на другой свисали до плеча. Странно, но экстремальная прическа вовсе не портила его вид. Только чуть-чуть дополняла.
Он увидел табличку и подошел, легко неся за спиной огромный, чуть не с него самого ростом, рюкзак.
– Вы Борис? – сказал он почти без акцента. Я сразу вздохнул, поняв, что мне не придется говорить на ломаном немецком, стесняясь каждого слова.
– Да, а вы… – я мельком взглянул на табличку, – а вы Оливер?
– Да. Здравствуйте. – Оливер широко улыбнулся. – Я приехал все узнать.
– Все? – Я тоже улыбнулся.
– Абсолютно, – еще шире улыбаясь, сказал Оливер.
Мы пожали друг другу руки и двинулись к машине. Уже по дороге из аэропорта домой я понял, что Оливер знает про происходящее в Москве немало. Например, достав какой-то журнал, он сообщил:
– Сегодня по каналу «Культура» (он назвал время) будет программа «Культурная революция» про Александра Сергеевича Пушкина. Как вы думаете, мы сможем смотреть эту телепередачу?
– Сможем, конечно, как раз вовремя будем…
Во время передачи немец напряженно вглядывался в экран и иногда задавал филологу и переводчице Маше (в гости к которой мы приехали на Чистые пруды) и мне вопросы, если что-то не понимал. Впрочем, русский он знал блестяще, а Пушкина уж точно лучше двух спорящих на телеэкране. В студии вели спор писатель Веллер и телеведущая Конеген. Тема – устарело ли творчество Пушкина. Веллер утверждал, что устарело. Конеген бездарно опровергала. В общем, наискучнейший диалог. Главным аргументом против Пушкина у Веллера явились стихи давно забытого автора шестидесятых годов прошлого века, которые он, впрочем, прочел с жаром и пафосом, назвав современными. По аргументам Конеген можно было понять, что Пушкина она не читала. Совсем.
Оливер, смотря передачу, каждую минуту мрачнел все больше. И когда писатель Веллер в очередной раз объявил, что Пушкина никто не читает, Оливер отчетливо и ровно, перекрывая звук телевизора, произнес:
Слово «глупца» он выделил, глядя на Веллера. Маша захихикала. А я смотрел на Оливера новым взглядом. Как этот немец чувствует русского поэта. Как он нашел верную цитату, чтобы определить ситуацию и выставить спорящих теми, кто они и есть на самом деле…
Досматривали передачу уже краем глаза. Собирались пойти погулять. Жила Маша у Чистых прудов, туда и решили сходить. В коридоре встретились с Машиным отцом. Он налаживал удочки, видимо, собираясь на рыбалку.
– Куда рыбачить поедете, Виктор Петрович? – из вежливости спросил я.
Виктор Петрович остановился, посмотрел на нас, улыбнулся и произнес:
– В Знаменку – деревня такая под Тамбовом, где Наташка Гончарова родилась.
– Жена Пушкина? – тут же спросил Оливер.
– Она, – ответил Виктор Петрович.
По дороге к Чистым прудам я расспрашивал Оливера о цели его приезда.
– Все, что можно узнать о Пушкине здесь, можно и в Мюнхене прочесть. Я поеду в Тригорское. Посмотрю. Но хочу быть в Москве. Хочу понять русских.
Я думал, что ослышался.
– Понимаешь, те русские, которые сейчас здесь, – это не те, которые тогда, при Пушкине, были…
– Ты уверен?
Я задумался. Что я мог ему ответить?.. Я даже не знал, что, собственно, он собирается понять в нас, русских.
– Вот Чистые пруды. Раньше здесь было много рыбы.
Немец кивнул и достал блокнот. Видимо, он считал эту информацию полезной.
Мы сели на скамейке на Чистых прудах. Я собирался спросить Оливера о его изысканиях, когда со стороны озера раздался басовитый мужской крик:
– Бляяяяяядииии!
Мы обернулись. Ситуация был замечательна. В воде по пояс стоял мужик неопределенного возраста в намокшей уже одежде. Он был явно навеселе. Если не сказать больше. В воду он забежал, спасаясь от трех ментов, которые стояли рядом на берегу и которым предназначался этот истошный крик.
Менты явно не знали, что делать. Лезть в грязную воду Чистых прудов им не хотелось, да и просто было невозможно раздеваться здесь, в публичном месте, а нырять в форме и того хуже. Поэтому они стояли на берегу и растерянно смотрели на мужика. А тот, почувствовав, видимо, что находится в безопасности, продолжал оскорблять представителей власти.
– Пидармо-о-о-оны! – крикнул он.
Оливер с блокнотом повернулся к Маше и быстро спросил:
– Что значит это слово?
Невозмутимая Маша хлебнула пива из бутылки и перевела с русского на русский:
– Он говорит, что эти милиционеры – лица с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
– Геи? – переспросил Оливер. – Откуда он знает?
– Интуиция, – ответила невозмутимая Маша.
Оливер что-то записал в блокноте.
Между тем на берегу собралась толпа наблюдателей. Менты попытались вступить в переговоры.
– Вылезай. Мы только проверим документы, – соврал мент.
В ответ раздалось изощренное ругательство. И смех толпы.
Оливер повернулся к Маше. Та перевела:
– Он сказал, что имел сексуальную связь с документами. И со всеми милиционерами. Причем он был активной стороной, а они пассивной. Но он сказал гораздо короче.
Глаза немца чуть округлились от удивления. Он опять черкнул что-то в блокнот.
– Тебе все равно придется вылезти, – крикнул мент.
– Ага, – ответил мужик. – На том берегу.
И пустился вплавь к другому берегу.
– Уйдет! – сказал один из ментов и бросился к «уазику». За ним – остальные.
Пока мужик плыл, они объехали пруд и остановились на том берегу, вылезли. Недавняя мизансцена повторилась. Только теперь на другом берегу. Мы не слышали, что говорили менты, но услышали крик мужика:
– Врагу не сдается наш гордый «Варяг»!
– Это песня русских моряков. О том, что они никогда не капитулируют, – не дожидаясь вопросов, перевела Маша.
– Но он должен будет вылезти. Понимаете, это опасно. Переохлаждение.
– Переохлаждение? Хрен он вылезет. Менты у нас куда опаснее. Так что мужик победит.
И будто в ответ ей с противоположного конца озера раздался жизнеутверждающий крик:
– БЛЯЯЯЯДИИИИ!
Мы опять стали наблюдать, что происходит на том берегу. Мент наконец решился лезть в воду. Но, как всегда, представителя власти сгубили полумеры. Толпа с хохотом наблюдала, как милиционер подворачивает свои серые штаны. Картинка действительно смешная, если учесть, что мужик, за которым собирался лезть мент, стоял в воде по грудь.
– Врешь, не возьмешь! – крикнул мужик и медленно, словно наслаждаясь купанием, поплыл к нашему берегу.
Мент, видимо, передумал лезть.
– Патовая ситуация. Как в шахматах, – сказал я. – Типа вечного шаха. Только наоборот.
Народу собиралось все больше и больше.
Менты же между тем решили применить новую тактику. Оставив своего коллегу на том берегу, сами погрузились в «уазик» и поехали к нам, наперерез мужику.
– Да, плавать теперь бесполезно, – расстроилась Маша.
Но мужик, видя, что тактика врага изменилась, нашел блестящий выход. Он изменил курс и начал грести к домику для лебедей в центре озера. Доплыв до этого маленького плота, он уцепился за край руками и, легко вспрыгнув, оседлал птичий дом.
Менты опять растерялись. Выпрыгнув из «уазика», они стояли на берегу и не знали, что делать.
– Вылезай. Мы тебя отпустим. Обещаю! – крикнул старший мент. – Это… документы проверим и отпустим.
Мужик поднялся на ноги и встал во весь рост, покачиваясь на домике для лебедей. Громко, на весь парк, он произнес голосом былинного героя:
– Нету вам веры!
На берегу у наблюдателей началась истерика от хохота. Послышались аплодисменты.
– Все равно же вылезешь, не до ночи же сидеть будешь! – крикнул мент.
– А вот и хрен! – ответил мужик и ловким движением достал из кармана пол-литра водки. – Ваше здоровье!
– Распитие спиртных напитков в общественном месте! – крикнул зачем-то мент.
– Ага! – крикнул в ответ мужик. – А ты иди сюда. Арестуй меня!
Публика опять взорвалась хохотом.
– Вы-то что ржете! – возмутился милиционер. – Сейчас живо проверку документов устроим.
Толпа возмутилась.
– А по какому поводу?
– Основания какие?
И откуда-то сзади из толпы:
– Всех не перевешаете!
После этого менты, недолго потоптавшись, погрузились в «уазик», забрали своего сотрудника с того берега и уехали.
– Эй! – крикнул кто-то мужику. – Они свалили! Вылезай!
Мужик привстал.
– Товарищи! Сначала проверьте, нету ли засады?! Не затаились ли бляди поблизости?
Двое молодых ребят из толпы быстро пробежались по прилегающим улицам.
– Все чисто.
И мужик, как следует упаковав водку, прыгнул в воду и поплыл к нашему берегу.
Вылезал он под одобрительные аплодисменты зрителей.
Вышел. Мы с Оливером и Машей подошли поближе.
– Сигареты намокли, – сказал мужик. – Угостите?
– Вот. Пожалуйста! – первым сигареты вынул Оливер. Мужик взял одну из пачки, коротким взглядом оценил иностранца и изрек:
– И свобода нас встретит радостно у входа. И братья меч нам отдадут.
На лице Оливера я прочел смесь восхищения и шока.
Мужик тоже видел, что он производит впечатление. Да что там – это был его звездный час.
– Венсеремос! – сказал он Оливеру. – Они не пройдут.
– Дипьер кантар финит де ля унита!
– Почему он поет на испанском? – спросил Оливер.
– Это у нас нормально, – ответила Маша. – Можно и на русском.
И тут же подхватила песню, сжав при этом кулак на согнутой в локте поднятой руке:
Ей стали подпевать. И на второй повтор песню подхватили все:
Вернулись к Маше.
– Ну что, пойдем сегодня в Пушкинский музей? – спросила она.
– Нет, сегодня уже нет, – сказал Оливер. Он достал блокнот и удалился в другую комнату писать.
– Наверное, он много понял. Как собирался, – сказал я Маше. – Не все, но много.
Оливер просидел в своей комнате до вечера. Он все писал и писал.
Созвездие тельца
И я не знал, что для меня важнее: уют моего диванчика с двумя плюшевыми мишками, живущими в изголовье, сама тетя Ио, тоже вся плюшевая, уютная и очень красивая в своем вечном платке «от мигрени», плотно завязанном на голове и в небрежно запахнутом бархатном халате на голое тело, или толстый кожаный фолиант, сделанный из множества старых журналов «Мурзилка».
Все это вместе заставляло меня трепетать, когда я, мальчишка лет двенадцати, узнавал, что меня везут к тете Ио с ночевкой…
Когда у нее не болела голова, Ио была просто чудесна. Придя с работы, она варила мне густую и сладкую гурьевскую кашу.
«Как маленькому», – говорила Ио. И сердце мое сжималось, потому что в этой коротенькой фразе она умудрялась незаметно подчеркнуть слово «как», вкладывая в нее удивительный и тайный смысл. Ты взрослый, но каша такая вкусная, что ты оближешь тарелку, как маленький. Хотя мы-то знаем…
Тетя Ио бывала во Франции. Там жила, где-то на юге, на берегу моря, в небольшом провинциальном городке, ее родная сестра, удачно вышедшая замуж.
«Мы очень похожи, – говорила мне Ио и потирала виски, поправив повязку на голове. – Но вот она там, а я здесь».
Я кивал, в том смысле, что да, сестре повезло, а сам ликовал, что тетя Ио здесь, в холодной Москве, со мной.
«Хочешь, пойдем нюхать мыло? У меня есть новые чудесные экземпляры».
Я вскакивал с дивана и спешил в ее спальню, где в ящичке трюмо хранилась ее коллекция мыла.
«Фи, мой милый, – останавливала она меня, – молодой человек не может врываться в спальню дамы первым. Только когда она пригласит его. Жестом или намеком. Пойдем».
И она, взяв мою руку в свою мягкую ладонь, плыла в соседнюю комнатку малогабаритной квартиры.
Там, в ее спальне, не было занавесок.
«Я люблю смотреть на небо. В Москве не видно звезд. Но мне приятно думать, что где-то там есть созвездие Тельца», – говорила тетя Ио, а потом мы раскладывали мыло на трюмо. И она шептала французские слова и объясняла:
«Спелая клубника, терпкая полынь, весенний миндаль, цветущая сирень…»
И запахи, запахи, запахи, терпкие и сладкие, тонкие и густые, входили в меня, смешивались друг с другом и кружили голову не хуже чуть распахнутого халата тети Ио.
Она склонялась надо мной, отражаясь в трюмо, протягивала разное мыло и улыбалась. А потом вдруг, сморщившись, терла виски:
«Я не очень себя чувствую, милый мой. Мигрень. Мне надо прилечь. Иди-ка полистай “Мурзилку”».
«Мурзилка»! Это такое счастье! Бесконечный «Мурзилка»! Я смотрел с самого начала, внимательно – и засыпал на застеленном для меня диванчике, так и не дойдя до конца тома. И два плюшевых медведя в изголовье охраняли мой сон, а за стеной спала тетя Ио…
У нее не было мужа-француза, как у сестры, да вообще никакого мужа не было. Детей тоже.
У нее был Мишенька.
Про этого Мишеньку мама говорила, что он гад.
Конечно, она называла его так не в разговорах со мной. Но я цепко выхватывал любые сведения о тете Ио. И хотя мне было всего двенадцать, я понял, что гад Мишенька не был ее мужем, а был таким запретным, тайным и мерзким, как ядовитая змея, которая пробирается и оплетает тетю Ио и ощупывает ее своим сдвоенным языком.
В следующий раз, когда я остался ночевать у Ио и, искупавшись в ванной, думал пойти нюхать новое мыло к трюмо, пришел Мишенька.
Он оказался не похож на змею. Он был пузатым мужиком с седой жидкой прической и лицом обиженного ребенка. Нижняя губа его была постоянно оттопырена.
И хотя я думал сегодня дойти до конца фолианта, но их разговор в спальне притягивал…
Тетя Ио просила о чем-то. Каждую свою фразу начиная и заканчивая его именем.
«Михаил, ну останься. Он нам совсем не помешает, он милый мальчик. Останься, Мишенька».
И в ответ тихое:
«Не могу. Что ты все в этом платке. Нелепо же, честное слово».
«Михаил, ты знаешь, мигрень – это так тяжко, будто большой овод все кусает в голову. Вот если бы ты остался. Позвони туда. Предупреди. В конце концов, ты же обещал, ты говорил, она все знает, Мишенька!»
«Моя Мэээ-гера? – слышно было, что он усмехается. – Ио, малыш, ты желаешь мне зла…»
Именно слово «малыш» в адрес тети Ио, такое неподходящее к ней, к ее величественной походке, к ее запаху, к французскому мылу, мягкой ее ладони, к плюшевому халату, взбесило меня. Я отложил журналы и вдруг понял, что у меня трясутся руки и кружится голова…
А разговоры плавно перетекли из спальни в коридор. Он собирался. Ио говорила ему что-то нежное, томное и вместе с тем угрожающее.
Но гад Мишенька, седой пузан с оттопыренной губой и лицом малыша, ушел. Хлопнула входная дверь.
А потом в тишине квартиры, где-то, быть может, на кухне, я услышал плач. Это плакала тетя Ио.
«Ио! – позвал я. – Тетя Ио!»
Она вошла и замерла в дверях. Я заметил, что на голове у нее нет платка.
«О господи! Что с тобой?!»
Она бросилась ко мне и схватила за плечи.
«Почему ты не позвал меня?!»
«Ты была занята, – сказал я. И посмотрел Ио прямо в глаза. – А потом меня стошнило».
«Ио, а он всегда зовет тебя “малыш”?»
Но она не ответила.
«Я сейчас переменю белье, а ты пока ступай в спальню. Ляг, укройся, я тебя позову».
Я почему-то обрадовался. Перебрался в спальню и лег, завернувшись в одеяло Ио. Оно пахло спелой клубникой, терпкой полынью, весенним миндалем и цветущей сиренью.
Я хотел сделать вид, что сплю, чтобы не уходить из спальни Ио, но вместо этого на самом деле уснул.
Проснувшись среди ночи, я обнаружил, что сплю рядом с Ио.
Лицо ее было таким величественным и безмятежным, словно овод, который кусал ее в голову, улетел навсегда.
Тетя Ио спала.
Я посмотрел в окно и понял, почему она не любит занавесок.
Я увидел черное московское небо. Звезд, конечно, ни одной.
Но мне приятно было думать, что где-то там есть ее созвездие.
Созвездие Тельца.
Место ей, что ли, приглянулось? Напоминало о юности? Место неплохое, но при тогдашних его доходах он мог купить, и покупал, дома получше и в локациях куда более красивых и пригодных для жизни. Уютный домик у моря был какой-то насмешкой, символом теперешнего его невеселого положения.
Он стал припоминать, как купил этот дом. Сейчас трудно поверить, что когда-то он просто тыкал пальцем и говорил: «Вот это!» И помощники договаривались, оформляли, приводили в порядок его покупку.
Трудно поверить также, что он чаще всего даже не помнил обстоятельства, при которых заключалась та или иная его сделка.
Впрочем, напрягшись, он вспомнил. Это была ее инициатива. Его жены. Жена лейтенанта. Так он называл ее. Подруга детства, ровесница, с которой он познакомился в пионерском лагере, в старшем отряде. И с которой поженился в восемнадцать, когда не было не только лишней недвижимости, а вообще никакого жилья не было. Он ценил ее. Она была с ним всегда. Он был гад, гуляка, трудоголик, но ценил и любил только ее.
Поэтому ни одна охотница за деньгами так и не смогла увести его, несмотря на все ухищрения и модельную внешность.
Период семейных волнений прошел быстро.
Он вдруг сообразил, что если дальше продолжит веселиться, то потеряет все. И доходы, и работу, и ее.
Ему хватило разума и расчета, да, расчета, сделать правильный выбор. В свои тридцать с небольшим он сосредоточился на работе, жене. Тут ему повезло. Он умел вычеркивать из своей жизни лишнее. Раз признав нечто нецелесообразным, он отсекал это и умел забывать так, будто ничего не было. Именно в этот момент он совершил удивительное открытие: что для веселья ему не нужен алкоголь, а для удовлетворения хватает жены. Работа если и не приносила того удовольствия, что раньше, то была способом существования. Единственной страстью, которую он себе оставил, были камни. Камни – так он называл любую недвижимость. В Италии, в Греции, в Испании, конечно. Он покупал, менял, ремонтировал, докупал, достраивал – в общем, вкладывал душу и деньги. Жена с увлечением включилась в эту большую игру. Правда, с каждой новой покупкой его страсть только росла, а ее уменьшалась. Сначала ей нравилось обставлять интерьеры, заводить знакомства с местными и даже пытаться учить языки, но поскольку он утрачивал интерес, как только камни падали на его баланс, то и ей было невозможно прильнуть к чему-то одному. Полюбить один дом. Жена скучала.
Ей вдруг захотелось вернуться туда, откуда она родом и где они познакомились в местном пионерлагере у моря.
Он понимал, что еще чуть-чуть – и она захочет родить, уже пора подумать о наследнике, и надо, в конце концов, пойти ей навстречу. Она этого заслужила. Уже ведь за тридцать. Один небольшой отпуск можно провести и в российской глубинке. Вспомнить молодость…
На дворе было начало двухтысячных. Лагерь, где они когда-то познакомились и куда приехали теперь, был в таком состоянии, что купить его он даже не подумал.
Зато вот этот домик. Вот, он вспомнил…
Скучное для него путешествие, никаких интересных камней, сервис ужасный, разруха везде. И вдруг этот дом. От скуки он договорился с местным риелтором, и она показывала им возможные варианты покупки.
Почему жене так приглянулась эта развалюха?
Когда они приехали осматривать этот домик, то ужаснулись. Еще во дворе они поняли, что здесь живут алкоголики. На небольшом участке у дома была свалка битого стекла, в основном пузырьки.
«Это все можно вывезти, – пробормотала риелтор. – Внутрь пойдете смотреть?»
Он хотел было возразить: чего там смотреть? Он видел хозяйку этого бомжатника. До полной деградации ей оставался один шаг. На миловидном когда-то лице виднелись уже следы зависимости. Синева, едва подернувшая щеки, но грозящая вскоре проявиться сильнее, была уже заметна. И эта такая типичная алкогольная припухлость, которая вскоре должна превратиться в одутловатость. Все это говорило о том, что внутрь дома ходить не надо, ничего хорошего они там не найдут.
Но жена с риелтором уже прошли, поплелся за ними и он.
Внутри дома было еще хуже, чем он ожидал. В летней кухне, в коридоре и в двух комнатах без дверей пол или сгорел, или его просто не было. Стены с остатками обоев были все прокурены до какой-то особой табачной вони и желтизны. С потолков свисала паутина…
– Вот одна комната, они здесь живут, – позвала риелтор и распахнула дверь.
Там их ждала картина, которая навсегда запала в память. Именно благодаря ей он сумел потом вспомнить все обстоятельства…
В этой комнате был пол. Был старенький телевизор, по которому транслировали мультики, и даже был большой двуспальный диван без ножек.
На этом диване, в куче старого тряпья и несвежего белья, спала девочка лет двенадцати-тринадцати.
– Утомилась за ночь, – сообщила им хозяйка из коридора.
– А что было ночью? – спросила его жена.
– Да колобродили черти.
И он хорошо представил, что тут творилось ночью. Как гуляли тут те отбросы, что прокурили, изгадили и сожгли все в доме, кроме одной комнаты.
Ему вдруг стало не по себе.
– Пойдем отсюда, – сказал он и даже взял жену за руку. – Пойдем, ну!
– Сам дом крепкий, – сказала риелтор. – Основа хорошая.
– По бросовой цене отдаю, – прохрипела сзади алкоголичка.
– Пойдем, – повторил он.
А дальше случилось вот что. Жена вдруг захотела купить именно этот дом.
– Понимаешь! Мы дадим им шанс! – сказала она, не успели они сесть в машину.
– Шанс! Может, она исправится.
– Послушай, – ответил он, глянув на риелтора, – я видел множество алкоголиков, я сам чуть им не стал. Это бесполезно. Они будут врать, изворачиваться, обманывать себя, но никогда не признают, что нужно что-то изменить. Даже вот это существо непонятного возраста и едва различимого пола думает, что у нее еще есть шанс. И стоит ей захотеть…
– Я знаю пол и возраст…
– Уверен, что ты ошибешься, десять из десяти.
– Я знаю, это женщина. И знаю, сколько ей лет, – ответила жена. – Она моя одноклассница.
Все молчали. Надо было ехать.
– Я прошу тебя, – вдруг сказала жена, хотя знала, что он не любил и никогда не позволял никаких выяснений отношений на людях, – просто прошу, купи этот дом. Сделай подарок мне. Я хочу, чтобы это ты купил, не я, и подарил мне. Чтобы ты и я, мы вместе, дали шанс той девочке…
Он обернулся и посмотрел на риелторшу. Та явно восхищалась тем, как просто могут иные женщины попросить в подарок дом у моря.
– И посоветуй, что делать дальше, – закончила жена.
Ну в конце концов, для него это было, как купить банку кока-колы.
– Хорошо, – сказал он, – я дам денег на этот мусор. Но… для начала вы купите квартиру в городе.
Он назвал курортный город рядом.
– Двухкомнатную квартиру. Ты обставишь ее мебелью. Вы, – он кивнул на риелтора, – поможете прописать эту дочку этой алкоголички туда. Ни к бабкам, ни к теткам. Туда. Далее. Весь дом и ремонт этих камней на тебе. Я не верю в эту благотворительность. Химическая зависимость, а алкоголизм, чтобы ты знала, это химическая зависимость, неизлечима. Возможна только длительная ремиссия. У мужчин. У женщин – нет. Если только каким-то чудом. Пропьет она плод твоих душевных порывов. Пропьет.
Он говорил это твердо, констатируя факт, как привык, ведь привычка к трезвому мышлению настолько укоренилась в нем, что давно стала его сутью. И все-таки он вдруг почувствовал нечто, что он никак не мог уловить у себя внутри. Нечто совсем незнакомое и чуждое. То, что он все не мог ухватить и оценить. А когда смог, то изумился сам и замолчал.
То, что проклюнулось вдруг у него внутри, называлось радость.
И точно в ответ на его внутреннее состояние, на его поиск, жена сказала:
– Ты хороший… – И добавила еще раз громче: – Хороший!
Вечером они еще ездили смотреть квартиру для алкоголички. И он принял в этом деятельное участие. Именно он помог жене учесть все. И то, что рядом с жильем должна быть школа и поликлиника. И магазин. Его на один вечер, казалось, увлекла игра под названием «Спаси алкоголичку и ее дочку».
А уж как она увлекла жену!
Вечером они впервые за долгие годы занимались любовью по ее инициативе. И она все шептала ему:
«Хороший, хороший, хороший!»…
Именно в эту ночь жена забеременела.
И через семь месяцев родила девочку, а сама умерла. Умерла в самом дорогом перинатальном центре, в самой дорогой, самой лучшей перинатальной клинике.
А дочка ушла за ней, протянув еще неделю в каком-то странном прозрачном гробике-корытце под светом ламп и в присутствии самых дорогих врачей.
И если смерть жены была неожиданна и казалась нелепой, такой, что он сразу даже не осознал, что произошло, то за жизнь неведомой семимесячной дочки он попытался бороться, как мог. А как он мог? Он обещал врачам золотые горы, хотя понимал, что это бесполезно, они и так делали все, что могли. Пытался найти каких-то чудо-специалистов в Москве, но, конечно, и в Москве только пожимали плечами. Решился молиться какому-то богу, но у него не было слов и он не знал правил. Тогда, по привычке, попробовал торговаться. Обещал начать совершенно другую жизнь. Какую? Он не знал. Отдать все деньги. Кому и зачем? Непонятно.
Через неделю ребенок умер. Из всех слов, которые ему говорили врачи и откуда ни возьмись появившиеся психологи, он запомнил лишь одно словосочетание:
«Так бывает».
Следующие несколько лет, за которые он вышел из бизнеса, распродал почти все камни и исчез из прошлой жизни, ушли у него на бесплодную попытку осознать, почему это «так бывает» произошло именно с ним.
За время этих размышлений его дела сильно ухудшились, по известному закону, который гласит, что нельзя все бросить просто так. На его глазах рушились карьеры миллиардеров и сказочно богатые нищие кончали жизнь самоубийством в фешенебельных районах Лондона. Тонущий бизнес сжирал средства. Но в его случае сожрал не до конца.
В результате всех пертурбаций он оказался в том самом небольшом доме своей жены, в котором был только мельком.
Место ей, что ли, приглянулось? Напоминало о юности? Место неплохое, но, при тогдашних его доходах, он мог купить, и покупал, дома получше и в локациях куда более красивых и пригодных для жизни.
Уютный домик у моря был какой-то насмешкой, символом теперешнего его невеселого положения.
Он стал припоминать и припомнил историю этого «единственного глупого поступка», «благотворительный дом», «дом ушедшей жены и дочки».
Но вот теперь ему нравилось проводить время здесь, в тишине, в саду. Он гулял пешком по берегу моря. С местными почти не знакомился, хотя…
Ему вдруг захотелось узнать, чем же закончила та алкоголичка.
И он легко выведал у местных старух, что и мать и дочь живы. Обитают в городе. Их можно увидеть у местного храма.
Когда он услышал: «У храма», то представил себе побирушек, которые всегда ходили к храму сшибать рубли у сердобольных прихожан.
В воскресенье он пришел к храму. Они выходили с воскресной службы, и он сразу узнал алкоголичку. Она сильно постарела. Выглядела много старше своего возраста. Но была трезва. Рядом с ней стояла ее дочь.
Ну конечно, он-то и забыл, что прошло время, в его воображении она все еще была той девочкой, что спала в куче грязного тряпья. Сейчас это была стройная черноглазая девушка лет за двадцать.
– Мам, мужчина хочет поговорить… – сказала она.
Мать взглянула на него. И он не нашелся сказать ничего, кроме того, что вертелось на языке:
– Не пьете больше?
– Нет, – ответила женщина, больше похожая на старуху. – С тех пор.
– Значит, такое возможно, – сказал он. – Ремиссия.
– Мам, кто это? – спросила дочь.
– Это тот мужчина, который… – Женщина запнулась. – Он купил дом и нам…
– Рад, что у вас все так сложилось, хотя уверен был… – Он недоговорил, пробормотал что-то на прощание, развернулся и пошел домой.
Но девушка догнала его.
– Знаете, вы меня извините… – Она на мгновение замолчала.
– Да, что?
– Я росла в том доме, мне бы очень хотелось еще раз в сад заглянуть. Я сто раз ходила рядом, но теперь у вас забор огромный, а что за ним? Остался сад.
– В целом да. Только стекло битое вывезли. Деревья все целы. Жена любила сад…
– Можно нам с мамой взглянуть? Мы зайдем ненадолго? Не в дом, конечно. Просто сад посмотреть. Я там росла…
– Можно, – ответил он.
– Спасибо! Вы такой хороший человек! Такой хороший!
– Да ну, что вы! Приходите, – сказал он.
И вдруг ощутил то самое, давно забытое чувство, то самое, которое до этого испытывал, возможно, лишь один раз.
Это была радость.
И рассыплется каперс
Обернулся, увидел ее и запомнил, маленькую фигурку, стоящую на горе.
Он спускался ниже и ниже, а она оставалась силуэтом на фоне ярко-голубого неба и солнца.
Он уходил, а она махала ему рукой на прощанье. Широким, отчаянным движением, так, чтобы он видел издалека. Еще долго-долго.
Всю жизнь.
Он обернулся, увидел ее и запомнил, маленькую фигурку, стоящую на горе.
И в это мгновение ему пришло в голову, что нужно обязательно развернуться и пойти назад, к ней. Сказать что-то важное, то, что он не смог, не сообразил, не решился сказать пять минут назад.
Но возвращаться, когда ты уже попрощался, глупо. Нужно ведь, пока забираешься на эту гору, придумать, что такого важного ты должен сказать там, наверху. А в голову ничего не приходило.
Ничего, кроме одной мысли. Забираться будет тяжело. Ноги заболят. Придется цепляться за растущую между камнями жесткую траву. Царапать пальцы.
В отличие от этой девушки, он всегда с трудом забирался в гору.
И вообще, путь вниз всегда легче. Это точно.
Он обернулся, увидел и запомнил ее силуэт на фоне неба и солнца.
А ведь только что, несколько мгновений назад, они стояли там вместе…
И то, что здесь и сейчас, в этот момент, становилось безвозвратным прошлым, совсем недавно было самым реальным, единственным на свете…
– Тебе скоро уходить.
– Да, нужно убегать. Без четверти двенадцать.
– Как жаль. Так тебе мама сказала?
Она улыбнулась.
Нет, она не хотела обидеть его. Ей нравилось то, что она чуть старше, чуть-чуть выше ростом и гораздо, гораздо более самостоятельна.
Конечно, она не хотела его обидеть.
Но он обиделся.
– Почему мама? Может, я сам решил!
Он понял, что совсем не убедителен, и да, это мама сказала ему. И да, ни один нормальный парень не скажет: «Мне нужно быть дома без четверти двенадцать». Он скажет: «Мне пора», или: «Ну, я пошел», или: «Побреду, что ль».
А «без четверти двенадцать» – точно мама.
Но не это беспокоило его.
– Может, я сам решил?
– Конечно, сам! Просто решил и все.
– Ну да… Надо. – Он подумал и неожиданно для самого себя добавил: – Нужно подготовиться к завтрашнему утру.
Зачем он это сказал?! Опять проболтался так, будто ему не четырнадцать, а тринадцать. Будто под взглядом ее синих глаз из него само собой вырывалось что-то лишнее, что-то, что он хотел и не мог удержать.
– К завтрашнему? – Она улыбнулась одними краями губ и посмотрела как-то особенно. – Что же будет завтра?
Он не хотел рассказывать. Вот все, что угодно, но не это. А она смотрела и смотрела. Если бы она хоть на минутку отвернулась, он бы смог собраться с мыслями, он бы…
– Наверное, завтра ты опять будешь нырять за царь-крабом? – подсказала она, и в ее глазах вдруг отразилось море. Зеленое и бесконечное. С песчаным дном, с прозрачной водой и плавно, в бесконечном танце качающимися водорослями, с камнями, под одним из которых прячется царь-краб.
– Да, – ответил он. – Да. Совершу еще попытку.
Про царя крабов он прочитал в какой-то приключенческой книге. Что-то прочитал, а остальное придумал, чтобы произвести впечатление на эту девочку.
Еще в самую первую их встречу, здесь, на горе…
Она была местная, из поселка под горой, и ходила сюда собирать какие-то растения для матери. В ее руке всегда была измятая целлофановая сумка.
– Здесь, ближе к подножию, растут каперсы. Они своеобразные, – сказала она вместо приветствия, точно продолжая разговор.
– Каперсы? Даже не знал, что это растения.
– Растения. Довольно своеобразные. У нас растут. Под горой. А ты и не знал, верно?
Она умела говорить так. Вроде не обидно, без издевки, но его все равно задевало.
– Не знал, что растение. Не знал, что своеобразное. Но слово-то знал.
– Интересно. Редко кто знает. Местные, и то не все. Откуда?
– Бабушка любила повторять…
– Про каперсы. Непонятное. – Он задумался и вдруг вспомнил бабушку. Ее рассеянную улыбку, серые глаза с близоруким прищуром и непонятные присказки, которые она часто повторяла, совсем, казалось, не к месту.
«И высоты будут им страшны, и на дороге ужасы; и зацветет миндаль, и отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс…»
– Как красиво! – Она смотрела восхищенно. – Как ты сказал? И высоты будут им страшны?
– Да. И зацветет миндаль.
– И рассыплются каперсы.
– Как-то так.
– Откуда это?
– Я не знаю. Бабушка все время повторяла.
Он и правда не знал. И, хоть бабушка часто раздражала его, особенно в последние свои годы, сейчас он был ей благодарен.
Ни одна девочка так заинтересованно не смотрела на него.
– Что все это значит?
– Я не знаю.
– Так спросил бы свою бабушку.
– Она умерла.
– А, жаль. Теперь мы не узнаем, что значит «высоты будут им страшны» и почему «рассыплются каперсы»…
– Да, теперь чего уж.
Они часто встречались здесь, на горе. Он шел прямым путем к небольшой бухте у подножия. Забираться было тяжело. Ноги гудели. На пальцах оставались царапины. А спускаться – куда легче.
Девушка, наверное, поджидала его. Потому что казалось – она на этой горе всегда, ходит легкой походкой, что вниз, что вверх, сжимая в руке целлофановый пакет, внутри которого всякая горная трава.
И каперсы.
– Так завтра ты опять пойдешь на свою подводную охоту?
– Да. – Если не думать, если плыть по течению, если плавиться на солнце, то отвечать на такие вопросы легко. – Да. Надо-таки выловить его.
– Расскажи мне.
– Опять? Я же уже говорил.
– Да, но мне нравится, как ты рассказываешь.
– Ну, такой краб точно есть…
Царь-краб точно есть. Смысл в том, что если хорошо нырять, подолгу задерживая воздух в легких, и, оставаясь под водой, переворачивать камни, то обязательно в конце концов встретишь его.
Он больше остальных крабов. Его панцирь не черный, как у остальных, а с золотыми крапинками. И в центре обязательно есть крест, как у паука-крестовика. Их совсем немного на побережье, а может, и вообще один. Если его найти и выловить, то потом увлечение подводной охотой пройдет. Кому захочется отрывать мидии от скалы, когда совсем недавно держал в руках царь-краба. Поймаешь такого и вполне можно уезжать.
А пока прозрачная, чуть зеленоватая вода, стаи серебристых рыбок, желтый, гладкий, как ковер, песок, леса танцующих водорослей и высокие замки валунов…
– Как хорошо ты рассказываешь. Жаль, что все это обман…
Он убедил себя, что царь-краб существует, и истратил на его поимку все лето. Не просто же так.
– Царь-краб существует. Я читал в книге. И я его поймаю.
– Может быть. – Она опять улыбается одними губами. – Я не про то. Может быть, завтра ты и поймаешь своего краба. Но не здесь. Не в этой бухте…
Ему показалось, что море из ее глаз утекает, исчезает бесследно в пропасти зрачков.
И остается тьма. Будто бы не она стоит перед ним. Не девушка, собиравшая своеобразные каперсы, а сам царь-краб воззрился пустыми черными глазами.
Но через секунду она уже опять улыбалась.
– Я видела твою маму. Она сказала, что вы сегодня уезжаете.
– Не хватило смелости сказать?
– Да. Я думал, так лучше.
– И высоты будут им страшны, и на дороге ужасы… – вдруг сказала она. – Я не обижаюсь. Ты приедешь следующим летом. И выловишь своего королевского краба. И мы будем встречаться здесь. Высоты не будут так страшны.
– Конечно! Я обязательно приеду.
– И зацветет миндаль, и отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс…
– Надо же! Ты все помнишь.
– Конечно! Самое главное надо помнить. Беги. Уже без четверти двенадцать.
И он побежал, но потом обернулся, увидел ее и запомнил, маленькую фигурку, стоящую на горе.
Он спускался ниже и ниже, а она оставалась силуэтом на фоне яркого голубого неба и солнца.
Она махала рукой ему на прощанье.
Его путь был легок и приятен.
Ведь путь вниз всегда легче.
Сначала забеременеть долго не получалось. Да и муж не хотел детей. Изображал, что вроде как хочет, но не хотел. И даже был доволен, что не происходит зачатья. А когда узнал, что тест положительный, то в ответ на радостное щебетание жены только кивнул головой. Надо так надо.
А потом вдруг им объявили, что родится даун.
Он собирался в бар с друзьями смотреть футбол, когда ему сообщили об этом. И он пошел на футбол. Хотя все понимал. Понимал, что нужно остаться с женой, ведь она – слабая женщина, что вот сейчас идти куда-то веселиться совсем глупо и даже, может быть, подло. Но жена твердо сказала: «Иди. Тебе нужно отдохнуть».
И он поехал, прямо констатировав самому себе, что оказался хиляком. И что жена гораздо более твердый и крепкий человек. Но все это было где-то на периферии. Всего одно слово бесконечно крутилось в его голове: «Даун!» Они сказали, может родиться даун. Семьдесят процентов. Такие цифры, кажется, сообщила жена.
Когда к нему обратились с чем-то соседи по столику и он ответил, то все изумленно посмотрели на него: «Ты чего это заикаться стал? Все нормально?»
Он не знал, нормально ли все. Тридцать процентов на белое.
В чем план того, кто решил так поиздеваться над ним? Или это наказание?
Он стал рассказывать о проблеме сначала совсем чужим людям и не раз слышал от них осторожно произнесенное слово – аборт. И оно одновременно и находило отклик у него в душе и вызывало злобу и протест. А если тридцать процентов? Если белое?
В чем план того, кто вершит судьбы?
Можно узнать точнее, но нужно было сделать опасный для плода анализ. И тут уже воспротивилась жена, которая после известия о грозящей опасности вдруг вся собралась, и стала точно железной, и не позволила себе ни единой эмоции.
В чем, в конце концов, план?!
Он перечислял все свои грехи и думал о будущем ребенке. Все чаще, словно усиливая эффект, воображение рисовало ему образ девочки-дауна.
Все свободное время он просиживал в интернете, гадая, какова реальная ситуация – черное или белое.
Семьдесят процентов снились ему по ночам, а тридцать давали сил идти на работу утром.
Неожиданно жену поддержала его мать. Твердо и даже с насмешкой сказав: «Если бы я верила нашей медицине, я бы сказала – аборт. Но я говорю – рожайте».
И кажется, не осталось никого вокруг, кто не сформировал бы позицию по этому вопросу. Только он все представлял маленькую девочку-дауна. И как он бросит курить, чтобы прожить как можно дольше, чтобы опекать ее всегда. Чтобы ее не обижали…
Жена молилась в своей комнате, а он плакал на кухне и после каждого обещания бросить курить закуривал новую сигарету.
Дело близилось к родам. Мать устроила им с женой консультацию у опытной женщины-врача. И он очень рассчитывал, что она скажет правду.
А она сказала: «Девочка».
И улыбнулась.
«Пальцы длинные».
И опять улыбнулась.
«Скажите, – не выдержал он, – а…»
«Нет, – сказала врач, – по УЗИ я не могу поставить диагноз – синдром».
«Это значит, что…»
«Это значит, что я не могу поставить такой диагноз. – И прибавила, глядя на монитор: – Шейка длинная».
И опять улыбнулась.
Оставалось недолго. Недолго для тех, кто ждет рождения здорового ребенка. Но его ожидание растянулось, а воображение оккупировала маленькая девочка в голубеньком платьице. Девочка-даун.
И он уже не прогонял ее. Он готовился стать защитником и кормильцем. Он один с женой – против враждебного мира.
Вот, собственно, и все.
Родилась девочка. С длинными пальцами, длинной шеей и большими глазами. Никакого синдрома не было.
Он так ждал и любил ее, что задыхался при одной мысли, что она – его идеальный ребенок – скоро появится дома.
Ах да, и, конечно, – когда он увидел ее и взял на руки, то совершенно ясно осознал и понял, в чем был план.
Проблема счастья
Вся ее жизнь – это борьба с тем, чтобы не взорваться. Чтобы копящаяся боль не разорвала ее.
Нет, Аня не лопнет от жира, как говорят одноклассники, а просто взорвется внутри боль и маленькими свинцовыми шариками разнесет ее на куски.
И этого никто не заметит. Ни мама. Ни отец. Ни друзья.
Мама скажет: «Что ты комплексуешь? Ты у меня самая красивая!» Но мысли ее будут далеко. Она, конечно, думает о папе, который «бегает к молодой». Кстати, молодая эта всего четыре года назад окончила их школу. И так странно, что папа «бегает» к ней. И у них с папой происходит то, самое сладкое и прекрасное, о чем шепчутся одноклассницы и чего у жирных не бывает никогда.
А друзья? Их просто нет.
«Кто тебе, дурочка, сказал, что ты толстая? Бери два стула и подсаживайся к нам!»
С отцом говорить бесполезно, он сам выглядит так, будто у него что-то внутри жахнуло и он не может теперь собрать кусочки самого себя. Он то обнимает ее и всхлипывает, обещая проводить больше времени, то злится и спешит.
Что делать жирному человеку, которого не слышат даже самые близкие?
«Хочешь порхать, как бабочка? Жаль, что ты жирная!»
«Делай что должен, и как-нибудь все устроится». Единственный более-менее подходящий совет.
Поэтому Аня делает все, что должна.
Борется, чтобы взрыв не произошел. Хорошо учится.
Терпит издевательства одноклассников.
Особенно обидные – от мальчиков, они не только норовят толкнуть руками в грудь и поржать, но и каждый раз придумывают самые обидные шуточки-шутейки. Так они их называют.
«Что, жирная? Не боишься упасть с кровати с обеих сторон?»
Ане задали сочинение на тему «Проблема счастья» для подготовки к ЕГЭ.
Учительница дала четкий план. А также небольшой список произведений, в которых можно взять цитаты.
Шаблон, по которому нужно написать о счастье, дает возможность без проблем выполнить работу.
Цитата, размышление, цитаты, размышление, цитата…
Аня старательно, как всегда, выводит буквы, списывая цитату из «Войны и мира».
Андрей Болконский и Пьер Безухов спорят о счастье.
Пьер утверждает, что нужно делать добро людям. Андрей возражает, что главное не делать зла. Мол, этого достаточно.
Сидят они в поместье Андрея в Богучарове и скучно талдычат о счастье, хотя ни один из них недостаточно жирный, чтобы вообще хоть что-то знать про несчастье. Делать добро или не делать зла? В чем счастье?
Вы лучше бы порассуждали о том, как реагировать девочке на слова одноклассницы:
«Когда наступит зомби-апокалипсис, ты сожрешь всех зомби!»
«Не успокаивайтесь, не давайте усыплять себя! Пока молоды, сильны, бодры – не уставайте делать добро!» – записывает Аня и машинально расшифровывает цитату так, как объясняла им учительница на уроке.
Почему и кому надо делать добро? Никому не нужно добро от жирного человека. Максимум, что она может сделать, – это безропотно дать возможность пнуть себя в школе и не отсвечивать лишний раз дома.
Прямо сейчас в другой комнате мать спрашивает отца, как дела на работе. Почему их задерживают так подолгу?
И голос ее неприятно звенит.
А тут ты: сидишь и пишешь сочинение про проблему счастья. Тихо-тихо. Как мышь.
Как жирная, едва влезающая в норку мышь.
«Жирная мышь так любит жрать, что может прогрызть живот удаву в трех местах!»
Как делать добро людям, когда добро от жирных не нужно никому? Что на это скажет писатель Чехов?
С одной девочкой дружили до восьмого класса. А потом та стала стесняться бывать с Аней. И оставалась прежней только один на один, но никогда при других подругах.
Конечно. С такой вместе в клуб не пойдешь.
«Жирная баба в лосинах хуже хача в мокасинах!»
В очерке Владимира Короленко рассказано о человеке без рук. Он зарабатывает на жизнь своим уродством.
Прекрасный выход. Учительница очень рекомендовала этот рассказ.
«Человек рожден для счастья, как птица для полета!»
Но зарабатывать своим жиром, демонстрируя его желающим, не выйдет. Большая конкуренция.
Стоит только представить себя летящей, как птица. Вот уж действительно счастье! Аттракцион, за который можно брать деньги.
«Самолет второй час не может взлететь. То ли поломка, то ли капитан должен дать команду высадить всех жирных».
Она учится в девятом классе. Хорошо учится. И прекрасно знает, что уроки совершенно не имеют отношения к жизни. Что могут знать о жизни люди, которые счастье называют проблемой?
Жиза, так называют жизнь ее одноклассники, она другая.
И если учительница и просит сделать емкий вывод в конце, намекая, что хорошо бы использовать что-то вроде цитаты из старого фильма: «Счастье – это когда тебя понимают», то уж это Аня оставит себе. Обойдется без ничего не понимающих в жизе Толстого, Чехова и Короленко.
И вывод напишет сама.
Дописав, Аня пойдет гулять за новостройки, на окраину, туда, куда девушкам обычно нельзя. Туда, где начинается лесополоса и тревожной рябью покрывается вода в овраге…
Туда, где спокойно, где нет родителей, учителей и одноклассников. Где она одна.
«Счастье – это когда тебя не замечают».
Повесть жизни
Она приехала по распределению после окончания института, с обязанностью отработать положенный срок и мыслями и планами на будущее.
Мысли и планы были такие…
В институте она не была лучшей. Лишь только тянулась за лидерами. В то время каждый из них хотел открыть что-то новое в литературной науке и в педагогике. Причем с реальностью эти мечты вполне сочетались. Впоследствии получились из их выпуска и знатные педагоги, и крупные ученые.
А она была средней.
Быть такой не хотелось. Чуть ли не с первого курса культ странности, необычности, сумасшедшей гениальности, бытовавший среди студентов и умело поддерживаемый преподавателями института, захватил и ее.
Но все же она была средней. А хотелось быть странной, одержимой вопросами структурной лингвистики… Но не настолько, чтобы забывать мыться. А в ее среде считалось нормальным и даже правильным ходить в чем попало, не следить за собой и несколько пованивать. Главное – понимать сложнейшие работы теоретиков литературы. Цитировать Лотмана. Иметь свой взгляд на основные вопросы теории. Ну и, раз твоя жизнь полностью принадлежит литературе, думать о земном, мелочном – просто стыдно…
А она думала. Никак не могла отказаться от милых женских радостей типа красивой юбки, аккуратной прически каре «под двадцатые», голубого яркого свитера с горлышком и горячего душа утром и вечером.
В остальном же ее тоже вдохновляла наука.
Она так же внимательно слушала модного профессора, который с видом одержимого выкрикивал свои вдохновенные открытия на лекциях. О, он был очень популярен! Немытые студентки готовы были падать в обморок от глубины его виртуозных разборов.
И ей тоже очень нравилось. Особенно ее увлекал постулат о том, что литература равнозначна жизни. О том, что написать – значит прожить. И что все в этом мире – литература. Все – слово.
О важности жизненного опыта рассуждали все. Ученые-филологи на кафедре любили приводить яркие примеры бурной и часто трагической жизни писателей. Сами при этом жили в благополучной стране, где (если не желать чего-то уж совсем из ряда вон) существование было вполне размеренное. А их существование в институте, почетное и престижное, – тем более. И чем больше они кричали о знаке равенства между литературой и жизнью, тем спокойнее и сытнее была их жизнь. Оклады и премии, научные труды и степени…
Как-то вечером на кафедре она столкнулась со своим кумиром: он узнал ее и попросил помочь. Они разбирали архивы, и он по привычке размышлял вслух, и мысли его поражали, хотелось слушать и слушать. Даже несмотря на то что от него противно пахло дешевыми сигаретами без фильтра. И хуже того – пепельницей, в которой на неделю забыли окурки.
Но тяжкий запах и вид обсыпанных перхотью плеч ученого она терпела, так как неудобства эти были ерундой в сравнении с мечтой каждой студентки их факультета – быть причастной к работе гения…
А гений так увлекся творчеством, что (видимо, в рассеянности) положил ей руку на колено и погладил его, продолжая излагать теоретические постулаты.
Нет-нет, ей не было противно, просто она удивилась. И удивилась так сильно, что не смогла этого скрыть. Убрав его руку, сказала только: «Не надо». Он после совсем коротенькой паузы продолжил вещать как ни в чем не бывало.
Но она так смутилась, что больше не слышала его слов. И потом, после, тысячу раз корила себя, что так грубо обошлась с профессором. Который, к слову сказать, оказался вполне порядочным человеком. То есть не стал мстить и даже великодушно одобрил тему диплома. Правда, от руководства дипломом отказался, сославшись на занятость, но поручил это своему лучшему ученику и последователю.
Ученик и преподаватель кафедры исповедовал те же научные принципы, что и профессор, поэтому диплом был написан на крепкую четверку, а ее роман с молодым руководителем продлился ровно до распределения в ту самую деревню.
Слуга литературы, ученик своего учителя, он не мог жениться, связав себя семьей. И она, сделав аборт, уехала работать в деревенскую школу.
Но какое бы разочарование ни постигло ее в конце обучения, основные жизненные принципы – принципы служения высокому искусству, принципы литературы-жизни – не подвергались сомнению.
Поэтому планы и мысли ее, несмотря на совсем неудачное распределение, были четкими и прямыми. Здесь, в этой глухой деревне, она отдаст себя просвещению. Причем это и будет литература. Служение. И по опыту своей работы она сможет написать воспоминания. Да, она не была высокого мнения о своих литературных талантах: слишком уж с большим пиететом относилась к серьезным состоявшимся писателям. Но так как «написать» обозначает «прожить», то жизнь сельской учительницы литературы была не самым плохим вариантом.
Он всегда хорошо учился. Это нелегко, но приятно. Он любил быть идеальным во всем, а особенно сейчас, когда учился в выпускном классе. В их школе быть круглым отличником несложно. По всем буквально предметам учителя строго придерживались учебников, и, стало быть, можно при определенной воле выучивать от сих до сих и получать пятерки. Он же сам выработал принцип, по которому либо постигал тему полностью, с осознанием, а не только тупой зубрежкой, либо, если тема оказывалась легкой, пытался сам идти вперед, обгоняя программу.
Особое место в его жизни занимала физкультура. Он активно занимался спортом. Не только чтобы быть лучшим – это само собой, но и чтобы заранее подготовиться к армии, служить в которой – почетная обязанность каждого.
И вот у них поменялась учительница литературы. В занятиях по предмету возник перерыв, и он сам проглядел и осмыслил новую тему – «Горе от ума» Грибоедова.
Пьеса эта очень понятная. С очевидными и легко запоминаемыми героями. Совершенно ясно было, кто есть кто и почему. Учебник литературы только подтвердил его мысли. Революционно настроенный декабрист Чацкий против старого мира, в который по случайности попала и глупая его любовь Софья. В целом же произведение ему понравилось скорее набором афоризмов, которые он старательно выписал в отдельную тетрадь, перед тем как закрыть книгу и учебник и пойти заниматься физкультурой на турник.
Причиной некоторого его отличия от обычных деревенских школьников было, вероятно, то, что мать бросила его в роддоме. И первые три года он провел в детдоме, а потом его усыновили.
И он, воспитанный вполне по-деревенски крестьянином-отцом, передовиком и партийным, и крепкой хозяйкой-матерью, вырос каким-то уж совсем странным максималистом. Энергия, естественным образом свойственная молодости, умножалась в нем необычайным упорством и какой-то особой кряжистостью характера.
Трудно было поколебать его хоть в чем-то, если он принял осознанное решение. И также он почти не позволял себе думать как-то иначе, чем привык, чем требовали его опыт и воспитание.
Однако это «почти» сказалось в тот момент, когда в классе появилась новая учительница литературы.
Ее слова ошеломили его. Рассказывала она увлекательно и совсем не стандартно.
Образ Чацкого новая учительница трактовала почти противоположно тому, как его объяснял учебник. Оказалось, что и сам Пушкин считал Чацкого глупым. И какой же из него декабрист, если он не только не состоит в тайном обществе, но и самым глупым образом увещевает тех, кому, безусловно, наплевать на его идеи. И как Чацкий не видит, что Софья – плоть от плоти Фамусова и не любит его? До сих пор непонятно, была ли права учительница, но его этот свежий взгляд потряс. Оказывается, можно было читать и думать, видеть и осмысливать произведение по-своему.
Ему также понравились ее рассказы о декабристах, которые в сравнении с Чацким были какими-то более объемными, что ли. Эти люди героически шли на смерть ради будущего своей страны. Они делали свою жизнь, как бы навсегда записывая себя в мировую историю. И литература была историей человечества. И написать повесть, роман, пьесу – обозначает прожить ее.
Вот и сам Грибоедов погиб…
Когда она рассказывала ученикам о жизни Грибоедова, то выглядела особенно вдохновенно-красиво. И если про весь класс можно было сказать, что они как минимум не скучали, то он был совершенно покорен.
Разные мысли о судьбе и предназначении, сбивчивые и сумбурные, роились у него в голове. Он словно только что проснулся. И оказалось, что в его жизни наступает осознанность и стройность. Где нужно осмысленно прожить, стать частью истории, а по возможности и записать – как бы создать повесть жизни.
Между тем учительница нарушила основное неписаное правило сельской школы. А именно стала ставить двойки направо и налево. Например, поставила двойку всегдашней отличнице за списанное из учебника сочинение. Она красной ручкой подчеркнула все мысли, которые были списаны и лишь слегка перефразированы. Красным было подчеркнуто все сочинение…
Подобная строгость после многих лет снисходительности, когда учителя по необходимости смотрели сквозь пальцы на тупость учеников, вызывала бурную реакцию. Получившие целый ряд двоек хулиганы запланировали даже покушение на учительницу – конечно, не с целью убить, но как-то унизить и оскорбить ее хотелось. Тем более возвращалась она после второй смены и проверки тетрадей одна по темноте.
Узнав это, он, влюбленный (хотя еще и сам не знавший, что влюблен), вызвался провожать ее до дому.
Она давно уже заметила, что этот отличник и спортсмен смотрит на нее открыв рот, но приписывала такую его реакцию в большей степени своему педагогическому таланту. И отчасти это было правдой. На ее уроках открывался ему мир высокой литературы, да и вообще всего возвышенного. В сравнении с этим вся жизнь школы и деревни казалась низкой, приземленной.
Самой важной мыслью, которая то исподволь, то прямо звучала на ее уроках, было то, что писателем (и даже просто личностью) человек становится только в том случае, если осознанно совершает поступки, делающие его биографию предметом искусства. Живущий тем, что пишет. Получающий бесценный опыт и знания. А соответственно, жизнь нужно прожить так…
В общем, теория, воспринятая ею еще в институте и ставшая не просто теорией, но чем-то вроде религии, чем-то вроде веры.
Он же – ее настоящий ученик – проникся и уверовал. Пожалуй, ее как учительницу любили многие, еще больше – терпеть не могли. И лишь он один, уверовав, решил стать писателем.
И хотя склонности к записыванию не имел никакой, приобрел в сельпо тетрадь, куда решил заносить свои мысли и то, что покажется ему интересным из ее слов.
Правда, своих мыслей пока не было, зато цитаты любимой учительницы заполнили почти треть тетради.
И во многом пополнялась тетрадь из-за того, что ему повезло и он стал ее охранником в дороге из школы домой по вечерам.
Она раньше, чем он, почувствовала его влюбленность, но не поняла, насколько она глубока.
Ее жизнь в деревне действительно оказалась подвигом. Но подвигом не героическим, каким он ей рисовался в институте. Не надо было гибнуть, преподавая литературу школьникам из последних сил. Совсем другие трудности ждали ее. И вовсе не самыми большими из них были бытовые сложности. Да, человеку, привыкшему к городу, трудно носить ледяную воду из колонки. Трудно стирать без стиральной машины. Трудно топить каждое утро и вечер. Трудно умываться ледяной водой – но так же трудно греть воду, чтобы умыться…
И все же не это главное. Не было здесь ни одного человека, который бы составил ей компанию. С которым можно было бы не то что дружить, а просто общаться на интересные ей темы. Не было, наконец, мужчины, который хотя бы частично мог ей понравиться. О котором можно было думать на предмет будущих отношений… Сама мысль даже просто о флирте с каким-нибудь заместителем директора совхоза Геной или тем более пастухом Витей ничего, кроме смеха, вызвать не могла.
Чего уж говорить о каком бы то ни было интеллектуальном общении…
И вот этот влюбленный мальчик, идущий рядом на почтительном расстоянии, этот ее охранник, так выполнявший свою охранную функцию, что ей совершенно нечего было опасаться по дороге домой, стал для нее тем, с кем она, сама того не сознавая, отдыхала, рассуждая на излюбленные темы. И, как это ни удивительно, он постепенно начал понимать ее и даже пытаться мыслить в ее системе координат.
– Почему же вы, – она общалась с учениками только на «вы», – не начнете писать нечто свое?
Он пожал плечами.
– Не получается пока. Не пишется.
– Это может быть по двум причинам, – сказала она.
И он сосредоточился, чтобы слушать.
– Вам нужна биография. Понимаете, вас должны сформировать события вашей жизни. Посмотрите на биографии больших писателей, и вы поймете, какую огромную внутреннюю и внешнюю жизнь они прожили. И когда ты живешь жизнью своей страны, жизнью всего мира, когда ты в гуще, в самом центре событий, то ты приобретаешь тот бесценный материал, из которого впоследствии вырастут произведения искусства.
– Ну, войны-то пока нет.
– Это хорошо. – Она внимательно посмотрела на него и поняла, что этот деревенский бычок, заслушавшись ее речей, действительно жалеет, что не может принять участия в войне. Ох, сколько она ему порассказала!.. И как, интересно, отразилось в башке этого семнадцатилетнего деревенского парня все то, что они годами обсуждали и формировали в институте? А еще она вдруг ясно увидела, что он влюблен. И смотрит на нее как на женщину. И это смутило и обрадовало одновременно. И вдруг как-то сразу оказалось, что они уже давно стоят на дороге и смотрят друг на друга. Это еще больше смутило.
– А вот я тебе покажу войну, – крикнула вдруг она и, скакнув в сторону, нагнулась, зачерпнула варежками снег, слепила снежок и кинула им в своего охранника.
Попала она точно за шиворот. Он аж оторопел.
– Ну, что стоишь, воин? – Наскоро слепив еще один снежок, она побежала за большую сосну.
– Ах так! – крикнул он, вытряхивая снег из-за шиворота. – Ведь я тоже могу…
И погнался за ней. Они минут пять – десять носились, как подростки, между деревьями и кидались друг в друга снежками. И уж, конечно, он, осмелев, действовал куда точнее. И в конце концов загнал ее куда-то далеко от дороги, а она, устав убегать, упала на спину в снег. Раскинула руки в стороны и, уже лежа на спине и глядя в небо, тихо произнесла:
– Сдаюсь, сдаюсь!..
Как-то так она это сказала, что снежок выпал у него из руки.
Постояв немного над ней, он тоже плюхнулся рядом в снег на расстоянии вытянутой руки.
– Смотри вверх, – сказала она ему.
Он посмотрел.
– Что там? Не вижу ничего.
– Это потому, – сказала она, и он почувствовал, что улыбка расцвела на ее лице, – что ты, как большинство людей, смотришь себе под ноги. Никогда по сторонам, а тем более – вверх. А это очень полезно – смотреть вверх.
Он стал приглядываться. И ничего не увидел, кроме черноты.
– Я ничего не вижу, – сказал он.
– Смотри еще.
И тут она, точно решившись на что-то, произнесла:
– Возьми меня за руку.
И, стащив рукавицу, протянула ему руку. Он тоже снял варежку и взял ее за руку.
– Смотри в небо, – сказала она. – Видишь?
Он увидел небо, черное и бесконечное, но теперь каким-то странным образом в этом самом небе было разлито столько счастья и красоты, что он перестал дышать. Перестал дышать…
Он думал только об одном: как бы это никогда не закончилось и как страшно, если закончится вот уже через мгновение…
– Я замерзла, – сказала она, отпустила руку и поднялась. Вдруг какая-то перемена произошла и с ней. Она стала опять строгой учительницей. – Пора домой.
Он поднялся, и они побрели по снегу в сторону деревни.
Такое не повторилось больше никогда. Однако то мгновение в лесу изменило и его, и ее.
Он летал по деревне, обретя хоть и неясный, но все же огромный смысл жизни. А она, наоборот, осознала, что ее существование здесь – добровольное заточение. Что здесь нет и не будет никакой перспективы. Что она совершила почти преступление тем вечером, когда держала за руку (страшно подумать!) своего ученика. Что теперь ей надо как-то отдалить его от себя. И что-то сделать со своей унылой жизнью в этой медвежьей дыре.
Он воспринял ее новое к себе отношение так, как обычно воспринимают такие перемены все влюбленные. То есть неверно.
Решил, что она хочет показать, что он недостоин ее. А значит, он должен стать тем, кто ей нужен. Конечно! Кто он такой в сравнении даже с самым плохим студентом того вуза, где она училась.
Только обладая соответственным образованием и знаниями, можно соревноваться с теми, кто жил в том волшебном мире.
Он стал много читать. В районной библиотеке отметили его совершенно небывалую активность. Он стал еще лучше учиться. И ждать шанса.
Потому что понял: чтобы стать тем, кто ей нужен, кто ее действительно достоин, нужно прожить неординарную жизнь. Прожить – то есть стать писателем.
Он был силен и терпелив. И пусть не сразу, но шанс написать повесть своей жизни ему представился.
А она тоже ждала шанса. И он выпал ей куда быстрее, чем ему. По окончании школьного года она получила весточку из своего бывшего института. Любимый ученик профессора, тот самый, что стал и ее первой любовью, перешел на новое, более солидное место работы, а профессор, оставшись без верного фаворита, звал ее приехать в город и работать на кафедре, обещая уладить все с ее нынешним распределением и аспирантурой.
Единственное, что удерживало и смущало – то, как ей уехать. Надо ли объяснить своему ученику всю правду жизни или он сам поймет – и рана заживет быстро – как быстро заживают любовные раны у всех в этом возрасте.
Учебный год закончился; она, думая, что делает все инкогнито, уехала не простившись. Но на то и деревня, чтобы весть о бегстве учительницы стала известна задолго до самого отъезда.
Он пошел по дороге и остановился около того самого места, где они когда-то играли в снежки. И когда ее автобус, медленно взбираясь на пригорок, прополз мимо него, он увидел ее, а она – его. И он широко улыбнулся, улыбнулся так, словно он ее муж и машет ей рукой, прощаясь ненадолго, потому что жена уезжает за покупками в город.
А ей стало нестерпимо стыдно. Все то, что она скрывала от себя самой, выплеснулось сейчас наружу и отозвалось тяжелой болью. Ей захотелось остановить автобус, выйти и сказать любые, пусть формальные, слова прощания. И она приподнялась со своего места.
Но, с другой стороны, это было невозможно. Вот так выскочить из автобуса ради того, чтобы что-то – неясно что – сказать своему ученику…
– Наталья Васильевна! – сказала ей знакомая молоденькая доярка. – Сядьте, ведь качает. Недолго и упасть.
И она села. И автобус увез ее в новую старую жизнь навсегда.
Что ж, ему была понятна ее логика. И он считал эту логику правильной. Чтобы быть с такой женщиной, он должен начать писать повесть своей жизни. Чтобы получить необходимый жизненный опыт, у него – отличника ГТО, спортсмена и жителя деревни восемнадцати лет от роду – был прямой путь, прямее не бывает. К тому моменту, когда ей пришло приглашение из института, началась военная помощь братскому афганскому народу. И военкомат с радостью отправлял призывников из деревни в эту далекую восточную страну, где они все поголовно становились героями.
С собой он взял тетрадку, куда выписывал ее изречения. Но теперь решил писать свое. Однако после полугода, проведенного в учебке, в тетрадке появилась лишь одна мысль, и то старая. Он написал:
«Чтобы стать писателем, надо прожить яркую жизнь, бороться за правду и мир во всем мире».
Потом подумал и добавил:
«Как учит партия и Ленин».
Эта фраза ему не понравилась, но вычеркивать он ее не стал. Подумал, что у него еще много времени, чтобы разобраться в писательских хитростях.
Но пока писать было рано. Событий не происходило. И все надежды он связывал с отправкой в неведомую далекую страну. Офицеры были им довольны, потому что не было более упорного рядового. Более спортивного и исполнительного.
Меньше чем через полгода он попал в Афганистан.
Их везла через хребты и перевалы по узким горным тропам колонна грузовиков. Его сослуживцы курили, ругались матом и шутили. А ему впервые захотелось записать свою мысль. И он так обрадовался этому факту. Вот, стоило только попасть сюда, стать хоть отчасти воином-освободителем (так их называли в учебке) – и сразу появляются стоящие мысли. А мысль была вот какая:
«Мы все, по сути, являясь воинами, выглядим как хулиганы, которым раздали оружие. И хоть нас учили больше четырех месяцев, как же мы будем воевать?»
В это время раздались выстрелы, и колонна остановилась. Вернее, сначала вроде бы остановилась колонна, потом он услышал хлопки, но какие-то не похожие на те, что он слышал на стрельбище. А потом ему показалось, что сидящий рядом незнакомый солдат зачем-то прижег ему плечо сигаретой. Он повернулся и посмотрел. Из плеча торчала кость и лилась кровь. И только тут он услышал крики и увидел лица товарищей, которые пытались выпрыгнуть из машины. А еще через мгновение опять прозвучали хлопки, и все померкло.
Когда он очнулся, то обнаружил, что лежит на земле, а кузов грузовика нависает над ним. И рядом стоят два человека. Один из них вроде бы врач. И они что-то говорят друг другу. Ему трудно было разобрать. Он только удивился, что они не помогают ему, не делают ничего, а только курят и разговаривают тихо. А между тем…
Ему показалось, что воздух и все, что было теплого внутри, выходит из него, точно он шарик, который сдувается через дырку. А вместо воздуха и тепла в него входит холод. И это происходит все быстрее и быстрее.
Он опустил подбородок и краем глаза увидел, что в груди у него две дыры и огромные темные пятна вокруг. И сразу после этого пришла волна боли, с которой трудно совладать, не закричав. Но он удержался, и волна отступила.
– Это потому, – услышал он ее голос, – что ты, как большинство людей, смотришь себе под ноги. Никогда по сторонам, а тем более – вверх. А это очень полезно – смотреть вверх…
Он взглянул на небо. Здесь оно было не просто голубое, а голубое с золотом.
– Видишь? – спросила она.
И он ответил:
– Очнулся, живой! – крикнул кто-то где-то далеко.
А близко он слышал ее голос:
– Писателем и даже личностью человек становится только в том случае, если осознанно совершает поступки, делающие его биографию предметом искусства. Только тот может написать повесть жизни…
«Вот с каких бурных событий началась моя повесть», – подумал он с радостью и опять посмотрел в небо.
– Вижу. Вижу, – почти беззвучно прошептал он, закрыл глаза и перестал дышать. Перестал дышать.
Теперь уже навсегда.
Она работала в институте довольно успешно.
Ее руководитель бросил курить. Он был уже пожилой и, ясное дело, пришла пора остепениться. Все свои мысли этого рода он связывал с талантливой и трудолюбивой помощницей. Пусть она гораздо моложе его, зато умна и способна понять всю степень серьезности его исследований и труда. Самой важной мыслью которого была глубинная неразрывность человеческой жизни и творчества.
…А когда идет ливень – это Бог с небес наливает в огромную чашу прозрачную холодную воду. Так говорила моя бабушка. Она была учительницей русского и литературы. Умела говорить красиво.
Да, мы живем на дне чаши. Не на самом дне, но около. На самом дне чаши – озеро.
Всю жизнь, пока я жил на его берегу, озеро пугало и манило меня.
Озеро давало жизнь: беременных женщин увозили на лодке на другой берег и дальше на машине в райцентр рожать, а потом возвращали по озеру с малышом.
Покойников в гробах тоже увозили на лодках. Так быстрее и проще было добраться до кладбища.
Озеро кормило в прямом и переносном смысле. В совхозе разводили рыбу с незапамятных времен.
Иногда озеро становилось враждебным и забирало людей. В основном пьяных. «Будешь пить – и озеро проглотит тебя», – часто повторяла бабушка, с укором глядя на какого-нибудь пьянчугу. И я представлял, как озеро в виде огромного водяного человека, раскрыв гигантскую пасть, глотает пьяницу…
Но чаще – летом – озеро было для нас, мальчишек, гостеприимным миром. Сколько часов, дней, недель и месяцев мы просидели с удочками на его берегах, поросших высокой травой и ивняком! И не сосчитать…
И купались, и набирали воды. Ведь это Бог налил прозрачную холодную воду на донышко огромной чаши, внутри которой мы жили…
Когда я был маленький, то всегда помнил, что мой дядя играет на гармони. Так хорошо он играл! Но очень, очень редко. Впрочем, те считаные разы, когда я слушал его игру, навсегда отложились у меня – нет, не в памяти, это само собой, а в душе.
Тот первый раз, когда я услышал его музыку, я помню так хорошо, что стоит мне закрыть глаза, и я могу увидеть и услышать все.
Даже рисунок облаков на хмуром преддождевом небе. И ветки жасмина на заднем дворе. И скамейку, на которой сидел дед, дядин отец. И самого дядю. И деда. Как сейчас.
Дед долго умолял сына сыграть. А тот отнекивался. Мне было уже лет десять, и я понимал, что происходит что-то неприятное и неправильное. Я присутствовал при разговоре двух взрослых людей, один из которых – старик – униженно просил молодого сыграть на гармони. В деревне старших уважали, и то, как сын разговаривал с отцом, поразило меня.
– Ну, сыграй, Митюша, – попросил старик.
– Вот прилип!
– Сыграй, Митюшк, уважь отца.
– Прилип, черт.
– Эх, ведь нехорошо… – Старик махнул рукой и сделал вид, что сдается и уходит. Но остановился и произнес: – У меня там есть чего…
Он был жалок в своей дряхлости и немощи, в своих очках, перемотанных изолентой, в своем засаленном берете, в своем глупом лукавстве.
– Есть? – это интересовало сына. – Так неси.
Он был крупным. Высоким мужиком, в полной силе. Пока еще тяжелая работа и водка не пригнули его к земле и не обессилили, как отца.
– Несу, Митюша, несу. – И старик, спеша, засеменил к дому. – Сейчас, сейчас.
Он вышел с тяжелой гармонью в руках.
– Вот, Митюша!
– Ты чего принес-то? Ты ж водки обещал, а пришел с бандурой. Неси обратно ее, батя. И водки давай.
– Будет водка, будет. Однако сначала сыграй! – Тут дед стал вдруг тверд и непреклонен. Сначала гармонь. Потом водка.
– Ненавижу! – сказал Митюша сквозь зубы и взял гармонь в руки.
Нехотя он закинул ремешок на плечо и, растянув инструмент, прошелся по клавишам, точно разминая руку. А еще через мгновение вдруг – без подготовки и так неожиданно – из потрепанного, старого инструмента, из-под толстых и, казалось, неуклюжих Митиных пальцев полилась музыка.
И в этой музыке было все. И капли дождя, сливающиеся по листве в воду. И небо – тревожное, серое, с белыми туманными разводами. Мокрая темно-зеленая трава. И тропа, ведущая к воде, и гладкое бездонное озеро, которое прозрачной и холодной водой наполнил сам Бог.
А Митя все играл, и его затуманенный взгляд, казалось, устремлялся туда, вдаль, где другим берегом кончается озеро и начинаются холмы, поросшие лесом, и где неизвестное бесконечное нечто раскинулось на многие и многие километры. Он играл и видел там вдали что-то такое, чего не видели мы, его слушатели…
А старик-отец стоял поодаль и слушал, боясь шелохнуться. И с каждым звуком, с каждым переливом глаза его влажнели, влажнели…
– Ну и шабаш, – сказал Митя и отложил гармонь, не доиграв мелодии.
– До чего хорошо, Митюша, – ответил дед. – Что не доиграл, жалко…
– Хватит. – Митя все смотрел туда, на другой берег озера. – Неси чекушку.
И отец ушел за водкой. А он, оставшись один, произнес сквозь зубы:
– Ненавижу.
И понятно было, что говорит он обо всем сразу: о гармони, лежащей рядом, о старике-отце и о жизни.
Да, о жизни.
Играл дядя Митя редко и мало. Только если отцу уговорами и водкой удастся купить минут десять музыки.
Уже став старше и работая вместе с дядей Митей в совхозе на грузовике, я спросил:
– Отчего не играешь-то, дядя Митя? Ведь хорошо же можешь. За такое не грех и деньги брать.
– Ненавижу, – ответил дядя Митя.
Все раскрылось еще чуть позже. В тот редкий момент, когда я снова услышал, как дядя Митя играет на гармони, бабушка накладывала мне ужин.
– Ох и хорошо играет!
– Митька-то?.. Да… – ответила бабушка. – Гестапо не дремлет.
– Что? – удивился я.
– Отец его. Так мы называли. Гестапо. В клубе гармонью только один Митька мальчишкой занимался, перенимал. Учитель музыки к нам тогда приехал. Недолго пробыл да сказал, что у Митьки способности. Что ему заниматься надо. Вот Сергеич-то и занялся…
Сергеичем звали отца Мити – того старичка, что теперь уговаривал сына сыграть…
– Так он добрый, Сергеич-то… – не понимал я. – Почему гестапо?
– Это сейчас добрый, а тогда… Чистое гестапо…
И бабушка рассказала мне, как Сергеич загорелся сделать из сына музыканта. И сам занялся с ним. Возил в район. Брал ноты. Купил инструмент. Тот самый, на каком по сию пору и играет дядя Митя.
В музыке Сергеич ничего не смыслил, но слух имел. И, стоя над сыном, держал в руках половник, и если Митя спотыкался, играя упражнение, то бил его в одно и то же место – в центр затылка.
– Ты ему совсем башку отобьешь, и так он у нас… – Мать хоть и считала, что отцовская дисциплина важнее всяких сантиментов, но уж больно все это было методично и жестоко.
– Ничего, – отвечал Сергеич. – Музыка гармонично развивает оба полушария человеческого мозга.
Истину эту он прочел на стенде в музыкальной школе райцентра, и она ему очень приглянулась.
Поначалу Мите нравилось играть, но очень скоро под неотступным контролем отца он перешел к более сложным мелодиям. Перешел быстрее, чем надо. Перешел и потерялся. В той пьесе, что он разучивал под ударами отцовского половника, он через определенное время знал все. Ноты, темп и ритм, делал точные паузы. Но музыки в этом во всем не было. И отец, не зная, что теперь поделать и чем лупить, растерялся. мт
– Ну что ты как-то серо-тускло-то? Все точно по нотам?
– Все точно.
– Ну, играй еще.
И Митя играл. Так же механически. Без музыки.
– Еще играй!
Митя играл.
– Как пьеса называется?
– «Разлилась река». Композитор К…цев.
– Ну, до реки нам далеко пешком, – сказал Сергеич. – Собирай гармонь. Пошли на озеро.
Он отложил половник и, набросив телогрейку, вышел во двор. За ним вышел и Митя с гармошкой наперевес.
Они вышли за калитку и спускались к озеру. Заканчивался апрель. Весна, пришедшая в том году рано, чувствовалась везде. Тропинка, в марте ставшая руслом большого ручья, почти высохла. Было солнечно и прохладно. Дул ветерок…
Они пришли на берег озера.
Встали на мостки, где привязывали лодки; но сейчас, когда рыбацкий сезон еще не открылся, на дне стоял, погруженный большей частью в воду, один старый прогнивший челн.
– Вишь, как разлилось?
– Вижу, – ответил Митя.
– Ну, играй.
На природе, у озера, Митя заиграл еще хуже. Озеро, наше красивое озеро – то самое, которое дождями и ливнями налил сам Бог, то самое, которое на дне чаши в окружении ив отражало голубое небо и солнце, – не вдохновило Митю, как планировал Сергеич. Наоборот, весенняя красота, бесконечная блестящая гладь озера, шелест ив и солнечные блики на воде как-то плохо подействовали на Митину игру. Он стал спотыкаться.
– Ровнее играй! Не придуривайся!
И Митя старался играть ровнее. Но чем больше он стоял на мостках, тем хуже играл.
В конце концов он сбился и прервал пьесу, не доиграв и до половины.
– Ты что? – Отец удивился.
– Не выходит. Может, ветер…
– Ветер-то тебе чем помеха? Или это я половник не взял?
Мысль понравилась Сергеичу.
– Ну-ка, играй! – сказал он и придвинулся к Мите.
Митя заиграл и сбился.
– Снимай боты. Живо.
Митя отложил гармонь и разулся.
– Штаны подверни.
Митя подвернул штаны до колена.
– Ступай в воду.
– Холодно там.
– Холодно. Ну не половником же мне тебя стучать – люди увидят.
Митя полез в воду. Вода была ледяная. Она сразу как-то сжала ноги и показалась сначала кипятком, а потом льдом.
– Холодно.
– Сыграешь как следует – вылезешь. – И Сергеич протянул Мите гармонь. Митя взял гармонь и попытался играть. Но, когда он коснулся клавиш, пальцы ног сильно заныли от боли. Митя посмотрел на отца. Тот улыбался.
Митя вдруг почувствовал ненависть. К нему, улыбающемуся. К озеру. К ветру. К небу.
Он заиграл и ни разу не ошибся.
– Лихо! – обрадовался Сергеич. – Вот это разлилась так разлилась! Вылезай!
Митя вылез и положил гармонь рядом с собой на мостки. Стал тереть ноги. Отец, улыбаясь заговорщицки, сунул руку за пазуху и достал четвертушку.
– На, глотни, музыкант, а то простынешь. Глотнешь – сосуды расширятся, и ноги гудеть перестанут.
Митя протянул руку, взял бутылку и, смело сделав большой глоток, закашлялся.
А через минуту он уже улыбался, натягивая носки и боты.
– Ты не серчай, Митюшк, – сказал отец. – Как иначе-то? Ты бы и не сыграл.
– Не сыграл бы.
– На то и отец. Чтобы, значит, добиться. Понимаешь меня?
– Ничего ты не понимаешь… На вот, глотни еще.
И Митя глотнул. Глотнул и Сергеич. Стало тепло.
– Красота, Митька! – Отец смотрел туда, на другой берег.
– Красота, – отозвался эхом Митя и вдруг протянул руку к гармони.
Выдохнул. Посмотрел туда же, куда глядел отец, и заиграл.
И в этой музыке было все. И капли дождя, сливающиеся по листве в воду. И небо – тревожное, серое, с белыми туманными разводами. Мокрая темно-зеленая трава. И тропа, ведущая к воде, и гладкое бездонное озеро, которое прозрачной и холодной водой наполнил сам Бог.
– Вот утешил, – сказал Сергеич. – Всегда бы так…
А Митя все играл и играл.
Однако больше таких моментов не было. Митя не стал музыкантом. Пока отец был жив и в силе, играл он тогда лишь, когда выпивал. Работал трактористом. Из отцовского дома свалил сразу, отслужив в армии. И хотя жили они рядом, он навещал Сергеича лишь затем, чтобы выпить. И тогда уже согласен был сыграть пьеску-другую. Не больше.
Последний раз, когда он играл много и от души, были поминки Сергеича. Он умер дряхлым беспомощным стариком, незадолго до этого схоронив жену.
Посидели за столом и, выпив, повспоминали. Спустились к озеру, на мостки. Было лето. На привязи покачивались несколько лодок. Но одна рядом, как всегда, лежала на дне – догнивала.
– Сыграешь? – кивнул я на гармонь, которую Митя прихватил с собой.
– Сыграю. Любил покойник музыку-то… а я…
Он потянулся к гармони и положил ее себе на колени.
– А я ненавидел. И его. И гармонь. – И точно оправдываясь, добавил: – Как бил-то он меня за нее… Как бил!.. Половником… Эх!
Митя заиграл. Мы молча слушали, глядя на озеро.
Как хорошо он играл! Его музыка так подходила к нашим краям. Так сочеталась с ними. И мне хотелось, чтобы он никогда не заканчивал…
А Митя все играл, и его затуманенный взгляд, казалось, устремлялся туда, вдаль, где другим берегом кончается озеро и начинаются холмы, поросшие лесом, и где неизвестное бесконечное нечто раскинулось на многие и многие километры. Он играл и видел там, вдали, что-то такое, чего не видели мы, его слушатели…
Я говорю ей:
– Трудно вам одной?
– Да не. Чего там трудно? Так. Трудно было вон после войны. Я еще девочкой была. Все время есть хотелось.
Сидим с ней на крыльце. Она на скамейке старой, а я на ступеньках.
Закат фиолетово-красный. Тихо.
– Что ты здесь нашел-то? В деревне-то?
– Да вот, хорошо здесь. – Я вспоминаю слово. – Уединенно.
– Что верно, то верно. – Она о чем-то думает. – А не скучно?
– Нет, совсем нет. Я думаю, сочиняю, новое узнаю. А еще люблю вот так чай вечером пить.
Она улыбается.
– А я кофе. Спасибо за кофе-то.
– Да ну! – машу я рукой. – Чего там. Главное, что вам пришелся по вкусу.
– Мне любой по вкусу. Кофе я очень полюбила. Тасютка его все пила. Пила, пила. Да вот померла.
Она всхлипывает, но сразу успокаивается.
Сидим. Смотрим на закат.
И я все думаю, как же она вот так живет, день за днем? Без цели и перспективы. Без надежды жить как-то по-другому. Как?
Один сын в могиле. Другой в тюрьме. Муж помер давно. Внука мать увезла за тридевять земель…
И как будто в ответ на мои мысли:
– Вот как ты приедешь, так хорошо. Кофе хороший-хороший.
– И все-таки одной трудно.
Чего я привязался. Ясно же, что трудно.
– Я привыкши. Только тишина не нравится. Вот телевизор говорит – и ничего. С ним хорошо. Прям боюсь, чтоб не сломался.
– Я новый подарю.
– Да кого ты! Такие деньги… А и впрямь плохо без телевизора-то. Чего находишь за день, чего надумаешь.
– А о чем вы думаете?
– Да все что-то верится. То одно вспомнится, то другое. Вот сегодня жук вспомнился.
Она усмехается.
– Какой жук?
Мне становится интересно.
– Да в детстве боялись мы жука. Ерунда собачья.
– Нет, расскажите, пожалуйста.
Она улыбается.
– Да я и не знаю, откуда пошло. В детстве пугали мы друг друга жуком большим. Мол, есть рядом с деревней жук огромный, навроде короеда. Только величиной с теленка. Старый, весь мхом порос, на шести лапах с крюками. И ртина огромный. И клешни. Схватит и утащит в лес. В совхозе тогда корова пропала. Так Герька говорил, что ее жук, мол, утащил. Сейчас-то и Герьки нет. Спросить бы, может, он придумал жука-то этого.
– Потонул на тракторе. Выехал на лед и провалился. Был бы трезвый, вылезти успел бы…
– Нелепая смерть.
– Хуже, если жук утащит. – Она усмехается. – Мы, дети, считали, что он может бревна из избы вытаскивать и в хату пролезать. Я так боялась, что спала на печке только. Жарко там, а все равно укроешься и спишь. Думаешь: брат ближе к окну, его первого жук утащит. А до меня, может, и не доберется.
– А брат ваш…
– Помер лет уж поболе двадцати. Мужики слабые.
– Инфаркт?
– Да нет. Опился стеклоочистителя. Хороший он был. Смелый. Вот он-то парнишкой жука не боялся.
– Не верил?
– Верил, а не трусливый. Возьмет рогатину – и в лес. И поет еще…
– Хороший человек был, наверное, – говорю я, чтобы хоть что-нибудь сказать. – Смелые люди – они лучше…
Она кивает.
– Много смелых…
Она задумывается. И я понимаю о чем.
Старший сын ее сорвался с крыши своего дома, когда что-то ремонтировал. Естественно, навеселе.
Младший грабанул магазин и тут же попался, пьяный.
Много у нас смелых.
– А я вот не смелый, – говорю, чтобы перевести тему. – Сейчас домой идти через всю деревню. Как бы жук меня не погрыз.
– А ты иди поцентрее, не сходи с дороги. Он и не тронет.
– Хорошо, – говорю. – Пойду я. С утра, если все в порядке, забегу кофе пить.
Она прощается, машет мне старческой рукой, поправляет платок и уходит в дом.
А я иду по деревне. Всю ее сожрал жук. От клуба жук оставил одну стену с окнами. С бревенчатого дома сорвал крышу. Общественную баню жук, видимо, подгрыз с одной стороны, и она покосилась так, что вот-вот повалится. И избы, избы, избы – везде побывал жук.
Совсем темно, и я облегченно вздыхаю, когда включаю в доме весь свет. Забираюсь, наконец, на протопленную печку и накрываюсь с головой пушистым пледом.
Мороженое и газировка
День перед отъездом. Жаркий августовский день. Купаться он пойдет с семьей, только часа через три после обеда, когда не будет солнца. И от солнца некуда деваться, только если вернуться домой к отцу, под кондиционер. Это, конечно, можно, но папа внимательно смотрит телевизор. От телевизора у него портится настроение, и он ругает всех подряд. Ругает, мрачнеет и продолжает смотреть.
Нет, к отцу в номер идти не стоит.
Не стоит еще и потому, что вот-вот появится Храбрякушка. Эта девушка – она местная, старше его на год. Ей пятнадцать. Родители ее алкоголики и отличаются от бомжей лишь тем, что не пропили пока еще старый свой домишко.
Храбрякушка – смешное прозвище – она получила в два приема. Сначала дочку алкоголиков звали Побрякушка. За то, что она ходила по пляжу и продавала пиво отдыхающим. Ее авоська с бутылками звенела и брякала с утра до вечера. Ну чистой воды Побрякушка.
А потом произошла история, которая изменила ее прозвище. Она сцепилась с тремя мужиками, которые наглели и пытались отобрать у нее пиво. Она пыталась отлупить их авоськой, разбив о камень бутылки…
Закончилось все тем, что она едва спаслась, потому что разгневанные потные быки уже тащили ее окунать в море, а она так эпично и грандиозно материлась, что недовольные обыватели наконец вступились.
– Оставьте девочку в покое!
– Храбрая девочка…
– Так это ж Побрякушка с Рабочей улицы.
– Храбрякушка!
Так и приклеилось. Постепенно она становилась девушкой, стройной и симпатичной. И стала замечать на себе взгляды мужчин, лежащих на пляже, но хорошо помнила, что в случае чего они легко могут отобрать у нее товар, да и избить тоже могут…
Поэтому она смотрит в песок, когда бредет по пляжу и кричит: «Пиво, холооодное пиво! Кукуруза горячая! Трубочки обалденные! С кремом, с орехом!»
Такая у нее жизнь. Зато всегда есть деньги на мороженое и газировку.
Его зовут просто – Вовка. И у него никогда нет денег. Отец не считает нужным давать даже мелочь. Рано. «Если что-то нужно, подойдешь, спросишь – купим».
У него нет денег, поэтому он сидит и ждет ее на углу Рабочей улицы и переулка Чехова. Там, где ветеринарный пункт. С каждой секундой становится жарче. Кажется, вот-вот расплавятся и растекутся жижей дома и деревья. И редкие белые облака сахарной ватой упадут на горячую пыльную улицу. И только белое солнце будет висеть над закипающей землей долго. До вечера.
– Хей, Простововка. Это я пришла. Молока принесла. – Она зовет его так, потому что сама при знакомстве представилась Храбрякушкой. А он смутился и сказал: «А я просто Вовка». Так и пошло. Простововка.
– Мороженое?
– Ну да. Смотри, сегодня какое! – Она достает плоский брикетик пломбира на палочке, завернутый в тонкую бумагу с розово-синим рисунком.
– Вкусное небось, – отвечает Простововка и удерживается, чтобы не сглотнуть.
– Еще бы, пломбир. – Она разворачивает мороженое и, смяв, выкидывает обертку в канаву.
– Давай по очереди. – Она облизывает мороженое сама и протягивает ему. В такие моменты ему так сладко на душе и тревожно, и снова сладко, что он совсем почти не чувствует вкус.
– Пить хочется.
– Конечно, сладко ведь.
– Много бы сейчас отдал за газировку?
– Да все бы деньги, что были, те бы и отдал.
– А сколько у тебя есть? – Она интересуется, так как профессиональная торговка в ней не дремлет.
– Нисколько. – Он не успел придумать отмазки. – Отец не дает. Говорит, попросишь – куплю.
– Ясно. Кавалер, а без денег. – Эта фраза, откуда-то почерпнутая, нравится ей.
– Кавалер?!
– Ну да. Ты же мой кавалер, разве нет?
И он соглашается поспешно:
– Да, кавалер.
– А денег нет…
И тут она лезет в сумку.
– У меня газировка есть. Бесплатная. Давай попьем, только быстрее. А то мать позовет. – Она протягивает ему бутылку. Он открывает.
– А мы завтра уезжаем.
Она, храбрая девочка, на секунду, на одно короткое мгновение чего-то пугается:
– Куда, на экскурсию?
– Нет. В Москву мы. Уезжаем.
– А… ну да. Соскучились небось.
– Нисколько. Не хочу уезжать. Не накупался еще.
– Море у нас. Да.
– И мороженое. И газировка.
Она улыбнулась.
– Есть и получше кое-что.
У него вдруг совсем пересохло в горле, хотя он только недавно отдал ей бутылку с газировкой.
– А ты глаза закрой.
Он закрыл. И почувствовал, что она прикоснулась губами к его губам, и тут произошло совсем странное – будто все самое приятное и нежное оказалось с ним рядом и в нем… И это было точно мороженое с холодной газировкой в самую жаркую погоду. И это должно было длиться всегда, а длилось всего несколько секунд.
– Храбрякушка! Домой беги, стерва!
Все кончилось. Она вдруг оказалась метрах в двух от него.
– Ну что, пока? – спросила она, улыбаясь, точно сообщила ему какую-то важную и добрую тайну.
– Я приеду!
– Следующим летом, ага. Я буду на пляже. Найдешь меня. – И вдруг закричала: – Пиво холодное! Трубочки обалденные!
И посмотрела на него пристально. Так, как может смотреть только женщина, которая прощается навсегда. Но он, конечно, не понял этого взгляда. Он думал о поцелуе, который был похож на газировку с мороженым.
– Пока, Вовка.
– Пока, Хра…
– Света. Для тебя теперь Света…
И побежала так быстро, что он не успел назвать ее настоящее имя.
Как будто сад
Как цветы райские, которые цветут в любое время года и во много раз красивее и благоуханней, чем оранжерейные и полевые.
Это случилось в конце девяностых, когда не было у нас работы и денег, зато было много планов и иллюзий.
Мы писали и переписывали один и тот же сценарий в надежде снять полнометражный фильм на студии Горького. Пока додумывали и исправляли написанное, сменилось руководство студии, и наш проект заглох. Такое случилось впервые. Мы еще не привыкли к тому, что никому не нужны. Это потом, после, я да и соавтор мой стали скептически смотреть на всяческие творческие начинания и планы. Какое-то время мне удавалось оставаться скептиком только в отношении себя, но и это продолжалось недолго.
Впрочем, тогда мы не унывали, руководствуясь постулатом: вложенная энергия всегда даст результат. Или: настоящие цветы всегда прорастают, даже сквозь асфальт.
– Настоящие цветы всегда прорастают, даже сквозь асфальт, – сказал мой тогдашний соавтор.
– А если не прорастают – значит, ненастоящие, – ответил я.
И дальше состоялся скучный, всегда повторяющийся разговор, что если не прорастает, то это не значит, что нужно бросать попытки. И так далее, и так далее, и так далее.
Мы имели твердые понятия об искусстве и о себе в искусстве. Во что это вылилось потом, не важно. Мой соавтор стал профессиональным сценаристом. Теперь он высаживает полынь и чертополох под видом цветов. Зато они прорастают и дают всходы. Фильмография его растет.
У меня и того нет. Но это не важно.
Тогда мы верили в то, что семена дают всходы.
И писали наш бесконечный сценарий.
Для работы мы уединялись в маленькой комнатушке двухкомнатной коммунальной квартиры в сталинском доме на севере Москвы. Хотя уединялись – это, конечно, преувеличение. За стеной на кухне шла бурная пьянка. И она не прерывалась ни днем, ни ночью. Вторая комната и кухня безраздельно принадлежали вдовцу, соседу моего соавтора по коммуналке. Звали его то ли Леша, то ли Саша, а скорее всего Витя.
Пил Витя беспробудно и весело. Мне нравится слово «беспробудно». Не пробуждаясь. Очень точное слово. Потому что утверждение «жизнь есть сон» находило в Вите реальное воплощение.
Все у него было хорошо! Отличная работа, на которой его уважали. «Я делаю зубную пасту!» – кричал он и обещал в следующий раз подарить мне целый ящик.
Друзья, умные и талантливые, окружали его. Это были интересные и уважаемые люди. Чаще всего, люди искусства. Ну вот как мы с соавтором…
И дочки – дочки у него были замечательные. Одной десять. Другой пятнадцать. Обе такие милые и домашние!
«Жена померла! Я один! – кричал Витя. – Но доченек содержу и опекаю! Хоть вот у нее спросите!»
Когда он говорил «у нее», то показывал на очередную свою разовую сожительницу-собутыльницу. Мужик он был нестарый. Где-то около пятидесяти. Поэтому сожительницы менялись, а звуки любовных утех (хрипение и скрежет диванных пружин) раздавались из его комнаты регулярно.
А потом он просыпался. В смысле трезвел.
И пробуждение бывало тяжелым.
Раз в два месяца Витя трезвел. И вдруг оказывалось, что с работы его давно уволили за пьянку и прогулы. Что друзья его – вовсе не друзья, а какие-то совсем уж опустившиеся алкоголики и бомжи. И дочки…
Старшая откровенно занималась проституцией. Ей было пятнадцать. Она была густо накрашена. Ярко и дешево одета, но деньги у нее всегда были. Пусть небольшие, но ей хватало даже на то, чтобы подкармливать младшую…
«Чем ты в пятнадцать лет занимаешься?!» – орал очнувшийся впервые за два месяца Витя. На что дочь ухмылялась и убегала из дому, оставляя за собой шлейф дешевых духов.
А младшая…
Она одна во времена тяжелых Витиных пробуждений служила папе утешением. За шкафом, стоявшим поперек комнаты, отец отгородил ей угол, в котором стояла раскладушка. Это все, что я знал о ее житье. Мы иногда сталкивались с ней в коридоре. На ней была школьная форма начальных классов. Сама она была худенькая, с вытянутым лицом, большими серыми глазами и чуть вздернутым мышиным носиком. Про себя я так и прозвал ее – Мышкой.
Жизнь ее была незавидна. В одной комнате с сестрой и отцом.
Даже я, слишком занятый собой и своим творчеством, встречая ее, задумывался: каково ей, совсем еще маленькой девочке, живется в атмосфере постоянной, бесконечной пьянки, под скрип отцовского дивана и под ужасающие крики скандалов, которые затевали одурманенные дешевой бормотухой гости отца?
Но я сразу забывал об этом. Повторюсь, у меня было много своих мыслей и планов.
Иногда я думаю, что все они не сбылись как раз потому, что я не обратил внимания на жизнь этой девочки…
Но не важно: однажды, в один из последних моих визитов в эту квартиру, я узнал удивительный Мышкин секрет.
Ничего секретного в этом секрете не было. Просто за шкафом скрывалось такое, о чем я не забуду уже никогда.
В тот день Витя находился в пробуждении. То есть трезвый. Жизнь его была ужасна. Его выгнали с работы.
Друзья – падаль и алкашня, которых и в дом-то нельзя привести. Бабы все противные. Ни приготовить, ни постирать! Дочь – в загуле. Не ровен час, принесет в подоле! Жизнь пропащая!
И только маленькая дочка отделяет его, вдовца, от петли!
Он схватил меня за руку и потащил в комнату знакомить с младшенькой.
В его комнате пахло потом и перегаром. Два продавленных дивана. Кухонный стол под липкой клеенкой непонятного цвета с разводами. Стул с отломанной спинкой, на который и присесть-то страшно – поранишься.
И над всем этим в углу, как икона, висел портрет Высоцкого в железной рамке.
А в конце комнаты – там, у окна, за старым платяным шкафом, оставшимся, видимо, еще от матери, был Мышкин угол. Там она жила.
– Вот она! Вот оно, мое сокровище! Она одна – моя дорогая! Как мать ее – страдалица! – орал Витя.
Я шагнул и посмотрел за шкаф.
И до, и после я много говорил об искусстве. Вся моя жизнь наполнена подобными разговорами. Я люблю поболтать об этом за праздничным столом, люблю поговорить с коллегами, люблю делиться мыслями со студентами. Когда появился интернет, то я стал бесконечно рассуждать об искусстве там…
Множество критериев и определений, множество направлений и жанров, множество слов.
Когда я заглянул за шкаф, я увидел цветы.
Дело в том, что когда сталкиваешься с настоящим произведением искусства, то вдруг попадаешь в другой мир, живешь другой жизнью – той самой, которую воспроизвел автор.
За шкафом был тот самый другой мир. Там я увидел цветы.
Они были повсюду. Некоторые еще не распустились, нежными бутонами они тянулись к солнцу. Некоторые цвели, и пчелы жужжали над ними. Некоторые начинали увядать и теряли первые лепестки. И сухие цветы лежали на подоконнике.
Все они, множество и множество, были нарисованы шариковой ручкой на листах из альбома для рисования и на тетрадных листах. Сначала я подумал о том невозможном для ребенка мастерстве, с которым выполнены рисунки, а потом я подумал о том, что они как живые.
Васильки. Георгины. Розы. Гладиолусы. Маки. Нарциссы. Сирень. Гвоздики. Колокольчики. Хризантемы. Ромашки. Ландыши. И еще другие. Всякие. Названия которых я не знал.
– Все цветы рисует, доченька моя, сиротка моя! Я ей говорю: слушай батю. Нарисуй портрет какого-нибудь певца там! Или там про войну! Или…
Витя понес свой всегдашний бред, а я тихо спросил Мышку:
– Это ты рисуешь?
– Да, – сказала она. – Как будто сад.
– Настоящий сад. Ты просто молодец. Не знаю, что сказать. Ты учишься?
– У нее способности! – заорал Витя. – Но и потребности же. А каково мне, вдовцу?!
– Учусь, – ответила Мышка. – Анна Антоновна говорит, надо учиться обязательно.
– В художественной школе?
– Нет, в кружке. Скоро будем головку рисовать.
– Головку! – Вдруг Витя хохотнул. – Головку, слышь!
– Женскую, – сказала Мышка, глядя на меня. – У нас есть гипсовая в кружке. Анна Антоновна говорит, что уже можно.
Я посмотрел на цветы вокруг.
– Уверен, что можно. Думал, ты только цветы рисуешь.
– Нет, что вы! Это… – Она неожиданно замолчала. – Это такой сад. Я здесь отдыхаю. Это для себя…
– Ты настоящая художница, понимаешь?
Я захотел высказать ту мысль, которая вдруг поразила меня, но осекся. Я стоял в комнате, около меня топтался папаша-алкоголик, а на раскладушке за шкафом, в окружении райских цветов, сидела десятилетняя девочка.
Тот сценарий, что мы писали с соавтором, так и не был закончен. Думаю, что кино от этого не много потеряло. Комнату в коммуналке мой товарищ продал. О юной художнице, жившей в той квартире, я почти ничего не знаю. Я был слишком занят собой и своими идеями. Слышал, что от окончательно спившегося Вити Мышку наконец забрала теща.
Мы написали еще много текстов. Вместе и отдельно. Некоторые даже имели успех.
Но никогда они и близко не были тем настоящим искусством, которое я увидел в затхлой комнате за шкафом.
Там и на стенах росли цветы. Там были удивительные заросли удивительных цветов.
Там был как будто сад.
Единая плоть
Сейчас, когда я пишу эти строки, за окном идет снег. Густой пеленой он окутал все на деревенской улице. Письменный стол с компьютером – прямо у окна. И сквозь густой снег я вижу избу Черныша с провалившейся крышей. Этот дом, покосившийся, бесприютный и сейчас, зимой, промерзший насквозь, постоянно притягивает мое внимание.
Мне одновременно и хочется, и лень работать. Поэтому я то и дело отрываюсь и всматриваюсь сквозь снег в печальное, давно покинутое, холодное жилище.
А у меня в доме – тепло; чай на столе и вполне еще сносный компьютер – весьма не новый, но рабочий. Я специально, по совету друзей, приехал в этот глухой уголок, чтобы, не отвлекаясь на текучку, месяц поработать. Вообще-то я взял для работы свой ноутбук, но уже на месте обнаружил, что забыл в Москве блок питания к нему. Всего через пару дней оказалось, что я совершенно не могу без компьютера. И совершенно не могу без работы. Иначе такие картины, как мертвый дом Черныша, приковывают взгляд, втягиваются внутрь меня, а выхода не находят. Я сознательно отталкиваю от себя лезущие в голову готические сюжеты, диктуемые видом пустого дома напротив.
Компьютер мне принес Петрович, бывший директор местного совхоза. Он взял его на время у одинокой женщины, почти старухи. Сказал, что ей без надобности: дочка пользовалась, а теперь – просто пылится.
Я хотел написать работу о классификации жанров. В этом вопросе в теории драматургии – большая путаница.
Вот взять хотя бы мелодраму…
В современном мире нет ничего, что могло бы помешать двум людям быть вместе, коли уж они того хотят. Если действительно хотят. Соответственно, раз нет ничего, что может разделить влюбленных, так и мелодрамы, получается, нет в ее развитии. Все тихо-мирно.
Женатые мужики либо разводятся, либо заводят вторую семью. Богатые замужние дамы успевают реализовать свои любовные вожделения в промежутке между поездками по бутикам… и прочее, и прочее.
Все это преспокойно обсуждается на светских вечеринках, где я иной раз бываю, и даже при первом знакомстве мне могут поведать какую-нибудь грязную историю о взаимоотношениях с «бывшим» – и про его малые возможности и размеры, и даже про то, что он импотент.
Неимущая молодежь не откладывает свадьбы из-за отсутствия денег, а берет кредиты.
Дуэли между соперниками отсутствуют, а если случается какое смертоубийство, то это скорее бытовуха. Так, по пьяни прирежут ненароком. Ничего особо мелодраматичного.
Рассказывали, что в Рязани один молодой мент часто ходил на ночные дежурства, а жена его водила к себе любовника – или любовников. Чего-то в их супружеской интимной жизни ей, видимо, не хватало.
Ну и однажды, вернувшись, как бывает в таких историях, в неурочное время, лейтенант застал жену в самой что ни на есть обидной для него позе (на какую он жену уговорить никак не мог) в супружеской постели со своим же коллегой, ментом.
Выхватил он пистолет и пристрелил обоих.
А потом, выпив на кухне бутылку водки, подумал и пристрелил себя.
Но было это давно, еще в восьмидесятых.
И да, конечно, трагедии, подобные рассказанной, случаются наверняка и сейчас, но мне как-то не попадались. Все больше – обыкновенный адюльтер. Все бури, что бушевали в обозримом мною пространстве, были больше похожи на мелкий бриз. Чего уж там… Ну изменила девчонка, ну назвал ее шлюхой и ушел к другой – такой же или получше. А та, от которой ушел, вовсе шлюхой и не являлась: вышла замуж и стала верной женой, и рожает, рожает.
И никогда бы я не стал писать мелодрам про современную жизнь, потому что в них ничего нет, если бы случайно не наткнулся на удивительную историю о Сашеньке, деревенской девчонке; историю, которая своей невинностью и банальностью по-настоящему тронула меня.
Но и не только в этом дело – мало ли что трогает меня, с каждым годом все больше и больше склонного к сантиментам? Честно говоря, я к сорока трем годам стал абсолютной размазней и вместе с дочкой плачу над сложной судьбой кошечки по имени Пушинка, когда мы читаем детскую книгу по вечерам.
Попавшая ко мне история Сашеньки помогла пролить свет на то, что может быть с настоящей любовью сегодня, и на то, какая она есть, настоящая любовь. Изначально, когда я стал расспрашивать о ней местных, внимание мое привлекла одна деталь. И этой деталью был галстучек. Это именно она, Саша, называла его так. Гал-сту-чек.
Подсоединив монитор, клавиатуру и мышку к системному блоку, включаю питание и убеждаюсь, что компьютер работает. Ни логина, ни пароля… Здесь до сих пор нет привычки запирать входные двери. Я подключаюсь к интернету через телефон и…
…попадаю в почтовый ящик незнакомой мне девушки. Я догадываюсь, что это почта дочки той самой женщины, которая отдала мне компьютер. Но я ее никогда не видел. И тут же перспектива скучной работы уходит. Любопытство пересиливает стыд – и я открываю последнее из отправленных писем.
«Милый Женька! (Смешно, что я могу обращаться к тебе так.)
Мне так грустно и трудно. Без тебя.
Я пытаюсь занимать себя всякими делами. (Стала убирать наш дом так, что даже маме не придраться.) Иногда я вынимаю из тайного чемоданчика твой галстучек, смотрю на него и плачу. Ладно, ладно. Не ругайся. Не буду.
Про кроликов я тебе уже писала. У них жизнь и то разнообразнее моей. Они, в отличие от нас с тобой, постоянно вместе.
Сегодня Джону плохо, он почему-то ничего не ест и сидит в самом углу вольера. Когда будет у нас ветеринар, обязательно покажу его…»
Уже прочтя эти строчки, я понял, что в моих руках оказалась история – возможно, трагичная, возможно, счастливая, – но точно светлая.
И я попытался разузнать все что мог об истории любви Сашеньки и Жени.
По крупицам собирал я историю чужой жизни, историю настоящей любви.
За окном снег все гуще и гуще. Изба Черныша все еще глядит на меня слепыми глазницами выбитых окон, и память о двух влюбленных еще не до конца исчезла в пучине мелочей.
А все началось с ее, Сашенькиного, компьютера, с ее письма и моего бесцеремонного любопытства.
Она девчонкой была совсем даже ничего себе. Впрочем, как утверждают умные люди, где-то до двадцати они все ничего себе. Нет, но правда, она была, как сказали бы в старину, премиленькая.
Острый и длинный носик не портил ее. В школе, конечно, мальчишки дразнили Буратиной, но и не оставляли своим вниманием. У нее были карие глаза очень красивого и необычного для деревенской девушки, какого-то персидского разреза… И нежные тонкие губы алого цвета, такие яркие, что и помаду использовать не надо…
Да, мама ее всегда хоть и ругалась, но все же втайне гордилась дочкиной роскошной каштановой косой, которую нелегко было расчесывать.
Я так старательно описываю, набрасываю черту за чертой, и все не могу получить нужного мне портрета, как арбатский художник, который фотографически точно воспроизводит детали, но все что-то мертвое и даже мало напоминающее живого человека выходит из-под его карандаша.
Она была обыкновенной девчонкой с длинным носом. Вот правда. Ничего особенного, как бы я ни старался. Примерно так ее и видели все.
На тот момент у нее уже было два парня. Само занятие любовью с этими кавалерами не принесло Сашеньке никакого удовлетворения. Она как бы выполнила план. У каждой девушки должен быть парень, а с парнем должен был быть «интим». Да, в обязанности мамы входило следить, чтобы такого не случалось, и это несколько осложнило задачу. Но не сильно. Летом любая полянка, любой лесочек или рощица были к их услугам. Только вот ни первый, ни (довольно скоро последовавший за ним) второй раз не понравились Сашеньке. Все произошло как-то скоро и суетливо оба раза и оставило ощущение чего-то неправильного, скользкого и даже чуть противного.
Ни боли, ни восторга, ни, уж конечно, счастья она не ощутила.
Кроме того, второй парень не подумал о том, чтобы предохраняться, и она почти месяц прожила в ужасе ожидания. Парень же, поддавшись ее настроению, тоже ходил как в воду опущенный, и когда все же выяснилось, что все хорошо и нежелательного не случилось, то и вовсе перестал ею интересоваться.
Она тоже, обжегшись, на время затаилась и поняла, что можно прекрасно кокетничать на дискотеке и не встревать ни во что серьезное.
Правда, появился у нее более-менее постоянный молодой человек, которого она не любила, но позволяла за собой ходить и как-то ухаживать, потому что, во-первых, это было лестно ее женскому самолюбию, а во-вторых, он закрывал разговоры об отсутствии у нее так называемого «молодого человека».
Это понятие – «молодой человек» – было принято в их среде как признак полноценности. Считалось хорошим тоном говорить «мой молодой человек» или в интернете писать «мой МЧ…».
Это могло обозначать что угодно – от постоянных внебрачных отношений (вполне серьезных) до просто юноши, которого девушка желает выделить и с которым в перспективе возможно более плотное, так сказать, общение…
Он был неказист, этот ее МЧ. Ну, честно говоря, в их захолустье другому взяться было и неоткуда.
И не требовалось ничего большего: наученная горьким опытом, допускать серьезных отношений она не хотела.
Его звали Егором. Он был невысок ростом, крепок в плечах и белобрыс. Хорошо танцевал, так как старшая сестра училась в райцентре на хореографа и показала ему пару-тройку правильных движений. В будущем он собирался стать милиционером. В их провинциальной системе координат эта работа была не столько «выгодно-престижная», сколько вполне дающая кусок хлеба, да еще и постоянная.
Он выбрал ее, Сашеньку, как наиболее подходящий и достойный для себя вариант. Ничего заоблачного, но лучшее из возможного. То есть поступил так же, как и с выбором профессии.
И, выбрав однажды, он уже не отступал от намеченного, поэтому и милиционером стал, и Сашеньки мог бы добиться. Мог бы.
Евгений – именно так он представился на собрании – приехал «забрать совхоз». Именно забрать – из общего владения в частное. При этом не заплатив ни копейки. Сразу скажу, ему это удалось. Вся операция, состоящая из проведения общего собрания акционеров (а ими были все совхозники), выбора представителей от них и передача ими всех прав сторонней – то есть его – организации, прошла успешно.
Стадо – а собрание акционеров и было стадом – выслушало его выступление молча. И то ли приняло его обещания вложить в совхоз девять миллионов рублей, то ли им было просто все равно – проголосовало единогласно «за». Выбранные акционерами представители были обработаны и все подписали, а директор совхоза Петрович получил в подарок подержанный недорогой джип.
В результате этой операции москвич обрел землю, постройки, а также все имущество когда-то процветавшего хозяйства. И провел в деревне месяц. Хотя, очевидно, на собственно аферу потребовалось не больше недели.
Этот человек, появившийся в деревне, до сих пор остается для меня загадкой. Это был как бы мой предшественник. Я тоже сюда приехал из Москвы, как и он. И так же, как мои собственные, мне не ясны до конца его истинные мотивы. Что искал он здесь? В этом печальном краю озер, в этой стране бесконечных лесов и перелесков, в этих полях, похожих на море, в этой деревне, где печать медленного исчезновения лежит на всем?
Здешний край напоминает замерзшую девушку, еще сохранившую остатки живой красоты, но уже неживую, покрытую инеем. Она все еще красива, потому что окунулась в тот бесконечный свет, который противоположен земной жизни. Еще она здесь, а уже нет ее. Она уже на пути туда, где нет ни печалей, ни болезней. На пути в легкое и радостное забвение…
Знал ли, чувствовал ли он то же, что я? Мне неизвестно. Но он приехал сюда и, так же как и я, вглядывался до боли в глазах в унылую здешнюю природу, пытаясь разгадать что-то, чего он и сам не знал…
Мне удалось узнать про него от местных совсем немного. Его звали Евгений. Он был чем-то болен. Судя по всему, болезнь была тяжелой и бесповоротной. Местные рассказывали про множество пузырьков и бутылочек с таблетками, которые стояли у него на подоконнике. Кто-то утверждал, что видел, как он горстями пьет эти таблетки прямо по дороге из лесу домой.
Может быть, этим и объясняется его почти болезненный интерес к здешней природе. Тяжело, а возможно и смертельно, больной, он тянулся к таким покойным местам, столь близко находящимся к состоянию полного забвения, что если до конца вобрать в себя этот дух, то и сам окажешься в объятиях безразличного ничто, поглощающего тревоги, память, боль…
Впрочем, это лишь мои предположения. У него было много таблеток. Он провел в деревне месяц. И больше не появлялся.
Местные считали его инопланетянином. В том смысле, что этот самый москвич был непонятен им. Он вел себя тихо. Не выпендривался, как большинство городских, не навязывал собственные порядки, а, наоборот, сняв пустующий домик на все лето, остался жить – одиноким и нелюдимым.
Когда я думаю о том, как произошло их знакомство, то всегда мне приходит в голову мысль о провидении. Или судьбе. Кто во что верит. И я не знаю, для чего это должно было случиться. Для чего ее, до начала этой истории просто милую деревенскую девчонку, невидимая рука привела к нему.
Но не иначе как что-то мистическое произошло в тот вечер. Он отдыхал, лежа на большом диване, оставшемся в ныне пустовавшем доме от прежних хозяев…
Вообще, в этом доме были только диван и пыльный шкаф со старыми книгами. Он выбрал этот дом, наверное, потому, что более экзотичного жилья было здесь не сыскать.
Здесь когда-то жил тихий алкоголик по кличке Черныш. Этот человек – еще одна загадка, разгадка которой теперь лежит, зарытая на деревенском кладбище. Мужик был алкоголиком. В этом нет ничего странного. В этих краях алкоголизм – распространенная болезнь. Но он, Черныш, был странным алкоголиком. Умеренным. Он пил каждый день понемногу. Пил и читал книги. Чтение книг было его второй зависимостью, тайной… Впрочем, эта тайна не интересовала никого, кроме меня.
Я знаю, что еще долгие годы после смерти Черныша в книжном шкафу его пылилось множество книг. Это была отлично подобранная библиотека. В основном приключенческая, но здесь были и Шекспир, и Толстой, и Лесков, и даже Бодлер…
Черныш сбежал от действительности в книги и дешевую выпивку. Не самый плохой вариант. Впрочем, не знаю. Черныш умер лет за десять до описываемых событий и к моему рассказу имеет лишь косвенное отношение.
Именно его дом – практически нежилой, с протекающей крышей, продавленным диваном и пыльными книгами в шкафу – выбрал Евгений для того, чтобы пожить в деревне.
Вот тоже загадка – почему этот дом. И где кроется ответ, я не знаю.
Быть может, в книгах, которые заинтересовали его. Может быть, в какой-то не совсем деревенской ауре этого дома. А вернее всего, нечто совсем оригинальное лежало в его выборе. И у меня есть одна сумасшедшая версия. Дело в том, что мне кажется – я понимаю этого человека. Чем-то, пусть и весьма отдаленно, он напоминает мне меня же самого. Так вот. Если бы я выбирал дом, то выбрал бы именно этот из-за дырки в крыше. За десять лет, которые жилище простояло без хозяина, кровля и потолок в одном из углов совсем прохудились и прогнили. Прогнили так, что образовалась дыра, сквозь которую было видно небо.
И у меня, как я уже сказал, есть версия, почему эта развалина приглянулась Евгению.
Лето выдалось сухим, без дождей. И он подвинул довольно большой, советского производства двуспальный диван так, чтобы изголовье оказалось как раз под этой дырой. Чтобы можно было засыпать под открытым небом.
Итак, он лежал и смотрел в небо, а она, Сашенька, оказалась с Егором на деревенской улице совсем рядом. В этот вечер они, выпив по бутылке пива, пришли на окраину деревни опробовать бадминтонные ракетки и воланчик, найденные ею в чулане, – вероятно, купленные еще ее матерью и валявшиеся там с советских времен.
Ей, Сашеньке, очень нравилась затея с бадминтоном. В их тоскливую однообразную жизнь эта активная игра могла бы внести долю задора. И поэтому она вкладывала душу в удары, изображая из себя теннисистку, которую однажды видела по телевизору. Ей представлялось, что и у нее мог бы быть элегантный теннисный костюм с такой короткой юбочкой…
Егору, напротив, не нравилось и казалось несолидным это занятие. Он думал о том, как его сверстники будут обсуждать их с Сашкой спортивные развлечения и какую кликуху ему прилепят. От этого его удары выходили слабыми и неточными. Сашка же хотела раззадорить его. Била она сильно, бегала быстро, принимала удары, чуть пригнув колени, пружиня на ногах.
И чем больше он саботировал игру, тем упорнее она старалась игру продлить. Именно поэтому один из ее ударов оказался столь силен и столь неточен, что волан залетел на крышу того самого дома, в котором лежал с книгой в руках и любовался вечереющим небом Женя.
Волан упал куда-то на крышу. Егор, ее молодой человек, опустил ракетку.
– Все, – сказал он, – можно и закончить.
– Ну Егорк, – сказала Сашенька. – Ну можно же достать, ну, эй!
– Я на крышу к Чернышу не полезу.
– А что, мне лезть?
– Плюнь на этот волан, – ответил Егор, подумавши (он все же боялся показаться трусом), – все равно игра не получается.
– Хорошо. О’кей.
– А то, – сказала Сашенька, кладя ракетку в траву, – что тогда я полезу сама. Раз здесь мужика нет.
– На понт меня берешь? Ну-ну. Успехов.
Он отбросил ракетку туда же, в траву, повернулся и пошел. Конечно, он ждал, что она побежит за ним, будет уговаривать и в конце концов он согласится. Но вместо этого она посмотрела на дом Черныша. На крышу, где лежал белый волан, так хорошо видный на почерневшей от времени шиферной кровле.
Сам дом был окружен нескошенной тростой (так здесь называют высокую, в человеческий рост, траву), а Mersedes ML, на котором приехал Женя, виден не был. Он специально поставил его за домом, чтобы не вызывать толков в деревне. Разговоры все равно были, но еще не успели дойти до молодежи, которой, как правило, было дело только до себя и своих сверстников.
Это был обычный нежилой деревенский дом, обреченный на постепенное исчезновение. Пока еще не сильно, но уже коснулась его та печальная участь, которая касается всякого жилья, у которого нет хозяев. Вместе с людьми уходит, испаряется жизнь, постепенно легким облачком растворяясь на ветру…
Егор уходил все дальше, брел, глядя под ноги. Он все еще ждал, но с каждым шагом уверенность его улетучивалась.
Сашка же пробиралась через тросту к яблоне, росшей совсем рядом с домом. Для нее, деревенской девчонки, было не впервой лазать по деревьям.
Она ухватилась за нижнюю прочную ветку, подтянулась, перехватила руки и уже через пару минут ступила на крышу дома.
Покинутые дома живут гораздо меньше садовых деревьев. Часто на местах бывших деревень в чистом поле можно обнаружить яблоню, или сливу, или кусты смородины. Домов уж давно нет, а деревья еще растут…
Как только она поставила обе ноги на крышу и попыталась, уцепившись за край одной рукой, другой достать волан, крыша проломилась. Дыра, сквозь которую Женя лежа смотрел на небо, просто увеличилась раза в три, а рядом с ним на большой диван приземлилась Саша. Вид у нее был ошеломленный, рубашка порвана, ладони ободраны. Но испугаться она не успела. Женя видел, как в замедленной съемке, что рядом с ним на диван кто-то падает, отчаянно пытаясь зацепиться за прогнивший потолок. Он даже успел отбросить книгу, лежавшую рядом с ним, чтобы девушке мягче было падать.
Все это происходило в тишине. Только звук крошащегося шифера и треск прогнивших досок.
И вот она сидит на диване рядом с ним.
– Удивительные здесь места, – сказал он. – Девушки падают с неба. Вы живы? Больно вам?
– Жива, – сказала Сашенька, рассматривая расцарапанные ладони. – Как видите. Вы кто?
– Ответить на этот вопрос не так просто – особенно девушке, упавшей с неба.
– Что? В смысле? – Сашенька была еще в шоке, еще не сообразила, что странным образом ввалилась в чужой дом и чужую жизнь. – Я полезла за воланчиком, он упал на крышу. Я не знала, что вы тут.
Мужчина, спокойно лежащий рядом с ней на диване, улыбнулся.
– Вы всегда так заходите в дом или приготовили этот номер специально для меня? Что у вас с руками, ну-ка, покажите.
Он произнес это тоном, не допускающим возражений, и она послушно протянула руки. Он уселся рядом с ней и взял обе ее ладони в свои руки.
– Все исцарапано. Но ничего опасного для жизни. Подождите секундочку.
Он отпустил ее, а она так и осталась сидеть в той же позе, держа руки ладонями вверх.
Покопавшись на подоконнике среди кучи лекарств, он вернулся, держа в руке баллончик с каким-то спреем. Встряхнув баллончик, он несколько раз решительно пшикнул из него на царапины.
– Прохладно, – улыбнулась Сашенька, глядя на медленно оседающую белую пену. – И на руках – точно снег…
– Угу. Снег. Ну вот и все. В следующий раз, когда решите зайти ко мне в гости, можете использовать дверь.
Он мгновение помолчал.
– Дайте-ка мне ваши руки. Посмотрю: ничего не пропустил?
Она снова протянула ему руки ладонями вверх.
– Вроде бы ничего. Ладно.
Возникла неловкая пауза. Он держал ее за руки. Она не высвобождала их. И сказать вроде было нечего.
– Как вас зовут? – спросил он.
– У меня противное мужское имя, – ответила она. – Я Саша. А вас?
– У меня противное женское имя, – ответил он. – Я Женя.
– А у меня – нормальное мужское имя. Я Егор.
Он стоял на пороге и смотрел на них в упор. Она вдруг отдернула руки и даже спрятала их за спину, будто вовсе не царапины они замазывали с незнакомцем.
Егор усмехнулся и вышел из комнаты. Было слышно, как скрипнула входная дверь.
– Я пойду, мне пора.
Она быстро встала и пошла за Егором.
– До встречи, Саша. – Эти слова остановили ее у двери. Она будто на секунду задумалась о чем-то и обернулась.
– До встречи… – Она еще о чем-то подумала и добавила: – Женя…
После того как она ушла, он зачем-то встал и посмотрел в зеркало. Оно висело над рукомойником и было старым и облупленным.
Кто же смотрел на него оттуда?
Когда-то этот парень, что сейчас с тревогой взирал на свое отражение, был если не красив, то очень интересен. Светлые кудри крупными завитками падали на лоб. Широкое волевое русское лицо. Глаза не то чтобы умные, но с хитрецой.
То ли благодаря кудрям, то ли правильным, как с комсомольского плаката, чертам лица он привлекал женщин. Всегда они вились вокруг, чувствуя в нем практически идеал. Эдакую смесь простой мужицкой красоты с повадками успешного беспринципного карьериста.
И он пользовался своим положением безгранично. Внимание женщин было столь избыточно, что успело потерять всякую ценность в его глазах.
Сначала он еще находил интерес в разнообразии женских тел, характеров и эмоций, потом пытался расширить круг утех, а потом пресытился. И охладел. Уже и не хотелось ему засыпать с кем-то рядом…
Весь этот сексуальный конвейер прекратился сам собой вместе с пришедшим неожиданно недугом.
У него обнаружили редкую форму болезни Берже. Обнаружили достаточно поздно, поскольку врачей он не любил. И к тому же всегда чувствовал себя совершенно здоровым. А ходить по врачам считал пустой тратой времени. Однако когда время от времени возникавшие боли в пояснице, тошнота и головокружения стали появляться угрожающе часто, пойти к врачу все-таки пришлось…
– С вашими почками, молодой человек, вы долго не протянете! – сказал молодой, но уже известный в медицинских кругах врач. – Если не лечиться – максимум лет пять, если будете скрупулезно следовать назначениям, то десять. Возможно, и дольше. Помочь может только трансплантация. Но в вашем случае… – профессор замялся, подыскивая слова, – риск очень велик. Вы… слишком здоровый человек. Очень сильный иммунитет. Вероятность приживаемости есть, конечно, но… риск очень велик, – снова повторил он. И добавил: – Решать вам.
Вообще все чувства его притупились. Даже стойкая жажда приобретательства оставила его. К моменту его приезда в совхоз он уже не очень понимал, зачем ему нужно это все.
Он сосредоточился на себе. На своих мыслях, которых до этого почти не было, кроме самых простых, потребных для обеспечения его личных нужд и бесконечной череды дел.
И вот тут-то и оказалось, что чего-то главного, что вроде бы должно было составлять его сущность, у него и нет.
О семье было думать поздно. На заре комсомольской карьеры он женился на правильной девушке из своей среды. Ее отец, ответственный партийный работник, охотно помогал ему в продвижении по номенклатурной лестнице. Но с приходом новых времен тесть сдулся. Детей у них с женой не было. Общих интересов – тоже. Более того, со временем выяснилось, что супруга не может удовлетворить и его мужских аппетитов. По природе нестрастная, она вполне обходилась сексом раз в месяц. И то после долгих его уговоров. Она даже тяготилась его темпераментом, и то ли чтобы отвязаться от его посягательств, то ли просто из равнодушия делала вид, что не замечает, что он переспал со всеми ее подругами. Подруги продолжали оставаться подругами, а он продолжал оставаться вечно полуголодным и рыщущим…
Короче, как только внезапно исчезло последнее, что их объединяло – партийное положение ее отца, – брак изжил себя. Они с облегчением развелись.
На следующий день после неожиданного знакомства с Сашенькой он встретил ее бредущей по длинной, петляющей сквозь лес грунтовке, по которой он ехал на машине из райцентра. В руках у Сашеньки была корзина для грибов, на голове – косынка, а одета она была в мужской брезентовый костюм защитного цвета и розовые, не подходящие к одежде резиновые сапоги.
Женя притормозил около нее и открыл окно. Его, столь опытного в отношениях с женщинами, вдруг что-то испугало, и было мгновение, когда он колебался – затормозить или проехать. Это чувство тревоги хоть и было мимолетным, но пронзило его до самой глубины души. Будто ледяной холод прохватил и отпустил. Опять жаркое лето…
Нога его нажала на тормоз, а когда машина остановилась, то рука как бы сама, не повинуясь мозгу, нажала на кнопку, и стекло опустилось вниз.
– За грибами? – спросил он так, будто бы они расстались пять минут назад.
– Здравствуйте, – ответила Сашенька. – Нет. Корзинку забирала. Завтра пойду.
Он улыбнулся:
– Хорошо, наверное, в лесу.
– Да. – Она помолчала мгновение и добавила: – Только лосиные вши достают.
– Вши. Лосиные. Клещи. Нужно головной убор.
– А. – Он тоже замолк и посмотрел на нее. – Тебя подвезти?
– Нет! – Она даже отшатнулась. – Не надо, что вы…
– Ну нет так нет. Тогда я поехал.
– До свидания.
– Счастливо.
Он резко тронулся, но вдруг опять притормозил и остановился. Подождал, пока она поравняется с машиной.
– Привет, – сказал он и улыбнулся.
– Здравствуйте. – Она тоже улыбнулась в ответ.
– Я хотел попросить… – Он молчал, точно решался на что-то или, вернее, боролся с чем-то внутри себя.
– Что? – спросила она.
Ему вдруг показалось, что она намного сильнее его. И даже старше. Не внешне, нет. Ее взгляд, понимающий и спокойный, с какой-то даже мудростью всезнания. И с обреченностью даже. Этот взгляд поразил его… Казалось, прошлый ее испуг, когда он пригласил ее в машину, был наигранным, неправдивым.
– Что вы хотели попросить?
Он решился. Мгновение прошло, и лед в душе растаял.
– Возьми меня за грибами, – сказал он просто. Ничего другого не подразумевая. Попросил так, как просят мальчишки, с надеждой на приключение.
– Я никогда не ходил за грибами. Правда.
– Хорошо. – Она улыбнулась. – За грибами, что ж, можно… даже лучше в компании. Я обычно Максютку беру…
– Максютку?
– Это собака.
– Я лучше собаки.
– Интересно, чем?
– Я говорящий.
– Ой, знаете, – она затараторила так, будто только теперь начался настоящий разговор, – Максютка скулит, пищит постоянно, тявкает. Мне иногда кажется, что я его понимаю. А уж он меня – точно.
– Ну ладно. – Он кивнул и посмотрел вперед, на дорогу. – Тогда чего уж, я вряд ли все пойму…
Он даже сделал движение к ручке переключения передач. И Сашенька увидела это.
– Нет! – сказала она. И после молчания попросила: – Пошли за грибами…
– Я могу пищать, скулить и тявкать, как Максютка!
Она засмеялась:
– Можно просто поговорить, только…
И тут в первый раз за время беседы она посмотрела ему прямо в глаза.
– Встретимся здесь. А то в деревне… разговоры…
Всю дорогу до дома он ехал и пел.
Они оба собирались за грибами следующим утром. Ей пришлось побороться с собой, потому что все время тянуло надеть самое красивое платье и накраситься. Останавливала сама себя. Спорила с собой. В конце концов нашла компромисс. Подвела глаза аккуратно и у матери стащила красивую легкую косынку ярко-красного цвета. А в остальном оделась так, как и надо идти по грибы. Старую застиранную майку, мужскую защитного цвета куртку и такие же штаны с накладными карманами по бокам. А ее розовенькие резиновые сапожки были и так очень даже красивы. Оглядела себя и пришла в ужас. Красная косынка, костюм цвета хаки и розовые сапоги.
Но вдруг махнула на все рукой. В конце концов, другого ничего нет, да и чай не на танцы, а за грибами…
Он тоже подошел к сбору ответственно. Понимал, что поход за грибами в такой глуши – целое предприятие, ну и оделся соответственно. Даже для грибов взял рюкзак.
Когда он подъехал на то же место, она уже стояла около большой сосны и ждала. Он остановился, но она не села в машину сразу. Осталась стоять в нерешительности. Тогда он вылез и пошел к ней. Видимо, этот момент и разрушил все неловкости, возможные при такой встрече.
Увидев Женю, который старался сохранять солидность, Сашенька расхохоталась. И не кокетливо-делано, а по-настоящему. Она хохотала так, что ей пришлось схватиться за живот и согнуться.
Перед ней стоял Женя в костюме, который до этого она могла видеть только в кино. Мало того что на нем были высоченные подвернутые сапоги и прорезиненный плащ с капюшоном; мало того что под плащом был жилет со множеством карманов, в которых натыкана была всякая всячина, вплоть до маленькой отвертки даже; мало того что на его поясе висел огромный охотничий нож в ножнах, так еще и на голове у него…
На голове у Жени в довершение комической картины была широкополая шляпа с антикомариной сеткой. Сетка все время падала на лицо, и он поправлял ее, пока Саша хохотала.
– Что не так? – спросил наконец он.
– Ничего, все так… – Она опять прыснула. – Вы куда собрались? На Припять? Это противорадиационный костюм?
– Я за грибами. Говорят, у вас тут глушь, никогда не знаешь, что может понадобиться. Только вот сетка падает.
– Давайте поправлю.
Она подошла к нему. Чтобы ей было легче, он наклонил голову, а когда это не помогло, даже встал на колени. Она двумя руками взялась за сетку и ловко накинула ее на шляпу. Ее грудь при этом оказалась прямо напротив его лица. Закрепив сетку, Сашенька посмотрела на Женю и только тут перехватила его взгляд.
– Куда это вы смотрите? – спросила она, пытаясь сымитировать грозный голос матери.
– А куда мне смотреть? – быстро нашелся он. – Читаю надпись у тебя на футболке.
– Да там же по-английски. Ничего непонятно.
– Ну, мне понятно. И тебе должно быть. Раз носишь.
Он поднялся на ноги и подмигнул Сашеньке.
Сашенька заволновалась.
– И что, что там написано?
– «Meant for Love». «Создана для любви». Точный перевод.
– Ой… Я не знала. На рынке купила. Цвет красивый. И этот… фасон.
– А что здесь плохого? Ну, ты создана для любви. Это ж нормально. Для чего еще?
– Ну да, – вдруг согласилась она. – Ничего плохого. Пойдемте за грибами.
– Слушай, – он вдруг широко улыбнулся, – я переведу все надписи на твоих майках с рынка, но при одном условии…
– У меня только одна такая. С надписью. А какое условие?
– Условие простое. Ты переходишь со мной на «ты».
Она хотела придумать возражения, но не смогла.
– У меня нет больше таких маек. – Она улыбнулась, и в глазах ее вспыхнул на секунду и погас лукавый огонек. – Тебе нечего больше переводить.
– Вы посмотрите… – Она запнулась и потом продолжила: – Ты посмотри, как я буду собирать, а потом научишься. Ты когда-нибудь грибы собирал?
– В детстве один раз с отцом. Ездили за опятами. У нас был такой бежевый «Москвич»; так вот, мы целый багажник нарезали…
– То опята. Они осенью растут… Ничего, грибов много. У тебя получится…
– У меня получится, потому что я хорошо подготовился. Я все прочел на форуме грибников.
– Где прочел?
– В интернете. На форуме.
– Ладно. Главное, чтобы ты поганки от съедобных отличал.
Женино самолюбие оказалось задето.
– Знаешь, я думаю – наберу не меньше, чем ты.
– Ого! Ну попробуй.
И они стали соревноваться. Грибов и вправду в этот год было много. Он – идя по опушке и пробегая через полянки от перелеска к перелеску (как было написано в «советах» на форуме), она же – по знакомым местам.
Сашенька без особого труда выполняла эту знакомую работу: она знала, где растут белые, подберезовики, подосиновики… И еще ей показалось, что мужчина, который только что вызвал ее на состязание, сделал это не для того, чтобы победить. Она вдруг почувствовала другое – он хочет, чтобы выиграла она. Сашенька даже остановилась от этой мысли. Она тысячу раз ходила по грибы с подружками и парнями, но никогда этот поход так не волновал ее. Сейчас она шла вместе с ним… И это совсем незначительное событие вдруг стало казаться ей важным, огромным. Она оглядела лес вокруг. Жени рядом не было.
Он шел по опушке, собирая грибы по изобретенной им самим системе (он на все процессы придумывал систему): складывал грибы, собранные с полянки, в одну кучку на траве, а когда считал, что набралось достаточно, возвращался и грузил все в рюкзак, сверяясь поначалу с сохраненными в айфоне фотографиями съедобных грибов.
Сашенька же делала все, как всегда, но только лучше. Это самое «только лучше» было вызвано тем, что где-то рядом был он. Вот сейчас они встретятся, и он увидит, как аккуратно собраны у нее маленькие (больших она не брала) грибы. Белый к белому, подосиновик к подосиновику. И какие все грибы чистые. Ни одного червивого.
Ему хорошо было в лесу, и хорошо еще от сознания того, что где-то рядом ходит эта Саша. И от того, что он так восхитительно спокоен, как не был долгие годы. Ему нравилось это размеренное путешествие по лесу…
Что-то в самой глубине кольнуло и отпустило. Тревога на секунду охватила его и ушла.
Он опять стал ходить по лесу, и чувство счастья вернулось.
Именно в этот момент Сашенька начала беспокоиться. Где этот московский гость? И не отпустила ли она его слишком далеко?
– Ау! – Она крикнула так, как они обычно перекрикивались с подружками.
– Ау! – прозвучало вдалеке.
Он остановился и огляделся. Рюкзак был за плечами, а сам он стоял рядом с болотом. Хорошо, что вовремя остановился.
Он поднял голову вверх, пытаясь понять, откуда слышится крик. Сквозь ветки деревьев было видно солнце. Он улыбнулся и уже набрал воздуха в легкие, чтобы крикнуть в ответ, как вдруг солнце начало расти и надвигаться на Женю. Вместо того чтобы отвернуться или хотя бы прикрыть глаза ладонью, он машинально снял рюкзак и начал на ощупь рыться в его кармашке в поисках таблеток.
– Ау! – Крик раздался откуда-то с все увеличивающегося в размерах солнца. Это был приятный, родной голос.
Женя выронил пузырек с таблетками, и он укатился в траву.
Земля закачалась, как палуба корабля в шторм. Все качнулось – и лес, и небо, и даже громадное солнце…
Женя упал сначала на колени, а потом, еще через мгновение, всем телом – лицом в траву.
Он не отвечал на крики. А ведь с ним могло произойти все что угодно. В ее воображении всплыли кабаны, которые семьями ходили по лесу и были крайне опасны, медведи, которых она не раз сама встречала, собирая с подругами малину, – и они были еще опаснее. Болота…
При мысли о болоте она сорвалась с места и побежала. Она знала, где ближайшая топкая трясина, и бежала прямо к ней. Бежала не разбирая дороги. Ее майка с иностранной надписью порвалась на плече, грибы рассыпались, косынка потерялась, но она даже не заметила этого.
Уже через пять минут этого отчаянного бега она была там, где нужно. Как по компасу и карте, она точно пришла туда, где лежал Женя.
– Эй, вставай… вставайте, нашли время спать.
Она потрясла его за плечо, но он не двигался.
– Эй, что с вами?!
Она с трудом повернула его на спину, упираясь ногами в землю и толкая двумя руками.
– Что с вами?! Что?!
Она трясла его за плечи все сильнее.
– Очнитесь! Эй, ну!!! Что с вами?!
Он открыл глаза. Посмотрел на ее заплаканное лицо. И прошептал:
– Мы договаривались на «ты».
– Что с тобой?
– Я тебя люблю, – произнес он так, что понятно было – он не шутит и говорит серьезно, серьезней даже, чем всегда.
Но она все же переспросила:
– Ты меня спасла. Я люблю тебя. – Он улыбнулся и протянул руки для объятий.
Сашенька мгновение смотрела на него и решалась – нет, не решалась, а просто замерла, но уже через секунду она обнимала его, уткнувшись губами ему в шею.
А еще через мгновение их было не двое – они стали одним целым, чего не происходило никогда в их прошлой жизни.
Все, что было до того дня, все стерлось, стало тенью, незначимой и едва различимой. Осталось только это существо, состоящее из двух людей, счастье которых было огромно и светло.
Подумать только, сколько людей никогда не ощущали подобного! Они встречаются, влюбляются, ухаживают, спят друг с другом, женятся даже, но этого всепоглощающего чувства единения не испытывают, как не испытывают и страха потерять.
– Я собрал больше грибов, чем ты, – сказал Женя, улыбаясь и прижимая Сашеньку к себе еще крепче.
– Да, но ты не проверял. Они все червивые, – ответила Сашенька. И заплакала. Непонятно отчего, но заплакала. – Они все червивые.
Днем, когда Сашенька ушла домой заниматься хозяйством, Женя остался один в доме Черныша. По своей всегдашней привычке он решил осмыслить то новое, что с ним произошло, и вдруг понял: аналогов тому, что он чувствует к этой деревенской девчонке, нет.
Что делать со всем этим, он не знал. И все оттягивал разговор о главном – о том, что мучило его, и о том, о чем все-таки необходимо было поговорить.
Его болезнь, с которой он ранее совершенно смирился и бороться не собирался, теперь опять вышла на первый план и стала основной проблемой.
Когда жить не для чего, можно загнать мысль о смерти глубоко – в конце концов, мы все умрем. Можно махнуть рукой.
Один врач говорил мне в ответ на мои жалобы о боли: «А ты на нее плюнь. Ну болит и болит». Вот так же и Женя плюнул на свою скорую смерть. Ну смерть и смерть.
И вдруг эта девушка. Он явно никогда ничего подобного не испытывал.
Он ощущал любовь почти физически. Она распространялась от центра груди к губам. Нежность, перемешанная с восторгом и болью, тягучей волной перемещалась от губ к груди и обратно. Его взгляд сам собой, без влияния мысли, теплел, когда он смотрел на нее. Любовь была запечатлена на его лице так, что нельзя было ее не заметить. Любому, кто видел Женю в Сашином присутствии, было ясно – он не просто влюблен, а именно любит эту девочку.
Любовь вновь поставила перед ним проблему борьбы за жизнь. Теперь он готов был рискнуть.
Его привычка, ставшая уже натурой, требовала сначала все сделать, а потом уже сказать.
Он решился.
Операция, о которой говорили врачи и от которой он уклонялся, стала его главной надеждой и перспективой.
Всего полтора-два месяца, и он либо жив и относительно здоров, либо…
Либо она забудет его со временем…
Нерешенным оставался один вопрос – как объяснить Сашеньке свой отъезд. Сказать ли все как есть? Нет! Он не мог этого себе позволить. Пусть не будет она вдовой, если операция кончится плохо. Пусть забудет. Пусть выйдет замуж вон хоть за этого Егора, что ходит по деревне и смотрит на него, Женю, волчьим взглядом.
В дверь постучали, и сразу же за стуком вошел Егор.
– Я вот к вам, – сказал он и остановился в дверях.
– Проходи, – ответил Женя. – Садись.
Егор помялся, но вошел и сел на указанный стул. Женя, ничего не говоря, поставил перед ним чашку и, налив кипятка, бросил в него пакетик «Липтона». Потом сделал чай себе. Сел напротив Егора. Помешал в чашке единственной ложкой. Вынул, встряхнул ее и положил рядом с чашкой Егора.
– Сахар сам клади.
– Я без, – ответил Егор и отхлебнул чаю. – Курить у вас можно?
Женя кивнул, встал и сходил за пепельницей, сделанной в форме лебедя из консервной банки.
Егор улыбнулся.
– Еще Черныш делал.
Женя не ответил. Смотрел, как Егор курит. Ждал, что скажет этот гость. Смотрел на него не как на соперника, а скорее как на того, кто, может быть, когда-то будет на его месте. Вот он сидит, молодой, здоровый, счастливый. О, у него куда больше прав и возможностей. Он здоров и всего чуть-чуть постарше Сашеньки. Явно пришел разбираться. Или, как у них принято выражаться, разборки чинить. Что ж, это только хорошо говорит о нем. Пришел прямо, с открытым забралом.
– Ну так чего пришел, Егор? Какие дела-проблемы?
– У меня нет, а у вас? – Егор все не знал, как начать. Ему непонятен был этот человек. Он знал только одно. – Вы теперь с Сашкой гуляете?
Женя вдруг понял, что разговор может получиться тяжелый. Что этот деревенский бычок-малолеток пришел покачать права за свою женщину, которая его не была никогда. Качать права с бывшим комсомольцем, сделавшим карьеру одними разговорами. Это смешно.
– Ты ее любишь? – спросил Женя, пододвигая стул ближе к Егору. – Скажи прямо, как есть. Любишь?
– Ну люблю. – Егор несколько оторопел от такого напора.
– Ну тогда чего ты ко мне-то пришел, а не к ней?
Егор посмотрел на свои руки, покрутил в руках сигарету.
– Если считаешь, что она твоя, так забирай, если сможешь. Но только вот что я тебе скажу, дорогой Егор. Ты не сможешь. И пришел ты ко мне, потому что уже был у нее. Не отвечает? И «ВКонтакте», где вы жопы просиживаете, тоже не отвечает?
Егор молчал.
– В точку попал. Именно. Ты, наверное, хороший парень, Егор, но тебе не повезло. Ты женишься на другой. Чего ты вскидываешься? Я тебе говорю как есть, я много в жизни видел.
Егор молчал. Не такого разговора он ждал.
– Но я дам тебе шанс. Потому что мне нравится, что ты пришел ко мне. Как рыцарь. Биться на дуэли. Смотри: я уеду. Уеду скоро. И вернусь только через два месяца. Решит Саша с тобой быть – пусть. Нет – извини. И это… вполне возможно, я вообще не вернусь. Тогда хочу, чтобы ты понял. Это самая лучшая девушка на свете. Кто бы что про нее ни говорил, какой бы она ни была сейчас или в будущем, – она самая лучшая в мире.
– Вы ее совсем не знаете. – Егор был удивлен, а его намерения разобраться с московским гостем куда-то исчезли. – Вы же знакомы-то… без году неделя.
– А ты с детства с ней знаком и ничего о ней не знаешь. Даже когда вы разговаривали про любовь, про жизнь, про будущее… подумай, что ты знал о ней?
Егор задумался.
– А вы что знаете?
– Все, – сказал Женя и встал. – Но у тебя есть шанс. Как я и сказал.
Егор тоже встал. Он не знал, что сказать, и просто направился к выходу.
У дверей остановился.
– Вы ее так любите?
Женя посмотрел на него и улыбнулся.
– Ага. Первая любовь. Знаешь такое понятие? Первая – она навсегда.
Егор понял все одним из последних в деревне. Как и муж узнает об измене жены после всех даже дальних знакомых. Возможно, это происходит потому, что все мы видим лишь то, что хотим видеть.
Но для людей, особенно в деревне, где жизнь не столь насыщена событиями, даже маленькие детали и черточки чужого существования – уже повод для разговоров, версий и сплетен, сплетен, сплетен… Тут и скрытность-то обычно не помогает, а уж утаить то чувство, которое возникло между городским предпринимателем и деревенской девчонкой, было практически невозможно.
И в большей степени, как это ни странно, бдительность утратил именно Женя. Весь его предыдущий жизненный опыт ничего не значил, не помогал. Это было своего рода сумасшествие, сосредоточенность на одном человеке и бесконечное желание видеть его, разговаривать или просто молчать, но быть рядом.
В деревне, естественно, заметили, что, проезжая мимо ее дома, он останавливается и смотрит на окна.
Что все разговоры он, сам того не осознавая, сводит к обсуждению Сашкиной жизни, пытаясь выведать какие-то подробности, детали прошлого, или просто восхищается в ней тем, что для других казалось простым и обыденным. И вероятно, все они были не правы. Любовь открыла для Жени глаза на Сашеньку. Он увидел ее такой, какой она и была, такой, какой создал ее Бог, – красивой, женственной, милой…
Так все люди должны видеть друг друга, но по исковерканной природе своей мы злы, и первое, что бросается нам в глаза, – чужие недостатки, и то, что любящему человеку кажется красивым, другим может показаться уродством.
Примерно так все в деревне и трактовали то, что им удалось увидеть. Сашка для них была удачливой аферисткой, захомутавшей городского богача. И то, что именно ей это удалось, вызывало злобу и зависть. Почему именно она? Ведь есть множество куда более достойных кандидатур. То, что Сашенька имеет коварный замысел и крутит одновременно с Егором (на всякий случай) и с Женей – ради корысти, было для них очевидно. А этот москвич? Почти уже старик по отношению к Сашенькиному нежному возрасту, он был просто подлецом, который, конечно же, воспользуется юностью и неопытностью деревенской дурочки и сбежит. Или глупцом, который влюбился по уши, и им крутит эта соплячка. То, что обе эти версии исключают друг друга, никого не волновало. В злобе и зависти люди не утруждали себя даже элементарными логическими построениями.
В сельпо, которое по совместительству являлось деревенским «женским клубом», Сашкиной маме в подробностях описали похождения ее распутной дочери. Описали сочувственно, но смакуя подробности, большей частью выдуманные.
Пережив такой позор, мама вернулась домой и застала Сашку сидящей у трюмо на стуле. Сашка пристально смотрела на свое отражение. Только после встречи с Женей она начала осознавать себя как женщину, которую можно любить. Это было скорее чувство, чем мысли. Из зеркала же на нее смотрела все та же буратина с длинным носиком. Нет, ничего в ней не было волшебного и загадочного. И не похожа она вовсе на идеальных девушек, которых им с матерью каждодневно демонстрировал телевизор. И все-таки, что-то же видел в ней этот москвич. Не в ком-то, а в ней. Она улыбнулась краем губ, и неожиданно ее лицо озарилось тем светом, который Женя видел всегда. С первой их встречи. Именно вот эта Сашкина улыбочка больше всего и не понравилась матери. Это была улыбка счастливой женщины.
– Прихорашиваешься?
Ничего в этом вопросе не было, кроме ненависти. Даже иронии. Сашка обернулась так резко, будто ее застукали за чем-то совершенно неприличным. И улыбка мгновенно исчезла с ее лица.
– Ты паскудством занимаешься, а мне по деревне не пройти.
Сашка не знала, что ответить. Она прекрасно поняла, о чем говорит мать. И следовало ожидать подобного, но она не ожидала.
– До чего дошло! Дочь – шлюха! Уже юбку задрала? Отвечай! Задрала юбку?!
Сашка поднялась и встала в полный рост. Ее лицо вдруг словно льдом покрылось, и изнутри она будто промерзла – ни одной теплой клеточки не осталось. Лед, сплошной лед.
– Отвечай, я тебя спрашиваю!
И Сашка откуда-то из глубины льда спокойно ответила:
– Задрала.
– Шлюха ведь! Я тебя! Только попробуй! Попробуй еще раз! Я тебя!
Мать сделала шаг к Сашке.
– Ведь принесешь еще в подоле! Шлюха!
– Не принесу. Мы об этом позаботились.
– Что? Что? Что?! – Нервы у матери совсем сдали. – Я тебя!
Она развернулась и ударила Сашку по лицу. И это была не пощечина. Сашкина мама всю жизнь трудилась в том самом совхозе, который приобрел Женя. Работала дояркой, скотницей. Она жила тяжелым физическим трудом, оттого и удар вышел настоящим. Сашка упала на трюмо. Посыпались пузырьки с дешевым парфюмом, разлетелась косметика. Мать ждала, когда Сашка поднимется, но она не поднималась.
– Вставай давай, нечего реветь, коли виновата! – Мать не видела ее лица. Сашка не ревела. Ни единой слезинки не проронила. – Чего ты там?
Мать испугалась, что уж слишком сильно ударила. Нагнулась, потянула за плечо и отпрянула. На скуле у Сашки расплылась огромная гематома, с красной царапиной от кольца через всю щеку. Но не это пугало. Взгляд Сашки, все выражение ее лица как было, так и осталось неизменным – ледяным.
– Ненавижу, – сказала Сашка. И потом, еще тише и страшнее: – Ненавижу.
И разом силы покинули Сашкину мать. Она вдруг начала плакать.
– Сашенька! Доченька! Сашуля! – Мать опустилась на колени рядом с Сашкой. – За что ж ты меня так? Господи! Сашенька!
Сашка молчала.
– Миленькая, доченька. Милая. Ну, пообещай мне. Пообещай.
– Что не будешь ты с этим гулять! Пообещай.
Сашка вдруг улыбнулась.
Эта улыбка и спокойствие, с которым Сашка согласилась на ее мольбы, заставили ее совсем растеряться.
– Поклянись, доченька.
– Клянусь.
Мать обняла Сашку. Положила голову ей на плечо. Поэтому и не увидела той бесконечной холодной ненависти, которая была у Сашки в глазах. Равнодушной ледяной ненависти.
До поры Женя ничего не знал о конфликте Сашеньки с мамой. В ожидании новой встречи он колесил по проселочным дорогам, заезжал в маленькие деревеньки, останавливался на красивых опушках и у тихих, заросших тростой речек.
Запустение царило здесь, места имели название, но населенных пунктов не было. Деревни, которые стояли здесь когда-то, исчезли, все зарастало бурьяном. И только то здесь, то там видны были остатки разрушенных церквей. Около такого вот храма, от которого остался один каменный остов и сквозь разрушенный купол было видно небо, остановился Женя.
Закурив, вылез из машины и сфотографировал развалины на айфон. Посмотрел на фотографию. Нет, она не передавала того, что видел он сам. Не было в этой фотке того печального величия, которое ощущалось в разоренном, но не до конца уничтоженном храме. Храм, точно раненый боец на опустевшем поле боя, все стоит, не падает, хоть и проиграна битва.
Женя втоптал сигарету в грунтовку и, секунду еще помедлив, направился к храму.
Здесь было много колотого кирпича, поросшего травой, стены с осыпавшейся штукатуркой и небо вместо купола.
Он никогда не был религиозным, да и не мог быть. Для его образа жизни идея существования Бога была просто не нужна. Всех целей, которые он перед собой ставил, он достигал сам, и даже болезнь свою, хоть и не считал справедливой расплатой, но легко объяснил плохой экологией, частыми стрессами и тем же куревом…
Все в его жизни было правильно и логично. Все было ровно и верно – до встречи с Сашенькой. Была в этой встрече, в этой любви какая-то мистика, которую он ощущал с первого мгновения, когда Сашенька упала к нему с неба. Уже который день он придумывал систему для объяснения происходящего с ними теперь – и не мог найти ответа.
Вот и сейчас – зачем он забрел сюда? А ведь шел, упорно пробираясь через заросли осинника – зачем?
Когда-то вся жизнь здешних людей была связана с этим храмом. Здесь крестили, отпевали, венчали. Венчание. Он глубоко задумался. Вынул айфон и набрал это слово. И вот в поисковике прямо в первой же ссылке нашел ответ. Звучал он так:
«Поэтому оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут двое плотью единой».
Единой плотью. Вот что он ощущал! Вот что было причиной того, что не бежал он, как обычно делал, от этой девушки. Вот что он ощутил тогда в лесу и понял сейчас. И сам даже опешил, поняв – не было больше его, Жени, без Сашеньки. И ее, Сашеньки, без него – не было.
Он не заметил, как провел полчаса, читая все подряд о настоящей любви, о том, как должно быть и никогда не было у него.
В деревню Женя возвращался уже с готовым планом не только на весь срок пребывания в деревне, но и на всю оставшуюся жизнь.
Было жарко. Они лежали на большом покрывале у ручья, бегущего сквозь лес и впадающего в речку где-то около деревни. Теплый ветерок шумел ветками ивы, склонившейся к воде. Ветра хватало на то, чтобы сдуть комаров, но от жары он не избавлял.
– И все-таки признавайся, – спросил Женя теперь уже спокойно, – кто тебя так избил?
– Я же говорю, на ветку наткнулась.
– Слушай, – Женя приподнялся на локтях и посмотрел на Сашеньку, – не держи меня за дурака. Я что, не знаю, что каждая ветка для тебя здесь родная? Мы вон каждый день по лесам лазим, и ты ни разу не споткнулась даже. А здесь – синяк в пол-лица…
Сашенька посмотрела в небо, потом улыбнулась и взглянула на Женю.
– Иногда, – сказала она, – и самые родные колотят так, что синяки в пол-лица.
Женя кивнул. Все сложилось у него в голове.
– Знаешь. – Он вынул сигарету и прикурил. Всегда так делал перед важной беседой. – Я хочу тебе предложить…
Он замолчал. Задумался, медленно выпуская дым изо рта. Сашенька вся подалась вперед и заглянула ему в глаза:
– Что предложить, что?
– Вот скажи, – Женя говорил так медленно, будто специально затягивая момент, когда нужно будет произнести главные слова, – если бы меня посадили в тюрьму, ты бы меня ждала?
– Конечно! – Сашенька очень удивилась и испугалась.
– Год бы ждала?
– Всего год?! Да вон девчонки из армии парней ждут по полтора! Счастливые. Но год в тюрьме – долго. Тебя посадят? Скажи, тебя посадят? За что? Что ты сделал, признавайся?!
– В смысле – посадят?
– Ну ты сказал: в тюрьму!
Женя усмехнулся.
– Это я для примера. В армию просто уже поздно. Мне важно было знать, сможешь, а вернее, захочешь ли ты меня дождаться.
– Смогла бы, конечно. Но ведь тебя не сажают. Нет?
– А что, скажи? – И стала клянчить, как маленькая девочка: – Ну скажи, скажи, скажи…
– Не скажу.
– Ты женат? Будешь разводиться? Я не хочу ничего рушить.
– Я не женат. Нечего рушить.
– Тогда что?
И тут Женя, как умел, твердо ответил:
– Я не скажу. Точка.
Почему он не рассказал про операцию? И сейчас я до конца не понимаю, могу лишь предполагать. Но что-то мне подсказывает, что он признался бы в чем угодно, кроме болезни. Он хотел выглядеть всегда здоровым и молодым. Он годами скрывал ото всех – от коллег, от родственников – свой недуг. Никто не должен был знать о его слабости. Тем более она – Сашенька.
– Ладно. – Сашка отвернулась. – Ясно.
Хотя ей ничего не было ясно, и она ждала, что он скажет дальше.
– Так что? Смогла бы меня дождаться?
– Конечно, смогла бы. Я ж ответила. – И потом, после паузы: – Целый год…
– Или меньше. Может быть, чуть меньше. Может быть, сильно меньше.
Он не сказал про еще один вариант, который тоже мог случиться, но сейчас Женя совершенно не верил, что такое возможно. Сейчас, когда его жизнь наполнилась и обрела смысл, не могло случиться такого варианта. И уж если честно, на всякий случай он продумал и это…
– Я приеду ближе к весне, – сказал он. – Скорее всего, так. Я приеду и…
Он замолчал.
– Что? – Сашка все еще лежала спиной, не поворачивалась, но вся напряглась, вся обратилась в слух.
– Я приеду и женюсь на тебе. Если ты согласишься. Но не просто женюсь. Мы будем венчаться в храме. Я все прочел в сети, как там надо… Ты согласна?
Она молчала. Он не видел ее лица.
И тут она заговорила.
– Ты понимаешь, что будет, если ты не приедешь? Если ты не приедешь? Я так счастлива, но если ты не приедешь, тогда что будет?
– Почему я не приеду?
– Я так хочу венчаться! А как это – венчаться? У нас никто не венчался, все в загсах расписываются. Там красиво – в храме? Со свидетелями? А вдруг ты не приедешь?
– Почему я не приеду?
– Найдешь другую. Все хотят венчаться с тобой.
Женя захохотал.
– Ну, до сегодняшнего дня со мной венчаться никто не хотел.
– А я хочу!
Женя улыбнулся.
– Только это сложно, оказывается. Надо исповедоваться.
– Это как?
– Рассказать священнику про свои грехи.
Сашенька испугалась.
– Прям все рассказать?!
– Ну без подробностей. Посмотри в интернете. Поверь, мне придется рассказывать куда больше.
– Ты тоже еще никогда не?..
– Никогда не.
– И ты тоже пойдешь? Для меня?
– Не «для», но из-за тебя – точно.
– Я не поняла. Но я точно пойду. А священник – он никому не расскажет?
– Про что?
– Ну про мои грехи. А то пойдут толки.
– Никому. Они клятву давали.
– Даже если убийство? – Сашеньке стало любопытно.
– А ты кого убила?
– Нет, – ответил наконец Женя. – Даже если убила, не расскажет. Это называется тайна исповеди.
– А-а-а-а, ну тогда ладно. Знаешь что? – Сашенька придвинулась к нему. – Я самая счастливая. Я никогда такой не была. Так что кажется, что это шутка. И непонятно, почему мне.
– Потому что тебе свалилось это счастье – в виде меня. – Женя крепко обнял ее. А она обняла его.
– Это я свалилась, помнишь?
Они лежали обнявшись на берегу ручья. Солнце было в самом зените.
– Жарко, – сказала Сашенька. – А отпускать не хочется.
– А я тебе покажу один фокус, и станет прохладно, – ответил Женя. – А то мне тоже не хочется отпускать.
– Какой фокус?
– А такой, почти научный. Все у нас в голове, и стоит только себя настроить – станет прохладнее или теплей, на выбор. Вот сейчас тебе жарко?
– Есть один детский стишок. Его сочинил мой друг, Вадим Седов, мы с ним еще в юности на футбол вместе ходили. Он хороший поэт. А вот этот его стих – вообще волшебный. Повторяй за мной, и станет прохладней, гораздо прохладней. Веришь мне?
– Конечно!
– Тогда повторяй…
И он прочел детское стихотворение, останавливаясь после каждого четверостишья.
Сашка повторяла за ним.
Ветер подул сильнее, и, казалось, действительно стало прохладно. Или это действовали волшебные стихи, или окончательно наступил вечер. Ночь.
И не было у Жени с Сашенькой никаких видимых врагов. Даже Егор таковым не являлся. В открытую никто, кроме, может быть, Сашкиной мамы, не осуждал их. Но враждебность чувствовалась даже в самом деревенском воздухе – эта самая труднопереносимая духота, духота незримая, призрачная; когда с тобой здороваются, но отводят глаза, когда ты спиной чувствуешь завистливые злобные взгляды, инстинктивную, почти звериную злобу и всепоглощающее осуждение.
Словно мушиный рой, зажужжали разговоры с неразличимыми словами, и атмосфера стала сгущаться вокруг них.
Жене, чужаку, легче было переносить все это, но Сашеньке, выросшей здесь и привыкшей существовать по правилам этого вполне феодального общества, приходилось нелегко.
Те, кто осуждал, жили гораздо более грязной жизнью, но в пределах своего мирка, не чувствуя ничего особого, кроме желания удовлетворить похоть. Жены распутничали, мужчины изменяли, все без исключения грешили в меру необходимости, а таковая возникала в их тоскливой жизни постоянно. Грехи эти не приносили счастья, потому что грехи вообще не имеют свойства приносить счастье, но действовали как анестезия против бесконечной тоски, разлитой по этому краю полей, лесов и болот.
Однако стоило кому-то выйти за очерченный заранее круг обыденной жизни – и тут же все окружающее общество начинало отторгать чуждый элемент. Любовь между столь несхожими людьми вызвала реакцию отторжения. И объяснить, почему именно этим двум негоже быть вместе, никто не мог, а принять – уж тем более.
Но сделать общество с ними ничего не могло. Даже попытки вывести Егора из себя не привели к успеху. Перед дискотекой в клубе дружки открыли ему глаза на происходящее в сто первый раз.
– Ну и что, – ответил Егор. – Пусть. Мне все равно. Мне плевать на них.
И отвернулся. Ему не было все равно – гордость его была уязвлена, и в этот же вечер он дико напился и переспал с одной из подруг, которая давно его добивалась.
А Сашенька пришла на дискотеку по привычке, потому что годами это было главное событие молодежной жизни, которое ни за что нельзя пропустить.
Но на дискотеке ей сразу дали понять, что теперь она чужая. Подружки здоровались небрежно и отворачивались, показывая, что у них другие дела и разговоры сейчас. Парни, которые обычно грубо подшучивали и липли, теперь просто смотрели, точно боялись что-то сказать прямо, но взглядом хотели показать, что Сашенька не к месту здесь. И когда все пошли в круг танцевать, то Сашенька помедлила, чтобы проверить свои ощущения, и они ее не обманули. Никто не позвал Сашеньку топтаться в кругу. Она сидела одна до конца песни. А в перерыве, когда народ потянулся курить на воздух, она тихонько ушла, окруженная облаком презрения и равнодушия.
Она решила пораньше прийти к месту встречи с Женей – туда, где они встречались в первый раз, когда пошли за грибами. До назначенного времени оставалось чуть более часа. Но «Мерседес» Жени уже стоял под деревом. Заднее стекло у машины было разбито.
– Решил тебя здесь дождаться. Не утерпел. – Женя улыбнулся. – Да и ты что-то быстрее договоренного пришла.
– Скучно. Со мной никто не водится. А кто тебе стекло разбил?
– На ветку наткнулся.
– А… понятно. – Сашенька помолчала, соображая. – Только вот кто и зачем, что им от нас нужно?
– Я не знаю. – Женя задумался ненадолго, но тряхнул головой, словно отгоняя мысли. – Камень прилетел из пустоты. Теперь не доищешься.
– Его мог бросить кто угодно. Любой. За редким исключением. Это-то и бесит. Что любой.
– Не бесись. Они для этого и кидали. Чтобы тебе и мне плохо было.
Женя скрыл от Сашеньки, что вместе с камнем прилетела к нему в машину и записка. Крупными буквами было написано:
«ХОТИТЕ ТРАХАТЬСЯ
ТРАХАЙТЕСЬ НЕЗАМЕТНО».
Записка была отпечатана на принтере: вероятно, автор трусил и в лицо никогда бы не произнес Жене того, что написал.
– Они же все такие же, вот Верка… – Сашенька как-то отчаянно искала, за что зацепиться в односельчанах, и находила. – Накурилась анаши и изменила своему парню с тем, другим, который угощал! И никто ничего не сказал. А Машка…
– Остановись, – вдруг сказал Женя. – Иначе ты мне расскажешь всю жизнь своих подруг.
– Но чем мы хуже?
– Ничем. – Женя задумался. – Просто мы счастливы. А люди этого не любят. Они прикрывают свою ненависть к чужому счастью правильными словами, моралью, добрыми намерениями, справедливостью, да чем угодно… Лишь одного они не могут простить. Что кто-то рядом с ними счастливее, чем они.
– А мы счастливы? – спросила Сашка и сама ответила: – Да.
То, что придумал Женя, было странно даже для него самого. Они не могли поехать в райцентр и официально подать заявление в ЗАГС, потому что начались бы разговоры. И во время Жениного отъезда Сашеньку обязательно бы начали травить еще больше, чем в его присутствии. А взять девушку с собой он не мог. Что делать было ей в Москве без него и особенно в случае, если операция пройдет неудачно? Хотя даже если и удачно. Он отказался от затеи перевезти Сашеньку в Москву еще и потому, что, как ему казалось, эти месяцы нужны были, чтобы она могла проверить свои чувства. Он часто повторял этот аргумент в рассуждениях с самим собой. Но каждый раз что-то неубедительное было в нем. Однако выходить замуж за больного старика (так он себя называл) было делом почти безрассудным, и ей нужно было дать время подумать.
Всюду, с какого конца Женя ни брался размышлять, он попадал в тупик: отчасти – из-за болезни, отчасти – из-за странной ситуации, в которой развивалась их любовь, отчасти – из-за собственных же принципов, правил и надуманных систем.
И внезапно эта странная идея точно упала откуда-то сверху, как когда-то свалилась на него через дырку в крыше сама Сашенька.
Он копался в интернете безо всякой надежды найти хоть что-нибудь подходящее для себя, как вдруг…
Последняя недостающая деталь плана нашлась и плотно встала в цепочке всего того, что предстояло совершить им с Сашенькой вместе на пути к счастью.
– Куда мы едем? – улыбаясь, спросила Сашенька. Покуда она была с ним, а он с ней, проблемы точно отступали, делались ничтожными и в два счета разрешимыми.
– В одно красивое место. – Он на мгновение оторвался от дороги и, посмотрев на Сашеньку, тоже хитро улыбнулся.
– Я знаю все красивые места здесь. А зачем мне было брать с собой майку с дурацкой английской надписью?
– «Создана для любви», – вовсе не дурацкая надпись. Я все скажу тебе, когда приедем.
– А когда мы приедем, ну когда?
– Скоро. Пока слушай…
Он нагнулся, пошарил рукой в бардачке, вынул целлофановый пакет и положил его на колени Сашеньке.
– Достань, – попросил Женя.
Сашенька развернула пакет и вытащила оттуда цветной галстук-селедку.
– Это галстучек? – спросила она. – Твой? Какой милый! А почему ты его взял с собой?
– Еще до той, давней своей свадьбы я влюбился в девчонку. Это случилось давно, сразу после школы; я был неуверенным в себе подростком, а мой объект любви – ну, та девушка была главной школьной красавицей. Я совершенно не знал, как к ней подступиться, чем заслужить ее внимание. Я ужасно комплексовал по поводу своей внешности, она казалась мне нелепой, даже уродливой. Эти трудности, вероятно, испытывают все парни в переходном возрасте. И вот я нашел для себя спасение. Такие галстуки как раз вошли в моду. Достать их было трудно, они ценились, их обладателям завидовали.
А тут как раз должна была случиться дискотека в школе, на которую мы с той девушкой ходили еще в прошлом году. И я знал, что она туда придет. Так вот, я решил быть на этой самой дискотеке в таком галстуке. Где-то за месяц до события я прекратил есть. Все деньги, которые раньше тратились на обеды, я откладывал. А перед самой дискотекой еще и занял у друга довольно приличную по тем временам сумму. И купил у фарцовщика по кличке Шпингалет этот галстук.
Пришел домой, надел белую рубашку, черные брюки и вот этот галстук. Посмотрелся в зеркало и так себе понравился, что пошел на ту решающую для меня дискотеку спокойным и уверенным в себе. И все, кто меня встречал в школьном дворе, в коридорах и на лестнице, – все говорили, что я выгляжу супер. Никто не хвалил мой галстук. Все хвалили меня, вероятно, потому, что я был уверен в себе и нравился сам себе. И я стал чувствовать себя совершенно по-иному, чем раньше. Я улыбался, шутил, стал центром внимания… Можно сказать, победил свои комплексы. И тому причиной был вот этот самый галстук.
– И ты, конечно, стал гулять с той своей девушкой. – Сашенька то ли сделала вид, то ли вправду заревновала.
– Это было очень давно. И нет – та девушка в этот вечер ушла с другим. Но я и не заметил. Вернее, заметил, но мне почему-то было все равно. Я получил гораздо больше. Я стал увереннее в себе. И да, после того случая у меня было несколько женщин, признаюсь тебе. И все благодаря этому галстуку.
– С тех пор?
– Получается, так. – Он притормозил, и они вылезли из машины. – Возьми майку с собой, а я галстук.
– Ты, получается, сохранил его.
Женя обошел «Мерседес» и вынул из багажника спортивную сумку.
– А там что? – Сашенька понимала, что происходит сейчас нечто торжественное, но при этом совершенно непонятное.
– Увидишь, пошли.
И Женя повел ее за собой сквозь тросту к полуразрушенной церкви.
– Ты что-нибудь знаешь о Петре и Февронии? – спросил Женя.
– Нет, а кто это? Феврония – смешное имя. – Сашенька шла за ним, рукой отводя тросту, то и дело лезшую в лицо.
– Да. Это были такие муж и жена. Он был князем. Богатым и сильным, но полюбил простую девушку.
– О! – Она засмеялась. – Это прям как у нас. Ты – богатый князь, полюбил простую девушку. Я – простая девушка.
– Он был болен, но она его вылечила. Они поженились, несмотря на то что весь свет был против. И они молились, чтобы умереть в один день. И всегда были вместе и любили друг друга. Всегда.
Подул ветер. Где-то далеко едва слышно крикнула птица. И опять наступила тишина.
– Вот. – Она заговорила будто сама с собой, словно подводя итог своим мыслям. – Я хочу тоже – всегда. И в один день.
– Они были святыми. Им молятся, чтобы все было хорошо в браке.
– Да. Я хочу в один день. Потому что без тебя не смогу. Что я буду делать теперь без тебя? Я хочу – всегда.
Они подошли к той самой церкви.
– Вот что я придумал. Я составил план… – Он замолчал.
Они стояли у входа в разрушенный храм без купола. У входа в храм, от которого остались одни стены и который вместе с тем все же оставался храмом.
– Какой план? – Сашенька совсем притихла.
– Мы прочтем молитву. К святым Петру и Февронии. Потом обменяемся нашими подарками. Я тебе отдам галстук, а ты мне свою майку, созданную для любви. Я нашел две свечи у Черныша, – Женя раскрыл сумку и достал из нее свечи. – Как раз две. Мы их зажжем. Они будут символизировать радость…
– Я почему-то боюсь…
– Если ты не хочешь, то можно отложить. Я подумал, что так нам будет легче: мне сделать свое дело, а тебе дождаться, когда я вернусь… – Он на секунду запнулся. – Если…
– Если ты вернешься.
– Я вернусь.
– Да, если останешься жив, да?
Женя опешил:
– Откуда ты… – Он осекся и замолчал.
– Откуда я знаю? Я что, слепая? Не вижу? Не чувствую? Таблетки лежали в траве. А ты был в обмороке. Хотя глаза не совсем закрыты. Они дергались, и в них отражалось солнце. Я думала, ты умираешь. Что с тобой?
– Я вылечусь и приеду. И мы поженимся. Я уверен, что могу выздороветь.
– У твоей болезни хоть название есть? А лечение, есть у нее лечение?
– Есть. Смотри. Вот храм. Если ты согласна, войдем?
– Да. Я буду молиться, чтобы в один день.
Она посмотрела на него, и в ее взгляде была твердость такая, какую в этой хрупкой девушке и ожидать невозможно.
– Мира сего княжение и славу временну помышляя, сего ради благочестно в мире прожил еси, Петре, купно и с супружницею твоею милостынею и молитвами Богу угодивши…
В полуразрушенном храме, посреди которого стояли Женя и Сашенька, слова молитвы раздавались отчетливо и гулко; они, как будто по спирали, поднимались вверх, туда, где небо заменяло купол. Еще было светло, но наступали сумерки и проступили звезды. И казалось, они тоже слышат слова молитвы, которым ничто неспособно помешать. Женя читал молитву, глядя в айфон.
– Темже и по смерти во гробе неразлучно лежаще…
Даже ветер затих, не колебля пламя свечек, которые держали Женя и Сашенька.
И свет этот рос и становился так силен, что освещал не только лица влюбленных, но и стены старого храма.
– …и сподобите нас помощию вашею спасение получити и царствие небесное унаследовати, да славословим неизреченное человеколюбие Отца и Сына и Святого Духа, в Троице поклоняемого Бога во веки веков. Аминь.
Она посмотрела на него и увидела, что он смотрит прямо перед собой.
– Надо перекреститься, – сказал он. – Смотри. Вот так…
И сначала он, а потом Сашенька перекрестились.
– Если так, – прошептала она так тихо, что даже Женя, стоящий рядом, не слышал, – то хочу в один день. В один день.
– Тебе – мой галстук, а мне – твоя майка. Вещи – это на память. Вместо колец. Потом будут и кольца, – сказал Женя и улыбнулся. Они обменялись вещами. – Давай обнимемся.
Он раскрыл объятия, и она прижалась к нему. Рука ее легла ему на лопатку. Она сжимала его галстук. И никто, никакая сила не смогла бы вырвать этот галстук из ее кулачка. Никогда.
– Гал-сту-чек! – прошептала она.
Я, увы, не так много знаю про то, что было дальше. Сведения, которые мне удалось выведать от жителей деревни и от Жениных знакомых в Москве, весьма отрывочны.
В последний день лета он уехал. Они расстались ровно там, где начиналась их история. Они лежали на диване и смотрели на небо сквозь дыру в крыше.
– Не все в деревне такие, – сказала Сашенька. – Здесь есть очень хорошие люди.
– Я знаю. – Он улыбнулся. – Все люди разные. В разных обстоятельствах. Редко встретишь очень хорошего человека, да и откровенных злодеев я не встречал.
– Я не боюсь оставаться. Я здесь привыкла. Боюсь только, что мне будет одиноко. Очень одиноко. А еще с тобой тепло, – она прижалась к нему теснее, – а зимой здесь мороз. Мы топим печку, но даже дома бывает не больше пятнадцати градусов…
– А ты держись, я тебе денег оставлю – купи обогревателей на два киловатта…
– Нет! Что ты?! – Она испуганно посмотрела на него. – Нельзя. Что мама скажет!
– Тогда вот что… Топи печку получше, и – помнишь стихи Вадика детские?
– Чтобы прохладней становилось?
– Ну да. Есть вторая часть, про верблюда. Она делает так, что становится теплее. Слушай.
– Какие хорошие стихи. Я запомню.
– Будет холодно – читай.
Они помолчали. Тишина в деревне особенная, почти бесконечная. А сегодня это была еще и тишина расставания.
– Когда я вернусь, мы сможем обвенчаться в настоящем храме у вас в городе, и ты сможешь пригласить всех своих подружек. Я куплю тебе очень красивое платье. А потом мы поедем путешествовать.
– В это невозможно поверить. Ты, главное, возвращайся.
– Я постараюсь.
Они лежали, обнявшись, и не хотели отпускать друг друга. Так прошло минут десять. Или десять дней. Или десять тысяч лет.
Но уже этой ночью «Мерседес» летел в Москву, навстречу неумолимо надвигающемуся будущему.
Как не бывает абсолютной тьмы, так и вечной ночи не бывает. И в самом темном месте, в самой одинокой жизни есть свет. Надежда до последней секунды теплом своим согревает тех, кто сохраняет душевные силы, чтобы жить.
Когда Женя проходил обследование перед операцией, уже начиналась зима. Он почти не выпускал из рук айфон, а там – Сашенькины эсэмэски и письма в электронной почте. Она писала каждый день, рассказывала о своей жизни, немножко жаловалась (ей было одиноко), немного храбрилась, немного пыталась отвлечь его и себя. Рассказывала про своих животных – она завела себе кроликов в старых, давно пустующих клетках на заднем дворе. Она дала всем кроликам имена, и теперь их жизнь зависела от нее. Ей было о ком заботиться.
Она писала письма:
«…Сегодня Джону плохо, он почему-то ничего не ест и сидит в самом углу вольера. Когда будет у нас ветеринар, обязательно покажу его. Жалко, это лучший самец из всех самцов – после тебя, конечно. Не люблю, когда вы болеете. Но, как ты любишь говорить, надежда всегда есть, так ведь? Вот я и надеюсь, что Джоник выздоровеет и опять вступит в борьбу за Джульетту, которая (по секрету тебе скажу) изменяет ему с Меркуцио. А я не изменяю тебе. Вот. Хотя Егор нарезает круги вокруг нашей с мамой хаты и делает вид, что он благородный воин и всегда рядом, чтобы занять место москвича, который сбежал. Но ты ведь не сбежал, нет? Смайлик здесь поставлю.
Хотя, когда ты долго не отвечаешь, мне страшно, что ты забыл меня. Я подхожу к зеркалу и думаю: как такой мужчина мог влюбиться в меня? И мама подбадривает. Говорит, что я растолстела. Но я не сильно, правда (да, да – я жирная свинка, люби меня такой!!!).
Но ведь ты влюбился в меня, так? А раз влюбился, значит, я этого достойна. И я хотела сказать, а как – не знаю. Вообще, я очень волнуюсь, волнение уже стало частью моей жизни. Когда ты пишешь или звонишь (редко!), то я счастлива, пока слышу твой голос или читаю твои буквы. Счастлива так, что возникает такое ощущение – знаешь, как перед поцелуем. Ты еще не целуешься, но уже чувствуешь поцелуй краешками губ и кончиком языка.
Как ты? Как дела? Я волнуюсь! Напиши сразу, как прочтешь! Мне так хочется поцеловать тебя! Мне так одиноко и холодно здесь! Приезжай.
ЗЫ. Я была на исповеди в храме. Я все правильно сделала (так батюшка сказал), хотя стоять в храме долго было скучно и почти ничего непонятно, что говорят. А еще он сказал завтра причаститься. А как это сделать, не сказал. Но нельзя ничего есть и пить после 12 ночи! Вот я и выболтала секрет! Теперь твоя очередь рассказать мне что-то секретное. Целую. Целую. Целую. Сашенька».
За окнами мела метель. Той зимой было очень холодно. И в Москве, где лежал в больнице Женя, и в далекой деревне, где ждала его Сашенька.
Это письмо он прочел в день назначенной операции. Оставалось каких-нибудь два часа, и за ним придут. Женя положил ноутбук на колени и начал писать ответ:
«Милая Сашенька!..»
Он подумал, что пришла наконец пора написать все как есть. Все как есть…
«Наши родители так хотели свободы для нас. Так жаждали этой свободы, будто она обязательно принесет что-то доброе в нашу жизнь. Родителей – их поколение – можно понять. Они надеялись, что, коли уж они сумели обеспечить нам свободу, мы сумеем ею воспользоваться. Но свобода оказалась пустотой. А пустоту можно было заполнить чем угодно. И мы заполняли. Кто – беспробудным пьянством, кто – бесконечным блудом, кто – азартом, кто – наркотиками, а главное – алчностью.
Свобода первым же делом короновала неуемную алчность. За деньги можно было отказаться от многого в себе, за деньги можно было предать и даже убить. Деньги того стоили. И я, скупая совхозы, проводя одну хитрую сделку за другой, прекрасно осознавал, что движет мной единственно алчность. Ничто другое.
Алчность подмяла под себя все остальные пороки и состарила нас.
Сорокалетние миллионеры, седые, не способные ни на что, кроме бесконечного обогащения, старцы. Вот кем мы стали. А со старостью души пришли болезни, которые нельзя вылечить за деньги. Которые сильнее денег.
А за болезнями неминуема смерть.
Увы! Не свободы нам нужно было желать, но Веры. И не вольности в реализации страсти, но целомудренной любви. Настоящей, единственной. А мы истратили жизнь на эксперименты со свободой, чтобы понять всю их бессмысленность. Понять – когда уже поздно, когда знание не приносит ничего, кроме горечи и сожаления об утраченном. Поздно! Теперь уже поздно! Наши сосуды крошатся под руками хирурга. В нас нет жизни, и ее не купить, не занять, не вернуть. Свобода не дала нам ничего. Мы не сумели с нею совладать. И проиграли. Всю свою жизнь».
Он думал обо всем этом, когда собирался писать Сашеньке, но написал совсем другое. А когда он поставил точку и нажал кнопку «отправить», пришла медсестра звать его в операционный блок.
Раньше он так боялся умереть, что даже мысли об операции гнал от себя, а сейчас… Сейчас он шел и улыбался. Он точно понял, вернее, осознал – чего не надо, того не произойдет. Ему еще в палате сделали какой-то укол – впрочем, эффекта он почти не ощущал. И теперь, когда он лежал на операционном столе, то чувствовал только счастье. Счастье от того, что очень скоро он будет вместе с Сашенькой. Так или иначе.
«Так или иначе». Почему ему пришла в голову эта мысль? Отчего? Ответить себе он не успел. Вдруг засветились большие лампы. Светлый шар приблизился и начал расти. Он увеличивался в размерах. Врачи суетились рядом, делали еще уколы, но Женя уже не слышал их слов. Он видел большое солнце, которое придвигалось к нему своим теплом, и из этого бесконечного света, с этой далекой планеты несся к нему знакомый родной голос:
«А-а-а-а-у-у-у-у-у!»
– Скоро-скоро, – прошептал Женя и улыбнулся. Он всем существом устремился, наконец, в сияющее тепло, где не было ни боли, ни забот, ни тревог.
«А-у-у-у-у!»
За окном шел снег.
В этот вечер Сашенька согласилась пойти к Егору в гости. Нет, не одна: там было много молодежи. А ей было скучно. Все время ждать писем, все время ждать эсэмэс, все время ждать звонка. Егор был рядом. Он не приставал, не лез даже с разговорами, он просто был. И когда им с матерью нужно было помочь по хозяйству, он был рядом. И когда ей нужно было доехать в город, он со своим мотоциклом опять оказывался рядом. Он был частью ее мира.
Когда она ждала ответа от Жени и постоянно обновляла страничку с почтой, позвонил Егор и пригласил потусить с его друзьями. «Все тебя ждут». Было приятно, что все ее ждут. Это тоже благодаря Егору.
И вот она оказалась с ним рядом за столом.
Было весело. Ребята пили дешевую водку. Это нравилось Сашеньке. Она редко употребляла алкоголь (да практически совсем и не пробовала пить), но сейчас ей просто хотелось расслабиться и хорошо провести вечер. Она просила наливать ей по чуть-чуть, на дно стакана, и, выпив, запивала лимонадом. В этом сборище не было ничего нового, обычная молодая компания в свободной хате. Сигаретный дым, нехитрая закуска… Скоро зазвучит музыка и начнутся поцелуи. С каждым новым глотком заботы отступали. Все-таки водка – замечательное лекарство. Ребята в компании были крайне доброжелательны, а Егор вел себя по-джентльменски. И когда он аккуратно приобнял Сашеньку, она не отстранилась. Ей было хорошо в этих дружеских объятиях. Егор не позволял себе ничего большего. Он ликовал. Все вокруг видели и понимали, что сегодня Сашенька вернулась к нему.
Все, кроме Сашеньки. Ей просто было тепло. И рядом был хоть кто-то. И этот кто-то шептал на ухо приятные вещи про нее саму. Этот кто-то говорил знакомые слова о любви – такие, как говорят герои телевизионных сериалов…
А перед глазами плыло: плыл дым, и скатерть, и компания за столом, и окно, и в окне луна. Она остановилась взглядом на этой луне… и увидела свет.
– Галстучек… – сказала она громко – так, что, несмотря на музыку, ее услышала вся компания. – Я забыла, куда положила.
Она так резко отбросила руку Егора, что тот ударился запястьем о стену.
– Какой галстук? – Егор был растерян и удивлен. – Зачем тебе галстук?
Сашенька встала и улыбнулась, оглядев всех. Остановилась взглядом на Егоре.
– Зая, – сказала она, и голос ее словно бы медом наполнился, – я домой сбегаю на минутку и сейчас же вернусь к тебе. Хорошо? Ты отпускаешь?
Вся компания смотрела на нее. Потом на Егора. Тот не понимал, что происходит, но ему нравились, очень нравились ее слова.
– Конечно. Возвращайся быстрее, солнце, – пробормотал Егор смущаясь.
– Я мигом, – сказала Сашенька. Она нагнулась к нему и поцеловала в щеку. А потом пошла к двери, обернулась и посмотрела Егору в глаза. И в ее взгляде он не прочел ни любви, ни даже симпатии – это были просто пустые глаза, в которых отражался лишь холодный свет луны из окна.
– Пока-пока! – сказала Сашенька и вышла.
Когда она зашла домой, мать смотрела по телевизору сериал. Сашенька хотела пройти тихо в свою комнату. Обычно ей это удавалось, но не сегодня.
– Ты чего рано-то? Надоели посиделки?
На экране телевизора показывали рекламу.
– Я на минутку, мам! – Сашенька не успела придумать, зачем ей надо заскочить домой, но надеялась, что мать, занятая сериалом, не станет сильно допытываться. Так и вышло:
– А я такой сериал смотрю! «Однолюбы». Про любовь…
Сашенька прошла в свою комнату и тихо, чтобы не слышала мать, подошла к трехстворчатому шкафу. Открыла дверцы, слушая, как мать разглагольствует о сериале:
– Там двое полюбили друг друга и никак не соединятся, все актеры хорошие. А вот мне нравится не тот, что не любит, а другой, который любит. Актер Николай Качура, я специально в программке посмотрела. Так жалко его. Больше всего на человека похож. Видать, алкоголик. Вот так всегда – кто любит, тот несчастный. Оттого и я пью. Сволочи. Он ее случайно толкнул, понимаешь, случайно. Но все равно, силу-то надо рассчитывать…
Сашенька не могла найти галстук. Очевидно, мать переложила его куда-то вместе с чемоданчиком, в котором Сашенька прятала от нее свою драгоценность среди другого тряпья.
– Мам. – Голос Сашеньки чуть задрожал, но она выдохнула и сдержалась. – А где чемоданчик, тут лежал?
– Подожди! Реклама кончается, сейчас начнут.
Сашенька вышла и встала в дверях.
– Я спрашиваю, где… тут… чемоданчик лежал?
Мать оторвалась от телевизора и посмотрела на Сашеньку. Она хотела было ругаться, но, увидев лицо дочери, осеклась.
– Что с тобой? Я лоскутки эти тете Маше отдала. Пусть использует.
– Это мой чемоданчик был.
– Да твой, твой. Я подумала, зачем тебе это тряпье… Эй! Ты чего это!
– Я к тете Маше.
– Да ты хоть оденься потеплее, тебе через всю деревню топать.
Но Сашенька не отвечала: она накинула все ту же легкую куртку, в которой была, и побежала через ночную деревню к тете Маше.
Тетя Маша лежала в темноте. Комнату освещал только работающий телевизор. У тети Маши никого не было. Один сын умер, другой чалился по тюрьмам. Муж же давно сгинул в алкогольном болоте.
Зато сериалы шли ежедневно.
– Кто там ко мне? – спросила тетя Маша, не вставая с дивана.
– Я. Сашка.
– А! Иди, будем сериал смотреть. Вон, чай бери и садись. Тут такой сериал! «Однолюбы». Все как в жизни прям. Тут один мужик – прям как мой Федька-покойник. Про любовь…
– Некогда мне, тетя Маша. Вам мама мой чемоданчик отдала?
– Какой чемоданчик? А-а-а-а! С лоскутками-то? Вон, у печки. Я там уже немного использовала. Да чего у тебя с лицом-то?
Сашенька прошла к печке и открыла чемоданчик. Но галстука там не было.
– А галстучек где? – спросила Сашенька глухо.
– Да вот синенький галстук. – Теперь уже голос Сашеньки задрожал по-настоящему. – Галстучек.
– Да не знаю. Что-то не припомню…
Сашенька точно окаменела. Постояла мгновение и направилась к выходу. Медленно, словно все силы потеряла.
– Да ты бы осталась. Чайку бы, сериал…
Сашенька вдруг остановилась в дверях. Повернулась и, пробежав через всю комнату, распахнула Машин платяной шкаф.
– Ты что это? – Тетя Маша даже не закричала, просто поперхнулась от изумления. – Что делаешь-то?
Сашенька выкидывала с полок вещи и почти сразу нашла то, что искала. Она повернулась к тете Маше, держа галстук в руках.
– А, – сказала тетя Маша, – это?
– Да. – Сашенька все смотрела тете Маше в глаза. – Это мой галстук. Мой.
– Не кипятись. – Тете Маше стало не по себе от Сашенькиного страшного взгляда. – Я и забыла. Думала, не надо тебе. Я сыну думала. Когда вернется…
– Мой галстучек, – сказала Сашенька глухо и вышла. А тетя Маша осталась. На мгновение в доме стало тихо, а потом опять заговорил, затараторил, запричитал телевизор.
Она шла по главной улице деревни. Почти во всех домах окна освещались голубоватым светом телевизоров. И везде смотрели сериал про любовь.
Сашенька остановилась перед своим домом. И задумалась: пойти ли домой? Вернуться к Егору в тепло и компанию? В руке она сжимала галстук.
Вдруг раздался крик Егора:
А потом в конце улицы показался и он сам.
– Сашка! Ты куда делась? Иди к нам! – Он быстрыми шагами направлялся к ней.
Сашенька взглянула на окна дома. Конечно, можно было бы зайти домой и одеться потеплее, но там мать со своим сериалом, и туда, конечно, побежит Егор. Тогда она взглянула вперед. Дорога вела от деревни в райцентр. Но вдруг она ясно поняла. Другой дороги у нее нет. Вернее, есть – тогда она потеряет самое дорогое, что у нее было. То самое, что теперь осталось лишь галстучком у нее в руке.
– Сашка! Стой! Сашенька!
До райцентра было двадцать пять километров.
Крик Егора вывел Сашку из оцепенения, и она побежала.
Сашенька бежала мимо домов, освещенных мертвенным телевизионным светом, бежала от Егора и его компании, бежала от матери и ее судьбы. Вот закончилась деревня и начался лес.
Сейчас лес, обступивший дорогу с двух сторон, показался ей не таким, как обычно. Сосны были выше и росли теперь ближе друг к другу. Она бежала словно в коридоре старинного замка, деревья были стенами, а черное небо – крышей, и луна освещала дорогу своим бледным светом. Ледяной ветер дул, казалось, со всех сторон. Сашка как могла, куталась в свою курточку, но это совсем не помогало. И тогда она вспомнила лето, берег ручья и Женю, и стишок.
И несмотря на усталость, страх, холод и бег, она улыбнулась. Так явственно перед ее глазами нарисовался образ Жени, читающего стихи своего друга. И она продолжала бежать.
Хирург сказал тихо, едва слышно:
– Ну что это за сосуды? Как у стодвадцатилетнего старика. Что тут сделаешь…
Сказал неразборчиво, но ассистенты, которые хорошо знали его, прекрасно поняли, что значат эти слова.
Человека, лежащего на операционном столе среди стерильной чистоты, среди аппаратов и электроники, среди трубок и проводов, не спасти. Потому что даже у лучших докторов есть предел, который им не перешагнуть. И предел этот – начертанная кем-то куда более могущественным, чем врачи, граница между жизнью и смертью.
Она заметила, как чуть-чуть сбилась с пути. Отошла недалеко от дороги. И могла спокойно вернуться, но вдруг почувствовала, что бежать дальше не надо. Что некуда дальше бежать. Она подняла глаза вверх и увидела луну сквозь ветки деревьев, там, в вышине.
Сашенька сделала еще два шага к дороге и медленно, будто специально, упала на спину в снег. Словно бы давно хотела лечь и полежать. Ее каштановые волосы разлетелись по снегу, а глаза неотрывно глядели на луну.
Она прошептала:
Луна становилась больше, разрасталась, занимая все пространство вокруг.
Стихотворение подействовало – впрочем, как всегда. Сашеньке стало тепло-тепло. И тепло это шло с луны. И оттуда же звучал знакомый родной голос:
Сашенька улыбнулась, закрыла глаза и прошептала: «Скоро-скоро».
«Дорогая Сашенька! (Мне очень нравится твое имя. Мне приятно произносить его вслух, писать на бумаге и в «Ворде», как сейчас. Мою супругу звали Ираида. Представляешь? Я вообще никогда не звал ее по имени.)
Так вот, Сашенька. Сегодня у меня операция, но дело не в ней. Я либо умру, либо останусь жив. Я не знаю. Мне совсем не хочется умирать, но я не боюсь. Я хочу написать тебе, чтобы и ты не боялась. Все решилось не сегодня, а тогда, в том храме. Мы будем вместе. Либо в этой жизни, либо в той. Вопрос только в том, кто кого встретит. Возможно, я умру сегодня, и тогда я подожду и встречу тебя там. Или я останусь жив, тогда ты подождешь в деревне и встретишь меня. Я совершенно уверен в нашей любви. Это делает меня сильным и храбрым. Будь и ты, родная, храброй. Не бойся. Мы обязательно будем вместе.
Я тоже сходил на исповедь здесь, в больничном храме. И к причастию тоже. (Не знаю, как только батюшка выдержал перечень моих грехов, но выдержал.) Слава богу!
И вот после этого я поставил свечку у алтаря и попросил, чтобы мы обязательно были вместе. Вот и все. За мной пришли. Я пишу это и улыбаюсь. До встречи. Скоро-скоро. Целую. Женя».
Умерли Сашенька и Женя в один день и час.
И это было самым странным и необъяснимым, даже поразительным в этой истории, которая столь сильно тронула меня.
Когда Сашеньку нашли на следующий день, она совершенно окоченела и вмерзла в снежный наст. Одеревеневшей рукой она сжимала галстучек так, что, как ни старались, а вырвать у нее из руки этот кусок пестрой материи не смогли.
В деревне смерть Сашеньки списали на алкоголь; мать горевала, конечно, но бесконечные сериалы притупили, а потом и сгладили ее боль.
Егор женился на девушке из райцентра и стал хорошим семьянином и любящим отцом. Изредка он запивал, приезжая в деревню, но такие запои не длились долго. Максимум дня три в году. В один из таких запоев он спалил дом Черныша. Впрочем, об этой развалине пожалеть было некому.
Жизнь в деревне не изменилась. Из нее просто исчезли двое влюбленных.
Остальных же жителей ждала долгая обыкновенная жизнь.
Жизнь без любви.
Мой друг Каварадосси
Где-то высоко в кроне дерева, в его густой листве звучит музыка. И эта музыка волшебна. Он слышит ее, слышит сквозь решетку и сквозь стекло.
Слышит и тихо, почти шепотом, подпевает.
В такие моменты лицо его преображается. Точно светится мягким светом изнутри. Из-под кожи.
– Что ты поешь?
– Я не пою, я подпеваю.
– Подпевают, когда звучит музыка, а здесь тихо.
– Музыка звучит там.
Он кивает головой на тополь, что беззвучно шелестит за окном.
Для меня – беззвучно.
– Хорошо. Ясно.
В нашем отделении есть шизики на любой вкус. Этот симпатичный. Слышит музыку, когда ее нет. Вполне мирное хобби. Во всяком случае, не лезет в истерике в драку и не воет во сне…
– И что это за музыка? Кому ты подпеваешь?
– О! Это прекрасная музыка! Каварадосси…
– Кавара… кто?
– Такая ария…
Я вспоминаю, что есть группа «Ария», поющая какой-то тяжеляк, но мне она не нравится…
– Нет, это песня. Ее поет мужчина, которого должны казнить. Но когда он поет, мы еще не знаем, казнят его или нет. Это очень красивая ария. Я всегда мечтал сыграть ее… знаю настолько хорошо, что вот теперь, кажется, слышу…
– Ничего. Просто слышу и все.
– Нет. Чем кончилось-то? Казнили?
– Казнили. А его девушка бросилась с крыши замка и разбилась…
– Жизнеутверждающе.
Наши разговоры – спасение для него.
Если я, активный и общительный, быстро нашел, чем заняться в психушке, то он часто просиживал у окна и, смотря на тополь, «слушал музыку».
От медсестры я узнал, что его отправили сюда родители после того, как он неделю пролежал лицом к стене на своей кровати. А от него самого через месяц больничной дружбы услышал о жестокой, бессердечной травле, которую устроили ему одноклассники.
Обычный подросток, с редкими волосами на голове, через которые просвечивала кожа черепа, с тонкими, как нитка, губами, острым носиком и огромными серыми глазами…
Он все спрашивает меня, схватив за руку, точно боясь, что я убегу, не дав ему ответа:
– Кто ненормальный? Я или они? Ведь это ненормально – ставить на колени человека…
– Ненормально.
– Ведь это ненормально – брать и…
– Подожди, – останавливал я его. – Мы выпишемся отсюда. Ты перейдешь в другую школу…
– В корпусе напротив сидит парень, он по больницам уже восьмой год. Вдруг и нас так?
– Во-первых, ты не в корпусе напротив, а во-вторых, тот парень, в отличие от тебя, убил двух человек топором, а одного, еще живого, облил бензином и…
– Не надо!
– Хорошо. А вот чтобы тебя выписали и не били, а может быть, даже любили, тебе надо стать как все. У нас, в обществе, где мы с тобой живем, очень важно, даже необходимо стать как все…
– А это как?
– Ну, во-первых, не подпевать музыке, которая звучит из деревьев…
Он улыбается.
– Это можно. Хотя, если бы ты слышал эту арию…
– Я не люблю русский рок.
– Это опера!
– Ах да. Его казнили, а она упала с крыши небоскреба…
– Замка. Потому что не могла больше жить.
– Вот этого и не надо говорить. Притворись, что тебе нравится «Модерн Токинг»…
– Ну хорошо.
– И не только в песнях. Везде. Мир очень прост. Ты не любишь смотреть на деревья и грустить о девушке, рухнувшей с замка. Ты хочешь работать и получать побольше денег. Хочешь жениться на девушке с большими сиськами. Размер должен быть подходящий. И завести детей. Квартиру кооперативную. И хотя девушки у тебя нет, ты придумай. Только не эту дохлячку, которая непонятно по какой причине кинулась, а нормальную. С сиськами…
– У меня есть девушка.
– Есть. Я могу про нее рассказать врачам.
– Хочешь жениться на ней?
– Нам надо ближе познакомиться, понять, совпадают ли наши интересы.
– Нет. Ты хочешь жениться на ней. И, придя с завода, плотно поужинав, заниматься с ней продолжением рода. Разложив недавно приобретенный на тринадцатую зарплату диван-кровать «Родина». Радио приобретешь чуть позже. На премию. И вот тут-то и послушаешь оперу про доходягу, которого должны казнить, и его бабу, у которой поехала крыша. Или лучше скажи про «Модерн Токинг». Понял?
– Понял. Я все равно боюсь, что меня не выпишут. Поймут, что я терпеть не могу «Модерн Токинг»…
Где-то недели через три его выписали.
Еще на неделю позже выписали и меня.
Для кого-то месяц – много. Для кого-то – мало. Время то тянется, то летит. Прошел всего лишь месяц… куда же вы делись, друзья мои? Или больше времени прошло? Ах да, конечно. Школа закончена, экзамены сданы, и море уже обнимает вас…
В Москве жарко, но когда открываешь окна, то ветерок врывается, несется из окна в дальний угол и, наткнувшись на препятствие, растворяется, принося свежесть.
– Алло! Да, я. А, это ты, Каварадосси?
Да, это он. Зовет гулять. Зовет в оперу.
– Уже купил три билета?
И мы идем по бульвару от метро. Втроем в оперу. И согласованно врем его девушке, что познакомились в санатории. Говорить о том, что оба мы лежали в психушке, нельзя. Он просил.
– Познакомились в санатории, – говорю я ей, когда мы идем в театр. – Я там отдыхал. После психушки.
Я всегда говорю такое, чего другие стесняются. Психиатр почему-то называл это суицидальным поведением.
– Вы лежали в психиатрической больнице? – Она смотрит на меня с любопытством.
– Ага. А потом познакомились.
Она небольшого роста, полненькая девушка, брюнетка с кудряшками под негритянку и красивыми голубыми глазами.
– В санатории, – добавляет мой товарищ. – Там оба отдыхали.
– А расскажите про психбольницу, – просит она.
– Что рассказать?
– Что чувствует человек… и вообще…
Она теряется. По-моему, ей становится неудобно от своего собственного любопытства.
А еще я вижу, что нравлюсь ей. И это видит мой товарищ.
– Человек чувствует себя так, будто тот, кого он любил, уже убит и исчез из этого мира, а самому ему пришлось броситься с крыши замка: и он летит, летит, летит… и хочет, чтобы полет закончился, и боится разбиться о камни площади. И все летит, летит…
Мы молчим. Все так же бредем по дорожке между деревьев, в кронах которых для него, моего друга, звучит музыка. Но не для меня.
– Это как в опере. Жизнь, получается, похожа на оперу?
– Похожа, – отвечает он. И смотрит туда, вверх. Как всегда. Лицо его на мгновение преображается. Точно светится мягким светом изнутри. Из-под кожи. И он не видит ничего вокруг. Неужто за это его били одноклассники?
– Только не для меня, – говорю я, опять купаясь в собственной откровенности. – Я оперы не понимаю. Дальше «Модерн Токинг» не продвинулся. Совершенный остолоп.
– Ну зачем так? – спрашивает она и неожиданно касается моей руки. – Вы послушаете и узнаете. Пуччини – это прекрасно…
И мне очень хочется согласиться. Но я все еще лечу с крыши замка. Лечу, лечу, лечу и никак не могу упасть.
И поэтому я убираю свою руку от ее руки.
– Есть люди, – говорю я, – которые ездят в санатории и слушают оперу. А есть те, кто лежат по дурдомам и работают на заводе, за зарплату… У меня дела. Я не пойду с вами.
Только тут мой товарищ поворачивается ко мне. Видно, музыка в кронах деревьев прервалась или он, наконец, сумел сосредоточиться на земном.
– Ты что? Мы же договаривались пойти!
– Да. Но я передумал. Пойду посмотрю, не приехал ли в «Олимпийский» Томас Андерс.
– Ну и зря, – говорит его девушка.
– Пока, – отвечаю я ей.
– Счастливо, Каварадосси! – говорю я ему. – Ты помнишь, что такое нормальная жизнь?
– Да, – отвечает он. И улыбается.
– Размер подходящий, – улыбаюсь я и жму ему руку.
И вот они удаляются, становятся меньше. Последнее, что я вижу: он берет ее за руку. Решился-таки начать нормальную жизнь Каварадосси. Это то, чему я научил его.
А мне, конечно же, некуда идти.
Для кого-то месяц – много. Для кого-то – мало. Время то тянется, то летит. Куда же вы делись, друзья мои? Ах да, конечно. Школа закончена, экзамены сданы, и море уже обнимает вас…
Я смотрю по сторонам и вижу лавку. Сажусь или, точнее, падаю на нее. Всё. Мой полет закончен. Я приземлился.
И только тут вдруг я обращаю внимание на крону дерева. И вижу, как колышется листва на ветру.
И слышу арию, которая звучит на непонятном тягучем языке.
Я слышу прекрасную музыку, и я уже не одинок.
Это то, чему научил меня он. Мой друг – Каварадосси.
Неисчезающая любовь
Осень была мягкой и прохладной. Такой она бывает только в конце сентября в центре Москвы – и нигде больше. Только теперь, в этот сероватый вечер, он до конца ощутил, что такое эта московская осень. Осень, укутывающая улицы в желтый с красным плед из листьев, осень высокого и прозрачного купола неба, осень бледно светящихся искусственным светом витрин, осень, проглатывающая воспоминания, осень, несущая забытье. Да, она была мягкой и прохладной. Такой она бывает только в центре Москвы.
С гулким стуком захлопнулась дверь подъезда, и через пять минут он уже стоял на Петровском бульваре. И вот, как всегда, когда делал что-то быстрое и необдуманное, он остановился и попытался проанализировать: зачем оказался здесь, что привело его на этот унылый бульвар с мокрыми от дождя скамейками и черными стволами голых тополей, отражающихся в лужах на фоне неба?
Если вы захотите обменять маленькую комнатку в коммуналке на Петровском бульваре на двухкомнатную квартиру на Рязанском проспекте, то не думайте, что это совсем уж нелепо. Вполне возможно, найдется человек, готовый и на такую фантастически глупую сделку.
Тем, кто обменялся с ним, повезло: он сам нашел их, сам предложил обмен и сам согласился на не вполне адекватную доплату – впрочем, позволявшую ему прожить какое-то время, предаваясь любимому занятию.
С тех пор как ее не было рядом, он спал.
Он присел на ближайшую лавку. И ничего, что она сырая: когда сильно хочешь вздремнуть на свежем воздухе, чуть подмоченное драповое пальто разве может стать помехой?
Здесь, на этом бульваре, они гуляли с мамой в те далекие времена, когда она забирала его из школы. Это, кажется, был шестой класс.
Именно в то время он впервые обнаружил, что не нравится одноклассницам. И это было вторым несчастьем, свалившимся на него за всю жизнь. Первым было отсутствие отца. Но когда он привык к первому, тут же возникло второе.
Он довольно быстро определил причины своих неудач. Он был из бедной неполной семьи. И если до пятого класса его совершенно не смущало, что он не сдает деньги на завтраки, а, наоборот, носит из школы бидоны с обедом, то, как только ему начали нравиться девочки, он понял: постыдная его нищета не может вызвать у сверстниц никаких других чувств, кроме жалости. И это раз.
А два, три, четыре и даже пять – это то, что он был урод.
И это тоже обнаружилось к концу пятого класса. Как сам он не догадывался об этом раньше? Ведь и зеркало было у них с мамой в коридоре, и смотрел он на себя часто, натягивая обувь перед выходом из дома. Но вот теперь, в тот же момент, когда оказалось, что он не может купить на экскурсии по ВДНХ сосиску с горчицей, как весь класс, потому что мелочи у них с мамой не нашлось, – вот теперь, вернувшись домой с ужасной выставки, он и взглянул на себя в зеркало, точно в первый раз…
Толстые щеки и жидкие волосы (их совсем почти не было – не росли), чуть скривленный на бок рот с тонкими губами и до обидного маленькие глазки. Живо, в один миг он сравнил себя со сверстниками и понял, что он хуже всех. Раньше он был таким же, как они, а теперь… И в ту же секунду он догадался, что они наверняка видели то, какой он, и наверняка смеялись над его уродством за его спиной. Это, конечно, было неправдой: его некрасивое лицо и неуклюжая фигура никого не интересовали. Но теперь, когда он узнал, а вернее, увидел себя, то не мог поверить в то, что над ним не потешаются одноклассники и, что еще хуже, одноклассницы.
Мать нашла его в коридоре. Он сидел на полу под зеркалом и плакал. Именно не ревел, как маленький, а плакал, беззвучно и горько, вытирая слезы ладонями, стараясь остановиться. И чем больше старался, чем сильнее стискивал зубы, тем крупнее капли срывались и падали с его ресниц.
– Что ты? – Мать наклонилась и попыталась поднять его голову. – Двойку, что ли, схлопотал?
Он только усмехнулся в ответ. Впервые так горько, так по-мужски усмехнулся, что мать на секунду даже опешила – таким он стал другим, взрослым.
– Влюбился, – заключила она и улыбнулась: была уверена, что уж теперь нашла верный диагноз.
Сын посмотрел на нее, и она поняла, что ошиблась.
– Мам, – сказал он спокойно (слез будто и не бывало), – а у тебя есть фотография отца?
Она не ждала такого вопроса. То есть, конечно, она подозревала, что когда-нибудь сын захочет узнать, кто его отец, но оказалась не готова к такому вопросу именно сейчас.
– Мне все равно, кто он. – Сын помолчал, ожидая ответа, и, не дождавшись, продолжил: – Все равно, кто и где. Просто… может быть, у тебя осталась его фотография?
Что она могла ответить. Она не знала, кто он и где. Но у нее была его фотография.
– У меня осталась его фотография. – Мать смешно не выговаривала букву «р».
Она ушла из коридора в комнату. Судя по звукам, долго рылась в секретере и вернулась. Протянула на ладони черно-белую карточку, такую, какие лепят на пропуска и в паспорт.
– Вот, держи, Павлик. Это твой отец.
Сын взял фотку. Подержал в руках мгновенье-другое. Мать ждала – а что ей оставалось?
На Павла глядел его отец. Он был уродом с маленькими глазками, толстыми щеками и чуть искривленным тонкогубым ртом. Эта тварь, эта уродливая толстощекая тварь с маленькими глазенками и слюнявым кривым ртом посмел бросить его мать.
Он посмотрел на мать мельком – знал, что увидит. Мать, конечно, была очень красива.
Потом опять взглянул на фото – уже просто так, чтобы отдать и забыть о нем навсегда.
Протянул карточку маме.
– Тварь, – сказал он спокойно, – уродливая тварь.
– Он твой отец, он… – Она совсем была не готова к разговору с сыном…
– Выкинь… – сказал он. – Выкинь эту рожу.
Опираясь о стену двумя руками, Павел поднялся. Почувствовал спиной холодок от зеркала. Обернулся.
Теперь он всегда будет видеть его рожу. Даже если порвать фотографию на мелкие кусочки. Каждый раз, когда он заглянет в зеркало, на него оттуда будет смотреть ненавистный ублюдок, бросивший его мать.
И в эту секунду он понял, как любит маму. Ненависть и любовь слились воедино, стали чем-то одним неразделимым и главным в его душе.
Собственно, ничего не изменилось в его жизни с тех пор, как он увидел фотографию отца. Он просто осознал себя, понял, кто он в этом мире, и соответственно понял, как себя вести с окружающими. Правда, окружающие не заметили перемен, в нем произошедших. Никто, кроме мамы, – но ведь матери замечают всё. А остальным было глубоко пофиг, как там изменился Пашка.
А сам он понял и согласился со своим вероятным будущим, в котором ему уготовано место где-то в стороне – и в котором главным человеком для него станет его мать. Мир сделался простым и ясным. Появилась цель.
– Давай съездим в Ленинград, – сказал он как-то вечером. – Давай съездим на каникулы в Ленинград.
– Только на летние. – До лета было еще очень далеко, и мать могла пообещать что угодно.
– Хорошо, – сказал он. – Летом.
Он, конечно, ни на минуту не забывал об этой поездке. Сосредоточенно, почти как автомат, ходил в школу и учился. Старался по возможности экономить, чего мать не могла не заметить. Мелочь, которую она изредка выдавала ему на выходных, он сохранял в копилке всю до копейки.
Конечно, не из-за этой копилки, но поездка с каждым днем становилась реальным их будущим. Где-то в конце зимы и мама свыклась с мыслью о том, что в ее отпуск они отправятся на неделю в Ленинград. Свыклась, обрадовалась и приняла живое участие в подготовке.
Они вместе листали книгу, принесенную им из школьной библиотеки. Это был обычный альбом-путеводитель из дешевой серой бумаги с мутными черно-белыми фотографиями.
Особенно им нравился Исаакиевский собор. Можно было подняться на его крышу и увидеть весь Ленинград разом. Дух захватывало от такой возможности.
Неделя летом в Ленинграде была гораздо лучше, чем он мог себе представить. Каждый день заполнен чем-то важным, значительным, новым…
Крейсер «Аврора» и Медный всадник, Лицей, Петродворец… И наконец, у самого неба на крыше Исаакиевского собора. Чувство, что летишь над этим чудесным холодным городом, чувство, такое близкое к совершенному счастью, что трудно дышать.
Они, взявшись за руки, летели над Ленинградом.
– Мы еще сможем купить мороженое, когда спустимся, мам? Я видел – там продавали у кассы.
– Сможем. – Она улыбнулась – восторг сына передался ей в полной мере. – В стаканчике, с розочкой.
Она не выговаривала «р» в слове розочка. У нее были большие серые глаза, и белая челка падала на глаза, а она хмурилась и сдувала ее, смешно выпятив нижнюю губу.
С тех пор они каждое лето ездили на неделю в Ленинград. Эти поездки могли прерваться на два года, когда ему исполнилось восемнадцать лет и он не поступил в институт. Его могли забрать в армию, но тут как раз и помогла слоновья фигура – подарок человека с фотографии, все так же хранившейся в секретере.
Медицинская комиссия в военкомате признала Павла негодным к службе в мирное время. И хоть среди его сверстников освобождение от почетной обязанности и считалось чем-то совершенно неприемлемым на пути «армия – взросление – женитьба», он не расстраивался. О женитьбе и не задумывался. А вот устроиться на работу и летом уехать с матерью отдыхать он вполне мог.
В Ленинграде есть набережная, с которой в хорошую погоду уходят прогулочные корабли. И можно сидеть на корме и ощущать почти жидкий, струящийся воздух и капли воды на лице.
– Мам, скажи, ты любила его?
– Моего отца.
– А теперь, – он без труда говорил об этом: здесь, в Ленинграде, они могли говорить о чем угодно, – теперь ты ненавидишь его.
Она смотрела куда-то мимо шпиля Петропавловской крепости, вдаль, в голубовато-серое питерское небо.
– Нет. Люблю. – И потом тише, как взрослому: – Любовь ведь не исчезает никогда. И никуда.
– Как это?
И тут она повернулась к нему и улыбнулась своей прекрасной улыбкой.
– Я гляжу на тебя – и вижу его. Понимаешь? Нет, конечно, не понимаешь. Но поймешь. – Она улыбнулась.
Ему было девятнадцать. Но он еще не понимал.
Ему было двадцать один, когда она умерла. За неделю до поездки. В июле.
Вернулся из магазина – а она лежит лицом вниз на полу в коридоре.
Он как-то сразу понял, что произошло. Понял, что это не обморок, не припадок.
Не закричал, не бросился поднимать, а поднял трубку телефона и вызвал «Скорую». Вызвал так, будто к живой. Будто не знает, что произошло. И даже в конце попросил поторопиться.
Повесил трубку и посмотрел на нее. Сделал шаг. Наклонился. И, запахнув на ней халат, поднял холодное уже тело на руки. Такая сила вдруг взялась в нем, что ни разу не споткнувшись, не пошатнувшись, донес ее до кровати. Уложил.
Падая, она разбила губы. Кровь запеклась на щеке и подбородке.
Он сходил в ванную и намочил горячей водой, почти кипятком, губку. И вытер щеку. Не до конца. Сходил еще раз. И еще…
Похорон он не помнил. Почти совсем. Крематорий. Много людей. Много. Они всегда с матерью были одни. А теперь было много людей. Много. Вдалеке гроб. Около него много людей… целый зал. Они всегда были одни.
Поминки он не помнил. Почти совсем. Было много людей. Жирного ублюдка с фотографии не было.
Троюродная сестра матери, приехавшая из Владимира, сказала тихо, но так, что это было единственное, что он услышал и запомнил:
– Совсем Пашка чумной. Как бы петельку не навязал.
Он навязал. Через день, или через два, или через три. Не вышло. Даже несмотря на всю допитую водку, оставшуюся с поминок (примерно полбутылки), было больно и страшно. Шум в голове сильнее с каждой секундой, и страх, и паника. Турник, к которому он привязал веревку, оказался слишком низок и слаб – сломался под Пашкиным весом. Турник этот когда-то делала для него мама.
На шее остался красный след. Его никто и не заметил, когда отмечали девять дней.
Вскоре он дал объявление об обмене квартиры. И естественно, очень быстро нашел желающих. И так же быстро оказался здесь. На Петровском бульваре. Сложил в своей комнатушке их с матерью вещи.
За ним с гулким стуком захлопнулась дверь подъезда, и через пять минут он уже стоял на Петровском бульваре.
А через десять минут он спал на мокрой лавке.
С тех пор как ее не было рядом, он все время спал.
– Проснитесь, вы замерзнете. – Она смешно выговаривала букву «р».
Он открыл глаза.
– Нельзя спать на мокром. – Да, она смешно выговаривала букву «р».
У нее были вьющиеся каштановые волосы, челка, большие глаза и чуть длинноватый нос. На ней было зеленое матерчатое пальто с поясом и коричневые сапоги на молнии.
– Я больше не буду. – Он улыбнулся. – Мне приснился Ленинград.
– Я там никогда не была. Где только не была, а там – нет. – Она дунула, и челка взлетела вверх. – Как вас зовут?
Он назвал свое имя, а она – свое.
– Надо обязательно съездить в Ленинград, – сказал он. – Там есть Исаакиевский собор.
– Я знаю. Может, и получится. Следующим летом.
– Обязательно.
– До свидания, – сказала она и, отвернувшись, пошла поперек бульвара. Остановилась. Обернулась. – Мне домой. И вы бы не сидели. Правда, холодно же.
– Ничего. Я еще немножко, – сказал он. Она кивнула и пошла к ближайшему дому. Зашла в арку.
А через несколько минут в окне на четвертом этаже загорелся свет. А еще через мгновенье появился ее силуэт. Он махнул ей рукой. И она помахала в ответ.
И для него этот взмах означал, что тогда, в Ленинграде, мама была права.
Любовь не исчезает никогда. И никуда.
– Всю зиму до хлева и обратно. До хлева и обратно. И больше никуда.
Я молчу, прихлебываю чай. Ждем ее мужа, когда он вернется с работы. Сидим на кухне, а рядом, в комнате, две сестренки дразнят друг друга. Ссорятся. Бранятся.
Лена – так ее зовут – не обращает внимания. Только улыбается.
– Если что-то купить, я мужу звоню. Он захватит. Да на покупки три тысячи в месяц остается.
Это правда. Три тысячи в месяц. Остальное съедают кредиты и долги. Муж зарабатывает прилично. Тысячу в день. Двадцать пять выходит в месяц.
– Бросить бы все, да страшно. Пугливые мы. Нигде не были. Ничего не видали. Как там в других местах жизнь? Как там жить?
Ее мужа пугливым не назовешь. Он работал в милиции, и в конвоировании, и в задержаниях участвовал.
– И муж боится. Привыкли мы здесь.
Однако она понимает: ехать надо. И рассуждает сама с собой:
– Все здесь опустело. Скорее бы весна-лето, в огороде хоть копаться. – И тихо, сама себе: – А надо бы, может, под Псков куда…
И я говорю, что надо, но мы оба понимаем: не просто это – с места на место скакать, когда привык, прирос и когда нет в характере этой тяги к переездам…
Мы оба понимаем, что не переедут они никуда. Может, подросших детей проводят, а сами – нет.
– Хотели в гости пойти, а некуда. К кому пойдешь? Все так сидят, а кто гуляет, так к тому – тем более.
В доме тепло. За окном мгла.
– Сашка устает. Тяжело в лесу. Тяжело.
И правда. Сашка рубит лес. Работа не из легких.
Залаяла собака. Топот на пороге. Сашка пришел. Обнялись.
Ужин из одной сковородки с Сашкой. Макароны с тушенкой. Хлеба одна корка. Не хватило хлеба.
Ничего. Я не ем мучного. Да и вообще стараюсь есть чуть-чуть. С одной стороны, не есть нельзя – обидишь, а с другой – надо побольше оставить Сашке.
Опять чай. Сашка курит у печки.
– Нет, ну куда ехать-то, и что там… – Он смотрит на меня так, будто я предлагаю что-то уж совсем несуразное.
– Действительно, – вдруг поддерживает его Лена, – мы уж здесь доживем.
Доживут. Они младше меня лет на пятнадцать оба. Что ж. Я соглашаюсь. Жить везде можно.
Лена уходит укладывать детей. Мы с Сашкой остаемся одни на кухне.
– Ты приходи каждый вечер, – говорит он. – Хлеб приноси. Горячее с нас.
Улыбается. Глядит на меня.
– Слышишь, обязательно приходи. А то под вечер… – Он осекается, терпеть не может жаловаться.
– Ты ж усталый…
– Ничего. Приходи. Поговорим… – Он замолкает. Задумывается, точно ищет тему для нашей будущей беседы. Ищет и не может найти.
В детской стало совсем тихо.
Я уже не жду, что Сашка заговорит, а смотрю в окно. Там мгла непроглядная. Там холодная зима и снежная пустота.
Громила и Альбин
Громила и Альбин навсегда исчезли из моей жизни. В ней остались усталая мама и больной отец. Остался черный пруд, где наполовину затонула брошенная строителями катушка из-под кабеля, на которой краской была выведена восьмерка. И что-то еще осталось, что-то еще…
Незадолго до этого умер мой маленький брат. Умер тихо, лежа в своей кроватке и наблюдая за цыплятами.
За месяц до смерти мама забрала его из больницы, и я решил, что он выздоровел. Я радовался, что наконец у меня появится товарищ для игр. Что наконец я не буду один. Но брата Диму положили в его кровать и кормили с ложки протертыми овощами и протертым мясом. И он безропотно ел эту гадость и помногу спал. А когда просыпался, то смотрел на обои, разглядывал узоры. И я сказал маме: «Давай купим ему котенка, посадим в коробку, и он будет за ним наблюдать». Но мама объяснила, что котенка в коробке долго не удержать.
В воскресенье мы поехали на Таганку, на Птичий рынок, и купили цыплят. Сейчас я помню только тетку в ватнике и платке, помню ее огромные мужские ладони с грязными ногтями и коробку с цыплятами на ящике стеклотары.
– Берите. Отличные выйдут куры, – сказала она.
– Смотри, – мама улыбнулась своей тонкой улыбкой, вернее, ее подобием, – как раз то, что нужно.
– Хорошие, – я подумал, что действительно это то, что нужно, но мне хотелось взглянуть на Птичий рынок. – Может, еще посмотрим, мам?
Но маме надо было обратно домой. С Димой осталась соседка, и злоупотреблять ее терпением было бы…
– Берите, – повторила тетка. – Отличные куры выйдут.
Мама открыла свой маленький кошелек и достала аккуратно свернутые рубли. Пока она рассчитывалась, я смотрел на цыплят. Они были и правда как раз то, что нужно. Желтые суетливые комочки: некоторые спали, нахохлившись, некоторые смешно бегали по коробке. Пищали тоненько, жалобно и смешно. Я прижимал эту самую коробку, когда мы ехали в автобусе домой. Мне было не стыдно – наоборот, я гордился, что вот мы с мамой купили столько цыплят и везем их моему брату Диме. Теперь ему будет за кем понаблюдать. Мне было не стыдно, нет. Я просто боялся, что они замерзнут, или разбегутся, или…
Мы поставили перед Диминой кроваткой коробку. Я так ждал этого момента. Долгая дорога домой – метро, автобус, пешком, – каждое мгновение я представлял, как Дима увидит наш подарок, как он что-нибудь такое скажет, как обрадуется, как (может быть!) улыбнется.
Дима открыл глаза. Увидел цыплят. И улыбнулся тонким подобием улыбки, как мама.
– Цыплята! – сказал он. – Я знаю, это цыплята…
Он чуть придвинулся к краю кровати и свесил голову вниз, чтобы разглядеть получше.
– Какие… – шепотом сказал он. – Какие…
Я обернулся. Мамы в комнате не было. Меня это поразило – как она могла пропустить такой момент! Я ломанулся на кухню, больно ударившись о косяк двери.
– Мам! Он улыбается, мам! А ты даже не видела! – Я схватил вымытую тарелку и машинально вытер лежащим рядом полотенцем. – Он сказал: «Я знаю – это цыплята», и еще он сказал, что теперь будет за ними наблюдать! А я тоже буду… И записывать… Вот послушай…
Мать обернулась ко мне.
– Хорошо, – сказала она тихо. – Хорошо… что тебе есть с кем играть.
Сказала и уселась за кухонный стол, сложила мокрые руки на колени.
В раковине осталась недомытая посуда, а из крана текла вода.
Утром, пока я пил чай с бутербродом, мама кормила брата и, собрав передачу отцу, уходила на работу. А мы с Димой оставались дома. Теперь, когда у нас появились цыплята, я почти перестал ходить к пруду гулять. У меня появилось дело. Я взял тетрадь и, как настоящий юный натуралист, попытался записывать то, что происходит в коробке. Но происходило совсем мало. Записывать было совершенно нечего.
Они пищали, толкались, ели, пили и спали. Все это быстро мне наскучило. А вот Дима часами смотрел в коробку. Конечно, это куда веселее, чем изучать узор на обоях.
Соседка тетя Зоя, которая приходила за нами приглядывать, пока мама навещала отца, сказала мне:
– Что это он у тебя все время вниз головой? Смотри, как бы плохо не стало. Лучше б почитал ему чего-нибудь.
Она ушла на кухню.
– Почитать тебе?
Я любил всякую фантастику, поэтому возможность почитать маленькому Диме какую-нибудь из любимых книг, да хотя бы Шекли, меня очень обрадовала.
– Нет, – сказал Дима. – Лучше расскажи.
– Что тебе рассказать?
Я немного расстроился. Ведь читать вслух то, что тебе нравится самому, всегда приятно…
– Про цыплят. Я буду смотреть, а ты расскажи…
И я, забросив тетрадь для наблюдений, стал рассказывать истории из жизни цыплят. Сейчас мне трудно вспомнить, что было в тех историях. Помню только, что разделил я этих малышей на два лагеря. Один был в коробке, а второй вымышленный. Тех цыплят, что в коробке, я назвал норманнами, а вымышленных врагов (тоже цыплят, конечно) – англосаксами. Главным королем норманнов стал самый большой цыпленок. Я назвал его Громила. В моих историях он был огромный и непобедимый. И вдруг Дима сказал:
– Громила – это как будто ты. А я?
Я не сразу понял, что он хочет, чтобы я назвал еще одного цыпленка, которого бы он представлял как себя. А когда понял, то выдумал герцога Альбина. Герцог был помощником Громилы. Он был самым маленьким, хитрым и изворотливым цыпленком. Они с Громилой очень дополняли друг друга.
Меня сильно увлекло сочинение историй про этих двоих, и я мог часами рассказывать Диме об их (то есть наших) приключениях. Он слушал и смотрел на цыплят, свесив голову вниз.
Мне казалось – он выздоравливает.
– Мама! Он улыбается. Он выздоравливает.
Мать шла к нему в комнату, и я слышал, как он тихо рассказывает ей про Громилу и Альбина.
Было лето. Я смотрел из окна на пруд. Там лежала катушка с восьмеркой на боку. В черной-черной воде. Диме становилось все лучше. Я ждал того дня, когда мы выйдем к пруду и половим вместе бычков-ротанов.
Мама сказала, что все решится, когда будут результаты очередных анализов. Я не понимал, что может решиться, но маме, конечно, верил. В моей голове было так: придут результаты анализов – и мы сможем идти ловить рыбу.
Сначала пришли результаты анализов, а потом к нам пришел гость. Вообще-то гостей, кроме врачей, у нас не было, а врачи не считаются. И вдруг к нам пришел священник. Мама сказала, что мне и Диме надо креститься. По тому, как она это говорила, я понял, что это нужно больше Диме, но и мне тоже. Я вспомнил, что в школе говорили про церковников и предрассудки. Я не верил школе и учителям, поэтому и решил, что креститься мне надо. Раз мама говорит.
Таких людей, как отец Павел, я никогда не видел. Он был очень суровый. Глаза его показались мне большими, а борода – длинной. Сам он высокий, куда выше отца. И говорил он медленно и степенно. Сначала отдельно, без матери, – со мной и Димой. Он присел на край Диминой кровати и взял его за руку. Но разговаривал он только со мной, хотя мне казалось, что говорит он больше для Димы.
– Как ты думаешь, – спросил он, – зачем Христос пришел в мир?
Я напрягся. Вспомнил все, что знал о Христе. Про него рассказывала мама еще в той прошлой жизни, когда не болел отец.
– Он пришел, чтобы объяснить свое учение людям. Рассказать, что надо верить, что нельзя убивать, воровать, обижать…
Я замолчал. Во-первых, я сказал все, что знал от мамы, а во-вторых, мой ответ показался мне правильным и убедительным.
– Да. Это так, – сказал отец Павел. – Но не совсем. Христос пришел в мир, чтобы искупить наши грехи. И чтобы возвестить, что жизнь есть. Есть. Что смерть можно победить, если верить в Него. Потому что Христос Воскрес…
Он перекрестился. Потом он рассказывал еще про муки на кресте и про явление Христа ученикам. Рассказывал, глядя на меня, но я чувствовал, говорит он для Димы. Диме.
Потом принесли большой таз, и отец Павел стал читать непонятную мне молитву.
– Громиле и Альбину весело.
– Они друзья?
– Да. Самые лучшие.
– Можно поставить их мне на кровать?
Я не знал, можно или нет, но поставил коробку с цыплятами Диме на колени.
– Скоро они подрастут.
– Да, и мы их возьмем на рыбалку.
– Будет весело.
Дима закрыл глаза. Я взглянул на него. Вдруг мне показалось, что сквозь его кожу проступил череп.
– Я хочу пить, – сказал Дима. – Дай пить.
Я встал и пошел на кухню.
– Если Громила или Альбин умрут, они воскреснут?
Я остановился. Мне вдруг стало очень страшно, до мурашек, до дрожи.
– Конечно, – сказал я. – Ты же слышал, что сказал отец Павел. Все воскреснут.
– Хорошо. – Он приоткрыл глаза и посмотрел на меня, и даже мне показалось, что он улыбнулся тоненькой маминой улыбкой. – Хорошо.
Я кивнул и ушел на кухню. Там я открыл кран и стал ждать, пока вода сойдет и станет холодной. Я делал все медленно. Медленно достал стакан, увидел на нем разводы от высохшей воды и вытер их полотенцем. Налил воды. Посмотрел в окно и представил, как мы будем с Димой рыбачить вместе, очень и очень скоро. Но картинки, так легко появлявшиеся раньше у меня в голове, теперь расплывались, рушились. Я не хотел идти назад в комнату. Будто знал, что меня там ждет…
Дима лежал на кровати, свесив голову вниз. Он смотрел туда, где раньше были цыплята. Но сейчас их там не было. Только пол. Цыплята бегали и веселились у него на коленях. А он все смотрел на пол, не моргая.
Мы были сначала в храме, потом на кладбище, а потом дома.
Дома было непривычно людно. На кухне курили. Зеркала завешаны простынями. Невкусный сладкий рис.
На кладбище было жарко и земля падала на крышку гроба. Мне сказали бросить комочек. Я бросил, стараясь не смотреть туда, вниз. На ограде соседней могилы сидела бабочка-капустница.
В храме я запомнил только множество свечей, лицо отца Павла, строгое и торжественное, а за ним, далеко на стене – Христос. И я подумал, что все воскреснут, и Дима, потому что Он обещал. Он обещал. Да. Обещал.
– А куда делись Громила и Альбин?
– Кто? – Мама посмотрела на меня удивленно.
– Цыплята.
Я хотел сказать «Димины цыплята», но осекся, увидев лицо матери: оно было темным и страшным. Она секунду помолчала, точно собиралась с силами, чтобы ответить.
– Я их отдала. – Она опять помолчала. – Им там лучше…
Я почти не расстроился. Лучше так лучше. Теперь Громила и Альбин были где-то в своем мире. Возможно, в Нормандии.
Громила и Альбин исчезли.
А у меня остались мама и отец. И черный пруд перед домом.
И что-то еще. Да, что-то еще…



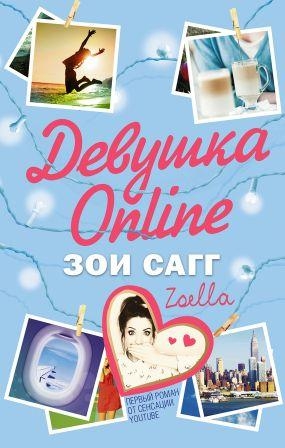


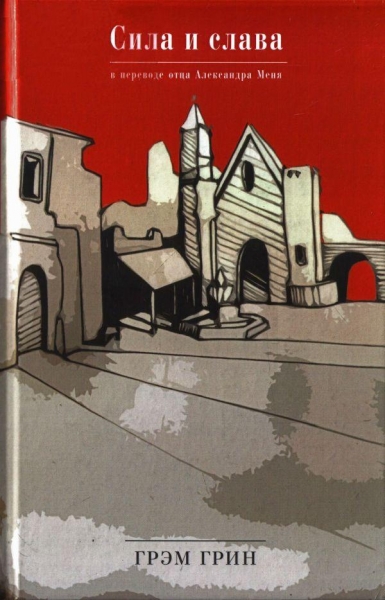



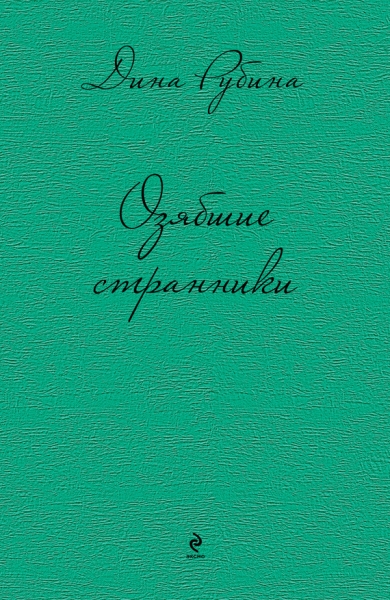


Комментарии к книге «Девушка из разноцветных яблок», Борис Георгиевич Мирза
Всего 0 комментариев