Симптом страха Антон Александрович Евтушенко
Корректор Софья Мулеева
© Антон Александрович Евтушенко, 2019
ISBN 978-5-0050-3424-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Эта книга вдохновлена реальными событиями. Некоторые сцены, персонажи и диалоги являются вымышленными и введены для усиления художественной образности. Любое совпадение вымышленных персонажей с реальными людьми случайно и непреднамеренно.
«Каждая судьба должна обрести право собственного голоса… Если я принадлежу обществу, если я его частица, то не может быть, чтобы выпавшее на мою долю было напрасным, никому не интересным. И почему я должен скрывать случившееся со мной?»
Л. В. Мочалов. In medias res
«Nullum crimen sine poena»1
Глава 1. НЕУЛОВИМЫЙ ДЖО
Вытапливаемые пряными лучами солнца звёзды защербились и померкли. После раннего восхода небо мигом распахнулось, вытеснив прохладу ночи.
За двойными стёклами стояла непробиваемая затишь убаюканного дома, нарушаемая утробным мурлыканьем бойлерной. Обмотавшись длинным прогретым полотенцем и закусив зубную щётку, Игараси-сан, распаренный, прошёл сквозь дом и спустился по ступеням на террасу. Под ногами скрипела и пружинила кленовая доска, пахнущая лесом и сиропом. Под навесом на плите пел чайник, набирая высоту. Прикрыв вторую, остеклённую дверь, ведущую с террасы в спальню, Игараси-сан спешно вывернул конфорку до нуля. По ту сторону комнаты, над подоконником, показался сметанно-белый кулачок. Он деятельно погрозил супругу и обмяк, ускользнув обратно, под щёку спящей Мичико.
Фиолетовый сумрак, устав бороться с семафорами окон, с обидой отступил. Будто призрак проявлялась из темноты остроконечная коробка с решётчатым балконом господина Ватанабэ. Дом хранил молчание. Ватанабэ-сан с женою и детьми были в круизе где-то в Филиппинском море, и до середины следующей недели соседей ждать не приходилось. Пахло кисло хурмой — её недозрелые плоды, глянцевея бланжевым румянцем, поспевали на раскидистых деревьях с искривлёнными стволами и разорванными кронами. В этих местах кварталы жили короткой жизнью, их регулярно подсекал сосновый бор, наступавший с юга. Сосны, занятые бризом, качали ветвями слабо, будто в хвастливом обещании присматривать за человеческим жилищем. Привычных рядов коптившихся на солнце небоскрёбов Игараси не увидел. Мускулистые, имперские колоссы, напоминающие о величии Японии, были обезглавлены шесть недель назад внезапным, но ожидаемым переездом семейства к рисовым теплицам и цикадам. Первые привносили к запаху плодов хурмы тёплый аромат грибницы, а последние — аккомпанируя звуками гастрономии (оглушающее шипение масла на раскалённой сковородке), создавали вкусную иллюзию, что кто-то готовит мацутакэ, будто собранные тут же, через дорогу, под сенью красных сосен. Обильные грибные места перемежались с теплицами, прерываясь только для того, чтобы пропустить следующих в Мориоку гончих Ямабико2.
В больших городах вроде Токио любителей наслаждаться пением древесных сверчков несравненно больше, чем в провинциях. Их пение более разнообразно, чем стрекотание кузнечиков. Игараси-сан припомнил, как до переезда он и сам отклонялся от своего привычного маршрута, заскакивая в гряду больших деревьев, чтобы послушать крошечных земи. Здесь можно было поесть прямо на газете, как кошка, и полюбоваться клумбами с ирисами или золотыми рыбками в пруду. Мелкие цикады с прозрачными зеленоватыми крыльями появлялись в начале июля, они мелодично цвиркали: ми-ми-зе-ми, как будто выговаривали собственное имя. Иногда рокот моторов и автомобильные клаксоны заглушали их перекличку. Представить такое здесь, на новом месте, казалось невозможным. Никакие стрекочущие формы насекомых по силе вытаскивания звуков из себя не могли сравниться с ними — крупными цикадами с непрозрачными надкрыльями, которых местные рисоводы-фермеры называли абра. Может, именно поэтому земи здесь не были в таком почёте: в народе говорят, что абра своим треском способна свести с ума. И всё же Игараси-сан считал, что в цикадном гвалте было больше гармонии, чем в звуках выхлопов четырёхтактных двигателей. А с ума можно сойти от чего угодно: от неудачи в личной жизни, долгого запоя или одиночества. И в этом смысле мегаполис, как думалось Хитоси, томившемся столицей, более располагает.
Терраса и шесть комнат большого дома в сто татами3 были справедливым воздаянием после крошечной квартиры токийского района Акихабара, откуда на протяжении последних четырёх лет ежедневно по будням в 7:02, строго по расписанию, Игараси добирался по синкансэну до Научно-образовательного округа Цукубы. Он и теперь ездил поездом, подсаживаясь на предпоследней остановке. Вместо часа дорога занимала шесть минут и ещё восемь — на рейсовом автобусе до студенческого кампуса.
Научный городок Цукуба, расположенный к северо-востоку от Токио, был синкретизирован из шести городских и нескольких сельских поселений как раз в том году, когда ректорат Цукубского университета предложил сорокалетнему доценту сравнительной культуры Хитоси Игараси вести на трёх студенческих потоках двухчасовой факультатив по исламской экоэтике. Лекции имели успех, не в последнюю очередь и потому, что не сползали в прикладную урбоэкологию, а вращались на орбитах экспериментальной теологии.
Стремительный прогресс молодого города совпадал по темпоритму с карьерным ростом Игараси-сана. Примерно в том же году университет получил от государства солидный грант на строительство и начал активно заниматься социальным девелопментом. Вскоре в маленьком городе выросли целые кварталы аккуратных домиков для сотрудников и их семей. По будням Игараси-сан продолжал вести факультатив, а большое количество свободного времени заполнял изысканиями в области богословско-догматического литературоведения. В выходные в рамках муниципальной программы адаптации мигрантов Среднего Востока он выступал с докладом в Токийской филармонии по приглашению столичной мэрии.
Строительная деятельность Общественного университета привела к тому, что уже через два года после слияния Цукуба административно раскололся надвое на условный центр — Научно-образовательный округ — и периферию — Пригородный район. Игараси-сан заканчивает и публикует монографию «Исламское возрождение». В научном обществе труд встречают тепло, и автор получает заманчивое предложение от ректората создать на их основе собственный спецкурс. Теперь вместо двухчасового факультатива для студентов он читает обязательный для аспирантов курс по арабской и персидской теологической литературе — тридцать пять достойных и воздействующих часов в неделю. Сразу несколько высших учебных заведений страны предлагают Игараси сотрудничать, пытаясь переманить к себе ценного докладчика, и ректорат университета Цукубы спешно пролонгирует контракт с доцентом Игараси ещё на десять лет, согласно которому берёт на себя повышенные обязательства по обеспечению сотрудника жильём.
Новоселье семейство Игараси справит через полтора года — в мае девяносто первого они получат ключи от новенького, только что отстроенного дома в слабозаселённом Пригородном районе. За это время Игараси-сан увлечётся медициной, напишет вторую монографию и даст жизнь двум англоязычным книгам в японском переводе.
На световом табло под самой крышей станции огромным списком выкатывалось расписание прибытия и отправления поездов. На обглоданный сумасшедшим приморским ветром синкансэн Хитоси прибывал с минутным опозданием. Он сам не знал, где потерял эту минуту: может, когда возился с ещё неразработанным замком двери или пропускал на переезде чёрный, осатаневший от внутренней мощи товарняк, а может, когда хрумкал мелким галечником, притормаживая под тенью треугольных листьев долгожителя гинкго билоба, размышляя о старости.
Перед самым выходом он упрятал подбородок в прохладные, пахнущие шампунем волосы жены, и поцеловал в темя. Её лицо, испорченное комедонами, лоснилось в лучах стремительного солнца. Жена старела, всё старилось вокруг и становилось бывшим. Старел и сам Хитоси. Иногда он ощущал себе не человеком, а высокоточным механизмом с запущенной программой-протоколом неизбежного распада. Он знал: этот механизм будет работать исправнее любых часов до тех пор, пока все коды не будут считаны, а программы — исполнены. Впрочем, это не мешало ему, как и раньше, ощущать всепоглощающие токи научного азарта. Токи горячили и крепчали, накатывая волнами, и это действовало, как успокоительное средство. В конце концов, у него ещё есть время, чтобы поизносить, поистереть шестерёнки творческих потенций.
Проскочив створки автоматического терминала, Хитоси выбежал на перрон как раз в тот момент, когда машинист перевёл рукоятку контроллера на первую позицию и почувствовал натяжение между автосцепками локомотива и первого вагона. Хитоси этого почувствовать не мог, но видел, как бесшумно схлопываются дверные створки. Двери уже были закрыты, но у опоздавшего было несколько секунд для срабатывания кнопки их принудительного открывания. За эти несколько секунд он ещё мог успеть заскочить в последний вагон. Машинист перевёл рукоятку на следующую позицию, увеличивая ток тяговых двигателей, и все восемь вагонов осторожно, медленно потянулись вслед за головным — поезд тронулся, и Хитоси побежал. Портфель, раздув кожаные бока, неприятно колотил по бёдрам. Кроме сандвича на перекус, в нём болтались пара книжек и начатая рукопись. От бега и тряски очки сползли по крыльям носа, как салазки по снежной горке. Семеня за составом, отходящим со скоростью бегущего трусцой легкоатлета, Хитоси то и дело поправлял очки в роговой оправе тыльной стороной ладони, подумывая, что не мешало бы позаботиться о собственном здоровье и начать бегать по утрам. Живот и второй подбородок предательски росли, каждое утро напоминая в зеркале, что он не уделяет своему дряхлеющему телу должного внимания.
Рука ухватила поручень, нога почувствовала крепкую подножку. Хитоси подтянулся и фалангой пальца пощёлкал по кнопке. Кнопка категорично загорелась красным. От напряжения пальцы рук дрожали. Не спрыгивать же, в самом деле, когда отвоёвана подножка и оставалось только и всего — попасть внутрь. Вцепившись зубами в портфель, чтобы освободить руки, нечеловеческим усилием он разъединил двери, втягивая тело в тамбур. Как раз вовремя, чтобы проскочить отбойник короткого перрона. Станционная платформа осталась позади, и синкансэн, уже скованный паутинкой города, неспешно повёл локомотив к конечной остановке.
Знакомый чесночный дух сурьмяного антисептика горчил. Пропитанные им шпалы и опоры контактной сети под растопленным июльским солнцем очень быстро начинали отзываться горечью, маркируя железную дорогу полосою отчуждения. Этот запах, успокаивая учащённое сердцебиение и сбившееся от бега дыхание, Хитоси вдыхал с мучительно-тоскливым наслаждением. Он напоминал ему о Ниигате. Жаркий летом, холодный зимой, он был прекрасен в любое время года, потому что Игараси в этом городе родился, там он мужал и рос. В один не самый лучший день родные края стали для семнадцатилетнего Хитоси такой же зоной отчуждения. До этого дня мальчику о доме напоминали мангры, они благоухали густо с июля по ноябрь. Зима неизменно разила птичьими гнездовьями и солью озера Хё, на которое отец с сыном выбирался раз в неделю посмотреть на токующих сибирских лебедей. Пик брачного сезона приходился на декабрь, и именно тогда брачующихся лебедей становилось так много, что озеро словно закутывалось в пуховую перину.
Январь и февраль традиционно щипали морозом и пахли, как и положено, снегом и зимой. Тогда семья выезжала на склоны горнолыжного курорта, предпочитая традиционным лыжам и конькам модный в американских штатах сноуборд, откуда частенько приезжали их навещать кузен с кузиной по линии отца. Весна и начало лета всегда пахли тюльпановыми фермами и магазинами цветов, хотя, конечно, на самом деле, всё было как раз наоборот. Каждый месяц имел свой неизбывный флористический мотив: тюльпана и форзиции — в конце марта, тюльпана и цветущей сакуры — в начале апреля, тюльпана и ириса — в середине мая, гортензии — весь июнь. Именно в том памятном месяце цветущих гортензий всё изменилось. Прежде изменился запах, он и стал предвестником большой беды.
По словам очевидцев, многие в тот день ощущали сероводородные выдохи Земли, но загадки обоняния были разгаданы слишком поздно, когда стрелки сейсмописцев чуть заволновались, фиксируя первый толчок магнитудой в два балла. Следующий — шестибалльный — следом, оборвал провода электрических коммуникаций где-то в окраинных кварталах города. Землетрясение не было столь разрушительным для Ниигаты, его эпицентр лежал севернее, где-то в море. Но пожары из-за многочисленных протечек нефтеналивных портовых терминалов обступили город плотным кольцом. Для тушения сырой нефти пожарные расчёты использовали химическую пену с крепким чесночным запахом сурьмы, волнительным по своей природе и специфике. Он пришёл на смену нефтяному чаду, копоти и удушающему смраду.
Морская волна накрыла северо-запад побережья острова Хонсю через несколько минут после первого подземного толчка, придавив прибрежные деревни, город двухметровым водяным столбом.
Дом семейства Игараси был смыт в Японское море третьей, самой сильной и разрушающей волной цунами. Она нанесла городской инфраструктуре ущерб на миллиарды иен и напоминала о себе ещё четыре недели, не сходя с суши. Потеряв работу, лишившись незастрахованного дома, семья Игараси, как и девять тысяч семей, потерявших кров, была вынуждена уехать из Ниигаты навсегда.
Хитоси тронул мыском ботинка свой портфель, стряхивая нахлынувшие воспоминания. Стальные колёса ворочались с глухим скрежетом неудовольствия от утягивающих их тормозных колодок. Поезд сильно замедлил бег, подкатывая к конечной станции. Холмы, обнесённые сухостойными пихтами, уже отбежали к хвосту состава, и глаза охватывали утекающие к горизонту малоэтажные постройки железнодорожного терминала, стеснённые со всех сторон подлесками литых колонн. Деревья обступали станцию так близко и плотно, что можно было считать иголки на ближних соснах, толстые стволы которых тяжело входили в землю частоколом. Лучащиеся отражённым солнцем колеи-гирлянды утягивали терминал и делали его стройнее. В долгой томительной паузе поезд скрипнул в последний раз и остановился.
В университетском автобусе Игараси окликнули. Исами Кобаяси из бекка-отделения4, с могучим голосом, но хрупкими плечами, хитровато поманил пальцем, указывая на свободное с ним место. Смущённый Хитоси пробился к Исами и неловко сел в угол мягкого кресла, уложил на колени портфель, а сверху руки, чтобы унять дрожь. Для Исами подобные манипуляции коллеги не осталась незамеченными.
— Кампай!5 — воскликнул он, по-своему поняв причину, и одобрительно поморщил лицо в улыбке: — Прекрасное личное время!
Кобаяси страдал серьёзной зависимостью от алкоголя, слишком увлекаясь питьевыми встречами, но, кажется, всё осталось в прошлом, и теперь он предпочитал напиткам словопрения, не уступавшие по крепости и силе действия. Иногда это выглядело со стороны немного экспансивно и назойливо, но Игараси уже привык к навязчивости Кобаяси, традиционно коротавшего и без того недолгую дорогу за беседой. Обсуждать на рабочем месте что-то кроме работы, согласно трудовому договору, Исами не имел права, однако до университетских ворот запретить делать это никто ему не мог. Он слыл известным болтуном и казуистом, и собеседников менял в поездке регулярно, усердно заботясь о чистоплотности и тщательности тем, не всегда, однако, соблюдая ровный тон и рамки этикета. Про него говорили: этому только дай ухватиться за сложную полемику, биться будет до последнего, обкатывая очередной диалектический приём и доказывая и себе, и оппоненту давний сократов тезис — истина рождается не где-нибудь, а в бурном и горячем споре.
— Ставлю, что Сатору Накадзима войдёт в тройку призёров Гран-при, — поделился он прогнозами с Хитоси, когда все расселись и автобус тронулся от остановки.
Исами преподавал приезжим иностранцам японский язык и культуру Японии и в каком-то смысле они с Хитоси были чуть больше, чем коллегами. По мнению Исами их объединяло миссионерство — оба были учителями, педагогами, цивилизаторами, делавшими немало для обогащения и проникновения ближневосточной и азиатской культур друг в друга. Наверно поэтому общение для мужчин выходило прочным и довольно безуронным. Брошенная, казалось бы, не к месту фраза была, по сути, продолжением вчерашней беседы о предстоящем чемпионате Мира по автогонкам в классе Формула-1, который должен будет пройти в октябре на трассе Судзука.
Хитоси немного увлекался автоспортом и понимал, что у Сатору немного шансов, но спорить с Исами не стал. Понимал: себе дороже.
— Время покажет, — примирительно сказал он, не желая растягивать лакомую для Исами тему больше, чем на две дорожные поездки.
— Помяни моё слово, так и будет! — Он откинул со лба сивые волосы, пытаясь уловить хоть тень сомнения в тоне приятеля. Не заподозрив за ним ничего сомнительного, он покивал головой в знак крепости суждения. Тонкие, опущенные вниз уголки губ придавали его узкому лицу брезгливое выражение.
— Забыл спросить, как прошёл сливовый нихон-го?6 — Хитоси решил перевести разговор в другое русло. — Хотел поприсутствовать, но Мичико потребовала закончить с кухней. Коробки с посудой до сих пор не разобраны. Говорит, питаться в ресторане на зарплату доцента накладно.
— Да уж, непозволительная роскошь! Но ты многого не потерял. — Последняя фраза была ответом на вопрос Хитоси.
— Ну, и сколько «улиток»?7 — усмехнулся он, прекрасно осведомлённый о прозвище, придуманном абитуриентами для Кобаяси-сана: «Тараси». — Ни одной?
— Будь моя воля, — проворчал Исами, — ни одной бы не поставил. Но семеро всё-таки прорвались!
— Ты слишком строг к ним, Исами! Вспомни, сколько времени потребовалось тебе на изучение родного языка? Шесть лет? Двенадцать?8 А ты хочешь за полгода сделать из этих мальчиков и девочек матёрых японистов.
— За полгода они и не смогли понять важнейшего: строгой языковой иерархической системы, которой нужно придерживаться. — Исами недовольно цокнул языком о зубы. — Для нас все эти уровни вежливости — обыденность, а для них — излишняя громоздкость языка. Отсюда все нелепости и… три четверти не поступивших. Был на потоке один гебр9 по имени Хасиб, приехал по обмену из Белуджистана. Скажу тебе, юноша с огромным самомнением. Способностей к японскому у него мало, но бил себя в грудь, утверждал, что пехлеви и сложнее, и душеполезнее японского. Каков наглец! Ты, кстати, не знаешь, что это за язык такой — пехлеви?
— Мертвый восточно-иранский язык, имеющий родственные связи с древнеперсидским и санскритом, — ответил Хитоси. — Когда-то очень давно он был языком аршакидов. Они говорили и писали на нём. Письменная разновидность называется пазанд — содержит четырнадцать букв, но…
— Ха! — возликовал Исами. — Четырнадцать! В японском 80 тысяч кандзи! И что пытался доказать этот мальчишка?
Хитоси неодобрительно покачал головой.
— Пехлеви — язык хоть и мёртвый, но великий. Священный текст «Авеста» яркий тому пример! Пусть этот Хасиб приходит на коллоквиум. Мы сегодня будем говорить про этот памятник древнепазандской письменности. Он, уверен, оживотворит наш диспут.
— Да, этот Хасиб порывался к тебе попасть неоднократно.
— Как? Ты мне ничего не говорил!
— Зачем? Абитуриенту бекка правилами университета запрещено посещать аспирантские триместры!
— Прежде всего, он носитель культуры, — воспротивился Хитоси. — Общение будет полезно и ему, и аудитории. Я поговорю с ректоратом. Они должны пойти навстречу.
— Слишком поздно! — теперь Исами говорил ровно, однообразно, будто потеряв всякий интерес к нити разговора. — Этот заносчивый мальчишка не набрал и сорока баллов — вполне ожидаемо. С треском вылетел из курса подготовки. В ближайшие дни его отправят на родину, доить коз, или чем они там занимаются.
— Ничего не поздно! — горячо возразил Хитоси, наоборот, заразившись идеей во что бы то ни стало вытащить гебра на занятия.
Автобус остановился у длинных ворот студенческого кампуса и чихнул пневмоприводом дверей. Водитель предложил пассажирам закончить поездку и пожелал всем хорошего рабочего настроения.
— Ещё поговорим, — засуетился Исами, поддавшись ажиотажу у дверей.
— Кобаяси-сан, приведи его!
Исами сделал неопределённый жест рукою и побежал к пешеходным турникетам.
Четвертью часа позднее Игараси вошёл в один из лекционных кабинетов шестого корпуса, где аудитория встретила преподавателя радостным гулом перемены. Чистовыбритый юноша в нейлоновой сорочке с бериллиевой запонкой на манжете в знак приветствия почтительно склонил голову при появлении в дверях Хитоси и обратился к группе:
— Прошу приветствовать учителя.
Как ни тихо проговорил это Акира Накамура в общем перегуде двух дюжин голосов, в кабинете воцарилась тишина. Голоса растерянно смолкли, кто-то оборвал на полуслове анекдот. Аспиранты дружно встали, приветствуя сэнсея.
— Акира, спасибо. — Хитоси щёлкнул замком портфеля, пошуровал в его тёмном брюхе и извлёк на свет пачку разграфлённых бланков. — Раздай, пожалуйста, формуляры для коллоквиума. Доброго дня всем. Сегодняшнее занятие будем готовить по обычному рецепту, заведённому мной: общетеоретический скелет темы разбираем до обеда, а после — до четырёх — насаждаем его дискуссионным «мясом».
— Учитель, если нет аппетита? — крикнул кто-то из рядов.
— Значит, это экзистенциальный кризис, — поддержал шутку Хитоси и похлопал себя по животу. — Советую произвести ротацию моего спецкурса на курс по философии господина Ватанабэ. Он поможет и с аппетитом, и с аттестатом.
Аудитория дружно рассмеялась.
— Возможно сегодня, — Хитоси дал время пиршеству веселья перебродить ещё одной-двумя шутками, чтобы установить в классе раскованную и ненатянутую обстановку, — у нас будет, как говорят в таком случае французы, clou de la saison — гвоздь программы.
— Учитель, прекратите интригу, — попросил с улыбкой Накамура, пуская бланки по рядам. — Мне по статусу положено знать обо всех «гвоздях». Что вы там задумали?
— Я рассчитываю увидеть на нашем занятии ещё одного участника коллоквиума. Впрочем, не могу этого обещать наверняка. — Он запнулся и оглядел присутствующих. — К слову об участниках: кого-то нет?
— Рюу Сакаи сегодня попросил отгул, — ответил Накамура.
— Уже четвёртый за последний триместр, — напомнил Игараси. — Надеюсь, что моего вмешательства здесь не потребуется, и Рюу наверстает к экзамену упущенное.
— Я об этом позабочусь.
— Ну, что ж, буду полагаться в этом вопросе на тебя, и надеяться, что всё так и выйдет, — Хитоси поблагодарил помощника глазами, упиравшимися в бифокальные стёкла. — Пока же начнём лекцию. Итак, в прошлый раз мы остановились на Заратуштре из рода Спитама.
Хитоси взял в руки мел, подошёл к коричневой доске, намереваясь начать со сложных для написания упоминаемых имён.
— Сегодня продолжим говорить о нём и его 22-парградной Видевдаде…
В первом блок-корпусе университетского кампуса, начиная с двенадцати, было оживлённо. В углу у никелированных столов раздачи очередь круто переламывалась, уходя тонкой струйкой к кассам мимо густого сытного пара, поднимающегося от горячей пищи. Размышляя над тем, что лучше взять на десерт — сладкие шарики данго или печально известное пирожное манжу, от которого каждый год, как известно, кто-то, подавившись, умирает, Игараси-сан всё же отдал предпочтение опасной рисово-гречишной жвачке, подхватил поднос и порыскал глазами в поисках болтуна «Тараси» — Кобаяси. Имея тёплые, почти дружеские отношения с ректоратом, Игараси-сан смог перед обедом не только договориться о возможности привлечения бывшего абитуриента к коллоквиуму на аспирантском курсе, но и упросил руководство университета оказать Хасибу персональную протекцию, и через три месяца отправить ему повторно приглашение на пересдачу зимнего экзамена. Но радостную новость сообщать оказалось некому: в общежитии Игараси узнал, что со вчерашнего дня Хасиб не появлялся. Более того, сосед по комнате — коротышка в пёстрой майке, улыбающийся в пол и мучительно подбирающий слова на ломаном английском — сказал, что пропал не только Хасиб, но и его немногочисленные вещи. Оставалось разыскать Исами и выспросить его о судьбе ученика, но, как назло, и тот пропал.
Столовым помещениям Кобаяси, как и большинство студентов, мог предпочесть эспланаду, и разумно было бы поискать его снаружи. После сезона дождей многие проводили обеденное время на свежем воздухе под тенью пушистых кохий, заботливо высаженных практикантами агрономического факультета на эспланаде перед третьим корпусом — внушительным семиэтажным зданием университетской библиотеки с собственной лабораторией микрофильмирования, подземным книгохранилищем и фонограмархивом. Признаться, Хитоси тоже не очень-то хотел обедать в блок-корпусе столовой, которую перестраивали в прошлом году из-за обнаруженной трещины в стене, возможно, как-то связанной с сейсмической активностью в соседней префектуре Ибараки. В нагретом электропечами увлажнённом воздухе ещё ощущался запах свежего бетона. Местами столовая хранила следы не до конца законченного ремонта.
Оставив поднос и прихватив контейнеры с едой, Хитоси направился к выходу. На каменном парапете у фонтана, словно малые галчата на жердях, гомонили и смеялись вездесущие мальчики и девочки, совсем не выглядевшие на свои семнадцать-двадцать лет. Они смачно тянули из бутылок ледяной чай или «рамуне»10, щурясь от нестерпимо яркого солнца. Хитоси ещё раз обсмотрел прохожих, стараясь выцепить знакомое лицо. Взгляд, помимо воли, задержался на другой фигуре, вырванной вниманием из общего потока. Сильным шатуном толкнулся кадык, лицо и плечи передёрнула судорога. Взгляд упал на мужчину, примерно одного возраста с Хитоси, японца в голубой тенниске с мокрыми следами подмышками. Опёршись на ортопедическую трость, седой как лунь, по-птичьи склонял он набок голову, нерешительно мял полнеющими пальцами пилотку с красными кантами, иногда обмахивался ею и дожидался, когда Игараси обратит на него внимание. Очевидно, он следил за Игараси с того самого момента, как преподаватель вышел из столовой. Высокий, слишком рано убелённый седовласостью, он крупно выделялся в ювенальных роях. Его было невозможно не заметить. Встретившись глазами, японец кивнул и, хромая, двинулся наперерез.
— Охира-сан! — Хитоси поклонился обильно потеющему мужчине и сел на парапет. — Неужели служебная необходимость вас снова привела ко мне?
Хромота придавала движениям мужчины неуклюжую резкость, и он едва не опрокинул пробитый мелкими отверстиями, похожий на решётце стул, стоящий у фонтана. Игараси любезно придвинул его поближе и в предвкушении сытой трапезы провёл языком по сухим блеклым губам.
— Да уж, — сказал Охира, — у НПА11 достаточно сотрудников, чтобы тратить их служебное время на прихотливых клиентов вроде вас.
— Я не набивался к вам в клиенты, комиссар, — улыбнулся Хитоси, подвигая к себе пластмассовый судок с закрытой крышкой, украшенной орнаментом. — Вы обедали? Закажите суп в столовой, повар очень рекомендовал. По части приготовления мисо он непревзойдённый мастер!
— У меня от соевых бобов изжога, — скривился тот. — Впрочем, как от наших с вами препирательств тоже. Ваше бесстрашие меня не приводит в восхищение. Машина негодования запущена, и мы не в силах что-то противопоставить ей. Но! В нашей компетенции не допустить, чтобы в результате пострадали граждане Японии. Для этого я здесь!
— Как только, комиссар, вы осознаете те фундаментальные ценности, за которые ведётся бой, то поймёте, что эту машину остановить можно. Когда у каждого будет возможность ознакомиться с содержанием книги и высказать свою точку зрения, нетерпимость её ненавистников сойдёт на нет, просто потому, что многие из них поймут: получив исключительное право судить, они не имели для этого элементарных возможностей. Я считаю, что люди, в частности, японские читатели, должны иметь возможность судить сами, а не чтобы за них это делал Рухолла Мусави Хомейни или любой другой представитель власти с признаками тирании.
— Это всего лишь книга! — воскликнул комиссар. — И вы должны понимать, что дело, в конечном счёте, не в ней. Это неизбежно касается политики. Но даже не об этом речь. Ваше поведение, в первую очередь, недальновидно и безобразно по отношению к близким людям. Вы думаете, я переживаю за вас… или Мамору?
— Уж точно не он! Надеюсь, вы не притащили его с собой? — усмехнулся Игараси и шутливо оглядел себя со всех сторон, словно кто-то, в самом деле, мог прятаться в фонтане за его спиной.
— Японские налогоплательщики всё так же платят триста иен в час за вашу безопасность, которой вы пренебрегаете и упорно…
Хитоси набросился на суп и потому невнимательно, не глядя в сторону Охиры, отозвался:
— Это Мичико позвонила вам и велела провести со мной очередную воспитательную беседу?
— Что? — запнулся Охира. — Нет! Я действительно виделся сегодня утром с вашей женой, когда заехал за вами домой. Мы разминулись.
— Город Токио — большой город. Не всегда получается добраться до нужного места вовремя. Но вы могли бы позвонить!
— Это не телефонный разговор, — отмахнулся Охира. — Я добивался личной встречи, чтобы…
— … чтобы, — нетерпеливо, но мягко перебил Хитоси, — в очередной раз напомнить мне о деньгах японских налогоплательщиков, которые из-за моей недальновидности и безобразности, говоря вашими словами, уходят в никуда. Но я не вижу большой разницы между тем, ходит Мамору Канагава за мной по пятам или сидит в кобане12, играя в го с напарником. Так или иначе, он получит свои триста иен, и польза для общества в обоих случаях будет одинаково сомнительна. Так?
— Играл с напарником? — переспросил Охира. — Если это подтвердится, Канагава получит выговор.
— Господин комиссар! — Хитоси отправил последнюю ложку мисо в рот и удовлетворённо отставил пустой судок. — Простите, но вы акцентируете своё внимание вовсе не на том. Я пытаюсь объяснить вам, что не нуждаюсь в опеке выпускника полицейской академии. Это смешно!
— Всё дело в том, что Канагава — выпускник академии? Вас это смущает?
— Будь он хоть трижды Пелсией!13 — воскликнул Хитоси, выставив перед собою палочки с гункан-маки и отправив рис с ломтиком лосося в рот. — Конечно, дело не в вашем подчинённом. Если мы хотим жить в открытом обществе — нам не следует бояться.
— Я не стал говорить вашей жене, но кое-что случилось. На прошлой неделе, в среду.
— Это связано с «Аятами»? — Игараси поднёс край бумажного стаканчика ко рту, но не отпил, а лишь смочил губы.
— Боюсь, что да, — ответил сдержанно Охира. — Издательство не связывалось с вами, так ведь?
— Они замолчали этот факт, чтобы не прикармливать панические настроения. Признаться, я и сам узнал только вчера. Досадная промашка пресс-службы.
— Да что случилось, комиссар? Говорите же!
— Третьего июля профессор драматургии из миланского театра Пикколо получил ножевое ранение в своей квартире в Леньяно. Его звали Этторе Каприоло. Вам знакомо это имя?
— Возможно, — задумчиво проговорил Игараси, пробуя несколько раз повторить непривычное имя. — Он был на моих лекциях?
— Нет, он не бывал в Японии, но я думал, вы могли бы знать друг друга, поскольку он, как и вы, занимался переводом.
— Вы говорите: «его звали»? — Хитоси попытался справиться с ломающимся дыханием.
— С ним всё в порядке, — поспешил успокоить Охира. — Он получил множество поверхностных ран, но его жизни в настоящий момент ничего не угрожает. Ему наложили швы и сделали операцию по сшиванию сухожилия пальца. На следующей неделе врачи обещали выписать Этторе из больницы.
— А кто был нападавшим?
— Полиция Милана не произвела никаких арестов и не выдвинула никаких версий о мотивах нападения.
— Почему вы тогда думаете, что это может иметь отношение к переводу?
— Очевидно, это имеет самое прямое отношение! — резко осадил Охира. — Вчера из Милана по телетайпу я получил стенограмму допроса Каприоло. Согласно его показаниям, третьего числа около двух часов пополудни в театр позвонил мужчина, представившись сотрудником дипломатического ведомства. У говорящего был характерный арабский акцент. Хотя, по словам господина Каприоло, по-итальянски тот говорил весьма недурно. Сославшись на литературный интерес к… — Охира запнулся и потемнел лицом, недовольно покривившись своей забывчивости. Он пропустил руку в карман, чтобы подсмотреть в блокнот.
— «Харун и море историй», — подсказал Игараси.
Комиссар сверился с блокнотом и удивлённо посмотрел на преподавателя.
— Верно. Именно этот перевод Ахмеда Салмана Рушди профессор готовил для детского лингафонного центра в Риме. В дальнейшем он собирался предложить театру Пикколо поставить спектакль «Тысяча и одна история Харуна» для детей эмигрантов из стран Ближнего Востока. — Охира кончил читать и закрыл блокнот. — Откуда вы знаете?
— Мне знакомо имя профессора, потому что я читал его критический разбор «Харуна» в одном театроведческом журнале. — Хитоси задумчиво погладил ямочку на подбородке. — К сожалению, я не сразу вспомнил. Профессор определённо восхищался тем, что при всей пародийности произведения и его карикатурном подражании арабским сказкам, в историях Харуна есть место сатире и гротеску, не свойственные, скажем, «Книге тысяча и одной ночи», больше известной у нас в Японии, как «Сказки Шахразады».
— Не знаю, может быть! Я не читал. — Комиссар примирительно пожал плечами. — Я продолжу дальше?
— Да, пожалуйста.
Отставив мизинец, Игараси, сочно причмокивая, посасывал чаёк из бумажного стаканчика, будто из императорского фарфора. Взволновавшись на мгновение за жизнь чужого человека, он больше не выказывал своей встревоженности ни жестом, ни взглядом, ни поступком. Комиссару это безразличие показалось напускным, и он покривился оскорбительной самонадеянности собеседника, потому как назвать такое поведение недалёким или глупым он не мог — уличить в подобном крупнейшего в Японии востоковеда и специалиста в области арабистики, комиссару и в голову не приходило.
— Итак, — продолжал Охира, — звонивший заручился лингвистической поддержкой профессора в другом проекте Рушди, но не уточнил в каком. Вместо этого он потребовал встречи, но Этторе, сославшись на большую занятость, предложил направить ему на почту официальный запрос, на который он обещал в самом скором времени ответить. Собеседник согласился и уточнил адрес, на который можно было бы направить официальную почту из дипведомства. Этторе надиктовал свой домашний адрес в Леньяно, полагая, что в многочисленной театральной корреспонденции письмо могло бы затеряться.
Игараси жевал тягучий десерт и блаженно улыбался, словно и не слышал рассказа комиссара.
— Да, да, — сказал он с набитым ртом, отгоняя подозрение Охиры. — И что же было дальше?
— А дальше было то, — разозлился комиссар, — что вечером того же дня, возвращаясь к себе домой на улицу Куртатоне, владение тринадцать, квартира восемь, господин Каприоло столкнулся в дверях с неким иранцем, который насильно втолкнул профессора в его квартиру и под угрозой физической расправы потребовал адрес Рушди. Не получив желаемого, иранец сперва избил профессора, а после пустил в ход нож для разделки рыбы, который прятал в рукаве. Он нанёс несколько неглубоких колотых ран и повредил сухожилие в районе правого запястья. После чего убежал, оставив истекающего кровью Каприоло на полу.
— Это любопытно, но почему, имея эти сведения, итальянская полиция безмолвствует?
Охира смял пилотку, которая лежала на коленях, и в сердцах стукнул пухлым кулаком по ней.
— Они не заинтересованы в огласке. Нападавший, похоже, действительно имел отношение к посольству Ирана в Риме. Во всяком случае, следы ведут туда.
— И всё же непонятно…
— Дипломатический иммунитет сотрудников иранской дипмиссии в Риме не позволяет предъявлять обвинение без весомых доказательств.
— Разве господин Этторе не смог бы опознать нападавшего человека?
— Конечно, Каприоло мог бы опознать нападавшего, но этого мало для доказательной базы.
— А больше улик, — заключил Хитоси, — у ваших итальянских коллег нет?
— Надо признать, — кивнул Охира, — иранец действовал профессионально.
— Профессионально? — с сомнением переспросил Хитоси. — Профессиональные убийцы не пользуются ножами для разделки рыбы.
— Полагаю, он не собирался убивать профессора, — возразил комиссар. — Только запугать! Смею думать, что нападавший не особо рассчитывал, что Каприоло выдаст сведения о месте нахождения Ахмеда. Всё общение Этторе с Рушди сводилось к переписке с правообладателем романа — организацией «Статья 19». У вас же, сразу после публичного объявления автором «Аятов» о своём возвращении к исламу, в декабре 90-го, завязались настолько тёплые отношения, что в деловой переписке вы даже называли его Джо — по кодовому имени, разработанном британским спецотделом, ведающим безопасностью королевской семьи и членов правительства, а с некоторых пор — и безопасностью одного из верноподданных королевы — сэра Салмана Рушди.
Он сузил глаза и внимательно посмотрел на собеседника.
— Сэмпай, вы тоже не знаете о месте нахождения автора «Шайтанских аятов»?
В тоне комиссара звучала виноватость за вопрос, но зрачки по-прежнему тлели неостывающими углями в узкой полосе между сдвинутыми веками. И он добавил:
— Вы вроде не тот человек, кому нужно объяснять, как важно не говорить лишнего.
— Вы, комиссар, только что раскрыли себя самым некрасивым, самым непристойным образом, — поморщился Хитоси. — Теперь мне становится понятней смысл фразы о том, что это неизбежно касается политики. Ну конечно! Вы боитесь не того, что какой-нибудь фанатик-одиночка в своём желании выцарапать проездной в исламский рай зайдёт так далёко, что исполнит карательную фетву14, а того, что в этом ему может оказать содействие гражданин Японии.
— Сэмпай, когда к горлу приставлен нож, выбор не так уж и велик, — тяжело, как камни, ворочая слова, проговорил Охира. — Но смею надеяться, подобной ситуации здесь, у нас, мы не допустим. Я прошу от вас немного: неукоснительного следования утверждённому протоколу безопасности, в рамках которого инспектор Мамору Канагава должен сопровождать вас. Вы не должны препятствовать ему! Кроме этого, с сегодняшнего дня в протокол внесён дополняющий пункт в части обеспечения систематического наблюдения за вашим домом. До особого распоряжения главы столичного департамента два полицейских наряда будут вести круглосуточное патрулирование вашего района.
— Всего мог ожидать от вас, комиссар, но это уже слишком. — Хитоси резко поднялся, стряхивая крошки.
— Как и вы, я отказываюсь мириться с тем, чтобы насилие определяло повестку дня. — Охира попытался перехватить Хитоси за руку. — Вопреки вашим словам, я осознаю ценности, за которые ведётся бой, но и знаю цену этому сражению. Мы не можем позволить стать ему тотальным, оно должно носить, в худшем случае, характер спарринга. Мы не можем допустить ещё один Бомбей15.
— Что вы хотите этим сказать?
— Ходят слухи, что в Англию проникла группа боевиков, чтобы поквитаться с Ахмедом.
— Бросьте, комиссар! — отмахнулся Игараси. — Репутация британских мусульман в результате противостояния настолько сильно пострадала, что они первые же не допустят подобного сценария. Эти слухи не более чем жареные факты для жёлтой прессы, которые журналисты с удовольствием муссируют последние два года. Ваша пресс-служба действительно работает из ряда вон.
Он покачал головой и мягко освободил свою руку из цепкой хватки комиссара.
— Простите, Охира-сан. Вынужден вас оставить.
— Что вы думаете предпринимать? — раздосадованно бросил комиссар вслед уходящему Хитоси.
— Ровным счётом ничего! И я вот что думаю. Если ваши опасения имеют под собой почву хоть на долю процента и мне в самом деле стоит опасаться за себя, очевидно, что соображения японского правительства по этому вопросу должна быть компромиссными, но вот в чём дело! — Игараси удивлённо приподнял брови и посмотрел на комиссара. — Взаимными уступками Япония не добьётся преодоления разрыва между позицией исламистов и позицией Рушди. Всё, что происходит вокруг «Шайтанских аятов», — это следствие нежелания британского правительства вникать в вопросы отношений человека и бога. Всего лишь! Оно основано не столько на безразличии, сколько на скептицизме, точнее на серьёзных сомнениях в том, что кто-то может точно знать, в чём целеполагание исламской добродетели. А принципиальная позиция Джо, за которым я лично не вижу никакой вины, это признание всеобщей греховности, которая, как выясняется, более удобная отправная точка для первых робких шагов к нравственности и добродетельности, как это понимает он сам. Моральный кодекс и этические нормы как самого текста, так и текстологических аспектов перевода остаются на усмотрение благонравности читающего — это не вопрос фетвы, это вопрос личных взаимоотношений человека и его бога.
— Я не могу спорить с вами, потому что это вне пределов моей компетенции, — горько усмехнулся Охира. — Я консервативный буддист и считаю Будду человеком, а это значит, что я отвергаю бога как саму идею. Кроме того, считаю молитвы бесполезным времяпровождением. Нет никакого смысла молиться богам или одному богу — не услышит. Нет существа, которое обладало бы всемогуществом. Не бог создаёт живых существ, они сами создают себя, преисполненные инстинктом смерти, который есть не что иное, как гипертрофированная жажда жизни.
— Обращать свои молитвы к тому, кто не услышит — к Богу — значит, прежде всего, обращаться к самому себе. Возможно, вас именно это и смущает, комиссар?
— Не больше вашего, сэмпай. Не больше вашего…
Где-то на этажах запущенного, усталого здания прошелестел лифт. Недалеко стукнула швабра, загремело ведро. Хитоси снял очки, прикрыл глаза и размассировал глазные яблоки. С секунду сидел неподвижно, после распахнул пошире веки и поводил зрачками из стороны в сторону. Случайным образом он выхватил зрением полосатый диван, кресла для читателей и сияющие полиролью в свете ламп поверхности книжных стеллажей. Книги на них были выстроены аккуратными рядами. Такими же рядами — добросовестно точными и тщательно подобранными в линию — стояли столы, между которых тянулись утоптанные ковровые дорожки. За одним из них — дальним — сидел он.
Если уборщик приступил к наведению порядка, значит, Игараси снова засиделся до закрытия. Преподаватель мельком взглянул на часы и ахнул: четверть десятого. Читальный зал закрывается в семь, но библиотека в восемь, и обычно Хитоси просит библиотекаря доработать этот час. Госпожа Кавамура однажды мягко попеняла преподавателя и обозвала его дзоку — мятежником — за нежелание считаться с утверждённым графиком. Впрочем, проработав за конторкой без малого полвека, она питала явные симпатии к библиотечным книгоедам, и сама до ужаса боялась вырваться из плена списка, рекомендованного к чтению. Любимчиками Кавамуры были Дзюнъити, Иноуэ, Кафу, Мураками — Харуки и Рю, хотя последнего чаще ругала, но делала это с пиететом, что было очевидно: нравится, нравится до немилосердного, отчаянного злоупотребления! Игараси-сан получал в связи с этим преференции, не в последнюю очередь и потому, что разделял с Кавамурой её всепоглощающую, ностальгирующую страсть ко «Всем оттенкам голубого»16.
Здание библиотеки Игараси посещал обыкновенно регулярно, частенько засиживался на последнем этаже фонетического класса и транскрибировал на кандзи микрофиши с клинописными табличками, собирая материал для книги о древнеперсидской империи Ахеменидов. Иногда этажом ниже, как сегодня, он вычитывал в читальном зале рукопись, сверяясь с библиотечными источниками и внося необходимые правки.
Он засобирался. Торопливо нацепил очки обратно на нос, закрыл пухлую от прописи тетрадь, отправив её в портфель, и сложил на край стола стопкой книги. Придётся, промелькнула мысль, упрашивать охранника выпустить его через эвакуационный выход — главный закрывается снаружи и отпереть изнутри его никак нельзя. Если он поторопится, то ещё успеет к десяти на ужин, раньше, чем Мичико начнёт метать в него молнии: она очень не любила, когда муж засиживался на работе допоздна. Впрочем, её гнев можно смягчить предварительным звонком.
Под торшером на журнальном столике стоял старый телефон с дисковым набором, и Хитоси посеменил к нему, смахнув со спинки пиджак, прихватив портфель. Он набрал домашний номер, но в трубке послышались короткие гудки. Ловить, когда освободится линия, Игараси не стал, рискуя опоздать на поезд. Он вдруг услышал два сложно различимых хрупающих звука: так снег ложится ровным слоем на валежник или скрипит после стирки свитер. Игараси обернулся на этот звук, полагая увидеть полотёра или, в крайнем случае, госпожу Кавамуру, которая могла бы вернуться в столь поздний час, оставив по привычке ключи от дома, как это случалось иногда с её ранним Альцгеймером.
Игараси-сан ошибался: вошедший не был университетским сотрудником. Это была крепко скроенная фигура юноши арабского происхождения, который цепким взглядом обмеривал Хитоси. На лице юноши блуждала кривая, соскальзывающая с губ полуулыбка человека, знающего себе цену. Игараси не понимал как, но сразу понял: перед ним стоит Хасиб. Эта догадка не вызывала у него сомнений, хотя молодого человека он видел впервые в жизни. Игараси поднялся с кресла и твёрдым шагом направился к нему.
Пакистанцы — это больше десяти народностей, которые по-разному выглядят, по-разному одеваются и говорят на совершенно разных языках. Жители разных частей страны похожи между собой примерно так же, как японцы и европейцы, то есть — никак. Живущие на севере, близ границы с Индией, имеют светлые глаза и волосы, их фенотип вполне сошёл бы за европеоидный. Если опуститься вдоль этих же границ южнее — белая кожа посмуглеет, серо-зелёные и серо-голубые глаза превратятся в карие и чёрные, и появятся черты типичных представителей ирано-афганской этнографии. На юго-восточной окраине Иранского нагорья и на побережье Аравийского моря эти черты становятся настолько выразительными, что внешность стоящего перед тобою человека не вызывает никаких сомнений — араб. Во внешности смуглого, с кудрявыми волосами и густой бородой юноши всё подчёркивало его иранские корни. В своём размеренном дыхании он плавно опускал и поднимал рёбра, обросшие жилами угрюмой силы. Иранец был крупным для своих лет, и хотя хмурое лицо его ещё хранило детские черты, затёртые ранней возмужалостью неокончательно, тело, давно подвластное отроческому перелому, пускало соки могучести и обрастало великолепной геркулесовой мускулатурой. Рельефы мышц легко угадывались через тунику, которую Хитоси вначале принял за рубашку широкого покроя. Вырез горловины был драпирован шёлковой полоской и напоминал хомут, из-за которого владельцу в ней было невероятно душно. Обильный пот, как от простудного жара, выступал на лбу юноши, наполовину прикрытый всклокоченной пегой шевелюрой. Чёрные, близко посаженные глаза излучали безмолвный интерес.
— Коннитива, — произнёс традиционное приветствие на японском Хитоси. — Ты Хасиб, верно?
Сам вопрос Игараси задал на английском, имеющий в Белуджистане, на родине Хасиба, статус официального, и, получив утвердительный кивок, уточнил:
— Говоришь по-японски?
— Не достаточно хорошо для вас, мистер.
— Для меня? — немного удивился Хитоси. — Очки рискованно сидели на кончике его мясистого носа. Он продолжил на английском: — Кобаяси-сан сказал, что ты хотел говорить со мной.
— Не знаю. Может, о зендских книгах?
— Уж точно не с вами, мистер, — хмыкнул Хасиб. В тоне юноши послышалась ирония.
— Твой скепсис мне понятен, — кивнул преподаватель и благосклонно улыбнулся. Наверное, ты думаешь: что японец может рассказать гебру о его культуре? Может, ты и прав. Может, мне есть смысл выслушать тебя, но, я думаю, каждому из нас есть что сказать друг другу.
— Вы были частью уммы?17 — без явной связи с предыдущим неожиданно задал свой вопрос Хасиб.
— Откуда знаешь? — Хитоси не скрывал своего удивления.
— Интернет.
— Любопытно. Там и про меня можно найти?
— Про всех, — кивнул Хасиб. — За ним будущее.
— Ну, что ж, во всяком случае, это удобно, — согласился Игараси, — но, боюсь, мне никогда не подружиться с этой технологией: я для неё консервативен, да и староват. Предпочитаю узнавать про всех из библиотечных фондов. По старинке.
Хитоси замолчал и поморщил лоб, став похожим на актёра Бельмондо.
— Я был примерно твоих лет, когда уехал из страны, — сказал он. — Пересёк море и пустыню, чтобы произнести слова шахады18 и принять ислам. Я слушал призывы муэдзина с вершины минарета и совершал намаз, ежедневно подчиняя свою волю воле имама и Аллаха. Две тысячи дней я делил с общиной еду, кров и саджжаду, прежде чем вернулся на родину.
— И вы отошли от веры?
— Нет, не думаю. Я по-прежнему являюсь правоверным мусульманином. Не отрицаю существование Аллаха и не держу намерения стать кяфуром19. Почему ты спрашиваешь?
— Потому что я вероотступник. Я отрёкся от Аллаха, и мои молитвы обращены теперь к другому Богу.
— К Ормазду20, — догадался Хитоси. — Но зачем, Хасиб? То есть я хотел спросить, слепа ли твоя вера?
— Слепа? Что это значит?
— Иногда неофит оказывается вернее и прочнее убеждён в своей вере, чем самый усердный богомольник. Потому что его вера безотчётна и бессознательна.
Хасиб неопределённо пожал плечами.
— Моих родителей, правомерных мусульман, затоптали насмерть во время празднования дня рождения пророка Мухаммада, когда мне было пять. Я сирота и воспитывался чужими людьми, признававшими другого бога. Они не пытались склонить меня насильно к своей вере. На иртидад21 я решился сам в день своего совершеннолетия.
Игараси вздрогнул. Он не собирался заходить так далеко в откровениях со странным юношей, испытывающим его вопросами, но помимо воли захотел поделиться и своей историей, которую редко кому рассказывал.
— Хасиб, у нас с тобой много общего! Знаешь, когда моя семья бежала из горящей, разрушенной землетрясением Ниигаты в Токио, я никак не мог принять новый порядок вещей, например такой, как муниципальное жильё или статус беженца. Это казалось чем-то порождённым больным воображением или дурной фантазией. Но нет: это происходило с нами, с моей семьёй. Отец уверял всё будет хорошо, есть помощь от государства, ведь мы были не одни такие. Первые четыре года государство нас брало на поруки: поддерживало пособиями и социальной жилплощадью. Предполагалось, что за это время мы решим вопрос с доходами и собственным жильём. Но отцу отчаянно не везло с работой, а жизнь в Токио очень дорогая. Я помогал семье случайными приработками, потом устроился в порт. Мне предложили пройти курсы водителя погрузчика и подписать трудовой контракт. Конечно, такая работа не была работой мечты, но у меня толком не было образования. Обременённый долгами отец нуждался в моей помощи, так что пришлось на время забыть и про учёбу, и про карьеру. За четыре года мы не накопили на квартиру. Хотя я работал по пятьдесят часов в неделю, мы были вынуждены заключить договор пожизненной ренты и перебраться в трущобные кварталы. Родителям не суждено там было встретить старость. Я нашёл их мёртвыми однажды, вернувшись с ночной смены. Полиция сказала, всё дело в неверно отрегулированной печи. Они отравились угарным газом. Я решился уехать только через год, когда истёк срок моего контракта. Просто сел на пароход с мигрантами-арабами, с которыми в порту водил знакомство. Их виза подходила к концу, они возвращались к своим семьям на родину.
— И вы поехали с ними?
— Звучит дико? — горько усмехнулся Хитоси. — Я дал себе зарок никогда не возвращаться в Токио. Решил начать жизнь с чистого листа, поменять всё — страну, язык, даже собственного бога. Но жизнь заставила забрать свои слова обратно: именно в Токио семь лет спустя мне предстояло встретить женщину и связать наши жизни браком.
Он запнулся, словно налетел на стену с разбегу. Только сейчас до него дошла нелепость места и времени их встречи.
— Хасиб, как тебя пропустили внутрь? Библиотека ведь закрыта.
Он судорожно взглянул на часы, отмечая про себя, что ещё успеет на автобус, если прямо сейчас вызовет лифт и припустит бегом к пешеходным турникетам на выходе из кампуса, от которых через пять с четвертью минут отправится до синкансэна рейсовый автобус. Хитоси даже развеселила мысль, что, как и утром, он будет бороться за драгоценные секунды и право не остаться у пустынного перрона.
— Идём! — Хитоси не стал дожидаться ответа на вопрос. Он поманил Хасиба за собой, указав на лифт. — Я не хочу, чтобы у тебя были проблемы с охраной. К тому же, я опаздываю на поезд, и, если ты хочешь поговорить о зороастризме и исламе, мы можем продолжить беседу в рамках семинара или коллоквиума. Приходи завтра на мои занятия, я обо всём позаботился…
— Завтра не смогу, — покачал головой Хасиб.
— Виза, — догадался Хитоси. — Когда истекает её срок?
— Сегодня. Знаете, мистер, что это значит?
— Если в течение трёх следующих дней ты не покинешь страну, то окажешься нелегалом и будешь депортирован, — больше для себя, чем для Хасиба, пояснил Хитоси. Он привычным движением поправил очки. — У меня есть для тебя хорошие новости!
— У меня для вас тоже, мистер. Аллах любит нас!
Античным жестом Хасиб указал на потолок и произнёс всего одно короткое слово: — Даретра.
Сказано было это на пехлеви и означало — могло бы означать — «читать». Впрочем, могло бы означать и «писать», которое в произношении было очень схожим и проговаривалось с небольшим смягчением первой согласной, которое в зависимости от темпоритма произносящий мог саботировать. В общем смысле слово можно было трактовать и вовсе иначе: как глагольную форму «запомнить» или как существительное — «запоминание». Всё зависело от контекста, но контекста не было. Было только слово, и это слово произнёс Хасиб.
Лифт звякнул колокольчиком, оповещая о приближении, и двери бесшумно откатились в сторону, приглашая внутрь.
— Я не понимаю тебя. — Он в нерешительности замер в дверях лифта и посмотрел на юношу.
— Даретра, — повторил Хасиб и полоснул преподавателя шаветтом для бритья, который прятал всё это время в рукаве.
Первый удар пришёлся по лицу наискосок от правой скулы до нижней челюсти. Это было словно соскользнувшая пощёчина: Хасиб колебался, несмотря на всю свою внешнюю твёрдость и решимость. Не от боли, но от неожиданности Хитоси выронил портфель и почувствовал, как воротник кремовой рубашки, напитываясь кровью, неприятно налипает к шее. В удивлении он провёл ладонью по лицу, размазывая теплую, густеющую кровь, и удивлённо посмотрел на ударившего его Хасиба. Дальше всё происходило быстро. Игараси попытался оттолкнуть Хасиба и выбежать из кабины на этаж, но гебр, физически более крепкий, чем рыхловатый, уже немного оплывающий без регулярных физических нагрузок Хитоси, оттеснил преподавателя обратно и швырнул его к панели управления, покрытой оспинами кнопок. Понимая, что из лифта ему уже не выбраться, заляпанными кровью пальцами Игараси вдавил в панель кнопку с цифрой 7 — в фонетическом классе на седьмом сейчас находился уборщик. Хитоси слышал его и знал, что тот начинал уборку сверху вниз, с последнего этажа до первого, сдавая ближе к утру ключи и инвентарь охране.
Электроника мелодично согласилась с выбором пассажира и двери медленно поползли на место, отсекая палача и жертву от внешнего мира.
— Всем воздаст Всевышний на том свете по его личным качествам, грехам и добродетелям! — порывисто сказал Хасиб. — Аллах помнит всё хорошее и всё плохое. Покаявшихся он принимает в своё лоно с радостью, как принял и меня, когда я оступился и выбрал неверный путь. Гнев правоверных мусульман велик, но велика их щедрость и щедрость Шариата! У нас с вами, мистер, общее только одно. Вы такой же муртад22, как и я. Но вы поколебали свою веру не отрицанием существования Аллаха, а клеветой на него и его пророков. Вы оскорбили ислам, Коран и сунну. Вы мусульманин и знаете не хуже моего, как Шариат предписывает поступать с муртадами. Это самый страшный грех и за него положен смертный приговор. Аллах великодушен ко мне, но он не может быть великодушным к вам после ифты аятоллы.
Задыхаясь от переполнявших его чувств, Хасиб ударил снова. Легенда ножевого мира «Золинген» — с безупречной репутацией самого надёжного и острого — по размерам был не больше мастихина, но в руках Хасиба он был столь же грозен и опасен, как нож-наваха в руке испанского головореза. Второй удар, и третий, и четвёртый последовали без промедления. В отличие от первого, пробивающего не столько бледную кожу жертвы, сколько собственный страх палача, все последующие были чётко выверены в область шеи. Хасиб бил, стараясь попасть в сонную артерию. На крайний раз ему удалось. Пробитая, вместе с задетой и порванной трахеей, она зафонтанировала. Игараси-сан в припадке и агонии, хватаясь за горло, зашатался, потерял точку опоры и, поскользнувшись в луже крови, полетел на рифлёный пол. Тогда он закричал, пытаясь призвать на помощь, но крик вышел визгливым, слабым, каким-то чересчур коротким и предсмертным. Ещё не убеждение, но осознание того что он умрёт в ближайшую минуту-две, кольнуло его истошной и мучительно-цинготной мыслью. Как недомогание, мыселька хронически проникла в уголки пока ещё живого, здравомыслящего мозга.
Двери лифта распахнулись и Хасиб стремительно развернулся, готовый ко всему. В нескольких шагах от него, стоя спиной, человек в рабочем комбинезоне водил раструбом работающего пылесоса по ковровому покрытию. Он был в наушниках, а на поясе болтался кассетный «Волкмен». Уборщик был поглощён не столько работой, сколько музыкой, дёргаясь в такт ей. Хасиб пригладил бороду, опустил готовый пустить в ход шаветт и потянулся к панели управления. Лифт тихо затворил створки и опустился ниже, дёрнулся, подвывая стопорным электродвигателем, и застыл между вторым и третьим этажами. К этому моменту Игараси-сан уже не подавал признаков жизни. Знал ли это Хасиб, методично пуская бритву в ход, кромсая лицо и шею своей жертвы? За всё время он больше не проронил ни слова, ни единого звука не слетело с его уст.
Спустя какое-то время через эвакуационный выход он незаметно покинул здание библиотеки, оставив остывающее тело. Ещё через пять часов, когда уборщик обнаружит его в лифте, вновь инициированный мусульманин Хасиб ибн Сахим будет пролетать над Индийским океаном, возвращаясь домой помилованным за исполненную фетву казнить любого осведомлённого о содержании «Аятов». Он будет шептать её слова, заученные наизусть, не подозревая о своём ближайшем будущем. В песках пустыни Маранджаб зендского кяфура будет ждать участь его жертвы.
Глава 2. LemON/OFF
Подумать только — дисконнект в такой момент! Мало, что зерг раш прошёл с потерями в клан варе, а рейд уже был признан официально срезанным, теперь ещё и это. Кто поверит, что он, Кондрат Непобедимый, тупо слился сервером, а не ливнул во время файтинга.
— Реконект! — жалобно пискнул Ваня Кондрашин, в геймерском миру более известный как Кондрат Непобедимый. — Реконект, мать вашу!
Ваня, пропитываясь смыслом проговорённого вслух, ослабил хватку джойпада и уронил в бессилии голову на грудь. Слепящие зенки браузеров, все, как один, выдали мольбу о восстановлении утраченного соединения.
Ярко освещённое безликое помещение сетевого клуба с множеством компьютерных столов, когда-то скомплектованных в три ряда, а ныне рассыпанных в шахматном порядке, набухало нервотрёпкой. Шевелящийся базар с центрическими волнами недовольных ворчаний-шепотков, заставил выплыть из зоны служебных помещений, огороженных рекламным баннером, крупного роскошного кавказца. Не вынимая рук из карманов распахнутой дублёнки, он полыхнул глазами в причёсанного на пробор интеллигентного студента с беджиком «Администратор» на груди, осаждая его взволнованную, но малопонятную речь.
— Зачэм оправдываэшся? — с каменным лицом возразил сын гор. — Видыш, клиэнтура волнуэтся. Так нэхорошо. Ты дэлай хорошо.
За пятнадцать лет московской ассимиляции Махамбет утратил не способность презирать проявление слабости русских, но свой взрывчатый характер, изрядно мешающий с трудом налаженному бизнесу. Поэтому он ровно с тем же выражением лица с которым начал, вздёрнул мизинец с печатным перстнем вверх, заставляя сисадмина прислушаться к окрикам ретивой «клиентуры».
— Ты дэлай хорошо, — повторил он, словно мантру напутствие.
Студент совсем раздёргал свой носовой платок, прикладывая его к взопревшим щекам и лбу. «Клиентура» была, в самом деле, неспокойна. Но не все сотрясали воздух нецензурным возмущением. Были и те, кто трагедию поверженного интернета переживал втихомолку. Среди таких тихонь особенно трагично, в застойном вдохновении, тревожилась некая особа, засевшая за дальнюю машину час или два назад. Её тяжёлые пышные волосы, приподнятые вверх, были уложены античным узлом с пропущенными сквозь него крест-накрест двумя шестигранниками кохиноровских карандашей. Прямая, бледная и серьёзная, в брючках в облипку, в тренчкоте из струящегося крепа, надетом поверх хаотически весёлой майки с паттернами мышонка Мауса, она пыталась скрыть растерянность, поминутно обращая взор к мерцающему монитору, проверяла сеть.
Когда молодая женщина, загораживая собою подорванное ржавчиной мартовское небо, появилась в дверях интернет-кафе «LemON», из присутствующих никто не обратил на неё внимания. Все были поглощены оптоволоконным носителем великой добродетели. Все, кроме Махамбета, с мрачным автоматизмом долбящего с десяти утра системы наблюдения в комнатке два на четыре, наполовину заваленной коробками из-под системных блоков. После пятничного намаза Маха собирался оставить столицу и до понедельника вписаться в «Горках» с одной пресимпатичной осетинкой. Но потоптаться по ковровым дорожкам усадьбы, принадлежащей когда-то вдове мецената Морозова, а ныне ставшей весёлой подмосковной блатхатой, оказалось не судьба. Сёма требовал личного присутствия на воскресенье и даже обещал наведаться.
После перехода под «синюю крышу», которую Махамбету навязали его новые русские друзья, майор Костолевский стал очень дружен с управляющим «LemONа». Вообще, на языке майора это означало «смольнуть в разработку». Концентрация дружбы нарастала к крайнему воскресенью любого месяца — именно в этот день Семён со свитой из двух-трёх подчинённых заезжал в клуб за данью. Обещание майора наведаться в неурочное воскресенье, спустя всего неделю после очередного визита, сильно разозлило Махамбета. Костолевский это почувствовал, запанибратски взял предпринимателя под руку и нашептал короткую ремарку: «Выборы, Маха. Надо бдить».
Перечить майору милиции Махамбет не стал, хотя на ментовскую паранойю не купился. Какой сценарий может случиться в его «лимонаднике»? Он даже охрану не держал: посещали клуб в основном геймеры-тинейджеры с глазами, подёрнутыми плёнкой. За этим маслом был только фанатизм игры. Он откровенно подрастравливал их. Они жили так, словно хотели устать до смерти, но это у них никак не получалось. У них не было на это сил, разве что совсем немного, чтобы накликать себе мышью симулятивную подделку. Нынешнему поколению вообще ничего не надо и ничего не хочется, кроме, конечно, оптоволокна и стриминговых сервисов. Маха помнил себя в их возрасте. Ему было тесно в Осетии, он очень скоро начал задыхаться. Командные высоты свободолюбивого Кавказа давно уж были поделены и заняты. Он помнил слова отца, часто повторявшего: «мы люди дела — без дела себя не мыслим». Пятнадцатилетнему Махе было приятно включать себя в это «мы», но он ясно понимал, хорошее дело в Ардоне ему не светит: если он останется, то будет до седых волос «поди-подай». Такой вариант его мало устраивал. А этих молодых, их, похоже, всё устраивает. Готовы ли они по молодости выпиливать и поднимать задачи, которые выпиливал и поднимал по молодости Маха?
Что стало с молодыми? Оба его сына — одному пять, другому восемь — тоже зачарованы виртуальной вакханалией и требуют от мира только сетевого подключения. А как же власть и деньги? Нет, люди, конечно, любят не столько власть, сколько значительность, не столько деньги, сколько возможности, и желторотый молодняк — не исключение. За путинские годы ценности, конечно, сбились, но не настолько же. Просто нужны кризисы другой природы. У подростков какие нынче кризисы? Плохой движок игры? Бан за читы? Ошибка 404? Нет, всё-таки не те времена, не те кризисы. Заявлять о себе — отстаивать права или сражаться за свободу — теперь придётся в интернете, а уходить из дома надо было в девяносто третьем. Эти ребята просто опоздали родиться лет этак на…
Стул заскрипел под грузным телом Махамбета, от долгого сидения превратившись в одну сплошную бесчувственную сливу. Он сухо щёлкнул позвонками, раскидав махом головы застоявшийся, запревший воздух. Его поступок, поступок осетинского парнишки, бежавшего ночью из Ардона, из дома родителей в Москву — с рюкзаком на одном плече, в вызывающей майке с профилем «калашникова» — был приправлен солидной порцией безрассудности. Москва не спешила признавать в нём своего. Да, не обошлось без фанатизма, но то был фанатизм особый — с мощью воображения взрослеющего человека, теряющего веру в свой народ и государство. Всё было в той гремучей смеси: и абсурд, и ужас, и восхищение, и свет, и жар, и звук.
После октябрьских событий 93-го Маха осел у друга отца, цветочного барона Баги, подмявшего под себя похоронно-ритуальный сектор бизнеса. Махамбет домой вернулся лишь однажды — на два коротких дождливых дня — почтить память тех, кого расстреливали и взрывали в десятке километров от Ардона — в школе №1 городского поселения Беслан. Уже во Внуково его настигло другое страшное известие. Новость прилетела от Баги, а тот услышал её от «транзитного» приятеля, очевидца событий. Бага привёз с собою каллы, жутко дефицитные из-за повышенного спроса в сентябрьские дни памятного года. Он лично подготовил две цветочные корзины с траурными лентами, доставил их в аэропорт и решил вопрос с багажной службой, чтобы цветы гарантированно приземлились во Владике тем же бортом, которым летел Махамбет.
По приземлении Маха поймал бомбилу и направился на рынок. Купил живого барана, обвязал верёвкой его лапы и морду и двинул на машине дальше, в Ардон, на муниципальное кладбище. Терпеливо выискивал свежий холм земли, а когда нашёл, возложил одну из корзин на общую могилу родителей. Зарезал жертвенное животное и долго скорбел по покойным. Да будет им благодать мертвых, в чью страну они отправились! И пусть они с того света благодетельствуют тем, кого оставили здесь. Иншаллах!
Другую корзину он отвёз к зданию школы, у дырявых стен которой, среди сотен огоньков зажжённых свечей, убедился в одной бесспорной истине — настоящим заявлением в поствоенном мире был и остаётся акт террора. Словно жуткий кадр чернушного кино, которое показывают без предупреждения — истина о мире и некая тайна, которую мы не хотим знать. На этот раз тридцатилетнему Махе было неприятно включать себя в «мы», но он решительно не мог с этим ничего поделать, с этим оставалось только жить. Отца убили в собственном дворе при «зачистке» района, после штурма школы. Мать, не выдержав, умерла на следующий день, так не успев сообщить новость сыну: остановилось сердце. Вопросы о причастности отца остались открытыми, как и история его жизни с бесконечными недомолвками, замешательством и многоточием. Маха предпочёл отстраниться от этих мыслей. Так проще, когда ты в чём-то совершенно не уверен. Махамбет тогда не был ни в чём уверен. В отличие от спецслужб. Спецслужбы, у которых тотально нездоровая страсть к плохим новостям, катастрофам и убийствам, расставили всё в нужных пропорциях и сбалансировали истерию и народный самоподзавод. Вот и появление майора Костолевского в жизни осетинского переселенца, кровными узами связанного с пособниками террористам, Махамбет расценил как неизбежный процесс в создании и обслуге посттравматического психоза общества. Маха не знал, чего от него ждала система — преображения, кремниевой верности? Может быть. Сам майор, аккредитованный действовать от имени системы, очевидно, глубоко плевал на эту систему с высокой колокольни и ожидал получать бенефеции и пользы не только обтирая казёные штаны о казёные же стулья, но и «смоляя в разработку» таких штемпов, как Махамбет. Тем и жил.
Так что Маха с хорошим показателем по дисциплине решил не портить своей репутации мелкого, покладистого коммерсанта, не уличённого ни в чём дурном. Исправно отменил визит в «Горки», запасся банкой растворимого Pele и с утра помчал в свой «лимонадник». Бдящий без малого три часа, он плотоядно ухмыльнулся, вернее, слегка распустил рот под уходящими в бороду усами, когда заметил блондинистую особу с повадками молодой табунной лошади. Молодая женщина, на вид лет двадцати семи-восьми, озиралась всё время по сторонам и как-то дёргалась, будто охваченная нервозностью на грани паники. «Такую я бы оседлал без узды и выездки» — подумал он и распахнул на весь экран одно из девяти превью-окон, внимательно всмотрелся в силуэт русской чаровницы. В руках гостьи покоился крафтовый свёрток, из которого сиротливо торчала белокурая головка куклы. «Русская чаровница» словно почувствовала на себе тяжёлый взгляд невидимого наблюдателя, мельком взглянула в глазок центральной камеры и попросилась за дальний компьютер в «слепую» зону. Маха разочарованно крякнул и потерял интерес в посетительнице, переключившись на телевизионный облик обаятельной Андреевой, где ведущая с наигранным энтузиазмом сообщала о рекордной явке избирателей в Москве.
Между тем гостья заполнила формуляр посетителя, где требовалось указывать фамилию и имя. На этот случай у неё был припасён свой вариант. Зная, что данные не сверяют с паспортными, она бессовестно вписала в бланк: «Бесфамильная Эмилия». Легко и как-то слишком поспешно она одобрила подобный вариант, решив, что для её подопечной это недурной шанс выбиться в люди. Эмилией звали эльфоподобную куклу в комплектации фулсет — с макияжем, париком, одеждой, обувью и даже бижутерией в форме четырёхлистника на тоненькой цепочке. Она была коллекционной штучкой, выкупленной в честных торгах на треть дешевле заявленного прайса. Нэнси, принимая коллекционную лимитку из рук «мамы» в квартире на Басманном переулке, недоумевала, размышляя над вопросом, зачем люди вообще что-либо коллекционируют. Однозначного ответа не смогла бы дать сама пермская подруга, Нэнсина соседка по лестничной клетке, заказавшая в Москве игрушку. Как и любое коллекционирование, занятие это довольно бесполезное для окружающих, но чрезвычайно важное для самого коллекционера.
Нэнси скрывала своё имя. Впрочем, даже имя Нэнси не было её настоящим именем. Она была многолика как бог Янус. Правда, у героя древнеримской мифологии было всего два лика, у Нэнси — больше. Настощее имя — Аня — как-то не прижилось с самого начала. Никто кроме родных её так не называл. Ближе всего к первоисточнику подошёл классный руководитель из родной тридцатой школы, повёрнутый на классической литературе. Капитон Моисеевич называл её на булгаковский манер — Аннушкой. Надо признать, это имя как нельзя кстати подходило к её певучему тембру, грустным глазам и чуть приподнятой — как у ребёнка — верхней губе. Остальные учителя вовсе пренебрегали именем девочки, всё чаще делая акцент на её фамилии. Очевидно, это объяснялось тем, что в классе было четыре Ани и только одна Окунева. Одноклассники из тех же побуждений (исключительно чтобы не путаться) называли её ласково Окунёк. В одиннадцатом Окунёк обернулся благообразной Энни, чему способствовал и немало социальный статус её нового друга Жоры Сергачёва — сильного администратора и неформального лидера их класса. Это имя прижилось и стало как литое. Домашние подхватили традицию, однако часто опускались до привычного их слуху — Анни. Но если пермские друзья знали её как Энни, то для питерских она была и навсегда останется без всяких предысторий и отсылок Нэнси, просто потому, что так её представила тусовке Ленка. Почему Нэнси? История умалчивает, но, возможно, всему виной Милдред Бенсон. Во всяком случае, Нэнси против не имела ничего, ведь и она когда-то взахлёб читала книжки о похождениях юной детектессы Дрю.
Администратор — студент, причёсанный на косой пробор, с одноимённой табличкой на груди — предложил выбрать свободную машину, распаролил запись и выдал интернет. Нэнси поблагодарила лёгким вежливым кивком, заказала сок манго, предложенный ей, и терпеливо выждала, пока заказ исполнят, только потом углубилась в монитор.
Кукольное украшение в виде кулона сине-зелёного клеверного лепестка на поверку оказалось стилизованным флеш-накопителем. Эмилия, скрестив под полиуретановыми грудками полиуретановые ручки, сделала вид, что не заметила, как её лишают драгоценности, однако Нэнси показалось, что в печальных немигающих глазах застыл немой укор. Кулончик утонул в зеве usb-порта, и на рабочий стол выкатился файл-контейнер с архивированным каталогом. Распаковав архив, она принялась за работу. Да, в её планы, в противовес соседям, не входило доводить персонажа до левел капа, охотиться на нубов или гоняться за ачивментами на сетевых просторах Counter-Strike. Отпивая короткими глотками из высокого, похожего на лабораторную колбу стакана, она методично наводняла интернет безликой массой битов, пронесённых под секретом кукольной сообщницей.
«Файлзилла» дал зелёный свет, после того как Нэнси проверила залитые файлы офлайн. Всё работало! Всего один клик мыши, всего один «ok» отделял текст от важной сюжетной точки, формировавшей структуру летописи A.N.Owen. Ok? Шестнадцать версий происхождения двухбуквенной аббревиатуры, позаимствованной неведомо из какого языка, не могли теперь вместить в себя весь грандиозный смысл, который в неё вкладывался: O.K. символизировал броневичок истории с его стальной трибуной. Обречённые победители в эпоху исчерпаемости. Ok! Дело сделано — и кнопка кликнута.
Гиперчувствительные проводники тока и света — многожильные медные нити и оптические волноводы — подхватили материю текста, разбитую на электроны и фотоны, и понесли со скоростью триста километров в миллисекунду к провайдеру, на серверы и дальше, проникая в домашние компьютеры, смартфоны и лэптопы. Ничем особенным этот исторический момент отмечен не был. Разве что бесстыдно моргнул экран раз или два, уступая дорогу служебной информации с кодом ошибки подключения. К нему добавился бесполезный трёп о необходимости проверить кабель, перенастроить абонентское устройство или, в конце концов, обратиться в службу технической поддержки.
На подхвате у случая Нэнси вся дёрнулась, цокнула языком — от ожидаемой неожиданности. Она словно предчувствовала что-то подобное. И как некстати заболела височная кость, будто кто-то маленький, противный долбил в неё своим крохотным, но цельнолитым свинцовым молотком. Тук… тук… тук! Нэнси торопливо потянула за цепочку флешку, спешно сунула её в потный кулачок и быстрым шагом, едва ли не бегом, рванула в направлении незамысловатой стрелки WC. Холодными лапками она цапнула дверцу кабинки, вкладывая кулон в щель между дверцей и перегородкой, сильно дёрнула, переламывая четырёхлистник пополам. Мощности хлипкой туалетной дверцы, впрочем, не хватало на акт вандализма, поэтому, конвульсивно дёргая задвижку, не желающую входить в расшаренный паз, Нэнси заперлась изнутри, достала из кармана брючек копеечную зажигалку, щёлкнула кремнем, отозвавшимся неровным на гуляющих сквозняках огоньком, и, словно заправский алхимик, нацедила пламя под надломанный четырёхлистник. Сине-зелёный пластик тревожно оплыл, теряя знакомые флористические очертания, и угрожающе зашипел, превращаясь в клейкое бесформенное тесто. Гремучая капля сорвалась и упала в ложбинку между большим и указательными пальцами. Нэнси вскрикнула и зашвырнула прилипучую улику в унитаз. Зарычала помпа и коловращение навсегда увлекло лепесток в ассенизационно-хтонические недра.
Литература и кино пропитывает нашу жизнь пробковыми артефактами пародий, отстраняет от самих себя и превращает некоторых, если не многих, в актёров и актрис. Словно солнечный загар, ещё не гарантированный в южных широтах, это может сопровождаться желанием поиграть в героя, в «добытчика», желательно с тотемным именем, как у краснокожих индейцев. Но к бледнокожим загар не липнет, и приходится довольствоваться иными архетипами. Больше всего Нэнси ненавидела себя за то, что следовала модели беспокойной фигуры, неизменно и с эсхатологическим восторгом ждущей брюха чудовища, которое, словно в дурной сказке, однажды «придёт и заглотнёт». Победа космоса над реликтовым хаосом в её мире было событием возможным, но маловероятным, поэтому она всегда и везде неизменно ожидала подлянку. Это даже стало своего рода ритуалом. Противоядием выступала схема, которую можно было бы назвать «Отвоёванное могущество». Она выражалась в цепочке бесхитростных действий, направленных на мессианское спасение. Если не помогало и это, всегда существовал план Б: спуск в пренатальное состояние. Нэнси садилась на корточки, обхватывала колени руками, ныряла в них головой и в такой позе пребывала до тех пор, пока базовый миф, миф о субъективной безопасности не становился par excellence23. Кажется сейчас обошлось без плана Б: отвоёванное могущество в лице оперативно уничтоженной улики вселяло пусть временную, но победу где-то на перифериях космоса.
Мутно-голубое зеркало над умывальником показало долгий, вымученный взгляд, пока Нэнси утишала боль от ожога ледяной струёй воды. Затем женщина схватила остро пахнущую кубатуру мыла и, словно заправский хирург, намылилась по локоть. Мыло не то пахло лакрицей, не то воняло рыбой, Нэнси для себя так и не решила. Она поспешила избавиться от хлопьев серой пены и, тщательно отирая руки метром бумажных полотенец, вернулась в зал.
Вот тут-то «бледнокожесть» снова дала о себе знать: судьба в очередной раз подкинула посвятительное испытание в лице богатыря-абрека из бордюрного камня и хвощ-травы. На полпути к компьютеру дорогу Нэнси преградил Маха и показал на её машину, подле которой интенсивно возился студент-администратор.
— Дэвушка, рэмонт, — сказал богатырь-абрек с мягким кавказским акцентом. — Надо ждат пока.
Нэнси прокашлялась, нарочно выразительно, как курильщица со стажем. Выигрывая время, она лихорадочно прокручивала в голове смысл брошенной фразы и варианты ответа. Как назло, в сознание лез только немой вопрос: «Как можно отследить так быстро?»
Наблюдая многострадальные блики, блуждающие по лицу Нэнси, Махамбет решил упростить свой посыл до удобоваримого: «Ми нэ работаем нэмножко, пока мой сотрудник устраняэт поломка». «Сотрудник» оторвался от нутрей раскуроченного системника и помахал рукой.
— Чего-чего-чего? — зачастила Нэнси, а сама подумала: «Сейчас что-то будет, что-то нехорошее кружится в воздухе».
Теперь уже казалось наверняка, что все фальшивинки разлетелись напрочь. Геометричность мира стремительно схлопывалась, Нэнси вовсю чудились косые взгляды, которые бросали на неё хмурые подростки, высыпающие наружу, чтобы перетряхнуть переменкой-перекуром принудительную паузу. С трагической серьёзностью она кивала, как бы соглашаясь с бородатым горцем, с хитрым прищуром поглядывающим на неё, и неожиданно бросилась к дверям, распихивая на ходу острыми локтями давку.
— Вот это залепон, — услышала она в спину от кого-то, кому, должно быть, прилетело от неё локтем. — Ты давай, коммуницируй тут с толпой, с толпой всегда считаться надо!
— Приспичило провентилироваться? — не унимался другой какой-то недовольный скрипящий, как несмазанные петли, голосок. — Притормози ходули, ты не одна.
— За языком своим следи, Дуста, — неожиданно поддержал Нэнси первый голос. — А то ща сам у меня покандёхаешь отсюда на своих двоих.
— Ты чего, Кондрат? Тётенька понравилась?
Продолжение разгорающейся перепалки Нэнси не слышала. Лишь у витой решётки чугунного литья, ограды одного из трёх кипящих толпой вокзалов, она сбросила темп и перешла на шаг, быстрой пружинистой походкой вливаясь в чемоданно-дорожный эпос. Мирное надругательство над нервами стоило ей густой россыпи красных пятен, разбросанных по лицу. «И чего я так испугалась?» — размышляла она, растирая ладонями пылающие щёки.
— Ну вы и бегаете! — Кто-то тронул её плечо. — Кажется ваше. Просили передать!
Запыхавшийся Кондрат протянул Нэнси свёрток.
— Моё сокровище, Эмилия, как я могла тебя забыть! Большое спасибо!
От нервов Нэнси задорно рассмеялась, прижимая к себе куклу.
— Да не за что! — пожал плечами подросток. — Ты чего такая весёлая?
— А ты чего такой назойливый? — вдруг взяла она на абордаж того, сперва болезненно реагируя на его намекающее на возраст «вы», тем сильнее оттеняющее молниеносный, фамильярный перепад на «ты».
— Я умоляю! В каком месте? — Он обшлёпал себя по карманам, выцепил пачку с последней надломанной у фильтра сигаретой. — Не будет спички?
Нэнси протянула зажигалку.
— На поезд опоздала, что ли? — Далеко не с первой попытки юноша закурил.
— Назойливый… ещё и любопытный.
— Просто спросил, — он пожал плечами. — Ты приезжая?
— Что, так видно?
— Вообще-то да, — заметил он, приправляя авторитетное мнение горьковатым дымком.
Подросток был некрасивым, со следами давней, может быть, детской ветрянки на щеках.
— Ты аккуратней в Москве, здесь на вокзалах торбохватов много. Они таких как ты, приезжих, трусят.
— Кто это?
— Ну, карманники. Меня, кстати, Иваном зовут.
— Спасибо за совет. Иван.
— Фарцу тоже обходи сторонкой, никогда ничего у них не покупай, — напутствовал Иван. — Как зовут? Откуда приехала?
— Не всё ли тебе равно?
— Не, мне фиолетово. Просто есть маза на полсотни, что я стрельну твой номер телефона.
— Это с кем?
— Ну, с моими бразерсами по игре!
— С Дустой? — припомнила она погоняло обидчика.
— А, тефтелина неотёсанная. — Иван пренебрежительно махнул куда-то в сторону. — Ни вкуса, ни конъюнктуры. Всегда без повода лезет в места поуже. Я ему банку вазелина подарю на днюху. Для таких трудных случаев вещь незаменима. А на тебя я поспорил с Торчиллой.
— Спасибо, конечно, за откровенность! Только я не могу дать тебе номер телефона, потому что его у меня нет.
— Логично… технично! Тогда айда к нам! — подозрительно быстро сдался Иван. — Мы на Тибет, наверно, запулим сейчас…
— Ну, на Воробьёвы. Там будет баттл века в «вольфенштейн». Сечёшь приставочные игры?
— Компьютерные игрушки? — покривилась Нэнси. — Думаешь, мне это интересно?
— Почему нет? Ты такая большая, а в куклы ещё играешь, — Иван многозначительно кивнул в сторону Эмилии. С сигаретой между большим и указательным пальцами, он хитрованом смотрел на Нэнси и цыкал по сторонам длинными плевками.
— А ты такой маленький, а уже к женщинам пристаёшь! — разозлилась Нэнси. Её глаза возбуждённо заблестели, и суровая складка мелькнула в уголках обветренных губ.
Любивший напускную, рассчитанную на эффект, распорядительность, подросток аж обмяк от колоссальной радости освобождения. Для него в этот момент будто отвалили плиту и он в самом деле глубоко задышал. На его лице с большим и узким, как прорезь ртом, полным острых, хищных зубок, отразилось что-то щучье.
— Ну что поделать, если ты мне нравишься.
— Ух ты! — искренне восхитилась Нэнси. — Ухудшение качества человеческого материала выходит на принципиально новый уровень.
— Я не материал! — закричал Иван и внутренняя сталь прорезалась в голосе.
Идущие навстречу люди, с каторжными лицами тянущие брюхатую поклажу, удивлённо реагировали на этот вопль.
— Ты чего орёшь, мальчик? — шикнула на него Нэнси. — Хочешь угостить кофе — угости. А громкими словами незачем бросаться… мы не в театре народной драмы.
— Логично… технично! — Недружелюбность так же мгновенно, как и возникла, отлетела от лица Ивана. Такая постановка вопроса его вполне даже устроила. — Торпедой найдём буфет. Кофе это заништяк, если со всеми делами, с пироженкой.
Неожиданно грохнула музыка и из-за башенки Казанского вокзала выплыла стремительная и раскрасневшаяся толпа молодых людей возраста Нэнси или немногим помладше. При виде молодецко-залихватской людской массы Иван побледнел и как-то суетнулся. Возглавлял шествие заросший бородой, будто лесной дух, сумрачный мужчина, высокий, полноватый, в полувоенном френче, галифе и сапогах, в энкэвэдэшной фуражке с блестящим заломанным козырём. Лицо его пылало, будто его до этого кунали в прорубь. Всем своим видом он смахивал на следователя из лубянских подвалов. Вот только музыка никак не соотносилась с его образом. Из раздолбанного гитарного комбика гремело:
Из говна, из говна, выросла моя страна,
Ты в говне, да я в говне — жить приятней нам вдвойне!
Люди с удивлением вытягивали шеи и озирались на шумный разноброд, полагая, что снимают какой-нибудь очередной халтурный сериал. Буффонада, и в самом деле, выглядела чертовски нелепо и халтурно. Кто-то случайно ввинтился в стадную массу, его подмяли под себя и выплюнули расхристанным с обратной стороны. Массовка перетекла на проезжую часть Краснопрудной. В руках молодчиков вспыхнули фаеры. Быстро, по-военному, они блокировали автомобильное движение, образовав коридор, пока соумышленники действа отходили к монументу Мельникова.
— Кто это? — Нэнси тревожно растрясла рукав новоиспечённого знакомого.
— Футбольные фанаты, наверное, — неуверенно отреагировал Иван.
— Давай уйдём!
— А что, я против? Отступаем к метро. Только тихо. Возьми меня под руку.
Нэнси послушно взяла Ивана под локоть. Странная и неожиданная мысль посетила её. С этим нагло-весёлым какаду, подумала она, мы, наверно, смотримся нелепо. Странно было думать об этом сейчас, но почему-то ни о чём другом не думалось. Может, и к лучшему.
Движение колонны застопорилось. С хмурых небес полетела едва заметная белая моль, как вдруг её разбавиликрупные чёрно-белые листовки. Они петлисто взмыли вверх, запуленные прямо из толпы, и, медленно кружась, разлетелись по площади. Укачанные ритмом, опали к ногам прохожих.
— Владимиру Ильичу — свободу! — неслись выкрики. — Свободу предводителю!
Рой клаксонов оглушил площадь трёх вокзалов. Листовки появились на стёклах авто. Во избежание водители предпочли остаться внутри тёплых, безопасных салонов и только надрывно сигналили, требуя дороги.
— Это не фанаты, — усмехнулся Иван, отщёлкивая пальцем окурок.
— Я уж поняла! Это они Ленина хотят освободить? Из Мавзолея, что ли?
— Не-а, это лимоновцы. У них, кроме Эдички, есть ещё один партийный лидер. Владимиром Ильичом зовут.
— Так и зовут?
— Не знаю. Может погоняло подпольное. Их вождя на конспиративной малине фээсбэшники приняли. В новостях передавали. Не слышала?
Нэнси, кажется, что-то такое слышала.
— Это же они забрасывали яйцами и тухлыми томатами известных политдеятелей?
Ваня многозначительно кивнул.
— Отморозки лютые! — Он перехватил руку Нэнси и крепко стиснул её в своей ладони.
— И часто у вас такое происходит?
— Не на слуху. Но сегодня день-то знаковый.
С другой стороны площади, со стороны Московского универмага запоздало появились «газоновские» автозаки, которые тут же залетели в крепкие тиски скопившегося автотранспорта. Усиленный щитами, шлемами, дубинками, ОМОН выступил минутой позже. Он полил ручьём наперерез на заключительной пламенно-полемической ноте «Красной плесени». В беспрецедентном сочетании комического и ужасного, демонстранты, спотыкаясь об ограждение и друг о друга, устремились на холм. Попытки завести толпу успехом не увенчались. Никто не ожидал со стороны органов незамедлительного реагирования. Минуя памятник, людской поток в плотной дымовой завесе от горящих фаеров быстротечно перетекал к Ленинградскому вокзалу.
— Не овощ, не овца! Не овощ, не овца! — скандировали молодчики, и самые первые идеологи этих звуковых гармоний — в глухих шерстяных балаклавах, закрывающих лица — достигали противоположной стороны улицы, заставляя любопытствующих зевак и случайных прохожих рассыпаться горохом по углам и щелям.
Ваня повёл себя странно. Вместо того чтобы ускорить шаг и занырнуть в спасительную пасть метро, до которого оставались считанные метры, он по эллиптической орбите неумолимо повёл Нэнси к эскалации сближения с орущими нацболами, дравшим не только глотки, но и когти, от зубровцев бросившихся врассыпную. Нэнси стало по-настоящему страшно.
— Ты что делаешь? — зашипела она. — Отпусти руку!
Но Иван не слышал. Он будто находился под кайфом, неадекватно, почти конвульсивно содрогаясь, и не ослаблял железной хватки, напрочь забыв о пари и Нэнси, как предмете спора. Истый топ-госер Кондрат Непобедимый находится на виртуальном поле битвы, его шутер от первого лица пять секунд как начался. Нацистский оккультизм мерещился в мерцающих кроваво-красными огнями пирофакелах. Игрок был глубоко уязвлён сюжетной реализацией процесса и намеревался немного корректировать его. Но что мог поделать даже он, Кондрат Непобедимый, с нулевым скиллом и без прокачки. Консольный клан вар невозможен без дюралевого щита, резиновой палки и баллончика «Черёмухи-10».
«Буду бить аккуратно, но сильно», — подумал Иван и попёр против течения лимоновцев, протаскивая через них Нэнси. Со статическим напряжением мимических мышц, которое можно было принять за кривую улыбку, он впивался немигающими глазами в лица бегущих почти нестерпимо. Лимоновцы, косолапя, дрейфовали, обтекая парочку, как опасный риф, где можно крепко сесть на мель, но Иван шёл медведем напролом, наживая могущественного неодолимого врага. Он подскочил к первому попавшемуся в балаклаве, с наскоку ногою ударил под дых, сорвал маску и нагло закричал сложившемуся от удара пополам сорвиголове с есенинской шевелюрой:
— Ну что, пернатый, нахохлился? Геть! Лети давай, отсюда!
Его цепкие пальцы с длинными нечищеными ногтями, наконец, выпустили оцарапанную ладошку Нэнси.
Невесомые кристаллы снега утяжелились, рисуясь и подчёркиваясь на фоне жирных клубов дыма, отползающих длинными шлейфами от спасающихся бегством. Оппозиционеры, видя, что каша заваривается вкрутую, пытались рассредоточиться, скрываясь в запутанных в клубок нитках переулков. Нестройные колонны митингующих резал и теснил щитами омон, выхватывая из толпы то одного, то другого. Они валили сопротивленцев навзничь, иногда манерно били дубовой подошвой утяжелённого ботинка или палкой по хребту и голове, и без церемоний оттаскивали к застрявшим на полпути «газоновским» фургонам.
Иван встряхнулся, оправил волосы назад и зачехлился в балаклаву. Со злобным шипением: «Я не овца и не овощ!» замахал кулаками и ринулся на цепь омоновцев, выстроившихся перед Краснопрудной. Он попытался отобрать щит, но кто-то устроил ему «тёмную»: задёрнул верхнюю одежду, шарахнул палкой по спине, и — уже вдвоём — заламывая руки, зубровцы нацепили на него «браслеты» и потащили к автозаку волоком.
То было уроком музыки под расстроенное пианино. Без смыслового напыления голоса вплетались в единый сумбурный звукоряд. Высокооктавные лозунги, приближаясь к общим формулам, становились вредными и ложными. Они раздражали не только слуховой проход, но и речевые зоны головного мозга. В мелькании постных призывов безучастная бумага, кружась чёрно-белыми листами, так похожими на клавишный ряд, была грубо затёрта омоновскими берцами вместе с представлением о человеческом достоинстве. Макабрические пляски с бубнами бойцов ОМОН, крупные планы мыльных харь с глазами, полными непроточной мути, осатанелая ярь опечатанной щитами процессии. Всё одномоментно было стёрто на этой площади.
Нэнси ничего не знала о судьбе Кондрашина. Будто пришпоренная, она бросилась прочь из этой кутерьмы. Предупреждающий бакен «ты хил, неопытен и плавать вовсе не умеешь» всплыл слишком поздно, запоздало. Она уже вошла в водоворот в его шоковом бурлении и вместе с щепками и прочим мусором была стремительно увлечена. Слова шевелили её губы. Она крепилась, не в состоянии ни утешиться, ни отдаться ужасу сполна. Она думала о нём понемножку. Именно: понемножку. Сладкая тошнота, столь неуместная сейчас, нестерпимо подкатывала к горлу. Тошнота была физиологична ровно настолько, насколько утренний кефир и булка способны противопоставить себя париетальным клеткам, секретирующим пищеварительные соки. Больше в ней — в тошноте — было метафизического свойства, она была прямо в точь как у сартровского Антуана Рокантена. Странно было думать, что остальных это не касается хотя бы на уровне отдалённо символического, но более всего странным было думать, что институционная сила распоряжается тем, чем не должна. Она полагала, что в общественной протестной жизни не происходит ничего, и сейчас со страхом какой-то неизбежности, однако и радостно, и неожиданно ловила себя на мысли, что ошиблась. Вся эта движуха, солидарность, острая реакция на встающие вопросы, на повестку дня, о которой Нэнси даже не догадывалась, тем не менее, роднила с этой массой, для которой молчание — тоже не выход.
Словно терриконы — чёрные, мрачные, треугольноплечие — вырастали над головой парламентёры насильственного модуса. Их атрибуты — наручники-дубинки — излучали главный посыл: не выступать, не возражать, не сопротивляться. Даже не пытаться! Носители определённых интересов в живучей истерике быстро скатывались в бездну безличной массы, и Нэнси это чрезвычайно угнетало. Спасение из этих мест — нет, даже просто надежда — могла быть довольно ложной. Во-первых, она не знала куда бежать, в какую сторону податься: чрезвычайность блуждающего места «родных просторов» неизменно упиралась в крупные планы тех самых харь. Во-вторых, в пещерном, поистине варварском духе подобий выплясывание у омоновцев выходило из ряда вон как хорошо. Бойцы распалялись и входили в раж. Они уже хватали без разбора. Не морщась, со смирением в душе, принимали свою судьбу: турист с сосископодобным заплечным рюкзаком, придавленный крепкими руками к шершавой стене вокзала (он был недостаточно искренен в своей реакционности, поэтому выбор между простым и правильным, сделал не в пользу себя); немытый, зачуханный певец муратравья с инструментом — блокфлейтой в бархатном футляре — после ночи кухонных «озарений» решившийся на поездку к беременной подруге (ошеломлённый, он и не пытался уклониться от ударов); голодный лимитчик с Брянщины в каракулевой шапке, обременённый тележкой и надкусанным беляшом в промасленной салфетке (тот вздрогнул с набитым ртом, когда его обступили двое в амуниции, опустил глаза и буркнул что-то краткое, но ёмкое).
В дебри крапчатых фигур завлекали гражданских с подозрительной поклажей. Что они рассчитывали отыскать в туристическом рюкзаке, флейтовом пенале или сумке на колёсах? Гумпомощь для «западных наймитов»? Снаряжённые коктейли Молотова, «марксманскую» разборную винтовку, экстремистскую литературу? Что-то ещё, что могло бы с хорошей вероятностью упрятать владельца за решётку и подтвердить формулировку Мосгорсуда, дважды признавшего лимоновскую партию экстремистской.
Нэнси не хотелось об этом думать. Сейчас хотелось думать о прекрасном, на роль прекрасного прекрасно подходило море. Легко было представить в окрашенных просторах ощущений гукающую баржу — огонёк на ватерлинии потерянного горизонта, набегающий в спину звон цикад, лилово-белую пустошь песка с ртутью росы и редкие мачты сосен, насаженных на грубое небесное сукнище, парусящее под напором веста. Она чувствовала это яро.
— Женщина, остановились!
Чёрный «террикон» преградил путь, разочарованно крякнул при виде кукольной Эмилии. Разглядеть в ней потенциальную угрозу безопасности мог только человек, органически не переносящий кукол. Нэнси что-то слышала об этом, есть, кажется, такой тип людей — невротиков-куклофобов, только называют их иначе. Похоже ей попался подобный экземплярчик, как иначе объяснить устойчивую неприязнь омонвоца к её поклаже. Худое эльфоподобное лицо Эмилии, свежее, как поцелуй ребёнка, смотрело на стража порядка суженными глазками. Зубровец покачал головой, похожей на качан капусты под забралом и потянулся к кукле.
— Руки, руки! — с неожиданной для себя самой угрозой проговорила Нэнси и отстранилась от назойливых лапищ. От «террикона» пахло формалином краеведческой кунсткамеры, он выжигал глаза.
— А ну-ка, пшла со мной.
Синхронизируя организм с импульсами животной паники, Нэнси побежала прочь, драматически прижимая Эмилию к груди. Вслед ей загавкал, загремел ментовской посланец, но беглянка его не слышала. Распластавшись на растяжках выбора правильного направления, Нэнси бежала рывками и зигзагами, так словно на неё объявил охоту засевший на крыше снайпер. Чьи-то руки её пытались поймать, чьи-то — указать путь. Не сбавляя напора, она распрямилась и бросилась в какой-то закоулок, проминая толпу и проклиная собственное малодушие: почувствовала, как её ноги, полные ваты, не поспевают за телом. Она некрасиво вильнула, так бывает, когда пытаешься рулить на скорости одной рукой раздёрганным «восьмёрками» велосипедом, споткнулась, ещё пытаясь сохранить нарушенное равновесие, но не устояла — позорно полетела на асфальт, роняя остатки своего достоинства. Хруст подмятой куклы зазвучал особенно, по-деловому. Слёзы окончательно вымыли из сознания двигательный навык. Она хотела вскочить, но не получилось. В следующий момент мелькнул формалиновый душок, пробудился откуда-то из недр, и руки в блестящих нейлоновых перчатках вырвали её наверх.
Глава 3. В ПИТЕР БЕЗ ЗОНТА
По козырьку остеклённого балкона расхаживал взъерошенный, зобатый голубь. Птица клонила голову вперёд, роняя её на раздутый пищевод, и пыталась что-то разглядеть в зеркальных окнах, отражавших серокоробочную девятиэтажку и хрустальный скол неба над смолёной паклей подтрёпанных туч.
По ту сторону стекла, пристроившись за жёлтой от масляного чада занавеской, в редкой раскрепостительной минуте сидела фенотипичная ангорская кошка — белый живот, рассыпчатый хвост — и не отрывала пристального взгляда разноцветных глаз от бестолково и важно вышагивающей птицы. Между горшечной гортензией и плетёной хлебницей, на подоконнике, она могла себе позволить минутку экзистенциального релятивизма, ибо судьба ставила эксперимент над трепетной душой Джоконды. Но, может быть, и вообще, думала она, заблуждение эйнштейновой теории — всё в мире относительно — строго говоря, сводится к расплывчатому обобщению. Ведь кто-то считает, что голубь — птица мира, но такое предположение безотносительно, как ни крути. Или, например, что фретки — забавные зверята. Это допущение и вовсе не годится (Скумный кот! Ведь кто-то так считает!), поскольку верить в котоламповость подобной точки зрения лишь потому, что всё в этом мире относительно и бла-бла-бла, не более, чем суеверие и, в сущности, всего лишь утончённое дипломатическое издевательство. Даже на фоне питбультерьера Самсона с пятьдесят пятой с его напрочь отбитым чувством жизнерадостности, Нафаня в самых жовиальных красках по шкале забавности едва дотягивал до бесконечно малых величин околонульных меток. В противном случае, можно утверждать с пеной на брылях, что и истина — Бастет! — относительна. Но положение истинно тогда, когда то, что оно обозначает, составляет факт, а это совершенно не зависит от того, знают об этом что-то кошки, собаки или люди. Хотя очень многие предложения и относительны, некоторые таковыми, очевидно, не являются.
И полбеды, что Нафанаил не был забавным от рождения. Как истинный представитель куньих, он пах чрезвычайно, и будучи невероятно аристократичной кошкой, Джока предпочитала не сталкивать взаимоисключающие категории её добропорядочности с нечистоплотными замашками хоря. К прочему, отсутствие какой-либо ясной идеологии у представителя семейства куньих, создавало тепличные условия для идейного химически чистого радикализма. Беспримесный и крайний, он отравлял жизнь аристократке не первый месяц. И за примером далеко ходить не стоило. Так, половину из скользнувшего последним часа, Нафаня гонял Джоку по комнатам не слишком просторной двухкомнатной квартиры до тех пор, пока выдержанная идилличность кошки не вступила в когнитивный диссонанс с психованной маниакальностью хоря. На излёте переутомления, вторую половину того же часа она была вынуждена искать убежища в шкафурии — метко прозванном хозяйкой громоздком, на изогнутых «оленьих» ножках буфете, переоборудованном Борисом Ильичом в библиотеку.
Когда Лена Милашевич въехала в панельную двушку в районе Купчино, шкаф из массива карельской берёзы, был до отказа забит ветхими корешками книг. Они упирались в зеленоватое стекло витрины с дореволюционной символикой и особо подчёркивали статус их владельца — сухопарого старичка в толстых бинокулярных линзах очков, не то профессора, не то академика, эрудированного книжника, съевшего зубы на науке. Овдовев, профессор-академик оставил городские «палаты» и торжественно съехал в деревенский сруб, приобретённый его сыном в заболоченных тверских лесах. Сын Илья сначала спорил, ругался, а потом вовсе сдался: уступил отцу толстые тома фундаментальных трудов, не ожидая, впрочем, никакого проку от бумажных пылесборников. «Пылесборники» погрузили в «газель» и увезли на болота вместе с остальными бренными пожитками хозяина квартиры.
Буфет опустел и мог бы, наконец, использоваться по назначению — для хранения сервиза и батарей литровых банок варений и повидл. Но, во-первых, колдовать над эмалированным тазом, над которым вьются осы, Ленка не умела (не хотела!), а банку покупного джема, на крайний случай, можно было запихнуть в посудосушилку (где, кстати, жил сервиз). Ну, а во-вторых, расположение антикварного предмета в дальней от кухни комнате, без всякого варенья определило его дальнейшую судьбу: в шкафурии завёлся Ленкин гардероб.
Иногда туда наведывались обитатели квартиры: Джока и Жейка. Последняя, впрочем, бывала редко и только с разрешения хозяйки. Большую часть времени престарелая шиншилла проводила в клетке, где, облюбовав плоский камень для стачивания зубов, дрыхла днями напролёт. К режиму дня шиншиллы в доме все относились с пониманием. Все, кроме хоря. Для Нафанаила правила были не писаны. Он докучал Жейке, забираясь на клетку и даже пытаясь лапами дотянуться до неё. Конечно, натиск самых массированных атак приходилось держать Джоке. С котярскими щёчками и такими же замашками, фретка не заслуживал ровно никакого интереса, но оба имели привилегию свободного передвижения, так что интерес учитывать всё же приходилось: справедливые льготы со стороны Ленки к подопечным неизбежно заканчивались территориальными спорами последних. Впрочем, территориальных претензий у Нафани не было, он просто метил пахучие анклавы при каждом удобном случае — в комнатах стоял крепко настоянный аромат мужских секреций. Кроме прочего, фретка подворовывал еду из Джокиной тарелки, пытался дёргать её за хвост или, хуже того, взбираться на спину, словно она была ишаком или каким другим вьючным животным.
Джоконда требовала сатисфакции в ближайших перспективах. Пусть заботой о непознаваемости мира терзаются существа, познающие его, — люди, она же озаботится другим не менее душеспасительным занятием — пусть не буквально, но в принципе станет кошколаком, кошкафурией и отомстит за поруганную честь. В буфете не было порталов многомирья, зато по собранным лично ею наблюдениям, Джока отлично знала, что шкафурий лучше любого кумовства представляет привилегии по защите её от бесноватого соседа. По каким-то неведомым причинам Нафаня сторонился тёмного объёмного пространства заваленного тряпками буфета. Может, он не любил карельскую берёзу или какие другие фобии не давали возможности преодолеть собственные страхи, но — и это факт! — фретка никогда не лазал в шкаф. Возможно, в этом таился ключ к исполнению репрессивного режима (Джока ещё точно не определилась, как поступит со своим обидчиком). Иногда, насильно, с ним пыталась забраться внутрь Ленка, когда её накрывала странная мрачность. Хорь выскальзывал из рук хозяйки и позорно бежал, поджав хвост. Ленка находила замену Нафане довольно быстро: говорила «кис-кис», хватала Джоку за плюшевую гриву и вела с ней в берёзовых застенках дремучие беседы. По большому счёту Ленке было всё равно в чьи уши вливать галимую софистику, ничего не прибавляющую к кошачьему (и уж тем более хорячьему) мироощущению. Но Джоконде нравилось: Нафаня не беспокоил их, а горячие и ласковые руки хозяйки делали так хорошо за ухом, что хотелось мурлыкнуть что-то общеприятное в ответ.
Вскоре Джока взяла Ленкин приём на вооружение и часто, когда её одолевала не странная мрачность, но безумный хорь, исполняла соло, находя в шкафурии отдушину и умиротворение. Нафанаил продолжал игнорировать буфет, и в этом было её, Джокино спасение.
Последние полчаса Нафаня не показал и носа из норы, окопавшись в кадушке с корявым деревцем, на котором уже месяц, как цвели неказистые лимончики. Эти маленькие жёлтые плоды прекрасно расходились по воскресным вечерам вместе с солонкой и «лошадками»24, когда в квартире появлялось несколько двуногих, продолжавших традицию печальных и бережных диалогов с обязательными, почти ритуальными перерывами на «лизнул-выпил-закусил». Надо отдать должное, безоглядная откровенность словотолков никогда не перерастала в разнузданную попойку: на всякое подвижничество есть чувство меры, и гости засиживались только до полуночи, после спешно, почти в полном составе разъезжались по домам. Кроме одного — и этому одному Ленка всегда бывала очень рада.
Отсиживаться в шкафурии вечность невозможно, и Джоконда, не без опаски, сменила место дислокации на подоконник, где облюбовала уголок поближе к эмалированному агрегату с надписью «ЗИЛ Москва». Аристократическое обоняние подсказывало ей, что за массивной дверцей с автомобильной ручкой живёт вожделенная, уже открытая рижская шпротина в масле и граммиков двести-двести пятьдесят (может, и чуть больше) отварных сарделек. Ленкины шпинат, творог и фасоль в томатном соусе Джоку заботили мало. Благоухающий рыбно-мясной провиант был оставлен Бубой, чьи яркие кроссовки с липучками оставались в прихожей до самого утра. Буба определённо питал чувства к Джоке, периодически балуя её деликатесами. Вообще, он был большой любитель башенок из сардельно-сосичных гирлянд и глазурных пагод куриных бёдер, у которых косточки, что сахар — сладкие и белые, тающие во рту с сентиментальной нежностью. Вкуснятина!
Несколько тяжёлых капель ударили снаружи о подоконник. Сизокрылая котомка с клювом встрепенулась, выдавливая из зоба спесь, и сиганула вниз. Джоконда в удивлении вытянула шею, пытаясь усмотреть стремительную траекторию полёта, но острый взгляд упёрся в две фигурки. Одна, с разворошённым, но не распахнутым зонтом, придерживая коленом дворовую решётчатую дверь, пропускала внутрь другую, в кепочке блином, нагруженную патронташем сумочек и сумок. В первой фигурке Джоконда без труда опознала хозяйку и жизнерадостно мурлыкнула. Вода отчаянно заколошматила в окно, и обе фигуры потонули в папиллярных разводах. Проливные акварели растушёвывали дожденосный Петербург, взгромождаясь тенями на белый потрескавшийся кафель стен с чёрным бакелитовым прямоугольником шелестящего радио, на матовый шар посередине гипсового потолка, на пристенный полукруглый стол, похожий на столик железнодорожного вагона, на сползающие к середине кухни два продавленных совдеповских кресла, тяжёлых и одновременно хлипких с виду.
Джока радостно запрыгнула на холодильник, едва не опрокинув вазу с блеклой розой из салфеток, перебралась оттуда на верчёные колосники газовой плиты и уже на приоткрытой дверце духового шкафа, виртуозно, как и положено представительнице семейства кошачьих, соскользнула на шахматку затёртого линолеума, готовая к приходу Ленки.
Спустя минуту или две в двери заворочался ключ, и прихожая наполнилась электрическим светом и голосами.
— Боже мой, невероятно! Шли от метро, мне улыбалось солнце! — почти кричала от радостного возбуждения незнакомка, рывком срывая с головы расползшийся от влаги блинчик, и обдавая веером холодных брызг Нафаню, обогнавшего на полкорпуса Джоконду и лихо втянувшегося в орбиту придверной возни.
Если бы Джока могла хмыкать — она бы хмыкнула, презрительно и ядовито. Но нерастраченный цинизм даром не пропал, весь форс и гонор взял на себя хвост. Держа его иерихонской трубой, она чванливо обогнула окроплённого Нафаню, в изумлении и ужасе застывшего, и не меняя позировки и координат хвоста, обнюхала гостью, тем самым подчёркивая, что вовсе не робеет перед ней. Внешность незнакомки сводилась к резкому, немного хищноватому профилю. Лицо не было испорчено косметикой, а еле уловимые освежающие подрумяна могли быть естественной природы. Под блинчиком обнаружилась рваная копна льняных волос, стриженных коротко, а-ля Гаврош. Упругие от сырости завитки цеплялись за мочку уха, напоминая серёжки-кольца. Голос её звучал неровно, как развёртка сигнала осциллографа: то вверх, то вниз, то снова вверх, то снова вниз. Старомодный клеёнчатый кошелёк с витой тесьмой болтался на заголённой шее.
— Всего пять минут: дождь, шквалистый ветер. Получите, распишитесь! — продолжала гостья, рассупонивая сумочки и сумки, складывая их на пол по одной.
— День в майке, день в фуфайке, — подтвердила Ленка. — Но самое главное — захватить зонт. Лучше — два. Если первый потеряешь-сломаешь-ветром унесёт, всегда можно использовать второй по назначению.
— А если второй постигнет та же участь?
Ленка оторопело оглядела незнакомку, коротким движением отбрасывая ото лба мокрую чёлку. Шутит та или всерьёз?
— А если второй постигнет та же участь, достанешь дождевик и запилишь в нём домой.
— Мне это Ералаш напоминает. Только там мальчик с двумя билетами на трамвай, у которого, ко всему прочему, проездной.
— Питерский климат — это, вообще, ералаш.
Ленка встрепенулась, опёршись локтями о притолоку, энергично взбрыкнула ногой в попытке высвободить ногу из плена ультрамодных резиновых сапожек. Безуспешно.
— Извечная тема для шуточек, — устало добавила она. — Отстой, честно! Я здесь всего полгода, а они уже бесят. Странно, что только меня одну. Даже мои питерские френды, которых я искренне считаю умными и адекватными людьми, нет-нет да пришлют в ВКонтакте очередную дурацкую милоту про «этих странных петербуржцев, живущих в климатическом мордоре». Для меня это как запятая между подлежащим и сказуемым.
Желая быть внимательной к хозяйке и как бы намекая на сардельки-шпроты, которым давно пора быть на Джокиной тарелке, ангора соизволила дать градус кривизны с тем, чтобы сообщить свой приветственный жест в стиле Фуко: вращая плоскость колебаний хвоста относительно оси вращения Земли. Джоконда была аристократически утончённой особой совершенно во всём. Она лениво, вполуха, слушала не совсем понятный разговор, пока не словила на себе удивлённо-восторженный взгляд.
— Ой, какой симпапушка!
Незнакомка протянула руки, но промахнулась намеренно — схватила Нафаню и бережно его потискала.
— Осторожнее, — предупредила Ленка, избавляя себя насильно от обуви, — эта симпапушка кусается будь здоров!
Пошуровав ногой под разлапистой напольной вешалкой, она выгребла оттуда две пары заношенных тапок. Распределила: в одну влезла сама, другую бросила под ноги гостье. На хозяйских черевичках шла по краю золотая вышивка, местами затёртая до серебра, на гостевых обошлось без декоративных кантов, зато на дырявых носках болтались кисти из махры, пушистых не столько из-за ворса, сколько от вездесущей коридорной пыли. Ленка с энтузиазмом подхватила пару пакетов и пошлёпала на кухню.
Джоконда возмущённо подала голос. Недовольство распространялось сразу на всех. На Ленку — за дефицит внимания, на фретку — потому что психопат, на незнакомку — за распределение ролей и странный, ничем не мотивированный «симпапушный» отбор. Если бы она могла, она сказала всё, что думает о номинанте и жюри. Но кошки не имеют свойства разговаривать по-человечески, они, строго говоря, по природе пирронисты, придерживаются философии молчания. Так что Джоке ничего не оставалось, как гордо утопать — и она утопала, вслед за Ленкой, томиться подле облитого белым лаком агрегата «ЗИЛ Москва».
— Нэнси, хочешь есть? — Вопрос, к сожалению — к сожалению для Джоконды — был обращён к незнакомке.
Расстегнутая у шеи белая рубашка Нэнси чрезвычайно заинтересовала фретку, и вскоре до кухни донёсся дикий вопль возмущения.
— Это значит, да? — пошутила Ленка, улыбнувшись хитрым прищуром: я предупреждала.
Нэнси с большим трудом отцепила от себя хоря — получилось только вместе с пуговицей — и бережно, как драгоценность вернула животное на место. Но у животного не было места, и оно тут же слиняло к лимонному дереву — прятать в кадушке перламутровую цацку.
Нэнси с шумом ввалилась на кухню и показала Ленке V-образный жест рукою. Пояснила:
— «Вэ» — это вендетта! Буду кровно мстить: за пуговицу и за себя. И пусть пощады он не ждёт.
— Оторвал? — спросила спиною Ленка, смахивая со стола несуществующие крошки и выгружая из пакета газетный колчан с зелёными стрелами лука, нарезной батон, бутылку «Рычал-Су» и ещё тёплые пирожки в запотевших кулях. — Надо было назвать его Цербером, но у него уже было имя. Когда я забирала Нафанаила из приюта, меня предупреждали, что хори, даже одомашненные — жуткие неадекваты. Можно сказать, я знала, на что подписывалась, но очевидно — нет!
— Он напоминает мне религиозного фанатика.
— Да ладно! Чем? — удивилась Ленка.
— Он будто служит какому-то своему Богу. Без дурацких рассуждений и малейшей показухи.
— Если имя богу Шеогорат25, то я с тобой согласна! И между прочим, слава всем богам, что хорьки не имеют склонности вслух рассуждать о богооткровенных истинах. Поверь, тут такое б началось!
— Да-да, — рассмеялась Нэнси, — верую, ибо абсурдно.
— Да, но животные лишены разума. И в этом горький парадокс.
— Парадокс?
— Ну да, — презрительно фыркнула Ленка, отвинчивая кран и взрывая эмалированный чайник приступом водяной струи. — Их взаимоотношения с природой разумны. Они не нарушают баланс системы: не отравляют окружающей среды, заботятся о потомстве и не воюют друг с другом. Абсолютное экологическое равновесие. Человек же одарён умом, но по отношению к природе ведет себя глупо, неразумно. Мы разрушаем себя и дом, в котором живём, и самое ужасное — можем это осознавать, осмысливать.
Мощной отдачей кран запрокинуло вверх, прижало как при десятикратной перегрузке, и чайник в секунды наполнился водопроводной водой, пахнущей ржавчиной и хлоркой. Джоконда склонила мордочку набок, как бы кивая и соглашаясь с хозяйкой. Соглашалась она, конечно, отчасти. Условно говоря, никакого парадокса не было, в том смысле, что животные не лишены разума (за редким исключением), но разум, как и яд, в малых количествах лекарство, а в больших — сублетальная зараза, вызывающая значительные изменения в голове и за её пределами. Ещё кот Гиппократа утверждал, что всякий излишек противен природе, и с этим трудно спорить: понималка у того работала будь здоров.
— Что тут скажешь, — помолчав, ответила Нэнси, — открываем в таком случае Жионо «Человек, который сажал деревья» и заряжаемся самым ценным витамином.
— Не сыпь мне соль на пряник, — расстроилась Ленка. — Не читала. Всех книг за всю жизнь не осилишь. А хочется!
— Всех не надо, — поморщилась Нэнси. — Только нужные…
— … и желательно недлинные, — поддакнула Ленка, — потому что нужных пруд пруди.
— Жионо подойдёт. Небольшой рассказ, на один вечер.
— А вечер-то как раз и занят! Но я — раз советуешь — непременно прочту!
Нэнси долго прислушивалась к звукам многоквартирного дома: к поскрипыванию паркета этажом выше, к собачьему рявканью за смежной с санузлом стеной, к трещоточному цвирканью дождя, гуляющему эхом по оцинкованным воздуховодам. После полных суток душного плацкарта раздражительные звуки чужих квартир не раздражали. Отгороженная от соседей-непосед ячеистым бетоном толщиною в руку, она ощущала только тихую радость прибежища. Закончилось бесконечное брожение детей, звереющих от шалопайства и безделья, отшумели, отбурлили подшофе, протрухшие, насквозь загазованные толковища, пришёл конец кирнутой жвачке бесконечного застолья с хрустом фольги, с щёлканьем скорлуп, с грызнёю подсолнечной лузги. Иссякли санитарные зоны, сканворды, смердящие носки, храп и торгаши, полные занудства и потёкшего пломбира.
В подобном коловороте дорожных эмоций великим утешителем служили «Смертные грехи». Продавец с большими, светлыми и вечно любопытными глазами трудовой интеллигенции, дотошно ощупывающими плацкартные окрестности, безусловно, дело своё знал — и любил, как только можно любить бремя своих прежних выборов за то, что этот выбор, пусть оплошный, пусть кривой, был собственным и независимым. На покупку Нэнси не то чтобы согласилась, скорее, просто не захотела спорить. В копеечном исполнении — голый мусоленый картон, корешок обтянут чёрной тканью — книжка, прессованная в коромысло тисками других таких же, вынырнула из армейского баула, как чёрт из табакерки, с придирчивой ремаркой капризного ценителя: «Как беллетрист — талантлив, но перетончает». За свою чувствительность к прекрасному, за истончение, которого продавец простить автору не мог, он тут же обескровил беллетриста демпингом и сбросил десятку.
Составленный из нескольких новелл сборник Милорада Павича, Нэнси осилила аккурат к приречным слободкам ленобластного пригорода — и не пожалела. Книга понравилась. Остроконечный вокзальный купол встречал её практически с умением торговли мыслями, в одной из которых у Босха, согласно сюжету и истории, родилась его бессмертная картина о человеческих грехах: гордыне, гневе, зависти, унынии, похоти, алчности и чревоугодии. Пассажиры фирменного скорого Пермь — Санкт-Петербург смогли прочувствовать на себе всю сумму этих безнравственных слагаемых.
Теперь же, сцепив жемчужные бусики и оставив их на кофейной полировке зеркальной полки, Нэнси поглядывала как упругая струя воды из крана разбивает в пену эссенцию настоянного аромата леса, гуляющую зеленёхонькими червяками. Она благославляла технический прогресс и виток эволюции в производстве сидячих ванн для малогабаритных санузлов. Если не рассматривать культуру прошлого как инструмент насилия, можно, конечно, отыскать преемственность в тазах с брусками хозяйственного мыла и даже в деревянных лоханках с щёлоком. Определённо в этом было что-то неуловимо прогрессивное. Говоря по правде, венцы современной инженерной мысли, такие как акриловые атрибуты ванных комнат с гидромассажем и термоконтролем, мало пригодны в усвоении исторического опыта предыдущих поколений, зато! — для соблюдения гигиенических традиций (а ведь для этого они и созданы) им равных нет.
В дверь поскреблись, и в проём протолкнулась Ленкина голова.
— Подруга, чай уже заваривается. Я принесла полотенце. И халат. Вот! Не знаю, как там с размером, но, по-моему, он безразмерный, так что пользуйся!
— Подруга, — в тон Ленке ответила Нэнси, — ещё десять минут. Ровно столько мне надо, чтобы словить состояние нирваны.
— Их есть у тебя. Пока поляну срежиссирую — как раз успеешь.
На кухне, пока Нэнси пребывала в воднопроцедурной эйфории, происходили реформы почти петровского размаха. Дождь закончился и в комнате нестерпимо сияло солнце. Лучи за окном резали тучную завесь, подобно портновским ножницам, гуляющим лихо по обрезам ткани. На столе, в тон Ленкиному летнему комбинезону шортами, спонтанно добытом из шкафурии, возникла пёстро-огненная скатерть с левашовскими репринтами пионов и подсолнухов. Купейно-приоконная столешница обзавелась не просто скатертейкой, а скатертейкой-самобранкой. На ней появились чашки и приборы. Сахарница. Чайник. Чайник ловил никелированным боком яркий луч и метал его в Ленкины каштановые волосы. Волосы начинали светиться золотым шафраном.
Повиснув на горбатом холодильнике, Ленка добыла из него двухлитровую заготовку консервированных патиссонов, подсохший кусок сыра и судок самопального свекольного паштета. Устроившись, она отмахнула от батона несколько ломтей, обмазала свекловичной кашицей, положила на каждый сверху надломленное перо зелёного лука и разложила редким шагом на плоской и широкой как равнина голубой тарелке. Банку с патиссонами вскрыла консервным ножом и приглашающе воткнула вилку в озерцо маринада, над горлышком, где возвышался маслянисто-тусклый островок притопленного овоща. Безнадёжно остывающие, оплывающие от собственной испарины пирожки щедрым жестом она ссыпала в хлебную корзинку. Крепко задумалась, потирая чуть тяжеловатый прибалтийский подбородок, засеменила снова к холодильнику, пытаясь сковырнуть с него тощий вазон.
За этим занятием Ленку поймала Нэнси.
— Давай помогу! — предложила она и попыталась помочь Ленке в её стремлении довершить флористическую композицию клеёнчатых пионов и подсолнухов бумажно-бутафорской розой. Рукав халата — в самом деле неопределённого размера — задрался, обнажая загорелую кисть с тонкой змейкой часового браслета. «ЗИЛ Москва», хрипло бурча старым мотором, заартачился и будто бы стал стройнее, выше. Холодильник вздрогнул раз, два — и ваза, давно оплакивавшая свою судьбу, покорно подчиняясь законам гравитации, аллюром ринулась вниз.
— Ой! — только и сказала Нэнси в такт осколочному звону.
— Хорошо, что её разбила ты, — неочевидным аргументом успокоила Ленка и поплелась за совком и веником.
— Потому что, если бы её разбила я, скажем, перед твоим приходом, то это было бы плохой приметой. По примете, мы с тобой тогда рассорились бы.
— Теперь, думаешь, не поссоримся?
— Наверняка нет. Приметам стоит доверять. Согласно народным прогнозам, теперь можно ожидать пополнения в семействе.
— Какого ещё пополнения?
— Ну, нам это не грозит, — хихикнула Ленка. — Это справедливо для женатиков, а мы с тобой даже не лесби-пара.
Она смерила Нэнси нетерпеливым взглядом и добавила:
— Ты не переживай, подруга: я натуралка во всех смыслах. Нет, я пробовала, конечно, но мне не понравилось.
— Ох, прямо так сразу все скелеты из шкафа.
Она не очень поощряла откровенности с малознакомым человеком. Ленка, хоть и называла её подругой, знала «подругу» всего пару часов. Конечно, к этим двум часам стоило прибавить ещё четыре дня онлайн-общения, пока Нэнси шерстила интернет, пытаясь попасть на питерские «вписки».
Ленка отозвалась почти сразу. Она проживала, мягко говоря, не в центре города, но на лучшее не приходилось и надеяться. Комната с мебелью, в двушке, непроходная, «живи хоть до рождества», правда, с двумя условиями. Во-первых, делить жилое пространство придётся с престарелой соседкой, во-вторых, терпеть воскресные шабаши «питерских френдо'в» и, в-третьих, (ах да, было ещё одно условие): приезжать без «чайлдов» и «кырдымбырдымщины», то есть без детей и мигрантов из Средней Азии. И тех, и других Ленка не очень жаловала.
С третьим условием проблем как раз было меньше всего. Труднее принять первые два: Нэнси ехала в Петербург не отдыхать, а всё-таки работать, поэтому «шабаши питерских френдо'в», как и «престарелая соседка по комнате» звучали несколько отталкивающе. Впрочем, Ленка не удержалась и приоткрыла завесу страшной тайны: престарелая соседка — это ветхозаветная шиншилла, дрыхнущая в клетке день-деньской, а шабаш — сугубо досуговое мероприятие воспитанных людей, сопровождающееся прослушиванием музыки и обсуждением книг. А что? Это Питер, детка. Дык, культурная столица! Так и сказала: «культурная». И Нэнси, подумав немного для проформы, согласилась.
— Где ты так шикарно загорела? — спросила Милашевич, когда смарагдовые осколки были тщательно собраны в плотную бумагу и выброшены в мусорное ведро, откуда карауливший Нафаня всё-таки утащил один, самый крупный, к себе в кадушечную нору.
— Не поверишь, — Нэнси шумно придвинула кресло, наконец-то усаживаясь за обеденный стол. — Солнечные ванны пермского разлива.
— Точно, оттуда. У нас так можно загореть в самом центре города, на эспланаде. Я так часто делаю, если, конечно, погода позволяет. Беру распечатанный текст, переводной словарь, два карандаша и покрывало. Всё одно приятнее работать на свежем воздухе, чем на балконе или в спальне.
— Бесспорно! — вздохнула Ленка. Она сидела напротив, поджав под себя ноги, точно турок. Её красивые, немного полноватые руки блуждали по столу, производя магические пассы над стаканами и разливая чай. — Везёт же людям. Валяешься на лужайке, загораешь, а тебе копеечка капает. А у нас в Питере… — Интонационно Ленка выделила «а у нас» — не без удовольствия и даже с гордостью, словно была настоящей, матёрой петербурженкой, не меньше, чем в пятом поколении. Или шестом. Впрочем, продолжение фразы обязывало чуть сбавить кичливый градус: — У нас в Питере полный швах и с работой, и с загаром.
Пирожки вкусно хрустели прожаренной корочкой. В нос ударял аппетитный аромат сдобного теста. Нэнси схватила чайный стакан с золотою окантовкой, кажется, ещё времён СССР и тут же поставила его обратно на плоскую тарелочку, торопливо ухватив себя за ухо. Крепко настоянный чай из объёмного текстильного заварника, обшитого тканью в красный горох, пылал жаром крутого кипятка.
— Заблуждение, что фриланс — это валяться на лужайке и загорать…
— Да ты же сама сказала…
— Ты никогда не знаешь, что тебя ждёт, пока не сядешь за работу, — строго перебила Нэнси. — И знаешь, никого не интересует, что у тебя дедлайн и три перевода сразу. Нет, ты сидишь дома, так что помоги с уборкой, стиркой или просто поболтай со мной — мне скучно. Это я про маму. Она считает примерно так же, как и ты. Она не понимает, что это работа, та же, что и в офисе, только без офиса. А лужайка — просто бонус, вроде кофе-машины или сокращённой рабочей пятницы. А загар мой, к слову, никогда долго не держится. Пару раз прошлась мочалкой — и всё: привет бледнолицым.
— Ещё и не с первого раза, — закусила Ленка губу. — Я вот, честно: солнцепоклонница! Просто от зависти с ума схожу, когда вижу такой шикарнейший загар. Правда, с ним ты в Питере как белая ворона.
— Белая ворона? — усмехнулась Нэнси. — Хм, если подумать, это не слишком удачный идиоматический образ. А впрочем, мне-то что? Я здесь ненадолго.
Ленка только отмахнулась.
— Все так говорят. И я так говорила. Но приехала и залипла на полгода. Считай больше, седьмой месяц пошёл.
Она схватила с тарелки пирожок, надломила его, убедившись, что из двух начинок — ливерной и яблочноповидловой — выбрала нужную, и отправила в рот, предварительно выстудив его весьма оригинальным способом — помахав дрожжевым треугольничком из стороны в сторону. Сила инерции отправила по дуге кусок сладкой начинки. Он шлёпнулся на пол, освобождая слабый завиток пара. Джока, таки заполучившая свою порцию рыбы и мяса, но не удовлетворившаяся оным, теперь чутко кимарила на коленях у хозяйки. Она приоткрыла левый глаз на характерный свист и быстрее, чем подумала, выстрелила вслед летящему повидлу. У точки приземления она покривила мордочкой. Её не интересовали безыдейные вещи, а, по скромному мнению ангоры, уваренное с сахаром фруктовое пюре было в высшей степени безыдейно.
— Квартирой по договору ренты, — смешно сказала Ленка, набив тестом полный рот, — я могу распоряжаться ещё полгода. Думаю, что вряд ли раньше отсюда съеду.
— Чем же тебя так Питер привлекает?
— Атмосферой.
— Да, — согласилась Нэнси, «нечаянно» накрошив под стол мясной начинкой — для Джоки. — Я успела заметить, атмосфера здесь невероятная: большое количество воды, роскошная архитектура, достопримечательности мирового масштаба. Мне, вообще, всё европейское очень нравится. Впечатление абсолютного благополучия. По крайней мере, кажется со стороны.
— Нее, подруга, — замотала Ленка головой, — ты не поняла. Угнетающая атмосфера заброшенного места, вот что представляет собою Петербург, это огромный город мертвецов в прямом и переносном смыслах.
— Тебя это, что ли, привлекает?
— Конечно! Питер — это средоточие беспредельной печали и необъяснимой тоски. Кстати, все русские классики, писавшие образ Петербурга в своих нетленках, скатывались в эту яму жутчайшей депрессии. Их угнетал сам город, под его влиянием рождались их шедевры. Старичок, что жил здесь, Борис Ильич, он лингвист, всё сокрушался и жалел меня. Питер, говорит, единственное место, в котором у него болит голова. Говорит, есть с чем сравнивать, между прочим: за сорок лет стажа перевидал, объездил столько стран.
— Больная голова у многих здесь, так что пора бы привыкать, — попыталась пошутить Нэнси. — Ты говоришь, он лингвистом был?
— Ну да. Был и есть.
— Я бы хотела поговорить с грамотным языковедом. Если у человека за спиной стаж в сорок лет, он просто обязан быть грамотным, ведь так. Как думаешь?
— Поговорим об этом лет эдак через… сорок, — рассмеялась Ленка и подхватила кошку на руки. Своенравная ангора стремительно и плавно упорхнула из хозяйских объятий. Она совершенно иными глазами смотрела на Нэнси. Её глаза хоть и были разными по цвету, оба излучали теперь «покорнейше благодарю». Ливер был зачётным. Он прекрасно шёл к балтийской рыбке. Незлопамятливая Джока, с лёгкостью простив предательство с хорём, запрыгнула на руки к Нэнси и принялась ластиться и мурчать.
— Вот дереза, — пожурила Ленка питомицу.
— Досталась в наследство от старичка?
Ленка в недоумении подняла брови — о чём это она? Наконец сообразила, покачала головой.
— Вот уж нетушки! Это моё сокровище, — она легонько дёрнула «сокровище» за хвост. — Привезла из дома. Мы же с ней как неразлучники, бок о бок уже четыре с половиной года.
— Прости, ты писала, я забыла, — она виновато улыбнулась, — ты из Саратова или из Саранска?
— Из Самары.
— Ч-чёрт! — Носик Нэнси сморщился и заострился. — Все они начинаются похоже.
— Ну да! Прямо как Петербург и Пермь.
— Нет, не похоже!
— То-то же! — заключила Ленка.
Нэнси поспешила вернуться к кошачьей теме.
— Почему у кошек этой породы один глаз жёлтый, а другой голубой? Это аномалия какая?
Она выглаживала Джоку растопыренными пальцами, будто гребешком, в полном соответствии с её наклонностями. Кошка, тараща глаза от удовольствия, растекалась пушистым бликом на коленях, прикрытых фланельными углами банного халата.
— Она особенная, это факт! — ответила Ленка. — Всё остальное мне не интересно. По легенде, между прочим, пророк Мухаммед был тоже разноглазым. Так что весь арабский мир на её стороне. Они там к этим сакральным знакам очень ревностно относятся. Или ты имеешь что-то против арабского мира? — Ленка угрожающе опёрлась локтями о стол, нависая корпусом над хлипкой столешницей. — Нет, вы скажите, мы послушаем.
Понемногу Нэнси начинала привыкать к своеобразной Ленкиной манере общения — подтрунивать над собеседником. Милашевич откинула голову назад на спинку кресла и залилась мелким, дробным смехом.
В окно снова постучался дождь. Из приоткрытой фрамуги потянуло подвальной мозглостью, чуть-чуть болотной, вязкой, удушливой, с гнильцой. Порыв ветра тут же снёс куда-то запах, и место болоту уступила далёкая стылость Финского залива, неуютная и сырая. Нэнси ухватила чайный стакан и широкими глотками мужественно отпила половину. Внутри стало горячо.
— Ну, а фретка и моя соседка? — неожиданно для себя заговорила стихосложением Нэнси. — Они тоже самарцы?
— Неа, пилигримы только я и Джока. Нафаню и Жейку взяла из приюта уже здесь. По знакомству.
— Удобная штука знакомство, — согласилась Нэнси. — Так значит шиншиллу зовут Жейка?
— Точно! Ну-ка, идём!
С сухим щелчком электрического разряда Ленка распрямила ноги, стремительно выманивая из кухни гостью.
— Куда? — всполошилась Нэнси. — Дай хотя бы чай допить.
Но Ленка, кажется, не слушала. С неимоверным ускорением она увлекла Нэнси сквозь всю квартиру, по пути прихватывая пожитки, разбросанные по прихожей. Сквозь протёртую подошву тапка мелькала бурая хозяйская пятка. Где-то в ногах мешался фретка. Трепетно к груди Нэнси прижимала Джоку, заякорившуюся когтями все четырёх лап, не понимая, что происходит и куда их всех несёт. Спешащая процессия напоминала авансцену чердачного театра, где проходит премьера энергоёмкой пьесы под названием «Все бегут, летят и скачут». Наконец — достаточно быстро — произошла развязка.
— Вот! — сказала Ленка. — Твоя комната!
Комната, почти квадратной планировки, была просторной настолько, насколько могла позволить себе малогабаритная хрущёвка. Нэнси внимательно и по-деловому обсмотрела свои покои. Софа в шотландскую клетку. Бланжевый, как сырой крендель, письменный стол. Фортепианная банкетка с кожаной обивкой, неизвестно какими ветрами истории задутая в эту квартиру, в эту комнату. Рядом эклектичный стул-трансформер, напоминающий в профиле легкоатлета, стартующего на беговой дорожке. На спринтере, вернее, на спинке «спринтерского» стула песочное платье в стиле сафари с широким поясом поверх. Наверно Ленкино. Терпеливо ждёт, пока владелица объявит охоту на одиноких молодых самцов в заливной саванне северной столицы. А рядом, в углу, этажерка из Икеи, на самой верхотуре которой клеточные апартаменты. Большое окно, смещённое к левой стороне, с яркими, красными, словно порез, гардинами. Советских времён стенка Хельга, обставлена хрусталём и фигурками бисквитного фарфора. Оставшиеся стены обтянуты не слишком изысканными шерстяными гобеленами с пасторальными пейзажами — оленями, пастушками, херувимами. Они — гуртом с пышным ковром турецкой или персидской вязки, постеленным на полу от угла до угла — будто на страже хрупкой сокровищницы Хельги.
— Ой, запусти по примете кошку! — предложила Ленка.
— Так это в новое жильё.
— А оно и есть новое. Для тебя! Переезд на новое место дело ответственное, опасное и требует благословения богов. Пусть Джока перед ними отдувается.
Изображать жертву Джока не была согласна. Вотум доверия адепта здесь ни при чём, как всегда двуногие всё с лап на голову перевернули. Богам нужен жертвенник, и чаще в роли жертвы избиралось домашнее животное. Человечество только ради этого и одомашнило кошку — чтобы в жертву «духам места» приносить. Хорошо устроились, ничего не скажешь! Да, она причастна к высшим силам — но и она ничего не может сделать сверх того, что должно произойти.
Послушно опустив пушистую кладь о четырёх лапах на пол, Нэнси увидела только гордый удаляющийся профиль Джоки, дохнувший холодком имперсональности.
— Психанула, — равнодушно пожала плечами Ленка.
Нафаня принял низкий старт, не стал сдерживать себя и разрядился, пустившись вдогонку. Где-то в недрах коридора завязалсь свара.
— Разберутся сами, — бросила всё так же отстранённо Ленка и с вызовом спросила: — Ну, как логово?
В своё время она точно так же, как и Нэнси, обегала взором стены «кубика». Комната, откровенно страдающая от избытка декора, но со скудостью отделки, показалась ей хрестоматийной иллюстрацией синкопы, то есть конфликта ритмического и метрического. Однако, как известно, синкопированный звук — основа ритмов сомбати и хаггала. Оба на дарбуке прекрасно исполнял Тарас. Да что там сомбати и хаггала, вся ритмика тру-блэка держится на этом. Да что там тру-блэк, вся современная эстрада строится на этих вот конфликтах ритма. Без коротких взлётов и падений барабанной дроби, без характерных пунктиров и пружинящих акцентов переноса грош цена кристинам-агилерам, натали-имбрульям и бобам-синклерам с их хвалёнными пиар-раскрутками. Короче, тогда комната, как и вся квартира, что называется, зашла в душу, залипла основательно. Ленка уже знала, что скажет «да» Борису Ильичу, несмотря на то, что предки с самого начала ставили условие варианта «эконом». Конечно, двушка по определению выбивалась из этой категории, но — как посмотреть и под каким углом. Во всяком случае, квартира в Купчино была на треть дешевле, чем микроскопическая, с трудом улавливаемая невооружённым взглядом студия у морвокзала. Да, там был по-царски пышный, даже слишком офигительский вид на корабельный фарватер, на реку Неву, но кухня в спальне, спальня в прихожке, а прихожка почти на лестничной клетке. Не, такой кукольный дворец ей однозначно не нужен. Хочется простора, свободы, и чтобы пятьсот метров от метро.
— Знаешь, а мне нравится, — помедлив, наконец сказала Нэнси.
— Кто девушку ужинает, тот её и танцует! — Ленка хлопнула в ладоши. — Что ж, мы ликуем! Располагайся! Надеюсь, вы с Жейкой сами как-нибудь решите жилвопрос. Главное, помни: она не любит сквозняков и сырости, поэтому держи её повыше. Оптимально там, где она сейчас находится.
— Постараюсь не беспокоить вовсе. У тебя здесь хоть и мало систем хранения, но без верхней полки этажерки я как-нибудь переживу.
Нэнси подхватила стул-спринтер, залезла на него и заглянула осторожно в клетку.
— Ого, она реально почтенного возраста.
— До смертинки три пердинки. Так сказал мой френд.
— Как-то он не слишком уважительно к твоей шин-ши.
— Не-а, наоборот. Он даже из уважения к её сединам сделал на ризографе удостоверение почётного долгожителя. Теперь у неё есть льгота — бесплатный проезд в метро Душанбе.
— А оно там есть? Метро.
— А чего ему не быть? Хотя, наверняка не знаю.
— То есть ты не уверена?
— Я не уверена, но то что льгота работает — это факт. Там мокрая печать и резолюция «подчёркнутому красной ручкой — верить». А там — красным всё подчёркнуто.
— Мне уже заочно нравится твой френд.
— У вас ещё будет возможность узнать друг друга очно.
— Да, мне всё нравится, — подвела черту Нэнси, — даже очень. И твои питомцы, и ты, и город.
— Да ты город толком не видела.
— Это на уровне эмоций. Есть в нём какой-то шарм, загадка. И эти постоянные дожди!
Ленка театрально всплеснула руками, что-то вспомнив.
— Как ты умудрилась припереться в Питер без зонта.
— Неправда! Я забыла его дома.
— Я и говорю! — Она махнула рукой на Нэнсины доводы. — Значит, решено: тебе нужен зонт. И экскурсия по городу. Но — сперва зонт!
— Можно совместить!
— М-мм… — оценила Ленка. — Главные аттрактанты нашего города, — (она снова вкусно подчеркнула «нашего»), — это храмы, но не те, о которых ты прямо сейчас подумала. Вот о чём ты подумала?
— О музеях.
— Вот и неправильно. Это шоппинг-центры. Феномен интересного и категория прекрасного. Туда и рванём.
Глава 4. СЛОНЫ В ПОСУДНОЙ ЛАВКЕ
Великий Микеланджело, оживляя камни отсеканием излишков, когда-то предложил такую вещь, как дискретное качество. Он наставлял делать скульптуру «хорошо» лишь в сорока ракурсах, то есть выкладываясь на каждый девятый градус окружности предмета. Многие из хейтеров на тот момент пока ещё не признанного гения эпохи Возрождения, вменяли ему в вину несовершенное объёмное мышление, но это была чушь. Просто мастер одним из первых, кто словил дзен оптимизации искусства, потому что оптимизация — уже искусство (любой сеошник подтвердит). Но Микеланджело был пионером — пятьсот лет тому назад никому и в голову не приходило, что можно обеспечить наблюдателя лишь полуторой дюжин удачных перспектив скульптуры, и этого будет достаточно, чтобы признать её достойной. Предмет искусства — всегда тайна, и человек стремится разгадать её, часто приписывая объекту особые, замолчанные смыслы. Зазор в восемь градусов — это беспрецедентная возможность созерцателя привносить что-то своё в искусство. Всегда — самое волнительное в мире то, чего в нём нет, но что неизменно мы прибавляем, обсыпая отсебятинными крошками.
Давно, кажется в околостуденческие годы, Нэнси страстно желала видеть себя в профессии ваятеля, ходила в худучилище на курсы, где пыталась лепить сперва из теста грушу, а после гипсовую голову. Оказалось даже сорок удачных ракурсов — чрезвычайно трудоёмкая работа. Если груша была ещё и так и сяк, то с головой ничего путного не выходило. Это признавали не только окружающие, но и сама горе-ваятельница. Можно было сколько угодно крошить отсебятинку, но башка, хоть ты тресни, убедительно не получалась.
Когда в поисках себя и будущей профессии Нэнси не смогла взломать миссионерский код ваятеля, горевала по такому поводу она недолго. Просто пришло время снова делать выбор — и она его сделала: подала документы на кафедру литературы филфака ПГУ. Почему она решила стать на этот раз филологом? У абитуриентки Окуневой не было ответа на вопрос. Почему, собственно, люди идут в каскадёры, дипломаты, в почво- и искусствоведы, веб-программисты и этнографы, орнитологи, нанотехнологи, в проктологи и ихтиологи? Да — продолжают традиции семьи, да — ведутся на модные тенденции рынка труда, да — обеспечивают себя иррациональным тождеством «мечта — самореализация — реальность» (проктолог-мечтатель — в этом определённо что-то есть). Но бывает, что причина не заключает со следствием сделку, причинно-следственная связь не формируется, оставшись без дедуктивного начала — вот тогда-то появляются на свет амбивалентно-клинические контроверзы, притягивающие, словно громоотвод, вопросы-молнии. Почему на бондарей не учат, а на маркшейдеров — учат, хотя неоткрытых месторождений полезных ископаемых всё меньше, а бочек для хранения вина — всё больше? Почему считается, что писательское ремесло почётнее, чем блогерское, хотя последнее и более доходно? Почему кардиохирургов и анестезиологов (взятых вместе) в разы меньше, чем прокуроров и судебных приставов (взятых по отдельности)? И так далее. Нэнси эти примеры, как и причины её поступка, волновали мало. Её не тяготил вопрос и не заботил ответ. Было достаточно того, что литература и язык интересовали её всегда. Правда, занимали на свете ещё тысячи вещей, и интерес к Бодуэну де Куртенэ, Хемингуэю, Бахтину и Гессе никоим образом не означал, что она положит жизнь на алтарь литературоведения и языкознания. Нужно было принять решение, а о том, что можно сомневаться или, тем более, размышлять о мотивах и поводах, не удосужились предупредить. Это был не какой-то там особый зов сердца, на который невозможно не откликнуться, нет. Зов — это, на секунду, прислушиваться к интуиции, к внутреннему голосу. У Нэнси — если уж начистоту — интуиция сбоила, а внутренний голос, этот голосище, был словоблуден и треплив, однако с бессознательным контачил вяло и часто строил из себя не прорицателя, но критика. Чтобы избежать очередной разочарованности, она ему не доверяла.
Подходя к рубикону пятилетней муштры, Нэнси всё чаще стала впадать в раздумье: что ждёт её после университетской парты? Она не ловила спойлеров, просто знала, не будучи начинена иллюзиями: диплом — это лишь прямоугольник красивой гербовой бумаги. Когда ты низвергнешься в объятия взрослой жизни, твоя способность растянуть курсач на сто страниц или умение «наговорить» зачёт окажутся ничем перед бьющим наотмашь вопросом о рекомендательных письмах с прошлых мест работы. Последнее, что спросят по ту сторону переговорного стола — это специальность и наличие диплома. И спросят ли?
Крепко поразмыслив, она решила не спешить, дабы смягчить суровый приговор сиюминутной паузой праздношатания. Когда ещё улучится момент? Вспомнила о своей давнишней-сокровенной-затаённой мечте — сплавиться на катамаране по реке. В двух остановках от дома записалась в спортивный клуб, там же прикупила экипировку и обучающее видео. Если воплощать в жизнь детскую мечту, то непременно по-взрослому: обстоятельно и досконально. Это правило справедливо вдвойне для далёкой от спорта дилетантки. Дилетантке, впрочем, не повезло с тренером: тот оказался заядлым рыбаком, и сплав по Сиве с трёхбайдарочной командой, который состоялся на майские каникулы (до защиты оставался ещё месяц), мог стать дивно-чудным, если б не периоды бесклёвья. Инструктором со сложно выговариваемым и категорически не запоминаемым именем-отчеством Бакберген Абдусоттарович овладела маниакальная идея поймать хоть что-нибудь. Нет, поначалу «что-нибудь» ловилось: так, небольшой успех имела рыбалка на блесну в какой-то глухомани возле заброшенной деревни Пастушьи Сумы. На обрывистом берегу, рядом с ужасно разъезженным грузовиками просёлочным трактом, поймалась диковинная рыба подуст, в жареном виде весьма съедобная. Пару раз ловились язь, налим. Но после бесхозного скотомогильника, обнесённого рвом и басистыми индиговыми мухами, аккурат на повороте к Черновским поселениям удача от незадачливого рыболова отвернулась.
Весна в Предуралье стабильно поздняя, почти всегда в устьях высокая вода и паводок. Река как брага — с рыбно-тминным духом. Комариная зудня напоминает карательные рейды мессершмиттов. Но рыбы нет, и даже червяк, собранный на земляных валах древних урочищ, не давал годных результатов. Наживка оставалась на крючке — рыба не клевала. Всё своё негодование и раздражение Бакберген Абдусоттарович вымещал на группе. Он не замечал своих пороков, как, вероятно, сивая рыбёшка, ушедшая до лучших времён на глубину, не замечала тяжести давящей на неё воды.
Как существо домашнее и, в сути, неконфликтное, Нэнси, стерпев невзгоды и лишения, по возвращении домой решила с водной одиссеей завязать (ко всему прочему выяснилось, что плавает она немногим лучше топора). Однако внутренний локатор жизненных ориентиров так и свербел, подмывая найти себя не в этой, так в другой стихии, и она немедленно переключилась на секцию пешего туризма.
На этот раз с наставником повезло не намного больше. Он хоть и был добрым, примирившимся со всем человеком, однако ж, мириться, к примеру, со второй женой не мог и находился в стадии развода, всё чаще пропадал в судах, а не на работе. Появляясь же изредка на клубных сходнях, он устраивал нудные ликбезы, а добирать регулярно порцию нудятины предлагал из журнала «История и археология», в редакционной коллегии которого он состоял. Никто, кроме Окуневой, не воспринимал этих советов всерьёз. Теплососущий туман филологического толка уже разъедал её разгорячённый, натренированный годами университета мозг без пяти минут специалиста. Не столько укоряя себя, сколько филологически грустя о несовершенстве мира, Нэнси зарывалась с головой в скучные, с пропущенными запятыми публикации, извлекая на свет, будто из космических глубин, деликатно пульверизованные сверхразреженным межзвёздным газом метазнания.
Пешие брожения по бескрайним просторам родного края вкупе с журнальной подшивкой «Истории и археологии», взятой напрокат в библиотеке, создали тепличные условия для увлечения раскопами. Расквитавшись с альма-матер и защитив диплом по поэзии Серебряного века, Нэнси обрела себя на археологических приисках. В какой-то момент историко-культурное наследие полностью захватило её, и кажется, вот теперь наверняка она обрела себя в нескучном и небесполезном времяпровождении. Действительно, экспедиционная деятельность расширила кругозор и как-то затянула праздношатательный период. Археологические изыскания не приносили особого дохода, организаторы расплачивались бартером. С легальных копов Нэнси часто привозила артефакты культурных слоев, не слишком, впрочем, «культурных» для музеефикации, но весьма любопытных лично для неё. Как правило, это были чудом уцелевшие винные штофы и квасные кувшины из упрятанных под землю ледников — древнерусских холодильников. В дальнейшем антикварная стеклотара шла на заклание первым, самым робким творческим экспериментам.
Разномастные бульбухи — флаконы, фляги, бутыли и бутылки — выбивавшиеся из нашпигованных стеклом урочищ, обломали зубы приземлённой материи спиртуозных штудий, некогда плескавшихся в остеклённых утробах, и превознесли долгоживущую, континуозную форму над недолговечным её содержимым. Роспись красками помогли форме обрести особинку, а Нэнси — преисполниться решимостью, проникнувшись неподдельным интересом к технике и самому процессу росписи.
Копательский сезон продолжался до поздней осени, а зимой, в вынужденный перерыв, в ход пошли современные материалы — всё, что попалось под руку. К весне появились первые клиенты и заказы, и выходить «в поля» уже банально не хватало времени. Археология как таковая отошла на второй план, на первый — наползали, вырывались заливные витражи. Этно, модерн, прованс, ар-нуво — мотивы и сюжеты, навеянные стилем, воплощались в полотнах на стеклянных сувенирах, посуде, светильниках, окнах, столешницах и даже входных дверях. Роспись по стеклу витражными красками перемежалась с другими «хабарными прожектами». Бывшие преподаватели с кафедры подкидывали ей англоязычные прописи — руководства, инструкции и директивы, по большей части, написанные мертворождённым стилем технарей. Иногда просили примерно тем же языком викингов написать статью или обзор для университетского веб-сайта. Ещё реже случалось репетиторство. Преподавание, впрочем, Нэнси нравилось: это была прекрасная возможность удерживать на плаву компетенцию её коммуникабельности и ворошить от случая к случаю богато присыпанный нафталином филологический академизм. Почасовая оплата прельщала очевидными плюсами сдельщины, но: рекомендации, рейтинги и отзывы — всей этой бенефициарной вереницы у неё, конечно, не было, как не было надежды на стабильный заработок. Возникая гораздо реже, чем хотелось бы, индивидуальные занятия стали просто ещё одной струйкой в неспокойном финансовом ручье.
За этот, на первый взгляд, странный заказ Нэнси ухватилась крепко. Творческие халтурки она всегда брала с охоткой, не раздумывая. Дорожка, что вывела её к Савелию Витольдовичу, не была витиевата и сложна: заказчик нашёл сам в интернете примеры её работ и написал на электронную почту с пожеланием сотрудничать. Странной была свободная игра случайностей, дотошно опекаемая законами статвероятности: трудно и представить более подходящего времени именно для этого заказа. Но: по порядку! Чтобы прочувствовать, ощутить на себе весь неистощимый запас удивительного, потребуется преамбула. Она связана ещё с одним клиентом, долгие переговоры с которым у Нэнси сорвались накануне. Обсуждалось прицельное долгоиграющее репетиторство. Максим Аверьянович — топовый специалист по газораспределительным сетям одной крупной и весьма известной транснациональной корпорации — задумал подыскать для падчерицы «чистого» филолога-русиста. А найдя его в лице Ани Окуневой, долго и вкрадчиво обрисовывал нюансы дела, выражая всячески свою готовность «лечь костьми» ради будущего Вари. В неопределённое будущее Максим Аверьянович смотрел с дальним, вполне себе ясным прицелом. Большую часть времени он пропадал на отладке скрубберов строящейся газонаполнительной станции, а неродная двенадцатилетняя дочь Варвара обитала в фешенебельных апартаментах под боком главного Адмиралтейства вместе с гувернанткой Маргаритой. По нечаянным обмолвкам и обрывкам случайных фраз Нэнси поняла, что Варина мама, супруга Максима Аверьяновича, послушничает где-то на Валааме и, посвятившая себя духовному служению, не может уделять должного внимания семье.
Перспектива на три месяца сменить родной провинциальный «недомиллионник» (до нового почётного статуса пермякам не хватало каких-то тысяч) на белоночный, дворцово-дворовой, с инъекцией классической литературы Питер, конечно, очень импонировала Нэнси. Не стоило забывать, что пункт «значительно поправить финансовое положение» уже входил в этот пакет приятностей. Но, как это бывает обычно, что-то где-то пошло не так и не туда. Максим Аверьянович был готов оплатить и переезд, и проживание в номере отеля, надо было только урегулировать организационные моменты. Но обстоятельства непреодолимой силы постоянно откладывали эту самую регулировку: то Варвара, нацеленная идти по стопам отчима, в нестерпимом нежелании подтягивать все летние каникулы свой русский, свинтила в детский лагерь, заявив, что ни за какие коврижки не будет тратить время на зубрёжку; то гувернантка Маргарита вдруг заявила, что девочке требуется не Даль и Ушаков, а Рахманинов и Мусоргский, и начала активно склонять главу семейства к поиску учителя музыки; то сам Максим Аверьянович срочно улетел в командировку на Ямал и две недели не выходил на связь, после извиняясь, объяснял своё молчание чрезмерной занятостью. Последней каплей стал неожиданный приезд Вариной мамы, с инфантильным своеволием учинившей мужу взбучку за «внеурочную монополию в воспитании падчерицы». Это сильно оскорбило чувства Максима Аверьяновича, так что с Нэнси отныне (то есть в первый и в последний раз) общалась его супруга. Перед Нэнси извинялись и обещали перезвонить. Как нормальный соискатель, она уточнила до какой даты смеет надеяться. Ответ не порадовал, а фраза «мы вам перезвоним» была не более, чем вежливым отказом.
Расстройство было колоссальнейшим. Ещё древние философы предупреждали: мир не такой, каким мы его видим, а такой, каким чувствуем. Наши надежды и ожидания становятся как бы действительными, подлинными, а когда они обмануты, когда они не могут претвориться в жизнь, когда задуманное катится в тартарары — мы чувствуем внутри глобальный крах и сокрушительное разрушение, неминуемое и неотвратимое, будто бы это вовсе и не планы, а что-то вполне себе свершившееся, имевшее уже место быть. Ещё те же философы (а может и другие, но тоже древние) утверждали, что мысли и желания материальны. Стоит только очень сильно чего-то захотеть и — бац! — сила мысли уже превращена в неуёмную, дикую энергию, выбивающую сногсшибательную сумму следствий из самых, казалось, бредовых концепций.
У Нэнси были значительные шансы на материализацию желания, но всё равно это показалось таким невероятным действом. Спустя всего каких-то полчаса после упомянутого разговора на почту прилетел имейл с предложением — чтобы думали? — приехать в Питер и взять в работу большую партию керамических заготовок для росписи. Большая — это значит не пятьдесят или сто, а полтысячи штук. Работы, в самом деле, непочатый край. Фигурки, скульптуры, посуда, копилки, подставки — чтобы управиться, потребуется пара месяцев, или больше, тут, конечно, всё зависит от уровня причуд заказчика. Судя по всему, тот был владельцем сувенирной лавки, предлагая в общем недурной прайс за работу, зная цену не только готовому изделию, но и зиждительным трудам. «Глазурь и кисти, — писал он, — уже ждут мастера, а вы, учитывая виденное мною, мастеровитый человек — с руками и воображением». Правда, Савелий Витольдович (так заказчик подписывался в конце линейно-трогательного письма, больше похожего на грамотку ценителя причастных оборотов) не предлагал взять на себя финансовые хлопоты, связанные с неизбежным переездом, что, в общем, вносило диссонанс в энерговибрации и, безусловно, портило картину идилличности. Но, с другой стороны, не всё же коту масленица, бывает и просто блинчики.
Пенять на непрокачанный материализатор последнее дело, и Нэнси поспешила сама озаботиться вопросами жилья. Впрочем, решать его без свободной наличности в кармане было сложновато. Она с большим трудом наскребла денег на железнодорожный билет в одну сторону, и теперь её финансы не просто пели романсы, они орали благим матом, изрыгая ужасные слова и проклятия. Решение, как всегда элегантное, пришло неожиданно: попробовать сходить на даровые вписки. Человек подумал — Яндекс сделал, и к вечеру Нэнси уже переписывалась с милой девушкой из Купчино. У Ленки была своя корысть, которую она, чистая душа, честно выболтала: помочь ей с переводами англоязычных текстов песен. К тому моменту Нэнси упомянула о роде своей деятельности.
Ленка открыто выражала собою полное и решительное обалдение от возможности быть свободной от будильников, графиков и расписаний, считая время главным активом современного делового человека. Сама она, выучившись на биолога и заполучив в прошлом году вожделенный гербовый прямоугольник, в отличие от Нэнси, первое время сильно тяготилась мыслями о профессиональном развитии. Собственно, за карьерой она и погналась в Питер, сильно рассчитывая отыскать здесь что-то достойное её диплома. Впрочем, уже к весне приоритеты сильно сместились, и Ленка не спешила откликаться на первую попавшуюся вакансию. Она незаметно перешла в творческую фазу поиска себя, и это их с Нэнси сильно сближало по духу. Насколько она поняла из переписки, её новоиспечённая подруга уделяла много внимания судьбе приютов и питомников, фанатела от андеграундных изданий о музыке и даже стряпала свой, в меру подпольный, в меру дилетантский селф-паб, где, кроме переводов любимых песен, были коллажи, карикатуры, стихотворные наброски и (по её же заверению) другая психастеническая рефлексия. Для того чтобы выпускать фанзин, вовсе не обязательно быть авторитетным, объясняла Ленка. Даже не обязательно знать правила орфографии и пунктуации. Достаточно быть маньяком-энтузиастом с пачкой офисной бумаги и набором фломастеров. Даже плохонький принтер в паре с компьютерным «железом» не обязателен: эта сладкая парочка всё равно не удовлетворит рождённую и исторгнутую из глубин фанатского сердца надкритическую массу формотворчества, но, очевидно, поможет ускорить маленькую фэнзийную «хиросиму» у себя дома.
Для одной личности Ленка имела слишком много духовно блуждающих качеств. Она воспитывала себя искусством и считала идею важной. Воспитание искусством, делилась она в скороспелой переписке, это значит расшатывать и корчевать исторические, культурные, психологические традиции и нормы, свои привычные вкусы, ценности, воспоминания. Нужно не трепетно вкушать, а пожирать, глотать картины, музыку, литературу, так, словно завтра тебя всего лишат. В этом смысле, чтобы не ограничивать свободу оргдеятельной схемой, невредно привнести в собственную жизнь немножко хаоса.
Не сказать, что это вязалось с Нэнсиной философией, однако что-то сильно резонирующее колобродило аморфными сентенциями и в её голове, так что эта тема оказалась благодатной для сцепки языками. В ход пошёл телефон, и они говорили обо всём и ни о чём: про помидорные диеты и феодализм, про хвост кометы и религиозный фанатизм, про хищный диктат и тюремные приметы, про кошмар детства — варёный лук и про изящные, но такие идиотские акронимы — PINE, WINE, ILY, FAQ, OMG и прочий LOL.
Одним словом, несмотря на разницу в возрасте, у девушек оказалось много общего, и кто бы мог подумать, что всего неделю назад они даже не знали о существовании друг друга. Была ещё одна общая черта, вернее, приятная зависимость, от которой страдали обе — шопинг. Конечно, накупить всего из ряда «нечего надеть» — какая женщина не любит этого? Можно часами ходить по бутикам, оставляя в каждом по кредитке с выбритым лимитом, а после заказывать такси с большим багажником, чтобы уместить все купленное. Но особая способность и высший пилотаж получать удовольствие не от покупки, а от возможности самой покупки. Эта техника особенно уместна, когда считаешь мелочь по карманам, прикидывая, хватит на метро или снова придётся ловить доброго самаритянина с жетоном.
Вчерашним итогом шести часов комплекса попутных развлечений стали кинобилеты на «Суини Тодда, демона-парикмахера с Флит-стрит», пара зелёных коктейлей в «Бленд-land», акционная тушь для ресниц «Маскара» (Ленка долго искала именно такую) и эксклюзивный петербургский зонт-трость с сепийной панорамой города, орошённой дождевыми разводами под нарисованным стеклом — чудесная вещь, превзошедшая все ожидания.
Сегодня зонт в руках Нэнси демонстрировал могучий функционал. Это только с виду, зачехлённый, он казался бесполезным на фоне ясной, без малейшего намёка на ненастность погоды. Зонт, как известно, многопрофильный охранный амулет, и он отлично сберегает от дождя. Стоит только взять его, и вероятность любых осадков сводится к ничтожно малым величинам.
Вся дорога к Удельной — Нэнси выбрала наземный маршрут, чтобы любоваться видами — тонула в позёмках из струек опавшего липового цвета. В северной столице липа распускается примерно с двухнедельным отставанием от средней полосы, и сейчас здесь был самый ток цветения. Филированный лучами солнца (невзирая на плотную застройку) город, с обвисшими рукастыми плетями вековых деревьев, казался насквозь лишённым мегаполисной «кессонки» — хронического заболевания почти любого урбанистического междупутья. Типичные эндемики каменно-бронзового ареала обитания, человеком созданные и существующие исключительно в культурном состоянии — эдакий петровский культиген — являлись по сути аллегорией старения и времени. Ещё немного и в клокочущих иероглифической отделкой обшарпанных фасадах проступят знаки пустоты. Пока же символика жанра, как, скажем, увядающие цветы или гнилые фрукты, настойчиво кидалась в зрителя абрисами недоруин. Недоруины замков и дворцов с ремонтным закутком, как некий вызов, как форма сопротивления былой аристократии. Сплошной дендизм; здесь всё: и пренебрежение, и поза, и философия, и образ жизни.
Впрочем, справедливости ради, это не мешало Питеру быть в доску «своим». Любой другой бы город — ходульно деланный, позёрский — никогда и ни за что не обернулся бы верным псом, готовым лобызать руку хозяина, а Питер мог. Мог, не теряя своего величия и культа архаики, разыграть не тюленье прилежание, не астеническое коленопреклонение, а приязненность и безалаберную благосклонность, непременно с выразительною мимикой. Мимика эта — инфантильного лунатика в вялой сетке мраморных прожил и трещин, подёрнутых зеленоватой плёнкой плесени, с моторными тиками речных трамваев, с конвульсивными спазмами метрополитеновских кишок — всегда дарила надежду, но и сбивала с толку, настропаляя на мысль, что у «пёсика» хозяина нет и быть не может. Город Петербург всегда был и остаётся предельно авторитаристским: он себе глава, и муж, и господин, и царь. Тут нет решительно никаких противоречий, поскольку авторитария не мешает быть образованным и рассудительным космополитом — в смысле отношения, в смысле приязни к любому заглянувшему на огонёк. И в этом смысле лучший способ прочувствовать радушный приём собственною кожей — очутиться непременно на городском рынке. Это понятие так же космополитично, как нефть, религия или американская валюта. И Нэнси волею судьбы и лавочника Савы, назначившего встречу на Удельной, направлялась как раз в такое место.
Когда и при каких стихийных обстоятельствах возник блошиный рынок на Удельной — или по-простому Уделка — неизвестно. Если углубляться в истоки чересчур усиленно, то можно скатиться к обрусевшим немцам, осевшим в Петербурге примерно в те времена, когда была отлита пуля-дура, погубившая в бессмысленной дуэли русского поэта. Немецкие мигранты — все эти шварцы, шульцы и фонбахи — привезли с германской родины свой lans markt, впоследствии точно так же обрусевший, ставший вшивым рынком, привычным почти любому русскому. Уделка в Питере, пожалуй, вполне могла бы тягаться с берлинским сродичем Пренцлауером Бергом, или знаменитым парижским Сент-Уаном, или не менее известным ноттинг-хиллским Портобелло Роуд. Немецкий трёдельмаркт такой же грязный, парижский брокант — такой же эклектичный, а британский флюмаркет такой же криминальный, но главное подобие и потрясающая мимикрия — это посетители. Именно они придают любой блошинке любого континента чрезвычайное сродство и одинаковость. Это понимаешь ровно в тот момент, когда толпа стяжателей, бредущая от станции метро, втягивает пылесосом тебя в кучу предметов непонятного происхождения, разложенных на земле, развешанных на деревьях и даже висящих над головой на жирных от многолетнего мушиного сидения верёвках.
Аня Окунева кочевала по этому празднику разнузданного торгашизма суетливой походкой, в такт поводя плечами, высматривая, высверливая глазами направляющие её ориентиры. Не успев пока обзавестись модной штуковиной мобильным телефоном, она была вынуждена договариваться о встречах по старинке, то есть сильно заранее и без возможности корректировки времени. То было славное время, ещё не омрачённое нашествием эмодзи, селфи, троллей и всяких там мобилофобий. Из средств коммуникации — электронная почта и стационарный телефон, вместо яндекс-карт и спутниковой навигации — ориентирование по мху и муравейникам. Нет, конечно, до этого пока не дошло, Нэнси неплохо справлялась с незнакомой местностью с помощью привычных в таких случаях вопросов «Как пройти?» Адресованные прохожим, они помогали быстро (иногда не очень) достигнуть пункта назначения. Но сейчас был случай не совсем обычный, вернее, совсем необычный.
Сам рынок отыскался быстро, но, попав внутрь, она оторопела. Из ориентиров — пресловутые кучи, более и менее равномерно приправленные копошащимися добытчиками старинных самоваров, икон, бюстов, ковров, пластинок, книг, велосипедов, значков, монет. Таких отвлекать праздными расспросами — себе дороже выйдет. С запалом героев Буссенара, подстерегающих в прериях бизонов или выискивающих в джунглях млечный сок гевей, они, что называется, рыли носом землю за недостающий экземпляр ископаемой коллекции. Эти охотники за очерствевшим, окостеневшим, одеревеневшим временем, спрессованным до запылённых реликтов тиражного «совка», казались Нэнси страшными людьми, осатаневшими от пороков собирательства. Она видела, как с пеной у рта они готовы выдрать скидку, а после — заполучив её — с солдатским пиететом исторгать преувеличенно трепетные слова и выражения.
Тяжело поверить, но это и были тончайшие, самые щекотливые и деликатные движения человеческой души, при изображении которых художник так часто катится в трюизм. А между тем, это предвкушение животворного счастья в глазах блошиного народца нельзя было сбить решительно ничем. И, кажется, ровно такой вот лихорадочно сверкающий огонь Нэнси нет-нет да видела среди своих знакомых. Сложно было понять этот огонь. Тяга к простым вещам, к вещам, по сути, бесполезным, возникает тогда, когда эта простота утрачена, когда окончательно притуплено чувственное восприятие. Но обилие вещей, делающее всех нас знатоками потребления, не может не рвать эту чувственную связь. В пресыщении товарами мы давно уже ничего особенного от них не ждём. Какое уж тут чувственное восприятие? Нэнси машинально покрутила в руках зонт-трость, купленный только вчера, ещё даже лейбл-бирка на месте — не успела срезать. «Нет, бесспорно, приятно приручить вещь, сделать её своей, — вскользь подумала она, — но, оплатив на кассе ценник, эмоционально мы всё равно остаёмся холодны, за исключением разве что первых нескольких мгновений. По факту вещи остаются неприрученными, мы не плачем, когда вырастаем из них, когда они теряются или ломаются. Мы просто покупаем новые, забывая о старых». Горевала ли Нэнси о любимом зонтике, забытом в спешке дома? Да она даже не заметила его отсутствия, и вот теперь легко променяла линялый старомодный зонт на питерский талисман с костяною ручкой. Но потеряйся этот красавец — она будет горевать? Скорее всего, сокрушится — да, но не сильно и не очень. «Вот чего нам недостаёт: вещей-событий, вещей-собеседников, — размышляла она, двигаясь быстрым шагом, тревожно и бегло осматривая прилавок за прилавком. — А вот таким людям — за фанатичную преданность идеалам, за веру в ментальность вещизма — должны, как минимум, выдаваться шифры к кодовым замкам Пандоры с сакральным доступом. Они находят себя среди простых вещей, они сознают, что и они сами, и вещи — есть, присутствуют».
Правда, одного этого знания мало. Нужно как бы становиться вне времени, чтобы получить отношение к вечности. Да, наверно, так оно и было. Никто не обещает, что поставленное ими на крыло дело (любой коллекционер своё собирательство честно и искренне считает делом) будет существовать после их смерти, наоборот, скорее всего, коллекция лошадиных эстампов, или военных нагрудных знаков, или старинных фолиантов в марокенах, или ещё бог знает чего — распылится на фрагменты и тонким слоем осядет всё на тех же барахолках. Но — фундируя картину мира через мечту-идею собирательства, коллекционер наделяет себя предельной живучестью, а, значит, почти бессмертностью. Любая такая коллекция, по ленинскому выражению, «перепахает» самого составителя — библиофила, нумизмата, марочника, гербариста — и удостоит именно его высшей метафизической наградой.
Правда, протягиваясь толпою вдоль рядов, Нэнси подозревала это место в оппозитных истинах. В голову то и дело лезла навязчивая мысль, что блошинка — это, прежде всего, бессистемный путеводитель по загробному миру вещей, что-то вроде «Бардо Тодола», написанного языком отживших своё предметов быта. Великий похоронный гимн ей чудился по мере нарастания базарного крещендо. Нарастал он потому, что Нэнси текла в самую гущу событий рынка. Здесь, в гуще событий сбывались мечты ретроградов-стиляг и голдобов-тряпников: расторговывались изделия мануфактур — текстильных, галантерейных, кожевенных. В воздухе стоял крепко настоянный запах «бабушкиных» средств — камфоры и нафталина.
В сопроводительном имейле для адресата anna.okuneva@rambler.ru обещали худосочную луковку Пантелеймоновского храма, от которой надо будет забрать правее и пройти к милитаристам. Деревянный храм за территорией рынка прекрасно скрывали налитые зеленью разлапистые кроны, и возвышающийся не слишком высоко купол с крестовой мастью Нэнси с трудом, но всё же отыскала. Как и было велено, от него она взяла сильно вправо и пошла вдоль низенького стального профиля аккурат меж настеленных клеёночек, с которых торговали консервами, фейковым парфюмом и средствами гигиены.
Потом и вовсе пошло сонмище наваленного скарба. Где, что — не разберёшь. Вдруг, внезапно: смена декораций. Символичное барахло сменилось не менее символичными винтажными манатками: цветистыми платкам и шалями, платьями с отложными воротничками, варёнками, шинелями, ватниками и даже черкеской с атласной подкладкой для газырей. Обещанные милитаристы упорно не желали появляться. Совсем отчаявшись, Нэнси в тающей надежде бросилась к продавцу с помятым лицом и прилипшей к уголкам губ известково-серой папиросиной. Тот упрямо заставлял работать зажигалку с характером.
— Я их называю дембельками, — угрюмо, сухо заключил он. — Все, как один, отставники. Из бывших. Хотя вру! Кажется, затерялся там докторишка наук один. Специализируется на ремнях и лётных сумках. Откуда-то натырил и потихоньку распродаёт.
— А как их найти? — нетерпеливо поинтересовалась Нэнси.
Швырнув в сердцах на взрыхленный асфальт бесполезную штуку, торговец молча ткнул соседа. В коротком интимном мановении они наскочили друг на друга папиросными цевьями, подпаливая «козью ножку».
— Тебе зачем? Вещизмом интересуешься? — Он затянулся, выкатывая вертлявые шары мутно-сизого дыма. Хитро прищурил глаз. — У меня есть прекрасный габардиновый плащ, весь в дырочках от орденов. Посмотришь? Недорого отдам.
— Мне не надо. — Она отогнала ладонью шар, неизбежно на неё налетевший, и мотнула головой. — Я ищу одного человека. Может, вы знаете его?
— Может и знаю. Как зовут?
— Савелий Витольдович.
— Знаю я одного Саву, — торговец сплюнул табачную жвачку, набившуюся в испорченные никотином зубы, — но он не торговец милитари. Слонячит он… ну, на посуде сидит, загоняет всякий шмурдяк.
— Да-да, — радостно взвизгнула Нэнси, не совсем распознав весь смысл фразы, но среагировав на слово «посуда». — Всё верно. Он мне и нужен.
— Нахер? — обескуражил вопросом торговец, впрочем, не рассчитывая на ответ, безразлично махнул кулаком, с зажатой меж пальцами папиросой, сзади себя. — Дембеля во втором ряду обитают, слоны в третьем. Там ищи.
«Слоны» обитали в посудной лавке мирно. Их было трое, и крайний оказался тем, кого так долго и упорно выискивала Нэнси. Внешность Савы показалась ей, деликатно говоря, запоминающейся. Розово-коричневый мясёный скальп, продублённый солнцем, похожий на коровье вымя, прикрывали растрёпанные пакли жиденьких волос неопределённого цвета подсыхающего сена. Хрящеватый кубарь носа держал на своих рябых оспинных крыльях, словно атлант на плечах, искажающие линзы в старомодной лакированной оправе. Тускло-мутные зрачки из-за толстых астигматических стёкол казались громоздкими, бочкообразными. Они безумно вращались, словно навыкате, в такт мелким суетливым движениям обнажённых по локоть рук. Выше локтей насупонилась морщинами и складками старая сухая кожанка, похожая на сброшенную рептилией шкуру. Видно, что в «шкуре» рептилоиду было крайне неуютно: пот сползал по его отвисшим, словно аксельбанты, щекам, по ободранному бритвой, блестящему подбородку.
Савелий Витольдович торговал с капота старенького «фокуса», тщательно задрапированного тяжёлой промасленной вискозой когда-то кремово-жёлтого цвета, а ныне тёмно-рыжего, избурого. На вискозе в порядке, определённом исключительно хронологией выкладки товара, воздымался глухой кобальт хрупких чайных пар. Позолота «колосок» шла через один, зато «снежинки» на бокалистом хрустале, соседствующем рядом, были все на месте. Потешного вида старорежимные реликвии фигурок труженицы с гармонью, пионера со скворечником и девочки с козлёнком привлекали внимание. Ослепительная белизна дулевского фарфора пыталась соперничать с эмалевыми смарагдами гжельской хозяйки медной горы, с прекрасной парой лебедей на синекалильном кракеле высокогорного озера, с русской плясуньей в дымчато-синих штиблетах и кокошнике. У самых щёток дворников пизанскими башенками зиждились самаркандские пиалы в наборах. Лопались от важности пахтовые чайники из Бухары, сверкал сусальным мозаичным панно расписной ляган, словно это было не плоское фарфоровое блюдо, а стена медресе или мечети.
Хозяин грациального товара разогнул унылую фигуру и равнодушно подал Нэнси жёсткую ладонь. Он не стал церемонничать и расспрашивать, как та добралась, где остановилась, быстро ли его нашла. Он сразу перешёл в контрнаступление. Выдвинул садовый ящик, подпиравший левый передний баллон автомобиля, и, задрав на коленях тугие брючины, чтобы не ломать наглаженные стрелки, склонился над проволочной клетью, переполненной оберточной бумагой. Отогнул край и явил свету белый черепок фаянсового блюда, вернее, блюдца — размеры его были невелики.
— Смотрела третью новеллу из «Приключений Шурика»? — спросил зачем-то Сава.
У него был ровный, немного грубоватый, типично начальнический голос с бархатными нотами приглушённой властности.
— Папа обожал гайдаевские фильмы, — кивнула Нэнси.
— Тогда поймёшь мою аллюзию. Это утильный фаянс, — пояснил он. — Под роспись. Будешь тренироваться пока на «кошках». Их много у меня. Их не жалко. Если мне понравится твоя мазня, выдам тебе серьёзный заказец.
— Что значит «серьёзный»?
— Косушки, пиалы, ляганы. Есть немного ваз и кувшинов. Не поняла?
— Почему же «не поняла»? — обиделась на повелительную интонацию Савелия Витольдовича Нэнси. — Поняла! Витражные краски эффектней смотрятся на стеклянных изделиях, так что, если у вас тут проверка на вшивость, лучше…
— Нет, не поняла, — грубо прервал торговец и, поискав глазами что-то из имеющегося арсенала, подхватил из набора пиалу с витиеватым узорным бортиком по краю.
— Сколько?
— Рублей семьдесят, — предположила Нэнси.
— Я не про цену, я про возраст.
— О, я не сильна в этом. Явно не археологическая находка, но навскидку что-то послевоенных лет. Плюс-минус… или около того.
— Ишь ты, — усмехнулся Савелий Витольдович, — прямо пальцем в небо. Но вот с ценником, девочка, ты промахнулась. Это не Китай, а Гиждуван, хоть бы и фабричный. Двести пятьдесят за штуку, весь набор за полторы, и то лишь потому, что ксерокс халтурил.
— Что это значит?
Савелий Витольдович перевернул пиалу и небрежно цокнул мизинцевым ногтем по донышку.
— Вот, посмотри. Если работа ручная, обязательно видны следы от гончарного круга. Даже если дно покрыто глазурью, всё равно след заметен, если свет направить сбоку. А здесь, видишь, как ни крути, ни черта не видно.
— Так вы же сами сказали, что это фабричное изготовление. — Нэнси вконец запуталась.
— Это я тебе сказал, куклёночек. А покупателю скажу, что здесь узбекские ручки корпели. И довод приведу: ручная роспись. Так она и есть ручная. Здесь ксерокс всё грамотно обставил, забыл только на шлифмашинке кружочки доточить. Лох, конечно, не заметит, а профессионал сразу придерётся и на «вид» поставит.
— Так ксерокс — это мастер?
— Допетрила. Конечно! А то, что такие мастера выдают конвейером: ксерево. Ксерево, оно и есть ксерево. Ни дать ни взять, чистой воды калька!
Нэнси высвободила из рук Савы пиалу, приблизила к глазам.
— То есть она ненастоящая?
— А ты в самом деле думаешь, что керамике шестьдесят годочков? — Сава издал неопределённый звук, похожий на глумливую усмешку. — Среднеазиатская глина, плотная, звенящая — столько в обиходе не живёт. Покупать и использовать повседневно такую посуду может позволить себе только узбек. Отколупался край — выкинул к чертям, а на обратном пути заехал в лавку и купил новую, делов-то на копейку. А здесь у нас не солнечный Узбекистан, не центр гончарного искусства. Такие вещи потому и ценны, что привезены издалека и век их недолог.
— Но она же ненастоящая!
— Что ты заладила, как попугай! — зазвенел от возмущения Сава, испуская гневные токи, будто не его уличили, а он кого-то поймал на недобросовестности. — От новоделов ещё никто не умирал. Спрос стабильный, товар ходовой. Посудка как билась, так и бьётся, а красоты хочется всегда.
— Ваша красота туфтовая! Сплошная липа!
— Однобокое мышление! — не согласился «слон». — Если добре шаражничать, так, получается, мы дело нужное в массы несём.
— Вы это серьёзно? Вы серьёзно так думаете?
— Я похож на шутника?
— Нет, вы не похожи на шутника, — стараясь сохранять самообладание, спокойно возразила Нэнси. — Вы похожи на обманщика.
Савелий Витольдович вздохнул, положил масляный трясущийся подбородок на стиснутые замком пальцы рук и блаженно выматерился — беззлобно, буднично. Он повернулся к соседу — щупленькому пареньку призывного возраста в тренировочном костюме. Тот стоял, облокотившись на стеллаж с выносными лотками, похожими на хлебные, как в универсаме. Вместо булок и караваев грудились мощнейшие из литого чугуна эллипсовидные утятницы и полусферные казаны.
— Слышал, спиногрыз?
Сава явно искал поддержки в лице «слонячего» коллеги.
— Бросьте, тетя, — запанибрастки ответил «спиногрыз», беззастенчиво подслушивающий разговор. — Обычное дело. Всё от человека зависит.
— Вот именно! Я бы так никогда не поступила.
Паренёк отлип от стеллажа, сделал шаг навстречу Нэнси и отобрал из рук пиалу. С видом третейского судьи вернул Саве чашку.
— А вы не зарекайтесь от сумы, тюрьмы и участи Мумы, — негостеприимно ответил он, замирая от собственной дерзости.
От подобного вероломства Нэнси онемела. Сава сухо затрещал артритными костями, раскладываясь в полный рост, словно швейцарский нож, и в попытке сбить спесь молодого, не придумал ничего лучше, чем подытожить беседу пространной фразой:
— Всё до удивления просто, куклёночек, — миролюбиво сказал он.
— И это самое сложное! — презрительно фыркнула Нэнси, и с чувством достоинства и неотвратимости происходящего, активно заработала локтями, расчищая дорогу к выходу. Её спина выражала яростное и справедливое презрение. Но несколько шагов — и она была вынуждена повернуть обратно. В ней пробуждалась рассудительность, и как бы ни хотелось сейчас уйти от этих неприятных типчиков, она вернулась к «фокусу», сладко жмурившему свои фары-глаза. Автомобиль чем-то напоминал хозяина.
— Передумала? — сладкоголосо прожурчал Сава.
— Сколько у вас… «кошек»? — резко перебила она, стараясь не смотреть в сторону ликующей физиономии чугунного лоточника. Тот раздумывал, смелея, вставить ему свои «пять копеек» или нет.
— Две сотни.
— Мне нужен аванс!
— А мне залог!
— Какой такой залог? — подозрительно спросила Нэнси.
— Я даю тебе материала на десять тысяч, значит, что? Значит, мне нужен залог, — невозмутимо повторил Сава. — Считай, мы квиты: твой аванс — мой залог. Вернёшь посуду, получишь деньги. На всё про всё две недели. Успеешь?
Нахрапистость, с которой действовал «слон», сильно задевала закалённую душу Нэнси, и давала ей основание думать, что торговец липовой посудой уже не раз так борзо поступал. Теперь становилось кое-что понятно. Например, почему он решил воспользоваться услугами гастрольного фриланса. Приезжий изведёт кучу ресурсов и притащится к заказчику. Мысленно он уже потратит заработанные капиталы. Правда, в случае с Нэнси ситуация была скверней: ей банально не хватало денег на обратную дорогу, а такого наймита легко замотивировать на любую работу, даже не совсем легальную.
«Однако, — задыхалась она от гнева, — какая манкировка, какое пренебрежение! Подумать только: ксероксы себе нашёл!»
Но делать было нечего, и проза жизни шептала ей на ухо припрятать до поры до времени свою гордыню.
— Согласная я, — тяжело проговорила Нэнси.
И вдруг почувствовала, что щёки наливаются безобразным пунцом. Она собрала у глаз тонкие морщинки и покривилась, устыдившись собственной реакции. Сухо предупредила:
— По времени не знаю, не уверена. Так что, как получится!
— Не как получится, — строго одёрнул мужчина, — а чтобы к сроку!
Из-за устроенных прилавков с чугунной утварью захохотали — одобрительно и мерзко.
Глава 5. КОГДА ЦВЕТЁТ САНСЕВИЕРИЯ
С бородою типично васнецовского богатыря стоял великовозрастный детина. Детина был краснолиц, рыжеволос, опрятен собой и самую малость пьян. Приглушенные стеной, откуда-то из глубины квартиры доносились музыкальные низкочастотные звуки, мягко бьющие в живот.
— Ты п-пенки на ладруга? — спросил с порога он, немного заикаясь, и улыбнулся широко, чуть-чуть по-идиотски.
Нэнси непонимающе смотрела на детину. Не столько от усталости, сколько от обвального ошеломления, она непроизвольно выронила лямку цилиндр-сумки, тяжёлой ношей прижимающей к земле, и та клацнула раскатисто о крашенный цемент лестничной площадки. На лице Нэнси отразилось смущение. Она ещё раз внимательно оглядела обитую старым дерматином дверь, эмалированный ромбик номерка квартиры — не ошиблась ли? Нет, не ошиблась. Стало неловко молчать.
— Привет! Я… я к Лене.
— Ну, — радостно затряс детина головою. — В-верно всё значит. А что за стесняшки?
Нэнси не успела никак отреагировать, потому что за крепкой, чуть ссутуленной спиной детины возникла фигура в маске мультяшного волка.
— Я такой бывалый волк, — затарахтела, заухала знакомым голосом персона и потянула к Нэнси наманикюренные пальчики. — Я в поросятах знаю толк. Р-р-рр!
Из круглых прорезей на Нэнси смотрели слезящиеся от долгого смеха глаза.
— Понятно, — облегчённо вздохнула Окунева. — Воскресный шабаш питерских френдо'в! Я и забыла совсем!
— Круче, подруга, гораздо круче! — Ленка оттянула за резинку маску и нахлобучила её на лоб. — Сегодня обмываем мою новую работу! Прикинь, мы с тобой синхронизировались. Ты с новой работой, и я с новой работой! Круто же?
— А-а-га-а! — вяло протянула Нэнси и пнула — несильно — сумку. — Теперь понятно, при чём здесь хищник. Ключевые слова: западня и шкура.
— Западня и шкура? Нет. Скорее, сказка и зверинец. Я теперь работаю в контактном зоопарке. Пока испытательный срок, дали калифорнийского кролика и маленьких молочных поросят. Поросят зовут Ниф-Ниф, Наф-Наф, Нуф-Нуф…
— … а кролика, наверно, Эдвард? Или Роджер? Даром, что калифорнийский.
— Кролика зовут Джуниор, — серьёзно ответила Ленка. — Здорово, да?
— Тоже подходит. И с таким именем жить можно… если ты американский кролик.
— Да не про это, — отмахнулась Ленка. — Я теперь трудозанятая: буду получать зарплату. Крутотень крутая!
— Ещё утром ты была безработной.
— Так это было утром, — отмахнулась Ленка. — Держала в секрете до последнего. Ждала растущую фазу Луны, чтобы совершить ритуал.
— Ну да. Подкреплённый верой магический обряд.
— Очевидное — невероятное. Спасибо! Я знаю, что такое ритуал. Я не об этом! Зачем держать в секрете?
— А заговор всегда держится в секрете, ибо таинство. Вот Буба не даст соврать. Ой! — Ленка по-детски всплеснула руками. — Я же вас не познакомила, солнцы! Это Нэнси. А это, — она нескромно обхватила детину за туловище и потёрлась об него макушкой, млея от восторга, — наш Тарасик. Но мы его зовём все Бульбой. Правда, Бульба никто не выговаривает, не хватает терпения. Для своих он просто Буба. Коротко, понятно, незамысловато.
Буба неожиданно выдал что-то грубое и просторечное, что Нэнси тут же решила, что он обиделся.
— Он не обижается, — словно прочитала её мысли Ленка. — Буба всего лишь хотел сказать, что он больше, чем просто тёзка казацкого полковника, он такой же запорожец. И этим гордится!
Нэнси не удержалась и добавила:
— Який гарный хохлёнок, дывытесь!
Украинская мова в исполнении Окуневой доставила лулзов, и все трое дружно посмеялись.
— Но! — утерев слёзы, Буба поднял палец к потолку, призывая ко вниманию. — Колька я не тазак.
— Что? — Нэнси от смущения потёрла пальцем переносицу и рассмеялась ещё больше. — Если это на украинском, то потребувати переведення!
— Блин! Мы тут все немножко понаехавшие! — пустила вторую волну смеха Милашевич.
Буба, как перед глубоководным погружением, накачал грудь колесом и разом выпалил:
— Нет, это вполне себе кацапский диалект. — И Нэнси — о чудо! — его поняла.
Ленка в точности повторила жестикуляцию Бубы:
— А фразой ранее было сказано следующее: но только я не казак. — Она улыбнулась Бубе, похлопала его по животу. — Говоря словами престарелого плейбоя Осгуда Филдинга из фильма «В джазе только девушки»: детка, у каждого свои недостатки.
Буба заметно поскучнел, смутился. Невинно потрепал Ленку по макушке, схватил Нэнсины вещи и ввинтился с ними в недра квартиры.
— Дура! — поругала саму себя Ленка и, заметив совсем уж полное непонимание в глазах подруги, объяснила: — Вот сейчас он действительно обиделся. Понимаешь, Буба у нас особенный, и я его сейчас этим как бы попрекнула. Капец, ну и дура!
— А что с ним?
— Речевое расстройство, — сказала Милашевич и, смягчив звонкие нотки своего голоса, заговорила на полтона ниже. — Он путает созвучные слова, а иногда меняет местами слоги. Это у него с детства.
— Логопед не смог помочь? — Нэнси запрыгала на одной ноге, сбрасывая кеды и ветровку.
— Тут не логопед был нужен, а хороший психотерапевт. У него патология психического созревания, типа затруднение в выстраивании логических связей. Наверно, Чернобыль дал о себе знать. Ты, кстати, знала, что Чернобыльская авария — самая мощная техногенная катастрофа за всю историю человечества? Радиация, как от пятисот атомных бомб! Я, между прочим, где-то читала, что в Ленинградской области продолжают работать ещё четыре реактора подобного типа. Представляешь?
Ленка принялась приводить ещё какие-то факты о Чернобыльской трагедии и, кажется, совсем забыла про Тараса. Постепенно, по мере продвижения к гостиной, нарастающий надрывный вой сделал невозможными любые попытки Нэнси расслышать её.
У входа, на телефонной тумбе, заваленной глянцевыми журналами и тонкими, в мягкой обложке, подписными книжками, заседала поверх монументальным сфинксом Джока, тщательно стараясь делать вид, что ей безразлично и плевать она хотела на вылетавшие из двухстворчатой двери пронзительные децибелы. Её выдавали круглые безумные глаза, будто на перстне камни, и нервно подрагивающий иерихонский хвост. Нэнси чувствовала себя примерно так же, как турецкая ангора — на акустическом пике ощущений. В условной гостиной — большой, метров на двадцать пять, квадратной комнате, с двумя незанавешанными окнами, выходящими во двор — под леденящий кровь дисторшн рвал горло солист с варварскими частоколами безударных слогов. Звук сильно перегруженного лампового усилителя искажал до полной потери гитарные аккорды, превращая их в «гусиную» диафонию, ощущаемую всеми кожными покровами.
Вторгшись в пространство комнаты, Ленка предприняла попытку обратить на себя внимание: принялась делать энергичные махи руками угрюмому бритоголовому толстяку, сидящему в колеблющейся кисее сиреневого от низкого плафона дыма. Он мусолил палец, листая какую-то тетрадку, а на его колене балансировала фигура с длинным сигаретным мундштуком в сливочной туго натянутой ткани облегающего платья. Тонкие, похожие на лозы винограда руки оплетали жилистую шею толстяка. Густо подведённые чёрным глаза водили по строчкам, но как-то невнимательно. Периферийным зрением она тут же словила появление Ленки. Пойманным бликом вспыхнуло в носу кольцо-подкова, «фигура» вскинула дугообразные нарисованные брови и пихнула толстяка в бок. Тот оторвался от чтения, ошарашенно уставился на Нэнси. Перевёл взгляд на Ленку. Его глаза отражали душевную потерянность и одиночество. Правильно считав невербальный оттиск Ленкиных ужимок, он потянулся к вертушке, убирая громкость. Необычной формы, по-своему красивый проигрыватель, отделанный черноглазым шпоном, покорно подчинился, сводя на нет бессистемное музицирование и оставляя только на слуху протяжное ворчание роликовых приводов да мягкое шипение иголки. К этим умиротворяющим звукам присоединилось благодарное урчание Джоконды, тут же прошмыгнувшей внутрь. На миг Нэнси прикрыла глаза, чтобы представить, как где-то вдалеке, подъезжая к остановке, точно так же урчит троллейбус, нащупывая медными рогами две тонких нитки проводов. Но эту частоту тут же забили гомоном и гвалтом.
— Бомба, вы ошалели! — заорала Ленка. — Желаете на ночь глядя ментов! Будет вам такое счастье персонально от соседей.
— Это не я! — чуть не расплакался толстяк, легко сдавая потускневшего, будто живущего без воздуха и солнца, юношу в бейсболке FBI. — Это Глеб.
Глеб, стоявший у окна с откупоренной жестянкой пива, неодобрительно цокнул.
— Стёпа, не будь такой заразой, — сказал он, поправляя кепку козырьком назад, моментально добавляющую образу безыскусного и какого-то жалкого ребячества. Портрет усиливался нафабренными усиками, похожими на щётку, измазанную ваксой, отпущенными больше для форса, чем по делу. Казалось, он хотел казаться круче, чем был на самом деле. Впрочем, образ тут же мерк и смешивался: на смуглой, поросшей чёрным жёстким волосом руке проглядывала иссиза-голубая, лишённая яркости татуировка двух скрещенных, изогнутых полудугой кинжалов в ножнах. Рубашка в клетку, на тон темнее наколотых клинков, топорщилась крахмалом, скрывая крепкое телосложение. Нэнси этот Глеб как-то сразу не понравился. В нём будто чувствовалось второе дно, чужеродное напластование, не утолщающее, но вычитающее качества, которые он так старательно показывал наружу. Голос его звучал ломким стеблем горькой полыни, словно принадлежал мятежливой душе подростка с ещё вчерашним мальчишеским дискантом, сегодня уже почти запиленным скрипучим тенором.
— Иванголов, — подала голос «фигура», — показывает всем нам на примере «Бурзума», что фашизм — это выпускание из себя Джекила. Да, Глеб?
— Не совсем. — Глеб глотнул из банки и, продолжая украдцей рассматривать Нэнси, обратился к «фигуре». — Викернес поёт, что нации гораздо более живучи, чем люди, и нацизм — это просто состояние обострённого инстинкта самосохранения.
— Глеб, — попросила Ленка, — пожалуйста, давай ты сменишь пластинку.
— В прямом или переносном смыслах?
— Во всех смыслах. Ты своими разговорами испортишь мне соседку. Она ещё подумает, что мы из этих…
— А вы из этих? — спросила Нэнси.
— Н-не, мы из «тех», — подал голос за спиной Тарас. Он сбросил Нэнсины вещи в её комнату и по пути зарулил к холодильнику, откуда притащил запотевшую бутылку красного вина и ещё один фужер.
— Ланно-ланно, — властным движением ладони Ленка остановила вновь разгорающуюся беседу, — я рассказывала вам про чела, которого вписала в свою хоромину. Та-да-а! Он перед вами: прошу любить и не жаловаться.
— Анна! — полуутвердительно уточнил толстяк и щелкнул пальцами.
— Да, но лучше Нэнси, — сказала за подругу Ленка.
— Ленчег, а я уж подумал грешным делом, это твой воображаемый друг! — произнёс он и как-то особо, с печатью скорби на лице расхохотался.
— А ты думай головой, а не грешным делом, — напутствовала Ленка. — Тут все такие шутники — прям держитесь за животики. Ланно. Этого юмориста зовут Степаном. Он тот ещё остряк! По собственному заверению, в школьные годы Стёпа мастерил самодельные взрывпакеты и сбрасывал их с крыш на головы обидчиков и злопыхателей, за что его быстро окрестили Бомбой. Он стоял даже на учёте в детской комнате милиции, и Стёпиным родителям пришлось принимать по этому поводу кое-какие меры.
— Да, юного подрывника — перехватил Стёпа эстафету рассказа о себе, — завернули на плавание, сбить спесь, так сказать, но любовь к большому «буму» — это же в крови.
— А-ха, так что любимым видом спорта для Стёпы стали прыжки с бортиков бассейна. Особенно его заводят таблички, предписывающие этого не делать. — Ленка попыталась пантомимой разыграть воображаемый прыжок, зажав пинцетным хватом — большим, указательным и средним пальцем — нос. Со стороны зрелище напоминало «крокодила» — игру, где необходимо показать загаданное без слов, лишь жестами и мимикой. Комедианство закончилось печально: она опрокинула локтем неустойчивый торшер на гнутой ножке, чем вызвала истеричный хохот окружающих. Торшер с наигранной декларативностью — с аплодисментами и криками — водрузили на место.
— Его стиль, — продолжала Ленка сквозь смех, ничуть не смущаясь конфузу, — по сей день удручающе стабилен: прыгать «бомбочкой», ввергая в ужас не только посетителей, но и администрацию, ибо, как говорит наш Бомба, нет ни моральной силы, ни особого желания перерастать свою болезненную страсть.
— Я бы всё-таки назвал это невменяемостью. Невменяемость вне уголовного права, — полушутливо-полусерьёзно возразил Бомба.
— А вот его femme fatale, — чеканила Ленка, пропуская мимо ушей Стёпино замечание, — Ирина, наоборот, предпочитает дружить с законом и не нарушать общественный порядок. Разве что изредка позволяет себе, подхватив клатч под мышку, продефилировать по улице в чёрном виниле и кожаных сапожках. Она у нас модная готесса, поэтому светлым тонам предпочитает всё больше чёрные.
— Неправда! — рассмеялась Ира, поводя мундштуком в поисках пепельницы — та мгновенно выросла в ладонях Стёпы. — Я люблю все цвета без предпочтений. Главное, это выделиться из толпы.
— Отличный способ выделиться из толпы — сплясать на кладбище в Страстную неделю, — не без ехидства заметил Глеб. — А иначе, какой ты гот? Так, дешёвая карикатура.
— Много ты понимаешь в готике, Иванголов! Каша в голове у тебя образовалась: готисты, фашисты, сатанисты — всех в один котёл мастишь.
— Котёл, — мечтательно вздохнул Глеб, — хороший образ, годный. Только я не думаю, что готизм, фашизм и сатанизм такие уж разные понятия. Ноги — не при женщинах будет сказано — растут из одного места. Все эти ваши измы начинаются с обожествления зла; и то, и другое, и третье — чёрная месса, служение Сатане.
— Да, а это наш спиноза — в жопе заноза! — продолжила за Ленку Ира знакомить Нэнси с компанией. — Держится презрительно, разговаривает сдержанно, любит унижать других. Если бы не золотые руки, давно бы открестилась от гавнюка.
— Спасибо, конечно, и низкий поклон за такую презентацию! — хмыкнул тот. — Меня, вообще, зовут Глеб. Фамилия Иванголов. Можно называть по-всякому: Глеб, Бигл, Вангог, но только не гавнюк.
— Я запомню, — кивнула, улыбнувшись, Нэнси, поскольку последняя фраза была обращена к ней.
— Бомба, а ты будь аккуратней с роковыми женщинами! — предупредил Глеб и скосил глаза на Иру, как бы намекая, что речь по-прежнему о ней. — Помни, что секс в их жизни не главное. Гораздо важнее для них нащупать максимум мужчины в вопросах смелости, таланта и мерзости. Да-да, именно мерзости! Хотя… я не осуждаю этих женщин: с ними связаны наши наиболее яркие воспоминания. Если бы не они, мы бы многого не понимали.
— Опричный пост! — воскликнул Бульба, но все всё поняли и согласились: тост что надо!
Откупорили новую бутылку, разлили по фужерам красное как рубин вино, и только Глеб, напомнив, что ему ещё развозить «чрезмерно пьяненьких», чокнулся початой банкой безалкогольного пива.
— За встречу! — подхватила Ленка.
— За роковых женщин! — аккомпанировал Стёпа.
— За встречу с роковыми женщинами! — переиначил Глеб и многозначительно посмотрел на Нэнси.
По дружное цоканье стекла фужеры опустели рубиновыми залпами.
— И всё-таки: ты не прав, — сказала Ира, глядя Глебу прямо в глаза.
— Ты про секс? — пошло ухмыльнулся он, выпрямив мальчишески стройную спину. — Согласен, в промискуитете роковых женщин — некоторых! — можно уличить.
— Пошляк, я не об этом, — отмахнулась девушка. — Я хочу сказать, что служители Сатаны никогда не считали себя «сверхчеловеками».
— Ау! — Он постучал пальцем у виска и тонкие губы его брезгливо сложились в мягкую насмешку. — Ты в курсе, что влияние на идеологию Третьего рейха в своё время оказал хорошо известный вам Кроули?
— Это было косвенно! — с жаром возразила Ира. — Очумелые варвары-нацисты не гнушались брать в оборот многие идеи Алистера, но это ничего не значит. Тем более готы здесь вообще не при делах! Нам просто нравится культ смерти.
— Мне есть, что сказать на этот счёт! Вспомни Умберто Эко, если читала, конечно, его эссе «Вечный фашизм». Он же там итальянским по белому перечисляет не то двенадцать, не то четырнадцать признаков фашизма, из которых эксплуатация трёх культов — эклектики, архаики и смерти — магистральная тема. Ну, нечем бить? Хендрик Мёбус вообще описывает идею фашизма, как гибрид элитарного соцдарвинизма и сатанинской воли к власти. Там, конечно, не без арийского язычества обходится, но всё же… А готы, конечно: вообще не при делах.
— А чего ж тогда пихаешь нам своего «Бурзума»? — вяло возразил Бомба, подначиваемый не столько темой, сколько задетой честью своей фемины. — Если одним миром мазаны? Чем он так отличен от «Сатирикона»26, который ты терпеть ненавидишь, а я торчу и сохну.
— Так я за искусство радею, — Глеб обиделся — или сделал вид. — Я за великие произведения! Прости, но твои Сатир и Фрост, два бухенвальдских крепыша — просто крезогоны по сравнению с «Бурзум». Я бы даже не сравнивал, не ставил в один ряд! Это всё равно что сравнить, ну я не знаю… «Майн кампф» и сказку про Красную шапочку. Гитлер создал бессмертный текст и очевидное явление искусства. Это факт!
— А сказки Перро тоже явление искусства! — заметил Бомба.
— Не надо только преувеличивать! Моралитэ там есть, бесспорно, для детей дошкольного возраста. Не более того!
— Ты можешь согласиться с выводами Гитлера? — неожиданно, с вызовом, встряла в беседу Нэнси, и Глеб принял этот вызов. Под тонкой синей кожей горла, как поршень, быстро заходил взад-вперёд кадык.
— Я могу согласиться с многими выводами Гитлера, это не меняет моего к нему отрицательного отношения.
Он рубанул ладонью воздух, как бы отсекая все возможные фигуры умолчания.
— Я читала книгу фюрера, — сказала Ира. Она достала зеркальце и заглянула в крошечный серебряный овал. Уложила на место взлохмаченные прядки, деликатно поправила макияж и с прищёлком захлопнула крышку, оставшись довольна. — По-моему его «Борьба» абсолютно политически адекватна современной России, так что я думаю в самое ближайшее время её запретят.
— И правильно сделают! — сказала Ленка.
— Неправильно сделают, — не поддержала подругу Нэнси, чем сильно удивила её. — Я согласна с Глебом. «Майн кампф» — это исторический документ, литературный памятник и явление искусства. Нельзя запрещать слово только потому, что им может пользоваться террорист или диктатор.
— А как быть с призывами к насилию и, вообще, с жестокостью в искусстве? Ведь любое произведение — кино, картина, книжка — должно быть образцом гармонии, оно должно учить добру, а не прививать жестокость отвратительными сценами.
Нэнси задумалась, заговорила — с усилием, словно гребя внутри себя против течения:
— Коль скоро в жизни присутствует насилие, то их не избежать в литературе. — Она ещё немного подумала. — Я не считаю, что в произведениях искусства жестокость воспитывают сцены насилия. Жестокость воспитывают, прежде всего, бескультурье и одобряемые примеры насилия в обществе.
— Разве в 30-х действия Гитлера не одобрялись германским обществом? — встал на сторону Ленки Стёпа.
— Мы говорим не про человека, а про книгу, — напомнила Ира. — В «Майн кампфе» нет призывов убивать. Есть ряд обвинений, доводов не в пользу евреев, но это всего лишь авторская точка зрения.
— Всего лишь авторская точка зрения? — присвистнул сквозь зубы Стёпа. — Напомню, этот автор развязал Вторую мировую и фактически устроил на территории Европы тотальный холокост.
— Мы говорим не про человека, а про книгу! — недовольно повторила Ира, огорчённая тем, что Стёпа оказался перебежчиком.
— Послушайте, — не выдержала Нэнси, — «Майн кампф» — это урок, который человечество, надеюсь, усвоило. А искусство… искусство — оно как раз служит предостережением. И раз уж вспомнили о Красной шапочке, то никто не будет спорить с тем, что сказка в её изначальном варианте — это как раз предупреждение о том, что маленьким девочкам не надо ходить по тёмному лесу с незнакомыми волками, а вовсе не обучающий материал по каннибализму и расчленёнке.
— Допустим, в изначальном варианте, — усмехнулся Глеб, — мораль была не в пользу Шапки. Волк её как-раз-то схарчевал. Это уже после Перро адаптировал историю для детских масс и сочинил оптимистичненький финал.
— Ничего себе оптимистичненький! — сказала Ленка, демонстративно упрятавшись за маску зверя. — Волку, значит, дровосеки брюхо вспороли, — она резка провела ребром ладони вдоль живота, показывая узнаваемый жест ритуала харакири, — распотрошили и посекли на мелкие куски. Это не хеппи-энд, это уже какой-то суд Линча получается.
— Там факты были налицо! — сказал Глеб. — Очевидно, бабка внутри — довод не в пользу Серого.
— И всё же, — Ленка стояла на своём. — Насколько оправдан такой финал? Как понять, в меру ли в тексте насилия, или эта мера превышена?
— Мы с этого начали, — напомнил Глеб. — Мера одна — величие произведения. Тексту, если это великий текст, всё дозволено и всё простительно.
— Это ты про «Шашечку» Шарля Шерро? — выговорил Бульба с заметным усилием, но без запинки.
— Нет, это я про «Папочку» Парля Перро! — перекривлял Глеб и, как борзый конь, жарко выдохнул воздух через раздутые ноздри.
— Про «Майн кампф» Гитлера он говорит! — гулко сказала Ленка, откинув с фенопластового лба сухие волосы. — Наверно, это потому, что в детстве вместо сказок Биглу читали о территориальной экспансии и расовых законах, а вовсе не о маленькой храброй девочке, бродившей по лесу с корзиной пирожков для бабушки.
— Хватит меня уже прокатывать, — разозлился Глеб. Его голос загустел сочной, ядовитой патокой. — Что я вам, дизель, долбать меня такими стёбами.
Шапку я так — для примера ввинтил, смысл в том, что Варг Викернес — годный музыкант, Адольф Гитлер — годный публицист. Точка. — Он поискал глазами поддержки Нэнси. — Я же в этом вопросе не одинок, верно?
Но та лишь покачала головой.
— Ты не понял меня. Я просто считаю, что человек вправе ознакомиться с любым источником с тем, чтобы составить своё собственное мнение на тот или иной счёт. Написанное даже более свершившийся факт, чем сказанное или сделанное, поскольку он — факт — уже задокументирован автором. Но! Есть принципиальная разница между информацией и её пропагандой. Пропаганда — есть внушение, где инструмент вольная интерпретация. Нет ничего хуже навязывания таких чужих истолкований.
— Почему? — машинально повторила Нэнси и даже немного растерялась от наивности вопроса. — Наверно, потому, что открытый доступ к знаниям — это один из тех моментов, которые помогают человеку становиться человеком, развивать в себе то главное, что отличает нас от животных — умение мыслить и сохранять уроки прошлого. Если «Майн кампф» Гитлера отыщется в историческом отделе, а Библия — в отделе фольклористики, то там им и место, и это правильно. Но если кто-то начнёт выдёргивать цитаты из контекста и преподносить на блюде личных умозрений, да ещё агитировать за них, то катитесь вы горкой, я так думаю. Есть тридцать три причины не скрывать своей точки зрения, и ни одной — зависеть от мнения окружающих.
— Выходит, для тебя нет особой разницы между главной религиозной книгой христиан и изложением гитлеровских национал-социалистических доктрин?
— Ого, ты подытожил! — Ира стрельнула глазами в Глеба. — Взял новенькую в оборот и за её счёт самоутвердаешься? Не канифолил бы ты мозги, Вангог, ни себе, ни людям!
— Послушай, девочка… — начал он сквозь зубы, но Ленка спешно прервала явно оскорбительную реплику.
— Спокойно камрады, слушайте сюда. — Она обратилась к Глебу на дистанции — как бы через всех. — Ругаться мы не будем! И Нэнси в обиду я не дам.
— Спасибо, но я могу за себя постоять, — сказала Нэнси. — И я могу ответить Глебу. Скажем так: для меня нет разницы в запрете как христианских догматов, так и гитлеровских. С точки зрения ограничения свободы слова — это одинаковая дьявольщинка, за любыми запретами стоит один и тот же «дьявол»! И я не уверена, что этот «дьявол» расплачивается битыми черепками. Может, это мы расплачиваемся «черепками» — надеждами на прогресс, на развитие человечества, а нормальным людям это всё, оказывается, не нужно, и эволюция идёт в сторону большого «человейника» с получающей все блага «царицей» в серединке и с тупыми, но лишёнными необходимости думать «рабочими особями». И тогда как раз самые тоталитарные режимы окажутся самыми продвинутыми.
В комнате повисла тишина, и Нэнси воспользовалась ею: додумала, договорила мысль до конца.
— Очень не хотелось бы так думать. Я, наивная, ещё верю, что человечеству нужно совсем другое, но я не беру на себя право решать, где бог, а где дьявол, и где золотые горы, а где черепки. Во всяком случае, за всех. Но если то, во что я верю — «черепки», то лучше я обойдусь ими, чем подачками сулящих золотые горы.
— Это любопытно, — сказал Глеб. В его фразе не чувствовалось, что он удовлетворён таким ответом, но больше он не спрашивал, остальные тоже молчали.
— Как сказал уже упомянутый сегодня Алистер Кроули, — сказал наконец Стёпа и хлопнул в ладоши с тем, чтобы сбить неловкую паузу, — каждый человек одинок навсегда. Однако, если вы окружены более-менее приличной компанией, вы можете забыть про этот ужасающий факт на достаточно долгий период, чтобы дать вашему мозгу оправиться от острых симптомов заболевания — то есть от размышлений.
— Порховник, гад, у меня вычитал! — возликовала Ленка, указывая на тетрадку.
— Да, сгодилось чтиво, — кивнул он. — Мысль умную нашёл, правда, чужую.
— Я до своих пока не доросла, — с деланным сожалением согласилась Ленка, — довольствуйся цитатами!
— Так что, — подытожил Глеб, — пьём за компанию, которая не помогает избавиться от симптоматики заболевания, но с которой всё равно не стрёмно. За новую спинозу! — он приподнял банку, весело подмигивая Нэнси.
— Нет, уж увольте! — опешила она. — Я бы хотела сохранить свой статус-кво. К тому же, если я правильно понимаю, сегодня есть ещё один более веский повод поднять бокалы.
— Ах! — заломила Ленка руки. — Ну, конечно! Запудрили мозги высокими материями, а мы вообще-то, человек вот правильно подсказывает, собрались совсем по другому поводу. Я так-то работу нашла! И кстати, не я одна!
— А кто ещё? — оживилась Ира, выискивая глазами потенциальные кадры. — Неужели Иванголов начал таксовать? И не боится — без лицензии?
— Между прочим, — мучительно поморщился Глеб, — именно благодаря тебе, я уже превратился в бомбилу обыкновенного. Каждое воскресенье туда-обратно кататься в Сестрорецк, дорогого стоит.
— Что поделать, если моего «джимника» так куролесит от общества твоего «марка», что он готов вовсе не выкатываться из гаража.
— Они же земляки, оба джапанезы! — заметил Бомба и заржал на миноре — как это только у него получалось: грустно реготать.
— Вангог, не будь занудой и признайся: тебе нравится катать меня.
— Вопрос, нравится ли это Бомбе?
— Бомба спокоен, — сказал Стёпа и затих, вбирая шишковатый череп в плечи, словно стараясь оградиться от ответа, — пока дама его сердца в поле зрения высококлассного рулилы.
— Что за вегетарианское время нынче, — картинно всхлипнул Глеб. — Как часто доброту мы путаем с терпимостью!
— Ой, заткнитесь оба! — полюбовно пресекла Ленка джентльменствующих выпендрёжников, которой на правах фронтвумен вечеринки частенько выпадала роль уравнятеля острых углов. — Я про Нэнси.
— Да? — удивился Глеб. — На твоей улице тоже опрокинуло грузовик с пряниками?
— Так это были п-пряники! — покачал головой Буба, демонстративно растирая запястья. — Тяжёлые!
— Обошлись без пряников, — скислилась Нэнси, не желая вспоминать, а уж тем более рассказывать о своём визите к Саве. — Только битые черепки.
— Что за работа? — допытывался Глеб. — Задело по касательной Ленкиными приворотами?
— Я поражаюсь: откуда? — вспыхнула Ленка. — Кто растрепался?
— Сама и растрепала, — пожал плечами Иванголов. — Уже все в курсе! У меня даже в ежедневнике помечено карандашом: Милашевич ждёт растущую фазу Луны. Кажется в таких делах без неё никак.
— Ланно-ланно, — легко сдалась она, знающая за собой такой грешок: она давно прослыла в их компании болтушкой, так что версия Глеба вполне подходила под описание «взятой из жизни». Она обвела присутствующих загадочным взглядом и выдала: — Я так подозреваю, что моя ворожба здесь ни при чём. Солнцы, вы будете смеяться, но! С появлением в квартире новой постоялицы у меня зацвела сансевиерия, а это, что бы вы знали, способствует новым начинаниям и удаче в их исполнениях.
Гости загомонили. Каждый пытался что-то состроумничать по такому поводу. Кто-то предлагал запускать Нэнси в порядке эксперимента в их квартиры поочерёдно до достижения ощутимого результата, кто-то требовал благословения на воплощение вселенских замыслов, а кто-то и вовсе призывал немедленно схороводиться и выпить за центр притяжения удачи.
— Хорошо мне с вами, — внезапно проговорила Нэнси, и компания притихла, точно споткнулась.
Она привалилась грудью к спинке стула, умостив подбородок на сплетённые в лодочку ладони. На узкой спине под ситцевым платьем проступали костяные капитолии скрюченного позвоночника.
— Не похоже, — тут же раскусила её Ленка. — Что за кислая физиогномия?
Нэнси сперва хотела поделиться, честно. Но передумала. Этим ребятам меньше всего сейчас нужна её тревога. Возможно кто-то и вовсе сочтёт её непокой надуманным. Странно было ловить себя на мысли, доводя её до великолепного абсурда, что постижение и уяснение некоторых, что ли, истин так иной раз поворачивает разум, психику и дух, что и сам начинаешь смотреть на себя иначе, под другим углом. Главная же идея смысловых конструкций Нэнси заключалась в том, что любой образ действий осмыслен ровно настолько, насколько подобран к нему смысл. Пока не вложен смысл в жизнь, её невозможно счастливо проживать — а это всё-таки, как ни крути, вопрос личного выбора. А что такое личный выбор, спрашивала она себя, и отвечала: выбор — наличие альтернативных вариантов для волеизъявления. И вот тут-то, ровно в этом самом месте происходил сдвиг и что-то совсем невероятное: ты ловишь себя не просто на абсурдной мысли, а на необдуманном и очень опрометчивом поступке, которого от тебя ждут все, то есть все, кроме тебя. Но это уже не личный выбор, а занудная форма коллективной воли, а ещё великолепный гимн неслыханного тряхомудства, потому как из такой конструкции обратный эффект случается: и «чужим» не угодишь, и «свои» обидятся. Такая вот конфузия!
Нет, она не будет разглашать своим новым друзьям о сделке с неприятным торгашом с Уделки, столь ловко манипулирующим людьми и обстоятельствами. Попытка бытовым способом пересказать трагичную коллизию, в принципе, не самая удачная. Высматривая улыбки на этих юных, раскрасневшихся от смеха лицах, она понимала, что меньше всего сейчас хочет кому-то что-то пересказывать. Она сделает то, что от неё хочет этот Сава, получит деньги за свою работу и больше никогда не будет иметь дел с проходимцами. Жаль только, что у негодяев прямо на лбу нет предупреждающей надписи, как на высоковольтном столбе: «Не подходить ближе 15 метров».
— Давайте танцевать? — вдруг предложила Ленка. — Только, чур, негромко. Викернеса в топку, предлагаю медляки.
— А можно сначала фото? — попросил Глеб, и Нэнси, выпадая из раздумий, не сразу поняла, что он обращается к ней. — Нет-нет, замри! Именно в этом положении.
— Это положение — незавидное положение! — серьёзно пошутила Ленка. — Когда тебя фотографирует Глеб, старайся не замирать ни при каких обстоятельствах, иначе тебя же после обвинят в излишней постановочности кадра.
Иванголов неопределённо хмыкнул. Где-то он успел обзавестись странным глазастым коробчонком, больше похожим на игрушку, чем на фотоаппарат. Размерами прибор был не больше семейной пачки чая, прихваченным через заушины с краёв длинным узким ремешком. Два лупоглазых разноразмерных объектива, расположенных друг над другом и напоминающих в паре элегантную «восьмёрку», отражали зеленоватые блики перевёрнутой комнаты, в глубине которой, где-то по центру кадра, расположилась Аннушка — тоже вверх тормашками. Глеб ловко откинул подпружиненную крышку с золотой буквой Y, вписанной в тесный круг, щелчком вывернул из шахты стёклышко и всмотрелся в него, выискивая прищуренным глазом предмет съёмки. Тронул зубчатое, с хромированным глянцем колесо, двигая переднюю панель с кабошонами энглифических линз, ощупал облицовочную кожу камеры, выискивая лучшую точку для опоры, и тихонько начал обратный отсчёт: «Пять… четыре… три… два…». Закончив фразой «Кто не успел, тот провожающий», он нажал на маленькую спусковую кнопку.
Вместо привычного хлопка приподнимаемого зеркала камера издала игрушечно-кукольный, под стать ей, звук. Больше всего он походил на звоночек каретки пишущей машинки. Когда-то на этот трезвон у всех стенографисток докомпьютерной эпохи появлялся устойчивый рефлекс собаки Павлова: потянуться к любому отвесному рычагу и перевести его в крайнее левое положение. Такие сигналы-звонки пишмашины издавали при скором окончании строки. Однако ж, среди присутствующих представителей несовременной профессии не сыскалось, и единственное поползновение, произведённое вслед за щелканьем затвора, стал залихватский перебор красивых пальцев Глеба, нагружающих маленькую рукоятку. Он накрутил три четверти витка и удовлетворённо кивнул: готово!
— Покажешь? — резко выпрямившись, попросила Нэнси. Процесс съёмки ей показался каким-то слишком сакральным, слишком затянутым процессом.
— Обязательно. Как отсниму оставшиеся кадры и проявлю плёнку, так обязательно покажу!
— Он плёночный? — не то расстроилась, не то удивилась Нэнси. — Зачем и кому в наше время нужна плёночная фотография? В чём прикол?
— Иванголов противник прогресса, — объяснила Ирина. — Вертушку для винила тоже он притащил.
— Ретроград, что ли?
— Нет, не про меня, — мотнул тот головой. — Я просто люблю олдскульные штукенции. Но на будущее: не задавайте подобных вопросов толковым ребятам наперевес с «мамиями» и «брониками». Получите столько холивара, что не вынести.
— Неглупо сказано. Тем самым он даёт понять, что фотографирует без толка, — воркнула Ира, но Глеб только отмахнулся: нет ни грамма настроения поддерживать эту провокацию!
— И много путных снимков удалось заполучить? — поинтересовалась Нэнси.
— Вообще-то нет. Но я не виноват, что возможность для лучшего фото всегда появляется тогда, когда использован последний кадр. Плёнка всегда заканчивается за кадр до шедевра.
— Наговариваешь на себя, — сказала с укоризной Ира. — У тебя, помнишь, был целая серия щедевральных снимков, но та плёнка так неудачно засветилась.
— Ф-фа! — Глеб дунул на ладонь, с которой вспорхнула и отлетела в сторону подстрекательницы воображаемая пушинка.
Неожиданно Нэнси пришла в голову идея.
— Почему бы тогда не брать с собой на подстраховку цифровую камеру?
— Тогда пропадает смысл в плёночной, — с холодноватой сдержанностью пояснил Глеб.
— Значит, всё же был… смысл, — иронично улыбнулась она, не в силах отказать себе в игре, затеянной Ириной, впрочем, без какого-либо злого умысла.
— Она не хотела тебя обидеть, — нарочито притворно Иванголов обратился к камере и погладил её чеканный выхоленный бок, похожий на свежеснятую шкуру полоза. Он нервно и беспомощно глянул на Нэнси: приглушённо-зелёное макси-платье с баской и кружевными бретелями особенно выгодно подчёркивали тонкую шею и открытые плечи.
— Изысканный инструмент, — сказал он, запнувшись на первом слове, но тут же взял себя в руки, отвёл глаза и обратился вроде как ко всем, с некоторой деревенской рассудительностью: — За его внешностью скрывается столько достоинств, что вам, господа дилетанты, и не снилось. Я вынул да поло'жил за него полтыщонки баков. Как с куста! И то лишь потому, что вхож! — он загадочно задрал к потолку указательный палец, тем не менее оставляя конкретику за кадром. Добавил: — Чтобы так, челу с улицы — ещё побегать надо, и то: не факт!
— Настолько редкая вещица? — не удержалась Ленка от вопроса, хотя она, очевидно, как и все, слышала эту елейную душещипалку — и не раз. Реприза разыгрывалась не ради живого интереса, а исключительно развлечения для. Тому был повод: новый человек в их компанийке, и Глеб это понимал: старался не для публики. Он снова смотрел на Нэнси, смотрел на неё и говорил ей с удовольствием персоны, нашедшей редкий случай преподнести свежему человеку любимую, но до одури всем приевшуюся байку.
— Я родился в день, когда советские войска через реку Амударью вошли в Афганистан. Отец мой был из тех, кто первым пересёк границу по понтонной переправе в составе «контингента». Впервые я увидал его — не на фотографии — когда мне было четыре. Он вернулся домой в ноябре. Привёз военные трофеи: арафатку одного самолично казнённого душмана и пачку краснополосых «валютных» чеков. Матери рассказывал, что сидел полгода на воде и сухарях в зиндане. После ему спустили лестницу и задали простой вопрос: «Жизнь человека или смерть собаки?» Насильно принимать ислам отца никто не заставлял, так что он сам выбрал. Человеку — человечье, а собаке — собачье. А псиной издыхать никто не хочет. Целый год жил по законам шариата. Носил мусульманское имя Вафа, что значит честный, держащий обещание. Но обещания отец не сдержал: бежал к своим, как только выдалась возможность. Потом контузило. Отправили на родину, которую он по привычке называл «ватан». Маме за столом вместо «спасибо» говорил «шукриа», на меня же часто по-душмански покрикивал: «Зэй!» Да, чеки: чеки после возвращения он отоваривал в «Берёзке». Кто не знает, был при «совке» такой оазис капиталистического рая, а для меня просто пряничный привет из детства и иное представление о Союзе, как об эпохе изобилия. Отец тогда перешёл с «казбека» на «мальборо», пил только «хейнекен» и «курвуазье». Мама носила норку, источавшую пахучие альдегиды Шанели №5, а я имел исключительные вещи: тёртые на клёпках джинсы, портфель-дипломат и часы «Монтана» с американской гарпией на задней крышке. Кстати, от тех времён только ароматы Шанель не потеряли в весе и цене. А джинсами или электронными часами кого сегодня удивишь? Так что я любитель тех реликвий, которые имеют цену и сегодня. Отец, похоже, смог предвосхитить нашу эпоху, обзавёлся вещами, которые умудрились только выиграть и не потеряться на фоне нынешнего потреблядства. Он снимал японской «яшикой» с 84-го, кажется, в том же году купил абсолютно ненаходимый хит аудиофилов — тридцать восьмой «корвет» — за какие-то безумные деньги. Крутил на нём пластинки «Кино», Высоцкого, какую-то иностранную «запрещёнку». В музыке он не шибко разбирался, просто слушал то, что было дефицитным, труднонаходимым, а потому априори дорогим, и фотографировал больше для понту, хотя любил печатать семейные альбомы в больших форматах, как в ателье — с пломбами, с виньетками. В ванной заседал безвылазно при красном свете фонаря. Проявлял, печатал, клеил, опять печатал, снова клеил. Мама была не против: лишь бы не пил. Пока в доме были «чековые» вещи, полученные в обмен на афганский ад, папа ещё находил какой-то сакральный смысл и оправдание своим страданиям, но, когда не стало Союза, когда инфляция высосала всё ценное, что было в доме, вот тогда-то он надломился и крепко запил. Как оказалось, ему здорово свинтило башню на почве двоеверия. С одной стороны Аллах, с другой — Христос, а одновременно служить этим двум богам нельзя. Слишком они разные, эти боги. И не верить он не мог: отставному майору надо во что-то верить. Только здесь же важно не то, что человек верит, а во что он верит, керигма. А время, между прочим, было дурное: по стране с экранов теликов звучала апокалиптическая лабуда. Пачками повылезали всякие Любушки, Пелагеи, Авдотьи. И все, как один, потомственные предсказательницы, профессиональные целительницы и опытные ясновидящие с сорока ступенями инициации. Даже мама подсела на эту околесину, меня, понятно, потянула. Но дальше всех пошёл отец. Тот обратился к какому-то магу по имени Димир, обещавшему кодировать на деньги и поражать врагов. Короче, два приворота в одном флаконе, по одному прайсу. Всё бы ничего, но маг-то оказался чёрным, хотя трудился «по благословению, с молитвой». Он научил отца работать с иконкой: встать в церкви перед намоленным образком, навести дорожку и качать энергию, как нефть из скважины. Самое прикольное, батя сильно заразился идеей, сделался типа адептом мага, кхм, притащил домой особые иконы — чёрные. Они были небольшими, помещались в нагрудный карман, сам Димир их дал. Именно с ними рекомендовалось «ходить по церквам и собирать удой». Те вроде считались энергетическимим ловушками или типа батарейками, только меняли переполюсовку, чтобы не случилось замыкания.
— Я что-то слышала про чёрные иконы, — призналась Нэнси, — вернее, читала у Лескова. Он писал, что за этим могут стоять старообрядцы, что это такой их способ бороться с интервенцией Запада.
— Ну, вы вспомните ещё Ветхий Завет и пророка Моисея, — фыркнула Ира, — что водил сорок лет евреев по пустыне и которому никто не верил. Староверы здесь при чём? Их успели обвинить уже во всех смертных грехах, кажется, только что масонам уступают по популярности конспирологических теорий. Чёрнокнижные иконы, как раз, дело рук столь любимых Иванголовым сатанистов. А этот маг сам же, наверно, их и штамповал на каком-нибудь ризографе. Я бы так делала, чесслово!
— Всё логично! Если есть Библия Дьявола, почему не быть тогда дьявольским иконам, — высказался Бомба. — Непонятно другое. Есть иконы, писаные по православному канону, где присутствуют изображения нечистой силы. Как относиться к ним? Да и пентаграмма Дьявола может трактоваться очень двояко. Общеизвестно, что пятиконечная звезда символизирует четырёх евангелистов и Христа.
— А что за канонические иконы с изображением нечисти? — спросила Ленка.
— Как же? — удивился Стёпа. — Икона Страшного суда Иоанна Богослова, например. Там тебе показано и вечное блаженство в раю, и вечные муки в аду со всеми, так сказать, пикантными подробностями.
— Есть ещё икона Иоанна Лествичника, — предложила свой пример Ира. — Та, что с лестницей, помните? Там прям черти нарисованы, что тянут грешников в свой ад.
— Или Святой Георгий Победоносец, поражающий змея, — вспомнился классический сюжет Нэнси.
— Тоже верно, — согласился Стёпа. — Очевидно же, что змий — символическое изображение Сатаны.
— Не стоит излишне мистифицировать иконопись, — возразил Глеб. — Это вульгаризм.
— Что позволено Юпитеру, не дозволено быку! — ехидно сказала-выдохнула Ира. Быть на ножах с Глебом для неё, походже, стало штатным вариантом времяпровождения и едва ли не будничным пассажем. — Как сатанистов мешать с фашистами, так это мы обеими руками, а если вдруг косой взгляд на православие, так держите меня семеро.
— А православие здесь ни при чём, — спокойно возразил Глеб. — Просто, если малолетка малюет звёзды на небе, вычерчивая их пятиконечными, это ещё не значит, что он увлекается оккультными науками или, наоборот, склонен к монашескому постригу. Икона не есть Бог, а змий не есть Дьявол. Люди молятся не материальным знакам — левкасу, краскам или доске, а духовным — божественному или сатанинскому началу. Это уж кому что, — он выразительно посмотрел на Ирину. — А спутать адописные иконы с каноническими невозможно. Я знаю, о чём говорю. Я их видел своими глазами.
— Было бы тоже любопытно посмотреть, — сказала Нэнси.
— Это вряд ли, — бесцеремонно сказала Ира.
— Отца порезали в пьяной драке, — объяснился Глеб, — два с половиной года назад. Бутылку или сдачу не поделили, шут их знает. В больнице он наказал снести мне доски колдуну. Не знал, что в это время в квартире мама разделывала иконы топором. Он умер на четвёртый день, всё время бредил, а за день до кончины перестал вообще кого-либо узнавать. Врачи диагностировали болезнь Паркинсона. Его убил септический шок, а не лихая кабацкая поножовщина. А Димир с тех пор не объявлялся.
— Да ладно. Всё нормально, Нэнси. — Глеб тряхнул головой. — Давайте, что ли, танцевать?
— Ну наконец-то, медлячки, — томно вздохнула Ленка, откровенно уставшая от разговоров.
Через пылких полчаса набившие оскомину Брайан Адамс и Род Стюард, отправились по следам Викернеса, и «камрады», как ласково именовала Ленка своих гостей, затребовали хлеба после зрелищ.
— Девочки приглашают мальчиков, — давилась смехом Милашевич, раскладывая на кухне по тарелкам принесённую Тарасом нарезку сырокопчёного суджука, перемежая аккуратно нарезанные овалы колбасы ломтями пресного чурека и солёной брынзы. — Это я здорово придумала!
Нэнси, натасканная хозяйкой, деловито шарила по нижней полке холодильника, выискивая банки с маринованными томатами и корнишонами, консервированными персиками и баклажанами. Являя собою хрестоматийный пример неутомимого гастрономического экспериментаторства, Ленка, заняв рот болтовнёй, а руки сервировкой, умудрялась ещё и рыскать глазами в надежде если не припомнить, то, во всяком случае, наудачу отыскать энзешную бутыль марочного коньяка, оставленную где-то здесь с прошлого «гуденья».
— Вы с Глебом весьма недурно смотрелись в паре, — искренне призналась подруге Нэнси.
— Правда? — безразлично-скучающим тоном уточнила Ленка, но было видно, что эти слова на неё подействовали сильно.
Она хотела что-то спросить, но осеклась: на кухню стремительно вторгся Глеб, словно его силой сдерживали в коридоре и вот ему удалось вырваться. Он прятал руки за спиной.
— Угостите деликатесом! — попросил он.
Ленка поддела вилкой тонкий ломтик колбасы и отправила в распахнутый рот Иванголова. Тот демонстративно причмокнул от удовольствия.
— Смотрите, что захватил ваш непьющий, но зрелый, а потому прошаренный друг! — Хранящей дланью он приоткрыл завесу тайны, обнажая синий ярлычок на янтарном пузе тарного стекла.
— Бог ты мой, — вскрикнула Ленка и бросилась на шею Глебу, сбивая кепку с головы. — Кальвадос!
— Не святотатствуй! — строго осадил Глеб и рассмеялся самому себе, но больше — поведению девушки. — Можно откупоривать и разливать!
— О ты чудо, Бигл! — Она звонко чмокнула его в щёку, промахнулась и попала в заострённую скулу. Зачем-то отёрла место поцелуя, хотя губы не были крашены, бросила через плечо «Я щаз-з!» и ускакала вручать бутылку разливающему Бубе.
— Ох уж это гендерное воспитание с их дидактическими играми, — небрежно бросил Глеб, увлекая за козырёк бейсболку и снова нахлобучивая набекрень к макушке. — Никогда не понимал этих дружеских обнимашек. Детский сад — и только!
«Просто ты ей нравишься» — хотелось сказать недальновидному «прошаренному другу», но Нэнси из скромности решила деликатно промолчать. Не её это дело, в конце концов. Там сами разберутся, без неё.
— Помоги открыть банку, — попросила она. — И эту тоже, и эту.
— Ты действительно хотела бы взглянуть на чёрную икону?
Свой вопрос Глеб сопроводил хлопками откупоренных консервов. Нэнси неопределённо пожала плечами. Может быть, говорил её жест, может быть, я не решила. Глеб щёлкнул пальцами — чуть было не забыл!
— Есть одно особенное место, — сказал он, — километрах в полуста отсюда. Так село не село, деревнюшка на пятнадцать двориков. Есть там недействующий храм с часовней-крохотулиной, про него мне отец ещё сказывал, а тому колдун. Короче, в том храме перед алтарём на иконостасе, среди прочих, висит икона. С виду обычная — с изображением святого, но на деле бесовская. Икона современная, писали её в девяностых, тогда приход действовал ещё. Вносили в храм на полотенцах, с молебном, как полагается. Никто и думать не думал, что лик уже освящён чёрным бесовским обрядом. Богомаз оказался с червоточинкой: под слоем левкаса пририсовал святому рога, а доску снёс чернокнижнику.
— Ему, — кивнул Глеб. — Если колупнуть чем-то острым сверху, можно увидеть рогатого угодника. Димир говорил отцу, икона по сию пору висит там. Правда разговор был пятилетней давности. Давно хотел проверить: байка или нет, да всё как-то приходилось не ко времени.
Нэнси точно поняла его настрой.
— Что: ты и я? Остальных не позовём?
— Им не интересно, — отмахнулся Глеб. — К тому же я в их компании пришлый. Тебе твоя Лена не рассказывала в чём смык? — И поймав отрицательное качание головы, с воодушевлением поделился: — Ирка, я называю её Вестгот, потому что она сама из Сестрорецка — ну ты слышала, это на западе от Питера — голосовала сломанная как-то на трассе, я подобрал, без всякой задней мысли. А она, стерва, представляешь, что говорит: наверно, хочешь в гости? Ну, а я что, евнух — ломаться? Красивая девушка, хотя прикид, конечно, не в зуб ногой. Говорю: хочу. А она: ну поехали тогда, и называет Ленкин адрес. А у них как раз тут полный шабаш, только агнца божьего не хватает на заклание. А я и думаю: не, ни фига. Развернул им годный спич, а они тут все любители же потрындеть. Воодушевились, такие. Говорят, Вангог, ты, главное, с ума не сходи и ухо себе не отрезай, мы хотим, что ты ещё раз пришёл к нам в гости. Придёшь? Так что, — закончил объяснение Глеб, — у меня тут что-то вроде резидентского соглашения. Но отдельные клевреты меня, всё же недолюбливают. Ну, ты заметила.
— Заметила, — кивнула Нэнси, — а как, по-твоему, меня приняли?
— Я — хорошо, — уклонился от ответа Глеб.
Они улыбнулись друг другу не без взаимной симпатии. В смежной комнате заколыхался, расплескался девичий смех. Послышался дробный топоток и окрик «Ух, я тебя сейчас!», на кухню зашмыгнул Нафаня с зажатой в зубах лакомой добычей. На повороте фретку лихо занесло, он беспомощно черканул когтями по скользкому истёртому линолеуму, проехал врастопырку юзом на боку и мягко влепился в фигурный плинтус. Чувствуя, что нашкодил, фретка немедленно вскочил на лапы и припустил под кресло.
— Где это чудовище? — злобно заскрежетала зубами Ленка, появляясь вслед за беглецом, но быстро потеряла интерес, почувствовав в воздухе отчётливое электричество и запах грозы. Источник находился аккурат между опасно сблизившейся парочкой. Эту прицельную дистанцию Ленка не могла не отметить, как и то, что она — дистанция — преодолела некий рубеж френдзоны.
— Секретничаем? — торжествующе спросила она, сощурив глаза. — Кому перемываем косточки?
— Да вот, молодой человек мне жалуется, что его тут недолюбливают.
Ошеломлённая таким признанием Ленка посмотрела на «молодого человека» и в отчаянии уронила руки.
— Да быть этого не может!
Она затопала на Глеба ножками и закричала шёпотом:
— Враньё, враньё, всё враньё!
Она, конечно, играла, но играла каким-то странным потоком смутных эмоций, которые вполне могли бы сойти за чистую монету.
— Вот, пожалуйста, — сказала Нэнси, указывая на подругу, — глас народа.
— Точно! Оставайся мальчик с нами. Будешь нашим королём!
— А что с моим предложением? — невозмутимо поинтересовался Глеб, будто не замечая нависающей над ними Ленки.
— Вынуждена отказать!
Глеб нелепо как-то суетнулся, вытащил из кармана телефонную «раскладушку», поддел ногтем крышку с подмигивающим светодиодом и быстро скользнул глазами по строчкам прилетевшего смс. Лицо его заполыхало и он осмотрел Нэнси каким-то новым взглядом.
Заметив, как Иванголов изменился в лице, Ленка, будто била доминошной костью «рыбу», выпалила с грохотом:
— Всё нормально?
Она вытягивала шею, пытаясь беспардонно углядеть с экранчика короткий текст. Милашевич не страдала отсутствием любопытства, впрочем, как и лишней скромностью тоже. А что такого: Глеб всё-таки друг, не чужой ей человек. А эти смски, после которых он становился сам не свой, приходили с завидной регулярностью и наводили на размышления. Обычно получив такое сообщение, он насупливался, собирался весь в кулак и резко сваливал под каким-нибудь предлогом. На этот раз Глеб даже не стал тужиться над отговорками-отмазками. Сказал просто «мне пора» и торопливо захлопнул телефонную крышку, тем самым не оставляя Ленке шансов.
— Ирка не обрадуется, — с сильной и искренней досадой воскликнула она, — что её личный водитель опять свинтил по другому «заказу».
— Я не её личный водитель, — грубо оборвал Глеб.
Он застыл, подумал с секунду и, прежде, чем выкатить из кухни, обратился к Нэнси:
— У меня по-прежнему всё в силе. — Он выверенным движением извлёк из кармана на свет чёрный матовый прямоугольник. — Моя визитка. Надумаешь, звони.
Ленка сделала страшные глаза, которые словно говорили: «так-так-так! что это такое происходит интересное». Но от распросов воздержалась. Ровно до тех пор, пока за Глебом не закрылась дверь.
Глава 6. ХИМЕРА В МОИХ ЖИЛАХ
Прославившись по версии бульварной прессы «самым испорченным в мире» Алистер Кроули, коль уж была помянута (и не однажды) фигура одиозного поэта-оккультиста, говорил: приготовься, начнем на счет три. Раз, два.… Но «три» не говорил. Обманывал. С ним бывало. И неудивительно, ведь он был самым испорченным. Ленка, порою, сама лукавила. Кто не без грешка? Иногда ложь бывает очень поэтична. Как закат. Никто ведь не будет спорить с тем, что закатом можно восхищаться. То же самое и с ложью. Конечно, при условии, что лжец в деле виртуоз. Если ложь преподнести мастерски, она начинает обладать колдовскою силой: сухую фразу обращает в афоризм, документальную хронику — в притчу. Она может уничтожать или поновлять прошлое, отменять или предсказывать будущее. Всякий человек носит в себе известную долю природного лукавства. Если угодно, это атавизм первородного греха, все трещинки сработанного мира, в котором имманентно одно лекарственное средство — вера. Остальное БАДы.
Когда на глазах изумлённой Ленки визитка, словно чёрная метка, легла на ладонь Нэнси, символизируя собой некий беспристрастный приговор, вынесенный Глебом, она поняла, что её вера в женскую дружбу начинает колебаться. Её прямо жгло и распирало от желания пролить немного света на этот молчаливый сговор за её спиной, но она не знала, с какого боку подступиться, чтобы не обезоружить себя своей же правдой.
Die Blonde Bestie. Так в кулуарах окрестил Глеб новенькую. «Ты её, эту фразу, пощупай, — предложил он Ленке на прощание, задержавшись у порога, — на языке покатай». И это вместо «до свидания». Вот тебе и объяснение, Елена Аркадьевна. Что-то про ницшеанского человека толковал. Достал. Хлопнула дверью. Ницше ни при чём. Очередной «загон» в стиле Бигла, но надо быть совсем уж дурой, чтобы не понять, куда он клонит.
Растушёвка товарищеских отношений с Нэнси происходила не так успешно, как предполагала вначале Ленка. Поговаривают, у дружбы нет гендерных различий, но это не более чем происки психологов, берущих почасовую оплату наперёд. Очевидная неправда и то, что схему далеко не идеальных отношений тригонального полиамура можно отладить разысканием ответов на извечное «Кто виноват? Что делать?». По-чернышевски фантастический размах предмета обсуждения не мог бы спровоцировать ничего, кроме материалистического флуда.
Разумным заслоном против треугольника любовных отношений мог бы стать отказ от той излишней чуткости к другому человеку, которая в итоге неминуемо оказывалась унизительной подачкой для обеих из сторон. Жалость — всегда имитация любви, жалостью нельзя жалеть мужчину. Ленка это знала, однако не в силах бороться с каверзами внутреннего альтруиста, сопротивлялась состраданию ровно настолько, насколько среднестатистический городской воробей готов устоять против жирного мучного червячка. Жертвенность была основой её основ, и она не сводилась к бескорыстной заботе о животных. Не только. Люди как будто тоже лишь животные, иногда лучшие, чаще — худшие, чем те, что ходят на четырёх лапах. Более высокоорганизованным и оттого более уязвлённым, им точно так же требовалась помощь. Ленкино участие в судьбе другого человека в последнюю очередь было тратой времени, и сил, и нервов. В последнюю очередь — её расходом жизни. В первую — это означало самопожертвование. На заклание приносился ты сам, ты, с молоком матери усвоивший сверхъобыденный смысл акта жертвоприношения, кровавого обряда, неотделимого от понятия «во имя». Во имя чего? Во имя личных убеждений. Разве недостаточно? Эта идея, притягательная вовсе не новизной, но реализацией концепции, помогала Ленке жить по совести. Жить по совести — это вовсе не «делай первое, а второе не делай», жить по совести — быть в ладу с самим собой. Тогда и жизнь будет владеть не одной, а многими красками, и создавать такие колоритные нюансы — настоящее ликование цветов.
Увы и ах, в отлаженном механизме духовного контроля присутствовал крошечный изъян, может, даже заводской брак. У добровольной жертвы самозаклания (жертве 24) иногда, кроме убеждений, случались и предубеждения. Всякий раз предвзятости и подозрения исходили не от голоса совести, плоть заменяла её место, и с этим решительно ничего нельзя было поделать. Ущербная Бубина физиология, помноженная на её, Ленкину — нормальную, здоровую (от избытка гормонов организм трещал по швам), обрушала всякие надежды поквитаться с собственной системой ценностей, многократно усложняя ориентиры нравственности и морали новоприбывшим вакантом. В евклидовом пространстве неэлементарных отношений Ленки он — вакант, frei Blonde Bestie — рисковал обвалить геометральную фигуру до квадрата. Математическая логика подсказывала девушке, что из этого неравенства сложно будет выводить решаемое уравнение, поскольку вершины «Аня» и «Тарас» между собой никак не подвязались.
Справедливости ради, следует оговориться, что Ленкина философия отнюдь не опрокидывала чувство морали или нравственности, она даже не преуменьшала эти категории. Колоризованная жизнь, как и разукрашенный вручную фотохром, в большей степени зависел от компетенции того, кто разрисовывал. Что шепчет твоя совесть? Ты должен стать тем, кто ты есть. Sic!
Уже в первый свой рабочий день она услышала это пущенное невзначай словечко. «Расходники, — беспечно сказала Вика Усцелемова, пухлогубая брюнетка с низким декольте, с которой началось похмельное утро понедельника, — они долго не живут. Не трать время на жалость, просто старайся дистанцироваться от эмоций, но не от работы!»
Краткий ликбез для новой сотрудницы «Энималсленда» Лены Милашевич проходил в дверях кабинета, увитого курсивом гравировки на пластмассовом «под золото» шильдике «Коммерческий директор». Табличка сберегалась исключительно для проверяющих органов, хотя помещение давно служило по большей части складом для хранения кулей фасованного комбикорма и прессованного сена. По меньшей части — ровно на треть — это была комната приёма пищи, она же раздевалка. На время проверок дверь запиралась на ключи и пломбировалась пластилином, а инспектирующим торжественно вручался номер контакта. После телефонного звонка ревизоры делались безэмоциональными и нелюбопытными. Постреляв для проформы липкими глазами по углам, они терялись до следующего раза.
Отнюдь не считавшая себя угнетённым полом, Усцелемова исполняла не только ответственную должность, указанную в заглавии таблички, но и все остальные административные посты. С младых ногтей Вику приучали к конкуренции, поэтому даже подбор кадров была вечным кастингом на пути к её жизненному кредо «я самоутвеждаюсь — значит, существую». Совместный труд с мужчинами Усцелемова не переносила, предпочитая в мужской компании отдыхать, а не работать, поэтому в штат набирался только женский коллектив определённой поры, верхняя планка которой отсекалась Викиным возрастом, отпраздновавшей не так давно свой тридцатилетний юбилей. Это не мешало ей чувствовать себя в поре «21+», где «плюс» такой же короткий, как муслиновая мини, в которой она любила появляться. Напомаженная, обильно политая духами, Вика предпочитала нетрадиционные для бизнес-леди откровенные фасоны. Боевой раскраской, коротким нарядом и длиннющим ароматным шлейфом она изводила в округе всех самцов, а в особенности двух. И если первый был по жизни полосатым скунсом, при появлении директрисы неизменно выбрызгивающий едкую струю секрета, то второй — коротконогий вертлявый живчик Женя Регнер, губящий себя игрою в автоматах — вёл, что ли, чуть сдержанней, интеллигентней. По сути, он был исключением из негласного феминистического принципа Вики, выполняя мелкие поручения там, где требовалась мужская сила и смекалка. Говоря иначе, Регнер был на подхвате, его звали тогда, когда в нём возникала насущная необходимость. Например, прибить доску в вольере, ссыпать тяжёлый мешок с зерном в пакет или поменять под потолком перегоревшую лампочку на исправную. Всё остальное время Женя просиживал штаны этажом ниже, в игровом зале, где числился в охранниках, работая по экзотическому графику сутки/двое, из которых «двое» он работал, а на третьи отсыпался, причём не где-нибудь, а на складе, за дверью с табличкой «Коммерческий директор». Не то, чтобы Регнер был трудозависимым — который год подряд так он отрабатывал святой карточный долг. В «Энималсленде» Женя числился волонтёром — официально работал за идею, а неофициально — за койко-место, в котором всеми фибрами своей души желал увидеть однажды Вику. Конечно, Регнер был никаким не добровольцем, а тайным Викиным поклонником, впрочем, лишённым напрочь шансов. Приходилось Жене до поры до времени довольствоваться подглядываниями в раздевалку через смежную со складом стенку, неплотно сбитую из ДСП щитов. О его чувствах знала — или догадывалась — и сама Вика, и своекорыстно вила из него верёвки.
Трогательный зоопарк, куда устроилась Ленка, едва ли был больше её купчинской «двушки». Это было помещение с плохой вентиляцией и без естественного освещения на последнем уровне трёхэтажного торгового молла недалеко от Финбана — Финляндского вокзала. С «Энималслендом» делили пространство ресторанный дворик и кинотеатр. Этажом ниже располагался пресловутый игорный клуб с плеядой шоу-румов нижнего белья. Дамские исподники в кружевах и без, напяленные, подвязанные, навешанные на манекены, были щедро пересыпаны фудматами, кофематами и кондоматами, а ещё ниже — весь первый этаж — занимал сетевой универсам еды.
Всего за неделю, отказавшись в знак солидарности с Регнером от выходных (Лена и Женя быстро «скентовались», настроившись на общую волну) и тем самым зарекомендовав себя в глазах директрисы лояльным и благонадёжным человеком, Милашевич совершила, пожалуй, самую стремительную карьеру за всю историю «Энималсленда», превратившись из стажёра в супервайзера. Но слово это — «расходники» — присосалось холодной пиявкой к тонкой шкуре нового сотрудника, и всю длинную рабочую неделю кололо и посасывало, оставляя досаждающе-назойливое ощущение. Для себя Ленка решила, что Вика просто озабоченная баба, а потому «желчью брызгать привыкшая». Но прошла неделя, и уик-энд, ставший для Ленки рабочим буднем, показал что директриса далеко не самый злобный персонаж этой истории. Настоящим исчадием зла — кто бы мог подумать — оказались посетители. Неведомые создатели «Энималсленда» выбирали место, делая ставку на проходимость, и — не прогадали. С утра до вечера народ тянулся нескончаемым потоком. В большинстве своём это были родители с детьми. Если в будни в основной массе валили мамочки, то в выходные концентрация отцов заметно повышалась. «Феномен воскресных папаш, — объяснила Усцелемова. — Кажется, в социальном институте такое явление есть».
Папаши обычно проявляли меньше интереса к зверюшкам, нежели их чада, мамаши — напротив, иной раз турсучили питомцев с такой энергией, с такой настырностью, что им могли бы позавидовать их драгоценнейшие отпрыски. Подопечные Ленки — Джуниор, Ниф-Ниф, Наф-Наф, Нуф-Нуф — не имели столько паблисити, как всеобщие любимчики — енот Раскал и питон Мотя. Эта сладкая парочка не только тянула лямку славы, но и делала кассу. Пройдя боевое крещение и получив новую почётную должность супера, Ленка взяла фаворитов под свой патронаж. Крики и беготня детей, нескончаемые их прикосновения и тисканья настолько сносили крышу Моте и Раскалу, что к вечеру апатичный питон делался агрессивным, а энергичный енот превращался в подавленного, удручённого зверька. Вконец замученный трёхлетней девочкой с голубыми бантами и хорошо развитым хватательным рефлексом, Мотя уколол своим змеиным зубом палец юной мучительницы. Мама девочки тут же с исступлённым отчаянием бросилась отсасывать воображаемый яд, а когда Ленка объяснила, что укус питона хоть и болезненный, но не ядовитый, попёрла на неё с угрозами. Попытка объяснить, что Мотя ни при чём, что виновата даже и не девочка, а еёная мамаша, с молчаливого согласия которой прививались киндеру бессострадательность и антигуманизм, вызвали такой всплеск матершинных междометий, что у Ленки, прошедшей курс молодого бойца в общаге биофака и слышавшей, казалось, самый изощрённый бранный лексикон, округлились и полезли из орбит глаза, а уши стыдливо заполыхали жаром.
На этом инциденты себя не исчерпали. Аккурат на следующий день, в воскресенье, другая «яжемать» двух близнецов-малявок — лошадь в плиссе с кузнечиковыми ногами на высокой шпильке — после долгих неутолимых тисканий уронила енота, чебурахнула прямо с верхатуры своей лошадиной туши. Итог: ушиб брюшной полости и трещина ребра. Приехавший ветврач забрал беднягу в клинику. Ленке он потом признался, что возится с животным только потому, что тот — главная статья дохода зоопарка. Вскоре она убедилась в словах ветеринара. Животных не лечили: мелких скармливали хищникам, а крупных усыпляли дроперидолом и выбрасывали в непрозрачных полиэтиленовых пакетах вместе с мусором. Расходники — они и есть расходники.
После всего увиденного и услышанного, общение с обречёнными животными ей уже не доставляло радости, впрочем, как и новая крутая должность, которой Ленка, вопреки дворцовым сплетням завистливых коллег, после всего случившегося не лишилась. Её мироощущение было таково, что хотелось заурядного конца света. Ленка понимала, что сейчас, когда мировая война по ряду причин сделалась невозможной, придётся как-то обходиться без армагеддонов, и искать хотя бы возможности побыть одной. Она приходила домой, легонько царапалась в комнату Нэнси и просила у той очередную порцию чудесной пузырьковой плёнки, которой с лихвой могло хватить на пару апокалипсисов с рекламной паузой. Жать эту педаль можно было бесконечно долго. Однако наступал следующий день и новые впечатления ещё более вгоняли с отчаянную безысходность. Разве что она выигрывала, соприкасаясь с сильными чужими текстами. Невероятно, но свой пошатнувшийся мирок (а он в силу темперамента шатался часто) Ленка удачно «срежиссировала» неформатным чтивом, которым её снабжал Тарас.
В «дотарасовскую» эпоху неформат отнюдь не отвергался, просто Ленка не считала его литературой перегруженной, то есть такой, которая давала бы ощущение балансировки на грани недопонимания, тем самым указывая на ограниченность любого знания. В неформате всё казалось или одинаково понятным, или равно непонятным, к тому же, с редко находимыми (почти никогда!) атрибутами большой литературы — достойным сюжетостроением, душевной разрядкой. Для Милашевич это было залогом не столько вдохновенного чтения — вдохновенно можно читать даже инструкцию к фену или методичку по рентгеноанатомии, — сколько инерцией образного ряда, импульсом, толкающим к действию притягательную силу текста. Она находила иные возможности (в самом хорошем смысле слова) обременять себя запойным буквопоглощением — прибегала к старому доброму мейнстриму, давно и безнадёжно заделавшемуся канонической упитанной классикой.
После сплошного, чистейшего читательского удовольствия от Десмонда Морриса и его «Голой обезьяны», расписанного от первой страницы до последней шипучей пеной юмора до того ритмично, что в такт тексту хотелось улыбаться и дышать, Ленка решила подхватить дискурс, устроенный автором, и перейти от популярной зоологии к теологической антропологии. Она не нашла ничего лучше, чем начать со скучноватого Платона — тот не отпускал остроты, не дурачился с текстами и пренебрегал любыми каламбурами. Она и сама не заметила, как её перекинуло в соседнюю гносеологию с её спекулятивными материями аскетики и мистики. Платон быстро изжил себя, добавив к поздним сочинениям несомненные черты старчества, болтливости и бессилия мысли. Античный софист с патологически мучительным процессом нащупывания истины почти вывел Ленку к своему не менее известному ученику, который в противовес процессу (и наставнику Платону) предпочитал конечный, пусть не очень потрясающий, но всё же результат. Где-то в этом месте, на академично-фолиантных тропах имманентного разлада, Ленке повстречался Буба. Мучительно коверкая фразы и препинаясь без конца вводными, он вслух комплиментарно отъюстировал несколько источников, подкрепив их тут же разлапистыми книжицами. Очень быстро дряхлеющий платоновский демиург мутировал до всесильного лотреамонского демона: так доктрины античных философов получили вырождение в формах инфернальной лирики.
Выпутываясь из перекрестий квазисмыслов, Буба спасался стихами (Ищу спасение в стихах, / Но буквы жмутся ближе к краю…) — своими и чужими; писал и переписывал в самодельную помятую тетрадь лабиринты рифмованных конструкций. Это были странные стихотворения — смесь интроспективной символистской эстетики, по-бодлеровски мрачной, даже где-то уродливой, и возвышенной грехоподобной красоты, почти не отличимой от грязной порнографии. Меньше всего они кричали о спасении, всё больше о почитании лингама, геенне огненной и мёртвом боге. Он был очарован эросом и упивался злом, но при этом стеснялся взрослых женщин и своей неизлечимой monstrum morbi27. По признанию самого Тараса, для него любое предложение было, как большой хлебок колодезной воды — зубы ломит! Но это не самое противное, говорил он, с переменным успехом преодолевая наиболее трудные сочетания звуков. Самое противное — ощущение, что тебя поймали в прицел, и ранимость твоя, слабость, уязвимость — вся как на ладони. Думаешь одно, говоришь второе, а изо рта вылетает третье, а ты на перекрестье трёх смыслов в порядке марлевого бреда подвешен пуганым зверьком.
Ленка хорошо помнила, что устойчивый интерес к блэк-металлистам возник с того самого знакомства, но любопытство где-то на уровне врождённой страсти ко всему брутальному и трушному, появилось раньше, ещё в Самаре. Во всяком случае, компакты со страшилищами фотоколлажей господствовали в её домашней фонотеке, это точно: именно ими она держала в тонусе соседей, которые, как известно, бывают «хорошие и разные». Соседи были, наверно, всё-таки хорошими, а вот Ленка вряд ли — в силу возраста и просто так, для профилактики. Профилакторий организовывался не без помощи этих ряженых во всё чёрное ребят. Названия музыкальных коллективов не успевали оседать в памяти, а тексты песен и вовсе не зашли — кто их этих викингов поймёт, о чём они вопят? А вопеть они могли о чём угодно: о скандинавской мифологии, националистах, наркотиках, расизме или пространной метафизике отношений Бога и Дьявола. Ленке, впрочем, было всё равно, ей просто нравился тот «драйв», та дичайшая полифония горловых и инструментальных звуков, которыми её потчевали оголтелые норвежцы.
С приходом Бубы, водившем обширные знакомства с «Транслитрувером» — полулегальным, тайным миром подпольной текст-индустрии (где каждый второй, если не адепт сил Тьмы, то знакомец Скавра28 или, по крайней мере, приближенный к его тусовке), Ленка отыскала, наконец, смысл в вольных переводах чёрножанровых баллад. Она заново влюбилась в музыку её бунтарской юности благодаря стихам: они порочны, тем и хороши — не добры, не прекрасны, а возвышенны.
Розыск красоты и смысла в «чёртметовской» поэзии сильно сблизил двоих. Ленка как-то сразу испытала к Бубе детскую приязненность, не благодаря, а вопреки его фривольным словотолкам, от которых с первого дня их судьбоносной встречи повеяло мелким бытовым несчастьем и раздёрганной тревожностью. Соскальзывая от периферии к центру коммуницирующей области, её траектория поведения кричала: буду опекать. Неверное же восприятие сути событий, перемноженное на несколько коктейльных шотов, привели не совсем к той истории, которую она хотела по приезду в Питер собственноручно написать. Лавстори, подобно эффекту турбины, взвинтилась на пятый день знакомства, да так стремительно, что «воткнуть заднюю» оказалось как-то поздновато. Бульба ухаживал изысканно (если это слово вообще уместно), его подход был разительно отличен от многочисленных его предшественников. Вместо букета сортовых тюльпанов или тепличных орхидей «Полынь» во французском переплёте29, вместо лютневой сюиты нергаловые аргументы нового айпода, вместо лимонада с мармеладом кофе с куркумой и мандрагорой, от порции которого грудную клетку стягивало обручем, а сердце становилось горячее. Не сладкой нежностью, но глубочайшей жалостью были пропитаны эти деликатнейшие отношения с новым Ленкиным бойфрендом. Много не занятного, но драматического видела она, в отличие от остальных, в контрасте легастенических задатков Бубы, его начитанности, образованности и баловства литературными бродягами, погребальными ритуалами и оккультными ядами. Сто раз она хотела говорить, сто раз она хотела рвать эти будоражащие взаимоотношения, однако выколоть Тараса из тёплого поля собственной, почти материнской заботы не могла. Степень ужаса непоправимого захлёстывала при мысли, что придётся сказать страшные слова-признания.
В сложившейся стихийно ситуации, рациональная и целесообразная (в этом Ленке отказать было нельзя), девушка принялась лихорадочно искать бенефиты и очень скоро их нашла. Кроме самоподзавода жертвенной затравки, Тарас снабжал её текстами книг, и делал это не хуже городской библиотеки с той лишь разницей, что подобных книг было точно не сыскать в библиотеке. Вся литература была фанатским самиздатом, рождавшимся усилиями транслитруверианцев, имеющих в своём распоряжении законспирированную подпольную печатню. Конспирация соблюдалась больше для острастки и ностальгии по тем досточтимым временам, когда жандармы наводили облавы на сырые подвалы со входом через лаз-колодец, где трёхтонный вещдок — станок «американка», основанный ещё на принципах печати Гутенберга, множил скабрезные агитки под заведённый граммофон, чтобы маскировать шум работы тигельного пресса. Теперь вселенная Гутенберга вмещалась в пластиковый корпус бесшумного ризографа размерами не больше прикроватной тумбочки, а роль самого глухого подполья выполнял арендованный некапитальный гараж у парковочного комплекса где-то на окраинных выселках. Героический подвиг подпольщиков сводился к задумке «гаражного» издательства и воплощённой рабочей модели арт-лаборатории для любых манипуляций с бумагой и типографской краской без оглядки на цензуру. Транслитруверианцы, следуя конспирологической легенде, хранили в тайне свой промысел и место дислокации. Нет, Буба не клялся на крови о неразглашении конфиденциальных сведений, он просто не имел привычки говорить лишнего. Ленка тоже особо не выпытывала, получая от Тараса свет истины дозировано и регулярно.
Примерно треть всех принесенных книг она читала под лекарствами от кашля, лёжа на диване посреди ночи, страдая от воспалённого горла и отёка носа. Книги напоминали ей какой-то горячечный сон: красиво, лирично, местами раздражающе, но очень-очень-очень избыточно, как это бывает при температуре 38 и 7, когда ты видишь собственную комнату в каком-то излишнем измерении, из-за чего она напоминает делянку размером сто на сто парсеков, где каждый атом, каждая молекула — предмет внимания и изучения. «Нужно ли мне это читать?» — как-то спросила она, когда Тарас принёс свежую вязанку брошюр с текстами Лавея, Бартон, Фрея, Лонга и Гюисманса. Буба ничего не ответил, он только посмотрел на Ленку; этот взгляд сказал: «Эти книги нужно прочесть настолько, насколько вообще может быть нужно что-нибудь прочесть».
Поправив здоровье и растранжирив весь носимый запас контркультурных текстов, Ленка, как человек, воспламеняющийся от любой маломальской затеи, захотела во что бы то ни стало столкнуть бумажное изящество тонких на скрепках книжек с отвлечённостью рисунка, с его графичностью. Из-за высоких издержек производства иллюстрации на страницах транслитруверианских самопалов были редким зверем. Ко всему прочему, ей просто захотелось сделать что-то рукотворное, заменить полиграфический машинный труд ручным. Прекрасным образчиком для подражания мог бы послужить Уильям Блейк, который не любил и не хранил вещей, расставался с ними удивительно легко, но был крайне щепетилен к книгам. Ярый противник всего модного, он украшал рисунками тексты собственных стихотворений. Гравировал обычным способом и расписывал вручную оттиски, что требовало поистине колоссальных усилий. С каким тщанием и насколько аккуратно он наносил на медную доску тексты своих рифмованных пророчеств. Был в нём что-то бойцовско-вызывающее, и Ленка находила в этом совершенство гения, которому хотелось подражать.
Вооружившись калькой, рапидографом и акварелью, она взялась за выпуск своего — первого! — фанзина. Главной целью журнала Ленка выбрала подрыв канонов медиума. Она даже придумала девиз: чем необычнее, тем лучше. В основу пилота легли простые черно-белые абстрактные изображения, напоминающие фрактальные раскраски. Это были схематичные, но изящные рисунки: любые формы без особого мотива, впрочем, принудительно снабжённые им через цитаты из транслитруверианских книг. Прецедентный текст перемежался с переводами песен, выполненных прописью с претензией на каллиграфию. Были попытки втиснуть пару аппликаций из гербария, но идея оказалась не живучей. С детсадовским гербарием нельзя взламывать с оттягом все возможные табу, и Ленка решила, что её фанзин всё же не коллекция засушенных растений. Так, вместо гербария появились отксеренные обложки музыкальных пластинок, вырезанных в форме листьев клёна, малины, одуванчика, на которых прямо поверх шли эпистолы, стилизованные под викторианский стиль. Ленке было скучно просто писать свою оценку лейблу, поэтому она делала вид, что переписывается с британским меломаном из XIX века, оравшем в пабах и на улице баллады Салливана, Элгара и Арна. На музыкальном поприще из рубежей веков XX-го и XXI-го подвизались сумрачные образы Майхема, Ульвера и Бехемота. По мнению потомка, это был достойный ответ постным мюзик-холловским фигурам благочестивой старушки Англии. Проект первого фанзина замышлялся как форменное хулиганство, но Ленка дала себе зарок, что если дерзкой хулиганки из неё не выйдет, она не бросит это дело только потому, что «много дров, но мало мяса».
Оставалось подарить журналу имя и, перебрав сотни вариантов, она придумала незамысловатое название FAZIL». По всему выходило, что это был акроним, столь тщательно взращённый на любви к подобным сокращениям. Аббревиатура развёртывалась до уютного, почти домашнего «Фанзина от Ленки», и преследовала единственную цель прославить автора в веках. В своих честолюбивых грёзах она успела добраться до открытия первого в России фан-музея, где именно её, авторские зины будут храниться на стенах вместо картин, запечатанные в вакуумные капсулы из оргстекла для лучшей сохраняемости. Разумеется, на многочисленных стеллажах и полках будут представлены и другие «весомые вклады в культуру», например, столь любимый ею ЧПХ или Punk-Bang.
Время шло, а отношение к Тарасу не менялось. Так и пребывая в незамысловатом пространстве выбора, точнее, его отсутствия, Ленка докатилась до встречи с Глебом. Приютила его в их компании Ира Гот, которая водила шурик-мурик с Бомбой, мечтающем тайно о собственном бюро похоронных услуг и частном кладбище с бесплатным крематорием. Хотя в узких кругах Стёпа Бомба прослыл вовсе не этой экзальтированной миссией, а внушительной коллекцией видеофайлов с записями собственных тестов петард. Коллекция постоянно пополнялась полевыми опытами в пакетах с мукой, кастрюлях и алюминиевых банках. Последний ролик демонстрировал подводное испытание страйкбольной шумовой гранаты в оболочке волейбольного мяча. Вообще, эта парочка стоила друг друга, чего уж говорить. Глеб оказался не больше, чем шапочным знакомым, но Ира, кажется, притащила его на шабаш ради изощрённейшего глума — тот пытался к ней подкатывать. Он вернул её же глум с процентами, чем сперва принародно довёл до нервического срыва, а позже вызвал приступ бешенства. Дура! У него милейший подбородок и серебристый пушок у самого виска. А как он улыбается, жмуря мерцающие живым огнём глаза. Прямо котик! Но Глеб вряд ли замурлыкал, пощекочи его за шейкой: внутренне настороженный, внешне безразлично-спокойный, он держался на протокольном расстоянии ко всем. Так было всякий раз, когда он появлялся на их квартирниках, и Ленка не без удовольствия ждала единственного развлечения — словесной битвы, когда Глеб принимался низать за словом слово, а его тусклый, с глухою шелковинкой голос накалялся от критического напряжения, приобретая характерное трещание, будто сыпалась на пол металлическая стружка. Так было всякий раз, кроме последнего, когда в их компании забрезжил новый персонаж. Острейшее чувство новизны жизни промелькнуло в глазах Бигла, а голос зажёгся не тысячевольтовым током, а предельным накалом чувственной пульсации. Ленка это учуяла сразу, и укол ревности, пока булавочный, заставил прогреметь чистейшим ключом в далёком дремлющем сознании странной, впервые выкристаллизовавшейся мыслью: всё это время она безуспешно флиртовала с Иванголовым не ради игры, а для привлечения внимания. Неосознанное выражение симпатии вдруг стало предельно, пиково постигнутым.
Когда Нэнси появилась в дверном проёме, его всепроникающие глаза подёрнулись некоторой плёночкой. Так же внимательно они следили за ней, когда она, тушуясь и робея, дрейфовала по комнате, меняя направление, причаливала то к венскому стулу, то к стенному гобелену, то к круглому столу. Произошла последняя смычка с меблировкой комнаты, наконец она ввинтилась в обстановку и покривила носом: в гостиной безраздельно хозяйничал табачно-винный дух. Глеб, стоявший от окна ближе всего, потянулся, дёрнул ручку и выдавил на улицу фрамугу, а вместе с ней затаившийся под потолком занемелый серпантин, похожий на мерзкую цестоду протравленного воздуха. Внимательно посмотрел на Нэнси, оценён ли этот акт пособничества, и увидел, что оценён.
Глеб как будто бы исправился, провёл работу над ошибками. Вот он дирижирует беседой, а Ира с теплотою, накалённой до ненависти, сопровождает его нервическим набегом модуляций взвинченного ритма. Разговор сверлит ухо жаркой сутолокой слов и напоминает закручивание до последнего пружины. Ира жадно вгоняет в себя табачный дым и резко выпускает через нос, Глеб тянет вперемешку с пивом контраргумент — мощно, сыто, словно отлаженный двигатель его «марка», который он любовно перебрал на прошлых выходных под окнами Ленкиной квартиры. Да нет, всё как обычно, всё как всегда, но почему же тогда ей кажется столь очевидными и оттого невыносимыми спекуляции этих мимолётных взглядов. «Ну, что за вздор!» — удручённо и раздражённо ругает она себя, исподлобья озираясь на мраморнолицого, подчёркнуто отстраненного Глеба и неуверенную в себе, всё ещё дичившуюся малознакомой компании Окуневу.
Она почти убедила себя, что это самогипноз, буйное воображение или ещё чего, когда Иванголов попросил фото. Вообще, он к каждому подкатывал с подобной просьбой, а к Ленке так дважды или трижды приставал. Но в этот раз мгновенно вспыхнувшее беспокойство задуло все признаки благоразумия. Вернулся прежний туман, и все самые худшие опасения вмиг подтвердились. Перекосившись как бы от брезгливости, Ленка выдала что-то в адрес Нэнси и тут же отругала себя за поведение, мысленно влепила «неуд» и вызвала саму себя на директорский ковёр. Да, при таких нервах и вечно штормовой погодкой в голове недалеко «задребезжать». Она срочно изобразила на лице меланхоличную градацию и ровно тем же голосом, каким изображала сплин, предложила танцевать.
Инициатива наказуема и первые два танца в лиловатом полумраке притушенных ламп она исполняла соло. На третий, накачавшись вином, народ посыпал в центр комнаты. Ленка прижималась к Глебу, маскируясь теснотой. Наэлектризованная оргастичность танцев под раздирающий вокал, под бешенные, монотонные тамтамы напоминали камлание. Огненно-фиолетовые всполохи света можно было выдать за жертвенный огонь. Воздух, низкочастотным звуком ходивший вокруг, за бестелесую мантихору. Критический перекос, в первом размягчении чувств, вызванных вином, настроил на решительные действия, и Ленка даже прищёлкнула в предвкушении пальцами. Она решилась «заказать» медляк с тем, чтобы устроить проверку. Буба весьма удачно выпал из «танцплощадки», а Стёпа ни на секунду не покидал своей фемины. Это и хорошо: эксперимент требовал стерильности. Острое, предельно рискованное начало под аллюрами решимости скрывали паническую дрожь, искусно упрятанную под танцевальные движения. Под первые медовые аккорды Адамса первыми сомкнули объятия Ирина и Стёпа. Глеб, протискиваясь к Нэнси, мягко приобнял её, как обнимают вежливо в общественном транспорте мешающих людей, и решительно направился к раскачивающейся в лоферах как в лодочках Ленке. Он взял её за руку и утянул на дно. Мир сразу сделался уютным, замкнутым, приятным до мурашек, особенно, когда тугая, бархатистая ладонь, сползающая под силой гравитации чуть ниже джинсового пояса, корректно шелестела по тесной, крепкой ткани ферралитного комбеза, возвращаясь на исходную — пятнадцать сантиметров выше. Говорить было не надо, но хотелось, и от неги, пикируя в шизоидный криз, Ленка бряцала несвязным, чем-то отвлечённым, разметавшись в вестибулярных осколках самой себя. Он же отвечал впопад, ничего такого непонятного не говорил и всё, что наблюдал и слышал, казалось ему мучительным и диким. Некоторые фразы Глеба были по-библейски просты и звучны, в то время как Ленка «гнала феноменально запутанного синтаксиса», требующего, как минимум, должной отстранённости.
Слова ещё ворочали её тонкие как спицы губы, когда угасла песня и притух сам танец. На завершающем витке особо перегруженном эмоциями, она — через плечо кавалера — обмакнула личико в зеркало настенного трюмо. Поймала хорошенькое отражение себя и осталась довольна. Коснулась ресниц, проверяя лебединый изгиб, обещанный в ролике «Маскары», и тронула локон, дрожащий на виске диакретическим знаком, похожим на тильду. Она чувствовала себя неотразимой. Одновременно пленительная и пленённая, благодарила за танец, в тяжёлых лапах полуобморока хватаясь за соломинку — призыв скандирующего нараспев Тараса, посасывающего в проходе душисто-налитую грушу, которую он, должно быть, отыскал в её же травоядных закромах. Ленка подскочила к Бубе и взлохматила огненную шевелюру. Волосы, разделённые на прямой пробор, падали ему в глаза, и он откидывал их жестом клинического психопата. Словно герой ньюгейтского романа, в этом амплуа он напоминал отъявленного пикаро с гнусными мыслишками, коварного и обольстительного. Почему-то в такие моменты Ленка испытывала к нему много обострённых чувств, которые можно было бы назвать мучительно-приятными. Но не в этот раз! В этот раз необъяснимое томление сковало её при виде Бубы. Хотя она не подала и виду, ей всё казалось, что Тарас это точно словил каким-нибудь шестым чувством.
Чтобы исполнять роль верно, необходим немного привкуса цинизма — и надкусанная груша, каплющая липким соком, стала тем самым отпечатком вкуса. Ленка продолжала нахально вгрызаться в сочный плод, а Тарас всё выколачивал «нормальные» закуски, давя на то, что исторически уж так сложилось: мужчина носит мамонта, а женщина его готовит: шинкует, панирует, тушит — с кольцами лука, с долькой чеснока, а после подаёт к крепкому аперитиву. Мужчины говорят «спасибо» и целуют ручки, вспоминая, словно в страшном сне, овсянку с тыквой, сырые семечки и фрукты. Одним словом, посыл понятен: полуфабрикатный мамонт дожидается на полке холодильника острого ножа и хрустящего багета, и Ленка, прихватив подругу, под благовидным предлогом ретируется на кухню, только бы скрыть разоблачающий румянец на щеках.
Как говорил Гастон, кажется, в третьем томе «Полыни»: «мысленно пожмём друг другу руки в нашем признанном братстве… мы сходимся в одном, — да, мой дорогой друг, уверяю вас, совершенно сходимся! — в поклонении Себе». Куда же вернее сказать?
После спешного ухода Глеба чей-то голос из-за стенки, похоже Стёпин, потешно взывал цитатою из фильма: «Царь трапезничать желает!», намекая, что девушки на кухне подзадержались с «почками заячьими», «головами щучьими», а главное с «икрой заморской, баклажанной». Ленка обменялась насмешливо-унылым взглядом с Нэнси, махнула рукой и, со словами «Подождут — не переломятся», свинтила колпачок с бутылки, без церемоний приложилась к горлу. Сделала несколько широких глотков. На секунду глотку спёрло от крепости напитка, но уже через другую — какой-то паршиво-трусливой, потной вялостью в теле спиртное заструилось по жилам и упало в живот, раскрывая себя верным симптомом: внизу загорячело рыхлеющим шаром, таким тяжёлым, что он скатился к ступням и полыхал там, притупляя этим уютным жаром чувствительность конечностей. По-кабацки Ленка небрежно утёрлась рукавом и протянула алкоголь подруге, молчаливо предлагая ей стать собутыльницей.
Немало потакавшая своим неврозам, неизбежность разрядки Ленка получила только через полторы недели. Гнусные события в «Энималсленде» оставили неизгладимый след на её святынях и она решилась взять всё же выходной, с тем, чтобы «выдохнуть и наконец определиться». Она нацеливалась обдумать ситуацию, и даже, может, избавиться от тяжести возникших обстоятельств одной из двух бумаг (заявление по собственному или анонимка в «Антиживодёр»). Но вместо этого крепко обратилась мыслями к тому, что доводило до истерики больше «зоопарковой» истории. Не в силах подавлять живое, она думала о Глебе. Из-за её работы и неожиданного отъезда Стёпы с Ирой в Урюпинск, единодушным решением было постановлено: очередной пленум шабашистов не проводить ввиду большой недостачи «камрадов».
Очередной ещё не вышедший в свет номер «FAZIL'я» обрёл благодатнейшую тему неразделённого чувства и располнел если не совсем до неприличия, во всяком случае, вне всяких канонов по-газетному тонких двух минувших номеров. Двадцать две страницы тетрадно-рукописного пространства она посвятила эпитафии никелированной кровати со взбитыми перинами. Ещё шестнадцать ушли на рифмы скверного пиита Еноха Сомса, о котором, кажется, писал пародию Бирбом, о котором, в свою очередь, упоминал в эссе Во, тот самый романист, что написал «Чёрную напасть» и «Мерзкую плоть» — прекрасные и звучные вещи. Этот Сомс был не просто плохим поэтом, но и бездарным, отчаявшимся позёром, продавшим душу дьяволу за обещание посмертной славы. Славы он, конечно, не сыскал, но его два стихотворных сборничка показались Ленке откровенной пропагандой намеренной неясности, во всяком случае, изысканно богатые имитациями, симулякрами и аналогиями, они снискали уважения у Милашевич и даже положили начало белому стиху, напоминающему хокку.
Дальше третьей строки дело не пошло, но зато появилось красивое название на французский манер «Attendre»30, так что Ленка решила, что это и есть финал. Она прочитала свой дебют Тарасу, и он немедленно ответил ей на полях двустишием:
Тут от судьбы не жди прибавки,
Хоть ты изворотись весь наизнанку.
Ленка не обиделась, но в который раз заподозрила Бубу в обладании хорошей интуицией. Как показали события того же вечера, раскусить её секретик было совсем не сложно. В тот вечер Порховник не остался до утра, сославшись на необходимость хоть изредка, но появляться дома. Не в силах более сносить своей хандры, она решила: надо что-то делать, но прежде, чем мысль отлилась в конкретное решение, в коридоре возникла Нэнси. Едва за Тарасом захлопнулась дверь, она поинтересовалась у подруги совершенно буднично:
— Он тебе не безразличен?
Вопросительные интонации так слабо чувствовались в её вопросе, что это походило скорее на утверждение. Странно, Ленка сразу поняла, что речь не о Тарасе, что этим вопросом-утверждением Нэнси выводит её к остывшему разговору десятидневной давности. Переубеждать в обратном подругу было бы бессмысленно. Едва заметным кивком Ленку вынудили согласиться. Нэнси в ответ тоже кивнула, мол, подтвердились опасения, и с насмешкой в голосе поведала о «молчаливом сговоре». Закончила словами: надеюсь, после этого мы останемся подругами?
— Ты же отказалась? — зачем-то уточнила Ленка, словно от этого действительно зависел их дружественный союз.
— Yes of course, my darling.
Удивительно, но именно в этот момент ревность, кольнувшая однажды булавкой, ушла, как будто её и не было. Тлеющему огню раздражения не суждено было разгореться открытым пламенем вражды. Она вдруг что-то поняла. Во-первых, Глеб слишком «свирепое зелье», чтобы пить его такому тонкому ценителю, как Нэнси, во-вторых, жизнь омерзительна, но красота блаженна, а это значит, что принимать во внимание стоит только тех, кто осторожно или дерзко открывает эту истину. Разругаться с подругой из-за эм-чэ, с которым даже отношений нет — это мерзко и уж точно не красиво. Так сказала Нэнси. После они обнялись.
Но у Ленки втайне появился снова повод впадать в тоску и предаваться изысканно страданию. Подруга дважды была права. Да — ругаться гадко и, да — у Ленки с Глебом отношений нет. Вот это стремало более всего. Он ничего не обещал, он ничего не должен. То есть вообще! Он может приглашать кого угодно, куда угодно и зачем угодно. Три «угодно», официальных полномочий на которые у Милашевич нет. Она была вынуждена соглашаться и мириться с ситуацией, они обе знали цену этой истине, но, чёрт дери, от этого не становилось легче. Тогда-то, кажется, вот ровно в тот момент в голове у Ленки и созрел план наступления. Может это была и не дьявольски хитрая стратегия, а так, попытка запрыгнуть в уходящий поезд, но попытаться всё же стоило. Умоляющим шёпотом она попросила перезвонить немедленно Глебу и напроситься на поездку.
— Я не понимаю тебя…
— Что тут непонятного? — перебила Ленка смущённым лепетом, чертя по половицам носком полукруги, потупив взгляд, как школьница. — Скажешь, передумала.
— Но я не передумала.
— Я передумала! — Ленка заломила в бессилии руки и умоляюще посмотрела на подругу: — Пожалуйста! Я поняла, что нужно искать любой возможности быть с ним.
Она выдохнула, собираясь с мыслями.
— Короче, я еду с вами. То есть… ты едешь с нами.
— Интересно девки пляшут, — задумчиво проговорила Нэнси, подразумевая заведомо подвох.
Все эти дни она мучилась недоговорённостью и медленным разладом отношений с Леной, но никак не ожидала такого поворота после своего признания.
— Давай это срежиссируем! — не запросила — затребовала Ленка и добавила: — Ты яркий персонаж нашего паноптикума. Ницшеанский человек. Без тебя, видишь, вообще никак.
— Любопытно, что об этом думает сам Глеб?
— Есть только один способ узнать! — Ленка сняла трубку с рычага, висевшего на стене в прихожей телефона, протянула её Нэнси.
Глава 7. ДИОГЕН-СОБАКА И ТОВАРИЩИ
Длинную трубу котельной из краснокирпичной кладки — единственный ориентир с дороги — они приметили сразу. Глеб послушно, как советовал им старик в сапогах байкера и с жёлтой от табака бородою, встреченный у кольцевой развязки, принял вправо, обтираясь о высаженные плотной стеной пришоссейные заросли тальника. Щупая словно слепой шрифт Брайля, машина схватила бампером едва заметную прореху в куширях. Кузов выбурил лазейку до размеров бреши, в которую с пригорка ухнул весь автомобиль. От пересохшей промоины, бескомпромиссно съеденной подвеской «марка», тянулся обугленный давними пожарищами просек. Тонкий, как струна настроенной гитары, он звучал по букатой, увитой хмелем низине — если верить владельцу мотобайка — до самого села.
С количеством дворов Глеб промахнулся, откровенно сплоховал: только на въезде в село он насчитал по обе стороны дороги с два десятка узких прямоугольных двориков, половина из которых выглядела нежилыми. Деревянный дом, в отличие от каменных или кирпичных, коротал свой век, пока в нём обитал жилец, и ненадолго переживал отъезд обитателей — быстро ветшал, прогибаясь одним углом покатой крыши, становился похожим на коротколапого кота, решившего распрямить слежавшийся за ночь позвоночник и сделать «с добрым утром».
Глеб крутил баранку, молча раздувая ноздри. Руины церкви не просматривались. Не разбежишься, думал он, петляя по узеньким, безлюдным улочкам. Рваное полотно асфальта через пятьсот или шестьсот метров неспешной тряски стеклось к центральной улице, главным наследием которой был бронзовый Ильич на постаменте и деревянный, с крыльцом и резными наличниками в окнах магазин «Магазин», похожий на сторожку пограничников — из-за шлагбаума и реющего на флагштоке триколора. Шлагбаум облупился краской и под дождями полусгнил, флаг же превратился в ветхое рубище и был немало закопчён, словно его перед этим с месяцок или два потаскали на дизельном сухогрузе. Осколки полуразрушенной дремлющей системы накладывались друг на друга слоёным тортом, где сверху раскисшей ликёрной вишенкой вызревал могучий дух русского села. Дух имел кислый запах пригоревшей пищи и распаренного в лучах полуденного солнца коровьего навоза. Здесь гонка за успехом не проходила с восьми и до пяти, а оконченные поиски врождённого благополучия не предполагали наличие кредитного ведра о четырёх колёсах и многоэтажной бетонной клеточки с балконом (с видом на другой балкон). Здоровая альтернатива этому велосипед и покосившаяся одноэтажная халупа с будкой для дворняги и палисадником для лебеды. Исходя из тезиса «что надо, то запомнится, а что не надо, то забудется» русское село заполучило обширнейшую амнезию о заботах большого города, попутно избавив себя от всяких социальных благ. Свернув на запасную ветку вседозволенной реальности, оно провозгласило о намерении дать простор и безответственность — два самых спекулятивных компонента для городских приезжих.
Чувство большой неловкости оставалось и мешало Глебу. Промельк же понимания подсказывал ему, что он сражался беспрерывно с омертвением — не в прямом, конечно, смысле, а в отвлечённом, так сказать, абстрактном. Он жаждал не окостенения, но раскрепощения, высвобождения самых потаённых своих инстинктов, он жаждал, чтобы они вырвались наружу, и в то же время он страшился неуёмной их энергии, которая иногда, закипая, подступала к горлу, мешала нормально дышать и жить. «Если бы вы знали, — писал он коучу, — как я, грубо говоря, боюсь». Ему отвечали в должной манере: «Глеб, это всего лишь комплекс психологических реакций — реакций на определённую ситуацию. В более широком смысле твой modus operandi — добор поведенческих привычек для фомирования личности». Тот, кто это писал, прекрасно знал, как важно Глебу лишний раз напоминать о том, что он — незаурядная, интересная, неоднозначная личность. Важно — потому что в такой интерпретации modus operandi легко склонялся к modus tollens31. Что-то вроде, если бы ты был заурядным, то не мучался по такому пустяку тревогами, но: ты — не заурядный. А дальше — больше. Если ты боишься, значит, претерпеваешь риск. Но если ты уже рискуешь, значит ты не боишься, что не попробуешь, ты боишься, что не получится. Но и не получится — пока не рискнёшь.
Рассуждая подобными схемамами, можно легко уйти от истинных посылок к ложным заключениям, но разве не этого добивался столь усердно Гарибальди? Вообще, Глебу было сложно конфронтировать с ним — смотреть в лицо, быть лицом к лицу. Вот тебе говорят: ты авантюрист, но не авантюрист в высоком смысле. Ой ли? Как тут реагировать? Обижаться, утешаться, спорить? Да, Глеб — хитрец и в общем, чего там говорить, подонок, и относиться к себе не иначе как с подозрением не мог. Однако делегировать предположения о предосудительности своих поступков другому человеку — человеку, который по роду своей деятельности протоколировал сразу пять листов, промеженных копирками — всё равно, что расставаться с чувством равновесия в надежде, что тебя, плашмя летящего на спину, подхватят и опустят. Да, однажды из-за разболтанности делопроизводства Глеб натолкнулся в одном локальном акте на «ориентировку» на самого себя, те самые «пять листов, промеженных копирками»: подонковская натура, как гиперкорректированный эрратив диссоциального воспитания и контркультурного влияния. Немного покалеченный строчками сухой манеры изложения, Глеб всё же оценил психоанализ мегрела Гарибальди. Сильно, ничего не скажешь. Этот подхватит, но — не отпустит, будет держать на крючке математически выверенной и эмоционально выхолощенной максимы, такой очевидной, такой явной, что и не поспоришь. Глеб и не спорил. Конечно, время ещё подтвердит его правоту: страшная изнанка любого всемогущества, любого доминирования над чем бы то ни было — неизменно утрата контроля, потеря управления и крутое пике вниз. Хотя, наверно, возможен выход вверх. Это же как в сексе: человек бывает либо зверем, либо богом. Так думал Глеб. Вот, где точка отсчёта: можно было воздержаться. Ничем не рискуя, ничего не страшась, он мог тогда просто отказаться. А мог ли?
Тот памятный февраль выдался урожайным на кровавые налёты. Досталось всем, но по отдельности. Он первый угодил в раздачу. По собственной инициативе. Уличные выступления у Мариинки. Демонстрацией их, конечно, в газетах обозвали сгоряча. Так, вышло тридцать молодчиков с плакатами потоптаться в февральских сугробах да посудачить о том о сём. Бессмысленный, но грандиозный хай с ментами был спущен сверху, по указке, это Глеб уже после узнал, на дознании. Пока сидел в изоляторе, заряженный по полной — на двое суток, с отцом случилась беда. Таинственная, окутанная тайной драка без участников и свидетелей, с единственною жертвой, доставленнной сперва в травмпункт на Хрулёва и почти сразу в Боткина. Всё время, пока отец оставался на больничной койке, пока он ещё был жив, Глеба держали в обезъяннике. Всё же они успели повидаться. Судьба подарила им этот день. Он с трудом узнавал сына, его речь была малосвязной и будто бы прощальнойй. Глебу показалось, в тот вечер отец испытывал потребность в покаянии. Наверно, предчувствуя скорый бесславный финал, он искал оправдания своей жизни и хотел закрепиться если не жене, то хотя бы в сыне. Глеб ничего не сказал ему о задержании, подписке о невыезде и уголовном деле, возбуждённом по факту наличия двух граммов эфедрина в кармане куртки (на состав статьи 228 как раз хватило). Мотив правоохранителей был прост и прозрачен: менты шли по самому простому пути — «рубили палки» по наркопреступлениям с помощью подбросов, а заодно эффектно грозили пальцем «ай-яй-яй» некоторым не в меру оборзевшим пострелятам. Глеб был выбран на роль «показного» — ему и ещё четырём «деклассированным» суждено было тянуть лямку остальных, которых без всяких протоколов и бесед отпустили на следующий же день.
Так думал Глеб. На самом деле (это он узнал гораздо позже) одного факта изъятия наркотика из кармана совершенно недостаточно для того, чтобы признать человека виновным в хранении. Тем более, интуитивно Глеб повёл себя исключительно грамотно. Загружаться добровольно по статье не стал, сказал при понятых, как есть: «Делов не знаю, наркотики не употребляю, пакетик вижу впервые, от дачи объяснений отказываюсь». Эту же формулировку он вписал в бланк письменного объяснения, присовокупил «Записано собственоручно» и скрепил заявление подпиью. Ему предлагали расписаться и в других документах: протоколе досмотра, акте изъятия. Глеб читал внимательно и вдумчиво. Его торопили, он не спешил — торопиться уже некуда, а сотрудники подождут — это их работа. Он ещё не знал, что таким образом менты паковали матчасть для зауряднейшей вербовки. Но Глеб, будто нарочно, паковаться не хотел. Его отпустили, но дело всё же завели, или, во всяком случае, убедили в этом Глеба.
Через неделю после похорон два неизвестных парня в капюшонах нахамили матери в подъезде дома и выхватили сумку, порезали, пригрозив на другой раз исполосовать лезвием её. Порезанную сумку сбросили тут же у подъезда, в урну, для проформы забрав из кошелька тысячу или две с какой-то мелочью. Ерунда. На дорогое обручальное кольцо вдовы они даже не позарились. И сумку трясли не слишком усердно: пропустили эмалевую брошь, которую мама перед поминками вложила в конверт, а тот в подкладочный карман на «молнии». Нет, это были не грабители. Грабители не обещают вернуться, они как снаряд: в одну воронку дважды не падают. Глеб был уверен, нападение на мать — дело рук ментов. Припугнуть через родных — это очень даже в стиле органов. Додавить, поломать, одолеть любой ценой, и Глеб понял, из этой истории ему сухим не выйти. Чтобы идти до конца, как протестующий монах, надо иметь силу, которую даёт только искренняя убеждённость. Убеждённость Глеба была в одном — власть ошалела от безнаказанности и что-либо противопоставлять ей, значит переклафицироваться из протестующего монаха в безрассудного камикадзе.
Так что Глеб кривил душой, рассуждая, что у него был выбор добровольного отказа от сотрудничества с «продюсерами». Следак, крепкий пенс в старомодном галифе и с беломориной под золотою фиксой — галимый закос под народного комиссара — помнится, ещё смешно так говорил: «бродюэсер», волочил, как верёвку слово. Это раскатистое «…эсер» ещё долгим эхом блуждало в ушибленной сапогом голове. Уже тогда Глеб немного представлял сколько козырей было на руках «бродюэсеров». Как же он недооценивал их! Но сейчас, сейчас он отлично представляет, прекрасно видит эту кухню изнутри, так какого чёрта убеждать себя в обратном, сожалеть, досадовать или раскаиваться? Не такой уж он человек, Глеб Иванголов, чтобы принимать такое положение вещей. Нет, если приходит образ, он будет его брать, а уж после подбирать, как отмычку к сейфу, интерпретацию, зависеть, сомневаться, доводить себя до патологии, но непременно прояснять контекст. Как знать, может только так и избавляются от примет кризиса режима, от соблазнов толпы, наконец, от заблуждений провозвестника важных открытий. Нет, всё-таки хорошо, что был и есть страх, страх мог научить всему, в особенности, фальши, и даже счастливой возможности отделять её от истины, которая, как известно, где-то рядом, прикрыта флёром обплотнённых образов.
Вырывая цепким глазом из омертвелого пространства политический оксюморон, Глеб невольно восхищался. Зловонное дыхание «красного» прошлого тесно сливалось в единый спазм с «белым» настоящим, становясь похожим на насильственную асфиксию. Забронзовевший вождь мирового пролетариата безмятежно соседствовал с российским триколором, под которым когда-то белогвардейцы боролась за единую Россию (за что боролись, на то и напоролись — пенять не на кого). На угловом повороте его слегка прибило к пассажирке. Ленка чуть отодвигалась, чтобы не мешать свободному ходу рычага коробки передач, но удержаться порою было сложно. Раз или два она будто невзначай косалась бедром ладони Глеба. Глеб ощущал эти касания, ощущал волнующее тепло сквозь тончайшую ткань пышного сарафана. Он скользнул по Ленке взглядом и указал на загаженного воробьями Ильича и развевающийся рядом триколор.
— Пора решительно покончить со всеми замшелыми предрассудками, и наконец-то выкорчевать всех ильичей на переплавку.
Ленка впилась глазами в цементный пьедестал с демонтированной гранитной облицовкой, в шест с болтающимся лоскутом, простроченным стежками лёгких перистых облаков. Её брошенный взор соскользнул на обрамлённый подковой штакетника магазин «Магазин». Ограда, заваливаясь, шла воланом и, казалось, держалась только на атланте с голым торсом, подпиравшем забор своей натруженной спиной. У мужчины был классический загар алкоголика: белые следы от майки на бретельках, а засвеченные руки, плечи, шея — насыщенного цвета корабельного сурика. Он весь был в тонкой пудре пыли и только красно-оранжевое лицо пылало и лоснилось масляным блином. Возможно от обилия соляриевых масс, нещадно струящихся с полуденного небосвода, атлант расправил плечи и неожиданно низвергнулся в бурлящую пучину сорняков. Ленка сдержанно хмыкнула и углубилась в раскрытый на коленях атлас в мягкой, жёванной теснотою бардачка обложке.
— Пойти, что ли, синяка терроризнуть? — обратился снова к Ленке Глеб, но она, казалось, его не слышала. Зато его вопрос заставил колыхаться на заднем сиденье скрюченную в три погибели фигуру.
Нэнси проснулась и теперь недоумённо вертела головой, отмечая без эмоций бросовую старину, раскиданную щедро по округе. От едва сдерживаемой нервной зевоты ей заламывало челюсти. Вид у неё был хмурый и безразличный ко всему.
— Приехали? — спросила она и, вцепившись в подголовник, умоляющем шёпотом сообщила впереди сидящей Ленке. — Хочу писать!
— Нэнси нужно поправить макияж, — передала Ленка просьбу Глебу.
— Это всё, что может сообщить мне штурман?
— Солнце, я не виновата, — живо откликнулась Ленка, — что твоими холёными генштабовскими картами пользовался ещё генерал Горох.
Ветерок бесподобно шевелил её филированную шевелюру цвета вызревающего в тени каштана. Лена хотела сказать вместо «холёными» — «хвалёными», но неосознанно и безотчётно вложила в свою речь оговорку в стиле Бубы — ляпсус, как она сама их называла. Зачем надо было это делать, она едва ли могла бы объяснить. Может, такой причудливой манерой она заглаживала перед ним свою вину. Поправлять её никто не стал, все сделали вид, что не заметили, или, может, в самом деле не заметили.
— Здесь даже не обозначены заправки и платные дороги, — с укоризной добавила Ленка.
— Ага, — в тон ей поддакнул Глеб, — только тракты и уезды.
— Да, именно так. Странно, что мы таким макаром попали в Старые Чернильцы, а не в какую-нибудь Тверскую губернию.
— Черницы, — поправил Глеб. — Правильно, Старые Черницы.
— Так мы ещё не в Изборцах? — расстроилась Нэнси, обеспокоенно оглядывая затылочный бугор над воротником Глебовой рубахи в стиле рекламного ковбоя.
— В Изборцах, — успокоил он. — Но «марку» это стоило двадцати лишних километров бездорожья, ободранной полироли и пары сотен жуков, расплющенных по ветровому.
Глеб обернулся к Нэнси и вместо валика затылка она увидела его подвижное красивое лицо.
— Сейчас у магазина припаркуюсь.
— На дорогу, — закричала Ленка, — на дорогу смотри!
Крупная дворняга с валяной шерстью — не собака, а сплошной колтун — трусцой обогнала машину и блаженно посеменила наперерез, учуяв что-то интересное. Резким движением Глеб вогнал педаль в пол по самую шляпку. Автомобиль конвульсивно дёрнулся и Ленка неуклюже клюнула лицом в схемы картографии.
— Твоя коллекция расплющенных жуков сейчас могла пополниться экспонатом покрупнее! — не на шутку разозлилась она. — Я этого тебе, Глеб, ни за что бы не простила.
— Вот же лахудра! — зло обругал он псину и, перегнувшись в открытое окно, заорал: — Что, ласты захотела склеить? Ты бы у меня и сявкнуть не успела, шкура!
— А меньше надо пялиться по сторонам! — ледяным голосом проговорила Нэнси.
— Так ведь… — проговорил Глеб и осёкся.
— На что тебе, любезный друг, даровано зеркало заднего вида?
— Уж точно не для того, чтобы крутить башкой!
— Воу, воу, бабоньки, не всей сворой, по очереди, — запротестовал Глеб, разворачивая машину перед магазином. — Что-то у нас климат в салоне не очень-то здоровый. Надо бы проветрить!
— Это надо тебе… башку проветрить! — огрызнулась Ленка, зашвыривая атлас обратно в бардачок.
С самого утра настроение у всех было подпорчено неожиданной перенастройкой предстоящего вояжа. Накануне, узнав по телефону о готовности Нэнси ехать, но с условием, что Ленка составит им компанию, Глеб не выражая особого восторга, крепко задумался и замолчал, но — поспешив объявить о свободном четверге — был вынужден ответить смирительным согласием. На утро в Ленкиной квартире забряцал звонок городского телефона. Звонил Глеб. Прерываясь на еду, он извиняюще цедил с набитым ртом причину: возникли неотложные дела и он вынужден перекроить свой день. Через четверть или, может, половину часа звонил снова и уверял, что у него всё же получается и он рассчитывает быть в назначенное время. Но в назначенное время серебристо-голубой «тойоты» под окнами квартиры не оказалось. Не появился Глеб и через час. Мобильный телефон плевался длинными гудками и моментально запаниковавшей Ленкой это было расценено, как его нежелание брать «балласт».
— Глупости говоришь, — утешала подругу Нэнси. — У него в самом деле могут быть дела.
Но в душе она радовалась расстроенным планам, так как не видела глубокого смысла в Ленкиной стратегии навязывания. Ко всему прочему Нэнси не успевала выполнить заказ Савелия Витольдовича к сроку и ей не хотелось терять драгоценный день на бессмысленную, как ей казалось, Ленкину затею.
Глеб появился в дверях квартиры только в десять, на полтора часа позже оговоренного времени. Заметив, как дует губки и точит зубки Милашевич, он предложил ей место рядом с ним и помощь в укрощении маршрута, провозгласив её марк-штурманом. Предполагалось выиграть потерянное время на трассе и добраться с ветерком к одиннадцати. После двух с половиной часов изнуряющей дороги, прилично поплутав по соседним Черницам, троица не в самом лучшем расположении духа добралась до пункта назначения. Молча, недовольные друг другом, они разошлись по разным сторонам машины, как только щелчки «ручника» и заглушенный двигатель ознаменовали лимитирующую стадию их затяжного путешествия. Лена и Аня утопали по накатанному проселку к дикому полю с косматыми чертополохами, а Глеб, поигрывая брелоком от сигнализации, с раздумчивостью полководца перед генеральным сражением, двинулся зигзагами к месту падения атланта.
С трудом и не сразу отыскав того в неестественной позе с биомеханикой «крадущегося тигра, затаившегося дракона», Глеб не смог сдержать одобряющей улыбки. Больше всего это походило на эпизод детской игры «Морская фигура, замри». Отгадать обомлевшую фигуру не представлялось возможным, возможно, всему виной была бессмысленная эргономика упора лёжа. Она ломала всю картину восхищения. Созерцая её несколько мгновений, Глеб всё же легонько пнул позёра носком ботинка и попытался завести с ним непринуждённую беседу.
— Салют алконавтам! — сказал он. — Какой виток вокруг Земли делаешь?
Ответа не последовало.
— Эй, слышишь? Как проехать к храму?
Абориген не шелохнулся. Глеб заузил глаза.
— А ты часом не сморжопился, дядя?
Фигура в сорняках продолжала демонстрировать всякое отсутствие симптомов жизнедеятельности. Глеб потянулся в карман за телефоном, наклонился и сунул мобильник экраном вверх под нос лежащего мужчины. Затемнённый дисплей слегка запотел от незаметного, неровного дыхания.
— Кто ж с утра синячится в такую жопень! — покривился он, тотчас отметив скверный запах перегара, портянок и дешёвой водки.
Абориген неожиданно отодрал приплюснутый затылок от травяного дёрна и тряхнул засаленными космами, будто пытался оправдаться, но вместе этого издал непристойный звук. Глеб усмехнулся и благодушно замахал вслед:
— Не требую ответа, ибо риторический вопрос. Герменевтика и алконавтика форевер, дядя!
Он оставил наедине со своими мыслями атланта, а сам проследовал в раскрытые настежь двери магазина, где среди липких мушиных лент обнаружил пергаментного вида девицу в крестьянском платье с эффектом многослойности. Через портативный, установленный прямо на прилавке телевизор она смотрела, судя по звукам, какую-то наукоёмкую программу. Ящик рушился от терминов из мира медицины, вылетавших из накрученного до предела громкости динамика. Её рот с опущенными углами хранил застывше-недовольное выражение. По ту сторону экрана обсуждали трансгендеров и операции по смене пола.
В жаркой духоте местного сельпо Глебу вдруг сделалось до одури невыносимо. Потребительская кооперация, обставленная преднамеренно безлично, выбором продуктов и напитков напоминала ассортимент ларька из девяностых: маргарин, сушёные бананы, сигареты, шоколад, жвачка. Пиво — все цифры «Балтики», включая популярную «девятку» — гнездилось на уровне глаз неприступной цитаделью с остроконечными башнями золотогрудого «Миллера». Лафеты пивного крома были заставлены водярными чекухами, а головокружительная перспектива верхних ярусов увита немногочисленным элитным пойлом — кизлярским пятизвёздочным коньяком и дагестанской настойкой Тарки-Тау в единственном экземпляре объёмом ноль-семьдесят пять. Вопрос «А где у вас тут храм?» мог быть расценён, как тонкий сарказм или форменное издевательство. Глеб решил, что начать разговор удобно было бы с покупки. Он поздоровался и протянул на прилавок пятисотрублёвку. Попросил минералку в стекле и добавил: «Без сдачи».
Девица тряхнула головой. Её лицо с кошачьими миндалинами глаз приобрело озадаченное выражение. Она неопределённо хмыкнула — то ли сомневаясь, то ли соглашаясь. Глебу стало грустно и захотелось сострадать этой разнесчастной жертве обстоятельств, волею ветров не выдутой в манящий близостью огней и выполнимостью желаний мегаполис, в который — он был абсолютно уверен! — свинтил весь деревенский молодняк, всё подрастающее племя этой умирающей, забытой богом деревеньки. Он отметил про себя, что роль лимитчицы, к примеру, подошла бы для девицы. Это было бы смешно, если б среди этого не жить… Его взгляд стал спесивым, цепким. Рассеянность и невнимание уступили место наблюдательности, какой-то безукоризненной надменности. Его взгляд пробивал насквозь, как смертоносные лучи Рентгена. От этих взглядов люди отводили в сторону глаза или, будучи иного склада, буравили в ответ — кто пересмотрит!
Проводя контрольные эксперименты на малознакомых людях, Глеб пытался определить их уровень защиты, как сказал бы Гарибальди, толщину брони. Попыток милитаризации он никогда не предпринимал, не «прощупав» фирменным приёмом человека. Если он и разговаривал, то только глазами. Такая перлюстрация могла сказать о многом. Перед ним стояла замухрышка лет двадцати или около того, ничем не примечательная, неинтересная ему с точки зрения следопыта или зверобоя. То есть зверь как зверь, вернее: зверёнок, точнее: зверюшка.
С видом утомлённого превосходства Глеб отливал слепок оголтелого впечатления. Никакой крайней нужды в том не было. Сейчас он проводил «досмотр» исключительно для навыка, на уровне условного рефлекса. Это желание наполняло его точно так же, как чувство бодрости наполняет от запаха кофе, который ещё вне организма — ещё в кружке, но мозг уже даёт сигнал и заставляет реагировать нервную систему.
Забавно, но «зверёк» хотел казаться хищником: девица и не думала отводить глаз, и молодому человеку было невдомёк, что его прочитывали точно так же, как и он. В нём безошибочно признали пришлого, нездешнего. Девица прикрутила громкость до нуля и объявила как-то слишком жизнерадостно:
— В Кащенко сегодня неприёмный день.
Возникла пауза, как по Станиславскому. Глеб зажмурился и показал белые зубы.
— Говорю, в психиатричке вторник и четверг для посетителей закрыто. Не знали, да?
Глеб предостерегающе поднял палец.
— Вы меня ни с кем не путаете?
— Ой! — рассмеялась девица в голос, и это, надо признать, ей очень шло. — Я думала, вы навестить кого-то из родных приехали…
— У меня нет таких родных! — сказал он, интонемой выделив «таких», и в воздухе снова повисла пауза, но уже по-чеховски красноречивая, звучащая. Темп их водевиля, впрочем, требовал чуть большей спешности и Глеб продолжил всё-таки вопросом — самым первым, что пришло ему на ум:
— А у вас тут и дурка имеется?
Спросил он об этом отрешённо и даже буднично, при этом трагически вздохнул — мхатовские аналогии не давали покоя.
— В Сиворицах, — кивнула она и показал куда-то в сторону полок с бытовой химией.
— О как! С ума сойти можно! — невольно скаламбурил Глеб, сцапав с прилавка бутылку лечебно-столовой, но проигнорировав сдачу, всё-таки выданную ему на блюдце с отбитым краем. — Нет, я, конечно, стремлюсь к сокровенным местам, но психбольница не входит в этот перечень.
— А-а! — вдруг просияла девица. — Я поняла, вы из лагеря паломников.
— Каких паломников?
— Христианских.
— А-ах, христианских, — произнёс он сюсюкающим и слащавым голосом. Его начинала откровенно злить эта игра в угадайку. — Опять мимо. Хотя нет, ранили. Сокровенное и святое — для меня, конечно, разные понятия, но как раз сегодня они схлестнулись в единую цель. Я ищу дорогу к храму.
— Николая Чудотворца?
— А что, у вас тут много храмов?
— Нет, только один, — склонила голову девица, — и тот порушен. Но есть скромный приход в деревянной часовне, где идут службы. Рядом со старой церковью.
— Вот он мне нужен.
— Вы точно не из лагеря паломников? Из Питера вчера ребята с палаткой стали на развалах. Примерно вашего возраста.
— Во избежание недомолвок, — качнул головой Глеб, — уточним. Я не верю в христианство, как в религию, но! — я верю в космополитизм, как в идею.
Девица покраснела, подкупая обворожительной простодушностью, и стала похожа на школьницу, не вызубрившую урок.
— И что это значит?
— Это значит, что на земле есть только одно место поклонения. И это могила Диогена.
— Мы таких не держим.
— Точно? — рассмеялся Глеб. — Уж ни его ли эманация в обличье пса шныряет по деревне?
— Не поняла, ф-фф… — фыркнули в ответ, и краска ещё больше залила лицо девицы.
— Ну, это ожидаемо. Ладно, проехали…
Она не ответила, хотя лицо её приняло в известной степени безучастное выражение. Девица достойно старалась делать вид, что дерзость, с которой отвечал Глеб, ничуть не колеблет её достоинство.
— Так как пройти к храму?
— Что вы здесь всё-таки делаете? — вопросом на вопрос ответила она.
— Разжигаю ваше любопытство, — отшутился Глеб и снова, мягко, с нажимом повторил вопрос: — Так как пройти к храму?
— Бесполезно. Он закрыт.
— Как? И он тоже? Весело у вас тут, ничего не скажешь. Практикуете сиесту? — Глеб уловил непонимание во взгляде продавщицы и надменно пояснил: — Традиция послеобеденного сна. Всё закрыто, никто не работает.
— Я работаю, — почему-то обиделась девица, — а приход, я же сказала, скромный. Он для посещений только по воскресеньям открыт… и большим православным праздникам. Ну, знаете… — девица вдруг принялась перечислять: — Рождество, Сретение, Успение, Преображение…
— Побуждение, покушение, сожаление, — покивал Глеб. — Вот три главных события христиан с точки зрения уголовного права. Но это так, к слову. И много в деревне богомольных?
— Почти нет, — сказала она и по её избыточной конфессиальной эрудиции Глеб понял, что нарвался как раз на набожную.
Впрочем, вслух, покосившись в сторону стеклотарных башенок, сказал:
— Молитесь, значит, другому богу! У забора вот один аскет успел уж скапуциниться.
Дожидаясь реакции на вызывающую грубость, он поддел ключом кружевную оборку крышки, рычагом выдавил её и жадно сделал несколько глотков из бутылочного горлышка. Запрокидывая голову, Глеб краем глаза отметил подтверждение своей гипотезы: в углу висели три иконки святых, наклеенные в ряд на плакетку. Вроде тех, что лепят на торпеды истинные гностики, с той лишь разницей, что иконки висели не на всякий случай и не как древний тотем: это был самый настоящий «красный угол».
Послышалось не очень одобряющее «Ц-ц-ц…». Брошенная Глебом фраза возымела действие. Упрёк, чуть ли не презрение заколыхались в краешках резко опущенных губ. Девица загорелась возмущением, но ответить Глебу не успела. В магазин вошли — нет, дружно вломились с возгласом «А вот и он!» — Ленка и Нэнси.
Глеб с трудом скрывал досаду. Некстати появились, невовремя, подумал с лёгким недовольством он, рассчитывая повыспрашивать у продавшицы про икону. Он вызвал девицу на эмоции и хотел этим пользоваться. Как учили. Эмоция — чрезвычайно полезный антидот для интроверта. Когда человек на эмоциях, он говорит, что думает, иногда не думая, что говорит. Глеб улыбнулся этой фразе — и Ленка тут же восприняла на свой счёт и слабо, наконец оттаяв, тоже улыбнулась — в ответ.
— Мы решили, ты сбежал!
— Без своего верного коня, — удивился Глеб, — куда же я сбегу?
И он подчёркнуто поворочал пальцами брелок.
— И конь взовьется на дыбки, и прянет по снегу намётом, туда, где скрылись казаки на громкий говор пулеметов, — проговорила Нэнси и извиняюще пожала плечами, мол, ничего не поделаешь — навеяло!
— Нэнси, кажется, нашла то, что мы искали. Случайно! — сказала Ленка. — Надо к ручью спуститься.
— Там за чертополоховым полем я видела крест с крышей, — подтвердила очевидец и кивнула. — Высокий!
— Крест с крышей? — Глеб классическим образом почесал в затылке, не понимая о чём идёт речь.
— Это поклонный крест, — послышалось из-за прилавка.
Девица подошла к одному из двух окон, расположенных друг напротив друга. Отодвинула посеревшую, в мушиных пятнах занавеску и поманила Нэнси.
— Правильно говорить не «крыша», а голубчик, — ласково произнесла она и упёрла пальчик в пыльное стекло. — Видите дорогу за шлагбаумом? Она ведёт к развалам старой церкви. Но на машине не проехать. До воскресенья точно никак, — она многозначительно посмотрела на Глеба, затем перевела взгляд на Нэнси. — Я уже сказала вашему другу, что приход до воскресной службы закрыт. Но свечу за упокой вы можете поставить у поклонного креста.
— За упокой? — удивлённо переспросила Нэнси. — Чей?
— Диогена.
— Нет, нет, — Глеб поспешил вклиниться в разговор, — у моих спутниц нет никаких предубеждений на этот счёт.
— Да, только гордость — и никаких предубеждений, — по-своему истолковала ситуацию Ленка и добавила: — Мы хотели бы взглянуть на одну икону.
— Я знаю все иконы там, — без хвастовства, честно, как есть сказала девица. — Вы о какой говорите?
Ленка запнулась, мучительно припоминая, и молящим взглядом обратилась за подсказкой к Глебу.
— Никола с мечом и градом, — подсказал он.
— Но почему? — изумилась девица.
— Насколько мне известно, — сказал, помедлив, Глеб, — её писал один художник-примитивист. И это как раз любопытно!
— Что любопытного, не понимаю…
— Я — вернее мы, — он обвёл руками их компанию, — молодые художники и мы… вернее, я… пишу диссертацию о расцвете наивного искусства. Особенно мне любопытны патриархальные условия жизни в деревнях, где ещё сохранилась связь… м-мм, образного мышления художников-самоучек с традициями… э-ээ, фольклора.
— Иконопись — это не фольклор, — неодобрительно покачала головой девица.
— Здесь я не могу согласиться, — запротестовал Глеб, окончательно входя в роль. — Фольклор, иначе говоря народная культура, включает в себя и иконопись, и церковное летописание, и даже литургическое пение. Каждое из этих понятий принадлежит определенному культурному пласту. Мне же — нам же! — интересней всего искусство самодеятелей — пресловутый лубок, но именно в контексте иконописи.
На мгновение, на секунду Глеб прикрыл глаза, чтоб сморгнуть это наваждение. Откуда источник изобретательского драйва, спросил он сам себя, откуда это шерстяное словоблудие экспромтом? Ведь это не его манера. Или это тот случай, когда яркость вымысла важнее самой идеи? Неизвестно каким ветром надуло в голову подслушанную мысль: нам не важно, как достигнут результат, нам важно, что он правильный. Да, но слишком безответственно, одёрнул он себя, слишком легкомысленно, в скоропалительных придумках легко запутаться… Он бросил короткий взгляд на Нэнси, на Ленку: смутила ли их хоть немного его беззастенчивая выдумка? Милашевич кидала на него подозрительные взгляды, а Окунева… «Смутила» — мягко сказано, восторг — это последнее, что могло выражать её окаменевшее от напряжения лицо. А девица, та купилась, повелась на его развесистую клюкву. Она качнула головой, как бы вроде соглашаясь со всем услышанным, и это вселило в Глеба решительность держаться и дальше намеченного курса.
Глеб правильно считал флюиды чужих эмоций. Нэнси отнюдь не разделяла ультимативности обмана Иванголова, сделавшего по умолчанию соучастницами девушек. Всегда очень неприятно обнаруживать, что охотно верят как раз тому, кто этого менее всего заслуживает. Она хотела возмущённо вскинуться и опровергнуть слова лжеца, но Ленка незаметно ущипнула её за запастье и сделала большие глаза. Повергнутая в замешательство, Нэнси молчала.
— Это правда, вы художники? — Девица невинно подняла брови.
— Да! — Глеб продолжал лгать. — Все трое.
— Тогда вам будет интересно пообщаться с Сан Василичем.
— Это кто?
— Автор иконы, которая вас интересует.
— Он отсюда родом? — удивилась Ленка.
— Я не знаю откуда он и где родился, — призналась девица, — знаю только, что до того, как появился здесь, работал оформителем, увлекался живописью и делал попытку обучаться иконному писанию в Псково-Печерской лавре. А потом попал в нехорошую историю.
Она встала у двери и сложила на груди руки. Видя, что Ленка выказывает нетерпение, дожидась, очевидно, продолжения истории, добавила:
— Ему голову сильно ударили. С городскими подрался, что ли. Монахи выходили, но он после того случая будто тронулся рассудком. Стал бросаться на послушников, пытался спрыгнуть с колокольни.
— И его, стало быть, упекли в Кащенко! — ухмыльнулся Глеб. — Ну, понятно.
— Как вижу, вам смешно, — надувшись, сказала она.
— Нет, — на лице Глеба застыло подчёркнутое безразличие. — Думаю о том, что как-то очень много беспричинных драк на улицах.
— Его отца в уличной потасовке до смерти избили, — пояснила Ленка.
— Понятно, — грустно кивнула девица. — Толпа всегда страшна — вот ещё в чём дело. Даже просто куча.
— И что «толпа»? — не поняла Нэнси. — Она» разве убивает?
— Она может, — тихо ответила девица, — но иногда просто давит. До невозможности жить.
— Толпа всегда права! — высказался Глеб. — А если ты считаешь, что толпа не права — возглавь толпу и дай ей свою волю.
Это прозвучало нагловато и девица нахмурилась.
— Откуда такая информированность? — не сбавляя бесцеремонного тона спросил Глеб.
— Моя родная тётка, ещё до инвалидности, состояла в общине сестёр милосердия и помогала в уходе за больными. Сан Василич — её бывший подопечный, ну и я с ним немножечко знакома…
— Да? — не унимался Глеб. — Откуда?
— По изостудии. Благодаря тётушке и её обширным связям мне дважды в неделю разрешают посещать терапевтические курсы рисования при клинике. Я уже шесть месяцев хожу туда, а Сан Василич читает лекции. Не часто, иногда. У него интересно получается. Ни за что бы не назвала его умалишённым.
— А кто его так называет? — изумилась Нэнси.
— Все. Кроме тётки. Правда и она говорит: если тебя закрыли в психиатричку на десять лет, наверно, это что-то да значит. Хотя сама же утверждает, что на телевидении ненормальных больше и форма их шизоидности острее. Но их-то не «закрывают».
— А что сама думаешь? У тебя мнение своё есть?
— Насчёт телевизионщиков? — покривилась девица. — Ханга точно странная, а Бахметьев — вообще с другой планеты. Но он красивый, по крайней мере…
— А Сан Василич? — улыбнулась Нэнси.
— Он симпатичный, хотя для меня старый. — Девица перехватила ухмыляющийся взгляд Глеба. — А, поняла. Нет, ну, у него много написанных икон, но они больше похожи на картины, он, как сказать, не любит соблюдать академический стиль. Никола Можайский, написанный им в виде образа Николы с мечом и градом, не исполняет, например, всех церковных положений иконописи. В широком смысле, вы правильно сказали, это и есть лубок.
— Как же икона смогла попасть в храм, если её писали не по канонам? — удивилась Нэнси.
— Отец Виктор, это бывший настоятель нашего прихода, в своё время очень хорошо относился к Сан Василичу. Он наводил о нём справки в Псково-Печорской лавре: тот был смиренным послушником и много трудничал во славу Божью.
— До известного случая, — съязвил Глеб. — Бросаться на беззащитного монаха — дело нехитрое, а попробовал бы он проделать то же самое с кем-нибудь из Шаолиня. Его бы так отделали… во славу Божью.
— Ш-ш! — осадила Глеба гневным шиком Нэнси. — Что ты говоришь? Человеку раскроили голову, он потерял рассудок, мог даже жизнью поплатиться. Какая его вина?
— А может он денег задолжал! — попытался пошутить Глеб, но Нэнси покачала головой — не смешно. Глеб на два оборота закрыл воображаемым ключом рот на замок, улыбнулся извиняюще — «больше так не буду».
— Батюшка, — между тем продолжала девица, — всячески поощрял его попытки вернуться к иконописным сюжетам. Поэтому «Никола» оказался в храме. Так рассказывала тётка.
— Ты, наверно, сама хотела бы стать иконописцем? — заметила Нэнси.
— Как вы догадались? Я бы хотела, да. Но это планы далёкой перспективы. Сейчас не это важно.
— Что может быть важнее, чем мечта?
— Обязательство. — И пояснила: — Человек несет ответственность перед близкими людьми за неоказанную помощь и неуслышанные просьбы. Моя тётя — инвалид первой группы. Я собираюсь оформить опекунство, опекуну надо иметь постоянный доход.
— Поэтому ты здесь, — сказала Глеб. — Благородная миссия. Ты молодец!
— А ты не очень! — сказала Нэнси, чувствуя подкативший к горлу комок, и нехорошо посмотрела на Глеба.
— Откуда эта хлестаковщина? — спросила она, когда минутой позже компания вышла на скрипучее крыльцо магазина «Магазин» и, нарушая броуновское движение барахтающихся в пыли воробьёв, медленно побрела к машине.
— Заветные авторские мысли, — сказал Глеб, нацеливаясь брелоком в «марка», заставляя того заискивающе моргать «аварийкой» и торопливо отпирать двери. — Это был экспромт. Пальцем в небо. Я думал, вы оцените. Мне казалось, — с притворной обидой сообщил он.
— Я думал… мне казалось! — передразнила Нэнси. — Какая дикая моральная шаткость!
— Да прекрати, — махнул рукой он. — Мой обман на фоне её вранья — цветочки в клумбе дома пионеров. У девочки обсессия. Ну, какие обязательства? Признайтесь, что у вас возникло ощущение: она просто хочет быть любимым героем какого-нибудь компульсивного романа, но не подозревает, что изначально уже повержена.
— Да собственным диктатом, сидящим где-то глубоко внутри неё, который всё время шепчет: «Миссионерство — это твоё, миссионерство — это твоё…» А это не её, ну очевидно же!
— Да ты, оказывается, ещё и ханжа!
— А это, кстати, дилемма, — задумчиво произнёс Глеб. — Вот кем лучше быть: набожным лицемером или самозваным мессией? Я вот подумаю-подумаю и выберу второе.
— Кстати, камрады: вам не приходила мысль о боге, как о читателе? Богу интересно нас почитать. Для этого он зовёл человека, потому что текст не может себя сам написать.
— Если и так, — сказала жёстко Нэнси, — то поверженный герой романа — абсолютно точно Глеб.
Глеб сделал характерный жест рукой: подловила! — и его нагловато-плотоядное выражение лица сменилось простодушной улыбкой.
— Одно я знаю точно, — сказал он, — мы отнюдь не прекрасные золотоглазые зародыши с парой крыльев, покрытых сверкающей пыльцой. У нас нет идеи фикс вселенского добра. Давайте уже привыкать к тому, что вместо ударной силы пацифизма каждому из нас ближе и роднее кровожадное левачество. А тот, кто пытается убеждать себя, а главное, других в обратном — патологический лгун.
Нэнси всплеснула руками.
— Как же я устала!
— От меня?
— От дурновкусия. Сил нет терпеть.
— Какие ещё будут… замечания, пожелания, предложения? — весело спросил Глеб, оглядывая девушек.
— Есть предложение ехать домой! — сказала Нэнси и демонстративно забралась на заднее сидение.
— Отклоняется. — Глеб мягко выцепил её обратно из тесного салона. — Но есть встречное: прогуляться до часовни. Тем более, что дорогу мы уже знаем.
— Тебе же сказали, — устало сказала она. — Приход закрыт.
— И что с того? Мы проделали такой длинный путь, чтобы вот так и уехать ни с чем. Позаглядываем в окна, постучимся в дверь. Вдруг откроют. Нет, ну правда! Разве вы не чувствуете разливающийся в воздухе плутовской мотив? Осталось сделать один шаг до невероятного сюжета.
— Я бы попыталась разыскать этого Александра Васильевича, — неожиданно предложила Ленка и, улыбнувшись, добавила: — Надеюсь, ничью мораль я этим не колеблю?
— Вот эта идея совсем не годная! — покачал головой Глеб. — В психушку мы точно не пойдём, нас туда элементарно не пустят. Да и потом, о чём можно говорить с этим человеком? Он же… псих!
— Сам ты псих! — расстроилась Ленка. — Он лекции читает…
— В изостудии при клинике для душевнобольных. То есть для таких же психов. Супер!
— Иконы пишет… — слабо гнула линию Ленка.
— Бесов под херувимами малюет, — напомнил Глеб. — И ты меня ещё убеждаешь в том, что он нормальный? Давайте, товарищи, придерживаться генеральной линии партии, которая, как известно, есть вектор, направленный в цель. — Он занял прославленную картинами позу генсека: заложил руку за отворот рубахи, а вторую — с оттопыренным мизинцем и большим пальцем — примостил у рта. — Наша цель, товарищи, вот там, где-то между кустов маячит. Так давайте…
— … без давайте! — оборвала и закончила за Глеба Нэнси. — Прости, товарищ, но я никуда не пойду. Я останусь здесь.
— Я пойду! — поспешно сказала Ленка и посмотрела на Глеба. — Мы можем сходить вдвоём.
— Можем, — согласился Глеб и, скислившись, с укором поглядел на Нэнси: — А этот товарищ… нам больше не товарищ.
Глава 8. ПРУСАЧОК И ДРУГИЕ ОБЪЯВЛЯЮТ ВОЙНУ
Оскаленные болью дёсны — вот что демонстрирует война, когда обломаны все зубы некрофага и сытая его ухмылка сбита. Сегодня вчерашние газеты напоминают древние пророчества: они, подобно древнегреческим сивиллам предрекают бедствия, которые после, в завтрашних газетах, хронисты обзовут приметой времени. И кодекс чести, и мощный реквием спасительной идее, весь недостижимый нравственный прогресс с его патологическим размежеванием, с безумной атомарностью конфессий — всё это было таким бесперспективным в свете концепции Спасения, что мы даже как-то сами удивились, когда Его программа не сработала, вдруг оказалась обреченной на провал.
Другие времена, иные приметы… Вчера не жили и прошлое не судим. Живём сегодня, а приметы остаются теми же. Их бережно хранит природа, пока у некрофага отрастают новенькие зубы.
Артиллерийский снаряд пробил церковку навылет, протаранил восточную стену, превратив алтарь и ризницу в бесформенное крошево; снёс мраморную паперть, фрески, и вышел через западную, оставив в обеих стенах дыры размером с дачный домик. Рукотворный храм, порушенный, но не разгромленный, выстоял на крепком желтковом фундаменте и простоял ещё десятилетия пустынный и немой, пока на антимонии ветра, блудившего в руинах, не набрела случайно Нэнси. Она не очень хорошо помнила, какой дорогой добралась сюда — на всю близлежащую округу никаких симптомов деятельности человека. Даже телеграфные столбы с провисшей ниткой проводов не могли испортить уравновешенной и пунктуальной линии, где схлопывался и превращался в небо горизонт. Только бескрайнее поле-море с набегающими волнами пожухлых трав и одинокие руины храма.
Ныне место хранило печать буйного забвения. Вокруг ни одной живой души, только беспородный, здоровенный пёс чинил об угол свои пёсьи дела, заявляя права на эту территорию. Компанию безродной псине составлял крепчавший ветер. Они гуляли вместе по останкам дымчатой конструкции. Небо — ширины непомерной и глубины необъятной — двигалось то низко, то высоко, наполненное густовязкой ватой цвета грифеля. В редких прожилках косыми лучами путалось солнце. Где-то над головой жужжал заупокойную золотистый от нектара шмель. Пёс принюхивался к воздуху и растворялся в нём, оставляя о себе в напоминание запах урины и клочок пятнистой шерсти.
Природа, как могла, зализала рану, упрятала под землю штыки, каски, костяки и черепа. Но спрятать двадцатиметровый колос святилища ей не удалось. Лишь отяжелел он от времени и тянувшихся к коронам четырёх звонниц молодых побегов ивы, зарослей лабазника, волжанки, клопогона, просел на угол и чуть накренился к земле, осыпаясь кирпичной крошкой и лузганной ярью-медянкой. Уже сегодня можно потоптать треснувшие камни прошлого.
По узкой плачущей лестнице Нэнси взобралась на семь ступенек к вратоподобным дверям с покрытием «антивандал». Во всяком случае, ни одного рисунка или надписи не было замечено, только кованые элементы густо украшали массив дверного полотна в два человеческих роста. Тронула ручку-кольцо и окунулась в волглую прохладу стен. Если снаружи чувствовалась, ощущалась главная метаморфоза жизни, то здесь внутри в аскетичных интерьерах серо-цветных стен — с красными шпалерами ржи, зелёными подушками мха и синими пролысинами плесени — чудился лишь зыбкий мотив безвинного попрания. Под ногами тускло блестели и хрупали арлекиновые стёкла. Она без труда узнала эти антикварные осколки с переливчатым оттенком. Ценный ирридил — предмет желаний многих коллекционеров. Откуда здесь взяться ирридилу? Церковная посуда? Вряд ли.
В углах и закутах сквозняк вертел волчками комканые хороводы из бумаги. Нэнси подхватила один. Это был титульный разворот, точнее, его переполовиненный с рваным краем фрагмент. «Семь смертных…» — начинался и прерывался заголовок книги, и Нэнси не без удивления узнала в нём недавно читаный сборник сербского писателя. Собственно книга, та самая, легкоузнаваемая, в голом картоне с чёрным тканевым корешком, лежала подбитой ласточкой с трепещущими крыльями-страницами в двух шагах среди других подобных ей же. Нэнси подхватила пичугу: растрепанный комочек истлевал, слабел, превращаясь в макулатурную труху. Взгляд упал на другого подранка, и она чуть не вскрикнула от удивления. Это был краснообложечный двухтомник Кэндзабуро Оэ. Она читала эту книгу за месяц до отъезда и прекрасно помнила иноязычного классика, как по форме, так и содержанию. «Первая работа мастера после многолетнего молчания» — гласила аннотация на авантитуле. «Едкий на слог и бойкий на мысль», — добавлял там же некий именитый критик, известный своими придирчиво-скандальными рецензиями.
Она подхватила первый том. Оэ точила плесень. Большое чёрное пятно, по силуэту напоминавшее оплечный Спас, росло и силилось по переплёту. Она раскрыла книжный блок, хрупнувший залежалыми, слепившимися страницами. Надпись на авантитуле была. Более того, присутствовали на полях все карандашные отметки в виде вопросительных значков, которыми Нэнси, подобно пушкинскому Онегину, невольно выражала себя. Она «употребила» оба тома от корочки до корочки, и эти книги по всем законам жанра должны были остаться ровно там, где их оставили: под зеркальным стеклом полированного секретера в её комнате, в её квартире в Перми. Это было чересчур, потому что рядом с японским классиком соседствовали прочие: Борхес, Сэлинджер, Уайльд, старина Хэм, многие другие в плачевном состоянии висельников, ещё не повешенных, но уже приговорённых. Эта писательская братия была знакома ей ничуть не хуже Кэндзабуро. Она благородно обжигалась ими, как глина в муфельной печи, и их появление в точном соответствии с библиографическим списком домашней библиотеки было по-мушкетёрски точечным уколом алогичности. Подобного происходить на самом деле не могло, но… происходило.
Самое ужасное было и то, что в разбросанных книжицах всё казалось в порядке вещей, они достойно привносили долю энтропии к обессмысливающему хаосу пространства. Всё было нехорошо — и только. Неосознанная тревога шевельнулась в душе. Только сейчас до Нэнси вдруг стало доходить, место это — храм не бога, а книги, только этот храм кто-то и зачем-то превратил в некрополь, потому что книги в нём были умерщвлёнными. Их будто специально свезли сюда, в братскую могилу, отдав на растерзание плесневым грибам, жукам-точильщикам и крысам. Но самое невероятное казалось то, что список обречённых совпадал с наполнением шкафов, её книжных шкафов. Может это были и недорогие издания, отпечатанные на газетной бумаге с дактилоскопическим эффектом — типографская краска рассыпанного по страницам шрифта так и тянулась к пальцам, оставляя на полях контрольные оттиски — но, купленные в переходах на сдачу, одетые в грязноватые, шляпные картонки-обложки, они были её нравственною пищей: да, с ремизами — с прожилками патриархальщины, с органикой чего-то эстетского, реакционного, не без этого, конечно, но, слава богу, без серятины, без жира занудства, без этого галимого труизма. В широком смысле, книги были и оставались для неё не культуртрегерской закуской, а, скорее, филологической приправой, усилителем литературного вкуса, эдаким глутаматом мыслеформ, взрывающим присыпающий мозг. Может поэтому её настолько пугал вид осквернённых, поруганных ценностей (её ведь ценностей!). Какая-то невосполнимая потеря угадывалась там, где по чьей-то нелепой прихоти или злой воле тихо умирали книги, скрюченные под пылью и трещинами. Словно кто-то, воспалённый идеями мракобесия, актом истязательного живодёрства требовал добровольно отказаться от священства, сложить однажды принятый сан. Может, это было такая терапия, условная кушетка для условного кого-то, но она не хотела становиться терапевтом, врачевателем души условно конченого обскуранта, столь жестоким образом расправившимся с домашней подборкой её книг.
Однако ж, не все книги принадлежали ей, была одна — Нэнси заметила не сразу — которой не было в её библиотечке. Странная книга рубенсовской красоты в том смысле, что «пышка» — большая, объёмная, солидная уже по виду, лежала не на цементном полу, а на серебристом кандиле, заляпанном воском оплавленных свечей. Повинуясь импульсу, Нэнси приблизилась к ней. Одетая в кожу, с ремнями и замками на обрезах, она смахивала на богослужебную книгу с обильными текстами молитвословий. На это указывало и то, что книга выглядела пользованной — не замызганной или засаленной от позорной небрежности читающих, а пообтрёпанной, как бывает пообтрёпан ветхий, честно изношенный юбочный подол.
Нэнси ухватилась за ремни, те поддались с трудом. Кожа тихонько скрипнула, и под распахнутою крышкой обнаружился тайник, внутри которого лежала книга — точная, хотя и уменьшенная копия книги-секрета — в паутине, пыли и высохших до невесомости мух. «Что за матрёшка? — с удивлением подумала она, но слова помимо воли произнеслись вслух, вывалились эхом, стукнулись о стены и растерялись где-то высоко, подхваченные ветром. Она повела ладонью, отодвигая паутинную завесу, тронула легонько пальцем крышку — та же благородная кожа, те же латунные замки. Достала томик и поспешила развязать ремни. Она серьёзно опасалась (но и почему-то надеялась), что и эта книга выйдет тайником. Не ошиблась! Хотя матрёшечный рефрен не оправдал себя, исчерпанный в диаде, тайник оказался не искусно стилизованным под книжный том, а взаправдашней книженцией с нычкой в духе не крепкого аглицкого детектива, а, скорее — Нэнси пыталась подобрать слова — пёстрых пинкертончиков32 о похождениях Дрю или братьях Харди. Сделанный на скорую руку, он представлял собой вырезанную прямоугольником полость в толще страниц, на донышке которого, из подстилки в несколько нетронутых листов поблёскивало что-то. Нэнси перевернула книгу и вытряхнула на ладонь тяжёлый полупрозрачный предмет в форме падающей капли, по всей видимости, камень. Поднесла его к струившемуся из стенных пробоин свету и заглянула сквозь него. В янтарном эфире вяз инклюз светло-бурой паучихи. Окаменевшая смола хорошо сохранила останки крупной самки крестовика — она выглядела, как живая в затаённо-смиренном ожидании несчастной жертвы. Одна из восьми мохнатых лап чуть вывернута, будто натягивает невидимую тенёту, чтобы словить колебание нити — сигнал к решительному действию. Нэнси с удивлением перевела взгляд на тайник внутри самой большой, первой книги, полный мушиных мумий, испитых досуха, и ей стало не по себе. Она снова посмотрела на насекомое и увидела (или ей только показалось?) как мохнатая лапка, магнитом притянувшая в себе внимание своей неестественностью, медленно, преодолевая вязкость каменевшей миллионы лет смолы, возвращается на место. Нэнси вскрикнула и уронила янтарь. Тот дробно заклацал о что-то твёрдое, будто рикошетом соударений рассухаривал колосники. Нэнси наклонила голову, но не увидела ничего кроме красных мерцающих рек, текущих сквозь веки. Звук повторился и откуда-то издалека, из глубин окрестного космоса до неё донеслись раскатоподобные слова:
— Эй там, на линкоре! Фонтанки не видать?
Реки разлились до кипящей магмы, сочащейся сквозь приоткрытые веки. Она уснула и ей приснился сон. Странный сон, очень странный и очень подробный сон. Не было храма, не было изуродованных книг, не было тайника и отвратительной волосатой паучихи, копошащейся внутри янтарной капли. Это был только сон, кошмарное, пугающее реальностью сновидение…
Она распахнула глаза, и мерцающие кванты света хлынули в зрачки. Сквозь их бешеный поток она словила две продолговатые фигуры, похожие на спилберговских гуманоидов, проявлявшихся медленно в сгущённом ярким светом молоке, точно изображение на фотокарточке. Один из них гулко, будто прорываясь сквозь водяную толщу, поинтересовался, отомкнут ли ему дверь, и смачно, по-матросски огрубил вопрос крепким выражением, добавив что-то непечатное (про линкор), требовательно поколотил костяшками в стекло.
Это был Глеб, это его голос нещадно изрыгал обсценные эпитеты. Его лицо, наконец, прорисовалось чётко. Оно не выражало зла, но и доброты не наблюдалось. Нэнси разблокировала двери и предпочла устраниться в глубину салона. На всякий случай.
— Ну ты даёшь, подруга! — Ленка протиснулась на переднее сиденье. Физиономия её лоснилась и румянилась от долгого пребывания на солнце. — Уж не знаю сколько времени топчемся у машины…
— Пардоньте, медмуазели и мусье! — извиняюще произнесла она, но это прозвучало против воли откровенно издевательски.
— Кхм! — недовольно и строго сказал Глеб, скрепя салонной кожей, неуклюже садясь за руль. — Прямо расстройство… Шкипер, не делай так больше!
— Не делать «что»? — Нэнси осмелела, решив, что лучшая защита — нападение. — Меня разморило. Что мне надо было делать: спички в глаза или скотч на веки клеить?
Ленка остужала пыл Нэнси шуткой:
— Уставшая баба — зверь-баба!
Но тут же делалась серьёзной, обращаясь к Глебу:
— Человек не досыпает, это правда. — Она перевела взгляд на Нэнси, участливо спросила у неё: — Это из-за твоего заказа, да?
— Я чуть выбилась из графика.
— Что ты напал на неё? — возмутилась Ленка и шутливо стукнула Глеба кулаком по плечу. — Просто не надо было отставлять ключи в зажигании. Вот и всё!
— Ленчег, — ласково и терпеливо сказал Глеб, — кондей без ключа не будет работать. Ты же не хочешь вместо подружки заполучить жареную во фритюре котлетку?
— В первую очередь этого не хочет сама подружка! — ответила Нэнси. — А почему сразу во фритюре?
— Звучит аппетитно!
— Э-эй! — И Ленка снова стукнула его кулачком.
«Очевидно, — подумала Нэнси, — у ребят начался новый виток отношений». Ну и хорошо! Значит, не зря съездили.
Глеб развернул машину, выехал на дорогу и они медленно заколыхались на кочках, протискиваясь сквозь деревню.
— Не зря съездили? — последнюю мысль она обратила в вопрос и со значением посмотрела на Ленку.
— Нет, птичка обломинго пролетела. Знаешь такую?
— Слыхала.
— Ну вот, — кивнула она, — попасть внутрь нам не удалось. Икону мы не видели, зато — бинго! — встретили паломников. Вернее, я так подумала, а Бигл сказал: кладоискатели.
— Чёрные копатели, — поправил Глеб.
— Даже так? — удивилась Нэнси.
Она вспомнила свои археологические вылазки. Конечно, одно дело — легальный коп и совсем другое — самодеятельный поиск. В условиях археологических раскопок ей никогда не доводилось встречать чёрных копателей по вполне понятным причинам: те предпочитали никаких контактов не иметь с официалами, сильно недолюбливавших энтузиастов-одиночек. Конечно, словесный оборот «сильно недолюбливали» не дотягивал до меры генетически острой неприязни, питаемой резидентами официальной науки. Так, в одном из номеров «Истории и археологии» один кандидат наук с благозвучной фамилией Прусачок призывал всё археологическое сообщество «широко распахнуть глаза на проблему чёрных вредителей культурного наследия», бравируя такими громкими фразами как «бедствие национальных масштабов», «бесчеловечные акты вандализма» и «тотальное уничтожение археонаследия». Неутешительные свои итоги на пятнадцати журнальных полосах он подводил печальным наблюдением, что-де в нашей стране не хватает правоприменительной практики и призывал правоохранительные органы наказывать профанов-корыстолюбцев по всей строгости закона.
Сама же Нэнси придерживалась другого мнения. Уже тогда ей казалось, что кандидат явно спекулирует юридическим аспектом. В попытке реконструировать прошлое, мы, хотим того или нет, его невольно искажаем. Искажение в процессе изучения даёт отнюдь не лопата или даже не экскаваторный ковш. Интерпретация документа или факта очень сильно завязана на субъективных факторах исследователя. Конечно, запаса знаний и объективности определённо больше у учёного. У него никогда не будет твёрдолобой, почти сектантской предвзятости, но! — и страсти не будет, и авантюрной беспринципности, и бзика в голове. А у энтузиаста-профана — будет! Тогда не являются ли одиночные поиски с металлодетектором спасительной операцией, а не бесчеловечным актом вандализма, коим мнит его Прусачок?
Очевидно, кандидат боялся не вандалов, а дельцов, корысти ради не желавших делиться находками. Прусачок, кстати, был не одинок в стремлении объявить священную войну чернокопам. Подобные статьи мелькали едва ли не в каждом номере, и тон всегда их был примерно одинаков. Будь Нэнси на месте чёрных копателей, она бы и сама ушла в глубокое подполье. Бережёного, как говорится…
— Они выглядят, как обычные туристы, — продолжала Ленка. — Вернее, не совсем обычные, а будто глубоко религиозные. И ведут себя так же.
— Это как же?
— Примерно так же, как наша новая знакомая из магазина, — хмыкнул Глеб. — Всё то же враньё про миссию, про путешествие к Святой земле, имеющее особое значение для укрепления веры. Для них любая земля святая, если можно чем-то поживиться.
— Да, Бигл, их быстро раскусил, — ликовала Ленка.
— Что? — Нэнси была поражена услышанным. — Я смотрю, ты всех без разбора записываешь в мерзавцы. Неужели по себе меряешь?
— Слушай, ты же не была там — их не видела, — говорил он, филигранно объезжая ямы. — Двое парней в одной палатке с Библией, конечно, смотрятся убедительно и очень по-христиански, особенно в комплекте с лопатой, ножовкой и топором.
— Странное умозаключение! Ты думаешь, истинному христианину религия запрещает пользоваться перечисленными инструментами? Или ты думаешь в путешествие лопату и топор берут с исключительно неблаговидными целями?
— Когда мы только подходили к храму, — неодобрительно, как от зубной боли поморщился Глеб, — я слышал короткий свист. Думаю, один из них стоял на шухере и, заметив нас, дал сигнал второму. Когда подошли ближе, к палатке, они уже поджидали нас на брёвнышке. У одного в руках евангелие с заложенным вместо закладки пальцем. Ну, вроде, только что читал усиленно. Как увидел нас, разулыбался во все свои тридцать два клыка, будто увидел схождение благодатного огня, а другой сразу давай ездить по ушам заготовленною речью. Ну, про путь паломника, значит. А сзади них, вижу, брезентуха, а под ней черенок лопаты виднеется и полотно ножовки. И топорик в брёвнышке торчит. Лезвие блестит как зеркало: видно, что пользуются им вовсе не от случая к случаю. И главное: ногти у обоих набиты чернозёмом, а на каждом фаланге — по окостенелому мозолю. Я такие мозоли видел только у могильщиков, что по сорок-пятьдесят часов в неделю свежие ямы копают для покойников.
— Где ты видел руки могильщиков? — ужаснулась Ленка.
— Доводилось однажды, — отмахнулся Глеб. — Бьюсь об заклад, что у этих двоих под палаткой коп. Говорю тебе, Нэн, то чем они занимаются — вовсе не промысел божий. И кстати, наша знакомая знает про них. Она меня спутала с ними, и сама проговорилась, что «ребята» из Питера. Они приехали ещё вчера. Что можно делать целые сутки у руин взорванного фрицами храма, если только не искать немецкую мусорку.
Нэнси вздрогнула, когда Глеб упомянул про храм. Она вспомнила свой сон.
— Он был взорван?
— Вне всяких сомнений. Я, конечно, не уверен, что это немцы. Могли и наши. Одно точно: здесь была немецкая блокада. И если здесь стояли войска вермахта, то значит, копателям есть чем поживиться.
— Как это понимать: «мусорка»? — спросила Ленка.
— Так и понимать: немецкая а-ля пухта33, — весело сказал Глеб. — Фрицы — чистоплотная нация. Собирали мусор в одно место и закапывали. Туда могло попасть что угодно: бутылки из-под шнапса, губные гармошки, портсигары, гильзы, книги.
Аннушка снова зацепилась слухом за крайнее слово.
— Почему «книги»? Зачем — «книги»?
— Это я к примеру, — пожал плечами Глеб. — У них же тоже была пропаганда, своя промывка мозгов в виде идеологических книжечек о расовой теории и арийском мифе. Их раздавали солдатам вместе с сухпаем и боеприпасами. Но нацистских взглядов придерживались далеко не все мобилизованные немцы. Многие от агиток избавлялись, пускали на растопку или просто выбрасывали.
— Откуда ты всё это знаешь? — с удивлением спросила Аннушка.
— Из мемуаров немецких солдат, — ответил он без выражения, без интонаций, таким голосом, словно диктовал текст скучного письма. — Вообще, взгляд со стороны всегда интереснее. Один Вольфдитрих34 чего стоит!
Нэнси деликатно промолчала. Она не знала такого автора.
Тем временем автомобиль тихой сапой выбрался на просеку. Вспомнив знакомую дорогу, «марк» заторопился проглотить оставшиеся метры до асфальтированной трассы, но неожиданно затяготился паузой, сбавляя скорость.
— Что случилось? — заволновалась Ленка.
— Товарищ марк-штурман, ты чего молчишь? — осведомился хмуро Глеб, совсем останавливая автомобиль и оглядываясь вокруг.
— А что? — совсем забеспокоилась она.
— Зачем мы снова прёмся тем же лядом через Задние Черницы?
— Старые Черницы, — напомнила Нэнси. — Кажется так.
— Не, не, это оговорочка по Фрейду, — гневно цокнул Глеб. — Именно, что Задние!
— Так ты за рулём, тебе и решать! — бескомпромиссно заявила Нэнси.
— Да, мы не ищем лёгких путей! — Он чертыхнулся и, выкрутив руль вправо, начал сдавать назад, тут же угодил в мертвую хватку хмелевых лиан. Они не пропускали машину, и Глеб был вынужден крутануть баранку сильно влево и сдать вперёд, но точно такая же стена из длинных зелёных жгутов преградила путь. Пришлось всё-таки проехать несколько сот метров вперёд, чтобы найти более удобное для разворота место. Глеб обнаружил подъеденные тлёй побеги, насильно склонённые к земле, и вытоптанную чьими-то сильными ногами площадку, идеальную, по сути, для обходного манёвра. Он свернул в «карман» и подфарники автомобиля светляками отразились в хромированном бампере припаркованной легковушки. Широкое стекло и рельефный капот с «фордовой» эмблемой в очерченном овале были обтянуты маскировочной сеткой, что делало машину совершенно неприметной с дороги и надёжно скрытой от посторонних глаз.
Глеб отёр ладонями шершавые, нетщательно ободранные бритвой щёки, ощупал карманы и вытащил спичку, переломил её и принялся задумчиво ковырять в зубах.
— Ты чего? — глазами спросила Ленка, тревожно переводя взгляд на Глеба.
— А любопытно, да? — Он щёлкнул замком двери и выбрался наружу. Рывком стянул сетку, сложил ладони тоннелем и заглянул внутрь салона.
— Чего он делает? — спросила Нэнси у Ленки.
— В душе не чаю, — призналась та и вслед за Глебом полезла из машины.
— Вот вы даёте!
Погружённая в свои мысли, Нэнси предпочла остаться внутри.
— Тачила наших странствующих псевдохристиан, — заключил Глеб, отлипая от тонированных стёкол. — Хорошо законспирированная стоянка.
— Слушайте, может, стоило бы предупредить эту продавщицу, — запоздало предложила Ленка, — ну, что это не совсем паломники!
Она уселась с ногами на багажник «марка» и шумно вдохнула ноздрями душистый аромат хмеля.
— Зачем? — спросила Нэнси и на манер жирафа просунула голову в окно в попытке поймать в поле зрения подругу. — Что плохого в том, что кто-то проявляет интерес к истории?
— Что плохого? — спросил Глеб. — Ты подойди, я тебе покажу кое-чего.
— Вот вы даёте! — повторила она, но интерес возобладал.
Делая вид, что ей не очень интересно, она неторопливо выбралась из машины и подошла к Глебу.
— Смотри! Что видишь? — Иванголов ладонью тронул её плечо.
Нэнси приставила ладонь козырьком и всмотрелась в черноту стекла. Внутри салона царил неописуемый бардак. Мусор, инструмент, еда и вещи чередовали друг друга без всякого уклада и концепции. На торпеде валялась в промасленной бумаге недоеденная сосиска в тесте, рядом кис рыжевато-коричневый столбец отпитого на треть чая с притопленным заварочным пакетом. Передние сиденья хранили отпечаток разворошённой бельевой бомбы. В бешено вращающемся и остановленном коловороте цепенели портки, рубаха, пара водолазок, драная спецовка пятнистого раскраса и ещё какой-то линялый прикид балахонистого вида. От водительского козырька к подголовнику заднего дивана — через весь салон — тянулась сильно провисшая верёвка, на которой досыхало (а скорее прело — окна были наглухо закрыты) мужичье исподнее — кальсоны, тельники, носки. Где-то в ногах, на ковриках валялись цепная пила, пара лопат со спиленными вполовину черенками, веретенце с красными тряпичными флажками и фонарь железнодорожника, завалившийся набок, подвязанный поводком кабеля к прикуривателю. На этом хлам не исчерпывал себя, и можно было бесконечно долго блуждать глазами по холостяцкому приюту на колёсах, составляя мысленно список всей втиснутой внутрь шарабары, если бы внимание Нэнси не привлекло содержимое двух пластиковых ящиков для рассады, водружённых на задние сиденья. В одном из них, ближнем к ней, лежали наваленные грудой в комьях подсыхающей земли побуревшие, пожелтевшие или обугленные кости, большие и маленькие, целые и сломанные, торчащие острыми обломками наружу. Аннушка инстинктивно отшатнулась, сделав шаг назад.
— Ставлю штуку, что это человеческие! — Цепкие пальцы Глеба поймали женское запястье и притянули обратно.
— Ты знаком с анатомией?
— Нет, но ты сложи два плюс два и станет ясно, что эти махровые дельцы ищут старину, а находят эхо войны.
— Но зачем же брать с собой кости?
— Чтобы без шума и огласки избавиться от останков.
— Ребята… — слабо окликнула их Ленка.
— Ленчег, подожди, — нервно бросил Глеб, облизнув обветренные губы, наклонился к Нэнси, почти коснувшись её уха, горячо зашептал: — Я думаю, они их сбрасывают в реку.
— Господи, в какую реку?
— Да в любую, где быстрое течение. Стараются не оставлять следов. Выбирают трофеи из груды истлевших человеческих костей, но бросить потревоженные останки уже не могут. А вдруг найдут?
— Вы слышите? Эй!
— Ну, что такое?
— Там на дороге…
— Ну что? Что?? — раздражённо стрелял вопросительным местоимением Глеб. — Что???
— Двое бегут! В нашу сторону.
Нэнси видела, как по лицу Глеба проскользнули жестковатые ноты. Секунду он мучился каким-то тяжким размышлением, затем сорвался с места, выбежал на просеку и всмотрелся вдаль. Вся крепко литая его фигура высокомерно подбоченилась, словно он принял вызов.
— Ланно-ланно, — быстро залепетала Ленка, сползая с багажника. — Поездка была высший класс, но теперь мне очень-очень невтерпёж домой. Пожалуйста, Глеб, миленький, давай валить отсюда нахрен!
— В машину! — коротко скомандовал он и Ленке дважды повторять не пришлось: её словно ветром сдуло в салон автомобиля.
— Нэн, садись! Скорее! Что ты там высматриваешь?
Внимание Нэнси было приковано к содержимому второго ящика. Не вызывало сомнений, что в него складывались те самые трофеи, о которых упоминал Глеб. Улов, как казалось на первый взгляд, был невелик. Сетчатое дно, застеленное мутно-грязным пластиком, населяли: облитая глазурью блямба наградного знака, похожего на панцирь мёртвого жука, германский крест-орденоносец и исполосованная свастикой шипастая медаль. Лежал прямой и тонкий, как лезвие штыка кинжал с гранёным, насквозь проржавелым клинком. Несколько свинцовых пуль-лепёшек. Пара уцелевших патронов, слишком длинных для немецкого «вальтера» или советского «тэтэ». Фляга без винтового колпачка и коробка из-под монпасье с поблекшей литографией толстощёкой Madchen35. Да, была ещё и книга — в глазах Нэнси именно она являла собой навысшую точку притяжения, собственно, она одна, небрежно перетянутая папильоткой, перевешивала на умозрительных весах все найденные и сброшенные в ящик ценности. Книга! На удивление хорошей сохранности, она отсылала к недавнему, столь взволновавшему её сновидению. Хотя очевидного сходства оба предмета — реальный и пригрезившийся — не обнаруживали, между ними всё же, как будто, была расплывчатая связь, некий смык, соотносившийся не зрительными образами, а где-то на ментальном уровне. То, что покоилось на дне рассадного ящика, было толстым фолиантом, одетым в коричневую кожу, примерно размеров современного формата а-три, с блинтовым тиснением по передней переплетной крышке и с золотым — по корешку. Заглавие на переплёте перекрывал изжёванный листок, пришпиленный жгутом, где прописью — высокими, клеток в десять буквами и цифрами — стояла карандашная помета: MS A 148. Из-под короткой, похожей на шифрограмму записки, выглядывал оттиснутый в обложке не то гербовый медальон, не то экслибрис, изображавший две раскоряченных по-лягушачьи лапки. Венчали их изогнутые серпики хищных когтей, по одному на каждую конечность.
Корешок, по счастью, хорошо просматривался и был вполне читаем. Правда, на его широком кожаном поле оказалась оттиснута лишь монограмма владельца или, может, автора издания. Как и карандашная помета, она состояла из символов латиницы. Поставленные рядом и переплетённые одна с другой, вензеля и завитки двух букв «G» и «C» паразитарно разрастались и вылезали на линию изгиба корешка. Ювелирной тонкости лигатурная филигрань напоминала каллиграфический абстрактный вертоград и притягивала внимание золотыми отсверками и скрупулёзностью витья.
За всё время участия в археологических раскопах, Нэнси только однажды видела, как в их группе обнаружили в земле книжную находку. Как правило, объектами систематичных обретений служили монеты, орудия труда или предметы обихода. Нэнси сама неоднократно находила костяные пуговицы и глиняные черепки, и такими «рариками» сложно было кого-то удивить: пуговиц и черепков в культурном слое, как грязи, копни на штык и выгребешь жменю такого добра. Иногда, редко, попадалось что-то действительно интересное. Так, однажды на аккорде36 курганщикам попался обитый железом ковчежец — маленький ларь, в котором хранили частицу мощей святого и его личные вещи: кусок фелони, митру и псалтырь. Артефакты дожили до современников лишь потому, что условия их сохранения оказались идеальными: ковчежец попал в спёкшийся суглинок, где и пролежал без доступа воздуха почти четыре века. Но это было благоприятной случайностью, исключением из правила: один случай на тысячу, а может, на десять тысяч. В остальных же, неисключительных обстоятельствах артефакты исчезали задолго до того, как становились артефактами. Во влажной почве век бумажного листа или пергамена не долог. Микроорганизмам хватало двух-трёх десятков лет — смена всего одного исторического поколения — чтобы превратить любой, самый толстый фолиант в органическую гниль, текучую и липкую, как бальзамическая смоль. Минует ещё одно поколение и не останется даже этого — только жалкий тлен, рассыпающийся в прах от лёгкого прикосновения. Цидулы, книги, грамоты, другие ценные бумаги предки предусмотрительно хранили в сундуках, впоследствии эволюционировавших в бюро и книжные шкафы. Они прекрасно сберегали содержимое на протяжении человеческой жизни, если не случался раньше пожар, что по тем временам было частым явлением. Но даже избежав огня, бумажные свидетельства были бессильны против времени: когда счёт начинал идти на сотни лет, никакой даже самый надёжный шкаф или сундук не мог уберечь от его губительного действия. Всё, что доставалось поисковикам, это надтреснутая, безжизненная скорлупа ковчега с иссушенным гнильём внутри, похожим на порошок снаффа, выжигающего ноздри изнурительным чиханьем.
Нэнси была уверена: книжная находка чёрных копателей не из-под земли, она из разрушенного храма, который ей привиделся во сне. Она не пыталась зафиксировать в своём видении пророчество или некий месседж высших сил, отталкиваясь от того простого допущения, что ясновидение всегда результат хорошо развитой интуиции. Да, все женщины хвалятся интуицией, но это означает лишь только то, что некоторые из них самонадеянны или не слишком откровенны. Терапевтический эффект в обоих случаях высок, но он не добавляет прозорливости. Что, что, а такая «корова» самой нужна — а вот нету, тут уж приходилось признавать, не впадая в крайности, что симптоматически она, Окунева Аня — никудышный интуит и это, как сказала бы она сама о себе, не понаслышке знакомой с копирайтом, проверено на личном опыте автора статьи.
Скорее всего, происходящее во сне и наяву она пыталась увязать с играми сознания, вернее, подсознания. Нэнси с ужасом думала, что за этот крючок можно дёргать бесконечно, и слезть с него не представляется возможным. Почему? Да, потому, что сразу это грозило навязчивой идеей и настырным комплексом вины, если вдруг — вдруг! — игры разума сработают на опережение и случайно — случайно! — окажутся предвестниками чего-то важного, к чему ты в своё время не прислушался, не присмотрелся. Это же вечная такая, горбатая отмазка для терапии пофигизмом. Удобно, чёрт дери, для логика, вроде неё. Ничего не скажешь!
Она привалилась грудью на крыло «форда», пытаясь ещё раз внимательнее осмотреть автосалон, но Ленкина истерика, как полноценный художественный приём, достигла апогея и вместе с тем стала невыносима насквозь.
— Да ты что такое творишь? — галдела на высоких она, когда Нэнси, обойдя кругом чужой автомобиль и даже подёргав (безрезультатно) дверные ручки, заставила себя, наконец, втянуть в пасть «марка». — У нас тут, на секундочку, немножко ахтунг!
— Ахтунг? — задумчиво повторила она и набрела на мысль, повернулась к Глебу: — Немецким солдатам могли давать какие-нибудь религиозные книги?
— Уезжаем, — коротко обрубил он, игнорируя вопрос, и ударил по педали газа. «Марк» утробно взвыл, грозно чем-то тренькнул в выхлопной трубе и, выскабливая камешки из-под протектора, начал свой разбег в сторону бегущих навстречу фигур.
— Глеб, — завопила Ленка и вцепилась в подголовник белыми как мел пальцами. — Ты в своём уме? Поворачивай, нам не надо туда! Обратно!
— Как раз туда нам и надо! — ответил он угрожающим голосом. — Мы поедем в ту сторону, в которую надо, а не в ту, которую хочется тебе.
— Ты же их сейчас собьёшь! — заметила Нэнси и даже сама удивилась своему голосу, тому спокойному и будничному тону, с которым она это произнесла.
— Я за рулём, мне и решать! — припомнил он брошенную ею же фразу, но, тем не менее, посигналил в неродную фирменную дудку, утянутую с авторынка пару дней назад. Гудок по-тепловозному нежно рявкнул под капотом четырьмя сжатыми атмосферами воздуха, но не подействовал на маячившие штрихи фигурок: те не собирались ни сворачивать, ни останавливаться. Глеб тоже стоял на своём и только сердито узил вдаль глаза, выжимая до невыносимости педаль газа.
Ещё секунда или две — и Нэнси уже могла разглядеть перекошенные — не от страха, нет! — от яда злобы лица бегущих навстречу молодых людей. Они были явно младше Глеба: один чуть постарше, другой — чуть помоложе. Тот, что постарше — мокроносый, краснолицый, вихрастый — казался смутно знаком. Впрочем, осознать, понять, где и когда она видела это неприятное лицо, Нэнси всё же не успела. Она пыталась сконцентрироваться на дикой мысли, блуждающей глубоко внутри неё с того момента, как они раскрыли конспиративную стоянку чёрных археологов. Эта мысль продолжала наливаться жизнью и теперь в свете всё более залихвацкого сюжета уже не казалась такой уж дикой. Она не участница событий, вовсе нет: автомобильное кресло на самом деле это уютное место в первом ряду, где на большом экране разворачивается действо с игрой посредственных актёров. Может именно поэтому она почти узнала одного из них: мало ли, мелькал в низкопробном сериальном мыле или, может быть, в каком-нибудь ток-шоу, не всё ли равно где. Важно другое: это заставляло пребывать её в состоянии полного спокойствия, убеждая, что раз это актёры, значит, не взаправду. А ещё она ждала, когда же жанр фильма, наконец, не оправдает себя и экшн-фильм — а она не любила экшн-фильмы! — превратится в чёрную комедию, где всё обернётся перчёной шуткой, и Нэнси вдоволь посмеётся над комическим приёмом сценариста, столь умело развязавшим бесславный финал. Но развязка не наступала мучительно долго. Беды не избежать, она неотвратима, успела подумать Нэнси, и решила, что комический эффект имеет право быть лишь в комедийном фильме, а в жизни, по заведенному неведомо кем порядку, случается роковой, чудовищный финал. Она прикрыла глаза и, переварив эту новую, мгновенно прижившуюся мысль, испустила отчаянный вскрик.
Глава 9. ПИКНИК НА КРЫШЕ ДЛЯ ТРОИХ
— У меня завтра день рождения, — сказала Ленка и протянула Нэнси приглашение. — Придёшь?
Нэнси свесила ноги с кровати и тесно их переплела. Голову обволакивал жаркий постабсентный туман. Слова воспринимались нелегко. Как и всякое похмельное расстройство, это озадачивало. Она рассеянно бросила взгляд на банкетку: поверх брошенных невпопад вещей поблёскивал браслет её часов. Половина восьмого. Вот же гадство!
— М-м-м… — снова промычала она, но уже скорее не вопросом, а неким утверждением.
— Жду на препати тогда! — весело сказала Ленка. — Через полчаса.
Этот разговор начался как что-то неизбежное с того, что Милашевич вторглась в комнату без стука. Без всякого предупреждения сдёрнула она кровоточащее марево гардин и разлила обильно солнечные брызги. Брызги окропили лицо спящей криволинейными трапециями и перекинули мостки на худосочную этажерку — лапидарный продукт шведских мебельщиков — из потаённых глубин которого донеслись точки и тире шелеста и шороха. Это привычно будничала в клеточных хоромах Жейка, обнося их по морзянке иногда коротенькими паузами передыхов.
Ленка наполнила комнатный кубик не только узловатыми, изломанными световыми пиками, но и утренней прохладой, распахнув настежь окно. Отрапортовав в резкой, крайне дружелюбной форме пожелание доброго утра, она заставила Нэнси открыть глаза и осесть в постели скрюченной фигурой. Хотелось в ответ парировать решительно и злобно, и воздух был набран в лёгкие для этой благородной цели, но на этом запал и кончился: дальше страдальческого вздоха дело не пошло.
Распухало, вспучивалось, брякло отвратительное утро понедельника. Колкий уличный воздух холодил ноздри и влажным компрессом остужал щёки и лоб. Наканунный пленум шабашистов, углублённый двухнедельными каникулами до конъюнктуры капитальной погулянки, удался более чем.
Нэнси поморщилась: с отвращением она вспоминила свою душевную коллизию, как вчерась тридцать ангелов и тридцать демонов завязали свару. Если одни с обострённым чувством моральной поруки нестерпимо зудели в ухо ей, что заказ задержан на день (ещё полтора десятка единиц фаянса не расписаны), то вторые талдычили совсем иную песню, напоминая, что заказчик, вообще-то, сволочь и плебей, на руку не чист, считает её не человеком — копировальным аппаратом! Искусители давили такими аргументами, против которых устоять — означало дать бой собственному честолюбию. Шептали чертята, знали, шельмецы, какие подобрать слова. «Пользуйся любым моментом, — гудели они где-то в районе внутреннего уха, — чтобы попроказничать». Но и херувимы были не робкого десятка (знай наших!), отбивались, как могли. «А работать кто будет?» — справедливости ради протестовал дискант. «Всегда успеется, — эхом отзывался баритон, — выходной никто не отменял».
И такими убийственными казались эти контраргументы, настолько они звучали убедительно, что внутренний чертёнок незаметно выгнал нежно-розовые, прозрачные на перепонках крылья, а ангелочек укомлектовался развесистыми рожками — и всё сразу стало на свои места. Конечно, в это откровенно нерадостное утро всё шло как по написанному: зелёная вечерняя звезда уж отошла, а жизнь, розовая до предела, нашла тебя некстати — с несбывшимися надеждами, обманутыми ожиданиями и жуткою мигренью.
Она глянула мельком на приглашение, выполненное на цветной картонке с аппликацией в виде крыши сказочного домика — с печной трубой и дымными колечками, отложила в сторону и свела у подбородка растопыренные пальцы рук.
— Препати? Ты о чём, подруга?
— Хороший день рождения всегда начинается с репетиции, и мы её непременно проведём на крыше дома моего.
За дверью раздался глухой перкуторный звук, словно кто-то истошно колотил по пустой коробке.
— Я не сказала, да? — Ленка театрально изобразила на лице некое подобие удивления. — Буба остался у меня. Он и его Абени будут с нами.
О Абени Нэнси была наслышана, как и о том, что Тарас имел обыкновение давать собственные имена всем ударным, на которых он учился и которыми владел. До африканской дарбуки Абени (полное имя Абени Ибэй — кажется, в переводе с одного из африканских диалектов означало «та, которую долго ждали с eBay»), был тулумбас Мать с колотушкой Мачехой — Мать-и-мачеха — а ещё раньше, самый первый, дамара Тамара — ритуальный барабан в форме песочных часов — непременный атрибут сакральной мистерии, теперь невыездной из-за рассохшегося корпуса.
— Ленка, ты немилосердна.
— Питерское лето невозможно без вылазки на крышу, — сказала она и строго напомнила, указав на браслетную змейку её же часов: — Полчаса!
Не дожидаясь никаких договорённостей, она выпорхнула из комнаты.
Препати на крыше с барабаном в восемь утра это, конечно, жестоко, особенно после того, что было накануне, но, к счастью для Нэнси, Абени быстра выбыла из списка крышных пребывателей. Закрывшись в туалете, Тарас ещё несколько мучительных минут уговаривал настроечным ключом ударный инструмент. Так и не склонив любимицу к достойному звуку, он вышел в коридор и обречённым голосом объявил, что проклятая питерская влажность не пожалела старую козу, так что той потребуется перетяжка. После столь категоричного заявления, Нэнси решила, что её понедельник (в отличие от понедельника Абени) определённо налаживается на определённый мажорный лад.
Страшно жовиальная и добротно упитанная фигура Бубы — широкая белая кость, как снисходительно говорила о его комплекции Ленка, — чрезмерно подвижная для раннего утра, дополнялась нелепым амплуа неугомонного весельчака. Он успел проснуться раньше всех (Нэнси даже не представляла насколько раньше — и не хотела представлять), сходить за апельсинами на местный рынок и отжать кувшинчик сока. К тому моменту, как она закончила мочить зубную щётку под струёй воды, из приоткрытой кухонной двери уже доносился вкусный перестук вилок и ложек. Уже одного этого звука было достаточно для выделения желудочного сока. Пышный омлет с молоком и яйцом, запечённый в духовке — привет из школьной столовой! — только усиливал запахом и видом гастрономический прелюд.
Нэнси подозревала, что идея отметить день рождения на крыше могла принадлежать Бубе, хотя пуститься с кондачка в безрассудное культмероприятие тоже было очень в стиле Ленки. Нэнси, к примеру, никогда не причисляла себя к фанатам руфинга, потому что считала — отваги требуется неизмеримо больше, чем может вместить носимый внутри запас беспримерной храбрости (она подозревала, что такой запас у неё, скорее всего, вовсе отсутствовал). При этом отдача в виде обострения припадочной романтики была столь смехотворной, что нечего и говорить об уместности такого рода вылазок. Но экстремальное покорение Ленкиной девятиэтажки оказалось необременительной и нестрашной кампанией, то есть… почти.
По сварной лестнице под высокий потолок за дверь с висячим замком, ключ от которого неосмотрительно обитал на связке, отданной Борисом Ильичом, они попали на скучный, в крысиных экскрементах забетонированный чердак, а уже оттуда за щитом из толстолистового железа, привинченный здоровенными гайками к основанию из наваренных болтов (выкрутить гайки, прибегнув к чудо-инструменту бобка, для рукастого Тараса оказалось минутным делом), обнаружилась плоская крыша, покрытая толем, местами вздутым от жары и потрескавшимся от морозов. За лифтовой комнатой с элементами бетонного декора покорителям открылась не слишком живописная картина Купчино с тридцатиметровой высоты, загромождённая грибками мусоропроводных шахт и тарелками антенн, соединённых между собой проводами телесети. Впрочем, Ленку это не смутило: в день своего рождения она собиралась наслаждаться притопленными на излёте белых ночей сумерками города и огнями его исторического центра. При хорошей погоде можно было доглядеться и до самого Петергофа, пока же в перспективе просматривался только пулковский аэропорт за асфальтным бюгелем кольцевой автодороги. Воздух стоял, зудел парною духотой, которая здесь, на высоте переносилась почему-то тяжелее. В висках поламывало, ворочалось что-то инотельное. Нет, небольшой, похожий на простудный, ветер-сквозняк всё же бражничал по крыше, но лучше бы его не было вовсе. Из-за дрейфующего натяжеле надоедного амбре из пищевых отходов и канализационных масс с легчайшей едко-серной примесью, моментально навеяло во весь голос: я, ассенизатор и водовоз, революцией мобилизованный и призванный…
Источником духотворной поэзии служили, судя по обострению строфы, грибки отдушин.
— Воздух — вдохните-ка! — относительно свеж! — Нэнси ядовито улыбнулась — язвительный злодей забавлялся ситуацией. — Какой прелестный кондовый аромат!
— Уже внимать тонким вибрациям твоего сарказма?
— Можно, — разрешила Нэнси.
— Ты привыкнешь, — беспечно сказала Ленка. — Ещё месяц или два в Питере и ты просто перестанешь это замечать.
— Исключено, — покачала головой она.
— Была такая древняя профессия в замечательной Руси, — проронил Тарас, — то есть… я хотел сказать замечательная профессия в древней Руси. Называлась золотарь. Знаете, чем занимались?
— Чувствую подвох, — безразлично откликнулась Нэнси после томительной минуты, рассечённой гнетущей паузой: она знала этот вытеснённый из современного языка эвфемизм, но решила поощрить эрудицию Бубы, лишь бы не обижать того своей осведомлённостью. — Напрашивается очевидное. Намывали золото?
Когда Тарас улыбался, в уголках его безмятежных, чуть-чуть восточных глаз собирались тонкие морщинки, придавая лицу благосердый вид. Случалось это часто. Можно сказать, улыбаться — было привычным бубыным состоянием. Вот и сейчас он растянул губы в снисходительной усмешке, позволяя демонстрировать тонкий расчёт на ответ-ловушку.
— Ага, именно что намывали, — хохотнул он. — Его так и называли в шутку «ночное золото». Из погожих мест.
— Из отхожих! — поправила Ленка. — А почему «золото»?
— Старались, наравне с золотодобытчиками, — признала возможной другую версию Нэнси. — Неспроста же их называли старателями.
— Я думаю, это был стёб, — простодушно сказала Ленка. — А ещё я думаю, не надо бороться с теми, кто портит воздух в сие граде. Если угодно, это наша… — она не отказала себе в удовольствии покатать во рту, как шарик подтаявшего мороженого, со смаком, это словечко, — м-м-м, наша культурная идентификация… наравне с шавермой, поребриком и булкой.
— Важно понимать, что ты всего лишь человек, и не притворяться говном.
— Буба! — укоризненно покачала головой Ленка.
— А что? — сказала Нэнси. — Всё правильно. Европейцы говорят, что японский лотос пахнет как роза. Но ведь это роза пахнет как японский лотос…
Выбор «поляны» для пикника пал на Ленку, единственной желавшей признавать смрадный феномен петербургской идентичности. Искусственная низина для водного стока, куда была свалена часть ремонтной лебёдки, благоухала особенно. Буба ухватился за конец троса, сбухтил его на локоть и зашвырнул подальше, дабы не мешал репетиции. Как на заклание, в центр лобного места был водружён складной стол и три дачных стула. Красивым и могучим белокрылым взмахом Ленка покрыла дешёвый пластик столешницы камчатной скатертью, а Нэнси помогла расставить столовые приборы. Омлет томился тут же, на медленном огне туристического примуса под крышкой глубокой чугунной сковородки, фамильной святыни Бориса Ильича, оставленной в безвозмездное пользование.
— Отсюда завтра, — мечтательно проговорила Ленка, принимая из рук Бубы тарелку с порцией яичницы, украшенной листиком-двумя подвялой петрушки, — мы будем пускать небесные фонарики желаний, а ты, Тарасик, я надеюсь, всё же окунёшь нас с головой в чарующий мир музыкальной перкуссии.
— Лучше: не окунёт, а макнёт. Стилистически больше подходит к месту. — Нэнси выстраданно улыбнулась и покорно повязала воздушный бантик на устах. — Прости, ничего не могу поделать со своим сарказмом. Но разве тебя не напрягает этот запах?
Ленка строго, как завуч на нерадивого ученика, посмотрела на подругу.
— Хочешь историю? Недорого.
— Даже не буду торговаться.
— Тогда слушай! — Ленка проделала полубандюганский жест, подсмотренный в американских фильмах: приблизила пальцы к своим глазам и ткнула ими же в глаза подруги, мол, я за тобой присматриваю, красотуля. — В усцелемовском зверинце побывали неподкупные сотрудницы из какого-то природоохранного комитета. Ну такие, знаешь, тётки, по центнеру каждая, которые любят всех и каждого гиперопекать своей заботой. «Ты шапку одел?». «Закрой рот и ешь!». Ну и так далее. Пощёлкали поверенными приборами… потом своими официальными физиями и выкатили во-от такое извещение, мол, обратите внимание на выбросы в воздух вредных веществ при закваске кормов. — Ленка зло ухмыльнулась. — Это, безусловно, самое важное, на что надо обратить внимание! Вика, конечно, выпендрилась: заказала десяток тропических улиток. Ахатина фулика. Мезофауна родом из тех краёв, откуда старая коза Абени.
В этом месте ухмыльнулся Тарас. Барабан, обтянутый козлиной кожей, скорее всего, был из Гонконга, но легенда о его африканских корнях обихаживалась едва ли не крепче, чем легенда об уроженке Тибета Тамаре, заказанной у мастера Виталия Чжун-гьяо из далёкого прекрасного Хабаровска.
— Их используют, — продолжала Ленка свою историю, — для биоиндикации водных и воздушных сред. Они реагируют на появление вредных веществ даже в микроконцентрациях. Так вот, короче, на второй день пребывания в нашем уютном зооуголке улитки захандрили. Усцелемова свой эксперимент свернула. Понятно же, что тёткам из комитета показывать больных моллюсков, что расписываться в своей некомпетентности. А поскольку улитки жутко дорогие, директриса решила их полечить свежим питерским воздушком. Хм, да. Не придумала ничего лучше, как отправить на Пироговскую набережную к крейсеру «Аврора». Делегировала сотруднику задачу выдвигаться вместе с террариумом. Вечером того же дня ахатины кончили своё земное поприще. Отдали улиточному богу душу — все десять штук!
— Где мораль истории? — спросила Нэнси.
— Мораль же в том, что прекрасный грязный Петербург несовместим с жизнью этих нежных созданий, не привыкших вдыхать вонь и смрад большой помойки. Зато он совместим с петербуржцами и гостями города, потому что человек — не улитка, выдюжит и не такое.
— Вот спасибо на добром слове.
— Ты привыкнешь! — без всякой злобы, просто констатируя, повторила Ленка.
— Чему поклонишься, тому и поглумишься, — примирительно сказал Тарас.
— Наоборот, ты, великий утешитель, — хмыкнула Ленка и громоподобно расхохоталась. — Бубочка, ты уморительно смешной, настоящая инкарнация Билли Конноли38…
— Нет, не так, — подхватил Буба Ленкин тон. — Билли Конноли, мать его. Выкидываю табличку «Здесь нуно смеяцо».
Он радовался любому заходу, даже (особенно!) случайному, насмешить столь обожаемую им пассию.
— Бубочка, милый, а кофе срежиссируешь? — попросила она, коварно пользуясь моментом, и тонко намекнула: — Кофейник вместе с банкой кофе я оставила на кухне.
Тарас смиренно согласился, тем более, что свежесваренный кофе был ультиматумом, который Нэнси поставила Ленке за восхождение на крышу. Буба поймал на себе целых два умоляющих взгляда и смиренно поплёлся на выход.
— Уже влилась в рабочий коллектив? — спросила Нэнси, не подозревая о служебной драме.
Ленка по-прежнему хранила при себе с сомнением и колебаниями написанные от руки два заявления. Она пока не знала, какому из них дать ход или, может, не давать вовсе, или же пустить по адресу оба. Это подспудно тяготило её даже сильнее, чем неразрешённость отношений с Глебом, который вчера был на удивление угрюм и неприветлив, хотя и обещал перезвонить — но пока не позвонил (расставшись пять часов назад, она бы удивилась обнаружить его входящий в своём мобильном, но, чёрт возьми, что касается парней: нельзя быть уверенным ни в чём на 100%). Поэтому Ленка, на всякий случай прощупав рельеф мобильника в нагрудном кармане комбеза (нет, не забыла, вот он в режиме ожидания звонка), решила на вопрос подруги неопределённо качнуть головой и сослаться на другую тему.
— Помнишь нашу поездку в Изборцы?
— Такое не забудешь, — невесело усмехнулась Нэнси.
— Так вот, Тарас в курсе.
— Это не я…
— Это я рассказала, — оборвала Ленка.
— Ты же заставила меня поклясться Жаном Батистом, — укорила Нэнси за несдержанность подругу, — и сама не сдержала клятву.
— Да чёрт с ней, с клятвой. Во-первых, я всё равно случайно проболталась бы, такой я человек, да. Когда была маленькой, папа убеждал, что меня принёс не аист, а птица-говорун с планеты Блук. Он был прав!
— А во-вторых?
— Да… во-вторых… Во-вторых, Тарас считает, что Глеб симпатизирует тебе. И он ведь тоже прав!
— Глеб симпатизирует мне, а ты решила под шумок прикинуться роялем?
— Нет, наоборот! Пока есть алиби, кую железо.
— Ой, заиграешься, Ленка, — предупредила Нэнси. — Твой Тарасик, кажется, не производит впечатление дурного или глупого человека.
— Что ты хочешь этим сказать?
— Ничего, — пожала та плечами. — Просто не понимаю, если ты считаешь так же, зачем вешаешь на него ярлык с надписью «чмырина»?
— Фу, вот прямо бр-р-р! Зачем так грубо? Это ведь не так!
— Так, подруга, так! Спроси любого парня, кем он чувствует себя, когда его записывают во второй состав. А чувствует он себя распоследним чмом, потому что с ним и поступают точно так же.
— Не трави душу, — вздохнула Ленка, — и так тошно от всей этой ситуёвины.
— Мне не показалось! — заметила Нэнси. — Впрочем, жизнь — мудрый учитель, она научила меня не совать нос в чужие дела, а это дело — исключительно твоё, личное! Единственное, чего прошу: не впутывать меня в свои дворцовые интриги. Договорились?
— Ну, не злись, — попросила Ленка.
— Я и не злюсь, — сказала-выдохнула Нэнси, но осеклась на полуслове. — Подожди, ты о чём?
— Я не помню, — Ленка нервно потянула палец, щёлкая суставом, — говорила я тебе, что Тарас знаком со Скавром?
— Допустим, что-то такое ты говорила, хотя это имя я впервые от тебя же и услышала. А что?
— Ты знала, что Буба, кроме прочего, имеет отношение к подпольной деятельности «Транслитрувера»?
— Транслитрувер? — повторила Нэнси. — Это что, какая-то секта?
— Смотря что ты называешь сектой.
— Не темни, Ленка, говори, как есть!
— Говорю, как есть, — послушно повторила она и снова хрустнула пальцами. — В общем, это клуб с функционалом типографии. Такая, знаешь, книгопечатня по интересам. Я в душе не чаю, кто там был у истоков, кто вдохнул жизнь в эту дикую, но всё-таки прикольную идею, знаю только, что вначале транслитруверианцы ограничивались самиздатом по чёрной магии и оккультизму, но когда клуб разросся, то расширились и интересы. Кроме запрещённых книг по чёрному шаманству, кабалистике и сатанизму, появились и не запрещённые, но не находимые в продаже.
— Есть интернет, — нетерпеливо перебила Нэнси, не понимая к чему ведёт Ленка. — Разве залить файл на форум или отправить другу на имейл не проще?
— Делай скидку, года стояли на дворе миллениальные, тогда было грустно с интернетом, в том смысле, что он создавал впечатление зыбучего, сыпучего хаоса: хорошей оцифрованной литературки толком не было. Ну да, был Мошков, все ходили к нему, но только чтобы читать с экрана Сорокина-Пелевина-Акунина. Человек же всегда проявлялся способностью выносить невыносимое. А когда нет альтернативы, как иначе?
— Подожди, исходники они-то брали в электронном виде. Что мешало их заливать в сеть?
— Блин! Да ничего! Бумага — это манифест. Это посыл, это месседж. Нам как бы говорят — у нас тут, на секундочку, традиции. Традции ещё со времён приснопамятного Гутенберга. Эти традиции говорят сами за себя — мы особенные, мы не миримся с новаторством эпохи — не то, что вы.
— Во всём этом есть две нотки лицемерия. Во-первых, открытие Гутенберга в своё время было точно таким же новаторством, до которого определённо были традиции с письменами на пергамене и глиняных дощечках. А во-вторых, цифровая эпоха — это часть обширной научно-технической революции и, как ни крути, результат биологического прогресса индивида.
— Ты, наверно, права, — подумав, ответила Ленка. — Как биолог, я не могу этого не признавать. Значит, здесь что-то другое. Может, причина в куртуазном маньеризме, может, даже в извращённом фетишизме. Думаю, ребзи придерживаются той философии, что однажды бумажная книга, не важно какого содержания, окажется настолько редким зверем, что станет самоценна, ну, как чистое искусство.
— Содержание всегда важнее формы.
— Нет, важна и форма подачи, и содержание. Бумага — это кайф. Так считают эти чуваки. Транслитруверианцы. В форме подачи «бумага» они с фанатичным упорством фигачат прекрасные по содержанию вещи. Одно другому не помеха! Я сейчас тебе парочку примеров, чтобы просто поняла… — Закатив глаза, Ленка стала перечислять по памяти. — «Мануал вещуна»39, «Даодэцзин», «Фиолетовый иллювий». Потом пошли поэты вперемешку, известные и неизвестные: Бардодым, Григорьев, Блок, Пеленягрэ, Белый, Маяк. Как сказал один пишущий человек другому пишущему человеку: если вас нельзя не прочесть, вас прочтут. А такие реакционные вещи, как «Пятый интернационал» нельзя не прочесть! — Она запнулась и внезапно, с восторженно-боевым настроем, соблюдая пунктуацию и логическое ударение, принялась декламировать: — Поэзия — это сиди и над розой ной… Для меня невыносима мысль, что роза выдумана не мной. Я двадцать восемь лет отращиваю мозг не для обнюхивания, а для изобретения роз…
— Маяк залез под корку и тебе, как я вижу, — улыбнулась Нэнси. — Но: остановись! То есть это круто, однако я не понимаю, о чём ты? То есть понимаю, но… при чём здесь я?
— В общем, я рассказала Тарасу про находку чёрных копателей, про ту книгу, что ты видела в машине. И про сон твой тоже рассказала.
— Ленка, тебя, в самом деле, принесла птица-говорун с планеты Блук, — укоризненно покачала головой Нэнси. — Тарасу было необязательно знать мой сон. Я же рассказала только тебе, по секрету.
— Но ты не брала с меня клятвы молчания!
— В следующий раз буду иметь в виду и заставлю тебя поклясться не только Ламарком, но и Дарвином! — рассердилась она, подозревая, что даже обет молчания не сможет заставить этого человека сохранить тайну. На таких же страшных условиях она захочет поделиться ею с кем-то и — непременно поделится!
— Ланно-ланно, в конце концов, ничего ж такого предосудительного с тобой в том сне не происходило, ничего такого, что было бы стыдно говорить благовоспитанным девочкам. Я просто сказала Бубе, что сновидениям не обязательно предсказывать будущее, они могут показывать и то, что происходило в реальности раньше. И вообще, у тебя много символов в том сне, это любопытно! Паук во сне — это хороший предвестник, это значит, что тебя ждёт наяву стремительный успех. А вот то, что ты пережила испуг, это не очень хорошо. Страх — это всегда предупреждающий знак. Страх во сне отражает реальные тревоги спящего.
— Спасибо за подробный психологический анализ, но всё проще, чем ты думаешь, — развела руками Нэнси. — Пауков я боюсь с детства, и моя реакция во сне, в общем, предсказуема.
— Допустим, — неожиданно быстро сдалась Ленка и противно заскрежетала вилкой по тарелочной глазури, кромсая остатки омлета. — Любопытна твоя догадка относительно того, что найденная копателями книга из храма. Буба её всецело поддержал. По твоему описанию он смог узнать, что это за книга.
— Каким образом?
— Ты говорила, что к переплёту была пришпилена бумажка с буквами и цифрами.
— Та-да-а-ам! — восторжествовала Ленка. — Это каталожный код. Тарас выдвинул гипотезу, но подтвердили её только в «Транслитрувере».
— У них есть эта книга?
— Нет, но у них есть каталог, по которому они через библиотечные архивы получают доступ к интересующим их текстам.
Нэнси, так и не притронувшись к еде, отодвинула тарелку и промокнула губы праздничной салфеткой с надписью «С днём рождения, малыш!»
— Очевидно, ты ждёшь вопроса: что это за книга?
— Yes of course, my darling.
— Я его задала, май дарлинг!
— Я бы тебя ещё помучила во имя закулисной интриги, но так и быть — это Дьявольская Библия.
— Та, про которую Стёпа говорил вчера? Как его, — Нэнси наморщила лоб, припоминая имя автора. — Тони ЛаВей.
— Ты всё перепутала, подруга. ЛаВей — автор Сатанинской библии. А это — Дьявольская.
— Разве, не одно и то же?
— Блин, нет! Лавеевская написана в двадцатом веке и на русский переведена, а та, про которую говорю я, на латыни, перевода на русский не имеет, и, вообще, издана чёрт знает когда. Тарас утверждает, что это было до инкунабул.
— До чего?
— Ну, до первопечатных книг Гутенберга. Их так называли, они типа в наше время свирепая архаика, которую днём с огнём…
— Значит, книга настолько редкая, что в обычной библиотеке её не взять?
— Шутишь? Разумеется. Можно только в необычной, — Ленка склонила голову набок. — Называется Национальная библиотека Швеции. Оригинал хранится там. Официально — по каталогу — издание имеет название «Гигантский кодекс». Буквы на корешке, что ты видела GC — не монограмма, а заглавные латинские литеры издания. И она реально гигантская. Если верить описанию из каталога, кодекс весит какое-то жутко большое количество шведских фунтов. Не помню точно сколько, но до фига.
— Шведский фунт — это сколько?
— Вообще, без понятия. Говорят тебе: много. Не буду врать, но что-то под сто кило выходит. Точнее не скажу.
— Книга может столько весить?
— Эта может! — авторитетно заявила Ленка. — Тарас говорит, что это самое большое по размерам и объёму рукописное издание.
— Но тогда его версия ошибочна, — отрицательно покачала головой Нэнси. — То, что видела я было солидным «кирпичом» в шикарном переплёте, который от силы потянул бы на пару-тройку килограммов, но никак не сто! К тому же, ты говоришь: старше первопечатных книг. Гутенберг придумал свой станок в середине пятнадцатого века, значит, кодексу пятьсот… шестьсот лет? Слушай, при всём желании книга не тянет на этот возраст.
— Да ты откуда знаешь, если даже не притрагивалась к ней?
— Переплёт, — сказала Аннушка. — Её переплёт говорит о том, что она сильно моложе. Я конечно не спец, но разницу увижу между книгой пятнадцатого века и девятнадцатого, а эта, рискну предположить, что как раз из девятнадцатого, уж точно не старше.
— Может и ошибся, — благосклонно согласилась Ленка, — а может, ты видела обложку репринтного издания, уменьшенную копию «Гигаса», отпечатанную гораздо позже оригинала.
— Не слишком ли много дьявольщины для одной крошечной деревни в Ленинградской области? Загадочная адописная икона, теперь ещё и Дьявольская библия. Этот местечко ещё даст фору «нехорошей квартире» Михаила Афанасьевича.
— Ну, а что? Аннушка — одна штука, — усмехнулась Ленка, — в наличии. Образ «князя тьмы» — две штуки — тоже имеется. Осталось разыскать Бегемота, Фагота и Азазелло, и можно устраивать шабаш ведьм, тем более, что сцена шабаша у нас вчера вышла зачётно.
— Да-да-да… Вот только булгаковский мистицизм — он пусть и гениальный, но вымысел, а это реальная жизнь, заметь, моя жизнь, невымышленная, в которой нет места свите Воланда и прочим нечистым фокусам. Я тихая девочка и жизнь моя такая же: не шалю, никого не трогаю, починяю примус.
— Понимаю, — кивнула Ленка, — а я тут такая вся из себя предлагаю тебе поверить во что-то совершенно невероятное!
— Маловероятное, — поправила Нэнси.
— Если что, это и моя жизнь тоже, я ведь там была с тобой. Давай попробуем пойти логическим путём.
— Каталожный код и заглавные литеры названия не могут быть случайным совпадением.
— Совпадения возможны, случайности — нет. Всему есть причина! — сказала Нэнси. — Но даже если признать твоё подозрение обоснованным, скажи, какая причина чёрным археологам охотится за новоделом? Такими вещами заниматься они не станут. Даже я, человек далёкий от коллекционирования, понимаю, что копия всегда будет цениться меньше подлинника.
— Если бы коллекционеры не страдали культом неодушевлённых вещей вкупе с чудачеством и крутизной, большинство из них вполне обошлись бы качественными цветными ксерокопиями экспонатов. Однако мы возвращаемся к вопросу содержания и формы. Есть люди, которые предпочитают обе эти категории, — Ленка подмигнула подруге. — Буба уверяет, что даже подробная фотокопия рукописного свода, попади он в частные руки, вызовет сенсацию.
— С чего бы?
— Ненаходимо иметь поступь к лимоннику, — послышалось за её спиной. Нэнси обернулась на голос Бубы. В одной руке тот держал эмалированный кофейник с загнутым в виде волнистой тильды носом, другой — размашисто подёргивал из-за неглубокого пореза в пазухе между большим и указательным пальцами.
— Необходимо иметь доступ к исходнику, — расшифровала Ленка: — Ты где порезался, горе луковое?
— На лестнице, — коротко ответил он и по детской привычке присосался к кровоточащей ранке. — Нифефо стфашнофо!
— Ничего страшного, — по обыкновению перевела Ленка и бережно перехватила кофейник у Тараса.
— Да, я поняла, — не смогла сдержать улыбки Нэнси. — Надо бы обработать рану антисептиком.
— Есть йодный карандаш в аптечке. И пластырь. И бинты.
— Прекратите, — остановил их Тарас. — Просто царапина. Вы, кажется, диспутировали о «Дьявольской Библии».
— Ого! Диспутировали! — оценила Ленка. — Крутое слово. И правильно сказал! А есть такое слово?
Она посмотрела на Нэнси.
— Диспутанты диспутируют в диспуте, — сказала она прозвучавшую как заклинание скороговорку. — Почему нет? Только это не про нас. Мы же ведём не спор, а обсуждение. Тогда уж — дискутировали.
— Дискурсанты дискутировали дискурс, — предложила Ленка свой вариант.
— Не заставляй меня повторять! — взмолился Тарас. — Всё равно не смогу.
Ленка рассмеялась в голос. Её кругленькое, покрытое золотистым пушком лицо казалось особенно милым. Тарас невольно любовался ею. Он долго всматривался в её горящие фиалковым огнём глаза, как бы желая прочесть в них всю правду, все самые тайные чувства и движения мысли. И Ленка, учуяв это подробное полуутаённое выискивание, немедля вернула Бубу в русло их беседы.
— Да, мы дискутировали о «Дьявольской Библии», — сказала она, сдвигая брови.
— Почему, кстати, «Дьявольская»? — спросила Нэнси. — Это что, типа, библия наоборот? Вроде той иконы с обратным эффектом, которую мы так и не увидели.
— Не-е-ет, — замотал головой Тарас.
— Я объясню. Можно-можно?
Ленке не терпелось рассказать самой то, что она узнала днём раньше от Тараса. Тот сделал великодушный жест одобрительной гримасой, и она застрекотала, как швейная машинка «Зингер» стежками слов.
— Весь сыр-бор из-за одной крамольной иллюстрации на странице номер двести девяносто. Это рисунок Дьявола, выполненный в полный рост. Он является изобразительной частью описания реального случая экзорцизма. Вообще же, «Гигас» состоит из канонических текстов Ветхого и Нового заветов, а также трудов всяких умных чуваков, которые, если я ничего не путаю, были весьма толерантны к Моисею и Христу. Ах да, любопытна предыстория. По легенде монах, приговорённый к смертной казни, поклялся написать за одну ночь самую большую Библию и тем самым искупить свою вину.
— Вряд ли, это был путь к просветлению, — покачала головой Нэнси. — Этот монах ступил на скользкую тропу фриланса и совершил самую тотальную ошибку «вольного копейщика».
— Какую? — осведомился не без интереса Буба.
— Он утвердил сроки. Ещё и подписался под ними. «За ночь успею»? Это же мечта любого заказчика. К сожалению или счастью, имеющая мало места к реальной жизни.
— Не забывай, это легенда, — напомнил Тарас. Кто-кто, а он знал цену красноречивому преданию.
— Да, — кивнула Ленка, — но каждая выдумка на чём-то основана, тем более, что монах и сам засомневался в осуществимости прожекта, но было поздно: клятва дана.
— Почему я не удивлена! — с азартом повышенного самомнения промурлыкала Нэнси и утвердительно кивнула. — И, между прочим, нарушать клятвы кое кому не привыкать. Не правда ли, май дарлинг?
Ленка, не прерывая беседы, исподволь исполнила ещё один немиролюбивый жест — провела пальцем по горлу.
— Так вот, — как ни в чём не бывало продолжала она, — сообразив, что погорячился и реализовать на практике задумку, как ни пыжься, не получится, он разрулил проблему весьма незаурядным способом: продал душу дьяволу в обмен на помощь с книгой. Условие их сговора было, в общем, простым: князь тьмы затребовал свой портрет в священной книге.
Буба окинул девушек вопрошающим взглядом.
— Ну, понятно, — кивнула Нэнси и мысленно дала зарок впредь подавлять свои издёвки каким-нибудь менее травмоопасным приёмом ведения беседы. — Неплохой пиар-ход, если из-за одной картинки богословский свод перелинчевали в пандемониум.
— Да, было любопытно подержать в руках хотя бы копию, — Ленка мечтательно зажмурилась, — полистать её…
— А зачем тебе теологические тексты на латыни? Что, в принципе, ты можешь почерпнуть из канонических фальсификаций ранних текстов, отличающихся от более поздних дописками и допечатками?
— То есть, — Тарас собрался с духом, чтобы задать волнующий его вопрос, — ты считаешь Библию фальш… фальшификацией?
Нэнси пожала плечами.
— Таковы уж особенности моего рационализма, не принимающего на веру ничего без доказательств.
— Иисус тоже?
— Что «тоже»?
— Не веришь, что он был…
— Люди! — воскликнула она, обращаясь не предметно к Тарасу или Ленке, но безусловно имея их в виду. — Интерпретируйте свои вероисповедания в собственной парадигме. Вера — одинокое дело, но почему-то человеку всегда хочется рассуждать на эту тему. А рассуждать тут нечего. Человек всегда во что-то верит. Вот ты, Тарас — в сакрализацию книги и печатного слова, ты, Ленка — в вещие сны и приметы, а я — в единорога, йети и цветущие магнолии на Марсе. Вру, конечно: не верю, потому что Бигфут по доказательной базе ненамного дальше Христа ушёл… даже со своим пятьдесят пятым растоптанным.
— А плащинская туриница? — попытался воспротивиться Тарас. — А четыре Евангелия?
— Да брось. Про туринскую плащаницу я вообще молчу, а в упомянутых тобою книгах Матфея, Иоанна, Луки и Марка как раз сильна эта ваша готическая закваска, такой тяжёлый несмываемый налёт мистики для… не знаю, нагнетания атмосферы, что ли. Достоверных данных объективно нет. Скорее всего — но это не точно! — образ Христа собирателен. Ну было несколько проповедников мессианского толка, таких бродячих менторов. Они же были всегда в достатке, в любое время, при любой эпохе. Как это водится, переврали — умышленно или нет, не суть — и получилась история, что «зыбкий свет струит».
— Во что веришь ты?
— Я верю, что человечество рано или поздно научиться жить разумно. Да, для этого мало доказательств, это вопрос именно веры. А вот как оно там было две тысячи лет назад ни одна священная книга не скажет. Да мы, наверно, никогда уж не узнаем. Но был Иисус или не был, какая, по сути, разница. Важнее чтό он значит. Для тебя. Для тебя. Для меня. Кто-то видит в нём авторитарность, кто-то — моральное начало, кто-то не видит ничего, но это уже что-то, потому что видеть там, где ничего нет — это, как сказал Малиновский40, традиционно разыгрываемое чудо, элементарная потребность человека в чудесах. Идея веры давно подменена идеей обряда.
Тарас терпеливо дожидался паузы, а дождавшись её, вдруг разволновался и забыл, что хотел сказать. Но в лёгких уже гулял воздух, набранный для стремительной фразы, и он выдохнул её, вернее, первое, что пришло на ум.
— Мы хотим чуда, — сказал он, — и получаем его.
— А по мне, так, хоть горшком назови, только в печку не ставь, — тактично отвергла Нэнси Тарасов домысел. — Ну, хочется кому-то приложиться к культу религиозного чуда, да на здоровье, не жалко ведь, только других не надо приобщать. Пусть каждый сам решит, нужен ему символ или он уж как-нибудь обойдётся голыми трактовками фактологических исследований.
Нэнси затихла, чтобы отдышаться, перевести дух. Лицо её горело. Не получалось вести беседу безвредными приёмами. Везде натыкалась на опасность проговаривания проникновенной прямой речи.
— С точки зрения биологии, — Ленка выбросила вперёд растопыренные пятерни своих мягких рук, как бы призывая присутствующих не опускать планку конструктивного общения, — ничего плохого в сигнальном поведенческом акте, коим является ритуал среди животных при общении друг с другом, нет. Но в том-то и дело, что религиозные ритуалы человека обращены не друг на друга, а не некую высшую эманацию.
— В любом случае, — добавила Нэнси тоном человека, неожиданно решившего, что окружена плотным пространством глухоты, докричаться — не докричишься, но голос сорвёшь. — Даже если я права — и книга добыта из разрушенного храма, даже если прав Тарас, — она посмотрела на Бубу, молчаливо наполнявшим её чашку чёрным кофе, поблагодарила кивком головы, — и это редкая копия рукописного свода, нам то что с того? Репринт, скорее всего, уже где-нибудь в частной коллекции. Или, что вернее, наоборот, вместе с теми прохвостами осел на дно на очень-очень продолжительное время.
Ленка положила щёку на плечо Бубы, втягивая тёплый запах его шеи.
— Да, мы здорово их шугнули, — довольно сказала она, безумно радая сменить тему, хотя бы потому, что обронённые слова требовали время «на подумать». — Думаю, они испачкали штанишки.
— Ты что, ты считаешь, Глеб имел какое-то право так поступать? — внезапно накинулась на неё Нэнси. Залпом в несколько широких глотков она опрокинула в себя содержимое чашки. — Он ведь не собирался тормозить, а если собирался, то просто не успел бы.
— Эти двое отпрыгнули же? — Тарас тревожно перевёл взгляд с Нэнси на Ленку. — Ты говорила, они успели.
— Лично я не уверена, — сказала Нэнси, — что мы их наверняка не сбили. Может, их бездыханные тела до сих пор валяются в кустах.
— Не нагнетай, подруга! Удара не было. Так что: не может!
— Хорошо, — кивнула Нэнси. — А как тебе такой вариант развития событий: они найдут нас и устранят, как единственных свидетелей.
— Как найдут?
— Элементарно! По номерному знаку. Ты знаешь, как легко отыскать владельца по номеру машины?
— По щелчку пальца, — авторитетно подтвердил Тарас и Ленка посмотрела на него ошеломлённо.
— Тебе откуда знать?
Она охмурела лицом и процедила сквозь зубы недовольно:
— По-моему, вы оба параноите. Никто не будет устранять нас из-за какой-то книги. Игра не стоит свеч.
— Тут надо-то всего троих свидетелей убрать.
— Подумаешь, — поддакнул Буба, — тройное убийство…
Он откровенно старался придать голосу суховато-небрежный тон. И прислушивался: получилось ли?
— Дичь! — одёрнула Тараса Ленка, так, словно говорила команду «фу». — Я знаю, это стёб, так что прекратите. Оба! Милашевич вам не запугать.
Но глаза выдавали Ленку, на Ленку без мучительной неловкости теперь нельзя было смотреть.
Залился в нагрудном кармане комбеза телефон, разрывая тишину искорёженным металлом механическим голосом «Хэлло мото», и Ленка, чуть не поперхнувшись кофе, судорожно полезла за ним. Щёлкнула «раскладушкой», разламывая, похожий на бритву новомодный «рейзер» в намекающем кораллово-розовом «девчачьем» корпусе (ненавязчивый продакт-плейсмент делал своё дело), взглянула на дисплей и её пальцы нетерпеливо задрожали.
— Уже нашли? — с усмешкой жал своё Тарас, но понял, что «заигрался», погладил ладонью Ленкину щёку, встревожено осведомился: — Всё хорошо, Ленчег?
От его прикосновения, а может от непривычного для Бубы обращения, она вздрогнула, словно по её телу пропустили ток. Вскочила, бросила уже через плечо что-то типа «нормульно-нормульно» и удалилась к ржавым перилам, так чтобы телефонный разговор оставался приватным. Небезопасные перила едва доставали Ленке до бедра, и Бульба то и дело обеспокоенно оглядывал маячивший по краю крыши женский профиль.
— С работы, наверно, — пожала плечами Нэнси и, пытаясь отвлечь Бубу, попросила: — Есть кофеёк ещё? Подлей, будь другом.
Она опрокинула в себя несколько глотков, прежде чем Ленка окончила короткий разговор и вернулась к их «поляне».
— С работы звонили, — сказала она.
Нэнси развела руками и покосилась на Бубу: мол, видишь, я же говорила.
— А кто? — спросил Тарас.
— Сама Усцелемова снизошла до диалога, — заключила Ленка. — Слушай, Бубочка, ну мне надо метнуться в её зверинец.
— Говорит, не телефонный разговор. Можно, конечно, было послать, у меня сегодня честный выходной, но тон её мне не понравился.
— Могу поехать с тобой.
— Не надо. Сама справлюсь.
— Мне не сложно.
Понесло человека на доброту, раздражённо подумала Ленка, а вслух сказала:
— Ты, Бубочка, останься. Кому-то нужно намарафетить крышу после нашей репетиции, так ведь? А мы метнёмся с Нютиком.
— Со мной?
— Ну да. Поможешь на обратном пути выбрать торт и дотащить его на флэт.
— Я не могу, — запротестовала Нэнси. — У меня заказ горит! Я душу дьяволу не продавала, чтобы «вжух и готово!», как у легендарного монаха…
— Тс-с, подруга! С Усцелемовой я разберусь, минутное дело. Зато в торговом центре есть хороший кафетерий. Съедим по десерту, будь они не ладны эти лишние калории. День рожденья есть день рожденья.
— Он у тебя только завтра, — напомнила Нэнси. — Так что нет, ни за какие коврижки я не куплюсь.
— Да брось. Никто ещё не отказывался от самого крутого пирожного в мире.
— И что это за самое крутое пирожное в мире?
— Подруга, это «Картошка». Классический рецепт.
— Эпикурейка, — хмыкнула Нэнси.
— Любому возразившему — кипяток в лицо.
— Она плеснёт, — подтвердил Тарас и на всякий случай отодвинул кофейник дальше.
— Хорошо, — тяжёло вздохнула Нэнси. — Но помни, Золушка, что карма — это соотношение действий и последствий.
— Плевать, — сказала Ленка. — Похоть, тщеславие и углеводы — три самых главных людских порока, и я не намерена идти на поводу сомнительной добродетели. По крайней мере, в той части, что касается десертов. Так ты со мной?
Глава 10. НЕ МОГАДИШО И НЕ РОТТЕРДАМ
Малая Балканская вытягивала свою затёкшую, шершавую, в потресканном асфальте спину, ещё лоснящейся от поливочных машин, аккурат до телепорта. Именно по ней удобнее, быстрее всего было добираться от улицы Олеко Дундича, где в одном из корпусов дома номер девятнадцать обитала Ленка. От Балканской площади автобусом, троллейбусом, трамваем или метро можно было телепортнуться без всяких парадоксов в любую точку города или за город, благо рядом в область пролегала железнодорожная ветка, по которой, весело стуча колёсами, проносились ряженые в граффити поезда.
Согласно топонимической традиции (в таких случаях обычно добавляют, что так сложилось исторически) в ряде названий улиц района Купчино преобладала балканская тематика. Социалистический блок Юго-Восточной Европы подарил городу на берегах Невы Забалканский проезд, Загребский бульвар, улицы Ярослава Гашека и Олеко Дундича, Будапештскую и Белградскую улицы. Средоточием народно-оголтелой разнузданности, по понятным причинам, служила сама площадь, где для полноты картины уже в постсовестком Петербурге появился памятник герою Гашека — солдату Швейку. Кроме бравого артефакта, отлитого на деньги щедрых меценатов, успевших высвободить плечи от малиново-пиджачных выточек и облачиться в респектабельные тройки Гуччи, возникли и другие приметы эпохи — с отсылкой к тем же меценатам. Торгово-развлекательные колоссы стали расти со скоростью агрессивной раковой опухоли. Один из них — «Балкания Нова» — с гладкими и блестящими, как облизанная карамель бочками-стёклами, лихо откусила треть Балканского майдана. Тем не менее, снискала у населения успех. На перекрёстке базарных рядов, бывших здесь ещё вчера, засветились новые интерактивные зоны коммерциализированной жизни на западный манер, с которой русский человек всё никак не мог ужиться, приобвыкнуть. Стекловидные колбы скоростных лифтов, облицованных дорогим шпоном, сновали по многоэтажному провалу озеленённого атриума, доставляя к ковровым дорожкам, податливо принимающим шаг. Вместо суконной простоты — шкатулочное обрамление, вместо замшелого сторожа с мениском и одышкой — угрюмые и бдительные чоповцы с уоки-токи и дубинками-резинками. Декоративные фонтаны, золотые рыбки, гирлянды из шаров и всюду указатели (как в метро) — всё создавало ошеломляющее впечатление. Рядом с торговым комплексом было тоже излишне многолюдно. На парковку въезжали бесшумные машины, протискиваясь сквозь народ, тёкший ручьями через осколки площади, кто к метро, кто в чрево «Новы».
Именно здесь Ленка, расставив руки и кружась под какой-то собственный мотивчик, цепанула взглядом припаркованный «марк» Глеба. Владелец, развалившись на сиденье — левая нога в неоновом кроссовке и в застиранной джинсе до бедра наружу — навешивал замок на руль машины. Она толкнула Нэнси локтем в бок — смотри, кто! — и не прекращая кружения, двинулась навстречу Глебу, который не замечая её, неторопливо, с хронической ленцой выкарабкался из салона, повернулся спиной и потянулся во весь свой рост, сцепив пальцы рук над головой. Полоска заголённой поясницы показалась из-под облегающей нейлоновой борцовки. Согнув в колене ногу, он опёрся кроссовкой о резиновый протектор и принялся деловито регулировать зеркало. Ленка подлетела к нему и накрыла ладонями глаза. Тот содрогнулся, извернувшись, перехватил в запястьях её руки.
«И почему всегда встречаешь тех, кого меньше всего желаешь встретить?» — с тоской подумалось Нэнси и она, меняя направление движения, побрела медленно к парочке. В её голову нежданно закралась мысль, что внезапная встреча спланирована. Кем, Ленкой или Глебом? Она не знала. Ленка что-то высказала Глебу в ухо, тот молча кивнул, многозначительно поглядел на Нэнси.
— Представляешь, — сказала Ленка, — этот жук — жучище! — околачивался рядом и не заехал.
— А вы, вроде как случайно встретились? — с лёгкой угрозой произнесла Нэнси, коротким, едва заметным кивком головы приветствуя Глеба.
— В автомагазин заскакивал, — торопливо ответил он, махнув рукой в сторону «Новы», — забирал навигатор под заказ. Сразу после поездки решил, что такой баян нужен самому.
— А на весь Питер магазина ближе к дому не нашлось, — иронически подхватила Нэнси. — Напомни, где ты живёшь?
Лицо Глеба приняло отрешённо-смиренное выражение. Вопрос молодой человек предпочёл не расслышать.
— Так они открылись недавно, — невозмутимо ответил он. — Как к Ленке еду, постоянно натыкаюсь на билборд. А что, мне магазин понравился. Марку пытаются держать, ценники опять-таки не демпингуют. Залили бесплатно карту всей Европы и дали в придачу блокиратор. По акции, что ли. Сказали, отличается повышенной секретностью.
— Глеб, нам на Финбан телепортнуться надо… — трагическим голосом молвила Ленка. Она рассчитывала ограничиться лишь этой частью фразы, и Глеб, конечно, намёк считал.
— Без проблем, — встрепенулся он, гостеприимно распахивая дверцу. — Мне как раз до центра. Прыгайте!
— Может, лучше на метро, — предложила Нэнси. — Нет никакой уверенности, что Глеб и сегодня не надумает посамоутверждаться за счёт пешеходов.
— Ты ещё точишь зуб? — спросил лениво он. — Брось. Я думал, прежде всего, о вашей безопасности. У этих недоархеологов могло оказаться и оружие. Судя по их решительности, они могли бы применить его.
— Он думал о нашей безопасности, — повторила за Глебом Ленка и скосила на подругу глаза. — На метро долго. Давай уже, а?
Когда «марк» выбрался на Витебский проспект, изрядно забитый плотным автомобильным потоком, Глеб попросил разрешения курить. Получив согласие, он достал измочаленную пачку с надломленными сигаретами, подцепил передними зубами одну за цилиндр и щёлкнул зажигалкой.
— На вокзал: кого встречать? — спросил он Ленку, которая снова уселась впереди, поближе к Иванголову. — Или, может, провожать? — Глеб поймал в зеркальном срезе строгий взгляд пассажирки на заднем сиденье.
— На работёшку, — ответила Ленка и на всякий случай уточнила: — У меня там зоопарковое труженичество, понял?
— А ты, — обратился Глеб к Нэнси, — тоже устраиваться в зоопарк?
— Нет. Я за компанию…
— … полопать пироженки, — восторженно залопотала Ленка. — Так-то у меня сегодня выходной, но директриса хочет слово молвить. Говорит, на пару слов, но личное присутствие необходимо. Наверняка, вызывает из-за какой-то ерунды.
— Наверняка, — ответил Глеб. — Согласно закону Старджона девяносто процентов всего на свете — ерунда.
— Вся ерунда в кучу, — философски заметила Ленка. — За две недели я поняла, что труд может сделать из человека унылого менеджера… или грустного бухгалтера… или лояльного общественника. Вот какая ерунда получается.
— Денег все хотят, — по-своему интерпретировал Глеб, щелчком по фильтру сгоняя столбик пепла в открытое окно.
— А ты почему не на работе? — строго спросила Нэнси, отвлёкшись от городского пейзажа. — И кем ты, кстати, работаешь?
— Где живёшь, кем работаешь… тебе бы в дознаватели! — протестующе всплеснул руками Глеб, на секунду теряя управление и наслаждаясь реакцией пассажирки, цепляющейся белеющими пальцами в подлокотник. — Мне скрывать нечего, хотя и стыдно за карьерный путь, который начался с нелегального такси, а закончился известной на весь мир кафешкой, где делают бургеры и пончики. В общем, с тех пор я ненавижу таксовичков, командный дух и форменную кепку-козырёк в наборе с пятью стандартными фразами.
— Психологическая травма детства, — понимающе кивнула Нэнси. — Дай-ка угадаю. Ты смыл трудовую в унитаз и больше не переносишь на дух работодателей из сферы питания и пассажироперевозок?
— Нет, — Глеб переключил скорость, освободил правую руку и достал из внутреннего кармана сложенный вдвое флаер. Передал, не глядя, через плечо Нэнси. — Трудовую я оставил на память, а работодателей теперь не жалую всех до единого.
— У Глеба необычная профессия, — сказала Ленка. — Он биржевой трейдер.
Нэнси развернула флаер, прочла: «Бесплатные семинары от успешного трейдера Даниила Столпера! Тысяча и один способ обучиться торговле на фондовой бирже». Из-под текста, набранного жирно курсивом, с Нэнси не сводил серых глаз, упрятанных под припухшие веки, добродушный брокер с белозубой улыбкой на «миллион». Собственно, этот миллион он и предлагал заработать, оставив ниже петитом подробные координаты места проведения обучающих семинаров и штук пять или шесть (не считая «горячей» линии) мобильных телефонов.
— Не хочу работать на дядю, — пояснил Глеб.
— А вот дядя очень хочет, чтобы ты работал на него. Иначе зачем успешному маклеру делиться стратегией. Да ещё и бесплатно…
Глеб ничего не ответил. Через тридцать минут, удачно проскочив назревающую пробку в районе Лиговки, он подкатил к трёхэтажному моллу, недалеко от Финляндского вокзала, и заглушил двигатель.
— Хотите перекусить? — предложил он. — Ну, после ковра шефа, разумеется. Я подожду. Есть одна симпатичная ресторация в парке Крестовского острова. Туда не попасть без записи, но я договорюсь.
— Биржевым трейдерам открыты все двери, — с хитрой ласковостью проговорила Нэнси и усмехнулась.
— Значит согласны? — с надеждой в голосе справился Глеб.
— Мы подумаем. Правда? — Ленка развернулась вполоборота и положила локоть на спинку сиденья, подмигнув Нэнси. Та никак не отреагировала. Ленка тонко уловила настроение подруги и поняла, что встреча с Глебом её раздражала. — Ладно, идём?
— Аня, — начал было Глеб. — Можно попросить тебя остаться?
— Это зачем? — едва ли они хором осведомились девушки.
— Ну, подождёшь Лену здесь… вместе подождём. Разве так не будет удобнее?
— Не будет.
— Не будет, — подтвердила Ленка.
— Я хотел с тобой поговорить. — Глеб казалось как-то обмяк, всё ему вдруг надоело. Он чувствовал на себе прожигающий Ленкин взгляд, но не мог придумать железной причины заставить Окуневу остаться с ним, кроме как сказать ей правду: — Я хотел поговорить с тобой ещё вчера, но ты была, как бы сказать, кхм, немножко подзаправленная.
Нэнси смутилась. Она подпёрла щёку кулаком, чтобы скрыть предательскую красноту лица.
— Поэтому, — быстро продолжил Глеб, — я отложил беседу до более подходящего случая. Думаю, сейчас случай очень подходящий. Это разговор частного порядка. Ленчег, без обид?
— Да какие уж там обиды, — Ленка с трудом выдавила из себя улыбку. — Давайте, секретничайте, я же всё равно узнаю.
Она выпорхнула из машины — излишне быстро, так стремительно, что Нэнси не успела ничего сказать в ответ — и скрылась в вертушке стеклянных дверей.
Нэнси выжидательно молчала, ждала, когда Глеб заговорит первым. Но Иванголов ещё больше стушевался. Он вдруг хлопнул себя по тощим коленям и нервно рассмеялся, откинувшись на спинку и выпав из обзора зеркала. Теперь Нэнси могла созерцать только его профиль.
— Не против, если закурю ещё одну? — растерянно спросил он и островатый профиль отлился монументом в ожидании.
— Валяй, — беспечно сказала Нэнси, — если сигарета поможет тебе сосредоточиться и лучше сделать своё дело, на здоровье! — Она с тоской заглянула в окно, где у ступенек молла неожиданно заплакал саксофон.
— Какое дело? — насторожился Глеб, выуживая из кармана курево, но Нэнси не удостоила его ответом.
Саксофонист — смуглолицый парень в шляпе с пером — раскачивался, прикрыв глаза. Перед ним на асфальте стояла картонная коробка из-под обуви. На коробке по диагонали размашисто гулял вопрос: «Сколько зарабатывает уличный музыкант?» Ниже авторучкой был прицарапан ответ: «The answer is in your pocket!»41
Глеб скорбно умолк, поджав тонкие словно парафиновые губы. Вся спесь, весь боевой запал, который он копил дорогу от Купчино до центра, куда-то подевалась, пропала вместе с честолюбием. На темы, какие собирался завести он, фордыбачить невозможно.
— Итак… — после нескольких томительных секунд произнесла Нэнси и отвернулась от окна. — Ты хотел говорить? Говори.
Дурманящий сладковатый запах умирающих в огне листьев заволокли салон автомобиля. Глеб передёрнул плечами и медленно, по слогам проговорил:
— Ты мне нравишься. Даже очень. И это проблема.
— Я заметила, — сказала она и Глеба неприятно покоробила двусмысленность ответа. Было не ясно, что именно заметила Нэнси: что она ему нравится или что это проблема.
— Всё-то вы замечаете… — недовольно пробурчал молодой человек.
— У тебя какие-то претензии ко мне?
— Нет, конечно, — сказал он, глубоко затягиваясь. — По главному я вроде успокоился. Теперь душа не ноет, я это сказал тебе.
— Но ведь проблема-то не в этом?
— Не в этом, — вяло согласился Глеб. — Хотя, знаешь, в моём положении умиляться ноющей душой нельзя, оно, это состояние, вредит мне, как никому другому.
— Будь, наконец, честен со мной. Чего ты хочешь?
— Слушай, ну, после этих слов я должен сказать, наверно, чтобы ты ответила взаимностью. — Он постучал согнутым пальцем по сигаретному коробку, который всё никак не решался убрать обратно в карман джинсов. — Но, на самом деле, я этого не хочу.
— Ненавижу такие игры, — произнесла она и клацнула замком. — Я ухожу.
Салон наполнился тонкими колокольчиками — сигналом открытой двери.
— Да подожди ты! — торопливо бросил он и постарался опередить Нэнси, перехватив её запястье. Чертыхнулся: обронённый окурок упал на брючину. Он смахнул рывком ладони дымящийся бычок и мстительно прихлопнул сверху подошвой. — Аня, не глупи, дай договорить.
Повелительный тон подействовал на девушку. Она послушно придвинулась назад и захлопнула дверцу.
— Что ты здесь делаешь? — спросил он, но понял, что спросил не так, моментально исправился: — В смысле, зачем ты приехала в Питер?
— У меня здесь работа, понимаешь? Или для биржевых брокеров такое слово трудно осмысляемо?
— Ну прекрати. Про твою работу я наслышан. Роспись чашек. Но ты же не будешь этим заниматься полгода, правда? Это разовый заказ, а Милашевич говорила, что ты пробудешь у неё, как минимум, до Нового года. Так вот, я спрашиваю тебя: зачем ты приехала в Питер?
— Глеб, ты мне надоел, — прервала его Нэнси. — И твой вопрос, по меньшей мере, бестактен. По какому праву ты спрашиваешь?
— По праву друга… раз уж другого права не получается добыть!
— Говёненько поёшь. Мы с тобой не друзья, — проговорила Нэнси уставшим голосом, — и нечего очки втирать друг другу. Завтра наши пути разойдутся, и не пересекутся никогда. Я забуду тебя, ты забудешь меня. И это нормально.
Глеб с напускной небрежностью передёрнул снова плечами. Со стороны это выглядело смешно: было заметно, что безразличие его и небрежность исключительно напускное. Он замолчал обиженно, надолго.
Саксофонист окончил извлекать из инструмента слэп, но фирменную фишку набравшаяся десятка на полтора толпа не оценила — притормозившие прохожие консерваториев не кончали и не знали, что в классических учебных заведениях такому не учат, а потому не спешили звенеть о коробок медяками или шуршать более весомыми купюрами. Кое-кто, привлечённый и тут же утомлённый необычной игрой, покривился и продолжил дальше намеченный маршрут. Музыкант попробовал зайти с другого конца и будто назло затянул сольную партию «Верных друзей». Узнаваемую мелодию подхватили шлепки восторженных, но жидковатых аплодисментов. Глеб повёл головой в сторону набирающего драму сакса.
— Тогда съезжай от Ленки. Чтобы это случилось, как можно скорее.
— Что? — Нэнси едва не задохнулась от вспыхнувшего гнева. — А почему бы тебе не убраться из моей жизни?
— Винни-Пух тоже думал, что главный герой сказки он, а оказалось, что все-все-все.
— Что это значит?
— Это значит, убраться — не получится, — жёстко ответил Глеб. — Я не могу выпасть из твоей жизни, потому что это не твоя история. Это история про кого угодно, про всех, но не про тебя. Потому говорю тебе, как другу: собирай манатки и сваливай.
— Что за претенциозный бред! Куда же я должна по-твоему свалить?
— Куда угодно! — взорвался Глеб. — В общежитие, в гостиницу, домой обратно уезжай. На Дундича, дом 19 ты появляться не должна.
— Невероятно, ты угрожаешь мне!
Глеб испугался собственного тона, его повелительного наклонения.
— Нет, что ты! — смягчился он. — Конечно, нет. Но у тебя сейчас самое время, чтобы начинать ценить хорошее.
— До этого не ценила?
— Не ценила. Человек только тогда начинает ценить, когда с дерьмом сталкивается.
— Точнее и не скажешь! — Нэнси окинула критическим взглядом фигуру Глеба. — Прямо вот в точку сказал!
На этом их разговор нельзя было считать оконченным, но продолжать его из-за предельного накала не хотелось никому. Весьма кстати зазвонил мобильный телефон. Глеб потянулся к кредлу зарядного устройства, не рискнув включить соединение на громкую. Поднёс телефон к уху и, не перебивая, выслушал абонента на том конце.
— Это Лена, — ответил он после того, как дважды ответил в трубку «да» и отключился. — Говорит, что ошибалась: разговор с руководством вышел совсем не ерундовым. Когда освободится, не знает, скорее всего, не скоро. Предложила не ждать её и отвезти тебя домой. Или в ресторан. На твой выбор.
— Так и сказала?
— Нет. На самом деле, она сказала, на мой выбор. Решение за мной.
— А не обрыбится? — со злостью выдохнула Нэнси и заняла оборону: — Ты ко мне теперь на пушечный выстрел даже не подходи… благодетель!
— Что так? — шутливо не понял Глеб. Он провернул ключ в зажигании и «марк» тихо заурчал холостыми оборотами. — Не могу же я тебя оставить здесь?
На Нэнси вдруг накатила мысль.
— Дай-ка телефон.
— Нужно позвонить.
— Да? — Глеб протянул трубку. — Пообещай, что телефон не встретится с моим затылком! — Он снова попытался отшутиться и тем самым сгладить неловкость ситуации.
— Хотела бы, уже ударила.
Нэнси наконец заполучила трубку в руки. Первое, что сделает она сейчас, это перезвонит Ленке и скажет ей о том, что будет ждать её в том самом кафе, в котором они собирались лопать «картошку». На какой-то момент она таки захотела стукнуть Глеба по его сценарию и даже рассмеялась этому желанию, но всё же удержала себя от сиюминутного тщедушия. В конце концов, много чести этому «доброжелателю», справедливо рассудила она. Никуда съезжать она, разумеется, не станет, если только сама Ленка не попросит об этом. Но тут же мелькнула предательская мыселька: а если попросит? Конечно Ленка спросит о разговоре её и Глеба, и Нэнси непременно расскажет о своеобразном опекунстве Иванголова. Но она даже представить не могла, какая за этим последует реакция. Может такой расклад вполне устроит Ленку. Имеет же Милашевич определённые виды и планы на Глебово либидо. Отсрочку их интрижке, ненамеренно конечно, но всё же давала она. Но она не соперница Ленке и уж тем более не разлучница. Во-первых, она никого не отбивала, и Милашевич вроде как при пассии, а Глеб сам по себе. Это, во-вторых. А в-третьих (здесь вступил знакомый баритон), Ленка, конечно, приятельница мировая и, вообще, к их треугольной ситуации подходит с тонкой дипломатией и удивительной мудростью, но (если подумать) подруге выгодно от неё избавиться. Р-раз — и нет соперницы.
«Всё-таки соперница?» — подумала Нэнси, но саму себя одёрнула: глупости. Но Ленке перезванивать не стала. Почему-то снова вспомнила про невыполненный заказ и решила, что если вдруг её «попросят» из квартиры, то податься будет некуда. Денег — ноль, перспектив тоже не шибко больше, а тылы-то совершенно не прикрыты, и как она только докатилась до жизни такой. Проклиная всё на свете и копя побольше злости для храбрости, она набрала по памяти номер Савелия Витольдовича.
Через четверть часа, развернув машину, Глеб мчал обратно в Купчино, чтобы забрать из Ленкиной квартиры сумку с дописанным фаянсом, а уже оттуда отвезти посуду по адресу, который Сава после некоторых раздумий продиктовал Окуневой. Все пять минут чужого телефонного времени Сава ворочал неуместные, обидные слова, форсируя где-то подслушанным «дедлайном», сетовал на неисполнительность заказчиков и грозился ввести практику штрафных санкций. Пришлось слукавить и сказать, что заказ готов. Ко всему прочему, «блошевал» торговец Сава только в «хлебные», то есть в выходные дни, но ждать субботы не было никакой возможности.
«В будни я охочусь за покупателем у приятеля в салоне, — говорил он. — С понедельника по среду с десяти до шести. Адрес запиши…»
Салон находился в районе Угольной гавани. Глебу, настоявшему на том, чтобы отвезти Нэнси с её солидной поклажей, пришлось признать: райончик для него мало знакомый. В минутном утешении он вспомнил про полезную покупку, извлёк из упаковочного целлофана навигатор и заставил того искать точку на карте. Гаджет долго диагностировал себя, попискивая жалобным вопросом «Where am I now? Seek, seek, seek…»42, и Нэнси казалось ещё немного и политкорректная машинка выдаст наболевшее «Guys! What hole are you in?», потому что парящие где-то на околокупчинской геостационарной орбите спутники упорно не хотели находиться. Наконец, на экране обозначился витиеватый маршрут и подбадривающее «Go!» втянуло их с ветерком в питерский индастриал с портовой тематикой. Утро перерастало в день и уплотнённые автомобилями дороги медленно, но верно избавлялись от моторов: в первый рабочий день недели тяжатели с личным транспортом худо-бедно добирались до офисов, контор и прочих профпригодных помещений, расположенных, как это водится, на максимальном удалении от дома.
Бесконечное переплетение рельсов, сходящихся и расходящихся друг с другом, словно человеческие судьбы, стреловые краны, сильно искривлявшие пространство, караваны барж, устроенных цепочкой под разгрузку и рифлёные параллелепипеды морских контейнеров, похожих на гигантские детали Лего, могли служить достойной иллюстрацией к непридуманному Рельсоморью43, однако, очевидно, салон, где с понедельника по среду обитал торговец Сава, требовал заочного перерождения в салун, потому что только салун времён Дикого Запада мог лаконично вписаться в суровые, окрестные ландшафты.
Такого «другого» Питера Нэнси не знала и не представляла, что у изнанки северной столицы есть и такие постэпические выверты. Если немного, совсем чуть-чуть сместить призму воспринимаемой действительности и сфокусировать её на формах изящного абстрактного искусства (она ловила себя на мысли, что здесь, как нигде, это делать кардинально просто), то создавалось впечатление, что всё окружающее пространство не более чем инсталляция со сменой мировых контекстов, потому что окрестность, несмотря на свою разворочённость, создавала ощущение художественной цельности, что-то такое, неподвластное разуму, но так или иначе им завладевающее. Должно быть в этом и заключалась магия и обаяние столичноснобского города-музея с его небанальными шедеврами, где даже обычные портовые краны, вписанные в эклектику постапокалиптического коктейля, представляли собой неоготические башни, которым самое место в жемчужной коллекции архитектурного собрания.
Нэнси всегда подозревала, что Петербург Достоевского с его вонючим царством подпольного андеграунда, откуда за тобой постоянно следят дьявольски ужасные глаза Рогожина, это самый точный, самый меткий Петербург. Великий писатель знал толк в пороках. Стоит только сковырнуть тончайший цветочно-парчовый флёр, сколупнуть этот среднеевропейский креп, как наружу тут же лезут монструозные элементалы — чудаки, безумцы, маньяки, психопаты и прочие «тронутые» персонажи с врождённо-перманентной достоевщинкой. Едва ли не кожей ощущала Нэнси психосоматические флуктуации в который раз. Такие ощущения возникали с первых дней приезда в город. Так было в Изборцах, на Уделке и вот теперь сейчас.
Женщина скосила взгляд на Глеба. Тот был спокоен, как скала. Она видела его смуглые руки с закатанными до локтя рукавами — жилистые, поросшие чёрным волосом. Правая бряцала синими набитыми клинками, левая, утяжелённая часовым браслетом кольчужного плетения, казалась случайно изобличённой в своей андроидной природе. Что ж, думала она, петербуржцы толстокожи и бесчувственны. Подобно Настасье Филипповне, они адаптировались к окружающему их умопомрачению ценой собственного помешательства. Человек ко всему привыкает, и к Питеру тоже. Впрочем, Глеб как раз казался образчиком холодного ума и трезвого расчёта. Что называется, с жиру. И холодности, и трезвости в нём было хоть отбавляй. Да, и это дикое признание в симпатиях. К ней, бывало, обращались с комплиментарными эпитетами и солидные мужчины, и пылкие неопытные юноши, но, чтобы в такой подаче и с таким заломом… То, как это проделывал Глеб, наводило на мысль о некой механистичности процесса, будто некий алгоритм, заданный не живому человеку — роботу. Он даже фразу «Ты мне нравишься» проговаривал чуть-чуть с библиотечным занудством. В этом был — что? — особый брутальный шик, мужская скупость чувств… или?
Пока Нэнси терялась в догадках, в голове Глеба текли вполне себе живые, не кибернетические мысли. Думал он о том, что его чрезмерно альтруистические наклонности почти иссякли. Он был уже не рад, что подрядился помогать. Его ждали неотложные дела, хотя он до последнего тянул, передвигал на крайний срок. Боязнь чистого листа случается не только у писателей или художников, она чревата (в том числе) и для людей без творческих потенций. Глеб Иванголов страдал хоть и кратковременными, но систематическими приступами. Кризы случались каждый месяц, а к концу года страдания суммарно нарастали, пропорционально обостряясь по амплитуде текущих дел. Обюрокраченная система отчётности губила медленно, как сигарета, но это ещё не повод для начальства отменять груды тщательно подшитых рапортичек.
«Чёрт, — подумал Глеб в сердцах, — что может быть ужаснее бумажной волокиты, этого тотального стремления иметь всё строго в печатном, подшитом виде, непременно с резолюцией высокого начальства. Хорошо ещё, что на календаре июль. Июль — месяц длинных дней и одной короткой ночи с ножами длинными, как дни. — Он мельком глядел на крупный циферблат, где на три часа было притоплено дупло-окошко с числом и днём недели. — Впрочем, не всё ли равно, важней другое. Сегодня тридцатое, пусть кто-то и с ножами „на ножах“44, а он будет с карандашом в руках! Ещё есть день, чтобы подготовить для Гарибальди ежемесячник. Собственно, писать-то нечего, но не сдавать же пустые листы? Чёрт!»
В тягостных размышлениях он миновал потускневшие и облупившиеся от времени конструкции-корпуса» не то завода, не то фабрики, но был вынужден ударить по тормозам: навигатор всё той же сухомяткой на английском оповестил о том, что доставил пассажиров в пункт назначения, а вот они-де взяли и ушли с маршрута. Глеб приобнял подголовник соседнего сиденья и вывернул шею, высматривая обстановку. Нэнси, перехватив его недовольный взгляд, пожала плечами.
— Ты сам вызвался помочь, — отгадала она его мысли. — Я не навязывалась.
В кредле неприятным звуком бормашины оживился телефон. Глеб потянулся к нему, подпёр плечом к уху, высвобождая руку для коробки передач, маневрируя, принялся сдавать назад.
— Ты сделал выбор? — шепнули на том конце вроде бы знакомым голосом, но обильно сдобренном треском помех.
— Лена? — уточнил Глеб и перехватил трубку, чтобы заглянуть в дисплей мобильника.
— Да это, я, — ответил голос. — Она с тобой?
— Тебя паршиво слышно, — признался Иванголов. — Мы тут в каком-то Бермудском треугольнике.
— Кто это «мы»?
— Давай, по существу. Плохо слышно.
— У меня есть новости. Вы на Крестовском?
— Ресторан отменился, — Глеб перехватил взгляд Окуневой. — Да, говорю, ресторан отменился.
— Ты можешь приехать?
Глеб растерялся и чуть не саданул бестолковым «зачем?» Вовремя прикусил язык, всё же раздумывая, не послать ли всё к чёрту и не найти поблизости мотель с дешёвой портовой проституткой. «Эх, в нашу гавань заходили корабли, какой же порт и без морячек? Не Могадишо, конечно, и не Роттердам, но уж путаны — путаны быть должны».
— Вангог! — Ленка затяготилась паузой и подозрительно шмыгнула носом — неужели плачет? — Я не просила, если бы это не было важно.
«Нет всё-таки напьюсь. Отгоню машину на стоянку и нажрусь в ближайшем баре». Ещё не додумав и эту мысль, он знал наверняка, что не воплотит в жизнь и эти щекочущие истомой грёзы. Нет, нет и ещё раз нет!
— Да, да, конечно. Справишься сама?
Последняя фраза была сказана для Нэнси. Глеб показал на телефон и пожал плечами.
— Может, подумать о возвращении в такси? — грустно улыбнулся он. — По-моему, неплохо получается.
— Вот-вот, полезли откровения несостоявшегося карьериста. Конечно справлюсь!
Он помог вынуть из багажника сумку и попытался на прощание её обнять.
— Руки! — строго сказала Аннушка, перехватывая сумку.
— Куда же мне их деть? — отшутился Глеб. — Ручки-то вот они…
— За спину, — не меняя градус строгости, проговорила Нэнси. — Нет, нет, за свою!
Она чуть улыбнулась, но тут же подавила в себе желание: оно её обезоруживало.
— Глеб! — окликнула она его, когда он уже наполовину запихал себя в салон автомобиля. Торчащая наружу другая половина замерла. — У нас бы с тобой ничего не вышло.
— Послала во френд-зону, — кивнул он. — Скажи хотя бы, что дело не во мне. Мне станет легче.
— Мне кажется ты совсем другой человек.
— Как это?
— Ну, я тебя не за того принимаю.
— Тот другой: он лучше, хуже? — Глеб щёлкнул зажигалкой, усаживаясь в автомобиль.
— Опаснее, — призналась Нэнси.
— Психологический аспект образования, — хмыкнул он.
— При чём здесь это?
— Образование человека всегда намекает на неполноту его возможностей, — проговорил он, закуривая за последний час третью сигарету («Никогда не курил так много!»), — а ты слишком образована, чтобы устоять соблазну фильтровать своё бесстрашие. Ты видишь опасность не во мне, а в моём посягательстве на свои избыточные степени свободы. Но это не так. Твоё образование мешает тебе же определить эту степень и её переизбыточность, потому что мы поколение эпохи переизбытка всего — свободы, товаров, информации… информации — особенно! Ещё немного и мы окажемся в другом мире, где вовсе исчезнет монополия на знание.
Глеб пожевал фильтр, размышляя, добавить что-то к сказанному. Решил: добавить.
— Наступает невиданная степень свободы, но вместе с тем и страх, что как раньше не будет. — Он подтянул ноги и нахохлился, выпуская в небо упругие струи табачного дыма. — Старая проверенная формула «кто обладает информацией, тот правит миром» перестаёт работать. Теперь править миром будет тот, кто эту информацию сможет контролировать.
— И какова же роль образованного человека в подконтрольном социуме? — спросила Нэнси.
Глеб обрадовался, будто ждал этого вопроса.
— Образованный человек — это человек, порождающий смыслы, преодолевающий избыточные степени свободы. Он должен будет уяснить, что сыграть в оркестре без дирижёра нельзя. Если каждый начнёт играть свою партию, не придерживаясь заданной линии, настроения и громкости, то это будет просто информационный шум.
— Дирижёр, желающий рулить умами масс, может не учёл, что образованный человек априори не может быть пассивным. Необразованный — да, образованный — нет, никогда.
— Крепче спит тот, кто мало знает, — изрёк избитую истину Глеб и на прощание добавил: — Постарайся дистанцироваться от своих фобий и просто сделай так, как тебе велят. Для тебя я безвредный и даже где-то полезный… но это пока, до поры до времени, и как скоро эта пора закончится не от меня зависит.
«Марк» зыкнул на прощание тепловозной трелью, спугнувшую чайку на заборе, и растворился в клубах придорожной пыли.
Глава 11. ДРУЗЬЯ И КНИГИ КАПИТАНА ШПИГЕЛЯ
Место, которое Сава обозначил по телефону, как салон, находилось в одном из помещений на территории судоремонтного завода, невольно ставшего вместилищем отживших свой век кораблей. Их заржавелые, в катышах оранжевой окалины останки коптились на солнце в километровой очереди на демонтаж на дальних корпусах — склепах-судоверфях. Ближние, сохранив некое подобие человеческой обжитости, волей арендосъёмщиков и нанимателей, превратились в мелкотравчатые сервисы по тюнингу плавсредств — катеров и гидроциклов, в модульные павильоны комиссионок по скупке и продаже лодочных моторов, в мастерские, такие обширные, будто ожидали со дня на день на ремонт прогулочный лайнер или линейный корабль с орудийной башней. То и дело сновали деловито японские грузовички, устало тараща друг в друга по-восточному раскосыми глазами-фарами. В сторожке у шлагбаума плешивый человек в расстёгнутой рубахе со сметанно-белым пузом неаккуратно резал ножницами отпечатанные на бумаге купюры разрешений на въезд и выезд, и каждую — непременно с громким прихлопом — гасил казённым штемпелем. Проверить вместительную сумку незнакомки он не удосужился, а на её вопрос, где найти Савелия Витольдовича, указал на ближайшее двухэтажное здание, к которому подкатывал очередной нагруженный трудяга с разбитым габаритным огнём.
Из-за стеклянной надстройки, похожей на капитанскую рубку, со съехавшими трапециевидными углами и оголённым обрезом водопроводной трубы, здание напоминало двухпалубный теплоход, что роднило его с пелагическими, давно уж умерщвлёнными механизмами на дальнем плане. Скруглённые оконные проёмы, располовиненные фрамугами, напоминали задраенные иллюминаторы. Дом был кирпичным, с кладкой на ребро для экономии, когда-то выкрашенный краской в самый морской цвет ультрамарин. Со временем «самый морской» поблек, превратившись в мертвенно-бледную бездну неба с лущёными, повисшими лохмотьями тонких облаков. Состояние дома-парохода было таково, что оставалось лишь надеяться: чугунный шар-баба сравняет его с землёй раньше, чем чей-то неосторожный чих или стук дверью.
У входа, опустив голову на кривые лапы, лежал бульдог. Учуяв постороннего, он поднял брылястую мордаху и дружелюбно завилял культёй. Нэнси, несмотря на всю уветливость пса, всё же захотелось убрать его подальше. Собака словно почувствовала и эту категоричность, и отрицательный оттенок, кажется смутилась, стыдливо покинула свой пост. Нэнси мысленно отправила четвероногому «спасибо», облегчённо вздохнула и толкнула дверь. Впрочем, памятуя об аварийности постройки, сделала это предельно деликатно. К нежности и прочим ласкам дверь оказалась не привыкшей — и не поддалась. Нэнси налегла хрупким плечом, но та только усмехнулась скрипом. Сзади зашоркали чьи-то быстрые шаги и стремительный человечек, удивлённо осмотрев молодую женщину с головы до ног, ухватился за ручку и дёрнул на себя. Дверь, как в сказке, отворилась. Завихрилась в воздухе пыль и в нос ударил запах сварного железа, окалины и штукатурки. В перспективу от входа уходил длинный и узкий как стрела коридор, по которому неспешно сновали люди, перетекая туда-сюда из смежных помещений. По-джентльменски Нэнси пропустили вперёд, придерживая дверь распахнутой.
— Вам точно сюда? — с сомнением отозвался человечек, словно пытался усмотреть в ней неприятеля или лазутчика.
Нэнси пришлось повторить вопрос.
— Савелий? — наморщил он свой лоб и переспросил на всякий случай: — Он лодочник или моторист?
— Простите?
— Чем торгует: лодками, моторами? — терпеливо растолковал ей человечек. — Первые сидят внизу, вторые — наверху.
— Слонячит он… — не растерялась Нэнси, припомнив слышанный уже однажды жаргонизм, — торгует посудой.
— Посудой? Нет, вы наверно ошиблись.
— Охранник сказал — здесь, — упрямо повторила Нэнси, но упорство и настырность облетали с неё, как листья на ветру, многократно перемноженные утомлением и затянувшимися розысками. — Он старьёвщик… антиквар.
— Ах, антиквар? Так бы и сказали. — Лицо человечка разгладилось и полыхнуло ясностью. — Судовые приборы и морской антиквариат — это к Шпигелю вам надо заглянуть. — Он хлопнул ладонью о пиджак, стряхивая пыль, и указал на лестницу. — Двигайте до упора. Слышите, до самого конца.
Приободрённая наводкой, Нэнси переложила лямки на спину и, словно бурлак, потянула за собой непомерную ношу, взбираясь наверх по бетонным ступеням. Под ногами что-то незримо похрустывало, словно она топталась по новенькой крахмальной скатерти. Навстречу ей тянулись ручейками разновозрастные мужики, но ни одной представительницы слабого пола не попадалось на пути. Мужчины поспешно сторонились и провожали Нэнси удивлённо-сочувствующими взглядами.
На лестничной клетке второго этажа появился настойчивый гул людского улья — у мотористов было оживлённей, чем у лодочников. Держа в памяти напутствие мимолётного знакомца, она двинула дальше. Пролёт за клетью поспешно погрузился в полумрак, который с трудом ворочала под потолком полунакальная лампа на голом проводе. Из широкой и бетонной лестница вдруг обернулась в шаткий сварной каркас на узком косоуре. Перила отсутствовали вовсе, а рыхлые ступени из наваренных прутов гуляли ощутимой деформацией. В страхе Нэнси запрокинула голову. Балансируя, как эквилибрист, предстояло преодолеть один пролёт. Указатель в виде листа со стрелкой вверх, прикнопленный к пробковым панелям батареи отопления, приободрял. Разлинованными печатными буквами под указателем значилось, что наверху её ждёт «Старинное оформление корабельных и судовых интерьеров». К тому же оттуда, сверху кто-то призывно бубнил. Тонкие стены скрадывали верхние регистры голосов, но по мере приближения к заветной цели неразборчивый бубнёж складывался в отчётливые фразы.
— Умный ты, — говорил один, с легко улавливаемой нотой раздражения. Голос принадлежал старику: был с тягучим гортанным придыханием, с хрипловатым тембром и бренчавший, как ложка в щербатой чашке. — Умный, но бздливый. Скоро распечатаешь шестой десяток, а всё ведёшь себя как девственник на оргии.
— Фалик, я не бздливый, — усмехался другой голос, и Нэнси его узнала — торговец Сава, — я осторожный, а осторожный потому, что, как ты правильно заметил, пару извилин в башке всё же имею.
Фалик не успел что-либо возразить, хотя судя по перекосившей его лицо мине, очень хотел. Он так и застыл с раззявленным ртом, в уголках которого застоялась белесая пена. Плечи его передёрнула судорога, потому что в проёме в это мгновение вспыхнул силуэт, и в комнату, отдуваясь, протиснулась краснолицая от напряжения Окунева. Болтающийся сзади наперевес через плечо сумарь сильно увеличивал её пристойные габариты.
— Девушка, мы ничего не покупаем, даже если это что-то — по акции три за два или один плюс один. Понимаете? Нам ни-че-го не нужно!
— Фалик, Фалик, легче! — одёрнул Сава раскипятившегося старика. — Это ко мне. Ну?
Фалик погрозил пальцем обоим и подчёркнуто недовольно подвинулся, пропуская Нэнси к Саве. Старик, несмотря на спёртый, душный воздух, кутал шею в мохеровое кашне. Утопив в него по самый нос свой дряхлый подбородок, он старательно пытался надышать внутри тепло. Вид у него был не только не вполне здоровый, но и откровенно неприятный. Конечно, неуместный шарф в смеси с таким же устаревшим, как и его носитель пикейным жилетом, портили впечатление, но всё же не так, как жирные нечёсаные волосы, сбитые в длинные до плеч сосульки, и мерзкая привычка непрерывно харкать носом, посекундно производя звук, похожий на рокочущий храп. Умопомрачительный жилет, выбитый волнистыми узорами, набитый карманчиками и кармашками, будто намеренно подчёркивал скаредность старика, был, по крайней мере, на три размера больше и висел на нём бесформенным мешком. Сава не менял своим привычкам и был одет ровно в то же, что при первой встрече с Нэнси: трико и вяленая кожанка, накинутая на плечи (что они тут, мёрзнут все?) — и всё это под запылённые сандалии, больше подходящие для пляжной импровизации, чем как вариант на тему повседневной обуви. В ладонях Савы виртуозно балансировал гранёный в молочно-голубых разводах стакан и тарелка с комком оранжевого от приправ и жира риса с намётанными по углам кусками мяса.
— Вообще-то у нас обед, — сказал он, коротким выверенным движением головы обтирая молочные усы о воротник засаленной рубахи.
— Слушайте, но вы же не сказали… — растерялась Нэнси.
— Глупости болтаешь, — огрызнулся Сава и нецеремонно насадил на ноготь передний зуб в нелепой попытке сковырнуть застрявшую мясную жилу. — Как я должен был сказать? Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо? Догадаться сама не могла, что с двенадцати до часу у людей как бы перерыв, они как бы обедают.
От такой наглости Нэнси на несколько секунд оторопела.
— Вы как бы издеваетесь? Или мне, может, подождать как бы за дверью, пока вы тут как бы дообедаете?
— Да поставь ты эту сумку на пол, в самом деле, — сказал Сава примирительно. — Давай, конечно, поглядим, не выгонять же…
Нэнси с раздражением (но и облегчением) поставила сумку на обшитый крашеной фанерой пол. Она почувствовала, что не знает, куда деть руки, вдруг показавшиеся неуклюжими и длинными, поэтому заложила их большими пальцами в карманы скинни и принялась равнодушно осматривать интерьеры «салона», пока Сава ворошил свёртки, выворачивая содержимое сумки на стойку-верстак.
Собственно, место это назвать салоном (да и салуном тоже) было решительно нельзя. Больше всего оно напоминало столярную мастерскую с полноценным рабочим верстаком, в которую по ошибке запихнули пару лишних шкафов с неровным строем книжных кладок. В широких зазубринах между ветхими томами блуждали наборы гравюрных эстампов, скрученные в трубы карты, модели старинных пушек и фрегатов. На шкафах и под шкафами лежали — а может, просто валялись — кабинетные часы в виде штурвала, коллекция из четырёх кубков какого-то морского клуба, подзорная труба, одетая в нарядную с гравюрами латунь, сигнальный фонарь, похожий на лабораторный — со светофильтрами, тяжёлая пепельница литого стекла с серебряной чешуйкой меченосца, малахитовое пресс-папье и старинный водолазный шлем прямиком из жюль-верновских романов. На стенах, которые на деле были окнами, завешенными, словно фотообоями, крупномасштабными морскими картами и портретами усатых адмиралов в белокипенных фуражках, висела корабельная рында и настенные часы (ещё одни!) с матовым блином расшатанного маятника. Стержень плавно расхаживал, обнюхивая углы обитого зелёным сукном полого пространства часового короба. Сам часовой механизм выглядел торжественным, но притомлённым ровно так, как выглядят все по-настоящему старые вещи. Под линзовидным стеклом вместо привычных чисел шли знаки зодиака. Часовая стрелка остановилась между Рыбами и Овнами, а минутная, обгоняла Весы, приближалась к Скорпиону. Три колченогих табурета и раскладной стул-стремянка завершали нехитрый интерьер «салона».
Только сейчас до Нэнси дошло, что она находится на капитанском мостике дома-парохода. Внутри «рубка» казалась куда как меньше, чем снаружи. Возможно, всему виной были шкафы, скрадывавшие половину полезного объёма.
— А почему не все? — прервал осмотр и вместе с тем течение Нэнсиных мыслей Сава. Он безразлично взглянул на заготовки, разложенные на верстаке аккуратными рядками, и снова рассчитал по парам их количество. — Не все! — подтвердил он подозрение и движения его стали короткими и злыми.
— У меня закончились деньги, — честно сказала Нэнси. — Дайте мне то, что заработала.
— А со вторым заказом ты добьёшь остатки первого? — предложил свой вариант развития событий торговец, но Нэнси отрицательно покачала головой.
— Нет, не выйдет.
— Так дела не делают. — Его глаза нетерпеливо заблестели. — У нас был уговор…
— Уговора не было, — перебила Нэнси. — Я попробовала, мне не понравилось. Просто расплатитесь за работу.
— Работа плохо сделана, — цокнул языком Сава, высматривая роспись. — Не полностью. Не к сроку.
— Работа сделана достойно, — возразила Нэнси, — а оставшийся фаянс я завезу на рынок в ближайший выходной.
— Я поражаюсь нашей молодёжи. Чего они себе думают? — произнёс старик, довольствуясь всё это время наблюдением со стороны. И сам себе ответил: — Наверно, что они самые честные!
Он глянул на Нэнси с хитрым прищуром и в очередной раз мерзко харкнул носом. От невыносимости этого звука и этого постулата её передёрнуло.
— Если вы мне не верите, можете вычесть необходимую сумму. Мне эти заготовки всё равно не нужны.
— Много понимаете себе… — Старик оттянул душившее его кашне, чтобы лучше было изрыгать накопленное раздражение. — Труд, который приложили, чтобы эти заготовки произвести на свет, для вас уже ничего не значит?
— Помнится, Савелий Витольдович, — усмехнулась Нэнси и скосила глаза на Саву, — назвал этот фаянс утильным.
— Вот! — кивнул старик и переменился в лице, направляя своё нервическое возбуждение на Саву. — А ещё говорят, что Фалик Шпигель — еврей. Гоев, сука, невпротык, а плюнь в любого — и он тебе такой шалом отвесит…
— Так ты и есть еврей, — напомнил Сава.
— Я еврей по папе, а ты — по жизни.
— Да! Наши ряды жидеют… а ваши жиды редеют, — Сава сморщил лицо в улыбке, отчего тяжёлая оправа съехала на культяпку его оспинного носа.
— Нитратный ты мужик, — вздохнул Фалик. — Всё бы обшустрить, обхитрить, обвести вокруг пальца, любого — чужака, своего, не всё ли, в самом деле, однохерственно, да? — Шпигель расчесал пальцами зудящий от кусающейся шерсти подбородок и снова занырнул в мохеровые букли. — Эту керамику тебе в прошлом году отгрузили с завода по фиктивным актам на бой. Я помню, Савушка, ты бегал с оформлением ко мне, чтобы я через бухгалтерию провёл. Я помню — ты забыл! За помощь хотя бы зупырь поставил? Какое там? Спасибо не услышал. Удобно ты обштопал старика, ничего не скажешь. Ведь если что, это я огребу дюлей. Правильно: опсосник к Саве не пойдёт, опсосник к Шпигелю заявится и со Шпигеля же спросит.
— Ты неврубант, Фалик? — Сава поправил очки и нервно забарабанил пальцами по верстаку. — Операм нет дела до наших мутных схем. Мы для них слишком мелкие рыбёшки.
— Харэ трындеть, — зашипел старик и двинулся на Саву.
Тот неопределённо заморгал, чем вызвал свежую порцию гнева старика.
— Чего разул зыркалки? Говорю, рот свой запахни — не для её ушей эти разговоры.
Фалик многозначительно покосился на Нэнси.
— Ты ещё здесь? — фальшиво удивился Сава и сделал неопределённый жест ладонью в сторону двери. — А ну иди двойки исправляй!
— Не смейте говорить мне «ты»! — закричала срывающимся голосом Нэнси. — И не смейте говорить в подобном тоне! Никто вам такого права не давал!
— Ладно, — насупился Сава и одарил Нэнси улыбкой печального идиота. — Не шуми… те. Вы!
— Заплати девочке, — приказал старик, — и отправляй её на все четыре стороны.
— Как это «заплати»? — изумился Сава. — Чем, Фалик? Может, ты мне скажешь?
— Вот те раз!
— Вот те два! — передразнил Сава. — Ты мне зупырь тут припоминаешь, а я припомню тебе яловую кожу, четыре квадратных метра. Ты заплатил мне только половину. Я помню — ты забыл!
— Всё я помню, — скривился старик и снова харкнул носом. — Это была не юфть, а бахтарма, причём сильно загрязнённая. Твой галантерейщик обманул тебя, втюхал мездру вместо кожи. А может это ты хотел надуть меня — не знаю. Я заплатил ту цену, которую смог дать за эту шкуру. Я потерял бы уважение к себе, если дал бы больше!
— А переплётный картон, который я нашёл тебе по цене ниже оптовой? — не сдавался Сава. — Тоже скажешь, что не такой?
— Изволь — скажу! Это был не переплётный картон, а пивной. Две большие разницы! Заметь, с тех самых пор я к тебе за материалом не обращаюсь, потому что ты не посредник, ты фокусник: сделаешь фокус и испаришься.
— А-аа, — безнадёжно махнул рукой Сава. — Всё равно, ты мне торчишь.
— Ты что-то путаешь, казачок, — осклабился старик. — С какого перепугу?
— С такого перепугу, — снова передразнился Сава. — Вот Боря твой машину брал до субботы, а сегодня понедельник. Мне в выходные пришлось проситься на багажник к Дмитрычу. В контрейлере товара — одни очистки. Оба дня торговля ни о чём. Так, по мелочи шмурдяк.
— У тебя всегда по мелочи. Не помню ни разу, чтобы был аншлаг.
— Тебе откуда знать? Борька доносил, что ли?
— Ну, ну, — нетерпеливо перебил Фалик. — Не надо так много парле! Короче!
— Короче, пусть Борис возвращает машину и платит неустойку. Не в первый раз уже твой внучатый племянничек падлячит мне.
— Ну, это ваши с Борисом дела. Зачем меня в них посвящать?
— Э-ээ нет, не скажи, старик, — Сава хлопнул ладонью по стойке и напряжённо рассмеялся. — Я же не дурак, всё понимаю, по чьей указке мальчишка исполняет. И зачем колёса вам — тоже знаю, какие вы вопросики с их помощью обкашливаете. Короче, — сказал он с вызовом, — Борькин долг — твой долг. Вот ты и заплати девчонке.
— Чужих долгов не держу, — спокойно возразил Фалик и скрутил на груди крендель из переплетённых рук.
— А мне что делать? — Нэнси улучила момент и вклинилась в перебранку двух маклаков. По её телу расползался неприятный холодок. — Я квартируюсь у незнакомого человека, у меня нет денег ни на еду, ни на обратный билет домой. Что мне делать?
— Бери второй заказ, — великодушно предложил Сава, но Нэнси окинула его таким презрением, что мужчина вздохнул, потянулся во внутренний карман кожанки и демонстративно вытряс на верстак содержимое бумажника: несколько пятаков и двушек, пару мятых десяток и пятисотенную.
— На — бери. Остальное после выходных.
— Я не возьму. Зачем вы меня унижаете этим?
— И двинули мы дороженькой извилистой, дороженькой утоптанной… — Сава картинно вздохнул и убрал деньги обратно в карман. — Куклёночек…
— Ещё раз так меня назовете, и я выцарапаю вам глаза!
— Послушайте! Женщина! — Сава взял себя в руки, очевидно сообразив, что угрозы не пустые. — И на вашей улице перевернётся грузовик с лимонадом. Вот увидите! Надо просто подождать, пока я реализую черепки.
— Вы же здесь что-то продаёте!
— Ничего он здесь не продаёт, — пресёк Фалик мысль Нэнси. — Околачивается день-деньской, халяву ловит.
— Это неправда! — попытался оправдаться Сава. — Я помогаю тебе с твоими переплётами.
— А вы? — дрогнувшим голосом сказала Нэнси. — Вы не могли бы дать взаймы?
— Нет, милая. — Редкие, белесые брови старика выпрямились в ровную линию. — Я никогда не даю в долг женщинам и незнакомцам. Это моё правило! С первыми кредит портит отношения, а со вторыми — убивает веру в людей. Стало быть, на незнакомок это правило распространяется вдвойне.
— Да не мне, — непомерно тонким, раздражённым голоском выкрикнула Нэнси, — ему!
— Нашла у кого просить, — уничижающе порскнул от смеха Сава. — Он же пейс…
— Антисемитам тоже не даю, — строго добавил Фалик и сжал от злости свои крохотные, морщинистые кулачки.
Сава промокнул масляные губы уголком салфетки и брезгливо их скривил.
— Вы оба! Не надо на меня так смотреть! Сказал же, реализую товар — будут деньги.
— Не реализует, — вынес свой вердикт старик и с сочувствием посмотрел на Нэнси. — Цену заломит такую, что ой-ёй-ёй. Ладно, милая, я подкину тебе тыщонки три. Этот, — он презрительно глянул на Саву, — действительно помогал с моими переплётами. За такую помощь я, говоря честно, уши бы надрал — переделывать пришлось. Ну, да ладно… Будем считать, я оплатил его труды, а он — ваши.
— Это мало, — запротестовала Нэнси. — Очень мало за мою работу.
— Она хочет всё и сразу, — подытожил Сава.
— Берите что я даю, — предложил Фалик, — могу сверху подкинуть пару салонных вещиц для амортизации или залога. Это как сами решите. Запишу на счёт ханурика. Не заплатит вам, будет должен мне.
— Что? — Сава аж побелел от злости. — Старик, не надо одолжений и этих широких жестов за мой счёт!
— Тогда реши проблему полюбовно своими способами, — рявкнул Фалик. — Мне надоело гонять порожняки. У нас, напоминаю, есть дела и поважнее!
Сава внешне овладел собой. Только вот голос продолжал звучать прерывисто и зубчато:
— Хорошо, хорошо. Как там вас?
— Аня, вы давайте, войдите в моё положение. Ну нет денег пока, нет. Возьмите что-нибудь на своё усмотрение с витрины. — Широким взмахом руки торговец окинул «витрину» за своей спиной. — Вот и Фалик не против. В его салоне есть много интересных вещиц.
— Предлагаете расплатиться в продуктовом рындой? Или, может, загнать водолазный шлем в качестве арендной платы за квартиру?
— Не обязательно, — сказал старик. — Говорю же, можно взять в залог. И, конечно, что-то полегче, чем рында или шлем. Например, гравюру. Или книгу.
— Ну да. Первого издания «Онегина» я вам не предложу, а вот книг по яхтингу и парусному спорту у меня много.
— Вся ваша библиотечка яхтсмена не стоит тех денег, который мне должен ваш коллега.
— Сава пообещал вам космические гонорары за работу? Или, — оживился Фалик, — вы разбираетесь в книгах? Всегда интересно поболтать с ценителем хорошего.
— Шпигель фарцевал в восьмидесятые, — пояснил Сава. — Был асом букинистического дела, известным чуть ли не на весь Ленинград.
— Преувеличиваешь, — насупился Шпигель, но всё же старику были приятны Савины слова — и он охотно использовал упоминание о минувших фарцовщицких деньках, как предлог затеять разговор на отвлечённую тему.
— Всё начиналось в 71-ом с перепечатки под три копирки запрещённого в СССР итальянского издания «Доктора Живаго» на русском языке. Я ведь по профессии печатник-тиснильщик третьего разряда. В училище изучал художественный переплёт и собирался по окончанию обучения открывать своё переплётное дело, но на три года загремел в морфлот, а когда вернулся с Забайкалья, понял: накопленные навыки растеряны, ни стартового капитала, ни должного опыта у меня для собственной мастерской нет и не было — и пошёл устраиваться на полиграфическую фабрику. В отделе кадров только услышали фамилию — развели руками, мол, есть только должность полотёра, а я ведь знал, что печатники требуются. Текучка у них там постоянная, ещё по училищу знал. Ясно, что сусловскую директиву отрабатывали, что при Сталине не удалось сделать, они стремительно навёрстывали. И наверстали, суки, к 74-му: самый разгар гонений на евреев был. Но тогда, в 71-ом всё только начиналось, и я уже задним числом домысливал отказ, точней, его причину. Молодой был, гордый: кадровичке нахамил, хлопнул дверью и ушёл в свободный дрейф. Не знаю, сколько бы так я дрейфовал, если бы не объявился мой «забайкальский» кореш, младший летёшник, с которым мы на флоте крепко мутузили друг друга, пока не выяснили, что оба — земляки из Клина.
Иссохшее, криво перечёркнутое морщинами лицо Фалика налилось плотным палубным глянцем. Впалые глаза, запавшие в костяные глазницы, затянулись тонкой маслянистой поволокой — предтечей хандрических флюидов, неизменно конвертируемых у старой гвардии в ностальгические слёзы по ушедшим временам. Но Фалик не страдал беспорядочной сентиментальностью и легко пресёк на корню грядущее нытьё. Он подтянул распухшим носом набежавшую сырость, мерзко и привычно харкнул и побежал дальше с утроенной силой по канве воспоминаний.
— Оба из Клина, но меня отец с матерью в Ленинград после войны годовалым карапузом потащили. Они город после блокады восстанавливали, а зёма в Москву подался шестнадцатью годками позже, штурмовать Ленин-хиллз45. Задружили крепко, на целых двадцать лет. Зёма после армии, недолго думая, двинул в моряки. Вернулся он из очередной такой загранки с трофеем — тем самым «Доктором Живаго». Я как узнал, тут же на правах сослуживца и друга в очередь-то вклинился. Книгу выклянчил на три недели, как в библиотеке, под роспись. Помню эти разговоры в училище об отщепенце и предателе Пастернаке и его антисоветском «пасквиле». Рукопись отвергли попеременно Гослитиздат, журналы «Новый мир» и «Знамя», зато заинтересовался этот макаронник, не помню уж фамилии. Роман, чтоб не соврать, перевели на пару дюжин языков. После началась, конечно, травля, исключение из Союза писателей, порицания в газетах: «не читал, но осуждаю». Ему же давали Нобелевку, он был вынужден даже отказаться. Но вся эта шумиха только подогрела интерес к «Живаго». Короче, Борис Исаакович меня тогда здорово выручил со своей «антисоветщиной». Я перепечатал роман на пишмашинке, которую тоже одолжил у друга.
— Не имей сто рублей, а имей сто друзей, — Сава уселся на табурет, зажал ладони в коленях и криво усмехнулся. Он слышал эту историю сотни раз, но знал наверняка: перебей он старика, намекни, что тот и сам ещё недавно подгонял Саву намёками о делах, и зловредный старикашка ему это припомнит — и не раз! Он знал манеру Фалика заходить издалека, с самого начала, особенно когда дело касалось книг, поэтому терпеливо пережидал, когда тот наговорится.
— Обтачивал навыки, получал бесценный опыт, — продолжал клекотать своим тягучим хрипловатым голоском Шпигель. — Три недели изнурительного битья по клавишам машинки, ещё неделя — изготовка переплётов и шитьё, а через месяц стопка тончайших папиросных листов, переплетённых в зелёный «бристоль». И вот я с четырьмя экземплярами самопального «Живаго» стою у галеры Гостиного двора. На обложке никаких названий, внутри никаких титульных листов. Подошла пожилая дама с толстым слоем пудры на щеках. Полистала и говорит: «Трудовым потом разит от этих текстов». Ну, я принял на свой счёт, разулыбался, хотя комплимент, конечно, был Борис-исакычу. А потом, помню, как сейчас, спрашивает: «А если завтра будет публичная казнь, ты пойдёшь смотреть или нет?» Я аж опешил. Не знаю, что и говорить. Молчу. А она ни слова не сказала, только вытащила из кошелька пятьдесят рублей и мне шутливо пальцем погрозила, как грозят нашкодившему ребёнку. Забрала машинописную копию и больше я её не видел, но до сих пор считаю, что это была Лидия Чуковская.
Сава смешно крякнул, вкладывая в этот звук весь свой скепсис, но Фалик был поглощён рассказом, чтобы обратить внимание на такую ерунду, как чьё-то сомнение насчёт верности его предположений.
— А копирочные экземпляры — «виолетки» — я отдал одному аспирантику оптом по тридцать три. Рубль ему до сих пор должен, не смог найти сдачи с сотенной бумажки. Вот так: полтораста деревянных за месяц работы. Скажу, совсем неплохо для вчерашнего студента-раздолбая. Раздал долги, накопленные за четыре месяца безденежья, и таки вернулся на фабрику, ту самую, где я громко хлопнул дверью. Оригинальный «Живаго» ушёл к очереднику, а я решил, что лучший способ быть поближе к дефицитной книге — это работать на книжной фабрике. Конечно, четыре пятых выходящих из-под пресса книг были агитпропом или маркленом46, на худой конец, антологиями ирано-болгарских, турко-шведских или ещё каких хрен кому известных поэтов и писателей, но был красный пятитомник Чапека, синий двухтомник Лермонтова, Диккенс энциклопедического формата с шёлковым капталом и ляссе, Семёнов в цельнотканевом переплёте ещё без легендарного Тихонова на обложке. Был Достоевский — «Мёртвый дом», «Бесы», «Братья Карамазовы». Новенькие, нечитанные, пахнущие типографской краской и чем-то ещё совсем не книжным. Через полгода на Гостином дворе я уже был в доску свой. Меня называли литературным бесом, может, потому что больше всего таскал на Галеру именно Фёдора Михайловича. Кстати, спрос на него был всегда стабильный, даже в 90-е, когда книги выбрасывали на помойку целыми библиотеками. Достоевского могла переплюнуть только всякая инфернальная всячина о реинкарнации, грехопадении и смерти, которых не могли наесться лишь потому, что до перестройки наш советский народ вообще ничего такого не видел, не знал и не читал.
Фалик вытащил карманную расчёску и несколько раз провёл ею по жидкой проседи волос. Продул зубья и кашлем вытолкал из груди невидимую вату, которую частым харканием пробить уж было невозможно. Грудь всё же неприятно обложило, но старик перестал на это обращать внимание уже давно. Он сбавил тон, точно извиняясь за свою внезапную несдержанность.
— Думаю, если бы Питер был книгой, то он мог бы стать переизданием «Бардо Тодола»47, написанной доступным языком. Она пользовалась бы спросом: люди не любят думать о смерти, а если думают, то не любят читать. Но тайное всегда манит, особенно здесь, на петровских болотах, манит не столько сюжетом, сколько фактурой текста. Вот и Бугаев это знал, когда писал свой миф о Петербурге-призраке, о непостижимом городе воды, камня и туманов. Ленинградская интеллигенция таких книг не боялась, более того, они искали их, носом рыли землю, чтобы достать «Самоубийцу» или «Смерть Ивана Ильича». Один чудак, может даже извращенец, прознав о моём прозвище, застал врасплох заказом непременно достать ему неправленую «тихоновскую» главу — в любом виде, переписанную хоть от руки. Святые угодники, каких только клиентов я не встречал на своём веку, и ведь каждому смог угодить. У меня и сейчас определённо есть чем удивить искушённых в книжном деле.
Нэнси слабо кивнула. Уже почти решившая уйти, как говорят в таких случаях, не солоно хлебавши (рассматривать всерьёз три тысячи, выданные Фаликом, она не могла даже как заявку на победу), ей вдруг припомнился утренний разговор с Ленкой и Тарасом.
— Ну, вот и удивите! Меня интересует Дьявольская Библия. Вы слышали что-то про это?
— Рукописный свод 13 века, выполненный на пергамене, — после недолгой паузы произнёс Фалик, демонстрируя свою осведомлённость. — По слухам, автор страдал от общей неустроенности жизни. Такое случалось с живущими в тринадцатом веке. Сейчас ему бы поставили диагноз — синдром маленького человека, посоветовали взять ссуду и купить большой автомобиль, самый большой. Но восемьсот лет назад автосалонов не было, так что самоутверждались по-другому. Сжигали ведьм или малевали дьявола… Бога или ангела убедительно изобразить — надо постараться, а вот черти доступны любому со школьной скамьи. Вы в школе рисовали на полях чертят?
— Нет, — опешила Нэнси. — А вы?
— Я тоже нет, — признался Фалик, — но мой хороший, к сожалению, ныне покойный друг Володя Гершуни рисовал в большом количестве и не в самом худшем качестве. Получалось это порою даже лучше, чем у его дяди Гриши, который, в отличие от племянника, мог себе позволить без всяких ссуд чёрный и большой автомобиль48.
— Как думаете, такую книгу имеет смысл искать в частных коллекциях?
Фалик ожидаемо покачал головой.
— Такие книги — исключительно удел музеев. Вам же не приходит в голову искать кремлёвские звёзды где-то кроме башен Московского Кремля?
— И уменьшенную копию тоже? — не сдавалась Нэнси.
— Не уверен, что её копия может представлять какую-то особую ценность, кроме эстетической. Тебе вот нужна уменьшенная копия звезды на Спасской башне? Как сувенир или на ключи повесить — разве что…
— Мы про книгу говорим, — возразила Нэнси, но вконец запуталась. — Или про звезду?
Фалик засмеялся и дурашливо подтолкнул Саву в бок.
— Где ты её откопал, такую целеустремлённую? Нездоровый интерес, — это он обратился уже к Нэнси, — плодит нездоровые влечения.
Нэнси показалось, её пристыдили, и она очаровательно покраснела, что — однако! — не умалило героической тщетности её попыток добиться властности над фактами.
— Это не мой интерес, а подруги. Она со своим бойфрендом решила, что факсимильное издание «Дьявольской библии» существует в уменьшенном варианте и находится где-то в пределах Ленинградской области.
— Если бы это было так, я бы уже знал, — расхохотался Фалик. — Репродукционными переизданиями литературных памятников я занимался, когда ушёл с фабрики, а я таки ушёл — и снова со скандалом. Обосновывал я это заботой о пополнении фондов библиотек. Тебе доводилось что-то слышать про ленинградские объединения книжников? Ну-ну… Я, к примеру, участвовал в народных комментариях к «Германтам»49. Это уж потом Шпигель фарцевал в восьмидесятые! — Старик злобно перекривлял Саву и снова обратил своё внимание на Нэнси, моментально сменив на милость гнев. — Да-да, я был не только фарцой, но и бескорыстным альтруистом, бесконечно преданным и верным книге. А твоя подруга, она что, мистификациями интересуется?
— Скорее она интересуется оккультизмом и, может, совсем немного, сектантством.
— Скажу честно, у меня нет опыта адепта секты, но в моей жизни были два писателя, которые меня чуть не сделали сектантом. Это Кейс и Леланд. У обоих я украл по книге, но мне и этого хватило. «Кибалион»50 и «Арадия» — это, конечно, чтиво для сильных духом. Если ваша подруга из таких, рекомендую, но, к сожалению, не располагаю оными. Впрочем, для любителей оккультного кое-что в загашнике имею.
Фалик, не торопясь, доковылял до одного из шкафов, приоткрыл дверцу и перебором двух пальцев пробежал по корешкам, заваливая их на бок. Запнулся, обернулся и многозначительно глянул на Саву.
— Хватит блымкать, глаза как две очкастые пельмени. Подсоби-ка мне!
Тот растерялся, не ожидал такого. Недовольный тоном старика, он поднялся, заложив кулаки за спину, потянулся, хрустнув позвонками, и с великой неохоткой залез на стул-стремянку, небрежно опёрся локтем об оконный притолок.
— Заколыхался прям весь, — недовольно пробурчал Сава. — С чего бы?
Вместо ответа он заполучил опрятный штабель книг, и пока Шпигель рылся в глубинах шкафа, штабель превратился в шатающийся «вавилон».
— Тормози нагружать! — запричитал Сава, задыхаясь от веса книг. Верхний ярус башни оплывал, и пара томиков со стуком грохнулись на пол.
— Зёма, морячок тот с итальянским изданием «Живаго», вполне ожидаемо свинтил из страны, — продолжал как ни в чём не бывало Шпигель, мало внимая репликам Савы. — Ровно за год до ввода наших войск в Афганистан. В Копенгагене сошёл на берег и на корабль больше не вернулся. Кажется, с помощью русскоговорящего осси51 на пароме переправился в Путтгарден, а оттуда в Гамбург поездом — тогда это были федеративные земли. Попросил убежища, но ему отказали, а пока пытались выдворить из страны, он показал властям средний палец — заключил фиктивный брак с одной фройляйн, заполучив официальное гражданство. Тётка, кстати, была трачена молью, старше его, кажется, на двадцать лет. Но, в общем, не о том я! — Он неожиданно прервал рассказ и с торжествующим видом извлёк предмет долгих поисков. — Последнюю весточку от него я получил на сорокапятилетие. Он прекрасно помнил о моей страсти к книгам и прислал вот это!
Фалик передал запаянную в плёнку книгу. В руках у него остался серый прямоугольник, подложенный на переплёт под тонкую резинку. Резинка, едва её тронули, лопнула, высвободив вскрытый конверт с гашёной маркой.
— Что это? — спросила Нэнси.
— Ещё один лауреат престижной премии, которого запретили к печати, — пояснил Фалик. — Британский Пастернак — Ахмед Салман Рушди. Эту книгу, как и в случае с «Доктором Живаго», автор был вынужден печатать не на родине, в Британии, а в ФРГ. Кстати, Рушди повезло ещё меньше, чем Пастернаку — его приговорили к смертной казни за этот текст. Весь магометанский мир подписался под знакомыми уже словами: «Не читал, но осуждаю!»
Нэнси приняла книгу из рук Фалика. Том был увесистым. На обложке издания, оформленного более чем скромно, значилось: «Die Satanischen verse». В правом нижнем углу стояла надпись «Verlagshaus Artikel 19, GmbH». Она перевернула книгу и с удивлением обнаружила на обороте второй титул. Он был оформлен в той же коричневой цветовой гамме с геометрическими и цветочными мотивами по краю. Название книги было по-английски: «The satanic verses».
— Сатанинские стихи, — перевела Нэнси. — Это поэзия?
— Ну, если стихи, — растолковал по-своему старик, — значит поэзия. Хотя ничего определённого не могу сказать. Как видите, книжатинка целковая, в соплю умасленная…
Нэнси в недоумении пожала плечами.
— Какой смысл в книге, если её нельзя не только прочесть, но даже полистать?
— Ну, как сказать… — Фалик всерьёз или в шутку скопировал движение плечами. — В наше время считалось моветоном сбросить целлофан, если таковой был задуман издателем. Двадцать лет назад советские книжники брали в расчёт, что «сопля» — первый признак того, что книга мейд-ин-не-наша.
— Ещё бы, здесь же не по-русски написано.
— Это второй признак, — ухмыльнулся старик. — Хотя двуязычные издания для советского человека сами по себе были диковиной. Незачем было тратить бумагу на оригинальный текст. Зачем? Это не только бесполезно, но и опасно. Очевидно хватает и одного языка — русского, хотя вернее и точнее сказать: советского. Реальность такого пренатального языкотворчества проектируется по законам вымысла: рабство объявляется свободой, ложь — истиной, война — миром. Понимаете? Мы ведь были самой читающей страной в мире. Так очень удобно пулять в народ зарядами идеологической энергии. И любой другой язык — язык оригинала — здесь будет лишним.
— Но для стихов это имеет смысл, — возразила Нэнси.
— Для стихов, как раз, исключение и делалось. Припоминаю, гуляли по Арбату стихотворные переводы греческих эпиграмм. Вот они были билингвами.
— Почему же вы за столько лет не ознакомились с «Сатанинскими стихами»?
— Да уж, ты — смола, — подал свой бархатный, но оттого не менее прескверный голос Сава. — Пристанешь — не отлеписся.
— Опять? — взвилась Нэнси. — Опять мне тыкаете!
Старик почувствовал, что внушавшая ему симпатию гостья готова закусить удила из-за нетерпеливости его напарника: в общем, справедливо. Фалик жестом приказал Саве вернуть «вавилон» на место, а сам подтянул ногой табурет и, кряхтя, присел.
— Ты жальник свой попридержи, ну, в самом деле, — мягко, как несмышлённое дитя попенял он Саву. — Не видишь, мы разговариваем.
— У нас, напоминаю, есть дела и поважнее! — припомнил Сава брошенную Фаликом же фразу.
Но старик мудро не расслышал «закавычек» Савы. Ему нравилась пытливая дотошность молодой женщины, равно как и сухой, медвяный, почти фруктовый намёк на аромат, едва исходивший от неё. И к тому, и к другому Фалик тяготел особо, и то и другое было его слабостью. Он был готов поощрять Нэнси тем малым, что мог дать.
Фалик бережно уложил конверт на колени и теперь сверлил прямоугольник бумаги глазами, а чтобы было удобнее — подпёр виски сжатыми кулаками, напрягшись и порозовев лицом. Поиски книги, как и словесные препирательства с Савелием явно утомили его.
— Засада! — сказал он после продолжительной паузы, отвечая наконец на вопрос. — Я ни черта не понимаю по-немецки, впрочем, как и по-английски. Решил оставить в товарном виде, на продажу. Но видно ждала книга все эти годы только одного хозяина, верней, хозяйку. Как зовут подругу-то?
— Лена. Только почему вы решили, что иностранный — не засада для неё?
Он ослабил тиски кулаков и задумчиво потрогал скошенный продольными морщинами взмокший лоб. Узы кашне, наконец, были сброшены, и Фалик задышал чаще и громче.
— Нынешняя молодёжь — акселераты или дегенераты? — произнёс он, ни к кому не обращаясь, в пространство. — Милая, эта книга редкость и стоит больше, чем вы заработали. Раза так в два… или три. Не верите мне? Может, тогда этому поверите…
Он ощупал конверт, взвесил на ладони и, подумав, потянул за уголок внутренность — сложенный вчетверо лист. Не написанные от руки, а машинописные фразы располосовали короткое в страницу письмо от далёкого адресата. Нэнси заметила: обратный адрес на конверте был написан по-немецки.
— Фалька, — зачитал не с самого начала старик, долго выбирая интересующее место, — имею торжественно сообщить следующее: книга — мечта библиофила. Урвал счастья в журнальном киоске на углу Бундерштрассе и Дюрхшнитте. Издание пилотное, тираж скудный, даже ничтожный по меркам советской книгоиндустрии — и тот через неделю скуплен рейхсарабами52 и сожжён на Ратушной площади…
— Я же говорю, — старик недовольно прервался, — этот Рушди попал в немилость к духовным лидерам магометан. Там мутная история. Были взрывы в книжных магазинах, книгу жгли на площадях публично в знак протеста. Покалечили или убили нескольких причастных к переводу книгу. За голову Рушди и по сей день назначено вознаграждение.
— Странно, что я об этом ничего не слышала.
— Если вы чего-то не видите или не знаете, — назидательно заворчал старик, — то это не значит, что этого не было.
Он не стал дочитывать — словно бы обиделся на неосведомлённость Нэнси. Вложил неверно свернутый листок в конверт, моментально опухший из-за нескладности письма, и запульнул им в дальний угол верстака.
— И я её ещё уговариваю!
— Дорого у нас, — поддакнул Сава, — так что не раздумывай: бери. В залог или насовсем. Не прогадаешь, а покупатели, если что, найдутся. С руками и ногами оторвут.
— За двадцать лет не оторвали, — Нэнси скептически качнула головой. — Я возьму только потому, что знаю, — углом книги она вписала в воображаемый круг шишковатый череп Савы, — вы мне всё равно не заплатите.
Настенные часы пробили час, будто пропели «дэ-ээнь…», и не успел затихнуть пружинный бой, как «рубка» мягко завибрировала под нагружаемыми чьими-то шагами ступенями.
— Вот! — сказал Сава, предпочитая оставить критику в свой адрес без внимания. — Правильные клиенты знают, когда надо приходить: к началу или к концу обеденного перерыва, а неправильные даже уйти вовремя не могут, потому что приходят — не вовремя!
Она окатила брезгливым презрением торговца и резко развернулась на каблуках в сторону выхода.
— Ступай, куклёночек, ступай, — услышала в спину. — И без тебя дел хватает!
«Швах», — подумала Нэнси, добавляя ещё кое-что в уме к характеристике торговца Савы. Она даже остановилась и снова повернулась к ухмыляющейся роже, с тем, чтобы плюнуть в неё или запустить тысячестраничным вознаграждением её трудов, но растерянно замешкалась, услышав его восторженное:
— Вот так смык! Так на так, как говорится.
Нэнси запоздало сообразила, что Сава обращается не к ней. Отстраняясь ладонью от падающего света, проторившего тропинку через неплотный нахлест карт на окнах, она всмотрелась в лицо вошедшего. Уже однажды видела она эту ядовитую субтильную фигурку — мальчишка-сопливец, позволивший наговорить ей дерзости. Спиногрыз! Она видела его на рынке с Савой. Вместо тренировочного костюма он был одет в вельвет — в плюшево-ребристые штаны длиной до щиколоток и такую же куцую куртейку с декоративными погонами. В редких, испорченных зубах его застряла жвачка, которой он чавкал с чрезмерным усердием. От ходивших взад-вперёд желвак двигалась и принайтованная за ухом сигарета. В руках — здесь Нэнси инстинктивно прижалась спиной к стене и вся её кипучая, не выплеснутая злость куда-то испарилась — он держал пластиковый ящик для рассады с тряпичной горкой свёрнутого абы как шмотья. Из-под пятнистого тряпья выглядывали два черенковых обреза лопат. Эти вещи, моментально узнанные, помогли узнать лицо мальчишки.
— Здравствуй, Боря! — нетерпеливо и вкрадчиво проговорил Сава и плотоядно ухмыльнулся. — Ну вот мы и свиделись!
Глава 12. УЗНИК ЖЁЛТОГО ДОМА
Погода испортилась на утро. С прошлого заезда солнце затерялось в дымных облаках, и буйный солнцепёк затёрся поновлённым дыханием суровой Балтики — неровным, свистящим, подопревшим прохладцей. Бесконечно струился неторопливый дождь, прерываясь только на порывы ветра. Его неласковая инерция, непогашенная и непогашаемая, раздувала тряпичные бока брусничников, гнездившихся под-над штакетником решётчатых заборов, выходивших коваными фасами к мелковатому озеру. На дальнем отлогом берегу подпирали шоссейную дорогу участки-огороды, уже который год не знавшие ни плуга, ни лопаты. По их кромкам вытаивала дерновина, теснимая ивовым лозняком. Раскормленный частыми парными дождями, он огибал изрезанную кромку берега, смыкая ту и эту сторону, вплотную подбирался к двухэтажной каменной постройке с лепным фронтоном, с колоннадой и карнизами. Дом держался нарочито обособливо, хотя на фоне типично сельского пейзажа это получалось из ряда вон как плохо. Кроме всякого, в тяжеловесную старую архитектуру кто-то, стена к стене, без почтительного удаления втиснул современную коробку неказистого строения. Уныло-серого цвета, без лепнины на фасаде, оно, на фоне сановитого, вельможного соседа, казалось верхом эстетского уродства.
Звонок не работал. Или работал, но там, внутри, не хотели открывать. Глеб упорно давил кнопку, пытаясь вслушаться в далёкую трель электрического соловейчика. Соловейчик молчал. Он терпеливо выждал, повернулся спиной и что было силы наподдал пяткой. В слабозаметном сейсмостойком содрогании дверной материи не произошло ничего. Всё так же по шиферной кровле аритмично и мягко лепили капли и вдалеке выкручивались злобные барашки дыма, шипящие потухшим на дожде костром. Под скамейкой, раздув впалые бока, нервно дышал когда-то крупный, а ныне отощавший пёс. Глеб присмотрелся: не тот ли это, что пытался по прошлому разу бросаться под колёса? Нет, не тот. Тот был с колтунами, а этот шелудивый. Глеб подобрал лежащий у ступенек кусок крупной, с кулак размером щебёнки и замахнулся от бессильной злобы на животное. Но псу было настолько всё равно, что он даже не подумал шелохнуться, только скосил глаза с червлёными белками. Злость надо было куда-то девать, и Глеб двинул каменюкой по металлической набивке двери, простроченной крест-накрест булатными заклёпками. Тотчас по ту сторону раздалось глухое шорканье, точно ластик заходил взад-вперёд по бумаге, затирая карандашную помету. Дверь огрызнулась, клацнула щеколдой, и на пороге возникла равносоставная фигура низенького, но плечистого санитара.
— Звонок не фурычит, — добрым искусственным голосом сообщил Глеб.
— Мужик! — Крепыш заложил большой палец за пуговицу стиранного-перестиранного больничного халата и принял угрожающую позу. — Читать умеешь? Вторник и четверг для посетителей — неприёмные дни.
Глеб покосился на табличку и вежливо прикрыл ладонью зевок.
— Я не посетитель. — Он поскучнел, бросил камень в сторону и полез в карман. В его руках мелькнуло служебное удостоверение с золотым тиснением двуглавого орла. Крепыш протянул мягкую, будто без костей ладонь и, близоруко щурясь, попытался перехватить свидетельство.
— Мужик! Читать умеешь? — Глеб зло перекривлял санитара и отстранился. — Вот и читай, а руками не трогай.
Переводя взгляд с удостоверения на его владельца — и обратно, крепыш крепко задумал, что ответить: мучил в темноте сознания желвак обратной связи, хоть какой-то реплики, но ничего так и не придумал. Лицо его сильно напряглось. В очередной раз он провёл недоверчивым взглядом по бледному энергичному лицу молодого человека, сравнил с фотокарточкой в опасном гербатом ксивнике, но всё же сдался: отстранился, пропуская того внутрь.
Сиреневый свет гудел шмелями под самым потолком, томясь в длинных матовых баллонах. Иногда он стрелял люминесцентными пунктирами неисправных стартеров и косо мазал о белый кафель, сползая хитрыми зигзагами от стены к стене. Глеб терпеливо и послушно последовал за ломаными линиями слепяще-электрического света. В озонированном, процеженном сквозь фильтры воздухе не смела барражировать ни одна пылинка, ни один посторонний запах, кроме медицинского, не вился в нём. Его горчично-эфирный дух гулял по закоулкам унавоженной больничной нивы, будучи не просто запахом, а солью, сущностью и атмосферой административного учреждения.
В ординаторской под низко опущенным светильником, похожим на шляпу боливар, с абажурными полями, сидели за овальным столом двое в белых халатах и играли в нарды. Протяжно волоча сланцы, они перевалились навстречу, заинтересовавшись незнакомой персоной. Иванголов представился: назвал свою фамилию, подкрепив её всё тем же документом, и назвал чужую, отлив единосложным «Где?»
Александра Аткарцева — подпольное имя Санчо (записано в деле) — Глеб отыскал в цоколе здания южного крыла, в блоке помещений, переоформленных в изобразительную студию с экспозиционным залом, арт-терапевтической комнатой и лекторским залом. Через стеклянную дверь, закрашенную белой краской до половины, подле доски, в энтропических разводах от мела и мокрой тряпки, он увидел долговязого небритого человека с водянисто-голубыми глазами и густыми чёрными кудрями, похожими на кукурузные рыльца. Перед ним на составленных стульях сидело человек пятнадцать разновозрастной аудитории. Мужчина умоляюще простирал к ним руки, приподнимая полы расстёгнутого пиджака, и выписывал в воздухе какие-то фигуры.
Через пять минут всё было кончено и пациенты печально разбрелись по коридору. Человек, не замечая гостя, двигал опустевшие стулья, однообразно выстраивая их в две шеренги. Где-то этажом выше монотонно подвывал пылесос, и, маскируясь посторонним звуком, Глеб бесшумно скользнул в опустевшую подслеповатую комнату, минуя высокое, с дверной проём, потёртое, трёхстворчатое трюмо.
— Миру вообще не нужны новые знания, если посмотреть какое количество знаний уже существует, — сказал он и несильно хлопнул лектора по его плечу. Тот вздрогнул.
— Простите, не имею чести знать вас.
— Извини, Александр Ильич, не представился. — Глеб фальшиво сконфузился и снова потянулся к обвислому карману за красной коркой, довольно отмечая, как собеседник изменяется в лице. — Лелеял безумные надежды никогда с тобой не видеться. Но ты моих надежд не оправдал.
— Я вам так скажу, — человек потёр ладонями о брюки и задвигал тощими плечами, — не все здесь оправдывают наши надежды!
— А в это прям в точку! — утвердительно хмыкнул Глеб. — Есть вещи, которые возможно затолкать в себя только по принуждению.
— … как несолёный рис.
Глеб непонимающе моргнул: что?
— Как несолёный рис, — повторил на всякий случай собеседник, словно пытался закрепить сказанное. Пояснил: — Каждое утро строго натощак заставляют съесть ложку пресного риса, вымоченного в кипятке. Он крепит стул. Знаете, что санитаров раздражает больше всего? Расстроенные кишечники их пациентов, — Аткарцев негромко рассмеялся. — Так вот, такую штуку можно употребить в себя исключительно по принуждению. Больше никак. Малосъедобное кушанье, доложу вам, даже хуже, чем морковник на обед.
— А ты небось падок до блинцов с чухонским маслом? Тебе, наверно, подавай особую гастрономию?
— Я не жалуюсь, — возразил Аткарцев. — Больному человеку, уязвлённому страхом, кажется, что ему одному плохо, а всем хорошо.
— Это хорошо, что тебе страшно. Я просто радуюсь такому заявлению. Наблюдать за интересными коллизиями всегда полезно ровно до тех пор, пока они не бьют тебя по темечку.
Аткарцев с шумом втянул в себя пересушенный воздух общебольничной асептики и обиженно отвёл взгляд.
— Намекаете на вашего отца?
Глеб опустился на один из стульев и выдавил из-под верхней губы желтоватые резцы. Улыбкой он старался подавить растерянность.
— При чём здесь он?
— Ну, как же? Торите дорожку Артемия Илиановича, идёте по его стопам. Я вас сразу узнал! Вы похожи, определённо похожи.
— Не похожи, — мотнул головой Глеб.
— Сходство есть, уж поверьте художнику.
Глеб отодвинулся, громко грохнув стулом, закинул ногу на ногу.
— Врёшь, Александр Ильич. Фамилию на моём удостоверении ты прочитал — вот и вспомнил. Только на этом наше сходство с Артемием Илиановичем кончается.
— М-мм, удивительная, трогательная, несколько швейковская манера общения. Да нет же, вы весьма похожи. Как он, кстати?
— Отец умер.
— Вот как? — тихо удивился человек и перекрестился. — Царствие ему небесное! Давно?
— В начале позапрошлого года. Тебе интересно узнать, как это случилось? — Глеб не стал дожидаться реакции, почти без паузы счеканил: — Напали сзади с ножом.
И замер, пытаясь по реакции понять, слышит Санчо об этом впервые или нет. Тот оказался прекрасным конспиратором. Склонил голову набок, прикрыв глаза, и произнёс:
— Прискорбные известия сюда доходят с опозданием. Непременно прочту молитву об упокоении его души.
— О своей позаботься лучше, — огрызнулся он и выражение его лица стало настороженным и выжидательным. — Знаешь, это дело латышей… он ведь затылком чувствовал твою причастность. Подкачала доказательная база, а так бы мечтать тебе о морковнике, как о манне небесной. На зоне, знаешь ли, такие изыски только в кумовской пайке можно сыскать. Обычному зэка баланда и сухари уже за счастье идут.
— Я иногда думаю, что тюрьма была бы лучшим исходом для меня, чем эти стены. — Аткарцев снова мягко вздохнул, словно не желал откровенной речи, но был попросту стеснён отсутствием свободы выбора. — У вас, простите, на глазах шоры. Настоящий пенитенциарий — не тюрьма, в тюрьме есть срок, а это всё же хоть какая-то, но определённость, в то время, как здесь человек коротает век с бессрочной формулировкой «до полнейшего выздоровления». Хотя в моём случае, Глеб Артемьевич, наверно правильнее всё же говорить: до смены режима.
— Сейчас ты будешь прорабатывать меня рассказами невинной жертвы карательной психиатрии? — криво усмехнулся Глеб. — Давай пропустим эту часть. Ты же здесь валандаешься, как сыр в масле — за десять лет весьма неплохо устроил свою жизнь. Даже преподавать начал…
— Одиннадцать. — поправил Санчо. — И… вы не имеете ни малейшего представления о здешних методах воздействия. Я бы врагу не пожелал такого.
— Слушай, — Глеб кивнул на стул, предлагая собеседнику присесть, — отец, в отличие от меня, не был лицом, оказывающим содействие конторе, он сам был конторой, работал как федеральный агент, и сложил полномочия после неудачи с «Перконс-крусцом». Дело развалилось и его вежливо попросили подвинуться. Он был вынужден уйти, но про тебя не забыл. Он был же здесь неоднократно. Зачем? Неужели только из-за чёрных образков?
— Вы здесь, чтобы получить ответы на вопросы?
— Но не на эти.
Глеб дрогнул было, но с мудростью сдержался.
— Верно, — помедлив согласился он и хитро сощурился. — В общем, мне всё равно, что отец находил в визитах к тебе — отдушину или глумёж. Последние пять лет жизни он помешался на чёрной магии и всё носился с этими иконами…
— Думаю, дело не в чёрной магии, а в сделке с совестью. Но на сделку с совестью может пойти только человек без совести, а у вашего отца она была. — Санчо присел на краешек стула. — Весь смысл мироздания сводится к тому, чтобы привносить человечное в бесчеловечное. Счастливый дар выбирать везде, где есть выбор из двух третье — добродетель, потому что добродетель есть награда и для богоносцев, и для рогоносцев. Но иногда, по недоразумению или глупости, мы совершаем поступки против собственных убеждений, а потом совестимся этим, повинуясь внутреннему побуждению. Мы испытываем чувство стыда за совершённое и искренне жаждем раскаяния.
— Только при чём здесь дьявольская казуистика?
— Это искус, испытание — непристойным, порочным, ужасным. Вот академику Ландау всегда хотелось запустить сырым яйцом в лопасти вращающегося вентилятора. Было, по его признанию, словно бесовское наваждение. Но кроме искушения было упоение. Я сейчас про вашего отца. Он упивался идеей Бога-Универсума, который был и есть всё: и Сатана, и Яхве. Не стеснённый никакими границами, он мог позволить себе вести борьбу за право обладания истиной в последней инстанции.
— У отца была велика энергия заблуждения. Он не выиграл ту борьбу…
— Мы этого не знаем. В любом случае, это не причина прекращать вам её. Мы — дети родителей, нравится нам это или нет, и с возрастом обнаруживаем только больше в себе родительского. Его поражения — ваши поражения, но и его победы — это ваши победы. Таков закон преемственности.
Глеб неопределённо подвигал челюстями и даже вымолвить ничего не смог от напора чувств.
— На тебя посмотришь, — сказал наконец он, обретя дар речи, — так прямо диалектика в действии! Хочешь поболтать? Давай поболтаем!
— Сигарету хочу, — признался Аткарцев. — Не курил целую вечность.
— Поговорим — будет сигарета, — пообещал Глеб и придвинулся вплотную к Санчо.
— Я разумеется буду молоть чушь, — выговорил Санчо, облизнув пересохшие губы. — Это единственная тема, которую умалишённый может развивать.
— Не ёрничай, — осадил Глеб Аткарцева и щёлкнул пальцами: — Ты кажется знаком с Шишкинсом?
— Классическая техника перекрёстного допроса, — понимающе кивнул Санчо. — Говорите допрашиваемому только часть того, что вы знаете, допрашиваемый запутывается и врёт, потому что не знает, сколько вы знаете.
— В 1995-м, — начал Глеб с суровой серьёзностью, — после нескольких неудачных попыток подрыва памятника Победы в Риге, латышские несистемные реакционеры объявили о перезапуске ячейки «Перконс-крусц»53 и взяли на себя ответственность за несостоявшийся теракт. Организация сменила методы борьбы и стала активно заниматься пропагандой шовинистического толка, информационно стравливая латышей, евреев и русских. Для этого Вилис Лининьш, один из лидеров ячейки, пытался рекрутировать ряд типографий Латвийской православной церкви. Но предприятие выгорело. Вилис был вынужден ехать на Запад за спонсорскими деньгами на покупку собственных типографских мощностей. Пока Лининьш шакалил по Европе, Игорь Шишкинс, главный идейный вдохновитель «Гром-креста», пробовал закрепить неуспех Вилиса собственным успехом и проделать то же самое на территории России через договорённости с тогдашней крышей РПЦ — финансово-торговой группой «Ника». У него было, по крайней мере, две встречи в Пскове с вице-президентом Владимиром Веригой и оба раза, очевидно, Шишкинс договориться не сумел. Думается, Верига небезосновательно решил, что бенефициаром в этом мутном деле ему не быть. В самом деле, Шишкинсу было нечего предложить русским церковникам, кроме кровной вражды. Эти ребята из Гром-креста выработали, похоже, жизненную философию на преодоление тотальной непрухи, которая преследовала организацию с самого 34-го года. Шишкинс не расстроился отказу и пошёл в православные религиозные общины самым грубым, самым примитивным способом — вербовкой, рассчитывая, должно быть, что на руку ему сыграет не правовой хаос, а религиозный романтизм. — Глеб замолчал. — Как видишь, я знаю, что ты знаешь!
— Но это же сказали вы, не я.
В правой руке Санчо, поставленной на локоть, появились маленькие чётки, до этого, должно быть, упрятанные под лацкан на запястье. Зёрна из серебристо-белого металла или сплава сходились на крестике из полированного дерева с вплетённой колонковой кисточкой.
— Как насчёт курева? — беспечно спросил он и принялся перебирать блестящие дробинки.
Глеб удовлетворённо отодвинулся и улыбнулся. Ему не хотелось курить, но он, пересилив себя, достал нераспечатанную пачку сигарет, свернул красную полоску целлофанового ободка и смачно раскурил одну. Зажигалку и табачную пачку, дразня, положил на стул перед собой.
— Я задам вопросы, на которые ты должен будешь отвечать утвердительно или отрицательно, — предупредил он, трогая фильтр ножницами сомкнутых пальцев. Пальцы у Глеба были необыкновенно длинные. Санчо легко было представить их на струнах скрипки или пианинных клавишахп. — Справишься — курево твоё.
Он по-птичьи завертел головой, беспорядочно хватая подбородок пальцами, поднёс огонёк сигареты к губам и плюнул брыдким завитком в лицо собеседника, тут же жадно потянувшего ноздрями. Запах этот, от сладости на нёбе и до слезящихся глаз, был восхитительно умопомрачителен.
— Валяйте ваши вопросы.
— Ты пересекал российско-латвийскую границу незаконным способом?
Санчо недобро сузил глаза.
— Ты пересекал российско-латвийскую границу законным способом?
— Поездка была туристической?
— Поездку организовал отец Лаврентий по благословению архимандрита Тихона.
— Да или нет, — напомнил Глеб.
— Нет, поездка не была туристической. Мы закупали у местных пасечников мерву.
— Мерва — это продукт пчеловодства?
— Это отход пчеловодства, если быть точнее. То, что остаётся после перетопки старых сотов. В монастыре мы называли мерву вытопками. Самое дешёвое сырьё для свечного литья.
— Понятно. Значит, ты был в составе группы? Да или нет.
— Вы останавливались в паломническом центре?
— Вас отпускали в город?
— Ты совершал обособленные от группы перемещения?
Снова пауза.
— Это было больше одного раза?
— Ты положительно относишься к идеологии национализма?
— Что? Нет.
— Ты поощряешь деятельность националистических и антисемитски настроенных организаций?
— Ты знал имя того, кто пытался вербовать тебя?
— При разговоре контактёр упоминал косвенно или прямо организацию под названием «Перконс-крусц»?
— Слушайте, об организации с таким названием я узнал только на допросе…
— Да или нет?
— Говорю же: нет!
— У контактёра было намерение запугать тебя?
— На одной из видеозаписей при проведении допроса ты сказал, что боялся физической расправы. — Глеб притушил едва докуренную до половины сигарету. Достал из пачки новую, размял пальцами. — Отец Лаврентий, в миру Григорий Проскуров, свидетельствовал, что с февраля девяносто шестого ты неоднократно пропускал вечерню, отпрашиваясь в город. Это подтвердили несколько послушников. Также в деле сказано: второго марта, примерно в 20 часов 35 минут у входа в Петровскую башню со стороны городской площади, направляясь в сторону монастыря, ты получил несколько ударов тяжёлым тупым предметом, предположительно камнем, который неизвестный или группа неизвестных нанесли тебе в область темени. Так кто это мог быть, Санчо?
— Нет, серьёзно? Не понимаете? Или делаете вид, что не понимаете?
— Отвечай на вопрос!
— Это ваши легаши стукнули меня.
— Значит, — подытожил Глеб, слегка удивившись, — ты видел нападавших?
— Нет. У меня случилось сотрясение и обморок.
— Тогда почему ты думаешь, что это были сотрудники милиции?
— Не милиции. Говорю, это были ваши люди. Они мне угрожали… высшей мерой. — Санчо оборвал себя на полуслове. — Ваш отец мне угрожал. Называл пособником террористов и требовал письменных признаний.
— Высшая мера? Ну, а как ты хотел, Александр Ильич? — зашипел Глеб в весёлом оскале. — Единственная терапия для таких: вышибать клин клином. Если убиваешь ты, то рано или поздно убивают тебя. Только бьют пулей, а не камнем. Так надёжней.
— Вы считаете, камнем по темечку — не ваш метод?
— Не важно, что считаю я. Я склоняюсь только к фактам. А факты говорят против тебя: о контакте с латышами ты не сообщил Проскурову. Почему умолчал о факте вербовки?
— Какой контакт? Какие латыши? Какая, вообще, вербовка? Был один-единственный разговор в трапезной с человеком славянской внешности, с безупречным русским языком без малейшего намёка на акцент. Он трудничал при монастыре три летних месяца с июня по август. Я даже имени его не знал, и не мог воспринимать всерьёз. Отказался от всего, что предлагал, и после он пропал. Как пришёл, так и ушёл. Таких много было в девяностых. Без документов, без имени, без прошлого.
— Подробнее! — Глеб лихорадочно искал возможность разрядить диалог до откровения. — Что именно он предлагал?
Он закурил вторую сигарету, хотя от сигаретного дыма его уже мутило. Манипуляции с зажигалкой Глеб проводил нарочито долго, превращая обычную процедуру едва ли не в обряд.
— Этот человек предложил печатать и брошюровать его литературу и доставлять один раз в месяц в Чухново.
— Деревня Чухново. Но ведь она заброшена. Зато, — за между прочим заметил Глеб, — до границы с Латвией всего ничего.
Глеб запрокинул голову и безразлично оглядел потолок. На сером от пыли потолке серый паук плёл невидимую паутину. Казалось насекомое вытанцовывало в воздухе, проворно перебирая лапами.
— Как ты отреагировал на предложение вербовщика?
— Сперва подумал, это розыгрыш, он шутит. Он был серьёзен, и я ответил отказом. Даже не стал расспрашивать, что за литература такая, о чём. В тот же вечер он ушёл из монастыря и больше его никто не видел…
— Хорошо, допустим. Допустим, — повторил он, прислушиваясь к звучанию слова, — так всё и было. В монастырь ты прибыл обучаться иконописи. Почему этот человек решил, что ты сможешь помочь ему?
— Я был трудником. Помимо иконописания, отец Лаврентий ходатайствовал о работах в монастырской типографии.
— Что входило в твои обязанности?
— Помогать с печатью приходских памяток.
Глеб закашлялся. Было невыносимо докуривать вторую сигарету, и он поступил с ней также, как и с первой: затушил о пяточную набивку кеды.
— Что за памятки?
— Это были буклеты в помощь православным христианам при подготовке к церковным таинствам. Епархия их заказала много: десять тысяч, если мне не изменяет память. Работы для отца Лаврентия на лето, а сроку было — месяц. Вдвоём оказалось и проворней, и сподручней. Я брошюровал буклеты.
Глеб подвинул пачку Санчо, молчаливо позволяя закурить. Подошёл к окну и приоткрыл окно, разряжая марь из-под свода низкой комнаты. Полная табачного дыма, опалубка перекрытий мгновенно просветлела, фильтруясь на свежих сквозняках.
— Хорошо, давай немножко поворошим факты, — благосклонно сказал он и задёрнул штору, заставив драпировку парусить на сифонящих потоках воздуха. — Одиннадцатого апреля того же года силовиками в районе станции Печор был обнаружен опломбированный контейнер, при вскрытии которого внутри обнаружились нацистская символика, флаги, стикеры и другие агитматериалы на латышском и русском языках — общим весом около двенадцати тонн. Контейнер ждал переброски в Койдулу, в Эстонию, а оттуда, надо думать, он бы поехал прибалтийскими путями всё в ту же Латвию. Отправитель — подставная фирма-«однодневка», прекратившая своё существование ещё до отправления контейнера в Эстонию.
— Я ничего об этом не знаю. После нападения, я пролежал без сознания несколько суток. У меня диагностировали открытую черепно-мозговую травму. После выписки провёл в монастыре неделю, затем меня упаковали и перевезли сюда.
— В деле сказано, что ты стал агрессивен к окружающим. В показаниях келарь и плотник утверждали, что были свидетелями твоих кратковременных неконтролируемых приступов.
— Это враньё.
— Но была медэкспертиза, которая обнаружила у тебя симптомы полиморфного психического расстройства с суицидальными наклонностями.
— И это враньё.
— Тебя послушать, так прямо дворцовый заговор.
— Экспертиза сфабрикована.
— Но ты предпринимал попытку суицида?
— Гораздо позже, уже здесь в клинике. Пытался вскрыть вены саморезом. Ничего не получилось, заработал гематому и десять кубиков аминазиновой диеты.
— На колокольне лавры ты кричал, что очернишь святую землю и наложишь на себя руки.
— Вы продолжаете ссылаться на результаты несуществующего заключения, — усмехнулся мужчина, с удовольствием попыхивая сигаретой. — Да не было такого, не было. Меня здорово тогда стукнули. Должно быть с намереньем убить. Я провёл на операционном столе несколько часов. Мне трепанировали череп, чтобы извлечь осколок кости, вошедший в теменную долю на пятнадцать миллиметров. Это много. Представляете себе полудюймовую трубу? Вот именно настолько! А знаете, как извлекали? Сперва сделали хирургический прокол такой штуковиной для пункции — с виду жуткая помесь шила, шприца и ножниц — а после рассверлили дрелью — да-да, обычной дрелью со сверлом — до размеров пятирублёвой монеты, и специальными крючками, очень похожими на рыболовные, вытягивали медленно по миллиметру костный фрагмент наружу. Ну, а дырку — огромную дыру в башке — заделывали костяным цементом. Результат: я ограничен в движениях, лишился чувствительности мышц затылка и получил пожизненно кошмары — единственное, что мне может снится в этом жутком месте. От резких движений у меня открывается рвота, а незначительного ушиба головы достаточно, чтобы впасть в терминальную кому. Так уже однажды было. Знаете, Глеб Артемьевич, может, я уже просто оболочка гниющей плоти без витальных процессов и мотивов внутри, просто ходячий мертвяк, набитый трупным ядом. Да, так оно скорей всего и есть, но… я отнюдь не сумасшедший. Когда я не под действием аминазина, то прекрасно осознаю и понимаю всё происходящее со мной. В своих поступках я объективен, непредвзят, логичен, выдержан. Да, я иногда говорю себе: старичок, подними жопу и дай дёру, не знаю, ударь санитара, перелезь через ограду, сделай что-нибудь, чтобы выбраться из этих жёлтых заколотков. Но ведь это нормальное желание нормального человека, уставшего терпеть действительность. Но осквернить приход грехом самоубийцы, после того, что святой отец явил мне чудо богомазания, а братья дали веру. Нет!
— Ты говоришь с тобой всё нормально? — Тон Глеба изменился на недружелюбный. Он в три широких шага приблизился к Санчо, ухватил его за борт пиджака, вырывая пуговицы — те с костяным стуком осыпались на пол — и потащил к трюмо. — С тобой не всё нормально, старичок. Нет, ты не параноидальный шизофреник с маниакальной теорией заговора, ты даже не пособник террористов, ты сам — чёртов террорист. Опытный, сука, уцелевший, весь из себя такой идейный и уж точно не бывший.
Он намотал на кулак кукурузные рыльца спутанных волос и с силой ткнул Санчо в обширную полированную плоскость. Окурок брызнул багровыми, мерцающими искрами, плющась о стеклянную гладь.
Глебу до этого не приходилось проводить допросов, потому что допрашивать свидетелей или обвиняемых не входило в компетенцию внештата. Хотя тут всё зависело, конечно, от перспектив использования добытой информации, а, следовательно, от уровня оперативно-розыскной игры. Аткарцев был не тот случай. Глеб действовал по собственным мотивированным заключениям, которые провели его веру через какое-то очень жестокое горнило. Да, это был такой способ выпуска пара в гудок, выпуска с довольно приятным свистом. В противоречии буквы и духа закона он ощущал почти оргиастическое упоение злодейством, извлекая из содеянного самый сладкий сок.
Аткарцев обмяк, точно проколотый мяч, скис и растёкся киселём. Глеб встряхнул его, подозревая неладное, но даже тогда мысль раскаяния не посетила его распалённый злодейством мозг. Когда бил, видел бледную шею, проглядывающую сквозь пепельные волосы. Кожа и волосы пахнули кисловатостью и запах квашеного теста прошиб Глеба глубокой судорогой. Причина (очевидно) — чесотка, развивается всегда на фоне расстройств иммунки — туберкулёза, лепры, ретровируса. А ещё это «тесто» было с «сыром» — с сырным амбре выделений. «Избыток изовалерата», — мелькнула мысль. Избыток изовалерата говорил о нарушении метаболизма. Глеб носом прочувствовал «дела» жизни, её безумное дельце — всесовершенную и всереальнейшую сущность красоты распада. Аткарцев был старше его всего на восемь лет, но, словно глубокий, измождённый болезнью старик, уже стоял на краю жизни. Этот край географически сходился у берегов мифического Стикса. Как и любой, ожидающий паромной переправы на тот берег, мужчина думал о собственной кончине, о том сколько времени осталось и как ещё он может его прожить. Подводящие итог последние одиннадцать лет жизни не вселяли надежды: стремление к художественному самовыражению выходили у узника не просто неказистыми — антиэстетскими. Санчо это осознавал и, кажется, принимал. И тем невыносимее и неприятнее для Глеба становилось чувство позорного, стыдливого сочувствия.
С какой-то отчаянной беспомощностью он встряхнул Санчо снова и тот, клацнув зубами, закашлялся. Случай или дурацкий Глебов сентимент не позволили ему проделать брешь в колеблющемся, маслянистом отражении, а только надкусить его окромок тонкой паутинкой трещин. Глеб поморщился и надавил на грудь (некстати закололо сердце). «Мир есть всё, что имеет место, — передумал он, — так или иначе». И стало как-то резко холодно, скучно и всё равно. Он обомлел от собственного умозаключения, тревожно и злобно взглянул на Аткарцева и ощерился ещё одной бесспорной истиной:
— Схрон рассекречен в пятистах метрах отсюда. И ты мне снова будешь петь в уши, что не поддерживал и не поддерживаешь связи с ультралевыми?
— Кинем мы с тобою камень в небо, — тяжело дыша и отхаркивая кровь, едва слышно проговорил Санчо, — кинем! Исцарапанные хотя, но доберёмся до того берега и водрузим свой стяг. А всем прочим… осиновый кол поставим.
Глеб отстранился от него, выпустил липкие от горячей крови кудлы и обречённо сел на разлинованный стругаными досками пол. Осунувшееся лицо Санчо стянулось мелкими морщинами к хрящеватому носу, он зажмурился и чихнул. Глеб достал платок и принялся машинально обтирать взмокшую от напряжения шею. Бросил платок Санчо.
— На, утрись!
До какого берега и с кем решил добраться Аткарцев? Что он хотел сказать своей галиматьёй? Ровным счётом ничего! Время этого героя кончилось, Глеб это нюхом расчухал совершенно точно. Если захочет, он сможет забить Аткарцева по шляпку. Если захочет. Если только… если только вся система, вся его рабочая гипотеза не выстроена на ложных посылках. Может, просто он хочет доиграть за Артемия Илиановича то, что тот не доиграл, тем самым доказать одно: он (как и его отец) удивительно недальновидны в своём стремлении добиться истины.
Его скуластое лицо ещё хранило следы горячего разговора, когда он вышел на улицу, приглаживая ладонями измятую рубаху, запятнанную кровью. Со сладким томлением думал Иванголов, отстраняя посторонние, иные мысли, что визит в клинику, визит партикулярный, не служебный, вопреки рекомендации Гарибацхелии, не помог продышать пятак на мёрзлом стекле расплывчатых опровержений, но помог расшевелить остервенелый фанатизм, и лютый раж, и буйство весёлой злости. От сострадательного чувства, недолгого, почти мгновенного, остался только дискомфорт в окоченевших пальцах, быстро вытеснявшийся ползущей по телу приятной теплотой. При мысли о только что содеянном ударяло в голову, и теплота ещё стремительней текла по телу.
Он медленно побрёл к машине, но остановился на полпути, размышляя, не сделать ли заячью петлю к разрушенному храму. С какой-то надеждой он посмотрел на небосвод. В разрывах низких быстрых облаков сверкала не бирюза вымытого неба, а хмарь высоких пуховых туч. Деревенские дома тулились друг к дружке, их размеренно лепил противный дождик. Дождь как одиночество: не столько утомляет, сколько раздражает. Казалось, эти небесные окна отверзлись надолго, по ближайшим прогнозам, на сорок дней. В Питере и его окрестностях это всегда зовётся летом.
Глеб отвернул воротник и припустил трусцой по раскисшей пешеходной тропе, чавкая юшкой топкой, маслянистой грязи. У подножия храма, на том месте, где ещё неделю назад стояли палатки, теперь было только аккуратно вспаханное поле. С чёрствым любопытством постороннего он наблюдал за распрей двух шоферюг, закрутивших шумный базар у «Белоруса», стоящего на закрайке брошенной на половине борозды. Трактор сыто урчал мотором. В монотонном подвывании плохо смазанного коленвала Глебу слышалось: врёшь — на найдёшь! Никаких следов пребывания копателей. Никаких следов схрона. Впрочем, сказать однозначно нельзя, но как теперь проверить? Надо было возвращаться.
Телефонная трубка мобильника, оставленная в забывчивости на торпеде, почему-то лежала на мягкой обивке водительского кресла. Глеб провёл ладонью по прохладному драпу и почувствовал едва уловимое трепетание виброзвонка. До него дошло: кто-то очень терпеливый и настойчивый пытался дозвониться. Обивочная ткань сильно поглощала болтания эксцентрика, и телефон, зарывшись в сложные переплетения суконной пряжи, надёжно скрывал от глаз имя абонента. Глеб быстро загадал: пусть это будет Нэнси. Но загадыватель желаний давно отказывал в сотрудничестве, а может, Иванголов точно знал: она ему не позвонит. Ни за что!
Звонил Гарибацхелия. На экране светилось: «Вызывает… Работа». Глеб утрамбовал себя в салон и включил обдув мгновенно запотевших стёкол.
— Салами, Глеб! До тебя, как до Кремля: не дозвониться.
— И вам, Тамаз Георгиевич, гамарджобат до самого до пола. Ни за что не поверю, что такой человек, как вы, не может прорваться к кремлежителям.
В трубке одобрительно засмеялись, будто блестящей остроте. Обменявшись таким образом дежурной порцией приветственного юморка, Глеб перешёл ко второй части «марлезонского» этикета:
— Абитура замучила, — пожаловались в трубке. — Штатный полиграфолог ушла в декрет — нашла, конечно, время! Приходится всё делать самому.
— Ася? — удивился Глеб. — В декрет? Мир перевернулся.
Он привычным жестом поправил зеркало, мазнул взглядом по своей физиономии.
— Гром-баба, — согласились на том конце телефона. — Персона-танк! О её презрении к мужскому полу слагаются легенды. Вернее… слагались.
— Да, ушла легенда российского сексизма. Ушёл кумир, закончилась эпоха.
— Гарибальди нужен новый танк! — отчеканил собеседник Глеба, деля слова едва уловимыми паузами, что придавало фразе, при всей её курьёзности, оттенок значительности.
Гарибацхелию в управлении все именовали просто: Гарибальди. Он не обижался, иногда сам себя так называл, как в этот раз — в шутку, конечно. Тамаз Георгиевич имел много общего с известным полководцем. До федералов был начальником, руководящим на пограничных рубежах Кавказа штабом батальона, так что позволял подобное обращение любому, кто здоровался с ним за руку и знал не только как дикого горца, потомка древних хазар, особиста и куратора службы адаптивного сопровождения, но и как мягкого, терпимого, сдержанного человека, отличного рассказчика и либерального коллегу.
— И та, кхм, окольцевалась. Да, убеждения — дело ненадёжное. — Глеб закашлялся жидким смешком и завёл двигатель. — Вот и Ася была убеждена, что мужик, это как индеец: либо хороший, но мёртвый, либо пьяный, но плохой. Вот видно доигралась со второю категорией: изменила убеждениям.
— Возможно, она не изменяла убеждениям. Рожать и воспитывать детей можно даже с таких глубоко сексистских позиций. Это просто вопрос намерения и мотивации: мотив или стимул должен быть достаточно сильным, чтобы не сойти с рельсов целеполагания. — На секунду в телефонном эфире повисла пауза, нарушаемая только слабым треском атмосферных помех. — Мне один твой коллега — имён называть, конечно, не будем — сказал, что женятся и детей заводят только ради одного: ради мотивации продолжать жизнь дальше.
— Продолжать жизнь дальше? В смысле?
— В смысле: ради любимых детей и супругов человек землю будет грызть зубами, ногтями до крови её грести, но ради собственного выживания… вопрос.
— Есть люди, которые за себя до последнего дерутся, — не согласился Глеб. — Вы же всё правильно про цели говорите.
— И какую цель перед собой ставишь ты?
— Тамаз Георгиевич, — вяло протянул Глеб, — это какой-то телефон доверия у нас с вами выходит…
— Издержки профессии — бывает, — покровительственно проговорил Гарибальди и с ленцой в голосе добавил: — Вот ты отшучиваешься, генацвале, а я серьёзно. Не за каждого хлопочу тёплое местечко. Ты же знаешь, как я отношусь к своим протеже. И я думаю, хватит тебе уже ходить в наймитах. Надо в академию идти, получать погоны.
— А мне, Тамаз Георгиевич, быть внештатным работником спокойнее.
— Это твоё спокойствие, Глеб, оно иллюзорное. В нашей стране без погон, удостоверения и связей никак. Схарчит тебя система, только похрумкает костями.
— Но невозможно постоянно жить в чужой шкуре, выдавая себя за другого человека, — возразил Глеб. — Плюс эта непробиваемая канцелярщина, будь он трижды проклята!
— Уже почувствовал? — захохотал Гарибацхелия. — У меня самого волосы дыбом, но ничего не поделаешь. Мы же бюджетники — винтики системы. Здесь всё делается не правильно, а по правилам, то есть по букве закона, а у закона, брат, много букв, и все их надо прописать. Так что без бюрократии не туды и не суды. Ты молодой, тебе карьеру делать надо, а наёмником карьеры не сделать. Академия, контракт, звёзды на погонах — чтобы как у всех. Я бы давно замолвил за тебя словечко перед вышестоящим, но здесь всё надо по уму: если на ковёр к начальству, то только с аргументами идти. Это ты тоже понимаешь.
Глеб покривился.
— Я понимаю. В таких случаях обычно говорят, поначалу надо сковороду умаслить, а уж после печь блины. Но из текущих мне порадовать начальство нечем. Да вы же сами знаете, не густо у меня пока с Ю-9.
— Пятый месяц топчешься на месте, — на том конце телефона недовольно поцокали языком.
— Вовсе нет, — упрямо возразил Глеб. — Но вы же сами говорили: здесь нахрапом не взять, нужна тактика.
— Твои тактические действия подзатянулись, не находишь? Скажи честно: у тебя трудности? Может сложность прямого контакта?
— Вот ещё!
— Петя по итогам твоего июльского отчёта будет принимать решение. Он уже высказывал вслух мысль раскассировать твоё внедрение. Если это случится, Глеб, то для тебя наступит виток очень неинтересного времени, а бы даже сказал, печального, дурного времени. И про академию придётся забыть.
— Результат будет, — твёрдо пообещал Глеб, раздражаясь, что Гарибальди попенял ему таким хитровывернутым способом — через истеблишмент конторы. Упомянул самого Петра Алексеевича, будто тому есть дело до внештатников: ага, как же!
— Надеюсь, — ласково проговорил Гарибальди и вдруг, словно опомнился, переменился в голосе. — Я, собственно, чего звонил: встретил в коридоре Печейкина, ну, с дорожно-постовой, он спрашивал, как тебя оперативно разыскать.
«Опять уловка, — подумал Глеб, предвосхищая следующий вопрос куратора. — Гриша не стал бы с таким вопросом подходить к Гарибацхелии, тем более, что номер телефона Глеба у Печейкина имелся. Сейчас, наверно, спросит про наши общие дела.
— … номерок я ему твой дал. Спрашиваю, какие у вас с Иванголовым точки соприкосновения? А он так ласково сощурился и говорит мне: Тамаз Георгиевич, я давал клятву Ментакрата, и нарушать её не собираюсь.
— Вы Гришу, что ли, не знаете? Дурачился он. А я к нему по делу обращался.
— Твоё дело: ориентировка на машину. Кого пасёшь?
Глеб чертыхнулся. От Гарибальди ничто не ускользнёт.
— Это по делу, Тамаз Георгиевич, — упрямо повторил Глеб. — Я отражу это в отчёте о проделанной работе…
— … который предоставишь сегодня не позже 18—00, — закончил за Глеба Гарибальди и не прощаясь отключился.
В чём Гарибальди не откажешь, так это в цепкой, чекистской хватке. Да человек он мягкий, сдержанный, лояльный, но как бравого гэбиста его неизменно выдают хитрованские приёмчики, эти повадки, замашки и наклонности. «Что у него там, спонтанная активизация третьего глаза?» — с тоской подумалось Глебу, просматривающему список пропущенных: четыре от Гарибальди, два от Печейкина, и ещё смска — от Гриши же. Он попытался открыть и прочитать сообщение, но телефон подвис на первой задаче и бесполезно крутил пиктограммку гиперпикселизированных песочных часов. Глупо пялясь в малоинформативный дисплей, Иванголову пришла мысль, что всё может быть банальнее и проще. Никакого третьего глаза или шестого чувства не надо, достаточно крошечного маячка для слежения за человеком. Глеб вполне допускал мысль, что его перемещения в пространстве могли отслеживаться его же коллегами, во всяком случае, мобильный телефон категорически точно стоял на прослушке. Это он знал наверняка по помехам для стереосистемы, которая фонила вблизи мобильника, даже если аппарат был выключен. К тому же полностью заряженная батарея дохла к вечеру, а ещё каких-то полгода назад, до начала операции Ю-9, аппарат легко держал заряд дня три или четыре. Так что всё-таки Гарибацхелия, надо думать, обходился без экстрасенсорных и сверхъестественных способностей, однако ж, про дело латышей не упомянул, как и про следование его рекомендации (или распоряжения всё же?) не спросил. Как не спросил, где Глеб, с кем встречался и так далее — обычные вопросы, которые могли задать кураторы.
Телефон наконец деликатно мигнул загруженным смс и Глеб быстро пробежался по транслитерированному сообщению. Умеренный в тратах Гриша, не от хорошей жизни, конечно, бережливо отлил массивный текст в сто шестьдесят латинских символов: ориентировку на машину, данные автовладельца и координаты GPS, где постовые камеры отследили последнее перемещение автомобиля.
— Вот, соколы ясные, вы у меня и в кармане, — удовлетворённо высказался вслух Глеб и усердно переписал в навигатор широту и долготу, нажал на клавишу search. Гаджет выдал «Where is it?»54 и своё неизбывное, задушевное «Seek, seek, seek…», и гораздо быстрее, чем в прошлый раз шлёпнул маркер на векторную карту, и любезно предложил оставить точку в «Favourites», мотивируя тем, что Глеб не в первый раз уже желает оказаться в выбранной локации. Глеб осторожно тронул пальцами масштаб и точка подсветилась вспыхнувшими надписями топонимов: St. Petersburg, Coal Harbor.
Глава 13. НЕФТЬ И ФУНТЫ ДЛЯ ФРАУ ПЕЛЬЦЛЬ
Все сто километров проложенного навигатором маршрута Глеб старательно пытался убедить себя, что никакой очевидной связи у совмещения этих двух событий нет. В самом деле, совпадение, что ровно день назад он уже ехал по этому адресу. Форд Фокус (gos# A086AR 47, cvet marengo, bez osobih primet) он отыскал среди сухотелых, костистых будылей припаркованным на стоянке в пятнадцати шагах от асфальтового пятачка, где Глеб вчера распрощался с Нэнси. Это ещё больше навело на размышления. Проверить сходимость событий было не сложно, но Глеб принципиально откладывал проверку до последнего. Он обошёл машину, собрав на пропитанной мазутом земле слепки свежих морщинистых подошв (примерно 45-го размера), потрогал капот (холодный) и заглянул внутрь салона, не зацепив взглядом ничего необычного. Наконец, не удержался, вырвал из оттопыренного кармана телефон, пролистал вниз журнал звонков, отыскивая неизвестный номер, на который вчера в семь минут двенадцатого звонила Окунева, набрал его и когда на том конце взяли трубку, вежливо осведомился:
— Ну я, — настороженно буркнули в ответ. — А кто интересуется?
Глеб окаменел лицом. Хищная выжидательность тронула складку на лбу, мускульным спазмом сжала до порядка уродливого шрама. Он почти оборвал звонок, подтвердив опасения, но тут в голову клацнула мысль (мыселька!) и мгновенно разлиновалась в чистейшую импровизацию. Глеб поздоровался, как со старым знакомым, назвал своё имя и добавил волшебную фразу, призывающую сбить собеседника с толку. — Я ваш сосед.
— Не помню, — не клюнули на наживку.
— Как же? — Глеб искренне удивился. — А я вот вас помню. У вас тёмно-серый «фокус». И у меня тоже. Только под «металлик».
— Глеб, Глеб, Глеб… — повторил Савелий Витольдович задумчивым интонационным перебором, отчаянно перетряхивая память (столь непластичную и далеко уже небезупречную), заметно смягчился, так и не вспомнив, неловко добавил: — А в чём, собственно, дело?
— Намеревался одолжить у вас баллонный ключ. Он же фирменный, а я свой, представляете, у дилера оставил на ТО. Хотел подтянуть гайки перед командировкой. Вы дома?
— Я не дома.
— Ну, а вечером будете? Мне в дорогу завтра с утра.
— После семи звякни. Вынесу, — медленно, чуть не по слогам повторил Сава, чувствуя нарастающий абсурд обстоятельств и условий, однако не в силах совладать ни с тем, ни с другим, или хотя бы поставить что-то им в противовес.
— Да, спасибо, Савелий Витольдович, обязательно наберу вас после семи. До свидания.
Прежде чем Сава придумал разумный вопрос, который помог бы расставить всё на места, на том конце раздались короткие гудки.
Значит, это не было совпадением. Вчера, когда Глеб забирал Ленку от Финбана и вёз её, возбуждённую, всю на эмоциях, на Репинку в какое-то кафе (на столик в ресторации договориться не случилось), она рассказала ему о разговоре с директрисой, вдруг объявившей об окончании испытательного срока и назначении её на должность бренд-амбассадора. Это решение не было решением Вики («Кто такая Вика? Ах, коммерческий директор… ну, понятно»). После маркетингового аудита с привлечением аналитической группы из какого-то московского агентства, собственников подвели к выводу, что бизнес их подзастоялся и пора бы пустить ему немного крови, с тем, чтобы влить новой («И кого же отдали на заклание? Трясогузку? Енота? Белку? Ах… Ленку»). Несмотря на свой стремительный карьерный взлёт от стажёра до вайзера Милашевич всё же оказалась в числе несчастных, попавших под сокращение. В это время случилось нечто совершенно невероятное: список готовила Усцелемова («Ну, Вика, Вика! Наш коммерческий, я же говорила!»), и кто-то из собственников, подписывая приказ об увольнении сотрудников, неожиданно отложил в сторону личную карточку выпускницы биофака и самолично вычеркнул её из списка. Продолжение истории неочевидно, но концовка оказалась хеппиэндовой: вместо обходного листа Лене предложили повышение. И хотя до сегодняшнего дня при упоминании слова «амбассадор» у неё возникала только одна ассоциация — с банкой кофе, всё же она смогла смекнуть, что амбассадорство мало причастно к поглощению бодрящего напитка, но гораздо больше — к активнейшим коллаборациям. Коллаб уволенной и тут же взятой на работу Милашевич (и ещё одного англоговорящего сотрудника, дистанционно работающего из Будапешта) будет направлен на ребрендинг компании с установкой на экотренд, наметившийся в бизнес-плане запущенной и мчащейся на всех порах каруселью креативных маркетологов.
Сначала Ленка расстроилась («Надежда решить экопроблему тенденциями экобизнеса? Блин блинский, они там совсем ку-ку?»), но вдруг в курилке с Женей Регнером дошла до той чудесной мысли, что «зелёный» бизнес лучше «чёрного», что убеждения во всей своей простоте — не вопреки, а благодаря — вещь сильная, и их во чтобы то ни стало надо отстаивать, потому что сила жизни — единственная мера правоты и высший (потому главный) критерий правильности, не важно, звучит это в контексте Ленки или белки, да пусть даже енота или трясогузки, они ведь тоже хотят красиво жить. А то, что эту красоту приходится марафетить инструментами торговли и коммерции — что ж, это только делает задумку в гегелевском смысле прекрасной, ведь прекрасное в природе, согласно Гегелю, имеет своим источником идею, пусть даже безнадёжную. Безнадёга лишь подкидывает бесов и придаёт необходимой для акта доброты злобы. Может, в такой работе меньше пота, зато неизмеримо выше цели.
Так что уже сегодня вечерним рейсом Ленка вылетает в Сочи, чтобы принять участие в выборе будущего места для первого в России рекреационного парка дикой природы Zoorium. В дальнейшем Милашевич должна будет внести свою лепту в продвижение бренда и расширение его до сети из четырёх зоологических парков: помимо Сочи, в Питере, Москве и Краснодаре. Животные из «Энималсленда» будут помещены в рекреациях для проведения комплекса оздоровительных мероприятий и позже расселены на новых местах, максимально приближенных по условиям содержания к их естественным средам обитания.
Ленка насыщала Глеба, словно булку изюмом, пространными деталями, частными мелочами и прочими ненужными подробностями. Глебу было скучно. Но уже в кафе, налопотавшись всласть о новой должности, но не истребив желания болтать, девушка вдруг скатилась в пограничные материи беседы и поведала Иванголову любопытное. Она рассказала то, что видела в Изборцах Нэнси: про кости и старинную книгу. Всё это, в самом деле, заслуживало внимания, но стало вовсе «не оторваться», когда Ленка, не способная остановиться, начала рассусоливать взахлёб про «крышечное сходбище», про репетицию сорванной теперь уж днюхи. Ленку несло дальше и звучали слова-уколы, слова-тычки: конспирация, подпольное издательство, цензура, транслитруверианцы…
Быстротечные воспоминания дня вчерашнего прервал коренастый субъект, почти сразу угодивший в зону оттренированного периферического зрения. Глеб качнул головой, изучив выслеживающим взглядом траекторию движения немолодого, плешивеющего мужика. Субъект нервно и стремительно сжирал наикратчайшим путём расстояние от поста охраны до стоянки. До Глеба он уже не добегал, а добредал с частой одышкой. Рубашка сползла с его плеча, открыв бледную, в пигментных пятнах кожу.
— Ро-о-дной! — заокал он на поволжский манер, одновременно производя глазными белками озадаченное и напряжённое вращение. — Ты кто тако-о-й, ты чо-о тут трёшься?
— Цыц, дядька! Не шуми. Я свою науку знаю. — Глеб с угрюмой точностью растасовал краснокрылое свидетельство своих полномочий, но это — к его удивлению — не утихомирило бдительного чоповца.
— Чо-о ты тычешь ксивником в лицо-о? Про-о частную собственность слыхал чо-о-нить?
Глеб ухмыльнулся, но сдержал себя от комментария. Он постарался лаской усыпить бдительность архаровца.
— Дядька, легче. Ну, знаком я с владельцем шарабана. — Он со значением опёрся сжатым кулаком на покатый «фордовский» капот.
— Кентуешься с ним? — насторожился тот, знавший Саву по регулярным займам под «беленький» процент. Такса была простой: один пузырь — до аванса, два — до зарплаты, три — до премиальных квартальных. Кредит доверия каждый выдавал по своим меркам.
Стараясь не спугнуть лишним или неосторожным словом, Глеб, не убирая раскрытого удостоверения, свободной рукой утонул в вислом кармане кофты, оттопырив его до невозможности, извлёк из вязаных нутрей портмоне, с хрустом разломил и показал вложенный под прозрачную обложку чёрно-белый снимок. Архаровец недоверчиво всмотрелся в фотокарточку. На неестественно контрастном отпечатке, с явными завалами по свету, была изображена сидящая вполоборота молодая женщина в светло-сером платье с короткой кружевной оборкой от пояса до бёдер. Её длинные, сложенные лодочкой ладони покоились на закруглённом гребешке открытой спинки стула. В аккуратном порядке над взгорьем узловатых пальцев, едва касаясь, скользил подбородок.
— Кентоваться — не кентуюсь, но вот она, — Глеб постучал пальцем по лакированному отпечатку, — его знает, а я — знаю её. Вчера в районе полудня я привозил её на это место.
Архаровец задумался, приложив к блестящему, нахмуренному лбу несколько пальцев правой руки.
— Я помню её. Она спрашивала у меня дорогу.
— Дядька, мне покажешь?
Глеб перехватил взгляд охранника на портмоне — и всё понял. Потянул за край, вытянул из среднего отдела купюру. Без лишних запинок, без ненужной канители тот благосклонно принял денежный знак в свой грудной карман. Глеб нетерпеливо облизал губы, однако тот сделал жест — жди! — и скрылся в полосатой будке.
Развязно ветерок накидывал навязчивые запахи мокрой земли, бетона. Отдалённые печальные звуки лязга металла вязкой нудью монотонности засасывали в спячку. Глеб прислонился к крылу «форда», заложив тугим кренделем жилистые руки, зябко ёжился. Он прикрыл глаза, пытаясь концентрировать ощущения на тонких уколах холодящего ментола, сыплющего на темя с неба. Кажется, на какой-то миг он задремал, потому что позволил к себе приблизить постороннего. Такие вещи он безошибочно всегда угадывал: чувствовал каким-то шестым чувством любое чужое присутствие. Но не в этот раз. Со спины донёсся деликатный кашель. Глеб резко обернулся: под пухлым козырьком тёплой вязаной шапочки на него смотрели мутнеющие в болезненной блёклости табачно-зелёные глаза. Шею, закинув свободный конец за спину, незнакомец прятал под шарф из толстой шерсти. При неровном и частом дыхании бледные губы его и подбородок с ямочкой ныряли под ворсистый гребень. На безымянном пухлом пальце глубоко врастал в фалангу ободок жёлтого кольца. С лёгкой брезгливостью он тянул к Глебу руку.
— Савелий? — Глеб принял рукопожатие.
Незнакомец подавил улыбку и виновато развёл руками: мол, не угадали. Он не назвал имени, вместо этого предложил спрятаться где-нибудь от дождя и поговорить. Иванголов кивком головы пригласил в свою машину, решив до поры до времени повременить с расспросами. Он встретился глазами с охранником в будке, который долгим взглядом провожал их.
— Кто вы? — наконец решился на вопрос Глеб, приютив незнакомца в салоне своего автомобиля.
— А кто ты? — незнакомец харкнул носом, демонстративно переходя на «ты», и безразлично поглядел в окно.
Глеб опешил и полез в карман, но незнакомец вдруг обернулся на этот шорох и предупредил:
— Спрячь ксиву и никому её здесь не показывай. Иначе побьют.
— По качану папайи, — огрызнулся тот. — Ты за кого нас принимаешь? За сутенёров или наркодилеров? У нас нет «красной» крыши, и фэйсов55 мы в почёте тут не держим.
— Так это… — растерялся Глеб, не ожидавший такого поворота разговора. Того, кого он поначалу принял за пенсионера дворового значения, оказался птицей гораздо более высокого полёта. — Я только хотел узнать, — он всё-таки достал из кармана портмоне и показал снимок, тот самый, что показывал охраннику, — про эту девушку.
Незнакомец мельком взглянул на фотокарточку и произнёс странную, гипнотического свойства фразу:
— Разговаривай со мной вежливо, найди со мной общий язык и, может быть, я помогу тебе.
Эти слова, словно змеиная магия, особым образом подействовали на Глеба Иванголова. Дудочное заклинание факира Шпигеля (который и был тем незнакомцем, неотлагательно оповещённый бдительным охранником) заставило его поведать о своих внештатных делах и собственном расследовании, неожиданно коснувшемся старых дел отца. Он рассказал об экстремисте Аткарцеве и о находке чёрных копателей, очевидно имеющем латышский след, о том, как случайно увиденный в салоне «форда» «Кодекс» вывела его на адрес и на человека, отзывавшегося на имя Савелий.
— Вот ты чума курьёзная, — заметно смягчился Шпигель. — Отзываются собаки, а Савелия Савелием назвали мама с папой.
— Я хотел бы разыскать владельца и поговорить с ним.
В глазах Глеба появилось просительное выражение. Он закончил свой короткий, но предельно насыщенный рассказ.
— И что бы ты у него спросил?
— Какое он имеет отношение к этой истории? А ещё: как эти двое связаны с ним?
Раскинув руки настолько, насколько позволял салон автомобиля, Шпигель сладко, до хруста в спине, потянулся.
— Юноша бледный со взором горящим… а на спинку тебе не пописеть, чтоб морем пахло?
— Харя у тебя не треснет по диагонали зигзагом, говорю, — хмыкнул Шпигель.
Глеб исходил упрямым гневом. Он хотел жёстко ответить старику, но силил себя и только блестел белыми от ярости глазами.
— Эти твои двое, — внезапно с подозрением уточнил Шпигель, — это девушка на фотографии и шизик из Кащенко?
Шпигель окинул собеседника плывущим взглядом.
— Сава на эти вопросы не знает ответа, потому что отношение к этой истории у него ровно никакое.
Старик надолго замолчал, так надолго, что затянувшаяся тишина показалась Глебу неуместной — но он не смел прервать молчание.
Шпигель наконец разлепил спёкшиеся губы, провёл языком по иссохшим губам, ощущая загрубелую колючесть наносного ветром мелкого песка. Поморщился и сплюнул на коврик тягучую, будто цементованную слюну.
— Откуда у тебя эта фотография?
— Это я фотографировал. Мы… в общем, друзья.
— На месте Ани я бы лучше выбирал друзей, — не стал деликатничать Шпигель. — Она тоже интересовалась этой книгой. Забавно! Не могу понять, кто из вас двоих первым произвёл на свет эту безумную догадку про уменьшенное факсимиле «Кодекса»? По мне, так этой сивой кобылы бред, но я, кажется, начинаю понимать, откуда у этой «кобылы» растут ноги.
— А откуда вы знаете, что её зовут Аня? — удивился Глеб. — Вы всё-таки знакомы?
Шпигель проигнорировал вопрос, посчитав его, очевидно, излишним.
— Ты говорил, твоя подруга видела только буквы: G и C, и решила, что это заглавия названия Gigas Codex. Весьма самонадеянно и неверно. В латыни прилагательное почти всегда занимает поспозицию, то есть идёт после существительного, поэтому единственно правильный вариант Codex Gigas. Книга, которую видела девушка, называлась Gedichte Chaos. Так что латынь здесь ни при чём.
— Немецкий, — догадался Глеб.
— Знаком с языком?
— Вполне сносно, — кивнул молодой человек. — Во всяком случае, название переведу. Стихи Хаоса.
— В кругу ценителей они больше известны как «Сумбурщина» или «Сумбурные стихи». Это полное собрание поэтических экспериментов Адольфа Шикльгрубера. Хотя, конечно, мировая история его знает под фамилией Гитлер и не как поэта, а как главного идеолога фашизма. Тем не менее он пробовал себя в роли окопного поэта, сражаясь на полях боя Первой Мировой.
— Я слышал об этом.
— Вот как? Хм, похвально. Про его эксперименты в живописи знают многие, а про то, что он тяготел к поэзии — далеко не все.
— У него было много нерастраченной энергии великого романтика, — подхватил свою излюбленную тему Глеб, выпадая из оцепенения «дудочного заклинания».
— Да, он любил музыку, живопись, поэзию, — в тон Глебу ответил Шпигель, — в восемнадцать много уделял внимания архитектуре, днями напролёт гулял по Вене. Но что-то надломилось в человеке — и превратился он из романтика в фашиста.
— Ничего не надломилось, — возразил Глеб. — Если доводить романтизм до логического конца, он неизменно приведёт к фашизму. Что и случилось. А откуда вы знаете?
— Про Гитлера?
— Про книгу.
— Её принёс мне сын моей племянницы. Вообще он обожает подводную археологию и даже обзавёлся по такому случаю снаряжением для дайвинга, но в последнее время его увлекли наземные раскопки мест военных действий. Это у него что-то вроде практики при институте.
— Где он нашёл это? В Изборцах?
— Изборцы — это же под Гатчиной? — будто бы сам у себя спросил Шпигель. — Боря жаловался, что интересного копа в Гатчине мало. Только кость и ржавчина. Не уверен, но думаю, книгу он слимонил у какого-нибудь коллекционера вещей Третьего рейха. У него в институтских друзьях таких много водится.
— С институтскими корешками он и обстряпывал свои делишки?
— Не знаю, — со скучающим видом ответил Шпигель. — По душам не лялякали, а с кем корешиться — сугубо его дело. Знаю только зависал он на Маркизах56, брал машину у Савелия — они вместе торгуют на «блошке», раз или два в неделю притаскивал чего-нибудь из морской тематики для магазина, я что-то брал по мелочи, но чаще отказывался: неинтересно. Как-то раз на мелководье он повредил редуктор для акваланга и потребовал у меня денег на ремонт или замену. Я отказал. После этого он перебрался в Жилгородок, комнату снимал там у какого-то пенса за две копейки, пытался экономить, чтобы подсобрать на новый аппарат. Нашёл ещё одну работу в Петергофе, не знаю — кем, но график у него был сменный: сутки-трое. Вот тогда-то у него возник интерес к копательству на суше. Приобрёл лопату, сказал, она дешевле нового редуктора. И так же дважды в неделю пытался сбыть мне дребедень: то монеты притащит, то черепки, то гильзы. В общем, один хлам. Приволок за между прочим и эту книгу, сказал презрительно: глянь книжатинку, это по твоей части. Я поглядел и ахнул про себя. Думаю, чувак у которого он это сбондил, до сих пор не знает, чьему перу принадлежат стихи и какова цена книги на чёрном рынке. Ну, разумеется, и Боря этого не знал. Чувствовал по его интонации, если собьёт с меня пятёрку или даже трёху, будет безмерно счастлив. Я его и осчастливил. Хотя, может, наговариваю на пацана: может, не украл, нашёл случайно.
— Случайно?
— Бывает и так, — пожал плечами Шпигель. — Книга прекрасно сохранилась, следовательно могла быть замурована в стену дома или спрятана на чердаке. Знаешь, сколько в окрестностях Петербурга таких стен и чердаков? Немчура же здесь три года блокаду держала. Судя по всему, это было личной вещью одного из офицеров Вермахта в составе блокадного кольца. После прорыва в 43-м, часть немцев оставили на осаде города, которая продолжалась ещё год, а часть — в спешке переправили на восток, усиливать позиции своих под Сталинградом перед решающей битвой. Полагаю, этот офицер покидал насиженное место вместе с восточным эшелоном в спешке, наверно, их рейхскомандиры им пели в уши, что они вернутся в блокадное кольцо в ближайшем времени и таки возьмут город на Неве. Поэтому он не стал брать с собой личные вещи, а спрятал их от сослуживцев в каком-нибудь тайнике. Но исход Сталинградской битвы изменил ход войны. Для фашистского режима и его союзников это стало началом большого конца. Наверно, офицера под Сталинградом положили или, во всяком случае, в блокадное кольцо он вернулся. Вполне может, так оно и было. Это лишь версия.
— Значит, по вашей версии, эта книга не может оказаться новоделом?
Шпигель развенчал миф раньше, чем Глеб додумал свою мысль.
— Не новодел, точно. Ничего экстремистского в ней нет. Обычный тамиздат, ветром судеб задутый ещё в СССР.
— Как тогда книга попала в Изборцы?
— Да очень просто. Книгу твоя подруга видела с карандашными пометами. Эти пометки собственной рукой делал я. Следишь за мыслью?
— Ты не очень-то сообразителен даже для пушистого гэбья, — презрительно фыркнул Шпигель. — Хватка у тебя явно не чекистская.
Глеба это заявление задело, прямо вывело из состояния душевного спокойствия: его вдруг охватило чувство глубокой досады и неловкости. От этого внутреннего замешательства и смущения он попытался себя отвлечь телодвижением: поворочал ключом в замке зажигания, включил кондиционер и крепко стиснул руками рулевое колесо, покрутил его взад-вперёд, словно собирался тронуть автомобиль, не совсем для себя решив — какое выбрать направление.
— Ты пришёл сюда, — продолжал давить на психику Шпигель, — в шапке-ушанке, волоча за спиною парашют, и пытаешься доказать, какое у тебя недержание патриотизма. А Россия как гибла, так и гибнет от недостатка людей, способных ставить идею выше жизни, а ты, сытый и наглый рот, сидишь здесь передо мной и банкуешь, будто я лох какой или муфлон.
— При чём здесь это? — разозлился Глеб, совершенно сбитый с толку.
— При том, — сказал Шпигель с нарастающим раздражением, но вдруг подозрительно внезапно остыл, будто монтировал по памяти заготовленную речь с бумажками для самых энергичных мест, и вдруг понял, что это место благополучно миновал.
— В общем, — сказал он, беспечно махнув рукой, — объясняю популярно на пальцах: книга побывала у меня. Боря мне её показывал, предлагал, а значит, он никак не мог найти там — в этих твоих Изборцах. Он, конечно, балбес, что не догадался хотя бы завернуть в пакет или закинуть в бардачок, но, по сути, он выполнял моё боевое задание.
— Это моё творчество, — снисходительно к самому себе сказал Фалик.
— Какое? — повторил с напором Глеб.
— Пендец, фэйс, ты любопытный. Он отвозил предмет на закладку. Впитал?
— Закладка? Как шишки или порошок?
— Впитал, — едко согласился Шпигель. — Иные библиоманы, что наркоманы в поисках дозы. А я вроде наркодилера: не храню в тумбочке, а потихоньку расталкиваю. Но ко мне не подкопаешься. Книги — не наркота, да и экстремистской литературкой мы не башляем. Никаких приводов, ничего такого. Я спокойный гражданин.
— И где же сейчас «Сумбурщина»?
— Крепи седло, каманча! Такой преференции я тебе уж точно дать не могу, — усмехнулся Шпигель.
— Вашим языком бы осетрину в ресторане резать, — покачал головой Глеб.
— Продай тачку — купи мозги, — ощерился Фалик, видимо, снова попав в «энергичное место». — Или ты реально думаешь, я чучело с раздачи? Об условленном месте знают только трое: я, Борис и тайный покупатель, который, — старик постучал по стеклянному глазку наручных часов на Глебином запястье, — уже забрал во всей своей немолодецкой прыти покупку из заветного места. С чего ради тебе-то знать его, а главное: зачем?
— Что-то не клеится ваша история, — жёстко одёрнул Глеб, почувствовав, что его обводят вокруг пальца. — Пометка MS A 148, которую, по вашим же словам, вы собственноручно сделали, говорит о том, что по каталожному коду это не Gedichte Chaos, а Gigas Codex.
— Codex Gigas, — напомнил Шпигель. — И покажи мне каталог, где бы отыскался Gedichte Chaos. Кто будет реестрировать самиздат, по крайней мере, до тех пор, пока книжка не всплывёт в аукционе, а эта, уверяю, не всплывёт. Своего покупателя я знаю, он приобретал не для продажи, во всяком случае, не для скорой продажи.
— Мне нужны доказательства того, что эта книга существует, — покачал головой Глеб. — Иначе…
— Иначе «что»?
— Иначе грош цена всей вашей версии. И… вы же не хотите, чтобы вашему родственнику припаяли уголовку?
— Хочешь втюхать Боре экстремизм? — рассмеялся Шпигель. — Ты это серьёзно?
— Вашему Боре достаточно двести сорок четвёртой. Без всякого экстремизма пойдёт под суд за надругательство над местами массовых захоронений. Вы же не будете отрицать, что малоинтересный коп под Гатчиной, те самые найденные кости — человеческие? Не будет это отрицать и Борис, когда будет проведена идентификация костных останков и ДНК-дактилоскопия покажет, что он раскапывал кости именно русских солдат.
— Пургу гонишь. Слышал я про эту статью. Штрафом отделается.
— Пункт два читали? Те же деяния, совершённые в местах захоронения участников борьбы с фашизмом, предусматривает наказание в виде лишения свободы до трёх лет.
— Говённая разводка, — не слишком уверенно проговорил Шпигель.
— Не спорю, — авторитетно гнул линию Глеб, — по первой, судья может пойти на условняк, но и этого хватит, чтобы сильно подпортить парню малину жизни. Тюремное клеймо — это навсегда, а у человека, может, в мечтах семья, карьера, заграница, а тут такое западло. Да и статья ведь, по существу, гнусненькая: надругательство над умершими. Сразу представляешь конченого некрофила с напрочь отвёрнутой башкой. Ну, кто там будет разбираться, как оно на самом деле? Ни одна нормальная баба за такого не пойдёт, ни один работодатель не возьмёт со статьёй, если, конечно, он не хочет себе проблем. А проблем никто не хочет.
— Шустришь, гадёныш, — осклабился Шпигель. Его лицо, обтянутое дряблой кожей, запылало.
— Отрабатываю команду «фас», — серьёзно ответил Глеб.
— Ну ты и сука, — Шпигель тронул дверную ручку, но дверь не открыл — остался сидеть на месте с тоскливым взглядом в никуда. Обдумывал слова Глеба, потирая вспотевшими ладонями колени — и, наконец, принял решение: — Ладно, будут тебе доказательства, будут. — Голос старика едва пересиливал урчание и без того тихого двигателя. — Пометка на листе — не каталожный код. Вообще странно, кому в голову пришла мысль искать книгу по международному классификатору. Доступ, как и интерес к нему, имеют только библиотекари-очкарики. MS — сервис хранения файлов MY SAFE в части интернета, закрытой от публичного просмотра.
— Дипвебка, — догадался Глеб. — Глубокий интернет.
— А 148, — недовольно продолжал Шпигель, молчаливо соглашаясь с предположением Глеба, — ключ сессии для проведения денежной транзакции. Что-то вроде пароля.
— Ого! — оценил Глеб. — Про туннели, чесночное шифрование и луковые маршрутизаторы вы, конечно, слышите в первый раз.
— Допустим, во второй, но не спрашивай подробностей, я не объясню. Человек, который настраивал мой анонимный трафик — программист-маньяк с учёной степенью. Я попросил конфиденциальность коммерческой тайны в интернете, и он сказал, что обеспечит это особенной приватной службой. Я просто этим пользуюсь.
— Значит, вы настолько доверяете своему покупателю, что передали книгу без аванса?
— Аванс был: совершенно прозрачный кэш, проведённый через кассу магазина. Никто бы ничего не заподозрил. Я получил десять процентов от суммы за какую-то ерундовину, которую ему официально продал… Ладно. — Шпигель не смог отказать себе в удовольствии открыться полностью. — В сентябре прошлого года я был по приглашению в Британии, где участвовал в торгах аукциона Jefferys. Один нефтяник, имеющий своей слабостью собирательство почтовых открыток, попросил поучаствовать в аукционной вязке…
— Тебе и это нужно объяснять? — кисло улыбнулся Шпигель и стиснул пальцы рук. — Суть проста. Интересанты неких лотов до аукциона вступают в сепаратные переговоры. Сговорщики заранее договариваются предложения не задирать, друг друга не поднимать, а, отметив всё нужное, купить по возможно низкой цене с тем, чтобы не обогащать сдатчика и аукциониста, а после тихонько разыграть между собой. Это и есть «вязка», которая выглядит, как посиделки в кабаке старых друзей, решивших раскурить в приятной холостяцкой атмосфере коробочку сигар или распить пару бутылочек Хеннесси Икс О. На деле же, сообщники «вяжут» купленные лоты, соглашаясь с ценой соревнователей или получая отступные. Понятно?
— Схема в целом очевидная, но…
— Не важно, в конце концов, — перебил Шпигель. — Важно другое: на этом аукционе были выставлены работы начинающего художника Адольфа Гитлера. Оказывается, фюрер был жутко плодовит, как и большинство маньяков, и в юные годы подрабатывал тем, что выписал акварельки для туристов с изображением архитектуры и прочих достопримечательностей, продавая их как открытки. Кстати, торги могли бы и не состояться, если бы за год до этого всё на том же аукционе среди прочих полотен случайно не оказался портрет почтальона из Голландии с подписью A. Hitler. Кажется, какой-то местный обзавёлся портретом кисти фюрера за пять кусков британских денег. И вот проходит год и одна бельгийская дамочка представляет общественности свою коллекцию произведений Адольфа Алоизовича, а именно почтовых открыток, которые она обнаружила на чердаке собственного дома. Коробку с открытками, как версия, могли бы оставить французские беженцы году так в девятнадцатом, хотя, конечно, провенанс57 так себе, но подлинность подтверждена по всем аспектам — здесь без дураков! Так вот, именно эта коллекция была выставлена на продажу в Jefferys, и мой знакомый нефтедобытчик во чтобы то ни стало захотел обзавестись парочкой самых дорогих лотов. Дело тут, конечно, не столько в самом фюрере и его мазне, сколько в возможности заиметь для своей коллекции жемчужину. Сказал, что за ценой не постоит и посулил хорошие комиссионные.
— Почему сам не участвовал?
Старик вначале промолчал, только состроил свою очередную мину. Потом, тыча себя пальцем в грудь, проговорил с великой неохоткой.
— Люди не всегда хотят светиться и часто участвуют в аукционах инкогнито через подставных. Мне обещали двадцать пять процентов от суммы лотов, и я вполне рассчитывал на несколько сотен фунтов стерлингов. Не ахти какие деньги, но я ведь сам собиратель, и рассчитывал приобрести в Англии несколько хороших книжек. Этих денег мне бы как раз хватило.
— Хватило?
— Хватило! — рыкнул неожиданным баском старик. — Я заработал три куска. Это оказалось несложно, если художник открыток сам Адольф Гитлер. Приобрёл два лота. Помню, тот что подешевле — за полторы — назывался «Замок Зубцы». На открытке, в самом деле, был изображён какой-то немецкий замок времён феодализма. А второй — самый дорогой из представленных, был сделан в виде покрытого канифольным лаком карандашного наброска. На кусочке картона размером пять на восемь дюймов была изображена его мать. Эту открытку из Вены в Линц сам Адольф отправил Кларе Пельцль в октябре 1907-го, когда провалился на вступительных экзаменах в академии художеств. Он посвятил ей стихотворение, которое написал на обороте. Он так и назвал его: Mutter58.
— Это любопытно, — ответил Глеб и по-особенному нахмурился, словно вспомнил что-то нехорошее.
— Да, — согласился Шпигель, совершенно увлёкшись рассказом и не обращая внимания на хмурость собеседника. — Интересно, как человек свою манию пытается выписать, он так выписывал своё зверство. Он действительно был чрезвычайно плодовит: 3400 полотен открыточного типа. Это при том, что в академию художеств он не поступил: трижды проваливался. И ладно бы, если только рисование, так ведь ещё поэзия. Это тот самый редкий случай, когда Бродский оказался не прав, однажды заметив, что у поэзии и политики общего только начальные «п» и «о». Гитлер яркое тому опровержение.
— Ну и что там с вашим нефтяником? — Глеб бесцеремонно вернул не в меру увлёкшегося старика к ответам на волнующие его вопросы.
Шпигель моментально остыл. Задвигал косматой бровью, сжав ресницы, откинулся безвольно в кресле.
— Когда я вручил открытки их новому владельцу, — продолжал он с закрытыми глазами, — тот сперва удивился, а после обрадовался приобретению. Сказал, что удачно инвестировал в коллекцию, поскольку не знал о стихотворении руки автора на обороте. Могу представить! Для филокартиста гашённая почтовая открытка столетней давности сама по себе источник радости и счастья, а тут такой бонус в виде автографического посвящения фюрера собственной матери. Кстати, нефтедобытчик не знал, что фюрер баловался стишками. Отлично зная о моих страстишках, наивно попросил томик стихов Адольфа, на что я лишь развёл руками. И вот представь, — Шпигель распахнул глаза и, оскалив непонятную полуулыбочку, посмотрел на Глеба, — проходит несколько месяцев и мне в руки попадается именно то, что просил этот буржуин.
— Значит, тайный покупатель фюрерских стишков — нефтяник?
— По признанности у коллекционеров ценные старинные книги занимают вторую позицию, уступая только живописи, — ушёл от ответа Шпигель. — Кстати, по инвестиционной привлекательности тоже. Я написал ему об этом в нашей переписке, добавив, что книга от года к году будет только прибавлять в цене. Приложил несколько отсканированных листов «Сумбурщины». Но он чудак! Коллекционерский зуд у него вызывают только россыпи разноцветной картонной нарезки. Он даже собирается открыть закрытый клуб филокартического паноптикума «Филон» — по интересам для своих. Смешно звучит, да: открыть закрытый клуб?
— Меня больше трогает название, — сдержанно парировал Глеб. — Так вы ему книжку пихнули?
— Не пихнул, а провёл частную сделку, — раздражённо поправил Шпигель. — «Сумбурными стихами» он заинтересовался, но исключительно, как приложением к портрету фрау Пельцль. Он назвал это «привесок».
— И много вы набизнесменили? За привесок.
— Сумму сделки не буду разглашать, — снова заупрямился Шпигель, скорее, больше из тщеславия, чем для проформы.
— Ладно, ладно, — сдался Глеб. — История всё равно сильно смахивает на уши.
— Какие уши? — осёкся Шпигель.
— От мёртвого осла. Надеюсь, вы не отправите меня за ними к Пушкину?
— Дурак, — беззлобно выдал Шпигель, — как же ключ сессии?
Глеб издал губами неопределённый звук, похожий на презрительную насмешку.
— Что мне это даст?
— Доступ к переписке и сканам.
— Я, конечно, не специалист в шифровании данных, но знаю, что пароли легко меняются. Их для этой цели делают даже одноразовыми.
— В том-то и дело, что ключ не одноразовый, — с воодушевлением возразил Шпигель. — Этот программист объяснил мне, что у анонимных онлайн-рынков медленные транзакции. Пароль имеет срок хранения семьдесят два часа. Сегодня истекают последние сутки. Платёж всё равно невозможно отследить, однако доступ к статусу транзакции и к нашей переписке будет доступен до полуночи. Проверь и убедись в моих словах.
— Я проверю, — пообещал Глеб и добавил с грубоватой признательностью: — А Борису от меня поклон. Если вы не киксанули и не сфальшивили, то с вашим внучатым племянником всё будет окей.
Шпигель достал выцветший платок и скребанул его крахмальной жёсткостью по розовому лбу, словно проясняя свои мысли. Клацнул дверным замком и вытащил себя под кряхтение и дождь, с облегчением распрямив снаружи сухопарое своё тело.
— Совет, — бросил на прощание старик, — не забывайся кто ты и не впадай в крайность. Целее будешь…
— Спасибо, учту, — Глеб наклонился, чтобы встретиться с глазами собеседника. — Ещё один вопрос: вы говорили, что Аня интересовалась этой книгой. Зачем она ей?
Тусклые глаза Шпигеля сверкнули.
— Может, ты лучше сам её об этом спросишь.
— Может и спрошу, — тихо ответил Глеб.
Глава 14. СИМПТОМ СТРАХА
С самого начала Нэнси заподозрила неладное. Ещё с прихожей. Никак у Ленки были гости, подумала она. Вернее, гость, судя по вытертому пиджачку из драпа на вешалке в передней и полинованному виттоновскими клетками распахнутому чемодану, напоминавшему разложенную шашечную доску. Рывками, без рук, она сбросила босоножки и бодро порхнула в свою комнату, не очень желая встречи с неизвестным обладателем пиджака и чемодана. Но она так и застыла в дверях комнаты, обнаружив таинственного визитёра в ней. Маленький, сутулый, спиной к дверям, тот не очень церемонно обсматривал её покои, сидя на скрипучей кожаной обивке. Гость чрезмерно ёрзал задом по банкетке и регулярно причмокивал, будто за щекою держал мятный леденец. Нэнси залилась краской. На уровне глаз не в меру любопытного незнакомца лежал сброшенный в спешке и неубранный ещё с утра бюстгальтер.
— Кхм, — деликатно кашлянула она, забрасывая бумажный свёрток с Ленкиным подарком на софу, и боком, мелким приставным шажком двигаясь вдоль комнаты до предмета, требующего от посторонних глаз сокрытия.
Незнакомец резко выпрямился и повернулся к Нэнси. Это был поджарый старичок-боровичок, покрытый мехом белокурой бороды, похожей на пушнину, с мозолистыми руками, завёрнутыми в крендель на груди, и усталой, но не потерянной улыбкой. В сильных очках с очень толстыми стёклами и грубо ремонтированной лейкопластырем дужкой, он казался постаревшим мальчиком-зубрилой, этаким ботаном, протирающим штаны в библиотеках до глубокой старости.
— Лена, что с телефоном? — вместо приветствия спросил ботан и причмокнул: он, в самом деле, посасывал леденчик, который, перекатываясь с характерным звуком, гремел по кафельным зубам.
— А я не Лена, — отчего-то испугалась Нэнси и, наконец, добравшись до бюстгальтера и загородив его спиной, вслепую, спешно запихнула в какой-то ящик.
Ботан поправил очки, взмахнул оптически увеличенными метровыми ресницами и поправился:
— Теперь вижу, что не Лена. А кто ты, душенька?
— А кто вы, м-мм… дедушка?
— Ну допустим, хозяин квартиры. Борис Ильич я.
— Ой, — сказала Нэнси и напряглась ещё больше. — Вы разве не должны быть сейчас где-то под Тверью?
— Я где-то под дверью, — скаламбурил Борис Ильич. — Говоря языком Эзопа в форме толстейшего наброса: я экономно сыграл эпизодическую роль, и вынужден откланяться.
— Простите?
Борис Ильич тронул Нэнси за острый локоток и легонько подтолкнул к окну, словно они были не одни и кто-то ненароком мог их подслушать.
— Эта история мудачества стара, как мир. Наши дети, холодно, с дистанции, вежливо пряча скучливые зевки в кулак, продолжают поддерживать традицию Базарова. У тебя, кстати, душенька, есть дети?
— Не спеши. Роскошествуй в духовности. Как только эти спиногрызы явят себя во всей своей красе, они немедленно отнимут твоё право на моральный абсолют. Ты станешь в известной степени функционером, скромным и честным исполнителем. Так будет продолжаться лет эдак двадцать пять или около того, чтобы после внезапно оказаться полным незнакомцем для собственного сына… или дочери — не важно! — незнакомцем, который непрерывно болтает и клацает искусственными челюстями, тем самым попирая границы их душевного комфорта.
— Вы поссорились с сыном? — догадалась Нэнси.
— Почему ваше поколение использует такие жутко деформированные эвфемизмы? — Борис Ильич обескуражено развёл руками, призывая Нэнси к ответу за всех ровесников. — Почему бы прямо не сказать: отец, я тебя не выношу. Не перевариваю. Органически! Где они, прекрасные суровые закономерности средневековой жизни?
— Ну, по-моему, вы немного усугубляете масштаб трагедии. Нагнетаете, что ли…
Кажется, только что Борис Ильич глубоко разочаровался в авторитете ответчицы — ровесницы его такого же малонадёжного Ильи. Морщась, как на прямом ветру, он оглядел Нэнси с головы до ног и повторил оставленный в самом начале без внимания вопрос:
— Кто ты, душенька?
— Я подруга Лены. Аня зовут.
— А фамилия?
— Паспорт предъявить?
— Обойдёмся, — важно произнёс дотошный собственник питерской жилплощади, не словив иронии.
Старик, в самом деле, начинал вызывать лёгкое раздражение — это после пяти-то минут общения. Наверно, сына Бориса Ильича можно понять: каково жить с таким въедливым родителем? Впрочем, злорадно подумала Нэнси, сам виноват: не надо было настаивать на переезде. У старика такая превосходная квартира, а главное, отдельная. Борис Ильич словно подслушал мысли Нэнси, обронил, будто невзначай:
— Что характерно, в гости не напрашивался. Заботой обложил, показательной опёкой. Умный, наблюдательный, хитрый. Не человек — вирус. Всё предусмотрел, даже моё бегство. Теперь плохой не сын, плохой — отец. Ловко придумано, уж этого у моего Ильи не отнять.
Последняя фраза была сказана с такой неподдельной гордостью, что Нэнси поняла: всё у этих двух бойцов теневого фронта будет хорошо. Борис Ильич и Илья Борисович не чета гоголевским Ивану Ивановичу и Ивану Никифоровичу — помирятся раньше, чем старик распакует свой чемодан. Впрочем… Нэнси улыбнулась своим мыслям. Едва ли удачный пример: чемодан как раз-то распакован.
— А что это ты улыбаешься? — нахмурился Борис Ильич, — Илья прекрасный человек, не сумлевайся! — Чем только доказал глубокую эмоциональную сопричастность к сыну в запутанных и непростых отцово-сыновьих отношениях.
— Я не сомневаюсь. Давайте пить чай. В квартире съедобного мало, мы гостей не ждём, но чай, чай я вам могу предложить.
— Ну хорошо, чай я люблю, — смилостивился старик.
Взбодрившись мыслью о предстоящем чаепитии, он вдруг начал извиняться:
— Прошу прощения, что вот так ввалился, как незваный гость. Я честно пытался дозвониться вам с самого утра.
— Странно, — пожала плечами Нэнси. — С утра мы были дома, и Ленка уже должна была вернуться… — Она подошла к телефону, сняла трубку и приложила к уху. — Гудков нет.
— Наверно, забыли оплатить, — с энтузиазмом предположил старик. — Я так и думал…
Нэнси подёргала вилку шнура, пробежалась пальцами по линии и ближе к середине обнаружила диверсию. Характер повреждения говорил о том, что диверсант имел: а) маленькие острые зубки и б) стойкое желание пошалить.
— Нафаня, шкодит где ни попадя, — сделала неоспоримые вывода она и, поскольку изоляционная оплётка была обкусана хорьковыми резцами, просто обжала оголённые проводки крест-накрест — метод не очень элегантный, ещё менее надёжный, но напрочь подкупающий ниспровержением пусть не всех, но кое-каких гендерных стереотипов.
К слову о надёжности: несмотря и вопреки, результат не заставил себя долго ждать. Аппарат залился электрической трелью, словно только этого и ждал. Нэнси подскочила от внезапности и схватила трубку.
— Энн, это ты? — Нэнси услышала далёкий голос Ленки, будто та находилась за тысячи километров. — С ума сойти, я звоню-звоню, а ты трубку не берёшь. Только пришла, что ли?
— Подруга, может ты не слышала, есть такая классная штука — мобильник называется. Масса преимуществ…
— Может, обсудим это дома? Ты где есть и когда будешь? У нас тут гости, — Нэнси покосилась на Бориса Ильича, но того и след простыл. Блуждает где-то по квартире. Ещё чего хорошего набредёт на Ленкину комнату, а там разбросанных откровенных предметов нижнего белья не в пример Нэнси — в разы больше. Вдруг старика кондрашка хватит…
— Слушай, подруга, я не могу долго говорить. Мы уже рулим на взлётку. Стюардессы на меня нехорошо косятся и требуют вырубить телефон.
— Куда рулите? Кто косится? Ты где вообще?
— Во Внуково.
— Это такая шутка?
— Да уж, какая там шутка? — скислилась Ленка. — День рождения встречу в Сочи. Переваривай сказанное.
— Это твоя очередная безумная идея? Или ты стоишь сейчас в подъезде дома с Бубой, который, да я слышу, ржёт там…
— Буба… при чём здесь Буба? — Ленка вяло вздохнула, точно понятие «Буба» относилось к чему-то непреходящему, вечному, а потому старомодному и даже где-то отвлечённому. — Меня провожал Глеб. Здесь никто не ржёт, это стюардессы возмущённо ревут… или турбины, не знаю. Меня сейчас железобетонно высадят, если я срочно не закончу разговор. Значит, слушай сюда быстро и внимательно: мне предложили престижную ответственную должность. Теперь, как бы сказать, я лицо фирмы. Это очень-очень круто и всё такое. Общение с людьми, фуршеты, постоянные командировки. Отказаться нельзя. То есть можно, но… но я не хочу. Ты рада за меня?
— Ничего себе, ты телепортнулась на Финляндский! — обалдела Нэнси от такого поворота.- Конечно, рада. Спрашивает! Просто это неожиданно как-то. Два часа — и Сочи. Черноморское побережье… рапаны, пляж, чурчхела.
— …порошковое пюре, мазь от ожогов, орать бухим в караоке, — продолжила ассоциативный ряд Ленка. — Прости, подруга, у каждого свои впечатления. А ты что, завидуешь?
— Не то, чтобы завидовала… хотя да: я завидую.
— Ага, обзавидуешься. Я так-то не отдыхать лечу. И, между прочим, меня перед фактом саму поставили.
— А как же крышная вечеринка? Я и подарок тебе купила.
— Вот за это отдельное спасибо. Не говори что — сюрпризом будет. А насчёт пати: всё будет, как вернусь. Это раньше днюшку отмечать нельзя, а позже можно. Ещё как можно!
— Ну, ясно. Когда обратно?
— Чёрт его знает. Гостиница оплачена до первого, значит, минимум два дня. Так… всё… у меня отбирают телефон!
— Флай, дарлинг. Соу донт ворри, би хэппи! Морю — привет, пальмам тоже. И не вздумай привозить магниты и ракушки. Перестану уважать!
— Зачёт! Ах да, Энн, корми питомцев. Надежда только на тебя! — бросила Ленка в трубку на прощание. — И купи уже мобильник наконец! На дворе 21-й век…
— … а в некоторых русских деревнях до сих пор пашут вместо лошади…
Но Ленка её уже не слышала. В трубке шли короткие гудки.
— Ну вот, — вслух поругала себя Нэнси. — Люди летают на юга, а я, как дура, на север попёрлась.
— Случилось чего? — Голова Бориса Ильича показалась в дверном проёме.
«И про старика не успела сказать» — совсем уж недовольная собой, подумала Нэнси. Но заставила себя улыбнуться и весело произнести:
— Идёмте пить чай!
— А как же Лена? Где Лена?
Борис Ильич сунул руки в карманы и послушно поплёлся на кухню вслед за Нэнси.
— А Лена, ту-ту. — Она сполоснула чайник и наполнила его на треть водой, чтобы быстрее закипел. — Умчала в командировку по делам фирмы.
— Она нашла работу? — обрадовался Борис Ильич. — Я помню, она говорила, что имеет биологический профиль. По специальности нашла?
— Почти, — уклонилась от ответа Нэнси, и сама не ясно понимая, что значит быть лицом фирмы, когда фирма — это зоопарк. — Она работает с животными.
— Какая прелесть, — искренне расцвёл старик. — Ну, надо с чего-то начинать!
Чайник, обуянный синими колосьями пламени, утробно зашумел, застрекотал из-за обильного нароста накипи. Нэнси похлопала дверцами шкафа и наскребла сливовое варенье, оставленного ровно столько, чтобы «банку не выбрасывать», и растасканную наполовину пачку засохших тарталеток.
— Вкусняшки к чаю на скорую руку, — извиняющим тоном произнесла она, но, вспомнив, спохватилась: — Может, будете омлет? Остался с завтрака…
— А его уже того, — признался Борис Ильич, причмокнув, — слопал. С дороги по привычке залез в холодильник, в свой же холодильник… Да ты, Анечка, не волнуйся так. С миру по нитке…
— … не жирно ли будет, — против воли вырвалось у Нэнси, и она, попрекая себя за своё дежурно отточенное жальце, лихо, до боли, закусила губу.
Борис Ильич сделал вид, что не расслышал её обидных слов. Неприятно и громко загремел стулом, елозя ножками по полу, придвинул к столу и сел.
— Анечка, а ты здесь, стало быть, живёшь? Лена про тебя ничего не говорила.
— Мы с Ленкой не так давно знакомы, — сказала Нэнси, снимая с огня опахнутый клубами пара вскипевший чайник. — Она помогала с жильём на первых порах. Я в Питере недавно, приехала работать. Думала, разживусь зарплатой — как-то рассчитаюсь, но с работой здесь что-то не сложилось.
Она плеснула крутого кипятку в чашки с засыпанной заваркой и, накрыв их кофейными блюдцами, осторожно перенесла за обеденный стол.
Джокока привычно, с нахальным взглядом, следила за её телодвижениями, расположившись на подоконнике между горшком гортензии и хлебницей. С некоторых пор, записав Нэнси в условный вайт-лист (приходилось, хотя двуногая того и не заслуживала, поскольку питала симпатии к офанаревшему вконец хорю), Джокока решила, что худой мир лучше доброй ссоры, поэтому благосклонно терпела новенькую, но из гордости никогда и ничего у неё не требовала и не просила. Старика она помнила по запаху, этот запах был раскидан по квартире задолго до появления Джоконды и её хозяйки здесь. Его она считала неотъемлемой частью пространства дома, который в отличие, скажем, от стены, мог появляться и исчезать, когда ему вздумается. Вот и сейчас вздумалось: не было, не было — и появился. Но раз появился, держим в уме, что в квартире теперь одним «препятствием» больше. Надолго ли? Если Нэнси полагала, что ненадолго, то сам Борис Ильич был иного мнения. Он вернулся домой и не знал, как теперь «просить» квартирантку, которой уже уплачено заранее. Он сильно рассчитывал заселиться во вторую комнату, и был неприятно удивлён, узнав, что она занята неучтённой жиличкой Лены.
— Решаешь свои жилищные вопросы за чужой счёт, — подытожил Борис Ильич и посуровел. — Нет, я не осуждаю. Каждый крутится, как может. Ты, кстати, кто по профессии? Тоже биолог?
— Я предполагала здесь работать, — сказала строго Нэнси, — и жить за чужой счёт не входило в мой бизнес-план.
Она запоздало фыркнула на предвзятое заявление Бориса Ильича. Хотела возразить ещё, но передумала. Поняла, что перепилит сук, на котором сидит, и сковырнётся. Что ни говори, она здесь по всем разделам и статьям на правах птичьих, то бишь беспризорных, а потому оспоримых и заведомо попранных. Конечно, можно было соврать, что она, скажем, родственник из Мелитополя, приехала пожить к условной сестре-племяннице-кузине. Но она не станет скатываться до гнусных побрехушек. Так недалеко совсем ороговеть душой. Нэнси глубоко вздохнула и добавила ровным, спокойным тоном: — И я не биолог. Я окончила филфак.
— Ух ты, — удивился старик, — философия!
— Ух ты филология, — передразнила Нэнси. — Я филолог по образованию.
Суровое выражение лица Бориса Ильича потеплело — признал своего.
— А я лингвист. Мы с тобой, в каком-то смысле, коллеги.
Нэнси не согласилась.
— Я любитель слова и сфер его приложения, а вы — исследователь языка, его образования, развития. Это другое.
— Бросьте, коллега, — в тон ей ответил беспечно Борис Ильич и хлебнул обжигающего чаю. — Как говорят в этом случае в Айдахо: horse radish is not sweeter than radish, что переводится, как хрен не слаще редиса.
— Они называют хрен лошадиной редькой? Кто бы мог подумать. Вы были в Айдахо?
— Нет, но я синхронизировал одного фермера из Маунтин-Хоума. Том Джонс, кажется. Крепкий малый, кровь с молоком. Докладывался на симпозиуме кооператоров, и оказался не только бывалым остряком, но и крепким пошляком. Я на синхроне работал без напарника. Ох, и заставил меня в тот день этот Джонс краснеть.
— Вы занимаетесь переводами с английского?
— А также с немецкого, французского и португальского, — не без гордости присовокупил Борис Ильич. — Хотя, сказать вернее, занимался. Всё это в прошлом. Сейчас, слава богу, на заслуженном.
— Борис Ильич, не глянете книгу одну? — вдруг сообразила Нэнси, вспомнив про подарок.
— Что за книга? — заинтересовался старик. — По филологии?
— Вообще ни разу, — замотала головой Нэнси и прошмыгнула в свою комнату, где на софе оставила Ленкин подарок. Она вернулась, прижимая томик к груди. — Но, похоже, это сборник стихов поэзии на немецком и английском.
— Сближение поэзии с филологией — магистральная линия развития стихотворчества в двадцатом веке, — сказал Борис Ильич с чуть высокомерной и занудной интонацией преподавателя. — Конечно, ни один человек не может быть поэтом, если он не чувствует слова.
— Это не для меня, в том-то и дело! — сказала Нэнси и протянула книгу старику. — На подарок Лене. У неё завтра день рождения.
Борис Ильич отставил чашку и трепетно взял в руки издание.
— День рождения? Какая прелесть!
Борис Ильич хотел сказать что-то ещё, но неожиданно умолк, уставившись в обложку.
— Откуда у тебя эта книга? — подозрительно сказал он.
— Я приобрела её в букинистической лавке.
— В какой?
— Не всё ли вам равно?
Старик вдруг повёл себя странно. Он с удивлением осмотрел обложку книги, поднялся с места и возвысил торжественный палец. Неистово затряс им, силясь что-то сказать, затем швырнул с силой книгу об стол и закудахтал растревоженной наседкой. Ему стоило труда составить связанную фразу. Не лишённой обаяния рифмованной патетики, она, тем не менее, показалась Нэнси маловразумительной.
— Детишки, — рыкнул он безадресно, — ну что вам не сидится на солнечном припёке, ну что вы отовсюду тащите всё, как сороки? Ну, насосались из пальца крылатой банальности — и будет, будет вам! Нет же, надо запечатлеть, сгустить, оформить действие, чтобы никто не смел сказать «нет ничего оригинального». А кто за вас будет ручаться, душенька? Нет, я спрашиваю — кто, пока вы питаете патологическую одержимость чиркать поперёк линованной бумаги?
На этом исповедь на кухне перед чайником оборвалась. Борис Ильич как-то тихо слился и больше в тот вечер не сказал ни слова. Обивая углы, двигался из кухни в коридор и обратно. Замаявшись, оккупировал санузел. С грохотом приводил в действие сливной бачок. После мылся армейским способом — по пояс в раковине, холодной водой, отфыркиваясь и трубно сморкаясь ноздрями — попеременно — левой, правой. Долго, любовно умащивал эмалево-чугунные нутра тоненьким матрацем и свежей, хрусткой от крахмала простынёй, добытыми из чемодана, не давая Нэнси ни малейшего шанса занять оборону ванны.
Ночь была совершенно несносной для обоих. Старик изнемогал на прокрустовом ложе, ворочался, ворчал, по-воровски, украдкой, шнырял по квартире, разминал затёкшие чресла, отжимался от пола и делал прыжки с прихлопами над головой. Волей-неволей Нэнси пробуждалась под эти звуки, нащупывала утянутую с кухни и наготовленную под подушкой скалку для раскатки теста и слушала, как исполнял ночной кордебалет старик.
Ближе к четырём, кажется, всё успокоилось, но ненадолго. В половине шестого в ванной взорвался будильник. Молоточек истошно колотил по колокольчикам, похоже, вечность — мерзкий механический звук, который требовал передвижения кнопки-бегунка, никак не прекращался, просто грёбаный perpetuum mobile, а не будильник! Старик, словно издевался или, в самом деле, крепко спал. Наконец, вымотав пружину, часы угомонились. Тишина была осязаема и благословенна. Нэнси успокоила дыхание, воображение и ярость. Задремала. Ровно в эту минуту старик сочно, ёмко зевнул и щёлкнул выключателем.
Ничто не угнетало больше и сильнее, чем целенаправленное пробуждение с ранья, причём не важно, вставать Нэнси или кому-то рядом. Волей-неволей просыпалась и она. Такие побудки в пермской квартире, дома, были исключением, мама обычно вставала не раньше Ани. Здесь же в Питере Ленка иногда грешила этим, но не часто: в порывах эпизодической борьбы с хромающим на обе ноги распорядком её дня. Борьба быстро угасала из-за неравных сил воли и природной лени вкупе с любовью к утреннему сну — кто ж его не любит! Но, похоже, в природе существовали и такие люди. К примеру, Борис Ильич.
Тот повторил блестяще исполненный накануне ритуал мытья под раковиной, не забыл громко, тщательно почистить нос и, разгадав своеобразие бесплотных обертонов Нэнси, от которых веяло расплывчатой угрозой, уединился на кухне.
Около десяти она проснулась в скверном настроении, не выспавшись. В квартире было тихо. Накинув халат, она с опаской выглянула в коридор. Забрела на кухню, но выявила только след Нафани: тот тянулся по бледным квадратурам зашарпанного пола липкой, жирной полосой под холодильник. Тактично постучала в ванную. Перехватила ручку и дёрнула дверь. Резкий свет потолочного светильника выхватывал хаотически локальный беспорядок — это на двух-то квадратных метрах площади. По счастью, зачинатель нигде не проявлялся.
С отвращением Нэнси выгребла ворох смятого постельного белья и тщательно промыла ванну с порошком. Покопалась на Ленкиных полочках за зеркальной стенкой и отковырнула крайне душеполезные ингредиенты — банку морской соли для ванны Mer de lavande и крошечный флакон шампуня со спа-эффектом Mon spa. Наполнила ванну водой и без сожаления отдала час своей жизни сеансу омовения, прекрасно снявшему перенапряжение бессонной ночи. Пышная шапка взбитого в пену шампуня и ароматическая соль с каплями лавандового масла сделали процесс столь благодетельным и впрок, что Нэнси, сама того не заметив, уронила голову на грудь и задремала. Впрочем, сладко покемарить не дал настырный телефон, среагировавший не хуже системы контроля «антисон», тут же затрезвонивший в квартирной глубине прихожей. Пока тот надрывался, Нэнси успела пожалеть о вчерашнем его спасении — телефонному аппарату следовало пожить хотя бы день в забвении. Она уже решила откровенно пробойкотировать громогласные призывы зуммера, но вспомнила о Ленке, неумышленно отброшенной из головы на периферию дырявой памяти. В треволнениях вчерашнего вечера (и ночи) она напрочь забыла перезвонить подруге и увериться, что та благополучно приземлилась на сочинскую землю. И, наверно, она ждала её звонка всё сегодняшнее утро дня своего рождения, совсем одна-одинёшенька в незнакомом городе, без знакомых, друзей, притиснутая сложной акклиматизацией и депрессивной ломкой — киснет, куксится, хандрит и, думается, сильно в обиде на подругу за её молчание.
Это, в самом деле, была Лена. Лена пребывала в «Эйфории» — так, кажется, назывался пляжный лаунж-бар, где она тусила последние несколько часов. До этого был мужской стрип-клуб, ещё раньше ресторан с системой «шведский стол» и винотека с комплиментами от заведения. Сколько было аперитивов, Ленка плохо помнила. Один или два, может, четыре — это не считая дижестивов. От возбуждения она глотала окончания и почти не слушала робкие оправдания подруги. Лена верещала, как сорока. Нэнси робко уточняла про работу: ведь Милашевич отправили в служебную командировку, а не голых умасленных парней смотреть. Ленка отмахивалась: «фирма», узнав про день её рождения, дала отгул. Одним словом, у Лены всё было хорошо. Лена была в восторге от всего, что происходило с ней, и говорила, что задержится здесь до шестого. До шестого? Для Нэнси это означало ещё неделю жить в неопределённости противоестественного сожительства с Борисом Ильичом. Она как раз открыла рот для эмоционального пересказа о бесславном возвращении владельца, как в замке заворочался ключ, и она с ужасом поняла, что, в устремлении к аппарату, позволила не утруждаться излишним облачением, обхватив мокрое тело лишь полотенцем, деликатным в размерах и прочности наброшенного впопыхах узла. Нэнси бросила трубку на коротком «я перезвоню» и прошмыгнула в свою комнату.
Бухнули тяжёлой дверью. Вошедший прошлёпал по прихожей. Оттопырив толстые губы, он просунул голову в дверную щель и улыбнулся Нэнси.
— Ах, уже проснулась, Анечка. Я харчей собрал по магазинам. К столу поможешь?
Нэнси онемела от подобной бесцеремонности. Подтянула под самые подмышки предательски сползающее полотенце и вытолкала голову старика наружу. Лицо Бориса Ильича приняло покорно-вопросительное выражение и под давлением исчезло.
Нэнси душил гнев. С твёрдым намерением более не терпеть присутствие циничного, развязного старика, она оделась, наспех побросала свои вещи в сумку, оставив только картонную коробку, наполненную на четверть сиротливой горкой фаянсовых болванок, и книгу Рушди. Пересчитала капиталы (более чем скромные), вложила деньги в паспорт и убрала в карман. Коробку пинками вытолкала на лестничную клетку и со злорадством спустила в мусоропровод, слушая, как гремят и бьются черепки. Вернулась в квартиру, сжимая в руках книгу, и прошла на кухню.
Старик запарившись, с удовольствием обтирал платком крепкую короткую шею. У стола стояли нагруженные до отвала магазинные пакеты, возле которых любопытно тёрлась Джокока. Она старательно вынюхивала ароматы мясных изделий.
— Лена в командировке, будет шестого, — процедила она сквозь зубы. — Кормите, пожалуйста, её животных.
Она подумала и, смягчившись, дала краткий ликбез:
— Джокока привереда. В крайнем случае, сухой корм во втором ящике, где столовые приборы. Но не больше половины её миски и не чаще одного раза в день. Нафаня — тому подойдёт любая еда с вашего стола. В этом смысле он неприхотлив. Корм для Жейки рядом с её клеткой, в моей комнате.
— Жейка — это кто?
— Шиншилла.
— А ты, что ж?
— Я уезжаю, — просто сказал она. — И попрошу вас передать Лене от меня вот это.
Старик снова неприязненно взглянул на книгу. Упрятал платок в карман, уселся на стул и вытянул ноги, сжимая кулаки коленями.
— Ни в коем случае!
— Да что такого? Это всего лишь книга! Просто передайте…
— Нет, и не проси.
— Почему? Потому что это плохая книга?
— Кто сказал? — удивился Борис Ильич.
— Хорошую не жгут, и не взрывают книжные из-за неё…
— There’s no reason to burn books if you don’t read them59, — нравоучительно сказал старик, очевидно, цитируя кого-то.
— Что я? Читал ли я?
Борис Ильич кивнул. И в этом суховатом кивке Нэнси вдруг ощутила укор.
— С точки зрения языковеда — она идеальное творение.
— С каких пор идеальное творение — причина массовых волнений и повод для охоты за головой писателя?
— Я думаю, со времён евангелистов, Анечка. Из них только Иоанн умер своей смертью, а не был замучен или казнён. — Борис Ильич увёл в сторону маленькие воспалённые глаза. — С точки зрения языковеда любая литература — организованное насилие над языком60, и в этом смысле сочинение Салмана Рушди — всего лишь попытка это насилие загнать в угол, то есть под обложку одной книги. Своими художественными приёмами он многократно усиливает авторитарность слова, вгоняет его в степень математической прогрессии, из-за чего текст достоверно осмыслять можно в одной функции — как сюжетно-лингвистическое построение. Никак иначе! В противном случае, чтение подобных книг превращается в сплошной эмотивный невроз, в истерию, которая, будто грипп или ветрянка, передаётся воздушно-капельным путём, заражая даже тех, кто ещё вчера не знал про книгу и её автора абсолютно ничего. Вот она проблема! Истерия в масштабах общества — всегда опасно.
— Вы не поверите, ещё вчера я ничего не знала о писателе Рушди и его книге.
— Неудивительно! События почти двадцатилетней давности, — подхватил старик с серьёзной суровостью, — когда они происходили, ты только училась сидеть за школьной партой, душенька. Литература, подобная этой, обречена стигматизироваться, исключаясь из культурного поля, поэтому вчера я удивился, когда увидел книгу. Ни одно художественное произведение не получало столь чудовищного резонанса, какой выпал на долю «Сатанинских стихов».
— Может, автор добивался этого. Может, делать вещи, производящие фурор, модные и злободневные, выгодно всегда. Может, когда он писал свои «Стихи», прекрасно это понимал.
— А-аа, при чём здесь автор? — отмахнулся Борис Ильич. — Идеальное творение — оно, вообще, всегда больше, чем авторское понимание, потому что в том-то и чудо, что человек зацепил больше, чем он может осознать. А реакция общества — это реакция тьмы на свет. При свете, как ты знаешь, она делается особенно тёмной.
— Нет, не знаю, и подозреваю, что к физике это имеет мало отношения.
— Это не физика, а психология. Закон человеческого восприятия.
— Это не закон, а болезнь, — в тон Борису Ильичу проговорила Нэнси. — Болезнь, пострашней, чем грипп или ветрянка, болезнь с очень нехорошей симптоматикой. Страх — вот её первый симптом. Страх суеверный, необъяснимый, безотчётный. Он легко читается по вашим глазам, Борис Ильич.
— Да, я боюсь, — честно признался он, — но не только за себя. Молодость наглая, а старость беспокойная. Всё время беспокоишься о себе, о других. Да, есть риск переусердствовать или впасть в крайность, но, знаешь, любому старику когда-то было тридцать, я ведь тоже помню это состояние. Когда ты молод, ты думаешь, что можешь изменить мир, что всё по плечу, но вот оказывается, в нём есть реальности, с которыми ты вынужден мириться, как-то принимать. С годами, например, я добыл неписаную заповедь: слово — серебро, золото — молчание. И это правильно. — Борис Ильич прищурил левый глаз. — Мой друг, имевший единственною страстью карты, говорил мне: шулеруй по жизни, Тёрка — было у меня в армии такое погоняло — всё одно — игра. Но вот говоруна в себе дави безжалостно. Тёркой меня звали потому, что трепался, молотил по молодости без умолку, много ляпал лишнего, из-за чего страдал. Картёжник тот, друг мой — сиделец, старше меня на пять годков был, но мудрее — на все тридцать, потому что только разменяв полсотни, я понял, насколько его напутствие было, так сказать, в кассу. Вот хоть на старости ловчусь следовать великолепной мудрости. А ты, Анечка, не трать двадцать или тридцать лет, а послушай старика, калача тёртого, видавшего разное: выбрось ты эту книгу, а лучше сожги, одним словом, избавься от неё скорее. И больше о ней ни с кем ни-ни! Потому что о чём нельзя говорить, о том следует молчать.
Борис Ильич великолепно и гордо, с усталой отрешенностью, какая, должно быть, свойственна героям после подвига, облокотился на стол и благодушно, хотя и немного нетерпеливо уставился на Нэнси: мол, выбор за тобой, не томи уж душу!
— Ну знаете, — выдохнула Нэнси, — после всего сказанного вами, это, пожалуй, лучшая реклама книге, которую я когда-либо слышала.
Вместительная сумка, криво уронив лямки, поглотила том. Нэнси взвизгнула «молнией» и накинула лямку на плечо.
— В любом случае, с вами или без вас, Лена получит свой подарок.
Она бросила ключи на стол и выскользнула из квартиры.
Глава 15. БРИТВА ОККАМА
Появление в жизни и судьбе Нэнси романа Рушди, такого объёмного, что тот запросто мог стать орудием убийства, а стал тем, чем был: формой строгой геометрии, хранящей в себе текст и требовавшей права быть прочитанным — стало первым формальным поводом для объявления войны. Строго говоря, мотив для casus belli был один: законное право любого знакомиться с отличными от общепринятых взглядами. Каждый имеет выбор и возможность получать информацию.
Она не собиралась заниматься переводом огромного романа, даже не думала об этом. Собиралась, разве что, бегло пройтись — со словарём диагональю, перед тем, как отправлять обратно в Питер почтой. Правда, уже тогда не была уверена, что это такая уж хорошая идея. С трудом продравшись через десятую часть романа, она была обманута дважды. Во-первых, она ожидала отыскать стихи, а обнаружила прозу. Во-вторых, в книге не было и намёка на «реальный» сатанизм. То есть вообще ничего близкого к культу дьявола. Вместе с тем, текст поражал построением и своей структурой. Сложность синтаксиса, игра со смыслами, многоаспектность языка, выходящая далеко за пределы норматива, были практически непереводимы на другие языки. Да что уж говорить — даже англоговорящему читателю наверняка пришлось немало постараться, чтобы пробраться сквозь эту «лощину» к смыслу. Всё, что она пыталась вытащить наружу, было разнородным смешением чуждого, коллажированными обломками и демонтированной целостностью. Салман Рушди сбивал с ног, равно как и с толку. Он показывал древнюю мистерию о путешествии человеческой души, рассказанную языком литературы, но литературы необычной, литературы с эффектом баррикады, в попытке порушить рациональное, геометрически выверенное пространство худлита. При всей высокой организованности геометрии носителя, его содержимое, искрошённое на первый взгляд бессвязными кусками, нагромождение ничтожного и возвышенного, обречённо отставало от лаконичных форм — аккуратно отпечатанных и переплетённых листов, пронумерованных и одетых в красивую обложку. При самом первом, грубом прикосновении роман напоминал загаженное словами сакральное местечко, place of power, где каждый знак — символический образ или мусор, сумятица звуков, идей, фигур, портретов. От этой груды исходило странное величие: дух революции клубился над вершиной текста, над этой баррикадой гремел глас не человека, но целого народа. Сама Нэнси понимала (и принимала) мысль — именно читатель должен ухватить суть, а не писатель — эту суть передать. Благодаря Рушди она вдруг осознала: любой предмет безграничен для познания, и точку в его познании определяет для себя читатель.
Но даже после такого открытия, она не собиралась заниматься переводом книги, вроде того, что это челлендж — вау, круто! — я её сейчас переведу. Она бы благодарно приняла возможность от проводника, который мог бы обеспечить ей путешествие по страницам миров писателя. Эту возможность мог дать профессиональный переводчик (или группа таковых). Но «Шайтанские аяты» были ненаходимы в русских переводах: ни в библиотеках, ни в книжных, ни в Сети. И Нэнси понимала: что в самом обозримом будущем эти переводы не появятся.
Всё это было очень по-киношному, и отсылка жанра становилась очевидной уже в супрематических пропорциях изображения. Нэнси нравилось думать, что её хроника могла бы попасть на любительское видео полускрытой малоформатной камеры. Со стороны зрителя Аня Окунева продолжала быть среднестатистическим конформным существом — и общий дух картины, её изобразительный ряд и диалоги были бы весьма созвучны аудиовизуальным образам-символам, но только как иллюстрация дуального мира причин, каждая из которых разворачивала новые цепи событий для обновлённой Нэнси. Происходящее «на экране» всё дальше относило её от двух летних недель, проведённых в Петербурге. Она была вовлечена в пространство другого кадра, хотя другой кадр не мог аннулировать питерский «видеоряд». Скорее это был прыжок из реального в гиперреальное для достижения одной-единственной способности — артикулировать происходящим. В Питере Нэнси такую способность, как ни старалась, не могла заполучить. Город с амплуа очаровательного волшебника забивал её вселенную ненужными помехами чудачеств. Не утрачивая своей первоначальной остроты и авантюры, он подчинял расщеплённой логике всякие явления и происшествия, непременно с медленным наездом камеры в лицо.
Перетасовав и разменяв четыре буквы из пяти, совершив культурный мезальянс из города на Неве в город на Каме, Нэнси с радостью отметила, что смена парадигм всё встроила обратно на свои места. Составы дней поползли с угрюмостью дредноута. Кто-то мог бы возразить, какая же это гиперреальность? Гиперреальней некуда! Миновав степенную мифологичность Питера с его фольклорно-деструктивными героями, Нэнси вдыхала полной грудью чахлый пермский воздух, забираясь с ногами на подоконник и упёршись лбом в залитое солнцем оконное стекло. Она всё больше утверждалась в мысли, что экзальтация мгновения с меланхоличной интонацией обнаруживает множество точек соприкосновения с пространством её родного города. Определённо он нёс в себе терапевтический эффект. Устойчивая механика городского существования позволяла извлекать звук эталонной частоты из единственного камертона её реальности — творчества. Мир комнаты — её комнаты, мир улицы — её улицы, мир города — её города — оказывались соединёнными в несомненной, подлинной реальности. Структуры повседневной жизни, набившие оскомину до терпкой кислоты во рту, бесконечно умножались, накладываясь друг на друга, образовывали дисциплинарный конструктив, некий инкубатор, помогающий установить взаимоотношения с самим собой в призме «понимательной» оптики. Он, кажется, наметил лёгкий контур, быстрый набросок её формулы творчества.
Мысль искать помощи на стороне пришла внезапно. Вначале она серьёзно думала просить о помощи Бориса Ильича. Её «домашняя кулинария» в области английского, безусловно, пасовала и не шла в сравнение с фабрикой-кухней наработанного стажа целого лингвиста. К тому же, он был не понаслышке знаком с текстом. Но очень быстро она отказалась от этой идеи. Превращение рефлексирующего интеллигента в человека действия очень сильно удивило бы её, а лингвист, очевидно, просто рефлексировал. По сути, он был не более, чем капсюльным пистоном, сдетонировавшим кучу строптивой субстанции под условным названием «Анна Окунева и обстоятельства её жизни». Конечно, его вклад был скромен, но оттого не менее значим. Без его участия взрывные работы всё равно бы состоялись, разве что эпицентр был смещён, и осколками могло травмировать намного меньше. Да и «Стихи», при всей симпатии Нэнси к языковой игре писателя, она не могла считать эталоном идеала. С таким подходом к тексту далеко не уедешь.
До определённого момента она держала в уме транслитруверианцев. У неё даже где-то был записан телефон Бубы. Но Нэнси стала подозрительной и осторожной, как выяснится позже, обоснованно. Уже тогда она решила, что перевод книги должен быть общедоступным и публичным. Это требовало больше не только ответственности, но и человеческих ресурсов. Плюс компетенции со стороны. Одним словом, она ощутила твёрдое намерение не падать никому на хвост, а сплотить вокруг себя сильную команду, самой стать ядром.
Сюжетные повороты последующих шести месяцев, вплоть до февраля, не изобиловали острыми углами: то были будни ремесленника, клепающего свой насквозь пропитанный конспирологией мутный механизм. Какие страсти могли бы бушевать под вяжущие звуки саксофона, нацеженные CD-чейнджером, но нет! Апатетично, без страстных звуков камерного джаза, в комнате, под туканье клавиш, под щёлканье мышки, под шуршание страниц англо-русского словарика — нарождался джихад. Всеобщая мобилизация давно уже грозила перерасти в Священную войну, объявленную ею по мере вербовки нужных ей людей. Под «нужными» Нэнси понимала языковых эрудитов — молодых амбициозных людей, которых она, как залежи самородной руды, постепенно открывала из тусы анимешников. Эти золотые вкрапления с сопутствующими породами почитателей японских мультиков и комиксов могли показаться на первый взгляд маловероятными, но — только на первый.
Анимешный народ крепко зависал онлайн, общаясь на форумах и в чатах. Дабы свод накопленных определённым мировоззрением порядков не пропадал зря, фанаты иногда устраивали коны — слёты — в разных уголках большой страны, в которых Нэнси не участвовала, предпочитая только виртуальную реальность. С виртуальной тусовкой её познакомили пермские ребята, некоторые из которых давно обитали в мире сугойного кавая, надо думать, permanent residency61. Дружба с некоторыми давала представление о перегибах на местах, например, тентакли или панцу-шоцу — дядюшка Фрейд уж точно получил бы никотиновую интоксикацию, много и часто покуривая в стороне — но экстремальный джапанимейшн и увлечённость им не портила качества общения Нэнси с её отаку-друзьми. К счастью, у поклонников аниме и манги были и другие способы сбывать свои потребности в удовлетворении чувства прекрасного.
Кроме Японии в душе и полок в спальне, непременно заваленных хентай-глянцем, магическими артефактами, пушистыми трофеями (ушами и хвостами) и антропоморфными яой-куклами, эти ребята имели превосходные навыки костюмеров, швей и портных — для участия в косплеях и кросплеях. Ещё они были написаторами — писали фанфики по мотивам любимых же произведений. И переводчиками — вдохнув глубже запах свежей типографской краски или смахнув пылинки с лицензионного дивиди, сканлейтили и фансабили любимые номера и серии. Вот тут-то и скрывалось Нэнсино решение проблемы. Лучше и быстрее переводы выходили у инязовцев — студентов институтов иностранных языков. Японский, как правило, осваивался факультативно к основному. В двух случаях из трёх — это был английский.
Сперва их было вместе с Нэнси двое. К ней примкнула ветеран движения с труднопроизносимым ником, о которой Окунева знала, что она из села Кашина, переехала в Ёкбург учиться в педе на специалиста в сфере устного и письменного перевода. У напарницы колоссальная трата времени вне учебного процесса низвергалась на «мыльный» гайден62 о драконе Шенлуне по мотивам «Драгонболла», который сочинялся на английском для какого-то фан-клуба в Риверсайде. Можно сказать, Нэнси удачно встретила пособницу: так как раз решила, что её опус — никуда не годный PWP, и двумя кликами мыши она избавилась от обязательств перед риверсайдскими отаку, тем самым наделив себя солидным профицитом времени. Они условились, что будут работать под псевдонимом, который Нэнси, после недолгих раздумий, одолжила у персонажа Агаты Кристи — Анны Нэнси Оуэн, в оригинале U.N.Owen. Прочитанное слитно, оно звучало, как «неизвестный». К сентябрю в ход пошла другая трактовка аббревиатуры A.N.O. — Алек Норман Оуэн, появившейся на свет тоже не без помощи известной романессы. Маховики судьбы в лице обширных связей «Аннушки из Кашина» захватили в процесс ещё четверых, двое из которых оказались (sic!) парнями.
Оба Алека терпеть не могли зарастать ряской спокойного безделья, а потому выделялись в форумах заметной, иногда даже чрезмерной активностью. Один из них посвятил себя волонтёрству и, кажется, занял второе место на Вяткинском плейфесте-2006 с костюмом Ванпанчмена, чем небезосновательно гордился. Другой Алек дублировал видеорелизы для какой-то пиратской министудии и даже на этом что-то зарабатывал. Свободное время он тратил на сканлэйтинг — прямиком из Японии заказывал сборники манги и ранобэ, сканировал и переводил их, подменяя в репликах японский русским языком. Объёмистые танкобоны, дающие фору по толщине корешка если уж не эпохальной «Астрее»63, то паллисеровскому «Квинканксу» точно, он филантропически сливал в Сеть, руководствуясь тем принципом, что сканлэйты, наряду с медициной, образованием и игрой в танчики, должны быть доступными (читай: бесплатными).
Две другие Анны не причисляли себя к люто трушным аниме-фанатам: косплей, сканлэйтинг и фикрайтинг были не для них. Одна обожала наполненные уютным волшебством мультфильмы Хаяо Миядзаки, другая ловила эндорфины счастья от просмотра «Сейлор Мун». Обеих объединял неукротимый, почти животный хейт к карманным монстрам — покемонам. На форумах они не упускали случая бесстыдно пройтись по ставшим классикой мультяшным персонажам, но не это злопыхательское их сродство привело в Клуб, нет. Обе девушки учились на курсах гидов-переводчиков, правда, в разных вузах и даже, похоже, в разных городах.
Вскоре при общении участников стала возникать путаница. Анны и Алеки решили по-замятински стать «нумеральными» — каждый присвоил себе номер. Алек Второй тут же предложил всем надеть юнифу и прикупить штор для жилищ, но его тонкую иронию не все поняли.
И всё же никто не ожидал такого уровня, никто из шестерых адептов слова, скрывавшихся за аббревиатурой A.N.O., не ожидал тотально спутанных потоков информации, что полились на их головы из-под обложки книги. Перевод не шёл. То есть шёл, но выходила какая-то литая прорись, постыдное калькирование. Оригинальные слова же прирастали двойными, тройными, четверными переносными смыслами и, не зная подтекста, уследить за мыслью автора, чтобы без суррогатов транслировать её на русский, удавалось редко. Никто не подскажет, никто не направит — просто потому, что никто не знает. Вскормлённая чрезвычайной избыточностью, Нэнси вдруг осознала, что они хватаются за ноль. Именно на этом осознании в последующие дни и недели было построено много технологических нюансов перевода. Нэнси зарылась в подстрочник с подробными пояснениями, сносками, разъяснительными примечаниями и лингво-переводческими глоссами. Всё это вылилось в обширный комментарий и окончательно погрузило внимание будущего читателя в языковые зыбучие пески.
Тогда она решилась на предисловие. Намерение дать незаконченному переводу предисловие опустошило её так, будто это предисловие уже было излито на бумагу, прорезано косноязычием русского читателя, вымучено с нездоровым возбуждением, ошеломлением и тошнотой. Вступительное слово, как утопия: вещь красивая, но невозможная, неосуществимая на том этапе, на котором она за него взялась. Впрочем, ценой уязвления она уже постигла и осмыслила потенциал. Она получила вещий сон, интуитивное прозрение, предчувствие-догадку и решение задачи. С таким набором инструментов можно было создавать новое, не боясь разрушить старое. И Нэнси принялась крушить! Она отложила предисловие и снова взялась за перевод.
Констатация намерения всё-таки выкатить бочку повествования через живой импульс русского языка позволили пошатнуть пресловутую четвёртую стену и взобраться с ногами на авансцену театра действий. Переводчики славно потоптались по канве, прежде чем поняли: угол доступности мира Рушди сильно заузился, но при этом сдвинулся в поисках русского менталитета. Конечно, этот сдвиг произошёл не без их помощи. После середины ноября в воздухе завитала оздоравливающая мыслеформа, что работа всё же достигла условного экватора и перевалила на вторую половину.
Идея Джихада, то есть Священной войны, где главным оружием было бы Слово, понравилась всем с самого начала. Однако, это формально превращало их лингвистический кружок в некое сопротивление повстанцев. С таким взглядом на вещи самим участникам, равно как и их движению требовался новый привилегированный статус подпольного формирования, где не последнюю очередь занимала бы разработка стратегии и позиционирование их организации. И начать следовало бы с названия. Процесс его разработки не занял много времени. Алек Второй почти сразу предложил назваться Клубом поклонников свободы слова или сокращённо КПСС. Нэнси идея понравилась не очень, она мотивировала это копрологической отсылкой к унылому «совку». Но магия аббревиатур уже захватила повстанцев. Так, с двукратным перевесом четыре против двух, доводы Нэнси потонули в собственном же популизме. Клуб придумал собственный устав и клятву, провозгласил единогласно (тут споров не было) духовного наставника Хитоси Игараси и учредил почётных членов Тео ван Гога, Ориану Фаллачи, Этторе Каприоло и некоторых других «шахидов». На высшую должность Председателя была избрана Нэнси. Органом политического руководства стал центральный комитет в лице всех остальных.
С таким управленческим аппаратом коалиция дожила до первых дней зимы. На внеочередном собрании председатель ЦК в одной из двух повесток дня силой данной ему власти модератора свергла чрезмерно развитой социализм Клуба, упразднив центральный комитет и пленумы. Она потребовала изменить название организации, и сама же выполнила требование. Отныне Клуб поклонников свободы слова стал именоваться Клубом имени Хитоси Игараси. Незапланированный схлёст разных точек зрения, тлеющий достаточно давно, чтобы дать о себе знать, вылился в открытую конфронтацию, когда речь зашла о переименовании. Жаркая полемика коснулась не столько ренейминга, сколько произношения «по грамоте» самого названия. Камнем преткновения стал увековеченный Хитоси Игараси с неоднозначным слогом «си» в фамилии и имени. Тут же припомнили систематизаторов Поливанова и Хэпбёрна. Нэнси высказывалась за приоритет устойчивых произношений, и по аналогии с русифицированными суши и «Тошиба», предложила называть японца никак иначе, как Хитоши Игараши, ратуя за приоритет устойчивых произношений, даже если они изначально неверны. Но не тут-то было. Нэнси сама набирала в команду самых отпетых ревнителей чистоты языка, готовых в режиме ковровой бомбардировки закидать шапками любого, кто позволит себе толерантность к вольным трактовкам перевода. Пришлось даже идти на сделку, в противном случае, Клуб рисковал остаться без названия.
Второй повесткой дня навеки вписанного в историю внеочередного пленума (к слову, последнего) стало предложение Анны Второй провести офлайн-съезд КПСС, а вернее, развиртуализацию новопризнанного Клуба имени Хитоси Игараси. Чтобы доверять друг другу дальше, необходимо было сорвать все маски. Каждый был бы больше уверен в своём праве делать то, что делает, если бы он знал в лицо того, кто этим правом тоже хочет обладать. На этот раз Нэнси понравилась идея, и она всецело её поддержала.
Сотни раз она пыталась отредактировать в воображении образ группы аутсайдеров — шестерых смельчаков, объединённых общим делом. Всё это пахло помутнением: даже чай, что она пила, горчил слабым помешательством. Но к концу января они всё-таки условились о выборе места, географически нейтрального в меру разброса группы. Сперва таким местом для Нэнси показалось уместным предложить Москву, но четырём из шести участников, включая её, пришлось бы потратить на дорогу больше суток. Екатеринбург подходил идеально. С конкретным местом тоже долго не закручивались. Кто-то предложил дом Ильи Кормильцева. Это было знаково. Гладенький, лысенький, утолщенный в талии как все русские мужчины его возраста, как писал о нём Лимонов, поэт Кормильцев пошёл дальше своих стихов и затеял издательство, которое не знало аналогов в русской культуре ни до, ни после. Нетерпимый к любому проявлению конформизма, пожалуй, самый убедительный свободомыслящий интеллектуал, он мог бы стать подлинной иконой и образчиком для подражания, ничуть не худшим, чем Хитоси Игараси.
Незадолго до смерти Илья произнёс слова шахады и принял ислам, горячо свидетельствуя о вере в Аллаха. Он основал свой джихад — издательство «Ультра. Культура», которое за 4 года существования достигло мощного расцвета и скандальной популярности. Именно Кормильцев издал «Культуру времён Апокалипсиса», тираж которой был конфискован прямо в типографии и по требованию Госнаркоконтроля уничтожен. Кормильцев печатал антологии левой литературы, биографии нонконформистов, мемуары изгоев. Он издавал их в качественных переводах и с грамотными комментариями. Большинство текстов обрастали неверными толкованиями и становились труднонаходимыми сразу после выхода в свет. Имя «Джихад» носил один из сайтов, созданных им. Сайт был задуман, как площадка для культурной синергии «Ультры» с «Уммой» — издательством сугубо мусульманского толка. В рамках этого сотрудничества была учреждена премия для оценки достижений в деле понимания и защиты ислама.
В день годовщины смерти Ильи Валерьевича Клуб условился о встрече.
Несмотря на февраль, в воздухе пахло дождём, и над вокзалом высилась, почти как настоящая, неоновая радуга. Радуга стреляла бегущими рекламными строками.
— Вот народ! — сопротивлялся помятый человек в приглаженной рубашке, перекинув через локоть засаленную кожанку. — Любую малость к деньгам подводят.
Вокзал выходил на площадь шестёркой круглых, витых колонн. Человек увязался вслед за Нэнси с самого перрона и семенил по площади короткими ногами, упорно не желая отпускать добычу.
— Я, если хочешь, могу тебя бесплатно подвезти.
— Нет, не надо. Я на метро. Здесь близко.
— Зачем тебе метро? — удивлялся он. — Час пик, все дела. У меня чутьё на жуткую вещь.
— Чутьё? — Нэнси всмотрелась в узкое высоколобое лицо соседа по плацкарту, стоявшему у входа в метро, и будто бы ждавшему её. Сосед с каким-то детским удивлением поймал взгляд девушки и неприязненно обсмотрел её попутчика. — Ладно! Поехали!
— Ладно? — обрадовался таксист. — Поехали! — Он махнул в сторону зажатой парковочным столпотворением спортивной «нивы» с шашечками таксопарка.
— Угол Декабристов и Восьмого Марта. — И на всякий случай добавила: — Три остановки на метро. Так что больше ста не дам.
— Двести пятьдесят тариф, — сказал таксист.
— Вы же говорили, бесплатно.
— По нашему времени, это почти что даром.
— Сто пятьдесят. И мы больше не торгуемся.
— Как говорит наш брат автомобилист, торг — с деньгами у бампера. — Он пихнул передний бампер «нивы». Ладно, первый оборот, будем считать, ты — мой талисман на рейс.
Пока они двигались на юг по жирной центральной артерии города с ещё незастоявшейся кровью автомобильных пробок, Нэнси вертела головой по сторонам, стараясь вобрать в себя как можно больше картинок дореволюционной архитектуры. Типичная для Екатеринбурга застройка — много классицизма, домики конца девятнадцатого века — нравились ей, но торчащие тут и там высотки портили весь старательно наведённый старым режимом лоск. Дореволюционная архитектура очень неплоха сама по себе, но совершенно теряется на фоне размаха современности. На редкость тёплый для этих мест февраль не добавлял красок зимним городским пейзажам. Уже на подлёте к земле снег переставал бороться за право быть твёрдой формой атмосферных осадков, наползал на клин тёплого воздуха, исходившего дыханием города, и превращался в неприятное природное явление — дождливый снег. Эта масса лепила прохожих, машины, дома, но, не осилив околоплюсового натиска, сползала грязными ручьями в бездорожье.
У достоевски-жёлтого блочного дома, выстроенной огрублённого скобой, таксист притормозил. Получил под расчёт и выбросил клиентку прямо на трамвайной остановке. Нэнси запрокинула голову и зачем-то посчитала этажи. В этом шестиэтажном доме когда-то жил Илья Кормильцев. Жизнь его часто доставала, и только в Свердловске он сменил таких домов целых три. Но именно дом на пересечении Декабристов и Восьмого Марта был последним уральским пристанищем Кормильцева. Никто не знал номера квартиры, где жил Илья Валерьевич. Полагалось, что встреча состоится прямо на дворовых скамейках одного из подъездов.
Нэнси завернула во внутренний двор. Нежно пахло талым снегом, откуда-то сверху щебетали разноголосьем воробьи. Перед первым подъездом набежала большая лужа, в которой отражалось прикинувшееся свинцовым стилобатом небо. Колоннады деревьев, без листьев кажущиеся античными и монументальными, легко вписывались в интерьер такого же антикварного двора — классически правильного, досельного. У лавки ютились двое: он и она. Оба были молоды, но на их лицах лежала тень усталости. Очевидно, это было утомление дорогой: и у юноши, и у девушки за спиной была по солидному туристическому рюкзаку. Сама же Нэнси оправилась в дорогу налегке, с сумкой, она не предполагала задерживаться и рассчитывала вернуться к утру следующего дня обратно. Кодовый вопрос «Как пройти в клуб?» сработал. Пара оживилась и выдала условленную фразу: «Вы на месте».
Нэнси сказала, то она Первая. Пара уважительно посмотрела на неё.
— Ксо, и я первый, — обрадовался парень, — только среди Алеков.
— А я последняя из Анн, — улыбнулась девушка. — Четвёртая!
Ещё через четверть часа подтянулись остальные. Один из них был похож на американского актёра Джейка Гилленхаала, с такой же жиденькой неаккуратной бородёнкой и зачёсанными назад блестящими крашеными волосами. Он теперь сидел, отдуваясь, на чемодане, сцепив руки на животе. Методом исключения выходило, что это Алек Второй. Вместе с ним были девушки. Одна в глухом белом свитере и розовом пуховике, но с непокрытой головой: на нежную шею накатывал ещё детский завиток волос, cкреплённых дешёвой заколкой. Она представилась Третьей. Другая — в малиновой куртке из болоньи с капюшоном, с багровыми склеротичными щеками и запавшей в угол рта слим-сигаретой — была Анной Второй. Очевидно все трое ехали порознь и вместе вышли на одной остановке, с удивлением обнаружив, что каждый из них озадачен одним и тем же вопросом: «Как пройти в клуб?».
Возникшая тишина сгущалась, становясь какой-то неловкой. Нэнси чувствовала за собой необходимость что-то говорить. Преодолевая смущение, она решилась, не рискуя начинать с главного, заговорить о Кормильцеве. Нэнси рассказала, что Илья Валерьевич хотел издать перевод «Сатанинских стихов». Парень с туристическим рюкзаком возразил, что наверняка это неизвестно.
— Если он и собирался это сделать, — заметил Алек Второй, которого Нэнси называла про себя Гилленхаалом, — то отпущенного времени для осуществления задуманного ему не хватило.
Он вдруг спохватился. Вытащил откуда-то из чемоданчика бутылку ноль-семь не то вермута, не то портвейна, стопку одноразовых стаканчиков и сетку жухлых мандаринов. Торопливо разлил содержимое по пластиковым ёмкостям, передал по кругу вместе с цитрусами. Молча помянули. Нэнси улыбнулась Гилленхаалу. У неё теплело в животе, а воздух становился чем-то пронзительно нежным.
— Хочется петь, — поддержала её настроение девушка в пуховике.
— Ага, или орать! — кивнула Анна Вторая, но не заорала, вместо этого щёлкнула зажигалкой и закурила.
— Скованные одной цепью, — негромко запел Алек, аккомпанируя себе щелчками пальцев, — связанные одной целью…
— Ну, вы совсем, молодёжь! Ещё бы на детской площадке, а?
Из второго подъезда с белым крохотным мопсом на поводке к ним направлялся человек в морском бушлате.
— Всё в порядке, дядя, — сказал, прекращая пение, Алек. — Мы просто вспоминаем хорошего человека, который когда-то жил здесь.
— Мы не какие-нибудь асоциалы, — добавил Гилленхаал, — тихонько выпьем и бутылку заберём с собой. Правда-правда!
— От зараза. Ещё одолжение делает! — разозлился жилец, и мопс, чутко уловив настроение хозяина, залился злобным тявканьем. — Уматывайте по-хорошему или позову ментов.
— Идёмте, — сказала Анна Вторая, бросая сигарету под ноги и растирая каблуком, — от него воняет козлом.
Клуб, горячо обсудив невыправимость некоторых человеков, способных напортить жизнь только самим себе, в полном составе пробежал проспект подземным переходом и вынырнул с чётной стороны. Они переместились в небольшой скверик, где под сенью хвои плотно жались на постаменте три цементные скульптуры ссыльных декабристов. Кто-то в рабочем комбинезоне, отгородясь спиной от монумента, скрёб асфальт лопатой.
— Они тоже связаны одной цепью, — сказал кто-то, заметив кандалы на каменных фигурах.
Место в сквере хорошо просматривалось, простреливалось, и было почти невозможно скрыться от любопытных взглядов. В это мгновение вздрогнули первым перебором малые колокола. Звуки повисли на трехъярусной часовне соседнего строения, сложенного из желтоватого мучнистого известняка. Сползли вниз по шлемовидному покрытию, перекатываясь, прошлись по подоконным филёнкам, наличникам с сандриком и отделанным рустом стенам. Золоченый купол с православным крестом отозвался на сей раз неторопливыми ударами большого колокола. Эти звуки поплыли вдоль проспекта, растворяясь в шуме городского транспорта.
— Это монастырь? — спросила Нэнси у Анны Второй, очевидно знающей город лучше остальных.
— Может, раньше, — предположила она, — сейчас здесь институт и колледж.
— А кафе поблизости нету? — спросил Гилленхаал. — Чтобы с туалетом и горячим кофе. Что-то хочется бюджетного уюта. А?
Кафе нашлось не сразу, пришлось вступить в переговоры с коренными жителями. Гилленхаал беспомощно заглядывал в глаза и шевелил доверчиво ресницами, активно приставая с лясами к прохожим. Говоря настойчиво, он явно не чувствовал грани между уместной тактичностью и неуместной бестактностью. Алек Второй не мог и не скрывал казарменного панибратства: оно так и лезло из всех его щелей. «Не знаем», — отмахивались прохожие, пытаясь заподозрить в цепком настырном типе афериста или жулика.
Болтовня тоже занятие. Она мобилизует, и скоро Гилленхаал догадался растревожить сонного работника коммунального хозяйства, бродившего с лопатой вокруг да около. Коммунальщика звали Игорем, Игорь сильно смахивал на околовокзальную знать и при ближайшем рассмотрении раскрывал в себе отнюдь не местные корни. Но Игорь ловил мысли на лету. Он имел сильный среднеазиатский акцент, что, впрочем, не мешало ему знать толк в бюджетных заведениях, которые сам он пренебрежительно именовал «кафеюшками». Двумя энергичными взмахами руки Игорь дал ход компании и направление к одной из них.
Кафеюшка с претенциозным названием «№1» занимала половину первого этажа того же дома, откуда их погнали, только находилась со стороны улицы Восьмого марта, зажатая между магазином тканей и туристической фирмой, оклеенной плакатным глянцем с убедительными лицами иссякающей под южным солнцем многодетной семьи, своей несметностью похожей на цыганский выводок.
«Номер один» вызывала лёгкое сомнение, особенно, когда собрание проникло внутрь. Из подвесных колонок лилась бодрящая попса, из-за которой волновалась и звенела тонкая посуда. Большая муха тяжело и лениво пролетела слева направо, очевидно, ведомая запахом жирного борща, доносившимся из-за кухонных кулис. Тряпка шлёпала о пол, щедро отдавая грязную пенистую воду щербатому кафелю, заплёванному до состояния хронической пятнистости. Народу было мало, поэтому уборка шла полным ходом.
— По мокрому не ходите! — сердито взвыла женщина на ввалившихся с улицы посетителей. С умопомрачительной бабеттой, ею могли бы бредить все советские мужчины. Не хватало только кардинального мини, за которую могли бы исключить из комсомола, и кэжуал-батника с обложки «Эль». Она гневно хлопнула тряпкой, требуя оправдать её надежды на чистый пол.
— Мы по краю, по краю, — согласился Гилленхаал, метя столик, за которым они могли бы разместиться вшестером. Никто не поддержал его затравку и все затопали по-мокрому.
— Зато здесь тепло и вкусно пахнет едой, — развеял он за всех сомнения, примечая подходящий по размерам дальний стол.
Техничка по-детски надула губы, отчего по лицу пошли бурые пятна, делая совершенно неприятным её, в общем, миловидное лицо. Не оправдать надежд — это всегда так неприятно.
Вытянутый полированный стол, заправленный бумажной в узорчик скатертью, окружало шесть стульев. Компания радостно и оглушительно загромыхала ими, выбирая свободные места. Тёплый свет падал от плотных бордовых абажуров, придавая помещению кафе мистический облик, правда, тут же ломавшийся от стекающих по стенам шлягеров Зверей, Билана и Аварии. Они заказали что-то из меню на всех: овощную тарелку, бутерброды с сервелатом, песочные рулеты с вишней и чай, а Гилленхаал решился на половник борща по-украински, галеты по-фламандски и кофе по-ирландски, накинув сверху какую-то остроту про космополитизацию уральской гастрономии.
— По-ирландски, — счёл своим долгом предупредить официант, — это с горячим виски. Таким коктейлем подводят итоги дня — понимаете, да? — заказывают в обед или ближе к ужину. Я могу, если хотите, уменьшить порцию спиртного или убрать её совсем.
— Нет, ты, блин, пожалуйста, не обижай ирландцев, — мягко возразил Гилленхаал, — они старались, подбирали сложные пропорции к рецепту…
— Мы здесь вроде как по делу, — поддержала Нэнси зачин официанта. — Может, закажешь просто кофе? По-русски…
— «Просто» и «по-русски» — это разные кофейные напитки, — вредным голосом сообщил официант. — По-русски — это с водкой, а просто-кофе мы не держим. Есть, — он начал загибать пальцы, — американо, гляссе, двойной чёрный…
— Хорошо, не продолжай, — нервно зевнул Гилленхаал. — Сделай мне аккуратно отредактированную версию ирландского, чтобы это утро было добрым.
— Сделаем, — кивнул официант и, окинув взглядом всю благочестивую компанию, исчез.
— Предлагаю, что ли, познакомиться поближе! — предложила Анна Четвёртая, та, что пришла на встречу раньше Нэнси. Она внимательно осмотрела всех, остановив свой взгляд на Первой.
— Не думаю, что это хорошая идея. Если мы до сих пор не раскрыли наших настоящих имён, то незачем это делать сейчас.
Нэнси начала бодро, но быстро потускнела голосом.
— Все наслышаны о возможном вреде теорий заговора для здоровья? Я хочу сказать, я не параноик, но это вовсе не значит, что за нами не следят.
— Ну, большой брат — это, как правило, реально существующий человек, — сказал Гилленхаал. — Думаете, это официант, зажавший виски?
Он хохотнул.
— Я серьёзно, — надула губы Нэнси. — Всю дорогу меня пас мужик с боковушки. Он не сводил глаз ни на минуту. Ехал с какой-то тонкой папкой, совершенно без вещей. Тоже странно, согласитесь. На вокзале будто бы пропал, исчез в толпе, а потом я увидела его снова. Он караулил у метро. Пришлось даже брать такси.
— Суперагент не будут пялиться на объект слежки и тем самым раскрывать себя, — авторитетно заметил Гилленхаал. — Это в высшей степени непрофессионально. Но, если прикинуть, что это специалист по наблюдениям за девушками и только за девушками, то всё становится на свои места. Скорее всего, это начинающий пикапер, заваливший практику из-за своей природной робости. Вообще привлекательным девушкам часто кажется, что за ними идёт масштабная беспрерывная слежка. Обычно уровень этой масштабности находится в прямой зависимости от степени смазливости объекта, так что, как-то так. Ну, то есть всё логично!
— Ты математик, что ли? — Резким бульдожьим движением Алек вскинул голову и, театрально переигрывая, сально подмигнул.
— Нет, — возразила ему Анна Вторая, — очевидно перед нами не знающий трусости пикап с высоким уровнем прокачанности. Не меньше восьмидесяти.
— Так я же об этом, — расстроился Алек: попытки шутить у него всегда выходили натужными и будто бы неловкими, за которые хотелось извиняться.
— А давайте как-то сконцентрируемся на том, что сказала Первая, — предложила Третья. — В смысле конспирации я обеими руками «за».
— Ну серьёзно, девоньки! Не умножайте сущностей сверх необходимого, — запротестовал Гилленхаал. — Кто из вас слышал про бритву Оккама, а? Это такой фундаментальный принцип мышления, назван в честь философа, жившего в хрен знает какую эпоху. Он гласит: выбирая одну из нескольких гипотез, объясняющих некое явление, надо начинать с самой простой из них, и только убедившись в том, что она не работает, переходить к более сложной.
— Да ты, брат, не математик, ты философ.
— Я наблюдатель. Эмпиреец! — не то в шутку, не то всерьёз сказал Гилленхаал. — Чем больше наблюдений, тем лучше. Мир полон верификациями. Любая ситуация проще, чем вы о ней думаете. Всё, что происходит вокруг, только подтверждает это. Уверяю: за нами нет шпионской слежки. Нет никакого недрёманного ока или большого брата. Есть воображение. А ещё интерпретация. Это даже не инстинктивное желание, а простой детский импульс, который иногда живёт в нашем мозгу.
— Ишь ты, — удивилась Нэнси, — прямо раскрыл глаза на новые истины, скрытые от непосвящённых.
— Ну так, свои люди. Сочтёмся, — снова пошутил Гилленхаал. В этот момент принесли заказ.
Рассыпанные по тарелке тепличные овощи сосуществовали рядом с пошинкованной в кубы мокрой брынзой. Подсыхающие огурцы грустили с подвялыми, сморщенными помидорами. Скромные ломтики финского сервелата пытались прикрыть своими светившими тельцами пластины чёрствого бородинского, и у них это никак не получалось: сервелата был мало, хлеба много. Галеты были слишком пресны, рулеты задерживались, а борщ, по заверению Гилленхаала, был отменным, вот только без обязательной в таких случаях сметаны. Сметаны не было во всём кафе! Кофе — кофе был выше всяческих похвал, впрочем, как и облепиховый чай, который подали в кондовом чайнике из чугуна или какого другого сурового металла. Надо отдать должное, напитки здесь готовить умели, жаль, что на этом превосходство заведения «Номер один» преждевременно иссякало.
Общая, но не очень качественная трапеза не способствовала сплочению коллектива. Она разожгла в нём творческий азарт, но повела разговор в отнюдь не самое угодное русло. Когда сообщники заглянули друг другу в глаза, они по-прежнему не знали, что им обсуждать, и немедленно подвели самих себя к неплодотворному флейму. Пока он был в рамках квакообразующего сабжа, но уже попахивало приближением чего-то эпичного и запредельного.
— Текст здоровый, гад, и сильный, как носорог, — высказывался Алек, доедая бутерброд и запивая его чаем. — Этот Рушди, надо признать, способен метать перуны по такому поводу, что закачаешься.
— А, по-моему, какая-то производственная труха! — Гилленхаал разомлел от кофе, его щёки пылали алым. — И всё же необходимо отдать должное исламу с его концентрацией внимания на злости. Как легко её почувствовать, но как трудно выразить, не так ли?
— Кое-что из того, что мы считаем злом, в действительности оказывается добром, — не согласилась с Гилленхаалом Анна Четвёртая.
— И наоборот, — лениво растягивая слова, ухмыльнулся Гилленхаал. — Определения добра и зла, которые дает ислам, основываются на дихотомии. Такая бескомпромиссность является особенностью религиозного образа мысли. Если доводить его до логического предела, конечно.
Он помолчал и неопределённо присовокупил:
— Так что Рушди либо маньяк, либо пророк, но уж точно не писатель.
— По-твоему, маньяки или пророки не могут писать хорошую литературу? — Алек растерянно остановил рассуждения другого Алека.
— А, по-твоему, могут? Слушай, ты либо маньяк, либо пророк, либо поэт. В противном случае, получаются деривативы — производные от производных, а это невозможно. У хорошего поэта всё уходит в поэзию, у пророка в проповедь, а у маньяка в оргию. Как бы это объяснить на пальцах? Ты не можешь мутить всего понемногу, расплачиваясь за это всем подряд.
— Расплачиваясь с кем? — не поняла Анна Четвёртая.
— Ёпт, да не знаю… с судьбой, эпохой, со смертью. Ты всегда кому-то должен. Разве нет?
— Значит, — уточнил Алек, — по твоей схеме, и математик быть переводчиком не может?
— Да не математик я… вот пристал же, — скислился Гилленхаал. — Я лейтенант-историк.
— Во даёт! — удивился тот. — Это как?
— Почил в неравной борьбе с чугуниевой жопой перемен, попав по распределению на военную кафедру истфака ЕГУ.
— А английский? — не поняла Третья. — Откуда так хорошо знаешь английский?
— Откуда, откуда… оттуда! Книжки умные читаю, называются учебники.
— Ну и зачем тебе английский, лейтенант-историк? — спросила Вторая. — Для совращения интуристочек?
— Фу на тебя, — обиделся (или сделал вид, что обиделся) Гилленхаал. — Чтоб ты знала, изучение английского способствует индивидуализму. Изучающий другой язык более склонен к личной независимости. Это такой антидот, чтобы не отравлять организм единообразностью военных масс.
— Да, — усмехнулся Алек, — вооружённые силы в этом смысле силы ещё те.
— Вообще, суверенность у меня на уровне, а вот с целеполаганием — напряг.
Гилленхаал пощёлкал пальцами и неожиданно загрустил.
— Даже если ты маньяк, но маньяк первостатейный, что называется от бога, после тебя что-то останется — в ноосфере, в истории, в мировой культуре, это по-любому. А вот от меня ничего не останется. Нет такого дела, за которое я бы боролся до последнего. Есть только решение насущных проблем, а этого для истории как-то маловато.
— Ого, да у нас тут затесался кто-то с честолюбием, — подколола Вторая. — Ни в коем случае не поднимай свою самооценку, иначе звёздной болезнью себя обеспечишь всерьёз и надолго.
— Спасибо, мать. Можешь поддержать!
— Всегда пожалуйста… сынок.
Окунева деликатно молчала всё время пикировки. Зеркало в шкафу, поставленное для гардероба, отражало их компанию. Нэнси осмотрела своё отражение. Вот она: девочка тонкая, образованная, из хорошей семьи. Стиранный свитерок стягивает узкие лопатки. Что же она здесь всё-таки делает? Повстанцы, шахиды, запрещённая литература, священная война… Удручённость на грани замешательства. Это точно её? То ради чего она кажется смелой, героически перешагнувшей кризис и нашедшей дело, за которое готова бороться. Готова ли? Или она только кажется смелой, а на самом деле её симптоматика сильно схожа с симптоматикой Бориса Ильича? Может она, как и Алек Первый только решает свои насущные проблемы…
Она откинула со лба волосы и провела пальцами по щеке, уткнулась взглядом в снежный узор на скатерти, не в силах поднять глаз. Беспокойство распирало её. Как могла, разбавляла чернильный мрак, зарождавшийся в глубинах души, бодрилась, убеждая себя, что беспокойные брожения — результат утомления, изнурения работой, а вовсе не дезориентированных орбит убеждений, её образа мыслей, символа веры, не признак чутья, что всё идёт не туда и не так. Внутреннему голосу она, правда, давно заслуженно не доверяла, однажды сделав на его счёт неутешительные выводы, но от этого сейчас ей не становилось легче. Она ощущала почти физически внутри себя силовое поле с постоянно растущей напряжённостью. Странно, но оно — поле беспокойной силы — действительно было ощущаемо органами чувств и даже имело собственный запах — запах вишнёвых косточек. Невинный аромат, за невинностью которого скрывался тяжёлый дух смертельной синильной кислоты.
На середину стола водрузили тарелку, сильно смахивающую на селёдочницу, с выложенными по периферии песочными рулетами с вишнёвой начинкой.
— Наконец-то приехали рулетики, — обрадовалась Вторая. — Налетай, народ.
— А нам бы счёт сразу, — попросил Алек, и официант понимающе кивнул, заскользил через весь зал к кассовому аппарату, предупредительно огибая островки вымытого пола.
Хлопнула дверь. По только что отмытой плитке затопали тяжёлые подошвы.
— Твою мать… — казённо-нудным тоном проворчала истомлённая сизифовой работой царица марафета. Наклоняясь под низкой притолокой, она оторвала дородный зад от дверного проёма, ведущего на кухню, и приняла угрожающую позу. Когда по трижды натёртому тобой полу проходят ботинки 45-го размера с налипшей на подошвы грязью, сложно сдержать внутренний голос, производящий с десяток нецензурных выражений. Парочка, нет-нет, да и прорвётся наружу.
— Мужчина, блять, ну ноги надо вытирать! Не у себя дома!
Аффективная фраза чрезмерно возбудимой дамы со шваброй не могла ни привлечь внимание Клуба. Все, как по команде повернули головы в сторону отчаянного удальца, рискнувшего пробраться без бахил на территорию девственно-стерильного порядка. Мужчина улыбнулся глазами, как бы извиняясь перед всеми, и всем стразу стало понятно, что перед ними не удалец, а просто лузер-залепушник.
— Кто-то хочет попасть в историю? — неожиданно рассмеялся Алек, намекая на Гилленхаала и поглядывая на него. — Вот чувак реально влип!
— У него есть шанс, — принял шуточную эстафету Гилленхаал. — Он пока на этапе изи: слишком просто, справится любая школота. Надо всего лишь горячо извиняться. Не меньше трёх раз. Искренно!
— Да, но одна неосторожная фраза с его стороны, одно-единственное слово, брошенное без должного чистосердечия и прямодушия — и будет мортал комбат.
— Да, — согласился Гилленхаал, — тогда его спасёт только коленопреклоненное покаяние — добровольное и смиренное. Никак не меньше.
Сидящим за овальным столом понравилась весёлые экспромты Алеков. Все, кроме Нэнси, засмеялись. Нэнси не смеялась. Вошедший ей был знаком. Это был сосед с боковушки. Тихий, промолчавший всю дорогу и не сводивший с неё глаз — человек невысокого роста с загорелым на всю жизнь лицом, обильно сдобренном морщинами. Его возраст был невнятен, неопределяем. Можно дать пятьдесят, а можно тридцать пять. Нэнси почему-то решила, что внешность вошедшего характерна для матёрого формалиста — передвигался он с ленцой, под мышкой зажата папка. В какой-нибудь администрации района он бы смотрелся как родной. Она поймала его уплывающий в сторону взгляд и странную гримасу с мгновенным фокусом на ней, едва он обнаружил их компанию.
Страх, по-видимому, одного возраста с человеческим существованием. Он изменчив, разнообразен и способен к самым нелепым градациям и претворениям. Самое вертливое из них, но и самое беспритязательное, пожалуй, паника — что-то безотчётно-инстинктивное с болезненной стигматизацией — клеймением стращанием. Приступ окутывает точно огромное одеяло, моментально заявляя свои права на собственное первородство и первозначимость. Это как попытка двигаться в цементном растворе, который уже густеет, превращаясь в монолит.
Нэнси вдруг показалось, нет, она точно поняла, что страх и прежде был рядом — всё это время, все шесть месяцев. Шелестом страниц, шёпотом слов — всем этим интершумом она активно наполняла глухую ватную пустоту, чтобы не думать о нём ни секунды, ни мгновенья. Она ещё могла предположить, что это просто совпадение — дикое, досадное, случайное. Она знала, что так не бывает, то есть бывает, но случайное стечение всегда закономерно. Ей нарочно хотелось поддерживать связь с глубинным пластом бесконечных возможностей, практически подводя её к границе, после которой подножная действительность превращалась в действительность подделанную прихотью воображения. Нэнси снова думала о кино. Сейчас ей очень-очень хотелось быть по ту сторону экрана. Чтобы удобнее усесться с ведром попкорна и сделать звук погромче, ведь впереди маячила сцена допроса красной партизанщины фашистским полицаем. Полицай, конечно, прикинется своим парнем, угостит трофейным шоколадом (вот он взял коробку конфет, чашку кофе и неспешно направляется к их столику) и заговорит с ними на ломаном, но понятном зрителю языке.
— Добрый день! — поздоровался человек. Он подхватил с соседнего стола стул и без разрешения втиснулся между Гилленхаалом и Нэнси. — Ребята, нейтральную полосу, конечно, вы выбрали, скажу я вам… Конфеты хотите?
«Полицай» растягивал слова, отчего его разговор ещё больше походил на постановочную роль не слишком усердного актёра. Он раскрыл коробку и показал пример: отправил в рот сливочную ириску, облитую глазурью.
«Ну вот, — подумала Нэнси, — а сейчас этот гестаповец сбросит маску, жадно отнимет шоколад и начнётся то, ради чего зритель делает кассу кинозалам в уик-энд».
— Вы помните, — обратился он к Окуневой, — Глеба Артемьевича?
— Кого? — не сразу сообразила Нэнси, но тут до неё дошло. — Вангога, что ли?
Человек осторожно потёр руки, зыкнул молнией и забрался в папку. Извлёк оттуда визитку и небрежно бросил её на стол.
— Есть интерес к вашей работе. Созвонитесь. Он очень просил.
Нэнси бросила взгляд на прямоугольник вощёного картона. Это была странная визитка. Без фамилии и имени владельца. Только обезличенный московский телефон и ниже, на белом фоне, надпись: «Центр «Т».
Глава 16. ИЗУМЛЕНИЕ
В районном ОВД, куда после задержания доставили Нэнси, её встретил невысокий лысеющий блондин с ухоженной дощечкой нафабренных усов над обветренной губой. Ассоциации культовых усиков напрашивались вопреки желанию: хотя Гитлер и сделал свои усы позорными на много лет вперёд, их обладателю — московскому силовику — они определённо шли. Вкупе с капитанскими звёздами и тяжёлым лицом, не обделённым властью, они смотрелись критически. Крадущейся походкой он молча препроводил Нэнси в кабинет, у которого томилась заплаканная женщина с впечатляющим баварским декольте.
— Сергей Максимович… — начала она, но капитан сурово зыркнул на неё глазами — от этой суровости змеятся трещинами стены, а хрупких с виду созданий разбирает паралич. «Баварка» гендерных стереотипов решила не ломать: она оцепенела, стала неподвижной и будто бы слилась со стеной. Капитана это немного растревожило. Он смягчился и снизошёл до раздражённого ответа.
— Иди, Люба, не до тебя сейчас. Видишь, я работаю.
Женщина перевела туманные, в подтёках туши глаза на Нэнси.
— Вижу, — сказала она и беззвучно рассмеялась. Смеяться ей было больно. Левая скула оплывала неумело замазанным лиловым синяком.
Капитан тут же забыл про Любу, отпёр дверь ключом и пропустил вперёд задержанную Нэнси.
— Садитесь, пожалуйста, — предложил он, указывая на стул посреди комнаты, задвинутый за узкий, похожий на лабораторный стол.
Столешница была исчиркана, исколота вдоль и поперёк следами неизвестного происхождения, будто кто-то резал колбасу без разделочной доски прямо на столе. Тогда несохранённый официальный статус-кво крышки канцелярского стола показался Нэнси неясным. Замагнитезированная бурными, в известной степени важнейшими событиями памятного дня, она догадалась гораздо позже, прокручивая все особины и тонкие различия истории, сильно позднее. Задержанных в кабинет к капитану доставляли закованными в наручники. Сама же счастливо избежавшая участи, она не смогла этого осмыслить так же, как сытый человек не может осмыслить голодный спазм желудка или понять его причину (причин-то нет). В этом смысле многозначное понятие свободы очень близко к чувству голода, вернее, к его отсутствию. Чтобы понять, почувствовать свободу, покатать на языке её ужористый и толстомясый смысл, нужно попасть под ограничение, под урезку этих самых ощущений. И в этом смысле незамысловатые устройства в виде двух защёлкивающихся зубчатых колец с замками на запястьях как нельзя лучше срезают дистанцию между возможностями выбора, сводя их, по сути, к одному или двум, никак не коррелирующим с волеизъявлением окованного, даже самим правом на него. Экзистенциальное понимание этого пришло к Нэнси без стальных браслетов. Она была здравомыслящим человеком с вполне себе трезвой оценкой ситуации, поэтому выбор, продиктованный капитанской волей, исполнила в точь: выдвинула стул и послушно села. Сидела серьёзная всё время, как на экзамене, и даже не пыталась улыбнуться. Для улыбок поводов не было.
С другой стороны стола, где обитало капитанское кресло с высокой рельефно формованной спинкой, обтянутой скрипучим дорогим кожзамом, стоял принтер, монитор, а под столом мирно, но настойчиво жундел системный блок включённого компьютера. Капитан стянул пиджак и швырнул его на спинку кресла, пощёлкал мышью и погрузился в экран, надолго забегав утомлёнными глазами по недоступным взору Нэнси строчкам.
У Нэнси появилось время осмотреться. Комната, оклеенная флизелиновыми обоями под покраску, оказалась просторной, но какой-то тускловатой. Скрадывали свет навешенные на окна толстые решётки с той стороны и пылесборные шторы плиссе с этой. Да и сами обои, так и не окрашенные, вобравшие со временем в себя зеленоватую серость бюрократического абсолютизма, словно отнимали у пространства свет и воздух. Пятирожковая люстра, горящая под самым потолком даже в дневное время, придавала лоска, но не выправляла ситуацию с тюремно-кабинетным сумраком. Минуя гамады комнаты с россыпью булыжно-мостового интерьера, можно было напороться взглядом на самые крупные её образчики: архивную секцию во всю стену, заваленную документацией, продавленный диван с широким подлокотником, старый советский сейф — распахнутый. И что-то помельче: журнальный столик с затрёпанной подшивкой «Playboy», кубышка замысловатой тумбы с телефонным аппаратом и в тон ему огнетушитель положенного цвета пламени, зачем-то постыдно вложенный в корзину с мусором.
Взгляд Нэнси упирался в сейф, в то время как архив располагался сзади. Несгораемый короб из стали толщиной в палец отслуживал свой век не по назначению, выступая в роли вместительной шляпной коробки — капитан запульнул в него своей фуражкой.
Расправившись с постылым головным убором, он размассировал пальцем красный следок, похожий не на извилину, как в известном анекдоте, а на полунакальный нимб с подсевшей батарейкой, степенно прошёлся к окну и неприязненно глянул на здание Музыкального театра, стоящего напротив. Воздев кверху рюшину, он опустил дремучие от пыли бумажные плиссе, словно соседство с культурными потенциями вызывали у организма капитана нехорошие реакции.
— Давайте, начинайте, — сказал он, поворачиваясь к ней, — только без давления коленом на слёзную железу.
Капитан открыл дорогу нелёгким объяснениям, но здравомыслие и трезвая оценка подсказывали Нэнси гневно отвергнуть приглашение к беседе, смахивающее (более всего тоном) приглашение на казнь.
— Послушайте, никакие показания я давать не буду.
Голос, не обкованный сталью (как не храбрилась Нэнси), вышел непомерно тонким и жалостным.
— Так вы не желаете ничего рассказывать? — внезапно с подозрением спросил он — подозрение уже входило в квалификацию, приобретённую капитаном в стенах кабинетов, среди папок.
Она не сказала — выкрикнула на высокой, едва ли не истеричной ноте:
— Мне сказали, я не задержана. Предложили проследовать в отделение для профбеседы.
Видно было, что капитан утомлён заведомо. Он отошёл от окна, сел в кресло и ловко выдернул пару чистых листов из принтера, пустил по столу в коротенькое путешествие.
— Давайте поступим таким образом. Я попрошу вас изложить на бумаге, как всё было. С ваших слов…
— Я оказалась там случайно.
— Я разве спорю? — спросил и себе же сам ответил: — Не спорю. Я не прошу имена тех, что взбунтовал вас в оппозицию…
— Вы дурак, — полувопросительно сказала Нэнси и посмотрела на блюстителя закона. — Загляните в паспорт, который вы отобрали у меня. Полистайте любопытства ради…
Капитан скривился, как будто у него заболели все зубы разом.
— Уже полистали, Анна Николаевна.
— Что ещё полезного вы извлекли оттуда, кроме имени-отчества? Ну, например, может, заметили мою прописку и убедились, что я в вашем городе проездом? Неужели вы думаете, я специально приехала, чтобы участвовать…
— А неужели вы думаете, — перебил капитан, — что регистрация со штампом в паспорте в вашем случае что-то опровергает? Вы знаете, сколько людей зарегистрированы в одном месте, а фактически проживают в другом? Каждый пятый. Каждый пятый в стране уже правонарушитель.
— Я живу по месту регистрации, а Москву посещала с целью покупки коллекционной вещи.
— Какой вещи? — не без интереса уточнил Сергей Максимович.
— Это кукла. Её изъяли у меня в отделении вместе с паспортом и личными вещами.
— Товарный чек имеется? Или хотя бы кассовый.
— Нет, конечно. Я покупала у частного лица.
— Допустим. Гостиничный чек предъявить сможете? Вы где остановились?
— Нигде. Я приехала сегодня.
— Допустим. Значит можете подкрепить свои слова проездными документами.
— Билетом? — растерялась Нэнси. — Я… я его не сохранила.
— Как у вас удобно всё… и предсказуемо, — устало протянул капитан, всем своим видом показывая слабость своей веры в такую версию.
— Да что вы в самом деле издеваетесь! Я и подумать не могла, что так всё обернётся. Но я ни в чём не виновата.
— Вы не подчинились законному распоряжению сотрудника ОМОНа. Уже только одно — это! — можно вменить вам в вину. Зачем вы побежали?
— Я испугалась. Мне стало страшно. Всё случилось слишком неожиданно.
— Да, именно так и работает наш поток чувств. Спонтанно!
Капитан покивал на бумагу.
— Об этом напишите. Про спонтанность своих страхов. Без бумажки вы букашка, а с бумажкой — человек. Пишите, Анна Николаевна, пишите! Это в ваших интересах.
— Я ни в чём не виновата, — тупо повторила Нэнси и упёрлась взглядом в щербатую, посечённую бороздами столешницу.
Капитан сорвался с места и зашагал по комнате, заложив руки в карманы брюк и оттопырив их до неимоверности.
— Почему нет, — легко и неожиданно согласился он. — Например, мне вы очень симпатичны и даже кажетесь уважающей закон. Но я не готов проникать с ходу под шелуху поверхностного впечатления. Не имею права.
В дверь тихонько постучали.
— Товарищ капитан, — в дверной проём заглянула голова дежурного. — Тут к вам…
— Товарищ лейтенант, — в тон ему, но с солидной долей раздражения ответил капитан, — меня заела такая постановка. Я сказал, Любу ко мне на пушечный не подпускать. Смирите норов бабёнки, иначе еёные проблемы…
— А чем это вам не угодила Люба? — В кабинет, оттиснув в сторону дежурного, продрался Иванголов — искрящийся, сияющий — и подмигнул Нэнси.
— Лейтенант, — взревел капитан, — ты попутал? Почему посторонние?
— Он не посторонний, товарищ капитан, — обиделся дежурный.
— Я не посторонний, товарищ капитан — подтвердил Глеб и распахнул удостоверение личности. — Как раз наоборот. Я уполномочен действовать в интересах вашей задержанной. — И уже Нэнси: — И за какими чертями тебя занесло на эти галеры?
Ловким движением он захлопнул документ и убрал в карман. Нэнси успела отметить про себя, что пока они не виделись, Глеб изменился: избавился от джинсов и бейсболки и обзавёлся зауженными слаксами и пиджаком с узором «в ёлочку». Натянул даже галстук, темный, в мелкий неброский горох, небрежно заправленный в сорочку между второй и третьей пуговицами. На запястье, перетянутом полоской буйволовой кожи, поблёскивал гранёный кристалл чудовищно крупного циферблата наручных часов.
— Управление «Т»? — осёкся мент. — А у меня всё хорошо.
— Кто это вам соврал, Сергей Максимович?
Капитан устало вздохнул, утомлённый (удивлённый?) не столько обстоятельством появления гэбешника, сколько самим фактом его интереса к задержанной.
— Уполномочены кем?
— Подполковником Гарибацхелией.
— Мне эта фамилия ни о чём не говорит.
— А и не должна! Для любого мента есть только одна фамилия — и это фамилия начальника его отдела.
Глеб достал из кармана листок факса, спешно, а потому неаккуратно сложенный несколько раз, и показал его стражу порядка, при упоминании презрительного слова «мент», медленно наливающемся злобной краской.
— Узнаёте подпись, Сергей Максимович? Вижу по глазам, что узнаёте. Теперь читайте распоряжение своего непосредственного руководства.
Капитан рассеянно изучил документ. Уязвлённый, вспыхнул, полуобернулся, выпуская пар на подчинённом.
— Дежурный! Заняться нечем?
— Никак нет, — ответил лейтенант и пожал плечами. — Разрешите идти?
— Иди, лейтенант. Нет. Стоять. Костелевский на месте?
— Так точно.
Сергей Максимович подошёл к низкому столику, схватил трубку телефона и трижды поводил пальцем по диску, набирая внутренний номер.
— Товарищ майор, здравствуйте, — после некоторой паузы не сказал — рявкнул в трубку он. — Маевский беспокоит…
На том конце перебили, потому что капитан, внимая, затих. Было слышно, как монотонно попискивает механическим голосом динамик трубки.
— Семён Степаныч, — попытался возразить Маевский невидимому собеседнику, но трубку уже бросили — послышались короткие гудки.
— Ещё вопросы есть? — улыбнулся Глеб.
— Есть… парочка. Давайте выйдем в коридор. — Капитан прихватил Глеба под локоток и потянул к выходу. — Лейтенант, пригляди за задержанной.
Несостоявшийся злодей Сергей Максимович до того застращал молодого лейтенанта, топтавшегося в ожидании внятного приказа, что, наконец, получив его, тот обрадовался, как ребёнок.
Глеб постарался высвободиться из цепкой хватки Маевского, но у него ничего не вышло — тот сцепил пальцы ещё сильнее.
— Хорошо, давайте выйдем, поговорим, — был вынужден согласиться он под натиском Маевского.
Отринув церемонии, лейтенант переместился в кресло капитана с высокой спинкой, безмятежно и лениво растянулся в нём, поскрипывая обивкой, прикрыл глаза. Но уже через минуту требовательно затрезвонил телефон, и дежурный, вспорхнув, бросился выслушивать чьи-то указания, стреляя в Нэнси многозначительными взглядами.
— Вы можете быть свободны, — сказал он, кладя трубку на рычаг.
— А мои документы? Вещи?
— Ай момэнт, — сказал он, увлекая Нэнси за собой, — сейчас всё будет.
От лейтенанта сочно пахло лошадиным потом. У дико протопленной калориферами дежурки, пропитанной ровно тем же нестерпимым ароматом, дожидался Глеб. Капитана Маевского нигде не было видно.
— Мы можем идти! — сказал Глеб Нэнси. — Я договорился.
— Пусть мне вернут Эмилию.
Хрустя упаковкой, в котором покоилось полиуретановое тельце шарнирной куклы, стойко перенесшей задержание, Нэнси вышла вслед за Глебом через металлическую дверь, обшитую крашеной в коричневый вагонкой. Басовито зарычала пружина и хлопнула дверь, отделявшая один мир от другого, словно некие врата, открыть которые (и закрыть тоже) волшебным «сим-симом» удавалось особо приближённым к Али-Бабе и сорока его разбойникам.
Короткий весенний день уж таял в московском бледном небе. Стремительно темнело. Зажигались фонари. Повсюду под напором караванов транспорта на пропёкшемся от красных стоповых сигналов асфальте глохло движение. Чёрная, лаковая как козырёк фуражки капитана Маевского иномарка вынырнула из автомобильного потока, и крякала сиреной, тщательно стараясь прибиться через двойную сплошную к Тверскому РОВД. Она была похожа на дизельную субмарину — гигантскую, горбатую, тяжёлую, стрекочущую жирными клубами дыма. Автомобиль вытянул пятиметровое холёное тело перед Нэнси и замер истуканом.
— Карета подана, — сказал Глеб и клацнул дверным замком. — Прошу!
Нэнси удивлённо протиснулась на заднее сиденье. В нос ударил салонный запах нового автомобиля со скипидарно-кисловатым привкусом. Пахло кожей, воском и жарким запахом орехов с подпаленной скорлупкой. Водитель — крепыш лет сорока, обычный, из тех, что забивают по дворам «козла» — нетерпеливо кинул в Нэнси короткий взгляд и показалось, на какой-то миг, ей подмигнул (смахивало на шаловливое подёргивание веком).
— Классная кукла! — сказал он Нэнси и поймал в зеркале глаза шефа. Его лицо стало безысходно беспристрастным. Как если бы его очеловечивание (пусть даже это был обычный флирт) оказалось аналогом для заговаривания неизвестного и непонятного, коим Нэнси, очевидно, являлась для него. Заполнение среды начальством выключило насущную необходимость охранительного заклинания.
— Давно сформулировали, — у шофёра был низкий уверенный голос, — ничто в жизни не бывает так хорошо, как люди обычно представляют.
— А ты это к чему, Владик?
— С некоторых пор этот парадокс завораживает меня своей абсурдностью. — Он снова глянул на Нэнси и неожиданно обратился к ней: — Так вот, к слову о парадоксах: наверняка свой день Анна Николаевна представляла иначе.
«А это не водитель», — вдруг с тоской подумалось Нэнси. Она не знала, как реагировать на эту фразу, потому просто кивнула. Встречная машина рванула тяжёлым ветром по стёклам, и Влад отвлёкся.
— Честные московские бомбилы! Ты смотри что вытворяют, — шутливо пожурил он лихача, двинувшем по встречной. — Даже близости ментуры не боятся. А чем мы хуже?
Он дёрнул машину излишне шустро и принялся петлять между рядов, ища свободные проулки, стараясь как можно скорее покинуть заколлапсированный центр.
Глеб поправил локон Эмилии и посмотрел на Нэнси:
— Рад тебя видеть!
Он хотел приобнять её, не задушить в объятиях, нет, а именно обнять, как старую знакомую, но Нэнси тактично уклонилась.
— Я тоже, — ответила она. — И спасибо за помощь!
Иванголов замкнулся, помрачнел, хотя и старался внешне сохранять непрошибаемую нерушимость духа.
— Вы правильно сделали, что позвонили моему коллеге, — бесцеремонно встрял Владик. — Это безмозглое чешуйчатое вцепилось в вас зубами и не хотело отпускать.
— Это Владик про Маевского, — поспешил объяснить Глеб. — У капитана слишком разыгралось воображение. Он усмотрел в тебе бесстрашную деву-воительницу национал-большевизма и решил воспеть в своих очерках твою героику.
— Бесстрашная дева-воительница?
— Валькирия. Это сами лимоновцы придумали так называть своих «лимоночек». Капитан думал, ты одна из них.
— Из-за куклы.
— Маевский, — снова нагло влез в разговор Влад, — разглядел в ней символ провокации. Так уже было в две тысячи шестом. Лимоновцы смастерили..уёвину с башкой на палке. Типа бибабо. Намалевали транспарант «Ты пустая голова с отверстием под палец» и ходили с ним по улицам. Менты внимания не обратили, даже не сделали внушение. А на следующий день вся эта жирующая шкодла собралась перед Минфином и устроила травмирующий инцидент с захватом здания. Много погонов было сложено в тот день, и не только ментовских…
Влад заговорщицки подмигнул. Теперь уж очень очевидно. Только не Нэнси — Глебу.
— Он подумал, — продолжал он, — вы провокаторша. Или ему кто-то наплёл в уши, и он поверил. Человек он возбудимый, нервный, его вера легко переходит в уверенность.
— Мне он показался спокойным…
— Любе это он припечатал, — возразил Глеб.
— Господи! Это его жена?
— Нет, мамка.
— Как? — не поняла Нэнси.
— Да не в том смысле, — ухмыльнулся Владик, — она бандерша.
— Но ведь тоже женщина! — встал на защиту Любы Глеб. — Маевский любит почесать кулаками. У него же все костяшки сбиты в кровавые мозоли. Таким людям денег мало, им власть подавай. Он молодой, рьяный, уже капитан, и на майорские звёзды засматривается. Как пить дать, через годик-другой займёт место Костелевского. Костелевский мягкотелый, а вот с Маевским договориться будет сложно…
— Ага, — поддакнул Влад, — начальник крышует местных проституток, а капитан типа разводящий.
— Откуда вы знаете?
— Работа у нас такая, — пожал плечами Владик, — всё про всех знать. В том числе про женщин, детей и стариков.
— Что это за работа такая?
— Вот Глеб клан питерских на Лубянке пополнил не просто так. Он расскажет.
— Отлично, — недовольно заворчал Глеб. — Мы же договаривались, Влад, я сам!
— Тоже мне Сам Самыч нашёлся, — отмахнулся тот и перешёл на нарочитый официоз: — Проблемы командообразования нашей организации чужды, Глеб Артемьевич. Кому отвинтить башку, а кому доверить штурвал — это завсегда коллективно решалось. А где коллектив, там протекция. И протеже. Только все что-то открещиваются, боятся признать себя чьим-то любимчиком. Сплошной инфантилизм: сам, сам! Всё сам! Отдельная песня, достойная исполнения «на бис». Верно говорю?
Глеб заёрзал, ссутулился, поднял глаза и с укоризной покачал головой, требуя:
— Останови. Дальше мы сами доберёмся.
— Сами доберёмся, — передразнил Владик. — Вот и я о том.
Со своей бешеной манерой вождения он резко вывернул руль вправо и ударил по тормозам. Пригладил и без того безупречно лежащие волосы, показал на дверь.
— Что это сейчас было? — оторопела Нэнси, когда вороная субмарина туго ударила в поток автомобилей и ушла в него, словно под воду, оставив её и Глеба посреди захлёбывающегося светом московского бульвара.
— Зависть, — пожал плечами Глеб. — Ничего, нормально, привыкаю. Это после определённой границы патология, а в каких-то пределах обнаружится у каждого. Забудь! Он свою роль исполнил: помог вытащить тебя. Без него никак не вышло бы, я пока здесь, как говорят, стартующий.
— И уже завидуют?
— Москвичи не любят приезжих, особенно из Питера, а Владик, он москвич. Он привык делить людей на категории: мы/они, свои/приезжие. Пока я здесь чужак, и не только для него.
— Так это не зависть, — возразила Нэнси, — это соперничество. Для него ты соперник. Выбил лакомое место, используя, с его точки зрения, нечестные методы, и вот теперь с шашкой наголо вызываешь ненужную конкуренцию в и так уж нерезиновой.
— Тогда уж называй все вещи своими именами: предвзятое отношение. Но и это нормально, учитывая специфику нашей работы. Он пять лет без малого отдал конторе. До этого два года отколбасил в ВДВ. А я? В их отделе без году неделя, я могу его понять.
— Контора — это ФСБ? — уточнила Нэнси. — А я думала, ты биржевой трейдер.
— Слушай, нам есть о чём поговорить, но… давай где-нибудь в другом месте, — предложил уклончиво Глеб, вытянул руку и начал ловить машину прямо с обочины. — У тебя когда обратный поезд?
Нэнси приподняла в изумлении бровь.
— Ты страшный человек, Иванголов. Видишь меня насквозь, а я при этом ничего не замечаю.
— Не замечаешь и не чувствуешь, — поддакнул он полушутя-полусерьёзно. — Не человек — рентген!
— Рентген тоже был когда-то человеком, — поддержала она его игривую манеру. — Билет я ещё не покупала, но завтра я обещала быть дома к ужину.
— Отлично! — обрадовался Глеб. — Если самолётом, то можно вылететь завтра. Успеешь даже к обеду!
— Ишь чего удумал! Никаких завтра и никаких самолётов. У меня деньги только на плацкарт. Я, как и ты, к фондовой бирже отношения имею мало. От слова «вовсе». Я не успешный маклер, а всего лишь честный пролетарий на вольных хлебах.
— Точно, фриланс на хлеб не намажешь! — добродушно согласился Глеб. — Вот об этом я и хотел с тобой поговорить. Есть одно местечко, туда не попасть без записи, но я могу договориться…
— Помнится ровно теми же словами, — воскликнула Нэнси, — ты безуспешно увещевал нас с Ленкой в какой-то портовый кабак…
— Не портовый кабак, а первоклассный ресторан, — обиделся немного Глеб. — А ты злопамятная! Это хорошо! На этот раз всё будет иначе.
— Нет, покорнейше благодарю. Хотя последнее, чем я питалась, был манговый нектар натощак и утром, мне совершенно не хочется есть. Наверно, это нервы, хотя обычно у всех наоборот.
Нэнси произнесла это с большей уверенностью, чем внутренне ощущала.
— Кто сказал, что я поведу тебя кормить?
— Нет? Это так мило! Но тогда куда?
Вся толща воздуха вокруг Глеба внезапно засветилась слепящим ирисовым сиянием. Словно аура, оно закутала его в кокон сиреневатого эфира. Белое такси помигало дальним светом и остановилось в двух шагах от Глеба.
— Чтобы быстро найти машину, нужна истинно московская уверенность в себе! — похвастал он и наклонился к отползшему стеклу: — Командир, до Остоженки на угол Лопухинского переулка меня и эту очаровательную девушку подкинешь?
Таксист отчётливо неславянской внешности был худощав, даже костляв, как отметила про себя Нэнси. Он с остервенением грыз спичку.
— Да-да, уай, кидайтесь. Мигом буду.
Не обманул. Нэнси поняла, что Владик в сравнении с Фаридуном (названный таксист — болтливый как какаду) прилежный почитатель правил дорожного движения. Оранжевые шары уличных светильников покатились стремительно назад, точно заводные апельсины. Они ехали не быстро, а очень быстро — и это было странно, потому что пассажиры всем видом показывали, что не спешат. Как добавила бы Нэнси: от слова «вовсе». Но очевидно спешил сам Фаридун. И очевидно, учитывая количество предаварийных ситуаций, возникших на дороге по его вине — на тот свет.
— Нельзя ли ехать чуть помедленнее! — набралась смелости и попросила Нэнси.
— Зачем ехать? Мы на месте! — засмеялся Фаридун и затормозил возле роскошного барочного фасада трёхэтажного здания, из-за которого эклектично выпирала симметричная кубическая пристройка, похожая на стеклянную оранжерею. Чётко вылепленная на фоне беззвёздного неба, она возвышалась ещё на добрых три или четыре этажа вверх, задавливая своей обширностью передний план оштукатуренного в телесные тона фасада. Глеб расплатился с водителем и, стремительно обежав машину сзади, галантно распахнул дверь, чтобы помочь Нэнси с Эмилией на руках выбраться наружу.
Интерьер здания, куда через главный вход соскользнули молодые люди, было слишком бел, гранён, квадратен, слишком антропологичен: люди сновали по этим квадратным белым граням в самых различных направлениях. Нэнси не желала расставаться с обретённым чувством опасности, было потерянным при появлении Глеба. Гигантские последствия от встречи с капитаном, рассмотревшем в ней бесстрашную валькирию, ещё громоздились в туманных перспективах не желавшего никак заканчиваться дня, и Нэнси уже начинала себе смутно что-то представлять, что-то, что не могло и не гарантировало отката к некой безопасной квоте в рамках безмолвных, пока невысказанных Глебом соглашений. То, что он всё это делал не просто так, она уже почти не сомневалась. Спустя время Нэнси продолжала помнить отчётливо то ощущение, то странное волнение, которое в кино изображается многозначительными, немного интригующими, но больше, конечно, бесконечно будоражащими звуками, похожим на вкрадчивый немелодичный лязг. Место, куда привёл её Глеб, было самоубийственно иррациональным, непостижимо трансцендентным. Сам интерьер выходил за пределы масштабов её мышления. Он пугал, смущал и заставлял отводить взгляд. Более всего недра странного дома напоминали некое правительственное или партийное сооружение, но Нэнси на этот счёт крепко ошибалась.
— Ольга Львовна! — Глеб потянул Нэнси за руку, увлекая куда-то в гущу людей. — Добрый вечер!
Немолодая женщина, окликнутая Глебом, кивнула в знак приветствия и продолжила слушать невнимательно собеседника, похоже иностранца, то и дело скорбно поглядывая в бокал с шампанским, крепко стиснутым в худых, нежнейших пальцах с бледным маникюром. Вечернее платье с корсетом и пышной юбкой подчёркивало талию. Боа из перьев мягко лежало на тощих, оголённых вырезом «кармен» плечах. Живые, сверкающие янтарём глаза прятались за стёклами сильно бликующих очков в тончайшей, почти проволочной оправе, а длинные, заметно седеющие волосы были подобраны и гладко зачёсаны назад.
— Владелица, — важно шепнул Глеб.
Взгляд владелицы был колючий и жаждущий действий. На какое-то мгновение Нэнси показалось, что для Ольги Львовны всё происходящее вокруг потеря времени, что есть дела гораздо поважнее и что времени на эти действительно важные дела ей не хватает постоянно — отчего очертания её уже далеко немолодого лица зыбки и размыты состраданием пополам с укором — состраданием к себе, укором к окружающим.
— Здравствуйте, Глеб! — сказала она, обсмотрев за долю секунды Глеба и его спутницу. Для неё и он, и она были пороком и барьером на пути к её сверхчеловечности. Ольга Львовна не пыталась этого скрывать и очень быстро вернулась снова к иностранцу, опустив глаза в бокал с шампанским.
Они двинулись дальше вдоль стен, занятых сплошь фотографиями в строгих, подсвеченных холодным светом рамах. Чёрно-белые и цветные, в основном портреты — застывшие в гримасах лица, странные, как будто неживые позы. Но попадались и пейзажи, ещё реже — натюрморты. Нэнси припомнила: возле входа в здание стояли штендеры на алюминиевых ногах, увитых кандалами — цепными велосипедными замками. На выносных рекламных стойках были оттиражированы фоторепродукции в их натуральную величину. Репертуар совпадал с увиденным на стенах.
— Что это за место?
— В предельном смысле, — всё шептал Глеб, — один из лучших музеев. Мы дождались того, что фотография превратила субъект в объект, в объект исключительно музейный.
— Это музей фотографии? — подхватила шёпотом и Нэнси.
Глеб улыбнулся и сделал странное — провёл пальцем по её лбу, подбирая на место одинокую, нависающую над бровью растрёпанную прядь. От чувственных пальцев Иванголова над бровью осталось ощущение, как бывает за мгновенье до того, как возникает желание почесаться. Нэнси даже определила про себя этот феномен и придумала ему название — протосвербёж. В целом, это было сильное и вместе с тем мучительное ощущение и, подчиняясь рефлексу, она растёрла пятернёй надбровную дугу и шутливо стукнула Глеба кулаком в эластичный, не успевший среагировать мускул, чуть повыше локтя. Глеб одёрнул руку, будто проколотый электрическим разрядом, и задумчиво потёрся наждачным подбородком о кулак.
— Вот ведь какая штука, Анна Николаевна, — последовала фраза, не более понятная, чем сам его поступок. Сказано это было с большим разочарованием, но будто бы с горьким ликованием. — Мы все блеклые. Как сказал один человек. В наши дни изображения выглядят более живыми, чем люди. Законы обобщённого воображаемого диктуют нам, что проявленный и зафиксированный оттиск света — посланник экспрессии более мощный, чем сам фотографируемый объект.
— Не заговаривай мне зубы, — не повелась на уловку Глеба Нэнси. — Чего тебе от меня нужно? Зачем привёл сюда? Почему музей фотографии, а не, скажем, Кунсткамера?
— Кунсткамера в Петербурге.
— Ну… тогда Оружейная палата. Необычно, экстремально, волнующе. Всё, как ты любишь, Глеб.
— Ах вон оно что! — улыбнулся Глеб. — У нас минутка сарказма. Узнаю Нэнси. Ты совсем не изменилась.
— А ты сильно изменился! И это даже не священный гнев, это чувство брезгливости, как если бы… — Нэнси на секунду задумалась, подбирая слово пообиднее, — на глаза попалась лужа блевотины.
— Ну, спасибо тебе за образность. Сильно! Давай-ка присядем, — Глеб показал на сдвинутые рядом две скамейки в центре зала.
Он сел и машинально вытянул ноги, сжимая кулаки коленями. Нэнси по-матерински заботливо усадила Эмилию, присела на край сама, упрятав под сиденье ноги. Со стороны они смотрелись образцово-показательной семьёй, благополучно промотавшей выходной в походах культурно-просветительской программы и вот теперь устало выдыхавшей на последнем рубиконе.
— Допустим, — Глеб развернул тяжёлые плечи, выпрямил расплывшееся тело, но привычная сутулость опять пригнула их, стянула к низу, — ты выяснила, что твой знакомый — внештатный сотрудник ФСБ. Допустим. Это совершенно не значит, что надо быть подозрительным по отношению к нему. Скорее всего этот человек работает в строго определённом направлении. Возможно, подвергает свою жизнь опасности. Ему уж точно нет дела до твоих безобидных пятничных грешков. Во всяком случае, до тех пор, пока они остаются таковыми — пустячными, невинными и мелкими.
Нэнси смутилась. Она поняла, куда клонит Глеб. Она захотела зло зашипеть в него красивой фразой, что-то вроде «Если ты ждёшь почётной капитуляции — её не будет». Можно было даже плюнуть после этого в лицо предателя и брехуна, но она не только не сделала этого, она даже смолчала. Промолчала хотя бы потому, что считала, что фраза неоконченная и в ней нет вопроса. Она ждала его, ждала с тлеющей тревогой. Но вопроса не последовало, тогда Нэнси осмелилась задать свой:
— А тебя за какими чертями занесло на эти галеры?
— Да, — покладисто ответил он, — в таком не признаются первому встречному на улице. Не то, чтобы этот человек этим гордился, но у него, очевидно, выбора не оставалось.
— Отчего так?
— Компромат. Его можно нарыть на каждого. В случае отказа от сотрудничества компромат может быть пущен в работу. Давай я тебе кое-что расскажу. — Он сцепил пальцы рук и накинула их на колено, точно уздечку. — Два года назад, в тот день, когда отец попал в больницу, я вляпался в одну малоприятную историю, которые менты умудрились раскрутить до категории весьма скверной.
Глеб, спешившись, замолк на несколько секунд. Или, может, собирался с мыслями. Нэнси не сдержалась и одолела томительную паузу очередным встречным вопросом.
— Это как-то связано с расправой над твоим отцом?
— Нет, не думаю. Отец никогда не был носителем нравственных начал. Его отлупцевали за прошлые грехи. Я тогда не знал и десятой части его ошибок прошлого. Мать убедили, что это была случайная драка, но она кое чего не знала.
Глеб выжидательно посмотрел на Нэнси. Она молчала.
— В тот день я встретился с двумя-тремя знакомыми, — продолжал он, — из которых один — Гоша Богиня — был из театральной студии «Ткачи», кажется, они располагались на чердаке нежилого дома недалеко от площади Культуры, и мы таким составом двинули через наливайку на набережную Крюкова канала, где уже набирал обороты стихийный митинг против сноса семиэтажки. Жильцов дома 29 на улице Декабристов не первый год пытались расселить в пользу строительства новой сцены Мариинского театра. Чиновники прекрасно освоили технологию выживания людей из исторического центра и баланс сил был давно не на стороне собственников дома. У Богини там, кажется, нашлись друзья, и у этих друзей удивительным образом оказались транспаранты, что-то типа «Гергиев — вор!»64 и «Скажем решительное „нет“ бизнес-империи любимого дирижёра Путина». Кто-то, помнится, отказался и вернулся отогреваться в наливайку, а я остался. Вот лозунг про дирижёра достался мне. Было по приколу. Было, в общем, весело и я даже проникся каким-то сочувствием к тем людям, что под предлогом реконструкции театра были вынуждены съезжать из удобного центра в какое-нибудь неудобное условное Девяткино. На их месте мог оказаться любой.
В разгорающемся воинственном пылу, переживая минувшие события, Глеб раз или два задевал острым локтем Нэнси, упреждающе отодвигался. Он нервничал, она безошибочно это определила по тому, как он метал узловатые, худые пальцы в волосы, охватывая плотными скорлупками ладоней лоб, сжимал его, отпускал и повторял всё снова. Через пару горячих фраз он вдруг сильно качнулся и снова приблизился вплотную к ней.
— Так я, сам того не ведая, попал в поле зрения ГБ, — продолжал он тоном выше, — а после похорон отца, через четыре дня к нам заявился некий человек, который назвал себя Тамазом Гарибацхелией. Он представился старым другом отца и боевым его товарищем по Афгану, хотя прежде ни я, ни мама его никогда не видели. Он сказал, что когда-то занимал приличную сумму денег и вот пришёл её вернуть. Гарибальди не смог предъявить даже расписку, сослался на устную договорённость с отцом. Долг возвращался тут же, на кухне, стодолларовыми купюрами. Сумма оказалась до неприличия «приличной». Афганские «чеки» отношения к валюте не имели, мама не могла поверить, что такие деньги вообще когда-либо водились у отца. Она тут же почуяла неладное и связала доллары с чёрными иконами отца: категорически отказалась их брать. Я тогда ходил под подпиской о невыезде, мне пытались шить хранение наркотика — обычный подброс, как делают в таких случаях, когда особо ухватиться не за что. Со мной у ментов вышла накладка: нужные им бумаги я упорно не хотел подписывать. Тогда они прессанули меня через мать: инсценировали ограбление. Это сейчас я задним числом понимаю, что у ментов меня отвоевали раньше и до кондиции доводили не они. Хотя какая разница? После нападения Гарибацхелия появился снова. Он перехватил меня ровно в том же месте, где произошёл налёт: у подъезда дома. Он снова предложил деньги — и я взял. Мне нужно было откупиться от ментов. Я так думал. Тогда-то мышеловка и захлопнулась.
— Не совсем понимаю. Этот Гарибальди выдавал себя не за того, кем был на самом деле?
— Нет. Он просто до поры до времени не говорил всей правды. Он был не только другом и боевым товарищем отца, но и его агентурным куратором. Отец двенадцать лет работал чекистом на подписке.
— Что это означает?
— Всё очень просто! Бывает так, что для осуществления определённых оперативных ходов необходимы реальные специалисты с «чистыми» делами, люди, которые не пробиваются по базе ни с какого уровня. Мой отец подходил идеально: у него были определённые навыки, которые он получил на войне, но при этом он никак и нигде не ассоциировался с конторой. Это было очень важное условие в случае провала. После 95-го он получил должность и даже некоторое время возглавлял операцию по выявлению латышских ультрарадикалов, в которой, правда, потерпел провал и был с позором снова выдворен за штат, где тихой сапой проработал вплоть до своей кончины.
— И ты ничего об этом не знал?
— Даже мама не догадывалась. Я узнал от Гарибальди, когда мы встретились с ним в третий раз и он показал мне папочку, где находился весь нарытый на меня ментами компромат: и участие в незаконном пикете, и сопротивление при задержании, и хранение наркосодержащих веществ и даже их сбыт. Нашли, не поленились, представляешь, какого-то барыгу, который свидетельствовал против меня. Там, конечно, всё было шито белыми нитками, но папочка при нехорошем раскладе тянула лет так на двенадцать. Я только представил, когда я выйду на свободу, мне будет сорокет. Другая страна, другая власть и я другой — выправленный или поломанный тюрьмой до хруста. Мне стало страшно. И обидно. За мечту. До соплей! А Гарибальди талант верёвки вить из человека, у него к этому сверхспособность. Предложил меня продюсировать, на их жаргоне это означает курировать, точно так, как он курировал отца. Так я стал чекистом.
— И сколько таких как ты… внедрённых?
— Точно сказать нельзя. Не потому что не положено, а потому что не известно. Особенность внештатов заключается в том, что делами с их личными данными ведают только продюсеры. Во всех отчётах фигурируют оперативные псевдонимы. На учёт в отделе кадров внештатных сотрудников не ставят и зарплату они получают через куратора, которая проводится по бухгалтерии по номеру контракта конфиденциального сотрудничества.
— С ума сойти! Вам ещё и зарплату платят!
— Но не за идею же работать, в самом деле! — удивился Глеб. — Хотя есть и такие, не спорю. Могу сказать наверняка, что за студентами крупных вузов в стенах учебных заведений и общежитских городков установлен контроль и слежка. Особенно интересуют чекистов всякие объединения, ассоциации, общины. Говорят, что в каждом подобном коллективе есть один агент или, хотя бы, резидент. Но проверить это невозможно: не для того нас вербуют и внедряют, чтобы можно было посчитать…
— Значит ты именно так вышел на транслитруверианцев?
— Нет, это не моя заслуга. Мой предшественник разрабатывал Бубу. Должен был втереться к нему в доверие с тем, чтобы выведать адрес типографии или хотя примерное её расположение. У него не получилось. Тогда зашли с другого края и закинули меня. Вначале я не знал даже за кем слежу. Пока я был кандидатом, это что-то вроде испытательного срока, расшифровка объекта заинтересованности органов не допускалась. Мне была предоставлена фотография одной девицы, дан примерный маршрут её движения. Моя задача минимум заключалась в знакомстве, а задача максимум сводилась к тому, чтобы попасть «на шабаш», на квартиру к Милашевич, частой гостьей которой она была.
— Ты говоришь про Иру? — Нэнси побледнела и осунулась. — Это было всё подстроено?
Глеб молча кивнул.
— Я подобрал её к себе в машину не случайно, до этого пять дней пас, так что выполнил программу максимум и, в общем, испытание прошёл: попал «на шабаш» и стал таким же завсегдатаем, как Ира. Сразу после этого Гарибальди ввёл меня в курс дела.
Взгляд Нэнси потускнел и даже стал враждебным. Она стянула тёплый тренчкот, ставший в натопленном помещении удушливо жарким и уложила на колени.
— Я хочу пить!
— Что непонятно? Принеси мне воды, Глеб.
— А… сейчас.
Он заметался по залу и вскоре вернулся со стаканчиком воды. Нэнси сделала глоток, другой. Вода немного отдавала тёплым запахом резины, будто её до этого таскали в грелке.
— Мерзость, — призналась она и с силой вложила ему в руки стаканчик.
Глеб пожал плечами: он не знал, как расценивать это признание и в первую очередь: к чему (или к кому) оно относилось. На всякий случай он виновато посмотрел на Нэнси, но не поймав её взгляда, принял на свой счёт.
— Здесь есть гардероб, — сказал он, мягко перехватывая её тренчкот. Замешкался: — Могу и куклу…
— Эмилию, — подсказала Нэнси.
— Да, давай и её прихвачу.
— А что там наверху? — спросила она, когда Глеб вернулся с номерками. Нэнси запрокинула голову и указала на верхние ярусы, что просматривались в искривлённом перспективой ракурсе.
— Там? Экспозиция. Контакт со зрителем.
— Показывай, — повелительно сказала Нэнси.
Глеб, обескураженный и сбитый с толку грозным настроением Окуневой, обрадовался. Он понимал, чтобы переварить новость, ей нужно время. Здесь, как и в любом деле, существовала своя отработанная технология или, если угодно, этика отношений. Не Глеб её придумывал и не ему было отменять: любая самодеятельность вносила в течение событий излишнюю нервозность, риск. Так что — торопиться не стоило.
Глава 17. TO BE SURPRISE
Смущённо зардевшись, он потянул её за собой к ступеням. На не слишком широких лестничных пролётах царило оживление и было тесновато даже на слух. Толпа была организована стихийно в пары или маленькие группы по три-четыре человека. Одиночки если и были, то служили примером искусной мимикрии. Кто-то назвал Глеба по имени и поздоровался с ним за руку. Этот кто-то, в общем ничем не примечательный, носил обручальное кольцо и не чурался регулярно делать маникюр. Его ногти были аккуратно стриженными и маслянисто отсвечивали прозрачным лаком. Нэнси подумала, что женатый владелец ухоженных ногтей любит собственное отражение и часто любуется собой как бы случайно в зеркалах, которых, наверняка, в его жилище много. Перекидываясь с Глебом какими-то ничего не значащими фразами, он более, чем полагается по этикету, задержал на Нэнси взгляд. Этот взгляд сперва сверлил переносицу, выцеживая что-то из пронзительных глубин холодных женских глаз, а затем упал на ямочку у основания шеи, заполненную до краёв одной из нанизанных на нить жемчужин. Бусы оттеняли и придавали особую прелесть лилейной груди, обозначенной в глубоком вырезе майки с нелепыми мультяшными мышатами. Знакомец Глеба сморгнул растиражированных до ряби в глазах мышей, с беспечным видом отвёл взгляд, опасаясь быть заподозренным в потаённых желаниях. На том они расстались.
Пятиэтажная галерея, включая подземный ярус, находящийся где-то под цоколем здания (обозначенный на указателях как «этаж минус 1»), представляла собой зацикленные на квадраты экспозиционные залы. Везде правил балом белый цвет и белый свет: его здесь было много, даже с избытком. Со своей задачей неплохо справлялись системы искусственного освещения. Дополнительные направленные источники подсвечивали фотографии, развешанные всюду. На одной из них Нэнси не без удивления узнала себя.
— Ого! — вдохновилась она не столько собственным образом, сколько его размерами: фотография была оформлена в багет и паспарту размером с приличный офисный флипчарт.
— Отвечая на твой вопрос, почему мы здесь, — Глеб перехватил взгляд Нэнси и оказался очень доволен произведённым на неё эффектом. — Это закрытый журналистский предпоказ фотобиеннале. Через две недели здесь стартует седьмой международный месяц фотографии. Угадай, кто заявлен на участие в одной из трёх программ?
— Уже догадалась, — сухо сказала Нэнси, наклонив голову, точно собираясь боднуть.
— Круто? — воодушевился Глеб. — Вместе с Дайном, Киреком и братьями Люмьер будет выставляться молодой, но уже весьма амбициозный автор…
— Не забудь добавить, — дымчатым голосом присовокупила Нэнси, — скромный. И кто эти люди, фамилии которых ты назвал? Фотографы?
— Пф-фф, фотографы… Не просто фотографы, а боги своего дела. Классики американского искусства.
— Братья Люмьер, кажется, стояли у истоков кино. Нет?
— Да, Люмьеры были пионерами, но они ушли из отрасли почти что сразу и сосредоточили силы на цветной фотографии. Крутые ребята! Чего молчишь?
— Я думаю, — произнесла Нэнси. — Думаю, когда ты всё успеваешь? Друзей предавать и на биеннале выставляться. Интересно, идти по головам, не замечая хруста костей, и одновременно приобщать себя к прекрасному хорошими жанровыми снимками — это тихий ужас или всё же громкий кошмар?
— Плёнка мне дарит чувство равновесия. К работе это не имеет никакого отношения.
— Ты меня не перестаёшь изумлять! — в голосе Нэнси звучал лёд, в то время как остренькое личико пылало жаждой справедливости.
— В каком смысле? А, впрочем, — он улыбнулся улыбкой чеширского кота, благополучно завуалировав язвительные нотки, — не говори. Let it be a nice surprise!65
— Let it be or not to be…66 — ответила Нэнси.
Она сделала несколько шагов в сторону и увидела фотографию с панорамой безжизненного озера, обсиженного строительным мусором и полуразложившимися трупами водоплавающих птиц. Позади накалывали гуляющий от марева воздух телескопические зазубренные стрелы строительных кранов — там полным ходом шла стройка. На переднем плане, намечая композиционный центр, жмурила глаза от солнца Милашевич. Яркий сноп света плескал в лицо, прибавляя несуетливого уюта героине снимка. Ленка была одета в обворожительное светлое платье — безмолвный поединок умеренности и величественности, неукоснительно и непреложно подразумевающий сладость сокрытого и утаённого так, что сквозь образ чистоты и целомудрия проглядывала пикантная червоточинка порока. Точнее, её наверняка додумывал зритель, наблюдая, как девушка крепко стискивала древко плаката: «Убей себя, спаси планету!» Должно быть, Нэнси не сразу нашлась, что ответить, потому что Глеб уже тащил её к другой фотографии.
На ней был изображён дом, вернее, часть его расчёсанного трещинами песочного фасада. О жесть подоконника стучали дождевые капли. Заслонив половину заколоченного досками подвального окна, рядом стоял Бомба. Стёпа в засаленной клетчатой рубашке с подвёрнутыми выше локтя рукавами фиксировал свой легкомысленный, строптивый взгляд точно в камеру, к фотографу. На плечи был накинут скомканный пиджак с намокшими лацканами. Было видно, как Стёпа закусил губу мелкими зубами, чтобы не дать воли избыточному смеху и не превратить блаженную улыбку в натянутый оскал. Приложив горящую спичку к струе лака из аэрозольного баллона, он поливал пламенем другую фотографию, разнесённую от первой пространством галереи, к которой уже тянул, толкал Глеб. На этой фотографии чрезмерно крупным планом был непропечённый солнцем, трепещущий от напряжения живот, вытекавший из купальных трусиков. Глубоко впалый пупок водился с сатурновым колечком пирсинга. Руки, скрытые границей кадра, нетерпеливо листали книгу, похожую на атлас, страницы которой казались величиной с афишу. Нэнси знала эту книгу с детства. Любой знал её. Это была «Красная шапочка» — сказка о встрече волка и маленькой девочки, прилежно записанная исследователями народного эпоса братьями Гримм. Плёнка фиксировала момент, когда политая чем-то горючим, книга уже была объята пламенем, но ещё не подвержена его губительному действию. Эффект был потрясающий, именно благодаря, а не вопреки тому, что снимки делались — и это было очевидно — в разное время и в разных местах. Они были разнесены даже погодой: у Стёпы шёл дождь, а Ира (судя по всему, это была она) куражилась подтянутым животиком в погожий ясный день.
— Кажется мне знакома предыстория, — Нэнси припомнила ожесточённый спор в самый первый вечер её знакомства с «шабашистами».
— Костёр Инквизиции, — Глеб согласно вскинул руки и зажмурил глаза. — В огне должен был сгореть «Майн Кампф», но с «Шапкой» вышло символичнее.
— А вот при чём здесь дикий призыв убить себя? На Ленку что, накатила очередная гнетущая печалька?
— Не-а. Общение с животным миром промоушена придали ей черты суровости. Она научилась бороться с депрессухой двенадцатичасовым рабочим днём. Человеку, который работает по двенадцать часов в день, не до депрессии. Но она вернулась из командировки, по её же словам, обдолбанной Шопенгауэром. Движимая мыслями о судьбе человечества, Ленка стала заядлым антинаталистом.
— Вот и я не знал, а это, оказывается, мощный движ. Милашевич подозревает, что в интересах природы перестать любить и размножаться.
— Сомневаюсь, что инстинкт размножения сможет соперничать с инстинктом самосохранения.
— По мне так, — криво усмехнулся Глеб, — планету спасёт контрацепция и однополая любовь. А если серьёзно, думаю, она просто разочаровалась в людях. Она как-то сказала: животные лучше людей. И добавила: я людофоб. Как бы с вопросительной интонацией. А я сказал ей, что она обычный шовинист, потому что человек — тоже животное, а она своим заявлением о превосходстве человека над животным миром якобы узаконивает право человечества быть исключительным, даже если эта исключительность со знаком «минус».
— М-мм… Я как-то не думала об этом…
— А ты подумай. Идеология, суть которой в том, что есть некое, назовём это, отличие одного вида над другим, есть не предубеждение, а нравственные принципы, регулирующие наше поведение. Большинство же животных существуют вне людской морали, а потому человеческие нормы права к ним неприменимы. Не надо сочувствовать быку на бойне просто потому, что он — не человек. В этом смысле, я никогда не буду горой за Ленкину систему взглядов на мир и место человека в нём. Я расскажу тебе одну историю, хотя до этого я не делился ей ни с кем, — сказал Глеб и сделал унылую гримасу, словно он и сейчас делал это не от доброй воли, а по крайней отчаянной необходимости, ибо не видел других мер убедить Нэнси в своём, отличном от её и Милашевич миропонимании. — Когда в нашей семье закончились «чеки», отец двинул на поиски работы. Он готов был заниматься чем угодно. Ты знаешь, любая работа. В Токсово ему помогли устроиться в колхоз на скотобойню. Работал на нутровке — удалял из освежёванных туш внутренние органы. Но не только. Я тогда худо-бедно перешёл в седьмой. Учиться был настроен, понимал необходимость, но не хотел. Первых два летних месяца болтался по детским лагерям, а последний маялся бездельем, оставленный на произвол судьбы, подспудно ожидая неизбежного — очередной учебный год. Отец, видя это, взял меня с собой. Матери сказал, что я буду помогать укладывать сено в скирды. В августе всегда недостача свободных рук на скирдование. Обещали платить трёшку в день, из которых рубль разрешалось забирать себе на карманные расходы. Остальное в семью, вроде материальной помощи. Ну и поехал, значит, с отцом. Колхоз назывался «Планы Ильича». Не, на самом деле он назывался «Пламя Ильича», но мне слышалось именно так — планы, я ведь тоже строил свои: копил на мопед, и думал, что, в общем, «Планы Ильича» — так правильнее для колхоза. Там, в этом колхозе я увидел впервые в жизни, как холостили хряка. Оскоплённый, он переставал быть хряком, а становился боровом. Племенной молодняк не подвергали этой процедуре, стерилизовали тех, что шли на убой. Но я этого тогда не знал. То зрелище было жутковатым, и, скажем откровенно, неприятным, но я не отвёл глаза, за всё время не отвернулся ни разу. Полученные ощущения казались мне неловкими, сквернейшими, но я почему-то желал их получить. А на следующий день, это было воскресенье, в стране случился государственный переворот. Скотобойня и путч для меня слились в единую метафорическую связь. Для меня распад страны начался вот с этих вот кастрированных хряков. Но это я к чему? Я видел отчётливо, что отец такими сценами разряжался и как бы успокаивался. Наверно ему не хватало чужой агонии, болезненной, безумной. Меня же он подобными картинками пытался закалять. Сам объяснял: такую прививку нужно получать в отрочестве, тогда я вырасту не бздливым мясом для пушек, а храбрым воином, который не боится вида крови или звука выстрела. Но знаешь, только недавно я, кажется, понял, зачем он хотел, чтобы я это увидел. Наверно, он и сам не осознавал этого, но я думаю, он хотел показать на моём примере, что люди всё чувствуют, переживают и задумываются. Именно поэтому они и люди. Потеря человечности какой-нибудь свинье недоступны по определению: она свинья, она животное. Только человек способен потерять человеческий облик. Сам отец давно потерял его, но у него был шанс спасти меня. Он это делал как умел, а умел не очень: поэтому я смотрел, как нутруют только что убитую разрядом электричества корову или, зажав порося в тиски, как какую-то деталь, щипцами вытягивают семенник из его мошонки.
— Не надо, — словно в подушку произнесла Нэнси. — Прекрати. Хватит!
Глеб осёкся и внезапно погрузился в какие-то свои далёкие мысли.
С шеренгой высоких запотевших фужеров на подносе к ним подплыла на узких лодочках-туфлях в стильном фраке с фалдой до голени официантка. Её молочный, блестящий лоб, и щёки, и даже губы скукоживало физическое истощение, какая-то многодневная блаженная усталость. Было ощущение, что девушка пробует низкокалорийную диету и что вот эти пробы преодолеваются со срывами и рецидивами. Склонность к полноте говорили о справедливости такого подозрения, подкреплённые озвученной рекомендацией по употреблению дармовой выпивки без ограничений.
— Шампанское, в сравнении с другими видами алкоголя, является самым низкокалорийным, — сладчайше пропела она, притомлённая самобичеванием профилактической диетологии, — поэтому к восторгу большинства прекрасных дам, его можно употреблять часто, не опасаясь за фигуру.
Она быстро завершила свой короткий лукаво-рекламный спич (не забыв дважды невзначай ввинтить имя спонсора фуршета), посмотрела на Глеба, которому природой было завещано плевать и на калории, и на лишний вес, и добавила, не придумав ничего умнее:
— Шампанское — один из любимых напитков не только прекрасных дам, но и их кавалеров.
— Я бы виски выпил, — оживился Глеб.
— В ассортименте только игристые вина. Красное и белое, — напомнила официантка.
Глеб вопросительно посмотрел на Нэнси.
— Я не буду, — она покачала головой.
— Тебе расслабиться надо. Немного вина не помешает. Я составлю компанию.
Глеб снял с подноса два бокала и протянул один из них Нэнси.
Бокалы были похожи на пузыри, вроде тех, что выдувают из шампуня или мыла. Сферы с переливчатой поверхностью на треть были наполнены игравшим вином невинно-лимонадного цвета. Они пригубили. Помолчали. Шампанское оказалось с царапающей горло терпковатостью и смолистым вкусом, к тому же сильно газированным. Выпитый на пустой желудок, алкоголь быстро разнёсся по крови, и Нэнси почувствовала, как легонько захмелела. Глеб был прав: именно этого ей сейчас не доставало. Вместо того, чтобы копить раздражение дальше, она подвела черту под вышесказанным, осознав, что и сама, конечно же, не без греха. Она успокаивалась, вникая в состояние, в которое была опрокинута ещё совсем недавно подробностями отроческих переживаний Глеба. Запивая их шампанским, она вспоминала об этом уже без содрогания, чувствуя лишь нарастающий жар и тяжесть во всём теле. Прокручивать это в голове всё же было неприятно и бессмысленно, и она постаралась заполнить паузу вопросом.
— Как у неё дела-то?
Глеб, должно быть, тоже ощущал жар в голове — приблизил лоб к прохладному стеклу бокала, довольно захлюпал носом.
— У Ленки? Это ты мне расскажи!
— Мы с ней как-то потерялись. Он прислала мне из Сочи на Новый год открытку с поздравлением. Всю зиму собиралась ей написать что-нибудь в ответ… да так пока не собралась.
Нэнси сделала ещё глоток. Движения рук становились более мягкими и тягучими. Вино начинало нравится.
— Скажи, твоим заданием было фотографировать нас? — спросила она.
— Нет, конечно! — Глеб скривил губы на растерянном лице и со значением повращал глазами.
— И что ты должен был делать? Искать улики?
— Нет, только слушать. Принимать участие в беседах, собирать информацию. Тарас совсем или почти совсем ничего не говорил о «Транслитрувере». Тем удивительнее, что ты об этом знаешь.
— Ленка, — просто заключила Нэнси. — В каждой женщине должна быть загадка. В Ленке была и подсказка, и отгадка. Ни за что не поверю, что ты не воспользовался её патологической болтливостью.
— Воспользовался, — ничуть не смутился Глеб. — Помноженная на симпатию ко мне, она, в конечном итоге, принесла Ю-9 пользу.
— Ю-9? Что это?
— Совместная операция ФСБ и МВД по противодействию экстремизму.
— Неужели транслитруверианцы действительно заслуживали такого пристального внимания со стороны спецслужб?
— Ну, во-первых, по наводке оперативников вообще предполагалось, что там печатали поддельные документы — патенты на работу, миграционные карты, медзаключения. В ходе совместных рейдов мы собирались пресечь канал поставки. Во-вторых, — Глеб стал неузнаваемо строг, — так называемые шабаши давно перевели квартирку на Дундича, 19 в разряд нехороших или, как говорят у нас в отделе, неопрятных.
— Неужели ожидался великий бал у сатаны? — попыталась отшутиться Нэнси, намекнув на знаменитое произведение, где тоже присутствовала нехорошая квартирка, но Глеб либо не понял экивок Нэнси, либо на её шутливый тон просто не повёлся.
— Формально ты тёрлась рядом с «шабашистами», принимала участие в беседах, — громко вздохнул он, кривя лицо и жмурясь, как от нестерпимо неприятного солнечного света. — Если бы началась следственная волокита при расследовании всех обстоятельств дела, досталось бы тебе не меньше остальных.
— Ты сказал, «если бы»? — осторожно уточнила Нэнси. — Значит, у ребят всё хорошо?
Впервые за всё время их беседы у Иванголова проскочила в туманном взгляде настороженная обдуманность. Появилась и, как наваждение, исчезла, словно всё, что у Глеба было — спокойная позиция — осталось же при нём.
— Дело завели, но из всех «шабашистов» обвинение предъявили только Тарасу. Впрочем, в его отношении уголовное преследование уже прекращено в связи с недоказанностью участия, — сказал он. — Но всё могло быть гораздо хуже. Могли привлечь всех, и продержать в процессе не три месяца, а все шесть. У нас всё устроено так, что много времени и сил тратится на бумажную отчётность.
— Короче, день работаете — два оформляете! — попыталась снова обратить всё в шутку Нэнси.
— Бич какой-то, — кивнул Глеб, не улыбнувшись. — Собственно поэтому я хотел, чтобы ты как можно поскорей съехала оттуда, а желательно, вообще вернулась в Пермь.
— Кстати, слово Пермь, по данным современных лингвистов, имеет финно-угорское происхождение и означает «дальняя земля». — Режим «училка» включился как-то сам собой. «Всё-таки хорошее вино», — вскользь подумалось Нэнси.
— Действительно, настолько дальняя, что можно убежать от следствия, — наконец улыбнулся — одними глазами — Глеб. — Следователю тоже неохота брать на себя процессуальные издержки по доставке свидетеля к месту проведения допроса. Я же говорю, дикая бюрократизация.
— Спасибо, — смутилась Нэнси. — Твой порыв я тогда истолковала иначе.
— Я совершенно запутался на твой счёт, — слегка сбился с нужного тона Глеб, ему снова не хватало резкости и чёткости. — Ты привела за собой такой пышный хвост острых событий, что я усмотрел в этом взаимосвязь с твоим появлением.
— Что ты имеешь в виду? — покраснела Нэнси.
— Не понимаешь, о чём я? Трофейная бригада, которую мы встретили в Изборцах, помнишь? Я решил, что ты с ними связана, вроде как заодно…
— Это же совершенно нелепое предположение!
— При первом приближении — нет. Я наводил справки. Ты состояла в пермском клубе археологов, работала с документацией и даже привлекалась к полевой работе. С этим надо считаться.
— Мы были легальными поисковиками, — насупилась Нэнси, парализованная мыслью, что разговор, который неизбежно нависал, который Глеб даже старался оттянуть, всё же начинался — и начинался он издалека.
Держа стеклянные шары, согревая их пальцами, они медленно двинулись вдоль фотографий в рамах, повинуясь энтропии толпы и интуитивно забираясь в гущу. Под ногами жила ковровая дорожка — чрезмерно отзывчивая к мерным, немного дробным Нэнсиным шагам. Всё чаще, поникнув, она смотрела на ромбы и зигзаги динамичного и будто бесконечного ковра, а вовсе не на фотографии. Она чувствовала, как медленно лицо заплывает жаром. Украдкой, стараясь не выдавать своей краски, Нэнси стреляла из-под хмурых бровей взглядами в Глеба: тот пощипывал кончики своих неприятных, похожих на щётку усов, словно убеждаясь в их существовании, и мрачно ухмылялся.
— Ваши археологические изыскания, мягко говоря, не всегда находились в правовом поле. У нас по закону, если ты выкопал что-то, пролежавшее в земле больше ста лет, то обязан сдать находку родному государству, иначе ты преступник.
— Всё, что представляло ценность, мы передавали фонду культурного наследия, — упорствовала Нэнси. — У нас был представитель, эксперт в области оценки предметов. Он проводил музеефикацию на месте.
— Почти наверняка этот эксперт работал в интересах руководства археологического клуба. Схема-то проста: ты сдаёшь находку и получаешь 25% согласно заключению экспертизы. Это удобно для вещей, не представляющих особой ценности. По-настоящему ценные находки, конечно, не музеефицируются, а уходят на чёрный рынок. Так что с точки зрения закона ты состояла в организации точно таких же чёрных следопытов, как и та трофейная бригада.
— Неправда! — с жаром возразила Нэнси. — И я даже сейчас не о себе. Если ты выкопал что-то, пролежавшее в земле больше ста лет, то обязан сдать находку государству, но! Я бы вовсе не рассчитывала на 25%, про которые ты тут заявляешь.
— Так положено по закону.
— А в реальности выдадут почётную грамоту, которую можно будет вставить в рамку и повесить на стену, как напоминание о собственной глупости.
— Не будем спорить, — угрожающе-устало ответил Глеб, — тем более, что на твой счёт я ошибался.
— Да-а? — лицо Нэнси сразу стало строже. — Как тебе вообще пришла в голову подобная нелепость?
— Это долгая история, которая опять-таки касается отца. Если ты готова слушать…
— Мне важно это знать в любом случае.
Будто для смелости она влила в себя остатки шампанского, и Глеб ловко перехватил её бокал, вместе со своим водрузил на поднос шустрого гарсона в надраенном переднике, пролетавшем мимо. Плотненький, губастый, добродушный, он не ожидал подобного развития событий, хотя мог бы и предвидеть особым третьим оком, стало быть, сейчас дремавшем под фуражкой с козырьком, туго набитой белой, закрученной в кольца мальчишеской чёлкой. Поднос закачался и горячий ветер неминуемой оказии опалил фигуру официанта растревоженным душком. Побледневшее рыбье лицо его окаменело. С акробатическим исходом он крутанулся вокруг оси, вменяя многочисленным пустым бокалам на подносе стойку «смирно» и достойно перевёл горячий ветер под красивый выход из пике. Ветер тут же дунул в его острые, трепещущие крылья, и гарсон, безмерно торжествуя, скрылся, ловко лавируя среди стаек сбившихся людей.
Глеб будто даже не заметил акробатических танцев с бокалами, пытался высмотреть подходящее место для продолжения беседы. Ему явно не нравилось присутствие людей. Он подвёл Нэнси к никелированным круглым перилам, отсекавшим световой колодец от межэтажного перекрытия, и посмотрел вниз.
— Проваленная операция в 95-м, — помедлив, начал он, — больно ударила по самолюбию отца. Гарибальди мне рассказывал. Там была мутка с латышскими ультралеваками, которые прикрывались деятельностью нацпартийных. Одна из фракций называлась «Перконкрустц», или «Гром-крест». Именно ею плотно занимался мой отец. Честно говоря, история эта «с длинной бородой». Пока планомерно происходила фашизация Германии, — Глеб с удовольствием завёл любимую пластинку, — и Гитлер становился диктатором объединённого, дефедерализованного третьего рейха, Латвия полным ходом прививалась своей инъекцией нацизма. Через десять лет в уже в оккупированной немцами Прибалтике генерал-инспектор всех войск СС Рудольф Бангерский, к слову, бывший министр обороны Латвии, передал слова избранного фюрера, обращаясь к латышам по радио. Дословно не помню, но мысль Гитлера сводилась к тому, что латышский народ, в котором обнаружилось столько отличных бойцов, не должен остаться в тени. В эфире Бангерский подчеркнул, что мобилизация военнообязанных латышей является первым шагом к восстановлению государственной независимости Латвии. Сразу после радиообращения бывший министр обороны поставил свою подпись под документом о призыве в добровольческий легион ваффен СС подданных Латвии, всех молодых людей в возрасте от 25 до 29 лет. И пошло-поехало! Для ускорения темпов мобилизации использовали пропаганду и делали это руками антисемитски и русофобски ориентированных группировок. Последняя мобилизация латышской молодёжи была объявлена осенью 44-го, когда 15-я и 19-я гренадерские дивизии потерпели серьезные поражения, брошенные на амбразуру против наступающих красноармейцев. Судьбы молодых людей, из тех, что остались в живых и не полегли на поле боя, были надломлены. Большая их часть смогла в итоге бежать за границу и была взята на учет местными разведструктурами, формировавшими антисоветское подполье в условиях «холодной войны». Меньшая часть, пропитанная идеологией нацизма, растворилась в ставшей вновь советской Прибалтике и дала потомство, которое, будучи предопределено средой, продолжало инфицироваться этой заразой. Она дала не только всходы, но и спелые, сочные плоды в либеральных 90-х, когда те самые антисемитски и русофобски ориентированные группировки были подняты из праха и перезапущены для раскрутки нового пропагандистского маховика. Дерзость и циничность, с которой действовали вновь созданные организации, обескураживала. Например, молодчики из «Гром-креста» печатали свои листовки в типографиях при русских православных храмах. Когда Ленка рассказала мне о том, что ты увидела в салоне «форда», при этом упомянув о подозрениях Бубы насчёт происхождения книги, я решил, что для подробной фотокопии рукописного свода потребуется, как минимум конспиративная типография с хорошим оснащением. Стал думать, могут ли в этом быть причастны транслитруверианцы. Было как-то подозрительно, что Буба так быстро определил книгу по твоему довольно скудному описанию. Но потом я решил, что, если бы это была их работа, он бы уж точно держал язык за зубами. Да и потом, в Изборцы привёз вас я, а встреча с копателями была случайна. Никаких зацепок, никаких общих точек соприкосновения я не находил, как ни старался. Этот вариант я счёл невозможным. Однако мне показалось подозрительным что всего в полукилометре от развернувшейся деятельности копателей, находился один из фигурантов того дела, которого разрабатывал отец. Это был автор той самой чёрной иконы…
— Иконописец, которого упоминала девушка из магазина? — удивилась Нэнси. Она поморщилась, припоминая имя: — Александр Васильевич?
— Его фамилия Аткарцев. Подпольная кличка — Санчо. Он мог быть иметь отношение к схрону.
— Зачем ему это нужно?
— Во-первых, Буба упоминал о труднодоступности оригинала и, как следствие, о безусловной ценности факсимиле. Деньги этим ребятам нужны хронически. А, во-вторых, Аткарцев писал чёрные иконы, рисовал всякую бесовщину. И я подумал, что «Дьявольская Библия» — это может быть очень в его стиле. Я решил всё разузнать, тряхнуть его хорошенько. Мне до коликов хотелось восстановить репутацию отца.
— Да, но при чём здесь я?
— Я отследил машину и её владельца. В тот день, когда я подвозил тебя, ты встречалась с этим человеком.
— Савелий Дымшев. Торговец Сава с блошиного рынка.
— Одна гипотеза нелепее другой! И твоя первая мысль, конечно, что я каким-то образом во всём этом замешана.
— Ты интересовалась книгой. Я предположил, что ты могла бы выступить посредником и помочь предмету уйти на чёрный рынок.
— Через свои старые связи в клубе археологов.
— Ну у тебя и воображение, Глеб! В тебе погиб беллетрист, но ты слишком перетончаешь — видишь заговоры там, где и в самом деле нет и быть не может.
— Не-а, Окунева, ты рыбка покрупнее, — повторил он с каким-то явным смаком, — крупнее, чем хочешь казаться для остальных. Как же скрытны люди, думал я и задавался мысленно вопросом, где берега твоей загадочной жизни, которые я даже приблизительно не рассмотрел на горизонте? Спрашивал, как мог я проморгать тебя, ведь ты была с самого начала в списках.
— В каких? — тихо, как можно безразличнее поинтересовалась Нэнси деловым, убитым тоном.
— Ты попала в списки отдела «Т». Это плохо. Для тебя. Очень плохо. Это я тебе, как сотрудник отдела «Т» говорю.
Сейчас Глеб заметно нервничал и горячился, сам себя накручивая от возбуждения, и непонятно, кто волновался больше: Нэнси, попаданец в некий нехороший список антитеррористического центра, или Глеб, последнюю минуту или две запускавший палец за воротничок, взопревший, налитый будто свекольным соком так, что Нэнси невольно подумала: «Как кормовая свекла. Не человек, а овощ!». И память услужливо подкидывала слышанные этим утром скандирующие возгласы: «Не овощ, не овца! Не овощ, не овца!»
— Что, удивлена? — продолжал он, перехватив её ошеломлённое, сражённое выражение глаз, подбоченясь и захватив в горсть срезанный, костлявый подбородок. — Если ты решила развязать священный Джихад (Нэнси вздрогнула: «Ну вот и дошли до главного!»), ты должна понимать, что будет после.
Она оглянулась за поддержкой (какой поддержкой? и от кого она здесь её ждала?) и её взгляд пересёкся со взглядом Ольги Львовны, удивительным образом перепорхнувшей из фойе на второй этаж. Строжайшее предупреждение прочитала Нэнси в сдвинутых бровях женщины, может, предупреждение о том, что впереди жестокая расправа и надо быть готовым ко всему. Или Нэнси так только показалось, потому что Ольга Львовна опустила задрожавшие веки и дробно засмеялась, развернувшись боком, и сразу стало видно, что она говорит по телефону. Вокруг да около тёрлись незнакомые Нэнси люди, и все они, словно знакомые друг с другом, что-то говорили, блестя глазами, и украдкой посматривали на неё. Или, может… так ей только казалось.
— Глеб, а при чём здесь фашизм? — непринуждённо, но, тем не менее, полным напряжения голосом спросила Нэнси. — Какие убеждения могут говорить в пользу того, что я фашистка?
— В России нет никаких убеждений, и фашизма нет, уж точно в нашей стране он невозможен. Так говорят с трибуны в день победы. Каждый год. Но только в 45-м мы не победили фашистов, потому что фашизм искоренить нельзя — он как йод на рану, это щиплет, это больно, но это облегчает. Ну а как иначе, посуди сама: я смотрю и вижу перед собой милую девушку, очевидно, хорошего человека, и при этом знаю, что человек этот разработал — на минуточку! — уставной документ межрегиональной террористической группы, где призывает к открытой вражде и милитаризму по отношению к отдельным этническим и национальным группам. Что это, как не элементы фашизма? Хотя, ты права! Спустя несколько десятилетий после Мировой войны многие пытаются намеренно не замечать продолжающихся сдвигов, несмотря на факты, которые замалчивать никак нельзя. Для этих явлений — их же надо как-то объяснять — подобрали слово, близкое по смыслу, сути и звучанию — неофашизм, то есть новый фашизм, чтобы чуть смягчить само понятие. Эти самые «многие», которых всё больше, ошибочно полагают, что он результат концентрированного воздействия условий внешней среды, мол, современный мир копит серьёзные риски, он подошёл к черте и всё такое. Как бы не так. Мирового фашистского проекта никогда не было, нет его и сейчас, есть только особое «наследственное вещество». Я даже думаю, что он встроен в нашу ДНК, а значит, растворён в крови у каждого. Оно существует, видимо, у всех. У одних чуть-чуть и где-то глубоко, они его, по счастью, не чувствуют и не осознают, по крайней мере, до поры до времени. У других тоже чуть-чуть, но человек это неосознанное пробуждение вдруг осознаёт и усиленно задавливает добрыми делами. Чувствует одновременно гибельность и мощь неизвестной силы и — боится её. Правильно делает! А третьи тоже боятся, у них другой страх — страх наказания перед судом земным и судом небесным. Так что добрые дела уже для маскировки, для отвода глаз, для очистки совести. Это люди — носители тихого зла, неочевидного. Есть и четвёртые — те не страшатся ничего, им даже не надо притворяться. Эту силу они в себе не давят. Генетика фашизма определяет их лицо и личность. Это люди зла громкого, кричащего. Есть, правда, и пятые — экземпляры редкие. Они не только генераторы, но и ретрансляторы фашизма. Зажигают своими идеями целые народы. Они накручивают себя со страшной силой, чтобы сила стала ещё опаснее, страшнее. Вот таким вот человеком, пожалуй, был Гитлер. Ты знала, фюрер принимал сублетальные дозы стрихнина во время своего страшного правления. Зачем? Стрихнин со временем накапливается в организме и толкает людей на всё более непредсказуемые вещи. Это называется кумулятивным эффектом. Нет, существует это самое. Что-то! Что ни говори.
— А к какой группе себя причисляешь ты в этой своей классификации генетических фашистов? Потому как мне лучше пострадать от ошибки доброго человека, чем от безошибочности вот такого человека зла, которого обрисовал ты. Это совершенно невозможно — думать, что ты в самом деле думаешь так, как говоришь!
Что-то вздрогнуло в нём, и Глеб, углубившись в себя, дышал теперь с озабоченным сопеньем. Его клюющие движения и понурый в пол взгляд как бы говорили: слово не воробей, не подумал и сказал — «алаверды» уже не сделаешь. Поэтому Глеб думал — думал, как ответить на вопрос, не скомпрометировав себя. Он давно уже знал или, во всяком случае, крепко догадывался, что зло в человеке осознаёт себя. Осознав, начинает вести умосложение и борьбу идей, потому как если ты не «четвертый» и, не дай бог, не «пятый», то обязательно последует подчинение всего морали, где правят два начала. А что может быть хуже этого — дихотомии этих двух начал, помноженных на юность, дающих в остатке кровоточащие царапины коллизий, что-то вроде бесконечных, неделикатных и даже каверзных вопросов: «вот я — кто я такой?» Как ни старался, Глеб не мог ответить ни себе, ни Нэнси.
Нэнси это прочитала, похолодела и, гневно сведя высокие подвижные брови, стала смотреть куда-то мимо Глеба, вдаль.
— Твой котёл барахлит и чадит, — процедила она сквозь зубы. — С ним точно творится что-то неправильное.
— Я вот давно заметил, — нарочито бодренько подал голос Глеб, — у человека, что к пользе — всё правильно, он всё может оправдать, а что ко вреду, что мешает — неправильно. И непременно, сразу появляются на свет все аргументы: и за, и против. Проблема в том, что при таком раскладе истинное положение вещей, которое кто-то называет правдой, кто-то истиной, не всегда совпадает с чувством ожидания пользы. Вот она где мораль, регулирующая наше поведение. Ты можешь сочувствовать быку на бойне и быть при этом эмиссаром террористической ячейки, ты можешь быть богобоязненным христианином, верящим в пришествие Христа и быть ответственным за подрывную деятельность или, наконец, ты можешь быть образованным человеком, дипломированным словесником, морально устойчивым, объективным, беспристрастным и при этом вербовать местных анархистов в свою ячейку.
— Это же чёрте что! — Нэнси отёрла лоб тыльной стороной ладони. — Услышь себя!
— Ты попала под бой, — сказал он и показал ей круглые повеселевшие глаза. — Говоря короче, попалась ты, так что не дури больше, с тебя уж хватит.
— Ты полагаешь? — вскипела Нэнси. — Хочешь сказать, я вся на ладони у тебя? И имена моих подельников ты знаешь, а?
Нужно было молчать, Нэнси чувствовала это подступающей к груди щекоткой чувства большой опасной игры, затеянной Глебом. Непонятное и неподатливое растекалось вокруг неё, постепенно захватывая, зажимая в плотное кольцо. Слёзы были готовы брызнуть, и она очень стыдилась поперхнуться ими, показав Глебу слабину. Мотая головой, она бросила ему в лицо первое, что пришло на ум, лишь бы удержать себя от переизбытка накопившихся эмоций. И кто бы мог подумать, что она тем самым угодит пальцем в небо.
— Да, — Глеб двинул бровью и сам же расслышал провалившуюся в блаженную фальшь настроенность собственного голоса. — Нет! Вообще нет, но это ничего, это мы поправим. Без приглашения, уж поверь. Интонацию улавливаешь? — Он добавил: — Х-хо-хо! — не улыбнувшись и вдруг начал строчить, как по бумажке: — А дело было так: с июля по сентябрь в Петербурге и Перми ты рекрутировала кандидатов, близких по духу и идее «Клуба», знакомила с уставом. В твой рекрутский набор входила вся тусовка на Дундича. Степан был ответственный за подрывную деятельность, Тарас вёл процесс информационного обеспечения при подготовке и реализации твоих управленческих решений. Девушки исполняли роль эмиссаров. Лена была направлена спецпредставителем в ячейку Южная, территориально располагавшуюся на территории микрорайона Адлер в городе-курорте Сочи, Ира возглавила Северную группу в Питере. Достоверно будет установлено о функционировании ещё двух ячеек — Центральной и Восточной, одну из которых ты приехала посетить в Москву с целью ревизии. А всего две недели назад в Екатеринбурге «Клуб» проводил съезд, где обсуждалась готовность к выполнению основных целей и задач террористического сообщества.
— А художник, скажи…
Глеб осёкся. Он непонимающе уставился на Нэнси.
— Он тоже замешан в этом?
— В чём? — Глеб почувствовал, что Нэнси неспроста интересуется судьбой Аткарцева: она куда-то гнула, что-то затевала.
— Репутация дороже истины? — миролюбиво спросила Нэнси и припомнила: — Репутация твоего отца. Ты же её поправил, верно?
— Я заблуждался на его счёт, — сказал Глеб тихим, недовольным голосом. — Вся эта суматоха вокруг Дьявольской Библии не стоила и комариной плеши. Несуществующее факсимиле…
— Как «несуществующее»?
— Ты видела другую книгу.
— Другую? То есть?
— Сейчас это неважно.
— А что важно? Что твой отец подставил невинного человека, как и ты сейчас делаешь ровно то же самое со мной и остальными, которые — уж ты-то точно знаешь! — ни в чём не виноваты.
— Это другое! — сказал Глеб и закусил в раздумьях нижнюю губу, — у него была потребность исповедаться. Наконец он раскрыл все карты, по крайней мере, главный козырь: — Гарибальди предложил быть мне твоим куратором.
— Та-ак! Я ничего не понимаю.
Теперь Нэнси со страхом ждала ясности, которой ей была нужна — и эта ясность приближалась. Глеб вдруг заговорил по-новому, на новый лад.
— Ты слышала что-нибудь про ВАФ?
В этом вопросе была вся сущность начатого разговора — суть, которую мог уловить (пока!) только вевший беседу Иванголов.
— Всеобщий антиисламский фронт, — пояснил непонятную аббревиатуру Глеб. — Основная идея проекта — противодействие исламизации России. — Он обтянул губами плитку выпуклых зубов, но губы разошлись, выпячивая режущий оскал. — Заказчик — Кремль. На волне этого некоторые высокопоставленные лица очень заинтересованы в русском переводе «Сатанинских стихов». В конце прошлого года был подготовлен проект контракта с расчётом маржинальности и рисков, в начале этого — разыгран тендер.
Нэнси озабоченно опустила голову, вникая в слова.
— И нашлись такие смельчаки?
— Когда есть госзаказ и субсидии из федерального бюджета, поверь, рыцарей без страха и упрёка намного больше, чем ты можешь себе вообразить. Некое крупное издательство готово хоть сейчас освободить мощности для издания книги десятитысячным тиражом. Насколько я понимаю, это первый завод. Будут продажи, будет допечать — второй, третий тиражи. А продажи будут точно, потому что заказаны и оплачены положительные рецензии у нескольких литературных критиков, выделен эфир на радио и полным ходом идёт монтаж буктрейлера, который прогонят по федеральным каналам в прайм-тайм. Важно запускать процесс уже сейчас, чтобы книга появилась в продаже в ближайшую неделю-две. — В голосе Глеба засквозило очевидное «но», потому что, набрав силу и твёрдость, его партия стала слабеть. — Но проблема в том, что переводчики не успевают. Выгодный контракт, но никто не ожидал: текст оказался чрезвычайно сложным для адаптации к языку и культуре русского читателя.
— Есть простые вещи, которые можно в среде знающих людей обсудить по-деловому, — сказал Глеб. — Я, к сожалению, имею мало… вернее, совсем не имею отношения к специалистам, занимающимся переводом…
— Я филолог! — напомнила Нэнси. — И профессией переводчика тоже не владею.
— Тем не менее, ваше сообщество готовит перевод романа.
— Эти данные неточны, — моментально среагировала Нэнси.
— Не юли, — строго одёрнул её Глеб. — Я располагаю данными, что перевод почти закончен.
Нэнси вытаращилась на миг, но тут же взяла себя в руки.
— Допустим так, — вытряхнула она из себя с усилием слова. — Тебе-то что?
— Наступает хорошее время для тайных дел, — сказал Глеб, смачно вдохнув воздух животом и сунув кулаки в карманы брюк. — Прогуляемся?
— Куда? — насторожилась Нэнси.
— Есть тут одно местечко, — уклончиво ответил он и мягко подтолкнул Нэнси к лестнице. Она безмолвно повиновалась, ждала развязки, которая уж скоро, уже совсем близко. Они поднимались по забитым лестничным пролётам, теряя по пути эту забитость до обнуления. Долго шли с мрачными лицами, словно поссорившись сперва по светлым коридорам, потом по полутёмным, холодным, пропахшими свежими акриловыми красками. Негромко вздыхали открываемые двери, сквозь которые протаскивался Глеб.
— Вот сюда, — обронил он с докторской уверенностью, нашарил и толкнул какую-то дверь, загрёб в свою костистую ладонь, как щепоть, тонкое запястье Нэнси и зацокал затвердевшими на холоде мысками обуви по ступенькам короткой лестницы, которую отсекала ещё одна вздыхающая дверь.
Огромные массы морозного воздуха бросились наперегонки порывами на молодых людей. Нэнси и Глеб вышли на террасу, с одной стороны которой шла отвесная стеклянная стена кубической пристройки. Весёлой редкой строчкой цвели и танцевали на ветру малиновые огоньки заградительных гирлянд. Над городом низко светился жирный полумесяц убывающей луны, похожей на боевой, изогнутый вперёд клинок с внутренней заточкой, готовый своим лезвием пропороть полотно пёстро-крапчатого неба — неба, пропаренного приглушённым маревом сияния, идущего от города, как пар от люка теплотрассы.
Нэнси вмиг окоченела. Её тренчкот остался в гардеробе. Она многозначительно сложила ладони в лодочку и надула щёки, вгоняя в этот чёлн побольше жара от дыхания, обхватила, обняла себя за плечи и поколотила их худыми пальцами, вышибая трением тепло. Глеб всё понял и пиджак с узором «в ёлочку» перекочевал на эти хрупкие, худые плечи.
— Кстати, о Кремле, — прохрустел его голосок, дуя в ухо Нэнси винным зельцем. — Он всего в каком-то километре-двух отсюда. Если бы не плотная застройка центра, звёзды на башнях можно было б рассмотреть.
Глеб не врал. Ещё каких-нибудь десять-двенадцать лет назад с крыши дома на Остоженке вырисовывались потрясающие открыточные виды на московский Кремль. Теперь пятиугольные гребешки форбашен топли под слоем близкой для наблюдателя архитектурной доминанты. Залепленный литым армобетоном, словно воском, Кремль уступал своё великолепие взорванному и воссозданному кафедральному собору на Волхонке, храму-памятнику, храму-монументу, храму-артефакту. Весь в электрических пучках розовых лучей, он напоминал дышащий огнём и светом драконий зев, и кресты, как нездоровая альтернатива звёздчатым навершиям кремлёвских шпилей, тяготили догматическим диктатом.
Нэнси вдруг к месту вспомнила, как прошлым летом примерно с той же высоты она обозревала петербургские недостопримечательности района Купчино в компании Ленки и Тараса, где они жарко спорили о надёжности и прочности жизнеописаний одного древнего назарянина, собственно, как и о существовании самого Назорея, в чём, как ей казалось, просматривался определённо какой-то сакральный символ, что спустя немногим более полугода она стояла на московской крыше и глазела на православные кресты, которые сами по себе как бы говорили: не так важна правда, как вера.
Глеб не торопился. Он был хороший, проворный исполнитель воли строгого продюсера. У него была потребность не только во внутренней, но и внешней опоре для выполнения поставленных задач. Он плавно, свободно и неуклонно двигал к цели.
— От имени заказчика я предлагаю тебе сделку. — Он бойко вскинул руку, пояснил: — Переуступка прав на перевод романа. Понимаешь, что они хотят?
— Зачем им это? — спросила Нэнси, отсекая слова чеховскими паузами, из-за чего фраза вышла какого-то наигранного, постановочного свойства. Так она пыталась обойти стороной свои догадки даже в мыслях.
Глеб вдруг провёл рукой по женской талии, и Нэнси вздрогнула. Но он всего лишь шарил по подкладке собственного пиджака, нащупывал карман. Вынул пачку сигарет, сунул в рот рассеянно одну, выстрелил в неё — не с первого раза — трепетавшим на ветру спичечным огнём, торопливо затянулся и, дав погулять дыму в лёгких, окутал Нэнси плешивым на гудящим сквозняках вонючим облаком. Вместе с дымком выдохнул колючие слова:
— Манипуляция массовым сознанием в целях сохранения нынешней элиты у власти.
Глеб произнёс это с лёгкой грустью меланхолика, тоном старшего, тоном человека знающего, способного торжественно присовокупить: «Сейчас вы получите ответ, кому ещё не ясно». Но разъяснений не последовало. Глеб только горько улыбнулся в сторону и стал рассматривать пальцы на своей руке.
— Подведи меня хотя бы к одной разумной мысли, — потребовала Нэнси, разозлившись на такой ответ, больше запутавший, чем что-то объяснивший.
Глеб не хотел и не желал вывёртываться из трудных положений, но более всего он не любил неудобные вопросы. Впрочем, это был иной случай. К этому вопросу он готовился, он даже согласовывал его на должном уровне, поэтому, расчесав неуловимую синеву бритой щетины, изобразил на лице терзанье принимаемых решений, сгорбился, поводил глазами направо и налево, будто боялся лишних глаз или ушей даже здесь, на облизанной ветрами крыше.
— Москва учла опыт цветных революций, — он вытолкнул из себя новую порцию дыма, похожего на тополиный пух, тут же соскользнувший с порывом ветра к сиропным струям света храмовой подсветки. — Сербия, Грузия, Украина, Киргизия. Список, уверен, будет пополняться, и там — он показал в сторону, куда улетел дым, — очень не хотят попасть в него.
Он задумался, щелчками выправляя пепельный вихор стремительно тлеющего табачного цилиндрика.
— Человек, отвечающий за правила игры в Кремле, судя по всему, — продолжал он, — делегировал право принятия соответствующих стратегических решений своему преемнику.
— Делегировал? — выделила Нэнси. — Или делегирует?
— Это не оговорка, — пожал плечами Глеб. — С базовой манипулятивной технологией избирательная кампания начала и успешно закончила операцию «преемник» задолго до дня голосования.
— Если я правильно тебя поняла…
— Ты правильно меня поняла, — грубо оборвал Глеб. — Сейчас, пока мы говорим с тобой, с избирательных полей весело рапортуют губернаторы. Они полны административного восторга: обеспечили режим высокоявочной поддержки кандидата от партии власти. Это не драка за электорат и уж точно не истерика избирательного штаба. Франшиза выдана, теперь нужны зомбирующие установки на поддержку и преемственность курса.
— Говорить сегодня о преемственности власти не приходится, — догадалась Нэнси и покачала головой. — И что же это за установки такие, что Кремлю понадобилось делать мейнстримом в России антиисламистский текст?
— Много чего, но среди прочего, укреплять авторитет церкви. — Напоминая гида, Глеб картинно указал на сгущённые розовым сиропом света контуры главного кафедрального собора страны, будто бы случайно подвернувшегося под руку. И сразу стало понятно: не случайно! — Русская православная церковь давно и упорно работает над восстановлением своей религиозной роли. При разваленном Союзе она могла сделаться одной из сект, запросто. Помнишь, я говорил: важно не то, что человек верит, а во что он верит. Чёрные удойные иконы Димира — это ещё пестики да тычинки в сравнении с тем, какие цветы зла расцветали в этих непаханых русских полях. Церковь искала защиты у новой власти — и нашла. Обновлённая власть смекнула, что православие — это, в сути, единое революционное учение, вроде того же марксизма-ленинизма, мощнейшего идеологического оружия, которое почти семьдесят лет помогало не столько строить коммунизм, сколько поддерживать формат генсековско-вождистского правления. Россия много потеряла в результате краха Советского Союза, но самой главной потерей была идеология. Это он, — Глеб покрутил пальцами с сигаретой возле виска, вызывая определённый образ, — понимал с первых дней правления. Именно тогда Госдума приняла закон, который возвращал РПЦ всё конфискованное в советскую эпоху имущество. Православное христианство зашагало дружно в ногу с концепцией русского национализма. Этого и добивался в своё время Кремль, чтобы зафиксировать в сознании многонационального жителя России некий русский стандарт. В этом стандарте, думаю, будет в перспективе прописано православие, как религия государственного уровня. Это звучит на грани фола, но я уверен, что таким образом власть реализует недопущение антирусской консолидации российских народов. Ты удивишься, но в стране, если верить социологам, национальную идентичность привязывают к православию даже мусульмане и атеисты, так что в этом смысле церковь — великий примиритель, хотя для Кремля — это просто средство укрепления влияния, и выход в России запрещённой во многих арабских странах книги — всего один из многих освояемых способов демонстрирования новой старой властью образа России в роли покровителя религиозного консервативного мира, где нет и не может быть места исламизации. Перефразирую известную пословицу: что христианину хорошо, то исламисту смерть.
До этих слов в Нэнси тревога только тлела. А после — всё сразу с силой обломилось и покатило вниз без тормозов. Округлив щёки, она выдула длинный звук. Она издала вздох человека, успевшего с догадкой, которую теперь уж можно было думать, не только думать — и высказывать.
— Иными словами, это пропаганда, раздутая до размеров романа?
— Очень точно подмечено, — похвалил Глеб, пуская бычок по ветру. Искрой он заметался по крыше, сиганул вниз и пропал. — Так что скажешь?
— Что скажу? Скажу, что перевод «Стихов» — не моя заслуга. Это коллективная творческая работа. Это раз. К тому же…
— В любом коллективе всегда есть лидер и его последователи. Я сейчас говорю с тобой, как с вожаком, а не как с эпигоном.
— … к тому же, — продолжала свою мысль Нэнси, терпеливо выждав, когда Глеб умолкнет, — любительская. Означает, что у нас нет исключительного права, им обладает только автор. Это два.
— Салман не против.
— Ты слышала, — глухо буркнул Глеб. — У нас есть согласие автора. Письменное. Мы получили разрешение на публикацию перевода этого романа в первых числах февраля.
— У Салмана Рушди? — Нэнси подавила в себе сомнение, нахохлилась, слегка накаляясь любопытством.
— Конечно, — беспечно ответил Глеб, словно это была его личная заслуга. — Не сомневайся, так и есть. Или ты думаешь, издательство так будет подставляться, что напечатает роман с нарушением авторского права?
Нэнси смутилась — её острое, воспалённое внимание потускнело, она не знала, соглашаться или нет с подобной постановкой.
— На обложке будет узнаваемое имя. Переводчик — очень влиятельный человек в медиасфере. Будет публичный дискурс, выдвижение на премию. Да, ваши фамилии нигде не будут фигурировать, но, поверь: тебе и твоим… единомышленникам это пойдёт в зачёт! Это будет настоящей честной сделкой. Вам позволят вести и дальше свою деятельность, вернее, закроют на неё глаза. Ты останешься идейным вдохновителем организации, но, как бы это сказать, будешь трудиться на оба фронта…
— На оба? Вот как! Значит, цель оправдывает средства?
— Да, Нэнси, да! Да, чёрт тебя возьми, о том я и толкую! — вдруг разозлился Глеб. — Человек должен иметь цель, идеологию и идеал, к которому надо идти. Иначе он заблуждается и превращается в аморфную, безвольную субстанцию.
Нэнси инстинктивно попятилась назад и посмотрела долгим взглядом на него.
— А ты не заблуждаешься? Насчёт художника, насчёт отца, насчёт меня, насчёт себя, наконец? Участие в высокой и ответственной игре — ты не считаешь это самообольщением или даже, может, самой крупной ложью в твоей жизни — ложью самому себе! Власть плодит себе врагов среди абсолютно мирных граждан. Она уже не может остановиться и лупит налево и направо. Обиднее всего, что она делает это руками тех самых — мирных. Лично для себя я понимаю, что на таком топливе, как страх и ненависть, можно много и эффективно работать. И кому-то это точно пойдёт в зачёт. Но ведь есть, элементарно, совесть, как это ни банально прозвучит. Надо будет держать ответ и все твои «зачёты» окажутся такой бессовестной галиматьёй. И я не договорила! Думаю, что выскажу мнение многих, если не всех своих единомышленников, — она подчеркнула последнее слово интонационным перебором Глеба, передразнив с тончайшей издёвкой. — Мы хотим быть сами по себе, вне вашей драки. Понял?
— Как по-твоему, Нэнси, что такое совесть?
Нэнси шире распахнула готовые к драке глаза.
— Совесть? Это чувствилище. Это выразитель, нет… изобличитель собственных пороков. Понимаешь? Или ты не понимаешь, потому что ты — один из них, точно такой же, как они.
— Я не чувствую совесть, но я могу её описать. Странно, да? Хочешь знать?
Нэнси пожала плечами: как угодно.
— Это когда всё стало на места, как в тетрисе. А потом случается такое «вдруг» и все твои навыки игры идут псу под хвост, потому что ты начинаешь создавать вокруг себя сдавленное спёртое пространство из нагромождений геометрических фигур, пропускаешь ходы намеренно и не для личного кайфа, разумеется, а ради попытки проникнуть со взломом туда, куда всегда входил с ключом. Кхм, м-да. Никто не совпадает с моей трактовкой.
— Когда ты говоришь, что никто не совпадает с твоей трактовкой, это значит, что ты не совпадаешь ни с чьей.
— Да, наверно. Власть не признала свою ответственность за гибель экипажа «Курска», затянувшей допуск иностранных спасателей. Не признала свою вину за гибель заложников «Норд-Оста», погибших не от рук террористов, а от газа и неправильно оказанной помощи. Наконец, власть не созналась в убийстве сотен заложников в школе Беслана. До сих пор большинство не знает, что дети погибли в спортзале от того, что по ним стреляли из танков. Но! Это моя трактовка. Она уж точно не совпадает ни с чьей из власть имущих, и, хотя бы поэтому: не надо всех катать под одну гребёнку.
— У меня тоже всё стало на места, как в тетрисе, — возликовала Нэнси. — Своей экстремистской страшилкой ты пытаешься меня укладывать в прокрустово ложе. Так вот, — почти закричала она, — укладывать замучаешься!
— И тебе плевать на «шабашистов»? — серьёзно уточнил Глеб. — Всех, кого вы вовлекла в процесс и которые пойдут под статью?
— За что? За перевод незапрещённой в России книги?
— Нет. За это не сажают. Но у Степана могут уже завтра найти компоненты СВУ — две жестяные банки из-под краски с селитрой и канистру дизельного топлива. У Тараса — липовые патенты на работу для мигрантов из Средней Азии, у Лены — пятьдесят копий перепечатки эссе «Бала сатаны на обломках России» из Федерального экстремистского списка, а у Иры…
— Но я бы никогда это не признала. И они!
— Вот это, — Глеб наложил пять твёрдых пальцев на затылок Нэнси, слегка повернул её голову и фиксировал, удерживал в таком положении, пока договаривал слова, глядя глаза в глаза. — Вот это и есть настоящее заблуждение! Как твой пример. У нас в отделе это называют творческой работой над признательными показаниями. Ответы «нет», «не знаю» и «не помню» — считаются неправильными. Сочинили бы своё признание!
— Наверно, это лишнее, — сказала Нэнси и страх скребанул по днищу сознания, мучительно настойчиво стал пульсировать, подбираясь выше. Она, перехватив и сжав запястье Глеба, медленно, почти ласково отвела его руку в сторону.
— Много пафосной пошлятины, да, но это всё что мы умеем, — будто сам себя одёрнул Глеб и, опомнившись, поспешно пихнул руки в карманы брюк. — Я полагаю, мы сможем вернуть ситуацию в безопасные рамки. Я хочу сказать, — он замешкался, осторожно подбирая нужные слова, — что мы все люди из толпы. Мы, по большому счёту, дети. Вот как в детстве, когда что-то запрещают, хочется это взять и попробовать. Естественно воспринимать любой запрет, как ограничение свободы. Это рефлекторно побуждает к стремлению нарушить запрет, преодолеть это препятствие. Только ставки выше, чем тыренные из буфета леденцы или впихнутая в рот лампочка. Кое-что посерьёзнее. Я это понимаю, именно это объединяло нашу тусовку. Ты была одной из них, ты была одной из нас…
— Нет, я не была одной из вас, ты ошибаешься. По природе своей, по душе, я завзятый конформист, совершенно не противный большинству. Люблю артельную работу, коллективный труд…
— Ты тоже человек толпы, — строго возразил Глеб, — а значит соблазн есть и у тебя. Ты в перманентном ожидании соблазна и тебе не чужда текучая природа запретного. Ты, я, остальные — мы все из поколения двадцатилетних. Мы в силу возраста определяем лицо протеста. Мы есть сопротивление, мы — оголённый нерв! Посмотри: у каждого из квартирующих на Дундича была заявка на протест. Стёпа — бунтарь-пироманьяк, у него почти болезненное влечение ко всяким взрывам и поджогам. Ира ломает положенное в обществе табу на смерть. У Ленки дьяволомания, она не столько тяготеет к культу сатанистов, сколько участвует в творческом эксперименте в столь изощрённой литературной форме. Буба партизанит в подполье, лабает на коленке запрещённую книжатинку. Каждый, находясь в толпе, ждёт расширения границ свободы, но плод свободы — это ядро каторжника. Кому-то, может, не хватает энергии, бескомпромиссности и внутренней свободы, но только не тебе.
«Нет, — со страхом подумала Нэнси, — он не расстанется со своей унаследованной от родителя мечтой раскрыть хоть раз в жизни настоящий заговор». Глеб долго смотрел в глаза Нэнси, выдерживая её исследующий взгляд. Как будто прочитал мысли, ухмыльнулся:
— Не переживай, моя кадровая скамейка очень коротка. Она ещё не закончилась лишь потому, что Гарибальди любое обещание считает вызовом. Это принцип, которому он следует. Если мы не всегда властны исполнить наше обещание, сказал он как-то, то всегда в нашей воле не давать его. А если дал, считай, принял вызов. Когда-то он принял сложный вызов — дал обещание моему отцу присматривать за мной.
— Ничего не будет, если не постараться, чтобы это было, — заметила Нэнси.
— Это не заявление в духе конформизма, — усмехнулся Глеб.
— Это универсальный рецепт не конформного, а комфортного существования, правильнее, наверно — сосуществования… со своими убеждениями.
— Подозреваю, этой фразой руководствовался Гитлер, когда торил дорожку, стараясь вырваться из толпы. Я же понимаю, о чём ты.
— Хватит! Ты ни черта, ни черта не понимаешь! Пойми, нельзя ходом вещей сейчас вытеснить чужое и установить своё, новое. Всё должно остаться на своих местах! Если ты думаешь иначе, то это очередное заблуждение! Как твой пример.
— Что это значит?
— Это значит, что твои данные неверны. Перевод не только без «почти» закончен, но и обнародован. Примерно десять часов назад я залила его в сеть. Даже твой одноклеточный страж порядка, твой продюсер Гарибальди, который обнаружил ахиллесову пяту современной молодёжи, не забыл и про меня, уже не в силах как-то повлиять на эту ситуацию.
— Блефуешь? — не поверил Глеб, не беря в расчёт и толк, зачем ей это надо.
Нэнси не стала отвечать. В конце концов, в её задачу не входило разубеждать Иванголова в обратном. В это время завёл мирную извилистую песню Guenta со своим Das Boot. Нэнси обхлопала себя, нащупала источник звука и вытащила из кармана. Заглушенный подкладкой пиджака телефон, извлечённый наружу, набрал пиковую мощность. Прежде, чем Глеб, напряжённо следящий за Нэнси, потянулся к аппарату и отобрал его, девушка успела против воли охватить мгновенным взглядом экран мобильника, на тёмной крыше превративший её в фототрофный организм, питающийся светом. На дисплее мерцала зелёная иконка телефонной трубки, сквозь которую проскальзывали, набегая, слова: «Вызывает… Работа».
Глеб тоже посмотрел в экран, глубоко вздохнул и задержал дыхание, как искатель жемчуга перед прыжком на морскую глубину. Он поднёс телефон к уху и чуть наклонил голову, слушая. Всё это время он не отрывал пытливых глаз от Нэнси. Сперва он молча слушал кого-то на том краю радиосеанса, а потом стал задавать вопросы. В основном это были высокопарные вопросы в духе риторики, вроде «Как?», «Зачем?» и «Почему?». Он получал на каждый из них от невидимого собеседника совсем не односложные ответы, потому что паузы между вопросами растягивались и нарастали, став к финалу разговора могучими и даже громоздкими.
Окончание беседы ознаменовал пробивший сырое небо снег. Шквально-бешеные вспышки ветра разметали тающие хлопья по напряжённым лицам молодых людей, выжидательно смотревших друг на друга. Глеб крутил, ставший ненужным телефон, затем стал мять и гнуть между пальцами усы и нос, словно раздумывал над какой-то неотложной задачей, не зная, с какого краю подступиться.
— Ты хорошо оговорилась, — проронил он наконец, бесцеремонно вытряхивая Нэнси из пиджака и нахлобучивая его на собственные плечи. — Насчёт ахиллесовой пяты.
Он развернул несколько не очень свежих от хранения в заднем кармане отпечатанных на принтере листов. Изучил сощуренным взглядом под светящимся экраном мобильника, отобрал половину и пустил по ветру. Листы, подхваченные стихией, тут же унеслись во мрак. Сухой остаток трёх листочков он с силой вложил в ладони Нэнси. Затем он совершил совсем уж странное: выломал из заднего отсека телефона батарею. Аккумулятор положил в один карман, телефон в другой.
— Сейчас мы спустимся в фойе, — сказал он, — я отлучусь в уборную, а ты заберёшь из гардероба свои вещи, оденешься и, не оборачиваясь, выйдешь из здания, повернёшь налево и дойдёшь до станции метро. Тут недалеко. Тебе нужен Киевский вокзал. Это две станции с одной пересадкой на кольцевой. Ты запоминаешь? Запоминай. С вокзала каждые полчаса или час идут аэроэкспрессы до Внуково. Билет на сегодняшнюю дату. Последний в полночь, садишься на любой. Время в пути тридцать пять минут. Твой рейс через три часа, ты должна успеть пройти регистрацию и улететь этим самолётом на свою «дальнюю землю».
— А что будет, если я откажусь?
— Буду считать, что ты оговорилась, и спросила меня, что будет, если ты не успеешь на этот рейс? Поверь, ничего хорошего. Гарибальди считает тебя подходящей кандидатурой для сотрудничества. Тут даже уже не важно, что перевод за авторством Анны Нэнси Оуэн вовсю гуляет по сети, важно, что силовики копают там, где им ставят задачу, а Гарибальди силовик старой школы и работу свою знает на «отлично». Ему кровь из носу нужен новый человек на подписке в эту вашу дружную компанию. Ведь вопрос не в том, кого они вербуют, а в том, для чего. Будет опрос, будет приглашение к сотрудничеству, будут угрозы и папка с компроматом. Теперь о том насколько опасно ответить отказом на такое приглашение. Не опаснее, чем их перехитрить, но сделать это там в кабинете на Лубянке будет сложно. Они хитрее и они чувствуют фальшь, потому что сами насквозь фальшивы. Так что хитрить будем заведомо и сообща. Посмотри, кроме билетов, у тебя в руках есть форма заявления. Там написано много, но суть: для тебя любые контакты с ФСБ неприемлемы и что все подобные вопросы ты будешь решать через адвоката. Перепиши от руки. Поставь сегодняшнее число, подпись и отправь на адрес: Москва, Кузнецкий мост, 22 заказным письмом с уведомлением о вручении. Ты всё запомнила? Это очень важно.
— А что будет с ребятами?
— Не переживай, ничего с ними не станется, — сказал он.
— Но ты же говорил…
— Историю можно раскручивать, когда есть история, — раздражённо произнёс Глеб. — А там истории нет. Там всё ещё зыбче, чем с моим подбросом наркоты. Это карточный домик, он посыплется, как только делу дадут ход. Таких сенсаций им не нужно. Я подтвержу твои слова об адвокате, скажу о серьёзности намерений. После заявления ты автоматически выпадешь из сферы интересов конторы. Надеюсь! Но ты должна постараться надеть шапку-невидимку. И, может, всё будет хорошо.
Нэнси запечатлела и сгустила в памяти последние его слова. То была псовая охота — чисто русская забава. Псовая охота есть несомненно принадлежность к быту зажиточного барства. Как и любая другая затея ради развлечения эта склонна из дела исключительно хозяйственного превращаться в дело отчасти спортивное и даже в страсть. Страстный «борзятник» Гарибальди знал, для успешной охоты обязательна притравка молодых борзых. Без неё забава — не забава, а сплошное неудовольствие, как от скверной карточной игры. Но плоха та борзая, что не имеет врождённый от природы злобы. У неё может быть инстинкт ловли, лють и даже много яда, который великолепен для желчной грозности и крепкого свирепства. Для очертаний облика, для профиля — да, в плюс, но не для борзой породы, где главное не облик, а характер. Не о таком звере сказал Ницше: «Человек есть самый лучший хищный зверь». Хищничество такого человекозверя стоит по ту сторону добра и зла, имея космогонические корни сверх всякой меры. Такой зверь не будет брать «по месту», ибо в его душе звёздные скопления, туманности, галактики. Таким зверем был Глеб, хотя и видел, и представлял себя иначе. Это не имело к Нэнси никакого отношения, это было поле битвы человекозверя, человека и зверя. В тот момент Иванголов спасал не Нэнси, он спасал себя, проходя в лучших традициях Бейли и Лавкрафта санитарный акт инициации. Молекулярной тайнописью мышления Нэнси смогла вывести для себя главный пункт исповедальной санитарии Бигла, укрепившего слова благородным отчаянным поступком. Это искупительная жертва зверя, возжелавшего стать человеком, сиречь нельзя быть за гранями добра и зла, и при этом растворяться в мире, корреспондируя с собственною виноватой совестью. Священные словесные конструкции, до края перегруженные военщиной, милитаризмом и ненавистью к чужому мнению, оказались, по счастью, набором толчков для чьей-то интуиции, рассчитанных, как и христианские притчи или дзенские коаны, на истолкование реальности. Ибо: всё названное словом — объективная реальность, с оговоркой: субъективно освещаемая и вольно интерпретируемая. Сейчас эта реальность помораживала, делая сакральную геометрию православных крестов на храме Христа Спасителя построже. Миссия Глеба была окончена, а, может, она только начиналась. Изобличив свои пороки, он вписал и в свою повестку дня «джихад» — священную войну, которую никто не отменял.
2018, февраль — 2019, август
Фрагмент из ИНТЕРВЬЮ с Анной Нэнси Оуэн, записанный автором в марте 2018 года.
А. Н. О. Всё названное словом — объективная реальность. Не иллюзия восприятия, не фантазия, а действительность. Даже если Пегас никогда не существовал, но единожды был назван словом, значит, он существовал и, кто знает, может, существует до сих пор.
ИНТ. Перефразируя Декарта, я назван, значит существую.
А. Н. О. Примерно так.
ИНТ. Любопытная гипотеза. Вопрос в том, насколько она коррелируется с правдой?
А. Н. О. Надо смотреть глубже и видеть дальше, чтобы разглядеть всю тайнопись мира. Опыт накладывает на мировоззрение печать глубокого скепсиса. В этот момент очень важно верить. Иногда вера важнее правды. Ведь, согласитесь, изнутри такие вещи не пишутся (прим.: роман С. Рушди «Сатанинские стихи»), чтобы такое написать, нужны странствия духа, поиск веры. Да, меня потрясла сильно эта история, настолько, что, когда я её прочла, то решила объявить Джихад, то есть Священную войну, где главным оружием было бы Слово. Для этого надо было придумать какую-то свою тайную организацию, и мы её придумали. Придумали клятву, устав, провозгласили почётного руководителя, именем которого был назван клуб, и учредили почётных членов и мучеников за нашу веру.
ИНТ. На это нужна определённая смелость.
А. Н. О. Может тогда это казалось смело, но на многие даже менее героические вещи мне часто не хватает смелости до сих пор. Например, поговорить кое с кем кое о чём. Как видите, не хватило храбрости даже сказать сейчас — с кем и о чём. Это не имеет отношения к переводам, религиям, книгам — это совершенно личные, почти бытовые вещи. В чём-то признаться, за что-то попросить прощения. Конечно, и на многое другое тоже. Под псевдонимами всё это делать гораздо проще, но есть вещи, которые можно говорить только от своего лица. И вот это бывает очень страшно.
ИНТ. Чем пересилить этот страх, чтобы дойти до конца и сбросить маски?
А. Н. О. Я думаю, убеждением. Чтобы идти до конца, как протестующий монах, надо иметь силу, которую даёт только искренняя убеждённость. Ну, а маску по-прежнему я не готова сбросить. Ещё не настало время.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
В ближайшие десять лет Нэнси не увидит Глеба. В сущности, в какое русло соскользнёт его жизнь после той их последней встречи, останется загадкой. Он или стал другим и расплевался с прошлым, или навсегда ушёл в заразу оголтелого релятивизма. Какой бы путь-дорогу не выбрал Глеб, подступы-маршруты его и Нэнси не могли и не должны пересекаться. Она же, не желая воплощать последствия, не будет и пытаться выведывать его судьбу.
После сетевой публикации «Стихов» Клубу пришлось вынашивать рекомендованную шапку-невидимку. Дело, как и предсказывал Глеб, развалилось раньше, чем оно стало кормовой базой некоторых чекистских бонз. «Шахиды» затаились, ожидая вердикта общества. И общество откликнулось, вынесло вердикт. В 2010-м на свет появился восьмисотстраничный сборник в твёрдом переплёте. Под обложкой два романа на русском — «Гримус» и «Сатанинские стихи» — без библиотечной книжной маркировки, без международного идентификатора издания. Книга по праву могла считаться несуществующей, наподобие Пегаса — мифологической крылатой лошади, которую никто живьём не видел, но о которой говорят и пишут. Впрочем, у Лены Милашевич на этот счёт никаких сомнений нет. На двадцать восьмой день рождения фолиантовый «пегас» долетел до именниницы, тем самым сбыв предречение Анны Нэнси Оуэн: Ленка таки получила лироэпическую инвективу рыцаря Рушди в подарок!
Представленные материалы первой идеологической диверсии клуба имени Хитоси Игараси оказались поражающе уместными, в первую очередь, для самих исполнителей диверсии. Действуя совместными усилиями сообщники превзошли самих себя в простой сумме действий каждого отдельно взятого участника, по счастливой случайности или тонкому расчёту гэбиста Иванголова, оставшихся для полковника Гарибацхелии в спасительной тени камео главного «клубного» инспиратора. Эта тень стала настолько густой и прочной, что до сих пор многие, знакомые по долгу службы (или от простой пытливости ума) с переводами таинственного A.N.O. полагают, что за трёхбуквенной аббревиатурой скрывается один отдельно взятый человек. Это не так. Сложный перевод романа Салмана Рушди «Сатанинские стихи» появился благодаря силе командной работы. По отдельности они едва ли смогли достичь успеха с переводом.
После «Сатанинских стихов» Рушди с периодичностью в год были пущены в народ «Некрономикон» Абдулы Альхазреда и несколько работ Алистера Кроули, в том числе его известное «Евангелие от святого Бернарда Шоу». Было отсканировано и вычитано клубом:
Никос Казандзакис. Последнее искушение Христа.
Николай Псурцев. Голодные призраки.
Спустя десять лет после осуществления первой диверсии тайного клуба имени Хитоси Игараси, Анна Нэнси Оуэн продолжает скрываться под маской анонима. Нэнси продолжает носить маску, полагая, что время разоблачения ещё не наступило. Для свободного признания нужно сбросить страх, но именно страх сейчас культивируется, как никогда рьяно, симптомы заражения им общества видны невооружённым глазом, слишком очевидны, чтобы этого не замечать. В наше время бесконечных исторических саг война продолжается, размывая всё более границы объективного. Эти саги уже срубили (и срубят ещё) массу читательской любви. Вопрос, не боюсь повториться, в том, насколько она коррелируется с правдой? Поиск правды чреват открытиями, он может породить сомнения в том, во что мы прежде свято верили. Нужна ли такая истина? Время покажет.
В сентябре 2017 года в Москву по своим каким-то личным делам заехал на пару дней мой приятель и наставник по бегу Илья. Мой — значит, автора этой книги. С Ильёй — крупным, крепким, со стрельчатыми бравыми усами на энергичном, вечно хмуром лице — я водил знакомство годом раньше, когда оба готовились к весенним стартам мультигоночной «Лиги чемпионов». Мы быстро сошлись на почве общих интересов, и я, чувствуя мастерство и технику нового знакомого, уговорил его меня наставничать. Многие хорошие дела решаются спонтанно, и моё участие в полумарафоне стало неожиданностью для Ильи, который практиковал до этого легкоатлетические кроссы, но из солидарности со мной выбежал и «половинку»67. Честно говоря, Илья типичный контрол-фрик, то есть имеет определённое стремление, я бы сказал, на уровне инстинкта, доминировать во всём, что происходит в жизни. У кого-то эта тотальность направлена на окружающих, у кого-то внутрь, на самих себя. Из первых получаются монархи и вожди, а из вторых выходят менторы и пастыри. Илья расположился где-то посередине этой разносортицы, умудряясь совмещать в себе дихотомические качества порфироносца и наставника.
В институтские годы у него не сложилось достаточно любезных сердцу связей, и он женился только потому, что где-то у него было помечено: к двадцати пяти обзавестись семьёй. Семья рассохлась на третий год, и эти отношения катились по инерции, пока он не забредил триатлоном, вскоре перекинувшись на исключительно трейловые68 гонки.
В спорте, в сути, нет ничего предосудительного ровно до тех пор, пока это не становится пунктом. Человек с пунктиком — скорее, оказия с ложной предпосылкой (а не простое чудачество, как многие думают), для родных и близких, ко всему, чудовищная провокация. С некоторых пор Илья живёт в лесу (идеальное место для бега по пересечённой местности на результат) в прогнившем деревянном срубе (не даёт прокрастинировать и развивает силу воли), в каких-то совершенно диких условиях, в которые он по очереди кунает отца, сына и бывшую жену.
Я не мог подумать, что моё участие в полумарафонской дисциплине будет воспринято учителем, как дерзкий вызов его ученика. Памятуя о его особенности (о которой я на тот момент не знал), можно прийти к полезному выводу: не удивительно и нормально, что Илья дал себе зарок пробежать через четыре месяца московский марафон. Удивительно было другое: двадцать один километр, которые я преодолел, откровенно, на изломе физических усилий, оказалась для него чем-то вроде прикидочного старта перед дистанцией, вдвое большей прежней.
Всё время высокоинтенсивной подготовки, с мая по сентябрь, Илья был моим соседом, снимая сорок квадратов «логова» в смежном подъезде. Частенько я захаживал к нему на мансардный этаж, и мы засиживались допоздна, гоняя крепкий и чёрный как дёготь чай под бормотанье радио. Оживляли нашу беседу споры не столько о спорте, сколько о литературе. Выходец из семьи потомственных интеллигентов, сын ленинградского профессора, лингвиста и словесника, он был до чрезвычайности ухватист в словесных пикировках, регулярно подлавливая меня в слабых местах теории литературы. Меня это раздражало, но и нравилось! Я видел в нём непререкаемый авторитет и часто просил (даже требовал) выступить в роли опального критика черновых набросков тогда ещё только нарождавшегося в моей голове будущего романа-палимпсеста.
Двадцать пятого Илья пробежал московский марафон за три часа и сколько-то незначительных минут (результат для первохода ошеломляющий!) и, в очередной раз себе и миру что-то доказав, укатил довольным питоном в своё гнездо под Тверью, чтобы через год случайно появиться снова в моей жизни. За поеданием сушёного кишмиша и распитием чая из грушевидных стаканов в азербайджанской чайхане на улице Пруд-Ключики (долго смеялись над этим нелепым набором слов) мы вспоминали прошлое лето и его активы. Он поинтересовался о моих успехах замусоривания романа буковками, и я не без удовольствия продемонстрировал рукопись «Асимметрии», написанную к тому моменту на две трети. Илья охотно согласился вычитать её и поинтересовался о сюжете следующей книги. «Закончить бы благополучно эту», — опешил я, не ожидавший подобной провокации, и тогда Илья предложил идею нового романа. Потом было знакомство с Борисом Ильичом (с отцом Ильи), лингвистом и хозяином квартиры на Дундича. Именно с того дня начинается хронология событий, предваривших историю знакомства с Анной Нэнси Оуэн. Спешу разочаровать некоторых (возможно): я по-прежнему не знаю её точного адреса, номера телефона или аккаунта социальной сети, как не знаю наверняка настоящее имя А. Н. О. Всё, чем я владею — адрес электронной почты, выложенный в свободный доступ на сайте Клуба tkihi.narod.ru, а также его «зеркале». Это обстоятельство не помешало нам совместно реконструировать историю, где, признаюсь, далеко не все имело место быть. Вдохновлённый реальными событиями, я всё же позволил себе переписать (или досочинить) некоторых персонажей (и сцены с их участием) в угоду художественной образности. Тем самым, не претендуя на полную достоверность изложенных событий, я оставляю каждому возможность самому решить, что есть реальность, а что — вымысел. Однако не спешите делать подобных разделений. Цитируя Нэнси, хочется напомнить: «Всё названное словом — объективная реальность. Не иллюзия восприятия, не фантазия, а действительность».
Кто назван словом, тот существует.
Примечания
Нет преступления без наказания (лат.). Норма римского права.
высокоскоростной поезд.
татами — маты 0,9х1,8 м, которыми застилают полы; традиционно ими измеряют площадь жилища, равны примерно 1,6 кв. м.
бекка — ускоренные циклы подготовки иностранных студентов при японских университетах.
универсальный тост, повсеместно распространенный в Японии, означающий пожелание пить до дна.
нихон-го — дословно «японский язык», в контексте фразы означающий нихонго норёку сикэн — экзамен по определению уровня владения японским языком для иностранных соискателей и поступающих в вузы; проводится дважды в год — в первое воскресенье июля и первое воскресенье декабря. Экзамен, проходящий в июле, называют сливовым из-за сезона «сливовых» дождей, длящихся с конца мая до середины июля.
система оценивания знаний нихонго норёку сикэн подразумевает использование баллов, однако, вообще, в Японии не принято оценивать работы учащихся; «улитка» — эмоциональная размашистая спираль красной ручкой поверх задания — означает всего лишь, что у учителя нет претензий к ученику и всё отлично.
школьное образование в Японии длится 12 лет, половина которых уходит на начальную школу, где почти всё время уделяется изучению японских иероглифов.
гебр — этноконфессиональная группа последователей религии зороастризма в Иране и Пакистане
популярная сладкая газировка.
Национальное полицейское агентство, Главное управление полиции Японии.
участковое отделение полиции.
отсылка к популярному в 80-х годах японскому сериалу «Волшебная фея Пелсия».
решение по какому-либо вопросу, основывающееся на принципах ислама и на прецедентах мусульманской юридической практики.
24 февраля 1989 г. во время уличных протестов и публичных сожжений книги Рушди в результате столкновения с полицией в Бомбее погибли 12 человек.
дебютный роман Рю Мураками, за который писатель был удостоен престижной литературной премии Акутагавы.
мусульманская религиозная община.
первое и важнейшее положение исламского символа веры, выражаемое формулой Единобожия «Нет бога, кроме Единого Господа, Мухаммад — Его посланник».
иноверец с точки зрения любого мусульманина.
Ормазд или Ормузд — «Господь Мудрый», используется в гимнах пророка Заратуштры, а вслед за ним и в молитвах всех заратуштрийцев.
отступничество в исламе, переход из одного состояния в другое.
совершившего иртидад называют муртадом.
истинный (пер. с франц.)
кабальитос — узкий стаканчик с массивным дном для употребления текилы; в переводе с испанского caballito — «лошадка».
даэдрический лорд безумия, мотивы и помыслы которого неизвестны.
имеется в виду Satyricon — норвежская блэк-метал группа.
«курьёзная болезнь» (лат.)
Валентин Скавр — ярчайший представитель отечественного сатанизма постсовесткой России, автор ряда работ (книг) по религии и философии.
типично викторианская книга о моральном вырождении обеспеченного и благовоспитанного молодого человека по имени Гастон от английской писательницы Марии Корелли, больше известной как автор мистического романа «Скорбь Сатаны».
«Ждать» (франц.)
рассуждение от противного.
пинкертончики — пользовавшиеся популярностью книжные серии детективов в дешёвом исполнении.
здесь: использование т.н. питерского сленга, в т.ч. «пухто» — пункт утилизации и хранения твёрдых отходов.
Шнурре Вольфдитрих — немецкий автор многочисленных рассказов, повествующих о событиях в Германии 30-х — 40-х годов ХХ столетия.
девчушка (нем.)
аккорд: усиленный раскоп квадрата 5х5 м (археол. сленг.)
В. В. Маяковский. Во весь голос.
Билли Конноли — британский комик; начинал как фолк-певец, но быстро нашёл своё призвание в стендапе. Обладал способностью, не имея ярко выраженных тем, своими интонациями и словесными каламбурами сделать смешной любую историю.
«Oraculo manual» — сборник изречений испанского философа Бальтасара Грасиана, 1647 г. Известна под адаптивным названием «Карманный оракул».
Бронислав Каспар Малиновский, 1884—1942, британский антрополог.
Ответ в твоём кармане (англ.)
Где я сейчас? Ищу… (англ.)
в оригинале «Railsea» — книга, написанная Ч. Мьевилем после описываемых здесь событий. Стиль британского писателя характеризуется как нетрадиционный стимпанк, однако в его прозе преобладает магический реализм и мистический ужас, поэтому сам автор определяет свой жанр, как weird fiction, то есть странная выдумка. Автор признаётся, что на его работы, особенно ранние, сильно повлияли лавкрафтовские ужасы, ядром творчества которых являлась вымышленная вселенная Ктулху (в частности для описания наследия Лавкрафта термин «мифы Ктулху» был введён Августом Дерлетом).
в своих мыслях Глеб обращается к памятной дате 30 июля 1934 года, когда с целью пресечь растущее влияние своих политических противников Гитлер развязал кровавую зачистку, вошедшую в историю как ночь длинных ножей (Nacht der langen Messer).
Ленинские (Воробьёвы) горы, но в данном случае имеется в виду МГУ им. М. Ломоносова, который территориально находится там же.
сочинения по марксизму-ленинизму.
«Бардо Тодол», так же «Бардо Тхёдол» — Тибетская книга мёртвых.
Гершуни Владимир, 1930—1994, поэт, диссидент, племянник Григория Гершуни (1870—1908), основателя политической контрреволюционной партии эсеров.
правильное название «В сторону Германтов», третий том из семитомного произведения М. Пруста «В поисках утраченного времени», написанный писателем в 1921 г.
букинист, к сожалению, не уточняет, кого именно — Харриет или Фостера — он имеет в виду, упоминая фамилию Кейс. Семейная чета Кейс определённо могла бы иметь отношение к «Кибалиону», однако споры относительно истинного авторства ведутся, не утихая, и поныне. Официально автор герметического сборника, изданного чикагским издательством «The Yogi Publication Society» в начале прошлого столетия, пожелал остаться неизвестным, подписав свои труды под псевдонимом. Версия о том, что это был Фостер, основавший спустя десять с лишним лет после издания «Кибалиона» всемирно известную школу В. О. Т.А., не выдерживает критики, поскольку на момент издания сборника он только начинал оккультные практики по герметизму, хотя уже тогда и вёл активную переписку с Уильямом Аткинсоном, до сих пор считавшийся более вероятным претендентом на авторство трактата. Неофициально, в литературных кулуарах высказываются мнения, что Харриет, будущая жена Кейса, действительно могла быть — но не автором, а соавтором «Кибалиона». В этом ей могли бы помогать Клаудия Брэгдон и Энн Дейвис. В самом деле, в неподражаемом стиле «Кибалиона» улавливается женская рука.
от Оst (нем.) — восток, гражданин ГДР.
в 70-80-х придуманное самими немцами обобщённое название для исламистских мигрантов, осевших в Германии.
perkons-krusts — гром-крест (латыш.)
Где это находится? (англ.)
сотрудники ФСБ (жарг.)
среди местных название части Финского залива близ устья Невы до острова Котлин.
легенда происхождения художественного произведения и/или предмета антиквариата.
Мать (нем.). Автокомментарий: стихотворение в авторском переводе Когда твоя мама стареет, и ты становишься старше, Ты знаешь, что раньше было легко и без усилий. Теперь же стало бременем. Если её преданный взгляд перестанет Замечать жизнь как когда-то, И уставшие ноги больше не будут Слушать тела и носить его. Подай ей руку и проводи её в последний путь, Потому что настал час, когда ты должен это сделать. И спросит она тебя, и отвечай ей, и спросит снова, Потому что настанет день — и она ни о чем спросить Тебя уже не сможет.
цитата Р. Брэдбери «Нет причин сжигать книги, если ты их не читаешь» (англ.)
цитата Романа Якобсона.
с постоянным местом жительства (англ.)
gaiden — в Японии этим термином обозначают отдельную сюжетную линию в повествовании произведения; в английском языке по голливудским лекалам для этого термина используют давно устоявшееся выражение spin-off.
роман О. д'Юрфе, повествующий о любви пастушки Астреи и пастуха Селадона, опубликованный в 1607 году; первое издание занимало 5399 страниц текста.
Валерий Гергиев — дирижёр, худрук и гендиректор Мариинского театра.
Пусть это будет приятным сюрпризом (англ.)
Пусть это будет или не будет… (англ.)
забег на полумарафонскую дистанцию 21,1 км.
от английского trail — тропа; спортивная дисциплина, подразумевающая бег по природному рельефу.





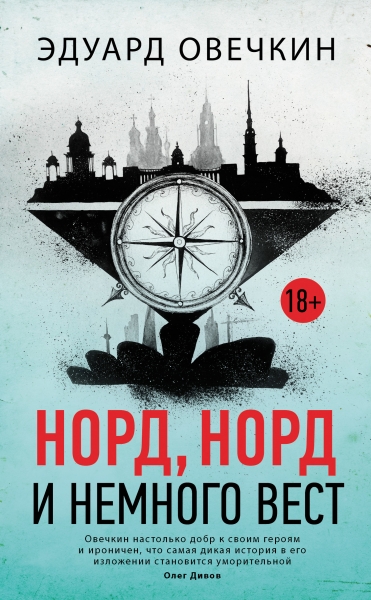






Комментарии к книге «Симптом страха», Антон Александрович Евтушенко
Всего 0 комментариев