Эра Ершова Самая простая вещь на свете
Благодетельница
Марина не планировала покончить с собой, под машину она попала случайно и, только оказавшись в больнице, вдруг поняла, что делать ей на этом свете совершенно нечего, и пожалела, что осталась жива. Лежа в палате на шесть коек, она вдыхала запах сырого больничного белья и думала, что этот запах плесени сопровождает ее всю жизнь и как нельзя лучше выражает суть ее существования. И действительно, любое ее начинание, любая попытка встать на ноги были как бы заведомо отмечены неуловимыми признаками распада, тления. Раньше Марина обладала неистощимым запасом энергии, оптимизма и после каждой неудачи спокойно начинала раскладывать свою жизнь заново, как пасьянс, который никогда не сходится. Подруги дивились ее жизнестойкости и выдержке, но, как говорится, жизнестойкость на хлеб не намажешь, и, хорошо понимая это, Марина работала над ситуацией.
Довольно рано она поняла, что стартовать ей в жизни придется с очень невыгодной позиции. Она не была, в отличие от своих подруг, дочкой благополучных родителей. То есть родители у нее были неплохие, но на этом все их достоинства заканчивались. Ни образования, ни денег, ни дач у них не было. Марина относилась к ним снисходительно, но с некоторым презрением и, тяготясь своим плебейским происхождением, в дом никого не звала и с друзьями семью не знакомила. Красотой Марина тоже не отличалась. Лицо у нее было никакое: нос большой, глаза маленькие, губы тонкие и какие-то вялые, а фигура и вовсе нелепая. Широкие плечи, абсолютно прямой торс, лишенный женственных изгибов в области талии, узкие бедра и вдруг, откуда ни возьмись, пухлые бабьи ноги с некрасивыми плоскими коленями и широкими щиколотками. Единственным украшением на этом странном туловище была пышная, как взбитая подушка, грудь. Но Марине и этого было достаточно. Она научилась, обходясь малыми средствами, из любой щели своей нелегкой судьбы извлекать молекулы счастья, и прекрасное это свойство озаряло ее унылую фигуру светом вдохновения. Едва уловимое свечение и неслыханное упорство были ее единственным капиталом, оружием и средством в достижении весьма скромных целей.
В двадцать лет, со скандалом разменяв жилье родителей на комнату в коммуналке и однокомнатную квартиру, она съехала в квартиру, тем самым намного опередив своих благополучных подруг. В кратчайшие сроки квартира была обустроена с нищенским великолепием. Не имея средств на покупку журнального столика и кресел, Марина отпилила ножки у обеденного стола и уселась на таком же подпиленном стуле поджидать жениха. Но время шло, а жениха все не было. Были мужчины, которые, вопреки природному замыслу, находили Марину женщиной весьма приятной и чувственной, а учитывая ее хозяйственность и наличие жилплощади, некоторые даже задерживались надолго. Но при малейшем намеке на совместное будущее мгновенно исчезали и больше никогда не появлялись.
Окончательно измучившись долгими поисками, она наконец познакомилась с армянином, который был настолько худ, что даже очки в толстой пластмассовой оправе болтались на его костлявой голове. Армянина звали Вартан. В душе он был фотографом, но, не имея к тому ни образования, ни подходящей должности, временно работал дворником за московскую прописку. Быстро оценив ситуацию и поняв, что ждать больше нечего, тридцатник не за горами, Марина раскинула сети, в которые довольно быстро попался романтичный дворник. Легко и бездумно он сочетался с Мариной законным браком и зажил на ее харчах, с каждым днем все больше расцветая и подходя буквально на глазах, как тесто в бадье. К этому моменту Марина уже закончила никому не нужный институт и работала неизвестно где и непонятно кем за нищенскую зарплату.
Вскоре после свадьбы Вартан обнаружил нехватку средств и стал проявлять признаки беспокойства, которые выражались в повышенном внимании к Марининым обеспеченным подругам. Поняв, что на скромную зарплату мужа не удержать, Марина озадачилась поиском нового места. Она обладала крепкой рабочей хваткой и не терзалась никакими амбициями в смысле престижа и прочей ерунды. В работе ее интересовал исключительно заработок. К нормам морали у нее тоже было своеобразное отношение. Она считала мораль чем-то вроде платья. Кому-то подходит узкое в горошек, а кому-то, наоборот, широкое в клеточку. «И действительно, — рассуждала Марина, — вон у Светки Мельниковой папа — дипломат. Конечно, ей ничего не стоит быть образцом нравственности. Она не пойдет в торговлю, и взяток ей не нужно. Зачем рисковать, когда и так все есть. А у меня никогда ничего не было. Не было, но будет. Я сама добуду все, что мне по рождению не додали».
Придя к такому умозаключению, она, недолго думая, устроилась на работу к узбекам в цветочный кооператив. В ее обязанности входила продажа цветов в ресторане гостиницы «Россия». Работа небезопасная, но денежная. Марина быстро научилась держать баланс на тонкой грани между правопорядком и криминалом, сообразила, с кем дружить, а кого сторониться, и вскоре деньги потекли в семью спокойным, ровным потоком. Вартан обзавелся профессиональной камерой и, забросив лопаты и метлы, стал фотографировать все подряд, безо всякой выгоды для семьи, но и без особого ущерба. Однокомнатная квартира расширилась до размеров трехкомнатной и стала стремительно наполняться дорогими, безвкусными вещами. Все шло прекрасно, пока чудесное развитие событий не было вдруг прервано одним непредвиденным обстоятельством.
Как-то раз, выходя с работы далеко за полночь, Марина была задержана сотрудником гостиничного отделения госбезопасности. Парень был свой, прикормленный, поэтому, нисколько не испугавшись, цветочница последовала за ним в кабинет, на ходу прикидывая, сколько ему дать, чтобы поскорее отделаться. Каково же было ее удивление, когда в кабинете обнаружилось еще двое сотрудников того же ведомства, но совершенно незнакомых. «Здесь что-то не чисто», — только и успела подумать Марина, когда один из парней, придавив ее чугунным взглядом, протянул руку и вежливо сказал:
— Вашу сумочку, пожалуйста.
— О господи, зачем же так серьезно? — попыталась пошутить Марина и протянула пузатую кожаную сумку.
— Вы нам ничего не хотите сказать? — поинтересовался молодой человек тоном, не допускающим никаких фамильярностей.
— Что вы имеете в виду? — пролепетала Марина, чувствуя предательскую слабость в ногах. — Можно присесть? — Она нащупала рукой стул и, не дожидаясь разрешения, опустилась на него.
Тем временем чекисты принялись препарировать содержимое сумки, склонив головы, как хирурги над операционным столом. В Маринином сознании лопнула какая-то пружина, и страх со звоном рассыпался по телу, доставая до самых периферийных точек. Ее мутило. Она была почти без сознания, когда крепкий детина затряс перед ее носом пачкой валюты, торжествующе выкрикивая номера статей Уголовного кодекса.
— Ничего не понимаю… — бормотала Марина, умоляюще глядя на Серегу. — Сереженька, миленький, что происходит?
— Ну, во-первых, не Сереженька, а Сергей Николаевич, — нагло поправил ее Серега, — а во-вторых, сейчас все объясним. На-ка вот, выпей, — он протянул Марине граненый стакан с коньяком. Марина выпила стакан до дна, как воду, и, сразу почувствовав облегчение, выжидающе уставилась на Серегу.
— Марина Васильевна, — услышала она мягкий, вкрадчивый голос. Серега и тот, который забрал сумку, расступились, и она сумела разглядеть третьего. За столом сидел пожилой мужчина, подчеркнуто заурядной наружности, в безобразном костюме, с серым обрюзгшим лицом. Он уныло постукивал по столу костяшками пальцев, как игрок, которому опротивел бездарный, постоянно проигрывающий партнер. — Вы же понимаете, Марина Васильевна, — прошептал он нехотя, как бы рассуждая сам с собой, — мы вас сейчас на пять лет оформить можем с конфискацией, а можем…
— Как вас зовут? — прервала его Марина.
— Петр Григорьевич. — В глазах чиновника мелькнуло вялое любопытство.
— Петр Григорьевич, что я должна делать? — спросила Марина и посмотрела ему в глаза твердо, со значением.
Пару мгновений чиновник изучал обращенный к нему взгляд, прикидывая и соображая, потом он устало поднялся, взял в руки потрепанный кожаный портфель и, уже подойдя к двери, проворчал тепло, по-отечески:
— Вот умница, девочка, ребята тебе все растолкуют. До свидания.
Петр Григорьевич вышел, а Марина осталась с двумя парнями, которые, сразу поменяв тон с подчеркнуто вежливого на хамовато-свойский, разъяснили ей суть дела.
Чекисты давно хотели избавиться от бабаев (так они называли узбеков, владельцев цветочного бизнеса), которые, сильно разбогатев, обнаглели и перестали делиться. Марине, как лицу, посвященному в дела кооператива, предлагалось посодействовать властям.
Понимая безвыходность своего положения, Марина согласилась. Без особого труда она выкрала из сейфа необходимый компромат и, сдав его Сереге, стала ждать. В воскресенье вечером в зале ресторана появился хозяин. Это был узбек огромного роста и сказочной толщины, с лицом, похожим на срез сырого мяса. Пыхтя и раздвигая руками стулья с гостями, он надвигался на Марину, как разъяренный дракон. Понимая, что сейчас произойдет нечто ужасное, Марина попыталась загородиться цветами. Хозяин подлетел к полуживой от страха цветочнице и, вырвав у нее из рук охапку роз, стал хлестать ее колючими стеблями на глазах у всего зала. Неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы двое военных, которые пришли поужинать, не отбили Марину у озверевшего бизнесмена. Ополоумев от ужаса, Марина бросилась к выходу. Разорванная одежда болталась на ней, напоминая костюм Арлекино, а вслед огненным шаром катился рев узбека с обещаниями самой жестокой расправы.
Всю ночь Марина прорыдала в объятиях Вартана. Он гладил ее по волосам и как-то отчужденно бормотал:
— Ничего, мышонок, ничего, все образумится.
— Ты что, сумасшедший? — яростно всхлипывала Марина. — Какой там образумится! Ты что, не понимаешь? Они же нас убьют! Хорошо еще, если перед смертью на куски не порежут.
— Ничего-ничего, — продолжал Вартан, все больше уходя в себя.
Наутро он отвез Марину в больницу, залечивать последствия избиения, и, сдав на руки врачу, ушел, пообещав вернуться к вечеру.
К вечеру он не появился. Не появился и на следующий день. А когда через неделю Марина вернулась домой, то не обнаружила в квартире ничего, кроме голых стен. Все, даже унитаз и раковину унес с собой хозяйственный армянин, исчезнув бесследно.
Марина просидела весь день на полу в пустой кухне. К вечеру она поднялась и пошла на улицу, без всякой цели и без единой мысли в окаменевшей голове. Улица, как всегда, оживленно гудела. Марина долго толкалась среди человеческих тел и навязчивых огней, брела по каким-то переулкам, не разбирая пути. Пошел дождь, по-осеннему злой и холодный. Прохожие, прячась от непогоды под большими зонтами, с удивлением поглядывали на промокшую насквозь женщину, бредущую по щиколотки в ледяной воде, на секунду обращали к ней недоуменные лица и неслись дальше в свою благополучную жизнь. Марина шла и шла, ничего не замечая. Она помнила лишь резкий свет фар, полыхнувший ей прямо в лицо, и визг тормозов, унесший ее в приятную пустоту. Правда, она успела подумать, что умирает, и отметить в угасающем сознании, что это хорошо.
Теперь, лежа на неудобной кровати с продавленным матрасом, Марина испытывала чувство разочарования. Она безучастно смотрела в потолок. Жить не хотелось. Мысли плавали в голове, пустые, как мыльные пузыри, и, не успев наполниться содержанием, лопались с легким, приятным звуком.
— Обход! — послышался протяжный крик из коридора.
Дверь открылась, и в палату ворвался юный доктор в сопровождении нянечки и медсестры. Доктор был Марине неприятен. Своей худобой и очками он напоминал Вартана, его резкие движения вызывали у нее головную боль и тошноту. Молодой человек подошел к первой койке в правом ряду.
— Ну, как дела, красавица? — воскликнул он и ободряюще встряхнул синюшную лапку бомжихи. Бомжиху нашли в сточной канаве, где она сладко грезила в алкогольной истоме и при этом чуть не захлебнулась в жидкой грязи. На ее лице не осталось ни малейших признаков, по которым ее можно было бы отнести к роду человеческому. Она явно не понимала ничего из того, что ей втолковывал врач. В конце обследования она молча приподнялась на локтях и, натянув на лицо идиотскую улыбку, стала мочиться под себя.
— Вот паразитка! — закричала нянечка.
— Что такое? — не сразу понял врач.
— Все время ссыт под себя! — Нянька схватила бомжиху за загривок и, легко приподняв ее, хорошенько встряхнула, как кошка нерадивого котенка. — Выпишите вы ее, доктор, бога ради, замучила она здесь всех!
— Нельзя, Лидия Сергеевна, — покачал головой врач. — Куда ее сейчас на холод? Она же помрет.
— Да кому она такая нужна! — воскликнула в сердцах нянька и шмякнула тетку на кровать. Бомжиха весело подпрыгнула на пружинах и как зверек полезла под мокрое одеяло.
— Ну, вот что ты будешь делать! — всплеснула руками нянька и принялась менять испорченную постель.
— Та-ак, а здесь у нас кто? — Врач заглянул в заботливо подставленную медсестрой историю болезни. — Усатова, очень хорошо, — он весело потер руки, как будто собирался выпить и закусить.
Марина посмотрела на него с нескрываемой ненавистью. «Чего он так радуется?» — подумала она и закрыла глаза.
— В рубашке, просто в рубашке родилась! — услышала она ликующий шепот врача. — Надо же, смерть рядом прошла и не задела, только погладила.
Доктор цепко держался за Маринино запястье, и она чувствовала, как под его пальцами оживает пульс.
— Ну-с, как дела? — поинтересовался он.
— Спасибо, лучше, — ответила Марина, с трудом сдерживая раздражение.
— Вы, голубушка, через недельку домой пойдете, — объявил доктор и, оттянув Маринино веко, посветил ей в глаз фонариком.
В Марине вскипало бешенство. Необъяснимо, но почему-то за все свои неприятности она сейчас ненавидела этого юного, но уверенного в себе врача.
— А почему вы, такой молодой человек, разговариваете, как будто образование еще до революции получали? — наконец не выдержала она.
— Что вы имеете в виду? — опешил врач.
— А вот это — «ну-с», «голубушка», — к чему все это? Нельзя ли попроще?
— Я, право, не знаю…
— Ну вот, видите, опять — «право»… — Марина выговорила это слово, ехидно скривив лицо. — Чушь какая-то, — она повернулась к врачу спиной и натянула на голову одеяло.
— Нахалка, нахалка! — послышался возмущенный шепот санитарки. — Лечишь их, лечишь, и вот тебе благодарность.
— Ничего, Лидия Сергеевна, — успокаивал санитарку врач, сам чуть не плача, — ничего, у нее же сотрясение мозга, такое может быть, агрессия и прочее.
«Да не от мозга у меня агрессия, — подумала Марина. — Почему нет диагноза — сотрясение души? Вернее было бы».
— Устала я, — пробормотала она и, закутавшись поплотнее в одеяло, уснула.
Марина проспала неделю, просыпаясь только по нужде. Иногда в ее сознание проникал заботливый шепот врача: «Ну как, спит? Вот и молодец. Пусть спит, не трогайте ее, это хорошо». Марине снилось, как огромный дракон, зажав в лапе букет из роз, хлещет ими по лицу маленького беззащитного Вартана. Вартан плачет и протягивает к ней руки. Марина изо всех сил бежит к нему на помощь, но расстояние между ними не уменьшается, а увеличивается. Потом вдруг Вартан тащит на окровавленной голове унитаз, перевернув его кверху дном, как шляпу. Потом снится холодная река, и Марина плывет в ней, неудобно загребая одной рукой, а другой держит над головой зонтик.
А потом сон кончился, и Марина проснулась. Она открыла глаза и, ощутив необыкновенную легкость в голове, села. В палате было темно.
— Ночь… — прошептала Марина и посмотрела в сторону окна.
Голое, лишенное занавесок окно отсвечивало кобальтом. Марина присела на подоконник. Батарея шпарила, как сумасшедшая. Марина вытянула ноги, чтобы не обжечься, и стала смотреть на небо. Звезд не было видно, их перебивал свет фонарей, и тем ярче на гладком, черном пространстве сияла зеленоватая луна. Там, за окном, была вселенская тишина, непостижимая бесконечность. Марине было хорошо, она чувствовала себя сопричастной этой тишине, а здесь соседи по палате нарушали покой мироздания храпом и нездоровой возней.
Глаза уже привыкли к темноте. Марина окинула взглядом палату, и ей захотелось вырваться отсюда на воздух, прямо сейчас, ночью, в тапочках и халате, вырваться на свободу из своей проклятой жизни и бежать по новому снегу, оставляя на нем горячие следы.
Она вернулась в постель и, забравшись под одеяло, с облегчением заплакала.
Наутро ее разбудил голос няньки:
— Усатова, к тебе пришли! — рявкнула она и свирепо хлопнула дверью.
— Вартан! — обрадовалась Марина: слава богу, опомнился. Сунув ноги в тапки, она запахнула халат и решительной походкой заспешила в сторону приемного отделения, на ходу подыскивая оправдания нерадивому мужу.
В приемном царил хаос. Сотрудники больницы с озабоченным видом носились по коридору, неестественной резвостью оттеняя статичность сидящих вдоль стен больных. Марина огляделась по сторонам: Вартана не было видно. Она пошла по коридору к выходу, вышла в вестибюль. И здесь было пусто, только справа, у стены, курила нарядная женщина. В модном заграничном костюме она смотрелась как яркая заплата на старой, драной декорации. Завидев Марину, женщина бросила сигарету и, всплеснув руками, воскликнула:
— Усик, что с тобой?!
«Откуда ей известна моя школьная кличка? — подумала Марина. — И почему она со мной на «ты»?»
Женщина подошла поближе и, взяв Марину за плечи, заглянула ей в глаза.
— Мань, ну ты что, совсем умом тронулась? Это же я — Света.
— Не может быть… — прошептала Марина. — Светка Мельникова, ты?!
— Ну, я! Кто же еще? — обрадовалась Света и прижала Марину к себе.
— Какая ты стала! Просто не узнать… — не верила своим глазам Марина. — Слушай, давай присядем. Я долго на ногах не могу…
— Да уж, я вижу, укатали сивку крутые горки. Ты бы хоть причесалась, что ли.
Марина вспомнила, что вот уже две недели не подходила к зеркалу.
— А у тебя расческа есть? — спросила она.
Света полезла в сумочку, достала расческу и косметичку.
— На вот, в порядок себя приведи. Там в туалете зеркало.
Марина зашла в туалет, закрыла на защелку дверь, посмотрела в зеркало и, вскрикнув, закрыла ладонью рот.
— Кто это? — испуганно пробормотала она.
На нее смотрело совершенно чужое лицо. На коже еще виднелись следы царапин, оставленные колючками роз, щеки ввалились, все лицо ушло в профиль, заканчивающийся длинным заостренным носом с тонкой, розовой переносицей. Волосы свалялись и походили на птичье гнездо. В уголках воспаленных глаз блестели слезы.
«Нет, реветь ты сейчас не будешь!» — твердо сказала Марина своему отражению и, притопнув ногой, стала расчесывать колтун.
— Ну вот, совсем другое дело! — воскликнула Света, завидев возвращающуюся подругу. — Слушай, Усик, про твои беды я уже все знаю, — торопливо заговорила она, — была у твоих стариков, они мне все рассказали. Ты вот что, иди в палату, собирайся. С врачом я уже поговорила, он тебя отпускает на все четыре стороны, так что поедешь ко мне. Давай поскорее, такси ждет! — Она повернула Марину, как куклу, и слегка подтолкнула в спину.
Марина пошла, механически передвигая ноги. Она пересекла вестибюль, вышла в приемное отделение. «Вечно она так, — с раздражением думала Марина. — Все за других решает». И правда, еще со школы, где они все десять лет сидели за одной партой, Света с веселой бесцеремонностью распоряжалась в кругу подруг. Все ее существо насквозь было пронизано счастьем и радостью. И этим ликованием она дышала, как печка жаром, обдавая теплом учителей, одноклассников и подруг. Ее лидерство принималось всеми восторженно и безоговорочно, и только Марина была не согласна с таким распределением ролей. Да и с чем тут было соглашаться, когда все в жизни так несправедливо устроено? В то время как Светка, стройная и красивая, гарцевала по школьному паркету в дорогих заграничных сапогах, Марина прятала под партой неуклюжие ноги, обутые в ботинки со страшным названием «прощай, молодость». Светке все давалось легко: и учеба, и поклонение мальчиков, и любовь учителей. Марине же не давалось ничего. Училась она кое-как, учителя ее терпели, а мальчики произносили ее фамилию только для того, чтобы, добавив в слово еще одно «с», посмеяться над неприличным сходством.
— Чего эта корова все время рядом с ней топчется? — услышала она однажды разговор одноклассников. — Охраняет, что ли?
В этот момент Марина возненавидела свою подругу, и эта ненависть была самым ярким и чистым чувством в ее жизни, безо всяких примесей. Впрочем, была одна позиция, по которой Марина брала верх над своей блестящей подругой. Света не могла без нее жить. Никто не умел объяснить этой странной привязанности, но факт оставался фактом: Света была как будто приколота к Марининой юбке. Она повсюду таскала Марину за собой, брала даже на свидания, пока один неприятный случай не разлучил их надолго.
Было время экзаменов. Лето. Конец школы. Начало жизни. Все готовы к любви, как хорошо вспаханная почва к посеву. Светин папа только что вернулся из Парижа и вытряхнул на любимое чадо два чемодана шикарного барахла. Кое-что осело и на Марине. Свете нравилось наряжать подругу — это было похоже на игру в куклы. Она забегала то справа, то слева, одергивая на Марине кофточку и поправляя юбку. Наконец, стянув Маринину талию широким резиновым поясом, Света удовлетворенно вздохнула.
— Ну вот, — заявила она. — В таком виде я могу тебя взять с собой в гости.
— В какие еще гости? — удивилась Марина.
— К одному молодому человеку… — Света многообещающе скосила глаза.
— А ты у меня спросила, хочу ли я к нему идти? — поинтересовалась Марина.
— Ну конечно, хочешь! — засмеялась Света.
— Я не пойду, — уперлась Марина.
— По кочану.
— Усичка, ну, пожалуйста… — захныкала Света. — Он для тебя товарища пригласил. Ты только посмотри, какая ты хорошенькая! Жалко же в таких нарядах дома сидеть.
Против такого аргумента возражать было трудно, и Марина согласилась.
Молодой человек оказался взрослым мужчиной лет тридцати пяти. Его звали Вадим.
— Ах, так вас двое, — обрадовался он, завидя подруг, и провел их в комнату, оформленную странным образом. Стены в ней были завешаны коврами, на полу тоже лежал ковер. Посередине находился низкий стол, поставленный вместо ножек на деревянные шары. Все остальное пространство комнаты было беспорядочно забросано подушками различного формата.
— Снимите, пожалуйста, обувь, — попросил хозяин. Затем положил несколько подушек одна на другую и, присев к столу, предложил гостям последовать его примеру. Дальше все происходило по обычному сценарию. Вадим представился врачом-сексопатологом и, не переставая подливать в бокалы шампанское, прочел подругам длинную лекцию, которую они слушали с напряженным вниманием. Далее он предложил продемонстрировать несколько невинных приемов и попросил Свету ему поассистировать. Света сначала согласилась, но, довольно быстро сообразив, что у Вадима весьма своеобразные представления о невинности, вырвалась из его объятий, вскочила на ноги, схватила Марину за руку и приказала:
Марина не двигалась.
— Ну, чего ты расселась? — закричала подруга и потянула Марину за собой.
— Оставь ее, — вмешался Вадим. — Видишь, девочка не хочет.
— Она, между прочим, несовершеннолетняя, — возмутилась Света, — и не понимает, что делает.
— Я очень хорошо понимаю, что делаю, — подала голос Марина. — Иди домой.
— Как?! — Света покраснела. — Ты хочешь остаться здесь с этим похотливым старикашкой?!
Марина молчала.
— Ну и черт с тобой! — Света была вне себя от бешенства. — Только потом не жалуйся!
Марина не жаловалась и об этих двух часах никогда не жалела. Может, Вадим и не был сексопатологом, как представился, но вопросом он владел безупречно. Марина была уверена, что это любовь, — таким нежным и заботливым оказался ее первый любовник. И тем больше радости доставляло это чувство, что оно было отобрано у Светки. Вадим впустил ее в мир своих ощущений, в котором не было ни комплексов, ни преград. Он наслаждался любовью свободно, как первобытный человек, потрясая Марину такой открытой, ликующей страстью, какой она больше не встретила ни разу за всю свою последующую жизнь. Но ей оказалось достаточно и одного урока. Вынужденная скупиться, она была скупа во всем, особенно в вопросах приобретения личного опыта. А опыт, которым поделился Вадим, был поистине бесценен. Так что даже печальная развязка этой истории не заставила Марину раскаяться в случившемся.
А кончилось дело так: вдоволь натешившись неумелыми ласками школьницы, Вадим, преисполненный благодарности, поднял ее на руки и понес на кухню, где, к своему удивлению, обнаружил Свету, пьющую коньяк. Девушка сильно опьянела и была в этом состоянии настолько хороша, что Вадим от восхищения буквально выронил Марину из рук.
— Ты же хотела уйти… — пробормотал он.
— Никуда я не пойду! — икнула Света. — Ты меня в гости позвал. Вот я и угощаюсь! — В подтверждение своих слов она сделала большой глоток из бутылки.
— Ну что ты творишь, — мягко упрекнул Вадим, — тебе же плохо будет.
— Ну и пусть! — истерически вскрикнула Света. — Хуже не будет! — и сделала еще один глоток.
Вадим попытался забрать у нее бутылку.
— Не трогай меня! — взвизгнула девушка и отскочила в сторону. — А я-то думала, что нравлюсь тебе, а ты, а ты… — Света рыдала, размазывая по щекам слезы, смешанные с тушью.
Вадим сгреб ее в охапку и, с силой прижав к себе, восторженно зашептал:
— Не плачь, не плачь, моя маленькая, ты же знаешь, как я тебя люблю.
Марина стояла, завернутая в махровый халат Вадима, и, низко опустив голову, пыталась понять, что происходит. «Он же только что, минуту назад, меня обнимал и вот так же про любовь шептал», — думала она.
Света тем временем затихла в руках Вадима и, тихонько всхлипывая, жаловалась:
— Не любишь ты меня, нисколечко не любишь. И вообще, иди к своей Маринке, вон она тебя поджидает! — Света метнула в сторону подруги яростный взгляд и попыталась высвободиться.
— Да что ты, глупенькая, — еще крепче прижал ее к себе Вадим. — Она же при тебе как обезьянка.
«Что он такое говорит?» — подумала Марина.
— Какая обезьянка? — насторожилась Света.
— Раньше французские дамы носили при себе уродливых мартышек, чтобы оттенять свои прелести, а ты с собой Марину водишь, — пояснил Вадим, целуя ее лицо.
Марина терзала пояс махрового халата. Она надеялась, что Света сейчас за нее заступится, ударит Вадима по лицу или, по крайней мере, скажет, что это неправда, что он негодяй. Но вместо этого подруга засмеялась мелким, противным смехом. От удовольствия она даже слегка взвизгивала, став похожей на маленькую ведьму. Похоже, что сравнение с обезьянкой пришлось ей по душе.
Марина бросилась в комнату, стала одеваться. Она торопилась. Ей казалось, что если она сейчас, немедленно, не выберется из этой квартиры, то задохнется от ужаса. Она с отвращением натянула на себя Светкины подарки и бросилась к входной двери.
Выбравшись на лестничную площадку, Марина сделала глубокий вдох, как утопленник, вынырнувший со дна омута, и, не дожидаясь лифта, ринулась по лестнице вниз, каблуками раскалывая о каменные ступеньки свою досаду и ненависть.
Марина бежала долго, не останавливаясь. Прибежав домой, она упала на кушетку и попыталась заплакать, но из этого ничего не получилось, наверное, потому, что утешать было некому. Другое дело Светка. Вон как она рыдает, открыто и даже весело, и утешители всегда тут как тут.
В комнату заглянула мать.
— А, ты уже дома… — голос прозвучал тускло, невыразительно. Мать тут же исчезла.
«Всех ненавижу», — подумала Марина и, повернувшись на бок, напряженно затихла.
Света с Мариной виделись после этого только раз. На выпускном вечере. Весь класс уже собрался у входа в школу, когда на персональной «Волге» подкатила Светка. Шофер театрально обежал машину и, распахнув дверцу, подал ей руку. Света выпорхнула на школьный двор. Мальчики перестали дышать. На ней было платье прямо из Парижа — верхняя часть вышита белоснежным бисером, от пояса мягкими волнами спускалась чуть ниже колен шелковая юбка, схваченная на талии широким поясом с бантом. Света тряхнула черными кудрями и обвела победоносным взглядом одноклассников.
— Ну, что уставились? Пошли праздновать! — засмеялась она и, соблазнительно постукивая каблучками, побежала по лестнице к актовому залу.
На верхней ступеньке, облокотясь спиной на перила, стояла Марина. Мать сшила ей уродливое платье из материала, похожего на картон. Когда Марина двигалась, платье оставалось неподвижным, придавая ей сходство с черепахой.
Подбежав поближе, Света остановилась.
— Ну что, Усик, мир? — воскликнула она и попыталась обнять подругу, отчего Маринино платье неприятно хрустнуло.
Марина как ошпаренная рванулась из Светиных рук.
— Пошла ты к черту, сволочь! — закричала она и, с силой замахнувшись, ударила Свету по щеке.
Одноклассники ахнули. Удар получился неумелый, несильный. Марина выдыхала из себя воздух частыми, короткими порциями, как обессилевшая от жары собака.
— Ну, если ты на каждую любовную неудачу собираешься так реагировать, то тебе каждый день придется драться, — засмеялась Света, потирая слегка покрасневшую щеку, и громко добавила: — Таких, как ты, на рынке в базарный день пять копеек пучок. Понятно?!
Все засмеялись.
— Пошли! — приказала Света, и все двинулись с нею, а Марина осталась. Минут пять она стояла на лестнице, все так же надсадно дыша, потом вдруг, ощутив сильный приступ тошноты, сорвалась с места и побежала в уборную. В туалете ее несколько раз сильно вырвало.
«Где я так отравилась?» — подумала Марина, возвращаясь домой и неся на себе, как панцирь, белое выпускное платье.
Первый любовный опыт обернулся для Марины беременностью. Врачиха долго уговаривала сохранить ребенка. Говорила, как это опасно, можно остаться без детей. Когда же ей наскучило это бесполезное занятие, взяла деньги и сделала аборт.
— Я тебя предупреждала, — сказала она после операции, глядя на Марину с тоской. — Детей у тебя не будет.
Марина не расстроилась. Ей было не до детей.
С тех пор подруги не виделись. Марина только слышала от общих знакомых, что Света вышла замуж за какого-то сказочного принца и уехала с ним жить в Германию.
Марина шла по коридору к палате и напряженно думала. «Интересно, чего ей от меня надо? Выныривает через четырнадцать лет как ни в чем не бывало и начинает все с той же ноты — «Усик-пусик», как будто и ссоры не было. Как у нее это здорово получается. Никаких комплексов! И действительно, откуда комплексам взяться, когда жизнь функционирует, как слаженный оркестр, а она в этом оркестре дирижер». Марина чувствовала, что в ее душе просыпается и ворочается, как медведь в берлоге, давно забытая зависть. Марина ненавидела это мучительное чувство, но оно овладевало ею без спроса и заставляло жить по своим законам.
В палате, наскоро переодевшись, она попрощалась с больными и двинулась в обратный путь.
«Ладно, — продолжала размышлять она, — в конце концов, я в таком тупике, что появление Светки можно считать спасительным чудом. Поеду, послушаю, что она скажет. Вид у нее такой, как будто она моей судьбой уже распорядилась».
— О боже, что это на тебе надето?! — воскликнула Света, когда Марина вошла в вестибюль.
— Ты что, не знаешь, я же под машину попала. А здесь одежду стирать и ремонтировать некому, — обиделась Марина.
— Ну, ничего, — ободрила ее Света, — это дело поправимое, главное, кости целы. Пошли.
Света привезла Марину к себе в похожую на выставочный салон квартиру. Белые кожаные диваны, красные занавески, и все какой-то нечеловеческой чистоты. На кухне гремела посуда.
— У тебя кто-то есть? — спросила Марина, робея от такого блеска.
— Да, это Дуся, обед готовит, — объяснила Света совершенно будничным тоном, как будто домработница, которая готовит обед, — дело само собой разумеющееся. — Скоро есть будем! — Она достала из шкафа полотенце и халат: — Ты давай-ка в ванну ныряй, а я пока подумаю, что на тебя надеть. У тебя обувь какого размера?
— Тридцать девятого.
— Отлично! Значит, подойдет.
Марина пошла в ванную. Подивилась белизне кафеля, красоте сантехники. Вспомнила печальную участь своего унитаза и раковины и стала раздеваться. Когда она опустилась в горячую, душистую воду, ей показалось, что тело вот-вот растворится от блаженства.
«Боже мой, как хорошо», — подумала она и закрыла глаза.
Обед был накрыт в солнечной комнате с большим окном. Прислуживала домработница Дуся, домовитая толстая тетка. Марина сидела за столом, закутавшись в мягкий халат, с полотенцем на голове, завернутым тюрбаном, и пыталась осознать причину своего присутствия в этой кинематографической действительности.
Дуся поставила на стол салат.
— Давайте-ка салатика, — по-матерински сказала она, — а я пока супчик подогрею.
Света разложила на коленях белоснежную льняную салфетку.
— Ешь, Усик, не стесняйся, — сказала она, накладывая Марине полную тарелку салата, — тебе нужно сил набираться, а то вон на кого похожа стала, страшно смотреть.
— Страшно — не смотри, — огрызнулась Марина.
— Слушай, Усик, а ведь ты совершенно не изменилась. Тебе что ни скажи, сразу в бутылку лезешь.
— Да и ты все та же — совершенно не думаешь, что говоришь.
Света засмеялась. Марина тоже растянула губы в тугую улыбку.
— Что делать-то собираешься? — уже серьезно спросила Света.
— Хороший вопрос. Только ответить тебе на него я не могу.
— Потому что положение у меня совершенно безвыходное. Денег нет, сил, как видишь, тоже нет. Даже домой не могу вернуться — в квартире голые стены, и бабаи навестить могут, а с ними шутки плохи. Убьют.
— Кто такие бабаи?
— Да узбеки, у которых я работала.
— Неужели так серьезно?
— А ты как думала? Это тебе не Германия.
Дуся принесла суп. Горячий, с пампушечками.
— Райская у тебя жизнь, — позавидовала Марина и откусила от теплой булочки, — ничего-то ты этого не знаешь.
— Ну почему же не знаю. Я тоже новости смотрю, газеты читаю.
— Новости, газеты! — зло передразнила Марина и бросила булку на стол. — Ты хоть людей не смеши. Про мою жизнь не в газетах, а в романах писать надо. Не могу я больше, понимаешь! Осточертело мне все!
— Подожди, Марин, не отчаивайся. Чего-нибудь придумаем.
— Что ты можешь придумать?! Ты даже понять не можешь, что здесь происходит, в этой проклятой стране. Люди — звери. Все друг друга ненавидят, нищета и зависть со всех сторон!
— Марин, только не надо обобщать. Среди моих знакомых нет никакой нищеты, и зависти тоже нет.
— Ах, и ты считаешь, что ты со своими знакомыми — преобладающее большинство и что тебе жизнь в этом городе понятна? Встанешь утром, тебе кофе в постель подадут, ванну примешь душистую, а дальше — в машину и к знакомым. А у них тоже домработницы и мирные беседы за праздничным столом! — Марина нервничала, нос у нее покраснел, глаза сверкали зло и непримиримо. — А ты в метро спустись, — ехидно предложила она.
В комнату вошла Дуся, держа в руках блюдо с жареной курицей.
— Посмотри, какие там рожи ездят, — продолжала Марина. — У них же у всех маниакально-депрессивный психоз! — Марина взглянула на Дусю, тем самым призывая ее в свидетели.
Дуся одобрительно молчала.
— Им всем надо велеть паранджу надеть, чтобы не заражали своим безумием!
— Дусенька, оставьте курицу, пожалуйста, и идите, — попросила Света.
Дуся недовольно поставила блюдо на стол: в ней шевельнулась классовая гордость.
— Верно ваша подруга говорит, — проворчала она, направляясь к выходу, — ездють тут всякие.
— Слушай, мать, у меня к тебе дело есть, — заговорила Света.
— Это ясно, а то стала бы ты меня без дела в ванной купать, — Марина взяла с блюда куриную ногу.
— Хватит глупости говорить и изображать из себя класс голодных и рабов, — рассердилась Света. — Тебя никто не заставлял выходить замуж за этого дворника, на работу в кабак тоже никто не гнал. Как говорится, что посеешь, то и пожнешь. И нечего весь мир обвинять в собственных неудачах.
Марина положила куриную ногу на тарелку нетронутой.
— Знаешь что, я, пожалуй, пойду, — сказала она и решительно поднялась с места.
— Ну, иди, иди, — согласилась Света и принялась за еду с обидным спокойствием.
— Где моя одежда? — сверкнула глазами Марина.
— В помойке.
— Как в помойке, а в чем же я домой пойду? — растерялась Марина.
— Куда? Домой? А что ты там делать собираешься? На полу лежать, а в туалет к соседям бегать? У тебя даже на трамвай денег нет.
— Да, ты права… — как-то сразу согласилась Марина и поникла головой.
— Ты давай-ка сядь, ешь и слушай, что тебе умные люди говорят.
Марина безвольно опустилась на стул, посмотрела, как ловко управляется Света с ножом и вилкой.
— А мы по-простому, по-нашему, — она взяла курицу рукой. — Ну, давай выкладывай свое дело, — спокойно сказала она. — Я заранее на все согласна, лишь бы из этой ямы выбраться.
— Ты в Германию поехать хочешь? — коротко спросила Света.
Марина поднесла ко рту куриную ногу и так и застыла с открытым ртом.
— Рот закрой. Скажи что-нибудь вразумительное, — засмеялась Света.
Марина глотнула:
— Что ты имеешь в виду?
— Сейчас все объясню. Понимаешь, мне няня нужна для ребенка. Я могу тебе приглашение сделать на три месяца.
— А ты уверена, что меня выпустят?
— Да кому ты здесь нужна? Сейчас же новые времена — перестройка. В общем, не волнуйся, я уже не в первый раз это делаю. Условия такие: все расходы по поездке я беру на себя. Ты живешь у меня на всем готовом, за ребенком присматриваешь и по хозяйству помогаешь, плюс четыреста марок в месяц. Годится?
— Свет, ты не шутишь? — не верила своим ушам Марина.
— Да какие уж тут шутки. Твоя предшественница замуж вышла, и я одна осталась, без помощи. Только мне это быстро нужно. В ОВИРе у меня знакомые есть. Я тебя в два счета оформлю. Приедешь, поживешь, а там, глядишь, и тебе жениха подыщем.
— Какого еще жениха?
— Обыкновенного, немецкого. Хочешь?
— Ты так говоришь, как будто у вас там женихи под ногами валяются.
— Ну, под ногами, может, и не валяются, а вот в газетку объявление дадим — отбоя не будет. Там русские невесты нынче в цене.
— Ты серьезно, что ли?
— Конечно, серьезно. Ты думаешь, почему моя домработница соскочила?
— У нас с ней договоренность была — я ей жениха помогаю найти, а она по-честному работает до конца срока.
— Ну и как? Отработала?
— Какой там! Как только один ей предложение сделал, в тот же день пожитки собрала, и только мы ее и видели.
— Вот сволочь! — возмутилась Марина.
— А ты знаешь, я не жалею. Мне с ней тяжело было. Она человек с социальными комплексами. В Москве в театральных кассах работала. Она в этом культурном заведении такие дела проворачивала! Спекулянтка первого разряда. Благодаря этой околотеатральной возне почему-то возомнила себя сверхкультурным человеком. Так и говорила — мы интеллигентные люди. Свое положение в моем доме она считала до крайности унизительным и за это меня ненавидела. Еще бы! Не царское это дело чужих младенцев нянчить и полы подтирать.
— А она симпатичная?
— В каком смысле?
— Ну, в смысле красивая?
— Как тебе сказать… Крокодил, да еще пятидесятилетний. Знаешь, типаж директрисы овощного магазина: со всех сторон живот здоровенный, как ни поверни, и жир такой крепкий, ядреный. Выражение лица, как у индюка, глазки маленькие, нос красный — ну, в общем, понятно, да?
— А как же она так быстро замуж вышла, такая красавица?
— Да повезло ей. Мы объявление в газету дали. Ответов пришла уйма. А Маргарита, ее так зовут, по-иностранному не очень. Кроме Hände hoch[1] и nicht schiessen[2], ни одного слова сказать не может, а эти выражения, как ты понимаешь, для знакомства с женихами не совсем подходят. Пришлось с ней на свидания бегать.
— Ну?.. — Марина слушала с подобострастным вниманием, как человек, который хочет понравиться рассказчику.
— Вот тебе и ну. Встречаемся со всякими старичками, один другого краше. Я говорю, она улыбается. И вот однажды — очередное свидание. Я ему по-немецки: «Здравствуйте, очень приятно, познакомьтесь, пожалуйста, — Маргарита». А он мне по-русски с украинским акцентом: «Ты, — говорит, — иди, иди, мы сами тут разберемся». Маргарита от радости ему прямо на шею бросилась. Так непосредственно получилось, по-девичьи. Ну, мужик от такого обращения обмяк и на третий день ей предложение сделал.
— А дальше что?
— А дальше сыграли свадьбу. Про меня она в ту же минуту думать забыла. Вещи собрала и, не прощаясь, съехала. Проходит около полугода. Вдруг объявляется, красавица, и прямо с порога заявляет, что я у нее самый близкий человек на свете и идти ей больше не к кому. Ну, думаю, видно, дела у нее плохи, раз такие объяснения в ход пошли. В общем, слово за слово, выясняется, что муж у нее — бывший гестаповец. На Украине полицаем работал, а в конце войны вместе с немцами ушел. Видно, очень ценный кадр был, раз они его с собой прихватили. Так вот, гестаповец этот во время медового месяца вел себя вполне прилично. У них даже что-то вроде страсти приключилось. Маргарита говорила, что он ее сексуально совершенно потряс. И это в шестьдесят пять лет, представляешь? Потом медовый месяц кончился, и он запил. А в пьяном виде оказался совершенно невменяемым. Видно, тосковал по своему военному прошлому и все искал, кого бы прибить. А тут Маргарита подвернулась. За неимением другого врага он начал ее поколачивать. Она ему говорит: «Будешь так себя вести, я пойду в полицию и расскажу, кем ты был во время войны». А он только ржет. «Я, — говорит, — за это от немецких властей повышенную пенсию получаю, как ветеран».
Тут уж Маргарита струхнула. Жаловаться, стало быть, некуда. Живет и терпит, как в концлагере. И вот она ко мне за советом прибежала. Сидит, трясется, как зачумленная. Стала мне синяки показывать. Жуть такая. Я ее в машину посадила — и в полицию. Заявку у нас приняли, мужа вызвали. Сделали ему серьезное внушение и отпустили. После этого случая Маргарита опять надолго пропала. Ну, думаю, не появляется — значит, все хорошо. Где-то через два месяца звонит посреди ночи. Рыдает, просит о встрече.
«Приезжай, — говорю, — что же с тобой делать».
Появляется. Я ее не узнала: исхудала до костей, лицо опухшее, глаза красные, навыкате. Мне даже страшно стало.
«Что с тобой?» — спрашиваю.
А она говорит:
«Задушил меня, фашист проклятый».
«Как это так — задушил?»
«А вот так, — говорит, — ночью подкрался, когда я спала, подушку мне на голову, и сам как навалится. Потом видит — я не дышу и дергаться перестала. Тогда он меня бросил и спать пошел — пьяный. Он-то думал, что я умерла, а я, видишь, очухалась и сразу к тебе».
Я ее опять в полицию повезла, по дороге говорю:
«А я-то думала, у тебя все в порядке».
«Какой там в порядке! Он после нашего похода в полицию совсем озверел. Телефон с корнем вырвал, дверь на замок, пьет запоем, меня из квартиры не выпускает. У нас иногда по три дня еды не было».
Я ей говорю:
«Так ты бы в окно на помощь позвала!»
Маргарита глаза вытаращила, ладонью рот закрывает.
«Что ты, — шепчет, — что ты! — и по сторонам озирается, как безумная. — Он нож под подушку положил, говорит — рыпнешься, вообще зарежу».
Вот так Маргарита замуж сходила.
— А дальше-то что было? — спросила Марина, испуганно выглядывая из сигаретного облака, как леший из болота.
— А дальше ее мужа в психушку упрятали пожизненно, а она теперь гестаповскую пенсию получает и живет себе припеваючи. В общем, справедливость восторжествовала. Дусенька, кофейку нам, пожалуйста, сделайте! — крикнула Света.
— Готов уже, — недовольно откликнулась Дуся, — сейчас принесу.
— Так, значит, все-таки стоило помучиться, — сделала вывод Марина.
— Марин, ты чего, она же чудом жива осталась!
— Ну и что. Если хочешь знать, то, что я в Москве до сих пор жива, тоже можно считать чудом. Так что давай, оформляй документы.
— Да хоть сейчас.
Света стояла у окна и смотрела на ночную Москву, слегка притихшую, но живую. С ее седьмого этажа открывалась широкая панорама. Вдалеке огни трех вокзалов, и даже ночью видны остроконечные башенки на матовом небе. Справа Елоховская церковь парит золотыми куполами в вечности. Машины режут тишину моторами, и огни, огни до самого горизонта. Света любила Москву. Это был ее город. Он был ей близок и понятен, как человек, с которым бок о бок прожито тридцать лет. Здесь осталось все самое важное: детские воспоминания, первый запах зимы, поднимающийся от холодной земли в сквере на исходе октября, веселая кутерьма вокруг сеток с арбузами, заснеженный двор с одинокими фонарями на морозе или февраль с бешеным ветром и вьюгами, которые уже прижимает, прижимает к земле весенняя влага, и крик наглых ворон, разжиревших на московских помойках… Все это, хорошее и плохое, было частью ее самой. И только здесь — в Москве — ее заграничная жизнь становилась значительной и интересной, как выходной наряд, который интересен, только когда есть достойный повод его надеть.
«Как хорошо все было тогда, после выпускного вечера, — думала Светлана. — Какой прозрачной и ясной казалась жизнь. Вот школа, вот друзья, вот папа, который может все, а вот она, Светлана, дочка дипломата. И перспектива уже определена — жених, иняз, работа за границей. И вдруг цепочка оборвалась. То есть все осталось на месте, только папы не стало. Он умер от инфаркта на рабочем месте в сорок пять лет. И вся башенка, которую он успел построить, накренилась, покачалась-покачалась на одной ножке и рухнула, похоронив под своими обломками все надежды на легкую жизнь». Сначала исчез мидовский жених, видимо, отправился на поиски невесты с папой. Мама, которая нигде никогда не работала, оказалась ни к чему не способной и от растерянности впала в какое-то полудетское состояние. Свете пришлось брать все в свои руки. Она была тогда на втором курсе. Продали дачу. Денег хватило до конца института, а дальше нависла угроза нищеты, страшной и до сих пор незнакомой. Света меняла одну работу на другую, но заработанных денег хватало только на то, чтобы не умереть с голоду. Промучившись таким образом пару лет, она наконец устроилась переводчицей на выставку. И началась совсем другая жизнь, полная приключений и опасностей. Встречи с иностранцами, столкновения с Комитетом госбезопасности, заметание следов. Русские мужчины казались ей уже совершенно непривлекательными. Она, как и большинство ее коллег, хотела замуж за иностранца. Шло время, женихи появлялись — красивые, гладкие, самоуверенные, благоухающие дорогой, незнакомой жизнью. Приглашали в рестораны, делали подарки, страстно влюблялись и со слезами на глазах уезжали домой, к женам. Светлане шел тридцатый год, она заскучала. Грустные перспективы затуманили ее красивую головку. Ждать больше нечего, решила она. И тут, как это часто бывает, на смену отошедшей надежде пришла удача.
Светлана шла по улице Горького, стоял март. Весна бушевала вовсю, срывая с крыш сосульки и растапливая снег в серую хлябь под ногами, она безобразничала на московских улицах, заражая людей безудержными желаниями и беспричинным оптимизмом. Света с восторгом месила жидкий снег и, расстегнув дубленку, дышала так глубоко, как будто хотела вобрать весну в себя, всю, без остатка. Она шла от Пушкинской площади вниз, к «Интуристу», и вдруг увидела на углу у телеграфа высокого господина в легком плаще и меховой ушанке на голове. Так мог одеться только иностранец, имеющий смутное представление о погодных условиях в Москве. Мужчина нервничал. Он поминутно смотрел на часы и беспокойно озирался по сторонам.
Света остановилась. «Вот стоит мой муж», — подумала она и поразилась этой внезапной мысли.
Незнакомец тоже взглянул на девушку. Сначала коротко, а потом, как бы опомнившись, уставился на нее в упор и даже задержал дыхание от восторга. И тут как будто сама судьба взяла Свету за руку и подвела к владельцу меховой шапки.
— Могу я вам чем-нибудь помочь? — спросила она по-английски.
Иностранец продохнул и просиял восторженной детской улыбкой.
— Мне вас сам бог послал! — воскликнул он. — Я уже сорок минут дожидаюсь моего шофера, он куда-то пропал вместе с машиной. Я впервые в Москве и совершенно не знаю, что мне теперь делать. Кстати, меня зовут Штерн, Даниель Штерн, — он поспешно сдернул с руки толстую перчатку и протянул Свете руку.
Рукопожатие подействовало на Свету, как прохладный компресс, приложенный к воспаленной голове. Она сразу успокоилась. Ей не нужно было думать, как себя вести, все было абсолютно ясно, и искать ей больше никого не нужно. Ее мечта, так долго убегавшая от нее в московских переулках, столько лет казавшаяся несбыточной, внезапно взглянула из-за угла и встала рядом. Оставалось только ждать.
Света ждала недолго. Уже на третий день знакомства Даниель, замирая от страха, спросил:
— Ты хочешь поехать со мной в Германию?
— С удовольствием, но ты же знаешь, в нашей стране это невозможно, — наивно возразила Света.
— А если нам пожениться? — Голос Даниеля дрогнул.
— Ты делаешь мне предложение? — засмеялась Света и обвила его шею руками.
— Я люблю тебя, я хочу прожить с тобой всю жизнь, — заторопился Даниель, как бы боясь спугнуть свое счастье. — Умоляю, не мучай меня, скажи да! — Он опустил руку в карман и вытащил оттуда крохотную коробочку. — Вот — это тебе! — Он приоткрыл крышечку. На синем бархате сиял огромный бриллиант в тонкой золотой оправе.
Света ахнула и протянула руку.
— Ты мне еще не сказала «да», — шутливо возразил Даниель и спрятал коробочку с кольцом за спину.
— Да, да, да, — счастливо засмеялась Света и захлопала в ладоши.
Это была любовь без взлетов и отчаяния — спокойное деловое чувство. Сильное и крепкое. Первый кирпичик в здании семейной жизни. К осени они поженились, а зимой она уехала в Германию.
Немецкая зима встретила Светлану теплым южным бризом и запахом весны, вяло напоминающим московский март. Никакого буйства в виде снегопадов и метелей здесь не было. Все тихо и пристойно. Тихий климат, тихие маленькие города, украшенные, как елка в Рождество, игрушечными домиками с розовой черепицей, готические соборы, улицы без людей — тишина, мертвая тишина.
Из родного московского безобразия Света, как в вату, рухнула в эту вялую действительность. Ей казалось, что она спит тяжелым сном, полным неприятных чужих сновидений. Она часами бродила по городу в поисках воспоминаний, оглядывалась по сторонам в надежде кого-то встретить, вдыхала запахи, пытаясь вызвать ассоциации. Но город не откликался. Он был стерилен, как стакан, с которого стерли отпечатки пальцев. Света напоминала себе курицу, которой отрубили голову, а туловище все еще бежит, подчиняясь не успевшему осознать смерть инстинкту. Она не страдала. Ее тело тоже как бы бежало дальше. Оно разъезжало на дорогих автомобилях, бродило по богатому дому, отдыхало на дорогих курортах, но душа была отсечена и заброшена далеко-далеко, в московское безумие. Течение времени Света отсчитывала не по временам года, а по поездкам в Москву, частым и затяжным.
В Москве она вспоминала себя, сердце начинало биться в приятном учащенном ритме, и появлялось радостное ощущение, как будто она вернулась навсегда. Но время, как бы много его ни было, быстро заканчивалось, и неумолимо приближался отъезд. Света оправдывала необходимость возвращения завистливыми взглядами подруг, восторженным преклонением знакомых перед ее заграничной жизнью, но главной причиной был, конечно же, Даниель. Он терпел все, он любил ее, он ждал.
Когда родилась дочка Машенька, жизнь вдруг засверкала и заискрилась. Вся ее любовь и чувственность бурным водопадом изверглись на ребенка. Но это внутреннее ликование кипело и бурлило в отдельном отсеке ее души и никак не соприкасалось с окружающей ватной действительностью.
Как только в России разрешили выезд за границу, Света пригласила няню. Ей нужна была не помощь, ей нужен был мостик, перекинутый через три тысячи километров к дому, и она надеялась, что этим мостиком послужит женщина из Москвы. Приехала Маргарита, озлобленная и чужая. Она открыто страдала от чужого благополучия и делала Светину жизнь совсем невыносимой. И вот теперь Света, как ей казалось, нашла средство от тоски — Усик. Пусть это не самый близкий человек на свете, зато у них общее детство, а значит, общие воспоминания.
Когда они были маленькими и ходили в начальную школу, Марина с восторгом принимала ее, Светино, превосходство. Их отношения складывались по принципу служанки и госпожи. Света была хорошей госпожой, она взяла под свою царственную защиту маленькую, невзрачную Марину, и та многие годы не могла опомниться от радости, что обрела столь высокое покровительство.
В старших классах Маринино отношение к ситуации круто изменилось. Она больше не хотела играть эту унизительную роль и начала огрызаться. Но Света, как это часто бывает с людьми самодовольными, ничего не замечала и продолжала испытывать к Марине самые нежные чувства, замешенные на пренебрежительной жалости. Этим детским чувством к школьной подруге она и руководствовалась, принимая решение пригласить Марину в няни, при этом совершенно позабыв о ссоре, случившейся на выпускном вечере, и о четырнадцати годах жизни, разделявших их.
Поезд въехал в вокзал с легким шуршанием и, слегка качнув вагоны, плавно остановился — без лязга и скрежета, привычного для российских железных дорог. Двери разъехались. У выхода из вагона, аккуратно подогнанного вровень с платформой, замелькали люди — приехавшие и встречающие, отъезжающие и провожающие. Публика была одета нарядно, не по-дорожному. Здесь не было никакой вокзальной суеты и шума. Марина подхватила матерчатый чемодан в красно-зеленую клетку, сохранившийся еще со времен пионерских лагерей, и, подойдя к выходу из вагона, неуверенно выглянула из дверей. В воздухе пахло дорогими духами, серая платформа уходила в узкую перспективу между двумя поездами. Ничего настораживающего Марина не заметила. Слегка освоившись, она сначала потрогала платформу кончиком сапога, как неуверенный пловец трогает воду, и наконец решившись, шагнула на чужую землю. Марина являла собой продукт поколения советских отшельников, выращенных в теплом, уютном бункере, в котором мифы о загранице цвели, как герань на далеком, недоступном окошке. Человек такого сорта, делая первые шаги по заграничной земле, чувствует себя как космонавт, высадившийся где-нибудь на Марсе. Подтащив чемодан к скамейке, Марина села, оглядываясь по сторонам. Светы нигде не было.
«Вечно она опаздывает», — подумала Марина и, распечатав пачку «Явы», закурила. Рядом сидел солидный мужчина в белом плаще, он обернулся к Марине недовольным, в аккуратных морщинках лицом и сердито ткнул пальцем в серебряную бумажку, которую она бросила на платформу. «Строгий народ», — подумала Марина без раздражения, послушно подняла бумажку и бросила ее в урну. Она начинала нервничать. «Что, если Светка перепутала что-нибудь, — думала она, — дату, вокзал. С нее станется. Терпеть не могу необязательных людей». Время шло, подошел следующий поезд. Платформа быстро наполнилась людьми и так же быстро опустела. Марина сидела на скамейке, скованная страхом. Ей постепенно становилось ясно, в каком идиотском положении она находится. «Надо позвонить, — думала она и тут же понимала, что не знает, как пользоваться автоматом, да и мелочи у нее нет. — Пойти в полицию? А что я им скажу? И на каком языке? Надо бы взять такси — но это, наверное, дорого».
Размышляя таким образом, она напряженно смотрела в ту сторону, где виднелись рекламные транспаранты, магазины, кафе, и вдруг откуда-то вынырнула Светка. Она бежала, метя платформу полами широкого пальто. Марина вскочила и, оттолкнув ногой чемодан, бросилась к ней навстречу. В этот момент она почти любила подругу — как много-много лет назад, в школе.
— Ты где так долго была? Я чуть с ума не сошла от страха! — радостно закричала Марина.
— Ты представляешь, в пробку попала. Здесь же все-таки восемьдесят километров! — Света восторженно тискала подругу. — Усик, это ты?! Ну как, живой? Ты, наверное, устала, голодная, поехали скорее домой! — Света схватила Маринин чемодан, бросила его на тележку и, скомандовав: — Пошли! — буквально побежала к выходу.
Ее машина плыла по асфальту, как корабль по гладкой воде, развивая без малейшего усилия и вибрации огромную скорость. Дорога шла плавными, затяжными подъемами и спусками. День уже кончился, и только тонкая фиолетовая полоса, пролегающая между очертаниями гор и чернотой неба, еще напоминала о нем. Машина шла под гору бесшумно, как будто вовсе оторвалась от земли, а далеко впереди вздымающееся к небу шоссе пылало красными огнями.
— Как красиво, — прошептала Марина, завороженная фантастическим зрелищем.
— Ты находишь? — удивилась Света. Она не любила ночную дорогу: непроглядная темень отзывалась в ней ужасом, который должен испытывать человек, летящий в пропасть. Ей казалось, что она несется наугад, чудом уворачиваясь от мелькающих со всех сторон фар.
— А какая у тебя машина! — восхитилась Марина и погладила желтую кожу сиденья. — Как она называется?
— Я еще никогда на такой не ездила.
— Еще поездишь. У тебя вся жизнь впереди! — Света была счастлива. Она улавливала в Маринином тоне те восторженные, с каплей незлобливой зависти нотки, которые еще в детстве раскрашивали самые пустяшные события ее жизни в яркие цвета. Маринино преклонение действовало на Свету, как мощное увеличительное стекло с положительным эффектом.
— Нам еще далеко? — поинтересовалась Марина.
— Нет, мы уже подъезжаем, — ответила Света. Она съехала с шоссе и сразу попала в ярко освещенный квартал.
— Мы где, в городе? — Марина крутила головой, жадно ловя первые впечатления.
— На окраине. Сейчас через этот мостик — и дома.
— А почему вы не живете в центре? Дорого?
— Здесь только нищие в центре живут, а те, кто платить может, стараются поближе к природе. Ты не сравнивай. Это тебе не Москва. Здесь до центра десять минут ехать.
Машина въехала на узкую, экономно освещенную улицу, с обеих сторон которой шли ровные ряды аккуратно подстриженных кустов. Чуть в глубине поднимались черными тенями крыши невысоких частных домов. Улица была тиха и пустынна.
— Вот мы и дома, — Света заехала в тесный гараж.
— Свет, а где люди? Я что-то на улице никого не видела.
— Люди? — Свету этот вопрос неприятно кольнул. Она страдала от этого мертвого, разливающегося по немецким улицам уже ранним вечером покоя. — Люди по домам сидят, — сказала она, вылезая из машины. — Вот мы завтра в город поедем, там поживее, — она открыла ключом тяжелую, покрытую белым лаком дверь. — Добро пожаловать, Усик, — сказала она и втолкнула ногой чемодан.
Марина стояла в дверях, не двигаясь, потрясенная простотой и недоступностью открывшейся перед ней картины. Большая прихожая была наполнена ярким, но очень мягким светом, на мраморном полу жесткий коврик с веселым детским рисунком. Маленький антикварный столик с горкой ключей посередине. А дальше, в дверном проеме, загораживая собой вход в гостиную, стоял высокий, широкоплечий красавец с ребенком на руках. Поражало это сочетание. Красавец и дитя. В Маринином представлении, сильно подпорченном московскими нормами морали, такие мужчины должны сниматься в кино, сидеть в ресторанах и без устали соблазнять женщин, а не нянчиться с детьми.
Мужчина поцеловал Свету и, сказав что-то по-немецки, передал ей ребенка. Девочка радостно сомкнула ручки на шее матери и прижалась к ее лицу пухлой щекой. Света обмерла от счастья.
— Моя красавица, радость моя, смотри, кого я к тебе привезла! Это тетя Марина, она будет твоей няней.
«Она будет твоей няней», — отозвалось эхом в Марининой голове. Она стояла на пороге как громом пораженная этой простой формулировкой ее, Марининого назначения. Отныне она переходит в собственность этого голубоглазого ребенка, становится приложением к чужому счастью. В этот момент ей стало ясно — та размытая граница, которая до сих пор разделяла ее и Светину жизнь на две полярных судьбы, превратилась в жесткую черту, за которую нельзя заходить, а можно лишь заглянуть, как смотрят на музейный экспонат с табличкой «Руками не трогать!».
Трезво оценив свое положение, Марина все же сделала над собой усилие и скупо улыбнулась.
— Ну вот, наконец-то! — обрадовалась Света. — А то стоишь, как истукан. Давай заходи. Я тебя с моим семейством знакомить буду. Это мой муж, Даниель.
Услышав свое имя, мужчина приветливо улыбнулся и, протянув руку, что-то сказал по-немецки.
— Что он говорит? — спросила Марина, краснея от смущения.
— А ты сама догадайся, что в таких случаях говорят, — улыбнулась Света.
— Очень приятно, — пробормотала Марина и вложила вспотевшую ладонь в крепкую руку Даниеля. — Слушай, Свет, а как же я с ним общаться буду? Он по-русски совсем не понимает?
— Понимает, но плохо. Но ты не волнуйся. Тебе с ним все равно разговаривать будет некогда. Он дома мало бывает — работа, командировки. Так что мы с тобой почти все время одни. А это моя Машенька. Ей три годика, и она самая лучшая девочка на свете. Правда, доченька?
Девочка взяла большой палец в рот и посмотрела на Марину строго, с оценкой.
Хотя Марине и была отвратительна эта глупая демонстрация материнского счастья, но девочка ей понравилась.
— Ну что, Машенька, пойдешь ко мне? — спросила она по-взрослому, без сюсюканья.
Девочка сначала насупилась, соображая, потом выскользнула из Светиных рук и побежала к Марине.
— Guck, die Liebe auf den ersten Blick![3] — восхитился Даниель.
— Das ist unglaublich! — согласилась Света и добавила: — Ich bin richtig eifersüchtig[4].
— Ну, что, Машенька, может быть, ты мне расскажешь, о чем родители говорят? — спросила Марина, подавая девочке указательный палец.
— Да мы поражаемся, что она сразу к тебе пошла. Вообще-то она жуткая трусиха и даже бабушку с дедушкой с трудом признает, — объяснила Света. — Ладно, уже поздно. Даниель уложит Машу спать, а мы с тобой еще посидим, выпьем. У нас завтра выходной. Нас папа в город отпускает.
Утро выдалось прозрачным и нежным. Кроны деревьев, казалось, были мягко озарены отблеском осеннего покоя. Природа неторопливо готовилась к незлобивой зиме, усыпая землю каштанами и листьями скромных расцветок. Машина шла по дороге, спускающейся вниз серпантином. Справа аккуратными террасами поднимались виноградники, все выше и выше, прямо к небу, а слева, далеко внизу, как сливки в фарфоровой чашке, переливался пастельными тонами город. Он то появлялся, то исчезал за изгибом дороги, дразня и мерцая. Марина вытягивала шею, пытаясь заглянуть за Светино плечо. Ей казалось, что если дорога хоть на мгновение перестанет вилять, то там, в отдалении, она сможет разглядеть море.
— Крымский пейзаж, — сказала Марина, не переставая крутить головой.
— Да, похоже на приморье, — равнодушно согласилась Света.
— Неужели тебя все это не волнует? — удивилась Марина. — Такая красота! Аж дух захватывает.
— А меня это все не трогает. Знаешь, раньше, когда я приезжала в Крым и видела вот такие же пейзажи, меня начинало трясти от счастья. Хотелось забраться на вершину самой большой горы и заорать от восторга. А здесь я засыпаю. Понимаешь?
— Ну, как бы тебе объяснить… Я как будто в кинотеатре сижу. Мне кино показывают про шикарную жизнь, я в главной роли, но при этом не перестаю быть всего лишь зрителем. Все, приехали! — Света открыла окно и нажала на кнопку какого-то автомата. Из отверстия, прикрытого пластмассовым козырьком, показалась бумажная карточка. Маленький шлагбаум, перекрывающий въезд в гараж, приветливо взлетел вверх. Света закружилась на машине по узким извилистым коридорам в поисках места.
— Свет, а для чего козырек?
— Какой еще козырек? — удивилась Света.
— На автомате на въезде.
— Ну, ничего себе, заметила! Это чтобы карточку не замочить, когда дождь идет.
— Надо же! — поразилась Марина. — О карточке заботятся, замочить боятся. А у нас человека целиком в лужу окунут, еще сверху пройдутся и не заметят.
Подруги выбрались из гаража и направились наискосок через небольшую уютную площадь.
— Мы куда? — спросила Марина.
— Давай по главной улице прогуляемся, я тебе центр покажу, а потом где-нибудь присядем, попьем кофейку.
Они свернули в узкую, круто поднимающуюся вверх улочку. Справа и слева, плотно прилегая друг к другу, шли магазинчики. Люди как ни в чем не бывало проходили мимо красивых витрин, даже не оборачиваясь. Света тоже неслась по улице вверх, не проявляя никакого любопытства к раскинувшимся вокруг волшебным шатрам.
— Ты что ползешь как черепаха? — торопила она, увлекая Марину за собой.
— Свет, я из Москвы приехала, — упиралась Марина, — там сейчас в витринах, кроме пыли, ничего нет. Дай хоть посмотреть.
— Чего просто так таращиться? Мы с тобой специально поедем за покупками, в будний день, когда народу поменьше, вот тогда и смотри сколько хочешь, а сегодня у нас прогулка, отдых.
Они вышли на широкую улицу.
— А это Кёнигштрассе, — прокомментировала Света, — совершенно необходимый атрибут в любом немецком городе. Там, внизу, дворцовая площадь, а за ней вокзал.
— А мы куда путь держим? — поинтересовалась Марина.
— Туда и держим. На дворцовой площади кафе есть, там лучший в городе капучино.
Марина не поняла, кто такой этот капучино, но спрашивать не стала, не хотела доставлять Светке удовольствие. Улица, по которой они шли, была широкой и многолюдной, машин здесь не было, только пешеходы.
— Свет, а почему люди так плохо одеты? — спросила Марина.
— Ну да, некрасиво. У нас по центру бабы нарядные ходят, а здесь, посмотри, все одинаковые.
— Здесь люди наряжаются в театр или на бал, — резко ответила Света. — А вот и кафе, про которое я говорила.
Они подошли к широкому зданию с колоннами. На просторной террасе располагались круглые столики с цветами. Света бросила на кресло сумку и опустилась на яркую подушечку.
— Садись, Усик, — пригласила она.
Марина уселась за стол. Подобрав полы неуклюжего пальто, она поставила на колени большую коричневую сумку и от неловкости сложила на ней руки.
Подошел официант, покосился на Марину, сидящую прямо, как истукан. Света сделала заказ.
— Мань, ты чего, как кол проглотила? Расслабься.
Марина испытывала неловкость, которую должен чувствовать человек, случайно попавший в дорогой магазин и растерявшийся от чрезмерного внимания продавцов.
Они сидели лицом к широкой площади, с царским дворцом на заднем плане, с фонтанами и зелеными газонами. Небо было высоким, сияющим пронзительной осенней голубизной, и было по-летнему тепло.
— И это ноябрь! — восхитилась Марина. — Ты представляешь, что сейчас в Москве делается?! Слякоть, грязь. Бр-р… — она передернула плечами.
— А мне знаешь чего больше всего бы хотелось?
— Закрыть глаза, а потом открыть и оказаться в Москве, навсегда.
— А что тебе мешает? Поезжай. Из Германии в Москву проще, чем наоборот.
— Это только так кажется…
— Не понимаю, что тебя здесь держит, если все не нравится, все раздражает.
— А Даниель, а Машенька? Нет, все не так просто.
— А по-моему, ты просто с жиру бесишься, — не выдержала Марина. — Забыла, откуда приехала?! Ходишь по чистому городу, живешь в шикарном доме, мужик как из Голливуда, да тебе в Москве такое даже под наркозом привидеться не могло! А здесь, видите ли, ее душевные томления одолевают! — Марина посмотрела на подругу чуть ли не с ненавистью.
Света сидела в пластмассовом креслице легко и свободно, положив ногу на ногу, в ее движениях не было никакой скованности, в одежде ничего лишнего. Беззаботная и элегантная, со своими надуманными проблемами.
— Бога ты гневишь, — вздохнула Марина. — Своего счастья не ценишь. Смотри, как бы не потерять.
— А ты бы хотела?
— Чтобы я все потеряла? — Света посмотрела на Марину пронзающим взглядом.
— Ты что, с ума сошла? — отмахнулась Марина и покраснела, как человек, пойманный с поличным.
Света улыбнулась.
— Свет, — затараторила Марина, стараясь сгладить возникшую неловкость, — а помнишь, ты мне про жениха что-то говорила?
— Ты мне поможешь, а? Я тебе по гроб жизни благодарна буду. Мне жених нужен, — для убедительности Марина налегла грудью на стол, — я здесь хочу остаться. Не могу я там больше, понимаешь?
Света загадочно молчала.
— Ну, ты же сама говорила — объявление дадим, — продолжала Марина плаксивым голосом. — А?
Света потянулась за сумкой, щелкнула замком и достала большой коричневый пакет.
— На! — она положила конверт на стол.
— Что это?
— Какие женихи?
— Свет, не мучай ты меня, объясни, в чем дело, — взмолилась Марина.
— Дала я уже объявление, на прошлой неделе вышло, а это ответы. Семьдесят шесть мужиков хотят на тебе жениться.
— Врешь! — прошептала Марина. — А что ты там написала? Ну, в объявлении…
— Обаятельная русская, тридцать семь лет, в Германии в гостях, хочет познакомиться с симпатичным мужчиной. Цель — совместная жизнь.
— Здорово! — восхитилась Марина. — И семьдесят шесть человек откликнулись? Что у них, здесь, баб, что ли, нет?
— Ты особо не обольщайся, из этих семидесяти шести пятьдесят можно сразу выкинуть.
— Как это так выкинуть? — по-хозяйски заволновалась Марина.
— Да так. Там одни старики-инвалиды и безработные. Или ты хочешь подобрать кого-нибудь из этого контингента?
— Нет, конечно, не хочу. Мне такого не надо.
— А какого тебе надо?
— Такого, как твой Даниель, — серьезно сказала Марина и нагло уставилась Свете в глаза.
Света вздрогнула. От Марининого взгляда неприятный холодок пробежал у нее между лопаток.
— Слушай, Марин, — заговорила Света, раздражаясь. — Мое знакомство с Даниелем — это счастливая случайность, и смешно рассчитывать на такую удачу, дав объявление в газету.
— Да потому, что такие мужики, как Даниель, не ищут себе партнеров по объявлению, понимаешь?
Марина пропустила сказанное мимо ушей, она внимательно прислушивалась к подтексту. А смысл его был таков: «Куда тебе со свиным рылом в калашный ряд? Знай свое место».
Марина затаилась. От Светы зависело многое, и ответить ей сейчас она не могла.
Тем временем Света разложила на столе конверты.
— Бери наугад, — предложила она, — кого вытянешь, с того и начнем.
Марина пробежала пальцами по письмам, как фокусник по картам, и, ухватив самый нижний конверт, потянула его:
— На, переводи.
Света разложила письмо на столе и стала читать: «Здравствуй, дорогая незнакомка. Мне сорок пять лет, холост, очень хорошо обеспечен. Являюсь хозяином фабрики по производству деревянных изделий. Ищу спутницу жизни, которая скрасит мое одинокое существование. Прошу тебя, откликнись. Хорст Билль». Ну как?
Марина потрясенно молчала.
— Марин, я тебя спрашиваю — как тебе письмо, понравилось?
— А чего же мы сидим? — вдруг всполошилась Марина и стала поспешно собираться.
— Мань, ты куда?
— Как куда? Бежим скорее звонить, пока он не передумал.
— Не надо никуда бежать, — усмехнулась Света. Она достала мобильный телефон и набрала номер.
Подруги отправились в крохотное кафе — три столика и стойка.
— Смотри, какой мужик интересный! — сказала Марина, расстегивая пальто. — Мне бы такого.
Света взглянула на человека, сидящего за дальним столиком. Красивое, но строгое лицо. Одет в костюм черного цвета и белую рубашку, схваченную под горлом тугим красным галстуком. Мужчина встретился со Светой взглядом и помахал свернутой в трубочку газетой.
— Мань, так это наш! — ахнула Света.
— Не может быть!
— Почему не может? Мы же насчет газеты договаривались, помнишь?
Она повесила пальто.
Марина неуверенно кивнула.
— Усик, это твой шанс, не упусти, второго такого не будет! — Она обратилась к мужчине: — Господин Билль? — и приветливо улыбнулась.
Мужчина поднялся навстречу и протянул руку.
— Госпожа Усатова? — обрадовался он, удерживая Свету за запястье.
— Нет, меня зовут Штерн, а Усатова — это моя подруга, — Света посторонилась, уступая Марине место.
— А вы не ищете спутника жизни? — поинтересовался мужчина, не выпуская Светиной руки.
— Нет, я уже нашла.
— Познакомьтесь, пожалуйста. Марина Усатова.
— Очень приятно, — сказал мужчина, не отводя тяжелого взгляда от Светиного лица.
— Послушайте, — заволновалась Света, — я вам уже сказала, что ни в каких знакомствах не заинтересована. У меня прекрасная семья, и я люблю своего мужа. Если вам не нравится моя подруга, то мы сейчас же уйдем.
Марина не понимала ни одного слова. Глядя исподлобья, она кокетливо улыбалась.
«Дура», — подумала Света. Ее раздражала назойливость жениха и эта идиотская улыбка на Маринином лице.
— Ну, что он? — спросила Марина, почему-то стараясь, как чревовещатель, не шевелить губами. — Не нравлюсь я ему?
Вдруг господин Билль бросил Светину руку и, повернув голову на тугой шее, сердито посмотрел на Марину.
От неожиданности Марина вздрогнула, улыбка на ее лице потекла. Уголки рта виновато обвисли. Господин Билль смотрел на нее, как взыскательный покупатель смотрит на сомнительный товар.
— Марин, соберись, — ободрила подругу Света. — Ты чего на него уставилась, как кролик на удава?
— А говорить она умеет? — жених презрительно кивнул головой в сторону Марины.
— Что вы имеете в виду? Она не глухонемая. Но немецкого не знает, а по-английски говорит плохо.
— В таком случае оставьте нас одних, — приказал жених.
— С удовольствием, — обиделась Света. — Вы привезете мою подругу домой?
— Конечно.
— В таком случае вот моя визитка, — Света положила на стол карточку.
— Марин, я пошла.
— Куда? — запаниковала Марина.
— Домой, я здесь только мешаю.
— А я без тебя?..
— Как-нибудь справишься. Он тебя проводит, пока.
Марина вернулась домой далеко за полночь. В руках она держала тяжелый букет, связанный из тусклых, похожих на искусственные, цветов.
— Ты что так поздно? Я здесь с ума схожу! — воскликнула Света, впуская подругу в дверь.
— А чего с ума-то сходить? Я же не одна.
— Да в том-то и дело, что не одна! Я здесь времени зря не теряла и по телефонной книге вычислила, с кем ты женихаешься.
— С кем? — Марина обреченно опустила букет. Перевернутый вверх ногами, он стал похож на большой, добротный веник. — Или нет. Не говори. Он мне так понравился… Если он не маньяк и не убийца, то я сегодня же готова выйти за него замуж.
— А он тебе что, предложение сделал?
— Нет. Но мне кажется, сделает. Он меня весь вечер за ручку держал, в глаза заглядывал, а потом пригласил в гости, на субботу.
— В гости? — Света насторожилась. — Может, не пойдешь?
— Еще чего! — Марина возмущенно фыркнула. — У меня наконец надежда появилась, а ты мне ее под корень срубить хочешь. Да что ты там, в конце концов, узнала такого страшного?
— Да нет, ничего страшного. Просто он гробовщик.
— Гробовщик. Вот, смотри! — Света разложила на столе газету и ткнула пальцем в объявление в широкой траурной рамке.
— Хорст Билль, — прочитала она, — Бюро похоронных услуг. В любое время дня и ночи мы готовы оказать вам помощь.
— Это они покойнику помощь оказывать собираются?
— Да нет, родственникам, конечно.
— Свет, а похоронное дело прибыльное?
— Думаю, да. А главное — верное, без работы никогда не останешься.
— Вот и прекрасно… — Марина задумчиво улыбнулась. — Будем вместе венки вязать. Кстати, — она покрутила в руке букет, — тебе это ничего не напоминает?
— Точно, — засмеялась Света. — Это же фрагмент из надгробного венка. Хорошо хоть именную ленту не додумался прицепить.
В субботу вечером Света высадила Марину перед большим домом, расположенным в одном из самых дорогих районов города.
«Что-то здесь не так», — с тревогой думала Света, глядя на старомодное каменное строение.
— Марин, ты там поосторожнее, в случае чего — звони! — сказала она через окно машины.
— Разберусь, не маленькая, — поморщилась Марина и нажала кнопку звонка. Ворота загудели, Марина оглянулась и, махнув Свете рукой, вошла в сад.
«Зачем нужна этому богатому красавцу невзрачная Марина? — думала Света, глядя, как подруга удаляется по каменной дорожке в сторону дома. — Ладно, в конце концов, я знаю, где он живет, и телефон у меня тоже есть», — успокоила она себя и завела мотор.
Марина подошла к дому и остановилась на пороге. Дверь была открыта, но в прихожей никого не было. Потоптавшись мгновение перед входом, она нерешительно шагнула внутрь и осмотрелась. По обстановке прихожая напоминала комнату средневекового замка. Стены из грубого камня без обоев. Прямо напротив входа — старинное зеркало, на полу древний сундук, длинный и низкий, с грубой резьбой на почерневших боках, от зеркала с двух сторон поднимается кверху затемненная лестница. Марине стало не по себе. Она еще раз обвела взглядом прихожую, посмотрела в зеркало, поправила рукой прическу и вдруг… Марина вздрогнула. Там, в глубине, в далеком зеркальном сумраке, стоял Хорст Билль и молча глядел на Марину, поглаживая рукой бороду.
Марина ойкнула и обернулась.
Господин Билль вышел из затемненной ниши.
— Guten Abend[5], — сказал он и протянул к Марине руки.
Не зная, как истолковать этот жест, Марина стала расстегивать пальто.
Хорст одобрительно кивнул, принял пальто и унес его в нишу. Через мгновение он появился снова и, взяв Марину под локоть, потянул в сторону лестницы. Марина послушно шагнула в темный проем. Раздался щелчок выключателя, и Марина увидела, что идет по мягкому ковру, плавно повторяющему изгибы ступенек. Округлые стены были плотно завешаны гобеленами, гравюрами и рогами каких-то животных. От обилия старинных вещей дом пропитался запахом времени, сухим и терпким. Не успела она ступить на последнюю ступеньку, как свет на лестнице погас и Марина оказалась в большой гостиной с узкими длинными окнами до пола и открытым камином в углу. В камине переливался живым пламенем огонь, перекликаясь со множеством зажженных свечей.
Марина застыла в восхищении.
— Schön?[6] — спросил Хорст и посмотрел Марине в глаза.
На его лице переливались зыбкие тени, в глазах мерцали отблески свечей. Марина сходила с ума от близости такого мужчины. За его спиной виднелся стол, накрытый на двоих. Еды на столе не было, но есть и не хотелось. С большим удовольствием она бы прошла мимо стола прямо в спальню, но здесь распоряжался Хорст. Он пригласил Марину присесть на стул с высокой спинкой, а сам удалился на кухню. Марина села и уперлась взглядом в старинную фарфоровую вазу, из которой торчал букет, в точности повторяющий тот, который она принесла с первого свидания. Это несколько сбило градус радостного возбуждения, но тут раздался звон колокольчика и появился хозяин. Он катил перед собой широкий двухъярусный столик на больших колесах. Нижняя часть была заставлена разнообразными бутылками, а наверху мерцала горелка, согревая округлое дно серебряной сковородки.
Марина даже зажмурилась — таким невероятным казалось ей происходящее.
Подкатив тележку к столу, Хорст потянулся за бутылкой.
— Fleisch — Rotwein, — пояснил он и разлил по бокалам густую темную жидкость. — Salat?[7]
Марина кивнула.
Он поставил на стол две тарелки с неведомым салатом, на поверхности которого белели тонкие лепестки пармезана и миндальных орешков.
— Guten Appetit![8] — Хорст разложил на коленях салфетку и принялся за еду.
Ужинали молча. Марина неуклюже орудовала ножом и вилкой, испытывая страшную неловкость от этого гробового молчания. Покончив с горячим, Хорст встал и, выходя на кухню, нажал какую-то кнопку. Дом наполнился мощным звучанием оперных голосов. Марине стало не по себе, что-то устрашающее было в этих грандиозных звуках. Она нерешительно встала и подошла к камину. Пламя двигалось ритмично, в такт музыке. Марина протянула руки и прикоснулась к живому теплу.
Хорст незаметно подошел сзади и обнял Марину, настойчиво и мягко.
— Gehen wir in das Schlafzimmer[9], — прошептал он, касаясь Марининого уха бородой.
Марина резко повернулась и, закинув руки Хорсту на шею, попыталась поцеловать его. Губы у него оказались холодными и вялыми и едва откликались на страстный призыв. Марина слегка опешила, но желание физической близости было настолько острым, что она почти незамедлительно возобновила попытку расшевелить нерадивого любовника. От Марининых настойчивых ласк Хорста слегка повело, с его губ даже сорвался сдавленный вздох, который обычно выдает возбуждение. «Пойдет дело», — отметила про себя Марина. Не избалованная вниманием мужчин, она считала инициативу в вопросах интимной близости своей прямой обязанностью и чувствовала, как ее возбуждение перетекает в Хорста, делая его мягким и податливым, как воск. Вздыхая все глубже и чаще, он стал неверными руками расстегивать на ней кофточку.
Марина нащупала застежку на его брюках, но тут Хорст вздрогнул и отскочил в сторону, как от сильного удара.
«Ну что еще такое?» — подосадовала Марина и вопросительно взглянула на него.
Хорст отошел на несколько шагов и с торжественно-мучительным выражением на лице начал сам расстегивать брюки.
Приняв это за игру, Марина тоже самостоятельно сняла блузку, обнажив самую привлекательную часть своего тела.
Хорст закинул назад голову и закрыл руками лицо. Расстегнутые брюки соскользнули на пол. Марина остолбенела. Она еще пребывала в состоянии сильного сексуального возбуждения и никак не могла переключиться на реальность, оказавшуюся не совсем ожиданной.
Посреди большой гостиной, наполненной душераздирающими звуками оперного хора, весь в отсветах пламени стоял господин Билль в трагической позе, со спущенными штанами, из-под которых виднелись тонкие женские чулки, схваченные сверху кокетливыми резинками. Трусики, таинственно оплетенные дорогим черным кружевом, плотно сидели на мускулистом заду.
Марина мгновенно надела и запахнула блузку. Хорст стоял, не двигаясь, как будто в ожидании страшного приговора. Марина быстро и решительно трезвела.
«Живой бы отсюда выбраться», — подумала она и бросилась к телефону. С трудом попадая пальцами на кнопки, набрала номер. Света подошла сразу, видимо, ждала звонка.
— Забери меня отсюда немедленно! — закричала Марина в трубку.
— Что случилось?
— Слышишь, немедленно! — повторила Марина и нажала на рычаг.
Сразу успокоившись, она села за стол и, вылив в огромный бокал почти целую бутылку, стала жадно пить. Покончив с вином, она взглянула на Хорста, который застыл, как памятник в этой идиотской позе.
— Слышь, ты, козел, винца хочешь? — обратилась она к нему.
Хорст отнял от лица руки и, взглянув на Марину, вопросительно вздернул брови. Тут Марина не выдержала. Окончательно осознав всю комичность создавшейся ситуации, она откинулась на спинку стула и, обхватив руками живот, захохотала.
— Ой, мамочка! Ой, не могу! — вскрикивала она, давясь неприятным, словно шершавым смехом.
Услышав смех, Хорст весь съежился, трусливо подхватил обеими руками штаны, неуклюже засеменил к двери и спрятался в другой комнате.
— Давай, давай, вали отсюда! — закричала ему вслед Марина, вспомнив хамоватые повадки своих товарок по цветочному делу. — Тоже мне, господин Билль! — фыркнула она и принялась за следующую бутылку.
Когда раздался звонок, Марина уже не могла подняться с места. Она была настолько пьяна, что не сразу сообразила, что звонят в дверь, и, сорвав телефонную трубку, долго и настойчиво кричала: «Але!» Хорст затаился в своем укрытии и выходить оттуда, похоже, не собирался. Сделав над собой усилие, Марина поднялась с места и аккуратно, держась за стены, выбралась на улицу.
Вдалеке за чугунной решеткой металась Света.
— Усик, что с тобой? — услышала она панический вопль.
— Со мной все в порядке, — промямлила Марина.
— Ты что, ранена? Почему ты еле ползешь?
Марина молча подошла к воротам и, ухватившись за чугунную решетку, стала трясти ее.
— Выпусти меня отсюда, — требовала она монотонным голосом, глядя пустым взглядом мимо Светланы.
— Посмотри, там где-то на воротах кнопка должна быть, — попросила Света.
Но Марина как будто не слышала. Раскачиваясь из стороны в сторону, она бормотала что-то невразумительное.
— Господи, что же делать? — волновалась Света. — Да как же эти чертовы ворота открываются?
Наконец она решительно нажала кнопку звонка и не отпускала палец, пока не услышала знакомое жужжание. Схватившись за ручку, Света дернула калитку на себя, Марина, крепко ухватившись за решетку, вышла с территории участка и, вконец ослабев, упала Свете на руки.
— Ну, слава богу! — обрадовалась Света, подтаскивая подругу к машине. — Ложись, поспи, — отдышавшись, выдохнула она и свалила безжизненное тело на заднее сиденье.
Весь следующий день Марина спала. Света несколько раз заходила в комнату сама и периодически подсылала Машу. Но Марина лежала на кровати, как мертвая. Бледная и страшная, с заострившимся лицом.
— Пойди посмотри, не проснулась ли тетя Марина, — в очередной раз попросила Светлана дочку.
— Я больше туда не пойду! — заупрямилась девочка.
— Я ее боюсь.
— Что еще за глупости?
— Да, мама, она на бабу-ягу похожа!
— Ну, не хочешь, не ходи, — улыбнулась Света, — я сама посмотрю.
Она тихонько открыла дверь и заглянула в комнату. Воздух здесь застоялся, пропитавшись неприятным сивушным запахом. Марина лежала на спине и дышала со свистом, по-старушечьи втягивая вовнутрь губы.
«А Машка права, — подумала Света, — и правда как баба-яга. Интересно, что же с ней там произошло?»
Света не находила себе места и с нетерпением ждала Марининого пробуждения, чтобы наконец узнать подробности визита к жениху, но, когда Марина очнулась и спустилась в гостиную, не смогла вытянуть из нее ни одного слова. На все вопросы она отвечала упрямым молчанием и неопределенным покачиванием головы. Света начала выходить из себя. Но чем настойчивее требовала она разъяснений, тем больше Марина замыкалась, и тем жестче и упрямее становилось выражение ее лица. Доведя таким образом подругу до состояния слепой ярости, Марина все так же молча одела Машу и вышла на прогулку.
Она шла по парку, держа за руку чужую хорошенькую девочку. На душе было пусто и гулко, как в подземном переходе. День подходил к концу. Наступало то время суток, когда предметы теряют свои дневные очертания и превращаются в тени, которые ближе к ночи густеют и наполняются темным, загадочным содержанием.
— Пошли, Машенька, — сказала Марина, — пока дойдем до дома, стемнеет.
Свет стремительно покидал пределы парка, вытекая куда-то за его края. Там, в просветах между деревьями, еще виднелись бледные фрагменты сумерек, а на аллеях уже вовсю правил вечер.
«Вот так и у меня, — думала Марина. — Свет — только за пределами моей жизни. Я иду, иду на этот свет, а выхожу все время в глубокую ночь».
Марина и дальше продолжала мучить Свету мстительным молчанием. Поначалу Света раздражалась и нервничала, но, увидев, что подруга остается непроницаемой, как саркофаг, сменила тактику и стала окружать ее заботой и вниманием. В ней проснулось давно забытое чувство вины, которое она испытывала в детстве, когда Марина, искусно пользуясь Светиной слабостью, настойчиво требовала восстановления справедливости, постоянно ставя подруге в вину ее благополучие и богатство. Маленькая Света страдала, ей казалось, что в жизни должно быть все по-честному. И всеми ее поступками по отношению к подруге руководило одно-единственное желание — исправить эту несправедливость. Марина принимала Светину опеку спокойно, без благодарности, как человек, получающий законное пособие. Так и теперь она делала вид, что не замечает ни дорогих подарков, ни Светиных усилий в поисках нового жениха. Она вела себя, как зритель в театре, на сцене которого мечется исполнитель, потерявший всякую надежду на успех.
Осень кончилась, наступила зима — непривычно теплая даже для этих мест. Время шло к Рождеству, а снега все не было и на газонах безмятежно зеленела трава. Только ночи напоминали о наступившем времени года, оставляя на дорогах и стеклах машин следы заморозков.
— А мне ведь через месяц уезжать, — сказала Марина, глядя через окно в сад.
— Зачем? — по-деловому спросила Маша и протянула к Марине ручки.
— Вот и я думаю — зачем? — вздохнула Марина, усаживая девочку к себе на колени.
— А ты ко мне еще приедешь?
— Да нет, малышка, вряд ли.
— Почему-у? — засопела Маша. — Я хочу! — Она уже включила Марину в свой детский мир и любую попытку к изменению этого мира рассматривала как посягательство на свою собственность. — Ты что, меня не любишь? — спросила она с угрозой и сползла с Марининых колен на пол.
— Ну, что ты, Машенька, конечно, тетя Марина тебя любит, — вмешалась Света, не в силах видеть, как дочка расстраивается.
— Не любит! — закричала Маша, почувствовав поддержку, и топнула толстой ножкой, обтянутой белым чулком в резинку.
Света метнула на Марину умоляющий взгляд. Марина молчала.
— Машенька, тетя Марина тебя любит, очень любит и в гости к тебе придет, она просто пошутила. Правда, тетя Марина?
Марина встала.
— Зачем обманывать ребенка, — не без злорадства сказала она и принялась убирать со стола тарелки.
Маша предупреждающе всхлипнула.
— Мне в Москве надо жизнь налаживать, нету у меня времени по заграницам разъезжать, — продолжала Марина, делая вид, что не замечает панических взглядов подруги. — Хватит, насмотрелась я на всяких уродов, а приличные мужики на меня даже глядеть не хотят.
Маша слушала, мучительно нахмурившись.
— Марин, не при ребенке… — наконец не выдержала Света.
— А чего я такого говорю? Пусть слушает, умнее будет, — Марина повернулась и, аккуратно балансируя, понесла тарелки на кухню. За ее спиной что-то стукнуло и сразу вслед за этим раздался оглушительный, отчаянный рев.
— Ну и стерва же ты! — услышала она голос Светы. — Машка-то тут при чем?
Марина поставила на кухонный стол тарелки и, тяжело вздохнув, опустила руки. Ей было жаль ребенка, Свету, себя. Она быстро вбежала в комнату и, прижав к себе Свету вместе с ревущей у нее на руках Машей, сказала:
— Не плачь, Машенция, я тебя очень люблю и никогда не брошу. Пойдем, моя маленькая, я тебя в кроватку уложу и песенку спою, твою любимую.
Оказавшись у Марины на руках, Маша доверчиво затихла и, склонив кудрявую головку ей на плечо, дала унести себя наверх, в детскую.
— Спят усталые игрушки, книжки спят… — послышалось сверху мелодичное пение. Маринин голос действовал дремотно и успокаивающе.
«Все-таки странный она человек, — думала Света. — Сколько же в ней намешано, плохого и хорошего. Говорят, дети и животные обладают безошибочным чутьем, что они плохого человека сразу чувствуют. А Машка в Марине души не чает. Значит, хорошего в ней все-таки больше. Просто свою беззащитность не хочет показывать, вот и ерепенится. Видно, с годами человек мало меняется. То есть внешне происходят, конечно, некоторые изменения, а характер остается прежним. Вот и Марина, точно как в детстве, — надуется без всякого повода и молчит. Бывало, неделями из нее слова не вытянешь, и поди разбери, что у нее в голове происходит. А с другой стороны, с чего бы ей радоваться? От такой собачьей жизни у кого угодно крыша поедет…»
— Уснула, — доложила Марина, заходя на кухню.
— Как это здорово у тебя получается! — восхитилась Света. — Пятнадцать минут — и уснула. Мне бы на это час понадобился.
Света по привычке акцентировала свои недостатки, подчеркивая Маринины достоинства, чтобы польстить ее самолюбию. Она даже не подозревала, что такие натуры, как Марина, обладающие крепким, ухватистым умом и заземленной чувствительностью, относятся к редкой похвале серьезно и бережно, как запасливый крестьянин к урожаю, и совершенно не замечают снисходительного подтекста.
— Ребенку покой нужен, — проговорила Марина нравоучительным тоном. — А ты вся дерганая, нервная, вот она и не спит по часу.
— А мы вчера с последним женихом встретились, — грустно улыбнулась Света.
— Я знаю. Говорю же тебе — домой поеду. Делать мне здесь больше нечего.
— А ты забыла? У нас еще второй сорт остался, целая стопка писем… Может, попробуем?
— Думаешь, стоит?
— А почему бы и нет? Мы же их не видели. Вдруг повезет. Может, кто симпатичный попадется.
— Да мне бы хоть какой, лишь бы женился. Если бы ты только знала, как возвращаться не хочется! Я же там пропаду. Понимаешь?
Марина повесила голову и обреченно вздохнула.
— Ничего, Усик, не горюй, — подбодрила ее Света, мгновенно наполняясь жалостью, — был бы товар, а покупатель найдется. — Она подошла к шкафу и выдвинула ящик, в котором хранила письма.
— Погода испортилась, — Марина приподняла занавеску и посмотрела на утопающий в дожде сад.
— Ну, что же ты хочешь, декабрь, здесь тоже иногда зима наступает. — Света едва отдышалась, натягивая узкие сапоги.
— А мне по такой погоде надеть нечего.
— Так ты же одета. Нам уже выходить пора.
— Да, но в плаще сейчас холодно, а в куртке я на бомжа похожа.
— Ладно, я тебе пальто дам, — секунду подумав, успокоила подругу Света.
— Твое пальто на меня не налезет.
— Налезет. Я тебе широкое дам, — она достала из шкафа бежевое пальто и, распахнув его шелковое нутро, подставила Марине. — Давай ныряй.
Марина опустила руки в рукава.
— Смотри, действительно ничего… — сказала она, поворачиваясь перед зеркалом. — Вот что значит дорогая вещь! Кого угодно украсит.
— Ну, кого угодно не знаю, а тебе правда идет. Выходи, я пошла за машиной.
Марина подошла к зеркалу, нанесла на узкие губы темно-красную помаду и внимательно посмотрела в глаза своему отражению.
— Неужели еще кто-то клюнет?.. — пробормотала она, поражаясь мертвой невыразительности собственного взгляда. — Господи, дай ты мне хоть один, самый крохотный шанс! — Марина подняла глаза к потолку — предположительному месту пребывания господа. — Уж я бы сумела им воспользоваться, как надо!
Могущественный собеседник безмолвствовал. Может быть, ему не понравился угрожающий тон Марининого заявления, а может, он просто по привычке не вступал в пререкания с лицами, стоящими на самой низшей ступени социальной лестницы.
За окном раздались два коротких гудка. Марина не торопясь уложила косметичку в сумку, взяла зонтик, ключи и медленно, с достоинством вышла на улицу.
— Ты думаешь, мы его здесь найдем? — Марина обвела взглядом просторный зал венского кафе. — Смотри, народу сколько, поди угадай, кто из них этот… Опять забыла, как его зовут?
— Хильденбранд, — напомнила Света.
— У меня от их имен идиотских мозги набекрень. Не могу я их запомнить, хоть убей.
— Подожди, Усик, — усмехнулась Света. — Вот замуж выйдешь — и тебя таким именем назовут.
— Да я ради такого дела даже собачью кличку стерпеть готова, лишь бы немецкая прописка к ней прилагалась.
— Нет, все-таки у тебя маниакальное отношение к немецкой прописке, — покачала головой Света, внимательно осматривая зал.
— Может, он еще не пришел? — забеспокоилась Марина.
— Да пришел уже.
— Вон видишь, у окошка сидит.
— Не вижу, — Марина вытянула шею.
— Ну вон, рядом с аквариумом. Твой.
— Ты уверена?
— На девяносто девять процентов и девять десятых. Видишь, газетку в кулачке зажал, как и договаривались, по сторонам озирается, нервничает. Точно твой.
— Свет, я без очков ни черта не вижу, он как, ничего?
— Ну абсолютно ничего. Давай подойдем поближе, а там сама разберешься.
Господин Хильденбранд сидел за столиком. Вернее сказать, присел на стул — с самого краешку, как воробышек, готовый в любой момент вспорхнуть. Увидев приближающихся подруг, он робко поджал под себя ноги. Рука, свободная от газеты, судорожно задвигалась, то сжимаясь, то разжимаясь в ладони, как будто ее хозяин выкидывал на стол кости.
— Господин Хильденбранд? — спросила Света, вопросительно глядя на мужчину.
— Очень рад! Фридрих, — вскочил с места жених и от смущения чуть не опрокинул стол. Его блестящее розовое лицо мгновенно покрылось яркими пятнами малинового цвета. Мужчина топтался на месте, нервно подергиваясь и беспокойно озираясь по сторонам. — А-а, присаживайтесь, пожалуйста, — наконец вспомнил он подходящую к случаю фразу и опять выкинул правой рукой кости.
Марина села, не снимая пальто. Жених в ту же секунду опустился на стул и уставился на нее немигающими глазами, лишенными ресниц. Марина поднялась, чтобы снять пальто, и жених подскочил как ошпаренный. Казалось, он решил превратиться в Маринину тень и очень боялся, что плохо справится с ролью.
— Нервный какой-то, — буркнула Марина.
Жених перевел немигающий взгляд на Свету.
— Моя подруга говорит, что рада с вами познакомиться, — перевела Света.
Господин Хильденбранд счастливо кивнул, качнувшись всем туловищем.
— Марин, похоже на любовь с первого взгляда… — шепнула подруге Света.
— А он вообще нормальный? — так же тихо спросила Марина, с сомнением глядя на жениха.
— А ты что, считаешь, что в тебя только ненормальный влюбиться может?
— Да нет, но странный он какой-то.
— Чего же тут странного? Есть, конечно, легкое отставание в развитии, но ты не огорчайся. Ему сколько лет?
— Тридцать семь.
— Ну, так он годам к пятидесяти выправится, — засмеялась Света и тут же осеклась. Марина смотрела на нее серьезно, как смотрят на человека, который глумится над чужой бедой.
Жених ритмично крутил головой из стороны в сторону, все больше напоминая встревоженного петуха.
К столу подошла пожилая официантка в старомодном переднике с рюшечками.
— Свет, закажи мне кофе, — попросила Марина и добавила: — Почернее. Без допинга здесь, пожалуй, не обойтись.
— Господин Хильденбранд, — обратилась к Фридриху Света, — я с вами останусь ненадолго. Моя подруга не говорит по-немецки, поэтому, если вы хотите что-нибудь обсудить, воспользуйтесь моим присутствием, я все переведу.
Жених вытянул шею вперед и захлопал глазами. Легкие пряди его бесцветных волос прилипли к вспотевшей лысине. Он мучительно молчал.
— Почему вы выбрали это кафе? Вы здесь недалеко живете? — Света попыталась начать разговор.
Жених судорожно глотнул и заговорил. Света внимательно слушала, склонив голову.
— Чего говорит-то? — поинтересовалась Марина.
— Я ничего не понимаю.
— Что, диалект?
— Да нет, скорее, дефект речи.
Слова вырывались из гортани немца с легким шипением, как пар из приоткрытого клапана. Казалось, Хильденбранд сам испуганно прислушивается к звукам собственного голоса.
— Не могли бы вы говорить помедленнее, — попросила Света. — У меня сложности с немецким языком.
Фридрих замолчал.
— Как я поняла из вашего письма, вы работаете в большой фирме на складе — так?
Фридрих коротко кивнул.
— А живете вы где? В городе?
— Да, я живу в центре, недалеко от моей работы, — теперь он с усилием растягивал слова, отчего его речь звучала, как замедленная магнитофонная запись.
— А откуда вы родом? — продолжала Света.
— Я приехал с севера Германии, из Ганновера, — отвечал Фридрих, как на уроке. — Там живет моя мама.
— Она тоже снимает квартиру?
— Нет, у нее свой дом.
— Слышь, Марин, ему в перспективе дом светит, — шепнула в сторону подруги Света.
Дальше Фридрих опять сорвался в галоп и начал тараторить.
— Ну ты что, опять ничего не понимаешь? — спросила Марина, глядя, как лицо подруги постепенно вытягивается от недоумения.
Фридрих замолчал, а Света застыла с открытым ртом.
— Ты мне, в конце концов, переведешь что-нибудь? — не выдержала Марина и дернула подругу за рукав.
— Марин, он спрашивает — у тебя паспорт с собой?
— Зачем ему мой паспорт понадобился?
— Он хочет сегодня на тебе жениться.
— Он понял, что вы для этого встретились.
Марина схватила сумку и, щелкнув замком, вытряхнула ее содержимое на стол. На образовавшуюся горку сверху шлепнулось увесистое портмоне.
— Слава богу! Все с собой! Поехали.
— Марин, ты что, с ума сошла? Ты же его в первый раз в жизни видишь.
— А вот все остальное уже мое дело, — отрезала Марина. — Поехали, говорю.
У немцев несколько иное обозначение этажей. То, что у нас считается первым, у них называется — Erdgeschoß, что в переводе на русский язык означает «земляной этаж». Это определение как нельзя лучше подходило к квартире, в которой поселились молодожены. Она была действительно расположена прямо на земле, без всякого задела или перехода. Окна отставали от асфальта сантиметров на десять, не больше, и тут же, сразу за окном, начиналась большая шумная дорога, которая подходила вплотную к дому с двух сторон. Домик был маленький и хлипкий, в три этажа. Его хрупкая конструкция начала шестидесятых никак не была рассчитана на современную агрессию несущихся в три ряда автомобилей. Стены, покрытые грязно-розовой штукатуркой, непрерывно вибрировали и дрожали, вызывая в жильцах смутное беспокойство и страх.
Фридрих, которого по российской привычке подруги быстро окрестили Федей, оказался человеком тихим и болезненным. С робким шуршанием он передвигался по двум крохотным комнатам, как бы боясь обнаружить свое присутствие в этой жизни. Приведя в дом молодую жену, он совершенно растерялся и, не понимая, что же теперь делать, стал пугливо прятаться в другой комнате.
Марина отнеслась к своему новому положению делово. Оказавшись после свадьбы с мужем наедине, она послушно приготовилась принести себя в жертву этому бледно-розовому, трясущемуся от страха существу. Но Фридрих, надев пижамку, юркнул под одеяло, пробормотал «Gute Nacht, Ängelchen»[10], повернулся спиной и притворился спящим.
Марина была приятно удивлена таким неожиданным поворотом событий. Физическая близость с новоиспеченным мужем казалась ей делом крайне неприятным. Марина долго не могла уснуть. Ощущение было странным — вот она лежит в одной кровати с совершенно посторонним человеком, который всю ночь храпит и тикает. Тиканье раздавалось из Фединой груди, в которой билось сердце с искусственным клапаном. Днем эти звуки заглушались фоном человеческой жизни, а ночью, в тишине, раздавалось отчетливо, с непереносимой ритмичностью. «Ничего, — думала Марина, — люди в тюрьме выживают, потому что есть надежда на свободу выбраться. Так что же, я в Германии не выживу, в отдельной квартире, с этим заживо засушенным гербарием? — Она повернула голову и бросила брезгливый взгляд на холмик из одеяла, под которым беспокойно двигалась нездоровая Федина плоть. — Ладно, дружок, ты здесь поспи, а я пойду чайку попью». Марина встала и вышла в гостиную, которая одновременно служила кухней. Открыв холодильник, она прикинула, с чего бы начать, и, остановившись на объемной упаковке с колбасой, принялась за еду. Она ела долго, без удовольствия, пережевывая, как пластмассу, все то, что находила в холодильнике, пока наконец чувство отвращения к еде не заглушило чувство отвращения к жизни.
— Ну вот, теперь и поспать можно, — пробормотала она и, завалившись на диван, сразу забылась тяжелым крепким сном.
Проснулась Марина рано, встревоженная неприятным сновидением. Ей снилось, будто бы она находится на центральном московском проспекте в стеклянной милицейской будке. Машины выстроились в широкое каре и нетерпеливо рычат заведенными моторами, готовые в любой момент сорваться с места и смести с лица земли будку вместе с Мариной. И кто-то невидимый голосом Левитана командует: «На старт! Внимание! Ма…»
Она окончательно проснулась. Голос Левитана пропал, заглушенный непрерывным гулом большой улицы. В ванной шумела вода, в комнате было темно. Марина не сразу поняла, где находится. Вода перестала литься, и теперь там кто-то двигался — почти беззвучно, как привидение.
— Та-ак… — пробормотала Марина, наконец осознав действительность. — Брачная ночь завершилась, переходим к медовому месяцу.
Она встала, включила свет и осмотрела тот скромный арсенал, включая топчущегося в дверном проеме Федю, из которого ей предстояло соорудить прекрасное будущее. «Ну что ж, небогато, — подумала она, — но лучше, чем ничего».
— Ну, что танцуешь? Заходи, гостем будешь, — обратилась она к мужу.
Федя прокрался к кухонному столу и стал возиться с кофейной машиной.
— Вот молодец, делом займись, — похвалила Марина и пошла принимать душ.
Марина сдержала слово, данное Богу. Получив свой крохотный шанс, она и не думала упускать его. Правда, если бы заранее знать, какой ничтожной окажется эта подачка, то она бы, наверное, еще поторговалась. Непривлекательность обстоятельств, в которых она оказалась, только разжигала ее тщеславие. Марина готовилась дать решительный бой и, крепко вцепившись в загривок судьбе, зорко осматривала поле предстоящей брани. Чувства и сантименты в ее расчеты не входили, такой роскоши она больше не могла себе позволить. Присев к журнальному столику с листом бумаги, она вывела аккуратным школьным почерком:
1. Выучить язык.
2. Выбраться из этой дыры.
3. Заработать денег.
4. Поменять мужа.
Поставив точку, она незамедлительно приступила к выполнению поставленных задач.
Довольно скоро Марине стало ясно, что три месяца, проведенные у Светланы в доме, являли собой гладкую, лицевую сторону действительности. Она же, Марина, оказалась со стороны изнанки. И все же она не унывала. Освоившись со своим новым положением, Марина быстро вошла в роль хозяйки дома, завладела теми скромными средствами, которыми располагал Федя, и, открыв в себе недюжие способности к экономии, стала откладывать кое-что на черный день. Фридрих смотрел на все наивно-прозрачными голубыми глазами, не проявляя никакого любопытства к деятельности жены. Каждое утро он, собрав небольшой портфельчик, выходил на работу. Марина наблюдала в окно, как он робкой походкой двоечника удаляется от дома в сторону трамвайной остановки, и думала о том, как ей в принципе повезло. Вместо мужа она приобрела что-то вроде домашнего растения: толку от него не больше, чем от кактуса, растущего на окошке, но зато и вреда никакого. Непонятным оставалось одно — зачем Фридриху понадобился этот дурацкий брак, от которого у него одни убытки?
Но вскоре разъяснилось и это.
Однажды ночью Марина проснулась на своем диване от шума, который доносился из соседней комнаты. Звуки походили на удары колотушки о дерево. «Это еще что такое?» — испугалась Марина и вскочила на ноги. Стук усилился. Марина бросилась в спальню, где обнаружила Фридриха лежащим на полу. Его тело было изогнуто судорогой, голова откинута назад, шея как будто сломана, так что прямо в потолок торчал острый кадык. На губах белой пеной закипала слюна.
Марина в ужасе застыла в дверях.
Федя дернулся, как под электрошоком, и, подпрыгнув, решительно стукнулся затылком о деревянный пол.
— О господи! Что же делать? — вскрикнула Марина и в панике бросилась к телефону.
У Светланы долго никто не подходил. Марина посмотрела на часы. Два часа ночи. «Все спят, — подумала она и уже хотела нажать на рычаг, как вдруг услышала сонный Светин голос:
— Светка, родненькая, он умирает! — завопила Марина.
— Муж мой! Федя. Умоляю, позвони в неотложку и приезжай!
Врач и Света приехали одновременно. Приступ уже прошел, и Федя лежал на полу бледный, без всяких признаков жизни на заострившемся лице.
Врач быстро говорил что-то по-немецки.
— Он умер, да, умер? — всхлипывала Марина, испуганно заглядывая через плечо доктора.
— Да успокойся ты! Жив твой Федя. Так быстро не умирают.
— А что это было? А?
— Приступ эпилепсии, — объяснила Света.
Врач сделал какой-то укол, отдал распоряжения и, собрав чемоданчик, ушел.
— Ну что же, Усик, попала ты, — вздохнула Света, выходя из спальни. — Говорила тебе, не бросайся за первого встречного.
— Придется тебе переквалифицироваться в медсестру. Врач твоего мужа знает, он здесь частый гость. Говорит, что сама по себе эпилепсия не опасна, нужно только следить, чтобы он не ударился головой обо что-то острое и не подавился собственным языком.
— Твою мать… — пробормотала Марина и горестно свесила между колен широкие ладони. — Только этого мне не хватало.
— Да, но это еще не все. Опасность заключается в том, что во время приступа может произойти остановка сердца, и чтобы этого не случилось, нужно делать укол. Вот рецепт, запасись всем необходимым.
— Ты что, с ума сошла! Я уколы делать не умею.
— Придется научиться.
— А неотложку вызвать нельзя?
— Врач говорит, это слишком долго. Они могут опоздать.
Марина вся съежилась от ужаса.
— Да не огорчайся ты так, — ободрила подругу Света. — Уехать-то всегда можно.
— Ну уж нет! — отрезала Марина и ошпарила Свету взглядом, брошенным исподлобья. — Уколы так уколы. Будет нужно, и горшки выносить буду. Я отсюда никуда не уеду.
— Ну и правильно, — кивнула Света, поражаясь той агрессивной настойчивости, с которой Марина преследовала свои цели. — Я пойду, — Света встала. — Светает уже.
Сквозь щели опущенных жалюзи пробивался сероватый рассвет. Шум первых машин разбивался об окна короткими ударами, похожими на порывы ветра.
— Останься… — тихо попросила Марина. — Пожалуйста. Боюсь я тут с ним одна… — ее голос перескочил пару октав, сменив злобную решимость приторной плаксивостью.
Света устало опустилась на диван.
— Как там Машка? — спросила Марина, испугавшись образовавшейся паузы.
— Ничего. Растет, про тебя спрашивает.
— Надо мне ее навестить.
— Да уж пора бы.
— Сколько я ее не видела?
— Ты от нас зимой съехала, а сейчас уже скоро лето.
— Боже мой, неужели полгода пролетело?!
— Четыре месяца.
— А я и не заметила. Целыми днями язык учу, времени ни на что не остается. Тебе проще было, ты с самого начала по-немецки, как по-русски, да и вообще, чего тут сравнивать… — Марина вздохнула и многозначительно взглянула на дверь в спальню. — Кофе будешь?
Марина включила кофеварку, подняла жалюзи, открыла форточку и, сев на диван, закурила.
— Ничего, — угрюмо сказала она, стараясь перекричать рев и грохот, которыми мгновенно наполнилась комната. — Мне бы только язык выучить, а там я разберусь.
— Трудно? — спросила Света, боязливо косясь на окно, в котором слегка дребезжали стекла.
— Ты даже представить себе не можешь! Я сутками учу, и все на том же месте.
— Это только так кажется. Трудно начать. А потом сама не заметишь, как заговоришь… Слушай, как вы здесь живете? — Света закрыла ладонями уши. — Это же просто кошмар какой-то!
— А что ты предлагаешь? — Марина язвительно поджала губы. — Мы можем к тебе переехать. Хочешь?
— Я бы не возражала. Мне с тобой было хорошо.
— Так что же мы сидим! Давай Федю на носилки и вперед, откроем у тебя лазарет, — усмехнулась Марина.
— Ладно, извини, я не хотела тебя обидеть. Ты бы правда заехала как-нибудь, а то совсем не видимся.
Свету поражало то, с какой решимостью Марина начинала новую жизнь. Она почти не нуждалась ни в помощи, ни в советах. Встречались они редко, и каждый раз Света с удивлением наблюдала, как быстро осваивается ее подруга на незнакомой земле. Все, что для Светы годами оставалось непонятным, Марина воспринимала сразу, каким-то особым видением. Она наполняла предметы и явления своим незатейливым содержанием, нисколько не затрудняясь выяснением их реальной сути. Светлану годами мучила непроницаемость социальной завесы, которую она пыталась постичь или хотя бы угадать истинную суть вещей. Марина же решительно кроила действительность под себя. К Германии и к немцам она отнеслась критически, со снисходительной жалостью. Хорошие, мол, они ребята, но в жизни разбираются плохо. Она вообще считала, что без ее, Марининого, вмешательства эта бедная нация деградирует полностью, и намекала на необходимость формирования в немцах культурно-эстетического вкуса.
— Что за уродство висит у них на вешалках, — ворчала она, разглядывая одежду в магазине. — Совершенно невозможно одеться.
— Давно ли ты стала такой взыскательной? — слегка раздражаясь, спрашивала Света.
— Да у меня в Москве тряпки были, каких тут в жизни не купить!
Света в недоумении смотрела на подругу, вспоминала жалкие лохмотья, которые ей пришлось выкинуть в мусоропровод, и видела, что Марина искренне верит в то, что говорит.
— Боже мой, — вздыхала Марина, разглядывая изящный светильник в витрине. — И этот ужас стоит тысячу марок?! Сколько же тогда может стоить мой абажур?
— Какой абажур? — удивлялась Света.
— Как! Ты не помнишь? У моих родителей висел в столовой.
И Света припоминала, что и вправду в квартире Марининых родителей висел огромный абажур, размером чуть меньше обеденного стола. Было известно, что это произведение искусства изготовлено подпольным способом на кукольной фабрике. Круто изогнутый металлический корпус был обтянут розовым атласом, по поверхности которого располагались аляповатые цветы из той же ткани. Цветы крепились к абажуру при помощи пуговиц, которые имели подозрительное сходство с кукольными глазками. Это глазастое чудовище было предметом гордости семьи Усатовых и единственной вещью, которую Марина взяла с собой в новую квартиру.
— Та-ак, здесь надо подумать, — говорила Марина, закатывая глаза.
— Представляешь, какие бабки заработать можно, если наладить здесь производство таких абажуров?!
— Марин, ты это серьезно?
— Конечно. Я здесь не собираюсь сидеть сложа руки.
Ее голова была полна коммерческих планов. Она намеревалась наводнить страну русскими картинами, матрешками, гармонистами и балалаечниками. Одним словом, показать германцам, что такое настоящая культура.
Свете постепенно становилось ясно, что от той девочки, с которой ее связывала детская дружба, не осталось и следа. Золушка превратилась в самоуверенную, наглую тетку, которую Светлана стеснялась и не любила. И только в минуты слабости, такие, как сейчас, когда в другой комнате лежал полуживой Федя, а Марина казалась абсолютно беспомощной, опять вспыхивало теплое, почти родственное чувство.
Прошло три года. Светлана жила спокойно, полусонно даже. Она чувствовала, как инертность берет верх над ее веселой энергичной натурой, и осознавала, что нужно что-то предпринять. Но убаюкивающая однообразность существования имела поистине колдовское воздействие. И Света продолжала сидеть, как Илья Муромец, в ожидании, что вот-вот кто-то придет и позовет ее на подвиги ратные. Но время шло, и ничего не менялось. Светлана жила бы так и дальше, если бы ее не вывела из оцепенения бурная деятельность, которую развернула подруга. За эти три года Марина выучила язык, говорила плохо, но бойко, не стесняясь. Перепробовав различные виды бизнеса, который в основном заключался в купле-продаже некачественных товаров, и переругавшись на этой почве со всеми, с кем имела дело, она пришла к выводу, что люди, обманутые ею, просто не умеют быть благодарными. Сделав такое заключение, Марина перешла от торговли прямиком к культуре. И тут началось нечто странное.
Любознательные немцы, плохо представлявшие, какой должна быть истинная русская культура, приняли деятельность Марины за чистую монету и обратили к ней доброжелательные взоры. Марина, проведя несколько нелепых мероприятий в международном клубе и обнаружив, что немцы — доверчивая и великодушная публика, пришла к выводу, что это их качество можно очень хорошо использовать. Но тут ее компетенции заканчивались. Чтобы двигаться дальше, нужны были связи. И тогда Марина вспомнила о подруге. Засидевшаяся без дела Света с радостью бросилась в работу. Она подняла на ноги своих многочисленных знакомых в Москве и Германии, добилась встречи с бургомистром и представителем Министерства культуры. Благодаря ее кипучей деятельности вскоре стала вырисовываться вполне солидная перспектива. Новое культурное общество, созданное ею, планировало заниматься балетом, юными дарованиями, театрами, выставками и многим другим. Все это время Марина скромно стояла в стороне, появляясь из-за Светланиной спины только для того, чтобы представиться и пожать кому-нибудь руку. Она одаривала подругу восторженными взглядами и тут же удалялась в тень, чтобы не нарушать сияния, которое распространяла вокруг себя Светлана.
— Ты давай посмелей, — подбадривала подругу Света, — а то все жмешься по углам, как сирота.
Света приложила немало усилий, чтобы Марину, с ее нелепой прической и неряшливой одеждой, начали воспринимать всерьез.
— Усик, немцы — народ крайне чистоплотный, они придают внешнему виду очень большое значение. Ты не можешь в таком виде встречаться с серьезными людьми.
— В каком таком виде?
— С грязными волосами и в растянутом свитере.
— Что ж делать, если у меня другая структура волос, — огрызалась Марина, — а на такие тряпки, как у тебя, нет денег.
Поняв, что подруга уперлась и с этой точки ее не сдвинуть, Света решила создать ей имидж человека творческого, для которого внешние условности не имеют значения. Вскоре Марина стала вхожа в самые серьезные учреждения города и, решив, что момент назрел, принялась потихоньку перетягивать из Светиных рук бразды правления. К этому моменту подготовительный период закончился, все формальности были соблюдены, культурное общество могло начинать работу. Начался другой этап, организационно-бухгалтерский, — нудный и кропотливый. Света заскучала, начала отлынивать, и Марина с радостью подхватила эстафету. Водрузив на острую переносицу очки и разложив на столе корреспонденцию и папки с расчетами, она засела за работу. Работы было много, но Марина не жаловалась и помощи не просила. Как заботливая швея подбирает пальцами сборку, чтобы, прихватив иглой, зафиксировать в нужном месте, так и Марина прибирала под себя контакты, удивляясь тому, с какой беспечностью выпускает Света из своих рук бесценные нити.
Вскоре подруги потрясли город серией концертов юных виртуозов из Москвы. И здесь Марина взяла на себя непривлекательную, теневую часть работы. Света представительствовала, собирала публику, встречалась с богатыми влиятельными людьми, выходила на сцену и давала интервью. Марина же вела переписку, собирала на будущее банк данных, делала бесконечные расчеты, в которые Света не желала вникать. Первый же концерт собрал столько желающих, что на всех не хватило билетов и половине пришлось уйти. Умиленные юными дарованиями и обаянием Светы, спонсоры щедро открывали свои кошельки. Имена подруг замелькали в газетах. Света была переполнена счастьем и чувством благодарности к подруге, в голове которой родилась такая прекрасная идея. Поэтому, когда после третьего концерта Марина, проведя хитроумные расчеты, объявила, что им не хватает восьми с половиной тысяч марок, Света ничего не заподозрила.
— А где же спонсорские деньги? — только и спросила она.
— Вместо того чтобы задавать ненужные вопросы, приезжай вечерком ко мне, и мы с тобой вместе пройдем весь финансовый отчет, — ответила подруга.
Расчет был сделан верно. Света испугалась.
— Ни за что на свете! Я даже названия этого слышать не могу — финансовый отчет. Ты у нас бухгалтер, вот ты и отчитывайся, а я лучше в Министерство культуры сбегаю — попрошу погасить долг. Они обещали.
— Куда же ты без меня побежишь? — Марина глядела на подругу новым, волевым взглядом. — Долг на бумаге показать надо, а ты отчета в глаза не видела.
— Верно… — задумалась Света и, как всегда найдя наипростейший для себя выход, наивно предложила: — Знаешь что? Ты сама иди, я тебя в Министерстве представлю.
Марина согласилась, едва сдерживая внутреннее ликование. Министерство культуры было последним звеном, на котором замыкалась созданная Светланой цепочка. Теперь Марина приобретала почти полную свободу. От решительного шага ее удерживало только одно обстоятельство — Даниель Штерн. Муж Светланы.
Как и ко всему в жизни, Даниель отнесся к новой затее жены очень серьезно. Будучи владельцем крупного рекламного агентства, он оказал немалую помощь молодым предпринимательницам. Он делал изысканные программки, печатал на дорогой глянцевой бумаге приглашения, сиреневые афиши с золотым тиснением. Все выглядело солидно и дорого, а главное — бесплатно. Марина понимала, что такая реклама стоит состояния и может сожрать всю выручку, если ее оплачивать из собственного кармана. Заменить Даниеля было не на кого, поэтому приходилось терпеть присутствие Светланы в общем деле. Но уже настало время указать ей ее место, считала Марина, а то ведет себя как хозяйка.
Света и вправду не всегда соблюдала отношения равного партнерства. Будучи уверенной, что Марина без нее шага ступить не сможет, она иногда могла и голос повысить. Марина не раздражалась, она смотрела на подругу спокойно, как паук смотрит на жертву, уже попавшую в паутину, но еще не осознавшую своего положения.
— Слушай, — как-то однажды заявила Марина, — я здесь одно мероприятие подготовила, с русским фольклором и угощением. Приходи, билеты недорогие.
— Как ты сказала? Русский фольклор? Билеты недорогие? А почему я ничего не знаю? И потом, ты что же, с меня за вход деньги брать собираешься?
— Это же не для меня, это же для общего дела, — залепетала Марина, слегка стушевавшись под яростным взглядом подруги. — Ты же знаешь, я в карман ничего не кладу.
— Во-первых, я ничего этого не знаю! — взорвалась Света. — Ты думаешь, что если я в отчеты не заглядываю, то из меня дурочку можно делать? Мое великодушие принимаешь за слабость? Да я тебя насквозь вижу и хочу предупредить: если ты за моей спиной в такие игры будешь играть, я вообще тебя к черту пошлю! Выкарабкивайся тогда сама, как умеешь.
Марина внутренне усмехнулась.
— Свет, да успокойся ты, — примирительно сказала она. — Не собиралась я тебя обманывать. Просто подумала — ты же терпеть не можешь всю эту возню с кухней, фольклором, матрешками. Хотела избавить тебя от лишних хлопот.
— А не надо ничего думать! — продолжала кипятиться Света. — Нужно просто ставить меня в известность. По-моему, это не сложно.
— Ладно, я не права. Так ты придешь?
— А как же! Мероприятие-то клубное. Посмотреть надо, чего ты там состряпала. — Во фразе, как в сжатом для удара кулаке, она сосредоточила все свое презрение. — Кого приглашать будем?
— Да я уже всех пригласила, — Марина смотрела на Свету глазами хирурга, только что сделавшего надрез на теле пациента.
— Кого именно?
— Да всех твоих знакомых, кто на концертах был.
Света вздрогнула:
— Как моих знакомых? А кто тебе разрешил? И потом, где ты взяла адреса?
— Да ладно тебе, Свет, что ты как маленькая. Какие разрешения, дело-то общее. А адреса у меня все в компьютере, я же приглашения рассылала, ты забыла? — Теперь уже в голосе подруги отчетливо звучала усмешка, и не почувствовать этого Света не могла.
— Ладно, — процедила она сквозь зубы, с трудом сдерживая ярость. — Когда вечер?
— В субботу. Даниеля с собой возьми, Машеньку.
— А вот это я уж сама решу, кого мне с собой брать. До субботы. Пока! — Света зло повернулась, бросив на Марину через плечо уничтожающий взгляд, и вышла из комнаты.
В субботу вечером они всей семьей подъехали к низкому мрачному зданию, расположенному на рабочей окраине города, мертвой и невыразительной. С одной стороны гремела скоростная автострада, с другой унылой чередой тянулись здания производственных предприятий и учреждений. Жилых домов здесь не было. Редкие прохожие с удивлением косились на группу людей, собравшуюся перед входом одной из фирм.
— Эта идиотка все дело загубит, — выругалась Света, выходя из машины. — Смотри, куда людей пригласила.
— Как ты отзываешься о своей лучшей подруге, — мягко упрекнул жену Даниель. — Человек дело делает. Кстати, фабричные помещения для таких мероприятий сегодня даже в моде.
«И он на ее стороне», — раздраженно отметила Света и вспомнила, как долго она убеждала мужа в способностях и необыкновенной честности Марины.
— Ладно, пошли, — вздохнула она. — Машенция, чего ты там возишься, вылезай.
Из машины выскочила высокая худенькая девочка в нарядном бархатном платьице и лаковых туфельках. Лицом она почти в точности повторяла мать, только волосы были светлые.
— Мама, а тетя Марина здесь? — В голосе девочки звучала надежда.
— Ну конечно, здесь, — ответила Света и взяла дочку за руку.
— Ну что, готовы? — Даниель закрыл машину.
— Готовы! — серьезно отрапортовала Маша.
— Тогда пошли.
— О-о, это кто же к нам пришел? — послышался из толпы радостный голос.
Маша сделала стойку.
— Ну, что смотришь? Не узнаешь? Беги скорее сюда!
На другой стороне улицы, приветственно раскинув руки, стояла Марина.
Маша радостно подпрыгнула и нетерпеливо затопала ножками. Светлана крепко держала ее за руку.
— Мама, пусти! — Маша с силой вырвала руку и ринулась через дорогу. Подлетев к Марине, она с ходу бросилась в ее объятия, плотно обхватила руками и ногами и замерла.
— Ты что делаешь? — Света бросилась следом. — Здесь же дорога!
— Да ладно тебе, — добродушно усмехнулась Марина, — машин-то нет, — и поцеловала девочку в волосы.
— Это сейчас нет, — продолжала размахивать руками Света, — а через минуту могут появиться! Ребенок должен знать, что через дорогу нужно переходить только на светофоре. А ну, слезай! — приказала она Маше.
Девочка еще крепче обхватила Марину и, уткнувшись ей носом в шею, обиженно засопела.
— Слезай, говорю! Сколько раз повторять?
— Schatz[11], успокойся, — услышала она голос мужа. — Ничего страшного не произошло. По этой улице и днем-то одна машина в час проезжает.
Света очнулась. Она вдруг увидела себя со стороны — вот она вся как на ладошке, со всеми ее чувствами и переживаниями. Фурия в припадке бешенства. А напротив Марина — спокойная и сдержанная. Все эмоции под крышечкой, как пар в кастрюльке, и только крышка слегка звенит и вздрагивает.
— Ладно, не хочешь — не слезай, — сказала Света, с трудом подавив в себе порыв бешенства. — Пошли, нам нужно с людьми поздороваться. Уже семь. Впускать надо. Там на дверях кто-нибудь есть?
— Федя, мой муж.
— Марин, ты что, совсем спятила?
На это Марина уже ничего не ответила. Она величественно повернулась и пошла к выходу, унося на руках Машу.
Публика, собравшаяся перед входом, отчетливо делилась на две части: справа группа спокойных, хорошо одетых людей со сдержанными манерами и тихими улыбками на невыразительных лицах. Слева — шумная, похожая на стаю встревоженных воробьев толпа, слегка потрепанная, но искрящаяся той нагловатой веселостью, которая исходит от смущения. Эти две группы — две культуры — никак не желали смешиваться, словно ими руководили те же химические законы, которые не позволяют маслу раствориться в воде.
Наконец двери открылись, и приглашенные стали стекаться ко входу, как две реки в одно русло. На пороге их встречал Федя. Весь красный от страха и волнения, он протягивал к гостям руки, как нищий на паперти. Завладев очередным билетом, торопливо надрывал его и переводил умоляющий взгляд на следующего гостя.
— Душераздирающее зрелище… — пробормотала Светлана и вошла внутрь.
Увидев своих знакомых, направилась к ним. Начались приветствия, рукопожатия. Света выполняла привычную роль хозяйки салона, когда к ней подошли Марина с Машей.
— Свет, пусть Маша у тебя останется, мне переодеться надо.
— Зачем? Ты же одета.
— Не могу же я в таком виде на сцену…
— А ты на сцену собралась?
— Ну конечно. Приветственное слово кто-то должен сказать.
— Должен, — согласилась Света. — Когда начинаем?
— Через десять минут. Ты пока загоняй народ в зал.
Зал оказался большим квадратным помещением без сцены. Все пространство было заставлено столами с маленькими горшочками искусственных цветов посередине. Вдоль стен стояли столы с угощением, бумажными тарелками и пластмассовыми вилочками. Обстановка напоминала «Голубой огонек» в приюте для бездомных. Русская часть публики, побросав сумки, заняла разом места получше и ринулась к столам с едой, немцы спокойно расселись на свободные места и стали ждать. Где-то сбоку открылась маленькая дверь, и оттуда вынырнула Марина. На ней было красное платье, сильно смахивающее на балетную пачку — жесткий корсет стягивал прямоугольный торс, пышная юбка зонтиком едва прикрывала круглые, как электророзетки, колени. На сильно оголенные плечи и грудь была стыдливо наброшена русская шаль.
— Дорогие друзья, — гаркнула Марина. Звук, усиленный неправильно настроенным микрофоном, секирой полоснул поверх голов зрителей. Публика вздрогнула. Какие-то умельцы бросились к микрофону, началась возня с аппаратурой. Минут через двадцать можно было начинать представление. Марина пожертвовала вступительным словом и, коротко объявив номер, удалилась.
Теперь на предполагаемую сцену вышла толстая женщина в русском сарафане с кокошником на голове. Она сложила на груди руки и, приподнимаясь на носках, стала поворачиваться из стороны в сторону в такт музыке. Музыку изображал гармонист в ситцевой косоворотке. Лихо заломив на затылок фуражку с гвоздикой, он рьяно рвал гармошку, растягивая мехи в разные стороны. Женщина подперла указательным пальцем мясистую щеку и, вскрикнув: «Ой!», запела страшным голосом, не переставая при этом подпрыгивать. Свете стало жутко. Она не отрываясь смотрела на искусственный цветок, чтобы не встретиться взглядом с кем-нибудь из знакомых.
— Мама, ты что такая грустная? — спросила Маша. — Смотри, какие клоуны смешные!
Получилось громко, из зала раздались смешки.
— Ну все, с меня довольно, — сказала Света. — Я ухожу.
— Как тебе не стыдно! — прошептал Даниель. — Смотри, люди слушают, им нравится.
Света оглянулась по сторонам и увидела, что люди и вправду слушают эту какофонию — с таким же вниманием и уважением, с каким слушали маленьких гениев в лучшем зале города. Казалось, за столиками собрались роботы, в программе которых записано одобрительно покачивать головами, улыбаться и хлопать в ладоши в конце представления. Чтобы не слышать этих хлопков, Света вскочила с места и, демонстративно стуча каблуками, покинула зал.
— Как ты могла, как ты могла так некрасиво поступить?! — возмущался Даниель, бегая из угла в угол по кухне.
— Тихо, ты Машу разбудишь, — попыталась вразумить мужа Светлана.
Маша с отцом оставались на мероприятии долго, пока не ушел последний гость и не были убраны все столы. Они активно помогали в уборке, стараясь загладить впечатление, оставленное выходкой Светланы.
— Я в тебе разочарован, — горько жаловался Даниель. — Я этого просто не понимаю. Какая распущенность!
— Да ты что, не понимаешь, что эта дрянь делает? Она же насмехается над самой идеей искусства. Какое у нее право совать в такие материи свой длинный нос? Ведь люди будут думать, что это и есть русская культура!
— А что же это, по-твоему? — искренне удивился Даниель.
— Не смей так говорить! — Света от возмущения даже замахнулась, как будто хотела ударить мужа по щеке. — Ты не имеешь ни малейшего представления о нашей культуре, если этот балаган принимаешь за искусство!
— Это фольклор, народное творчество. Конечно, это часть русской культуры.
— Нет, это не фольклор, это хулиганство! И вовсе не такое безобидное, как ты думаешь. Глядя на это безобразие, на эту взбесившуюся тетку и пьяного мужика, люди составляют мнение о русской душе. Вот так и создается образ этакой придурковатой, неполноценной нации! Удивительно, как еще могли появиться среди них Чайковские и Толстые. Таких, как Марина, в тюрьму сажать нужно! Они приносят вреда больше, чем убийцы и злодеи, — они убивают душу. А вы, немцы, не можете черного от белого отличить. Сидите и улыбаетесь, потому что в вас душа уже давно умерла!
— Мы раньше никогда не опускались до выяснения отношений на таком уровне, — обиделся Даниель. — Ты просто завидуешь.
— Завидую? Чему?
— Марина дело делает, работает с утра до ночи, а ты хочешь только сливки снимать. А если не получается, ты бесишься.
— Боже мой, до чего же ты наивный! — всплеснула руками Света. — Ты же все, ну абсолютно все за чистую монету принимаешь! Неужели ты не видишь, с кем дело имеешь?
— Отлично вижу. Я имею дело с человеком, у которого есть принципы и прекрасные деловые качества.
— Она страшный человек.
— Да хотя бы тем, что сеет между нами раздор. Тем, что она нас использует, а мы, как два осла на веревке, за ней плетемся и согласно головами покачиваем!.. А впрочем, я ей даже благодарна, — вдруг круто изменила направление Света.
— Что? — совсем сбился с толку Даниель.
— Она расширила палитру моих ощущений. Она породила во мне ненависть. Я никогда не знала этого чувства.
Метнув в Даниеля огненный взгляд и не пожелав спокойной ночи, Светлана ушла к себе.
Марина позвонила через неделю.
— Как дела, Светик? — спросила она как ни в чем не бывало.
— А что тебя интересует? Ты, наверное, хочешь знать, как я пережила этот кошмар, который ты устроила в субботу? Так я тебе отвечу. Если тебе нравится хороводы водить — пожалуйста. Никто не против, но только не с моими знакомыми. Я за тебя краснеть не собираюсь. Понятно?
— Чего уж тут непонятного, — вяло ответила Марина.
— Ты что из себя дурочку корчишь? Ты что, не видела, как солидные мероприятия проводятся? Полгода над этим работали, и все коту под хвост!
— Не драматизируй, — попыталась успокоить подругу Марина.
— Да неужели ты думаешь, что после этого посмешища к нам кто-нибудь из нормальных людей прийти захочет?
— Не захотят нормальные, придут ненормальные, — лаконично возразила Марина.
Света молчала.
— Ну ты все, оторалась? Теперь я скажу. Твои концерты с блеском и треском мне тоже очень нравятся, и, имея мужа-миллионера, вполне можно позволить себе такое развлечение. Но этот блеск и тарарам всю выручку сжирают. А так как у меня на руках вместо миллионера — инвалид, то мне нужно думать, как деньги зарабатывать, а не в экран телевизора скалиться.
— Да неужели ты не понимаешь, что если работать на хорошем уровне, то со временем и деньги появятся?
— А у меня нету этого времени. Я вот вечерок организовала, пять тысяч собрала, из них четыре в карман положила, и очень довольна.
— Та-ак. Интересно… — опешила Света. — Значит, ты положила в карман четыре тысячи и так спокойно мне об этом сообщаешь?
— Не тебе же их отдавать, ты-то тут при чем? Ты ж палец о палец не ударила.
— Ах, вот оно что? Палец о палец, говоришь! — Света едва не задохнулась от наглости подруги. — А кто тебе деньги принес? Зал наполовину моими людьми заполнен. Кто тебе рекламу делал? Кто контакты устанавливал? А зал у тебя откуда? От спонсора, которому Даниель проспекты печатает. А компьютер, на котором ты свои делишки обделываешь? А на машине тебя кто возил по всей Германии? Ты забыла? Тогда мы не считались! Тогда было все поровну!
— Свет, да успокойся ты, — попыталась пригасить разгорающийся пожар Марина. — Я же деньги не в карман кладу — в кассу, на развитие общего дела.
— Ага, теперь затянула свою любимую песенку — общее дело, общее дело! Нет у нас с тобой общего дела! И быть не может! — Света швырнула трубку и, опустившись на диван, бессильно заплакала.
Шло время. Света лежала на диване, в который раз перебирая в уме свои обиды и переживания. Постепенно ей становилось ясно, что никому ничего она доказать не сможет. Запал ярости постепенно прошел, а вместе с ним исчезли куда-то и творческий апломб, и желание действовать. До нее доходили слухи о Марининых успехах, ее имя продолжало появляться на страницах газет. Пользуясь благосклонностью властей, она запустила руку в городскую казну, и теперь недостатка в средствах не испытывала. Но не это печалило Свету. Как ни странно, она страдала от разрыва с подругой. Тогда, спровоцировав ссору, она ожидала совсем другого эффекта. Втайне надеялась, что Марина не справится, не развернется без ее помощи, прибежит, приползет, попросит прощения. Но ничего этого не произошло. Вместо того чтобы пойти ко дну, подруга-соперница оказалась тренированным пловцом и, мощно загребая руками, поплыла к берегу.
Уже осознав, что Марина исчезла из ее жизни навсегда, Света, как тяжело влюбленная, продолжала сидеть у телефона в ожидании чуда. Но чуда не происходило. Постепенно прекратились и деловые звонки. Ток делового напряжения был полностью переведен на Маринину подстанцию, оставив Светлану обескровленной, безжизненной, как выключенный из сети электроприбор. В этом состоянии вялой апатии она провела несколько месяцев. Даниель пытался расшевелить жену — сначала уговорами, потом упреками, но, видя, что ничего не помогает, махнул рукой и перестал замечать диван с заплаканной женою, как если бы на нем вместо Светы лежала подушка или плед.
Света совсем ушла в себя. «Вот, все они такие, арийцы, — распаляла она себя, лелея и оберегая обиду, — не понимают, что человек может страдать. Зачем им чужие переживания? Отставил в сторону, как ненужную табуретку. У них порог чувствительности запрятан поглубже, подальше от глаз, как отопительные приборы в подвальном помещении. Не доберешься».
Она впервые в жизни почувствовала враждебность и равнодушие окружающего ее мира. Жизнь словно поменяла окраску и из яркой, полноцветной превратилась в однородную черную массу, в которую иногда пронзительным последним лучом врывалась дочка и, на мгновение осветив черноту, вновь исчезала, ничего не замечая в своем прекрасном детском эгоизме.
— У Фридриха умерла мать, — однажды заявил Даниель, вернувшись с работы.
— У какого Фридриха? — равнодушно промямлила Света.
— У Феди — Марининого мужа.
Света оживилась.
— А ты откуда знаешь?
— Она была у меня на работе.
— Кто? Марина?
— Ну да, а кто же еще?
— А что она у тебя делала?
— Как, ты разве не знаешь? Я делаю для нее рекламу.
Света похолодела.
— Ты это серьезно?
— Я ничего не понимаю, — повысил голос Даниель. — Ты сама ее ко мне привела, умоляла помочь, вот я и помогаю.
— То есть ты хочешь сказать, что продолжал с ней работать все это время?
— Ну конечно. Ты же знаешь, я не согласен с твоей позицией. Я не считаю, что она делает что-то плохое.
— То есть все это время, пока я валяюсь в депрессии, в которую меня вогнала эта мерзавка, — продолжала Света, как бы не расслышав слов Даниеля, — ты за моей спиной проворачиваешь с ней делишки?!
— Как тебе не стыдно…
— Нет, мне не стыдно! — остановила мужа Света бесстрастным, безжизненным тоном, полностью лишенным эмоциональной окраски. — Ты предатель, перебежчик! — Она встала. Ее глаза налились изумрудной зеленью, щеки порозовели, лицо осветилось вдохновением гнева. — Я не могу любить труса и предателя.
«Боже мой, какая красавица!» — совсем некстати поймал себя на мысли Даниель.
— Тебе эта корова больше по душе, — продолжала Света все тем же жутким тоном. — Ну что же, я не возражаю. Отправляйся к ней.
Последних слов Даниель как будто не расслышал.
— Ну все, хватит, — прохрипел он, не в силах сдерживать внезапно нахлынувших чувств. Схватив жену, он с силой сжал ее в объятиях.
— Ты что делаешь? — задохнулась Света. — Отпусти немедленно!
— Теперь здесь буду командовать я! — заявил Даниель и повалил Свету на диван.
— Отпусти! Наверху ребенок. Я буду кричать!
— Не будешь, — Даниель схватил Свету за волосы и, навалившись всей тяжестью, закрыл поцелуем рот.
Шок, вызванный сексуальной атакой мужа, неожиданно вывел Свету из оцепенения. До последнего момента чувственная сторона жизни оставалась для нее закрытой. Все эти страсти с сексуальными истериками, которые показывают по телевизору, она считала выдумками, не имеющими ничего общего с реальностью. Ее интимная жизнь с мужем протекала спокойно и являлась как бы частью распорядка дня. Завтрак, обед, ужин… И — необременительные обязанности, дань благодарности на алтарь семейного счастья. Даниелю нравилось дремотное безразличие, с которым Света совершала эти вечерние жертвоприношения, ее фатальное подчинение законам мужского владычества. В любви он был узурпатором, единовластным держателем акций на наслаждение. Об огненных страстях и неуемных любовницах он тоже знал только понаслышке и совершенно не рвался к любовным олимпам. Но полное охлаждение жены, которое последовало сразу за ее профессиональным поражением, потрясло Даниеля. Жизнь, казавшаяся вполне состоявшейся, дала течь, как старая, пусть и казавшаяся надежной посудина. Запасшись терпением, он стал ждать, но дни шли за днями, а Света все так же продолжала лежать на диване, глядя в телевизор, чужая и отстраненная. Долгие месяцы воздержания и обида на жену в конце концов закончились припадком животной ярости, когда он простым первобытным способом вернул свои права.
Светлана была потрясена. Теперь, тайно поглядывая на мужа, она пыталась обнаружить на его спокойном лице следы той обжигающей, огненной ярости, которой оно озарилось тогда, на диване. Сама того не желая, она вынуждена была признать, что страсть — это не так уж и плохо, и стала смотреть на мужа куда более заинтересованными глазами. На Даниеля же эта история оказала прямо противоположное действие. Он как будто перегорел. Слишком сильная эмоциональная вспышка, как сверхмощный удар тока, выбила предохранители и полностью перекрыла подачу энергии. Светлана, столько лет державшая его в приятном напряжении, вдруг перестала его интересовать. Утратив интерес к жене, Даниель углубился в работу и стал все реже бывать дома.
— Я завтра уезжаю, — однажды заявил он, надевая кожаную куртку.
— В Ганновер. Ты не видела мои ключи от машины?
— По работе?
— А зачем?
— Помочь Марине продать дом.
— Какой дом? — спросила Света, чувствуя, как почва уходит у нее из-под ног.
— Я же тебе говорил, у нее умерла свекровь. Остался дом в наследство.
— А ты к этому какое имеешь отношение? У нее свой муж есть.
— Ты же знаешь, ее муж двух слов связать не может. А там нужно проследить за правильным оформлением документов.
— Она сама себе мужа выбрала. А для оформления существуют юристы.
— Юрист — это большие деньги.
— Ну, правильно! А тебя можно использовать бесплатно.
— Schatz, не начинай все сначала.
— А откуда начинать? С конца? И не называй меня этим омерзительным словом Schatz!
— Хорошо, не буду. Поезд завтра в четыре часа дня… — Даниель повернулся и вышел на улицу.
— Она разведет нас! — крикнула ему вслед Светлана, но Даниель даже не обернулся, как будто не слышал. Только спина немного вздрогнула.
«Это что же получается, — думала Света, глядя на сизое облако, оставленное машиной мужа. — Мы с ней как будто канат перетягиваем, и перевес явно на ее стороне. Надо менять тактику».
— Машенция, ты готова? — крикнула она. — Нам пора выходить, в школу опаздываем.
— Готова! — Маша резво заскакала по лестнице вниз. Выбежав в прихожую, она с трудом подняла с пола огромный ранец и стала натягивать лямки на плечи. — Мам, помоги, — простонала она, кряхтя и изворачиваясь.
— Боже мой, как вы такую тяжесть таскаете? — удивилась Света, поправляя ранец на спине дочери. — Поедем завтра на вокзал? Папу провожать.
— Папа уезжает в Ганновер.
«Вот и я думаю — зачем?» — подумала Света, с трудом сдерживаясь, чтобы не расплакаться…
— По делам, — сказала она и протянула дочери руку.
— А мы тебя завтра на вокзал повезем, — сообщила Маша отцу за ужином.
Даниель оторвал взгляд от бутерброда и вопросительно посмотрел на жену:
— Зачем? Я могу на такси.
— Я думала, тебе будет приятно… — расстроилась Света. — Но если ты не хочешь…
— Да нет, хочу, конечно, хочу, — спохватился Даниель.
— Ну и прекрасно. Во сколько выходим?
— Часа в два. Нужно заехать за Мариной. Я обещал, — Даниель старательно намазывал паштетом хлеб. Было видно, как он внутренне сосредоточился, готовясь отразить Светины нападки.
Почувствовав, как полыхнули щеки, Светлана собралась с силами и, придав голосу беззаботности, сказала:
— Ну что ж, в два так в два.
В эту ночь они опять были вместе. Кризис миновал, но что-то в их отношениях было безвозвратно утеряно.
В два часа тридцать минут Света подъехала к Марининому дому.
— Машенция, позвони тете Марине, — попросила она. Маша, открыв заднюю дверь, с готовностью выскочила из машины.
— Она уже идет! — крикнула она через минуту, и, запыхавшись, опять забралась на свое место.
Вскоре из дома вышла Марина. Поставив на землю тяжелую сумку и приложив ладонь козырьком ко лбу, она радостно улыбнулась в лучах солнца. На ней был крепдешиновый, словно полинявший сарафан на тонких бретельках. На голове красовалась вязанная из грубой веревки панамка, что делало ее похожей на толстого, преждевременно состарившегося подростка. Завершали картину ортопедические сандалии из толстой блестящей кожи. «Сачка не хватает», — злорадно подумала Света и вышла из машины.
— Светик! — Марина, как ни в чем не бывало, раскрыла объятия.
Теплые интонации, открытая, доброжелательная поза смутили Свету. Она нехотя подошла и обняла подругу. Даниель поставил сумки в багажник.
— Марина, садись ко мне! — закричала Маша.
— Как хорошо, что ты тоже здесь! — обрадовалась Марина.
Машина тронулась.
— Как дела? — спросила Света, глядя на Марину в зеркало заднего вида.
— Как сажа бела.
— Что так?
— Ну что, сама видишь, — свекровь померла, Федя еле ноги таскает, и все на мне.
— А что с ним?
— С Федей-то? Из-за матери переживает. Приступы эпилепсии участились. Да и вообще… — Марина безнадежно махнула рукой. — А у вас-то как? В школе все в порядке? — обратилась она к Маше.
— Я первая ученица в классе! — засияла девочка и стала сбивчиво рассказывать о своих успехах.
На вокзале Даниель, погрузив на тележку сумки, зашагал размашистой походкой к поезду. За ним, едва поспевая, семенила Марина. Света остановилась, чтобы купить Маше мороженое. Она наблюдала за мужем и его спутницей. Издалека казалось, будто он изо всех сил старается убежать от преследующей его Марины. Света осталась довольна. Зная щепетильность мужа в вопросах красоты, она представила, как он ведет по улицам Ганновера это пугало, и улыбнулась.
— Мамочка, пойдем, — торопила Маша, размахивая в воздухе мороженым. — Скорее, а то поезд без нас уйдет! — Она тянула мать за руку, став похожей на маленький локомотив, пытающийся придать ускорение большому, неповоротливому составу.
— Куда ты так спешишь? До отхода еще пятнадцать минут.
Света не любила проводы за их неизменную банальность. Как будто каждый с детства разучивал роль провожающего и отъезжающего и теперь, заведомо зная, что выглядит глупо, усердно разыгрывает ее при каждом удобном случае.
Даниель всегда путешествовал первым классом. Не изменил он своей привычке и на этот раз. «Значит, Усик едет за наш счет, — подумала Света, подходя к вагону. — Не станет же она платить за билеты тройную цену. Да, неплохо устроилась, серая мышка».
— Где вы так долго ходите? — издалека закричал Даниель, размахивая рукой. — Поезд вот-вот тронется.
— А мы мороженое покупали, — объявила Маша, слизывая большой сливочный холм, выпирающий из хрустящей вафли.
— Ну ладно. Нам пора, — Даниель поднял высоко в воздух дочь. Маша счастливо засмеялась. — Будь умницей, — сказал он и, поставив девочку на землю, крепко поцеловал ее.
Теперь была очередь за Светланой. Даниель подошел к ней как-то боком и, коротко обняв жену, похлопал ее по спине.
— Я ненадолго, — пробормотал он виновато. — Ты меня встретишь?
— Конечно. Позвони, когда доберешься. Желаю удачи, — повернулась она к Марине.
— Спасибо! — Марина встала на подножку. — Когда вернемся, обмоем продажу, — пообещала она и многозначительно подмигнула: — Пока, Машенция.
Поезд вздрогнул. Света быстро повернулась и пошла к выходу, ведя за собой упирающуюся дочь.
Поезд вырвался из города и дико загрохотал среди холмов и полей, стремительно дробя, смешивая и вытягивая в одну пеструю линию пространство. Марина смотрела в окно. Ее голова ритмично покачивалась в такт улетающим в хвост поезда пейзажам.
— Света плохо выглядит, — горестно вздохнула она.
— Ты находишь? — удивился Даниель. — А мне кажется, ничего.
— Плохо, плохо, — настаивала Марина. — Она похудела, синяки под глазами… — в Маринином немецком не хватало выразительных средств, поэтому она помогала себе жестами. Убедительно втягивала щеки, чтобы показать Светину худобу, круговым движением обозначала места, где стали заметны синяки. — Ты не знаешь, что с ней?
Даниель устремил на Марину удивленный взгляд.
— Ты же в курсе. Она ваш разрыв переживает.
— Господи! — воскликнула Марина, оторвавшись наконец от окна. — Да кто же ей мешает позвонить, приехать? Я только рада буду.
Даниелю была ясна и приятна Маринина грубоватая прямолинейность. Он не умел и не хотел заглядывать в суть вещей и легко скользил по поверхности, не замечая в Маринином восклицании ничего, кроме искреннего недоумения и сочувствия. Его мировосприятие из прямых ясных линий, словно геометрическую фигуру, выводило простую, ясную истину.
— Вот ты бы и позвонила, — наивно предложил Даниель.
— А то ты не знаешь, что у меня за жизнь! — воскликнула Марина. — Я не могу целыми днями на диване валяться, как твоя жена. У меня со временем отношения строгие. Ни минуты свободной.
Даниель знал, что Марине и вправду нелегко. Его восхищало ее необыкновенное, прямо-таки фатальное упрямство, по силе схожее с упрямством шампиньона, проламывающего своим мягким телом асфальт. От нее исходила твердая, волевая уверенность начинающего диктатора, ни на минуту не сомневающегося в правильности своих поступков. Противопоставляя эти черты вялой беспомощности Светланы, Даниель болезненно морщился. Но по всем остальным пунктам сравнения выходили, конечно же, в пользу жены. Дело в том, что Марина была крайне неприятна Даниелю физически. Его здоровый, бережно лелеемый организм буквально восставал против этой неухоженной, нарочито неряшливой плоти. Он с ужасом смотрел, как она терзает сигарету, затягиваясь с такой яростью, как будто хочет покончить с ней разом, одной затяжкой. Его коробило, с каким бесстыдством она открывает розовые воспаленные подмышки, поправляя обеими руками волосы на затылке. И это полное, совершенно безапелляционное отсутствие вкуса… Короткие юбки, открывающие слоновьи ноги, бретельки на дряблых веснушчатых плечах. Что это? Психическое отклонение? Или такая форма пренебрежения общественным мнением, размышлял Даниель. Он вспоминал безупречную чистоту линий тела жены, ее прекрасные манеры, тонкий вкус и тихо гордился.
Про себя он уже пожалел, что согласился ехать с Мариной. Теперь, когда ссора с женой была позади, ему стало ясно — он сделал это, чтобы досадить Светлане. Человек самоуверенный, с уклоном в самодовольство, он ценил эти качества: они нужны были ему для удачного ведения дел. Долгие годы семья служила фундаментом, на котором крепились эти свойства, а значит, и успех. И вдруг фундамент осел, сваи покачнулись. Даниель растерялся. Обычно он легко и решительно справлялся с профессиональными проблемами, но совершенно не понимал, как быть с бытовыми конфликтами. Их нельзя не замечать, и жить с ними оказалось невозможно. Друзей у Даниеля не было, во всяком случае, таких, у которых можно спросить совет. Вот тут и появилась Марина. Она возникла именно в тот момент, когда Даниелю окончательно стало ясно, что между ним и Светланой образовалось непреодолимое препятствие. Что-то вроде вязкой болотной полосы, на которую страшно ступить. Даниель не мог бы описать ощущение, которое возникало у него в присутствии Марины, он только смутно догадывался, что ему сочувствуют, и, как все неизведанное, это было хорошо. Сострадание и сочувствие в немецкой среде — явления дефицитные. Немцы строго относятся к себе и требуют обособленности чувств от других. Чрезмерное проявление эмоций считается распущенностью, признаком дурного тона. Вообще-то Даниель не считал возможным обсуждать проблемы семьи с посторонними людьми и поэтому был страшно удивлен, обнаружив себя сидящим напротив Марины и с жаром излагающим суть своей обиды на жену. При этом он точно помнил, что Марина не проявляла любопытства и не задала ни одного вопроса, кроме обычного: «Как дела?»
Излив душу, Даниель испытал чувство стыда: недостойное, немужское это поведение. Но Марина смотрела на него глазами больного спаниеля и вздыхала с такой обезоруживающей преданностью, что у Даниеля буквально поднималась температура от жалости к самому себе. Весь затяжной период семейного кризиса Марина звонила каждый день и с заботливостью сестры милосердия выслушивала жалобы, тактично воздерживаясь от советов. К тому моменту, когда произошло примирение с женой, Даниель чувствовал себя настоящим заговорщиком. Теперь, сидя в купе первого класса, он смотрел на Марину как на соучастницу преступления и задавал себе только один вопрос: как эта несимпатичная ему женщина могла заставить его так открыться?
Из поездки Даниель вернулся раньше назначенного срока.
— Марина стала богатой женщиной, — объявил он с порога. — Дом продан за восемьсот пятьдесят тысяч марок. Она уже вступила в права наследства.
— Почему она? Это же Федин дом, — удивилась Светлана.
— Федя, как инвалид, нуждается в опеке, — объяснил Даниель, — так что капиталом распоряжается Марина.
— И что же она с этим капиталом собирается делать?
— Не знаю. Это уже не моя забота.
— Это ты так думаешь. Она сейчас начнет к тебе за советами бегать.
— Не начнет, — пообещал Даниель. — Я теперь от нее прятаться буду.
— Такая из-под земли достанет.
Но Света ошиблась. Даниелю не пришлось избегать Марины — она больше не появилась. Как в воду канула, и ее исчезновение оказалось куда более тревожно-навязчивым, чем ежедневное присутствие.
Сначала этого как будто никто не заметил, но со временем вопрос, куда делась Марина, стал растекаться, как жидкость по поверхности стола, захватывая все пространство. Они не задавали этого вопроса вслух, но постоянно читали его в глазах друг друга.
— Она вообще жива? — не выдержала однажды Света.
— Кто? — Даниель сделал вид, что не понял, о ком речь.
— Прекрати, ты прекрасно знаешь кто, сам все время только о ней и думаешь!
— Ну, не преувеличивай. Я иногда и о других вещах думаю. Но признаю, что Марина ведет себя странно, если, конечно, с ней все в порядке. Надо бы позвонить, поинтересоваться, — он бросил на жену вопросительный взгляд.
— Кому позвонить? Мне?! — Света даже подскочила на месте. — Этого она от меня не дождется! Хочешь, сам звони.
— Да мне вообще-то есть чем заняться. Будет нужно, сама объявится.
— И то правда, — согласилась Света. — Будь у нее проблемы, она бы уже давно телефон оборвала. Не звонит, значит, все в порядке.
Света и Даниель проснулись одновременно, когда посереди ночи вдруг зазвонил телефон.
— Это еще кто? — пробормотала Света, снимая трубку. — Штерн, — сказала она.
Трубка клокотала какими-то непонятными звуками.
— Але, говорите! — Света прислушалась.
— Света, это я, Фридрих, — с трудом различила она сдавленные, полупонятные слова.
— Фридрих! — шепнула она мужу, закрыв трубку рукой, и удивленно округлила глаза.
Дальше из невнятного бормотания она разобрала только несколько слов, из которых стало ясно, что Фридрих нуждается в срочной медицинской помощи и просит вызвать врача.
— Ничего не понимаю, — пробормотала Света в сторону. — Марина-то куда исчезла среди ночи? Может, в Москву уехала?.. Фридрих, а почему ты звонишь мне, а не в больницу? Что? Не можешь найти номер телефона? — Она посмотрела на мужа: — Надо ехать.
Даниель одобрительно кивнул.
— Фридрих, я сейчас приеду и врача вызову, ты только не волнуйся. Хорошо?
— Ängelchen, Ängelchen[12], — послышался панический шепот на другом конце провода, и Света отчетливо услышала Маринин голос. Слов было не разобрать, но голос был ее.
— Фридрих! — крикнула Света, почему-то испугавшись. — Что там происходит? Марина вернулась?
— Да… — затрепетал приглушенный голос.
— Позови ее.
Вместо ответа на линии что-то хрустнуло, и раздались короткие гудки. Света медленно, как будто что-то обдумывая, нажала на рычаг и тут же стала набирать номер.
— Ну, что там? — Даниель нетерпеливо тронул жену за плечо.
Света как будто очнулась. Она бросила трубку и стала одеваться.
— Ты мне объяснишь что-нибудь? Что там происходит? — повысил голос Даниель.
Света стремительно завершала туалет, как в армии, когда счет идет на секунды.
— Я сама ничего не поняла, — бормотала она, натягивая свитер. — Что-то мне все это не нравится.
— Да что, что тебе не нравится, черт возьми? Подожди, я с тобой поеду! — крикнул Даниель Свете, уже сбегающей по лестнице.
В прихожей раздалось цоканье каблуков, потом быстро открылась и захлопнулась входная дверь. Даниель остался на лестнице, босиком, в пижаме, с разведенными в стороны руками.
— Бред какой-то, — пробормотал он и, потянувшись, зевнул. — Нет, все-таки русские — все как один сумасшедшие, — Даниель опустил плечи и поплелся в спальню. — А теперь спать, — приказал он сам себе, оказавшись в кровати, и посмотрел на часы. — Два часа ночи! С ума сойти можно!
Но уснуть ему не удалось — не прошло и пяти минут, как он услышал стук входной двери. Почти тут же в спальню влетела жена и принялась раздеваться с той же скоростью, с которой мгновение назад одевалась.
— Ну, что еще? — простонал Даниель, совсем сбившись с толку. — Почему ты вернулась?
— Не поеду я никуда! — отрезала Света и, забравшись в кровать, натянула одеяло на голову.
— Не хочу.
— Это не ответ. Там нужна твоя помощь.
— Ты так считаешь?
— Вот и езжай, а я спать хочу.
— Я не могу поехать.
— Потому что мне через четыре часа на работу, у меня завтра серьезное совещание. Вернее, уже сегодня.
— Значит, без тебя справятся, — лаконично заметила Света. — Мы же не спасательная служба. Будет нужно, позвонят! — Она решительно повернулась на бок и погасила свет.
«Да что мне, в конце концов, больше всех надо?» — подумал Даниель и, устроившись поудобнее, сразу заснул.
Марина позвонила через два дня.
— Федя умер, — сказала она, не поздоровавшись.
— Как умер? — обомлела Света.
— Обычно, как все умирают.
— Подожди… — Света мысленно пыталась связать события злополучной ночи с Марининым заявлением. — Как это произошло?
— Ну, как, я в Мюнхен уехала по делам, его, бедолагу, одного оставила. Ночью приступ. Приезжаю — лежит на полу, уже холодный, трубка телефонная в руках, видно, врача собирался вызвать, да вот не успел.
Света молчала.
— Алло, ты меня слышишь? — крикнула Марина.
— Слышу, — ответила Света помертвевшим голосом.
— А чего молчишь?
Света почувствовала приступ тошноты. Ей стало жутко.
— Марин, я тебе очень сочувствую, — с трудом выдавила она.
— Вот только не надо, не надо этих причитаний, — прервала ее Марина. — Мой муж на этом свете отмучался и меня от мучений освободил.
— Ну, как же, животное умирает — и то жалко, а здесь какой-никакой, а все же человек, — попыталась возразить Света.
— А мне что же, не жалко, что ли? Конечно, жалко. Я как-никак пять лет жизни на него потратила.
— Похороны когда? — спросила Света. Ей хотелось как можно скорее закончить разговор, чтобы собраться с мыслями и все обдумать.
— Завтра. Придешь?
— Да, мы с Даниелем будем.
— Ладно, в четыре часа — Эберхардскирхе.
Света положила трубку. Мысли в ее голове путались, цепляясь одна за другую, как репей. Она взяла сигарету, долго не могла прикурить. Наконец, вздрагивая от страшной догадки, набрала номер Даниеля.
— Штерн, — услышала она голос мужа.
— Она убила его! — закричала Света в трубку.
— Кого? — не понял Даниель.
— Слушай, у меня посетители, я позвоню попозже.
— Ты что, не понимаешь? Какие посетители! Марина Федю убила!
— Schatz, выпей валерьянки. Что ты говоришь?
— Мне не нужна валерьянка, — попыталась взять себя в руки Света. — Федя умер.
— Ты серьезно?
— Уж куда серьезнее. И умер в ту самую ночь. Понимаешь?
— Понимаю, — протянул Даниель изменившимся голосом. — Никуда не уходи. Я скоро буду.
Муж приехал через час.
— Это наша вина, — сказал он Свете, как бы наступая на нее.
— Что? — не поняла Света.
— Это мы виноваты в его смерти. Мы ничего не предприняли, когда человек просил о помощи. Он был один, он умирал, а мы спокойно легли спать! — Горестно обхватив руками голову, Даниель забегал по комнате.
— Ты что, сумасшедший?! — сорвалась Света. — Совсем ничего не понимаешь? Он не был один, Марина была дома! Она специально не вызывала врача, чтобы от Феди избавиться. Ей надоело с ним нянчиться! Деньги за дом она получила — Федя стал ненужной обузой!
— Ты понимаешь, что говоришь?! — В голосе мужа прозвенел металл. — Понимаешь, какое обвинение ты выдвигаешь против человека, не имея никаких доказательств, одни догадки?
— Догадки? — оторопела Света. — Какие догадки? Я Маринин голос слышала! — И тут Света вспомнила, что она так и не рассказала мужу, как закончился ее телефонный разговор с Фридрихом. — Послушай, — сказала она, пытаясь сосредоточиться, — когда Федя звонил, я отчетливо слышала Маринин голос. Я его еще спросила: Марина вернулась? Ты же слышал?
— И он ответил — да.
— Ты ничего не путаешь? — не поверил Даниель. — И потом — почему ты мне об этом сразу не сказала?
— А какое это имеет значение? Я тебе сейчас рассказываю.
— Это имеет принципиальное значение.
— Потому что сейчас ты могла это придумать.
— Придумать?.. — Света застыла от неожиданности. — Зачем?!
— Затем, что ты Марину ненавидишь. Но это подло — пытаться воспользоваться такой ситуацией для сведения счетов!
Заключительным аккордом к этой фразе послужила звонкая затрещина, которую Света отвесила мужу.
«Кажется, это конец», — подумал Даниель, осознав сказанное.
— Этого я тебе не прощу, — проговорила Света ледяным тоном. — Мосты сожжены, восстанавливать больше нечего. — Она надела пальто и спокойно вышла из дома.
Похороны были скромными, народу почти не было — Марина, Света, Даниель и двое знакомых усопшего, как две капли воды похожие друг на друга и на покойного Фридриха. Казалось, природа сэкономила краски на людях, которые ей не совсем удались. Сотрудники послушно отсидели службу на церковной скамеечке и, попрощавшись, гуськом пошли к выходу, пересекая церковь странной прыгающей походкой.
— Ну что, пошли помянем? — предложила Марина, неопределенно вздохнув.
Надо сказать, что за последние месяцы она изменилась почти до неузнаваемости, и перемены эти были явно к лучшему. Она похудела, сделала дорогую стрижку, щеки покрылись розовым румянцем.
— Хорошо выглядишь, — заметил Даниель, стараясь придать голосу подходящую случаю траурную интонацию.
— Курить бросила, — объяснила Марина. — Не понимаю, почему я этого раньше не сделала, столько лет здоровье гробила.
— Вот молодец! — просиял Даниель и посмотрел на жену, как бы призывая ее разделить его восхищение.
Светин взгляд был страшен — зол и непримирим. Даниель осекся, быстро вернув лицу скорбное выражение.
— Ну что, идем? — Марина повернулась и пошла к выходу. Даже в ее походке появилось что-то новое. Она двигалась, как женщина, хорошо знающая себе цену. Длинная норковая шубка удачно скрывала недостатки фигуры и мягко покачивалась при ходьбе из стороны в сторону, словно колокол. Хоть Марина в этом наряде и смахивала на жену предводителя уездной мафии, но даже Света не могла не признать, что богатство ей очень к лицу.
— Я столик заказала, — сказала Марина, выйдя из церкви. — Здесь недалеко, пять минут идти.
— Так что же мы стоим? Пошли, — отозвался Даниель.
— Я с вами никуда не пойду, — сказала Света и решительно звякнула ключами от машины.
— Почему? — удивленно вскинул глаза Даниель.
— У меня для этого есть как минимум две причины, — спокойно ответила Света. Было видно, что она заранее взвесила и обдумала каждое слово. — Во-первых, я не хочу поминать Фридриха в компании его убийцы.
— Что ты имеешь в виду? — вздрогнула Марина, нервно поправив на носу дорогие темные очки.
— Ты прекрасно знаешь что, — отчеканила Света, глядя прямо в черноту стекол. Марининых глаз не было видно, но выражение ее лица выдавало растерянность.
— Ничего не понимаю, — неуверенно пробормотала Марина. — Объясни.
— Я не стану снисходить до объяснений. Скажу только — я знаю, что в ночь, когда умер Федя, ты была дома. Он не в больницу звонил, а мне, и я слышала твой голос.
— Не придумывай! — затараторила Марина. — У меня билет в Мюнхен сохранился.
— Прекрати! — Света выставила вперед руку, как бы пытаясь тем самым оградить себя от вранья. — Ты не в зале суда. А вторая причина, — теперь Света повернулась лицом к Даниелю, — я уезжаю в Москву.
— В Москву? Когда? Зачем? — удивился Даниель. — А как же Маша?
— Завтра. А у Маши есть отец. Она останется с тобой. Я с удовольствием взяла бы ее в Москву, но у нее школа.
— Я не смогу ею заниматься, — запротестовал Даниель. — Я работаю. Мне наверняка придется уехать.
— Не волнуйся, — успокоила мужа Света. — Я договорилась с Маргаритой, она у нас поживет.
— Что? Без моего согласия? Я не останусь с этой сумасшедшей!
— Ну тогда придумай сам что-нибудь. Можешь поселить у себя Марину, если не боишься.
— Постой-постой, — попытался успокоиться Даниель. — Зачем тебе в Москву?
Но Света была уже далеко.
— Извини, пожалуйста, я не могу остаться, — обратился Даниель к Марине. — Сама видишь… — Торопливо пожав ей руку, он бросился догонять Свету.
— Я все понимаю, — вздохнула Марина. — Безвольный ты человек. Смотри, потом жалеть будешь.
Марина осталась у церкви одна. Теперь, когда все разошлись, ей стало ясно, что Света уличила ее, и это было чрезвычайно неприятно. Нет, она не боялась, что Света побежит в полицию, для этого у нее не было доказательств, но чувство вины, которое она так надежно прятала на самом донышке души, не выпуская наружу, теперь стало заявлять о себе. Марина не собиралась убивать Федю. Нет, ей бы такое даже в голову не пришло. Все случилось само по себе. Во всяком случае, Марина сумела себя в этом убедить.
Когда у Феди начался очередной приступ, Марина, как всегда, бросилась к шкафчику, в котором хранились медикаменты. Но лекарства на месте не оказалось.
— Не понимаю, — испуганно бормотала Марина, продолжая шарить по полкам, — у меня же оставалась еще одна ампула…
Федя бился в судорогах в другой комнате с зажатой между зубами салфеткой. На этот раз приступ был особенно жестокий. Вообще после смерти матери эпилептические припадки стали повторяться чаще. Федя ослаб, стал совсем беспомощным. Марина честно несла вахту у постели больного, механически выполняя функции сиделки и мужественно подавляя в себе отвращение к мужу. Бесконечная череда бессонных ночей и неусыпное бдение, к которому безмолвно, но очень настойчиво призывал больной, сказались на нервах. В ней не осталось ни жалости, ни милосердия, одна лишь тупая агрессия. Федя, как упрямая, неистребимая инфекция, день за днем разрушал ее жизнь, от которой и без того осталось немного. Марина попыталась пристроить Фридриха в дом инвалидов. Казалось, все идет хорошо: и место было найдено, и документы оформлены — и вдруг неожиданным препятствием оказалось наследство, полученное после смерти свекрови. Благодаря крупной сумме, вырученной от продажи дома, семья Хильденбранд перешла из категории неимущих, где все заботы о больном берет на себя государство, в класс зажиточных. Марине предложили большую часть расходов по содержанию мужа взять на себя, и хотя заведение было самое плохонькое, расходы оказались непомерно большими. А значит, в кратчайшие сроки грозили полностью поглотить все наследство.
«Сама справлюсь», — решила Марина и привычно потащила воз невзгод дальше. Сначала безмолвно, как привыкла, потом все больше и больше негодуя и сгибаясь под тяжестью несправедливой, бессмысленной ноши.
Последний приступ привел Марину в полное смятение. Она еще не успела оправиться от предыдущей бессонной ночи и как раз собиралась прилечь, как вдруг из соседней комнаты услышала пугающие звуки. Взяв себя в руки, она вошла в комнату, вытерла с губ мужа отвратительную белую накипь, похожую на неплотно взбитый белок, раздвинула зубы, вложила свернутую жгутом салфетку и побежала за лекарством. Минут пять она с маниакальным упорством переставляла предметы в аптечке, приговаривая: «Да где же эта чертова ампула? Куда я ее сунула?» Наконец, окончательно убедившись в тщетности поисков, она махнула рукой, вместо того чтобы вызвать врача, завалилась на диван и неожиданно для себя уснула. Марина очнулась далеко за полночь. За стеной слышались невнятные звуки.
— Чтоб тебе пусто было! — пробормотала она, выбравшись из-под пледа. — Чего шебуршится? Спал бы уже спокойно. — Она открыла дверь в спальню.
Фридрих прильнул к телефону с видом заговорщика и шептал в трубку что-то невнятное.
— Ты чего тут делаешь? — рявкнула Марина.
Увидев недовольное, посеревшее от усталости лицо жены, Фридрих с грохотом отшвырнул телефонную трубку и испуганно полез под одеяло.
— Ты кому звонил? — Марина сдернула мужа. — А?
— Сделай мне укол, Ängelchen, — умоляюще простонал Фридрих.
— Нету лекарства, кончилось, — зловеще прошептала Марина.
— Вызови врача…
— Будет тебе врач. Завтра. А теперь спи. И чтобы я больше звука не слышала! Понял?
Марина в бешенстве хлопнула дверью. Выпустив на волю долго сдерживаемое раздражение, она больше не могла совладать с собой. Ее била дрожь. Марина не испытывала ничего, кроме жгучего отвращения и ненависти к полуживому беспомощному Фридриху. Если бы не страх наказания, она, наверное, могла бы убить его. Задушить подушкой или что-нибудь в этом роде. Где-то на самой периферии ее помутившегося сознания еще тлела спасительным огоньком мысль, что с ней, Мариной, творится что-то неладное, и эта мысль, как угасающий луч прожектора, фрагментами освещала страшное Федино лицо с черными губами, обведенными широкой бледной полосой. Его бессмысленные, как синие ледышки, глаза и прерывистое дыхание.
«Надо что-то делать», — подумала Марина и, как под натиском чужой воли, опять провалилась в тяжелый сон.
Наутро она проснулась с ясной головой и просветленным рассудком. Мгновенно вспомнив события прошедшей ночи, как ошпаренная вскочила с дивана и, на ходу отыскивая ногами тапки, бросилась в другую комнату. В это короткое мгновение, длиной всего в пару шагов, она успела понять, что такое глубокое, страшное раскаяние.
— Я все исправлю, я сейчас все сделаю, — бормотала она, ногой распахивая дверь.
Фридрих лежал на постели, спокойный и отрешенный. Его толстая верхняя губа, покрытая редкими длинными волосками, почти полностью закрывала нижнюю, придавая лицу смешное сходство с грызуном. Открытые глаза наполнились глубокой синевой и смотрели в потолок осмысленным взглядом, как будто смерть вернула этому человеку способность мыслить, так несправедливо отобранную у него при жизни.
— О господи… — прошептала Марина и широко перекрестилась. В бога она никогда не верила, жест был скорее инстинктивным, вызванным желанием оградить себя от случившегося несчастья. — Боже мой, что же я наделала?! Что я наделала?! — бормотала она, содрогаясь от осознания непоправимости случившегося. — Это я его убила… Да, я…
Марина бросилась в комнату, оставив дверь в спальню широко открытой. Плохо соображая, что делает, она принялась готовить кофе. Отрезвил ее кофейный запах — такой будничный и уютный. Марина задумалась. Ее нервная система, скроенная из прочного, надежного материала, способна была мгновенно регенерировать, изменяя ход мыслей таким образом, что любая, самая безобразная и безнадежная ситуация переворачивалась, перетасовывалась и выворачивалась наизнанку до тех пор, пока не представала совершенно в ином свете. Так вышло и на этот раз.
Исходной позицией было следующее: а в чем она, собственно, виновата? Отсюда естественным образом вытекало заключение: Фридрих был безнадежно болен. Рано или поздно это должно было случиться, и последнее время было совершенно очевидно, что дело идет к концу. Конечно, если бы у нее, Марины, не иссякло терпение, он, может, и протянул бы еще пару месяцев, но кому от этого легче? Разве это жизнь? Через день припадки, боли, страх. Для чего продлевались все эти мучения? Искусственный клапан вставляли, тянули за ноги с того света. Ему бы, бедняге, уже давно преставиться… И получалось вроде бы так, что Марина, сама того не понимая, помогла Фридриху избавиться от тяжких мучений. А в таком поступке ничего дурного не смог бы узреть даже самый взыскательный судья. Успокоив себя таким образом, Марина по-деловому допила кофе и приготовилась к выполнению роли вдовы со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Сейчас она стояла у церкви, а в голове погремушкой колотилась фраза: угрызения совести, угрызения совести… «Теперь понятно, почему угрызения, — подумала она. — И правда, как будто мышь покусывает острыми зубками в области сердца. Больно… — Марина надавила кулаком под грудью и тут же мужественно распрямила плечи, не позволяя себе раскиснуть. — Ладно, разберемся», — вздохнула она. Со своей совестью она могла бы разобраться легко, загнав ее в такие закутки душевных лабиринтов, что и сама бы не смогла отыскать. Но появление свидетелей усложняло эту простейшую операцию и вызывало неприятное беспокойство.
— Ладно, еще посмотрим, кто кого! — сказала она вслух, и в голосе прозвучала угроза. — Я тебя не трогала, ты сама объявила войну.
К бывшей подруге она испытывала теперь только одно чувство: крепкую и чистую, как медицинский спирт, ненависть. Еще раз окинув взглядом улицу, на которой исчезли Света и Даниель, она сердито тряхнула головой и пошла прочь.
Даниель часто видел по телевизору сцену, как тяжело раненный боец, умирая на руках у товарища, шепчет помертвелыми губами:
— Холодно, холодно…
Что-то вроде этого предсмертного холода испытал и он, когда Света, погрузив в такси чемодан и сумку, отъехала от дома. В комнате остались лишь Маргарита с Машей, сидевшие друг против друга, как два непримиримых зверька, готовых в любую минуту броситься друг на друга. Жизнь кубарем катилась под откос, опасно подпрыгивая на ухабах, и не было на целом свете никого, кто мог бы остановить это стремительное падение. Даниель стоял в прихожей, низко опустив голову. Время от времени он трогал пальцами лоб и минуту за минутой, как на кинематографической пленке, восстанавливал в памяти вчерашний разговор.
— Я выходила замуж за другого человека, — сказала Света, глядя ему в глаза с ужасающим спокойствием. — Вернее, ты притворялся другим.
— Я тоже во многом разочарован, — отозвался Даниель, — но это нормально. Семейный кризис… Нам нужно успокоиться, подумать…
— Нет, это не кризис, это зашедший в тупик конфликт. И меня просто выводит из себя, что причиной конфликта является эта ничтожная букашка!
— Ты всегда слишком презрительно отзываешься о людях.
— Неправда, не о людях, а только о ней! А вообще-то ты прав. Ее не за что презирать. Она оказалась куда сильнее тебя, меня и всех нас, вместе взятых. Ее бояться надо. Это создание не способно испытывать ни благодарности, ни жалости. Я ее буквально из дерьма вытащила, руку ей протянула, когда она в Москве подыхала, всеми брошенная, а она в эту руку зубами впилась, а потом и вовсе села мне на шею. Благодаря замужеству она получила все — гражданство, деньги, а потом взяла и убила мужа. А твоя наивность и вера в человеческое благородство, извини меня, граничат с идиотизмом.
— Прошу тебя, последи за выражениями и не переходи на личности. — В голосе Даниеля зазвучали металлические нотки.
— А где здесь личности? — усмехнулась Света. — Ты бы на себя со стороны посмотрел, когда заискиваешь и сюсюкаешь с этой… — Света с трудом сдержалась. — «Прекрасно выглядишь! Ах, бросила курить! Ах, как мы рады!»
— Да перестань, у человека несчастье. Я хотел ободрить, поддержать…
— Да нет у нее никакого несчастья! — Света сорвалась на крик, чувствуя, что вот-вот упрется все в тот же роковой тупик. — Это у Феди несчастье, что он до пятидесяти лет не дотянул! А Марина чувствует себя прекрасно. У нее все получилось, как она хотела. Она же сказала, что не нуждается ни в каких утешениях.
— Когда это? — Даниель недоверчиво посмотрел на жену.
— Ах, брось, — устало отмахнулась Светлана. — Когда? Вчера, позавчера, месяц назад… — и тут же, почти без перехода, добавила: — Я должна уехать, подумать.
— О чем? — В голосе Даниеля чувствовалась тревога. Он внутренне сжался, ожидая ответа и готовясь принять всю тяжесть удара, заключенную в слове «развод».
Света посмотрела на мужа с сожалением и, словно угадав его мысли, сказала:
— Не бойся, о разводе я пока не думаю. Я очень люблю Машу и не хочу испортить ей жизнь.
— Машу? А меня, меня ты больше не любишь?
— Вот об этом я и хочу подумать. Может быть, на расстоянии все случившееся покажется ерундой, мелочью… — По-детски сморщив лицо, она всхлипнула и потерла кулаком глаза, как это делала Маша, когда собиралась заплакать.
— Schatz, я тебя умоляю… — Даниель тут же ухватился за тоненькую соломинку надежды. — Я все понял! Я больше никогда, никогда…
Ему захотелось взять жену на руки и, прижав к себе, укачать, как больного, измученного ребенка. Он шагнул в ее сторону, но Света решительно замотала головой.
— Нет, не надо! — Для убедительности она выставила вперед руки. — Я не хочу. Мириться надо осознанно, а не под влиянием случайных порывов. Это мы уже проходили. Получается неплохо, но ситуации это не меняет. Спокойной ночи. У меня все собрано, я на утро заказала такси.
— Я бы мог отвезти тебя сам.
Света посмотрела на него тяжелым взглядом. Так смотрят, когда прощаются навсегда.
— Не надо, — вздохнула она. — Так лучше.
Светлана сидела в берлинском аэропорту и ждала самолета. Перерыв между рейсами был три часа, но по пути в Москву было хорошо все, даже это длительное ожидание. Света любила аэропорты с их холодной архитектурой, стремительной, радостной атмосферой. Она вспоминала, как в советские времена, кажущиеся теперь такими фантастически нереальными, они целой компанией среди ночи срывались и ехали в аэропорт Шереметьево, чтобы услышать открывающие двери к свободе слова: «Объявляется посадка на самолет, отбывающий рейсом в Париж…» Как это было прекрасно — жить в мире надежд и несбыточных мечтаний! И как скучно все оказалось в действительности. Эти туристические аттракционы — Париж, Лондон, Рим… Как будто забродившее, передержанное воображение кислотой погасило мечту, и она исчезла, не оставив осадка.
Света зашла в пустой ресторан, устроилась за столиком у стеклянной стены. Отсюда открывался вид на взлетную полосу, и можно было смотреть, как беспечно взлетают и тяжело садятся утомленные долгой дорогой самолеты.
— Принесите, пожалуйста, белое вино и пепельницу, — попросила она подошедшего официанта и закурила. Странно, курить Света начинала всегда по дороге в Москву и заканчивала на обратном пути. Как будто в самолет садился один человек, а из Москвы, ощутив под ногами прочную земную твердь, возвращался совсем другой. Вот и сейчас мысленно она унеслась далеко от семейных проблем. В голову лезла приятная, несущественная ерунда: в Москве сейчас мороз, сугробы выше человеческого роста. Мама печет пироги. От этих мыслей на душе становилось тепло и радостно, как после глотка коньяка. Она потягивала вино, наблюдая, как за соседним столиком крепкий мужчина в спортивном свитере поедает огромную, как вулкан, гору салата. Света попыталась определить его национальность. Лицо южанина — смуглое и красивое, крепкая шея, открытый лоб. Может быть, итальянец.
Мужчина оторвал взгляд от салата и, взглянув на Свету, улыбнулся. Сердце вдруг сладко дрогнуло: наш! Все-таки, несмотря на массовую миграцию и лихорадочное впитывание чужих культур, сохранились еще неуловимые признаки, по которым русский человек в любой толпе выделит соотечественника.
— Вы тоже в Москву? — весело спросил мужчина. — Я видел вас на регистрации.
— Да, — улыбнулась Света и, облегченно вздохнув, добавила: — Домой!
— Ну так пересаживайтесь ко мне. Я по российской привычке вино бутылками заказываю, поможете допить, — для убедительности он приподнял со стола початую бутылку.
— С удовольствием! — Света перебросила за соседний столик сумку и пальто. Мужчина встал и галантно предложил ей место.
— Звать меня просто — Иваном, — представился он. — Только не говорите, что мне это имя совсем не идет. Я и сам знаю, что как корове седло.
— Ну почему же… — неуверенно возразила Света.
— Ну потому, что не идет. А вас как величать?
— Светлана.
— Вот! А вам ваше имя очень к лицу, просто как дорогое ожерелье на шее красавицы.
Светлана рассмеялась:
— Вы что, поэт?
— Как это так — почти?
— Я писатель-неудачник. Мотаюсь по миру в поисках пропитания.
— Ну и как, нашли что-нибудь?
— Да нет, одни обещания.
— А что вы пишете?
— Да что все пишут, то и я, — детективы, мусор всякий.
— У вас что-нибудь уже напечатано?
— Много чего напечатано. Я ведь этим живу.
— Как интересно! — искренне восхитилась Света.
— Да нет ничего тут интересного. Ремесло как любое другое. Вот если бы я писал красиво, как Набоков, или хотя бы просто, как Нагибин, тогда было бы интересно, тогда было бы творчество.
— А вы так не можете?
— Вы издеваетесь? Сейчас никто так не может. Я пополняю армию посредственностей. Щебечем, как воробьи на навозе. Ой, послушайте, по-моему, наш рейс объявляют.
Света прислушалась.
— Точно! — обрадовалась она. — Ну наконец-то.
Они быстро собрали вещи и быстрым шагом направились на посадку.
— А мне жалко, — заметил ее новый знакомый. — Я бы с вами еще поболтал.
Его обескураживающая простота подкупала и завораживала. «Внешне он, может быть, и Джованни, а по характеру — совершенный Иван», — подумала она с нежностью, а вслух добавила:
— Вы не огорчайтесь, нам два часа лететь, еще надоедим друг другу.
— Если места поменяем. Вы где сидите?
— Я бизнес-классом лечу, — смутилась Света.
— Тем лучше! — обрадовался ее новый попутчик. — Легче поменяться будет. Вы же пересядете ко мне? — Он слегка забежал вперед и заглянул Свете в глаза. Взгляд у него был настойчивый и сильный — взгляд настоящего мужчины, который ни на секунду не сомневается, что ради него можно поступиться дорогим бизнес-классом.
— Ну конечно же, пересяду, — засмеялась Света. — Если на мое место желающие найдутся.
Как это ни странно, желающих на место в бизнес-классе не оказалось. Все сидели парами и ничего менять не собирались. Иван долго беседовал со стюардессой и наконец, радостно устроившись рядом со Светой, облегченно вздохнул.
— Все в порядке, договорился, — заявил он. — У вас есть пятьдесят долларов?
Света удивленно вскинула глаза.
— Да вы не волнуйтесь, — успокоил ее Иван, — только до Москвы. Я последние деньги в ресторане выложил. Думал — по дороге больше не пригодятся. Идиотская привычка — тратить все до последнего цента…
— Ладно, — смягчилась Света, поддаваясь его почти детскому обаянию. Она достала разбухшее портмоне и протянула мужчине деньги. — Идите, расплачивайтесь.
Они провели в самолете сто двадцать минут, каждая из которых была длиною в вечность. Света рассказала малознакомому человеку всю свою жизнь, со всеми подробностями, с такой легкостью, словно это все не имело к ней больше никакого отношения. Она видела перед собой умные глаза Ивана, его красивое лицо с падающими на лоб шелковистыми кудрями, внимательный наклон головы и чувствовала себя полузамерзшей в снегах под лучами горячего солнца.
— Надо же, как интересно, — задумчиво произнес Иван и провел рукой по ее волосам. — Твоя жизнь — это же готовый роман. Остается только записать. И я это обязательно сделаю.
— Ты находишь? А мне кажется, что все это скука, обычная мещанская возня, без взлетов и вдохновения. Если бы ты только знал, как я от всего этого устала!
— Горя ты не знаешь, — улыбнулся Иван, — поэтому устаешь от счастья.
— А ты знаешь?
— Я — нет, но у меня не получаются самые простые вещи.
— Ну, например, семья. Вот, скажете, проблема! Большого ума вроде бы не надо. А я, когда смотрю, как моя соседка Варька своего мужа, пьяного, перепачканного черт знает в чем, в квартиру затаскивает, а там вместе с детьми раздевает папочку, — ей-богу, завидую. Вот даже он, свинья свиньей, — а все кому-то нужен! Кто-то его любит, кто-то жалеет.
— А ты, что же, так никому и не нужен? — усомнилась Света.
— Я многим нужен, но возиться со мной никто не станет, и любить меня, как Варька своего алкоголика, никто не будет.
— Почему? Откуда такие мысли?
— Да потому, что так оно и есть. Я не даю никому привязаться к себе по-настоящему. Как только чувствую, что обо мне начинают заботиться — суп варить или, не дай бог, стирать-убирать, так у меня от скуки волосы дыбом встают. Ничто на свете не может заставить меня поцеловать женщину, которая выстирала мои носки.
Света засмеялась.
— Здесь не смеяться, а плакать нужно, — улыбнулся Иван. — Мне скоро сорок, а живу, как тинейджер.
— Вам просто нужно найти женщину с домработницей. Каждый будет занят своим делом — жена целуется, домработница стирает носки — и все довольны.
— Нет, нет, только не это! — шутливо испугался Иван. — Те, которые с домработницами, капризные, а я этого терпеть не могу, — и тут же серьезно добавил: — Мне бы такую, как ты… — Его лицо было так близко, что Света чувствовала его дыхание. — Тебя я даже без домработницы бы терпел. У меня такой женщины никогда не было…
— Какой? — прошептала Света, с трудом превозмогая желание дотронуться до его щеки губами.
— Такой, без недостатков. Вообще-то один недостаток у тебя есть…
Стряхнув с себя наваждение, Света изумленно приподняла бровь.
— Ты не моя, — печально произнес Иван и, тяжело вздохнув, откинулся на спинку кресла.
В этот момент в железном брюхе самолета что-то грохнуло.
— Шасси! — догадалась Света. — Прилетели! — Она смотрела испуганно, как растерявшийся ребенок, из рук которого вытягивают любимую игрушку.
По проходу поплыла стюардесса, оглядывая пассажиров с казенной улыбкой на лице. Убедившись, что в маленьком салоне бизнес-класса все в порядке, она исчезла за серой занавесочкой.
Света посмотрела в окно.
— Москва… — сказала она с тоской. Под самолетом открылись белые поля. — Как же я соскучилась по снегу!
Она повернулась к Ивану, физически ощутив на себе тяжелый взгляд.
— Интересно, если бы мы с тобой летели до Марса, нам бы хватило времени? — Он взял ее лицо в ладони и стал рассматривать так, как будто хотел и не мог поверить, что это не мираж. Света слегка отшатнулась и тут же почувствовала на губах поцелуй — требовательный и нежный. И в этом поцелуе растворилось все без остатка — и Германия с ее хмурыми жителями, и Даниель с непробиваемой душой, и Марина со всеми ее мерзостями. И даже Маша — пусть на мгновение — тоже перестала существовать.
— Я увижу тебя в Москве? — шептал Иван, пробегая по Светиному лицу губами. — Не оставляй меня! Я теперь без тебя пропаду…
Самолет приземлился, подали трап. На улице было темно и холодно. Они спустились в снежную московскую ночь, потом ехали на автобусе к терминалу, проходили паспортный контроль — все как во сне. В зале прилета едва не потеряли друг друга в толпе встречающих.
— Такси! Такси! Такси не нужно? — слышалось со всех сторон. — Такси, недорого.
— Сколько?
Потрепанный водитель окинул Свету опытным взглядом и, видимо, быстро что-то подсчитав в уме, произнес:
— Пятьдесят.
— Поехали.
— Ты не возражаешь, если я с тобой до Москвы доеду? — спросил Иван. — Меня встречать некому.
— Ну что же с тобой делать, — улыбнулась Светлана. — Придется довезти.
В салоне такси было темно и душно, водитель, плотно задраив окна, одну за другой курил нестерпимо вонючие сигареты. Хлипкая дверь подозрительно дребезжала, грозя в любую минуту раскрыться и вышвырнуть пассажиров на ледяной асфальт. Забытые, казалось, детали московского быта лезли в глаза, нос и уши, вытесняя волшебные ощущения от перелета Берлин — Москва.
Ивана как будто подменили. Он сидел хмурый, отвернувшись лицом к окну, и всматривался в черноту дороги. Света чувствовала себя глупо. Такого поворота она никак не ожидала. «Что все это значит? — гадала она. — Я что-то сделала не так?»
— Что с тобой? — наконец не выдержала Светлана и дотронулась до его руки.
— Ничего, — Иван отдернул руку.
— Ну, как знаешь, — Света отвернулась, сделав над собой усилие, чтобы не заплакать.
— Знаешь, о чем я думаю? — услышала она через мгновение.
— Вот почему все люди влюбляются как-то по-человечески — ликуют, радуются, а я каждый раз как воз на себе тащу.
— Каждый раз? И часто это с тобой случается?
— Редко, — серьезно ответил Иван. — А так, как сейчас, вообще впервые.
Она сразу же потянулась к нему, жадно впитывая его слова и откликаясь на них. С ней тоже такое впервые. Непостижимо. И все это случилось за какие-то два часа — срок, в масштабах человеческой жизни просто смешной.
— Где ты живешь? — спросила Света.
— В Сокольниках. А ты?
— А я на Бауманской. Мы с тобой почти соседи. — Света достала деньги и, протянув их водителю, сказала: — На Бауманскую, а потом в Сокольники.
— Зачем? — пробормотал Иван. — Я мог бы и пешком дойти.
— Да ладно, — снисходительно улыбнулась Света. — Я надеюсь, ты не всегда будешь кататься за мой счет.
И тут же осеклась. Было видно, что Ивана это обидело, он опять отвернулся и стал упрямо смотреть в окно. Он сидел рядом, совершенно чужой, как будто не было этих двух часов в самолете, так сильно изменивших ее отношение к себе, к жизни, к будущему. Ее душа отчаянно металась в поисках подсказки, выхода. Как заставить его опять смотреть на нее сумасшедшими глазами, говорить такие чудесные слова? Ей казалось, что машина едет слишком быстро. Вот сейчас поворот с кольца, а там — две минуты и дома.
— За поворотом направо, — сказала она водителю и с надеждой взглянула на Ивана. Он не шелохнулся. — Еще раз направо, под арку, вот здесь остановитесь, пожалуйста.
Такси остановилось, водитель пошел открывать багажник.
— До свидания, Ваня, — скороговоркой пробормотала Света и, чтобы не выдать своего отчаяния, стремительно выскочила из машины.
Дом встретил ее привычными запахами и звуками, только ощущения были совсем не привычные. Вместо радостного подъема, который она испытывала всегда, возвращаясь домой, она ощущала вокруг себя непробиваемую, враждебную пустоту. Света нажала на кнопку лифта. Двери разъехались, она затащила багаж и, повернувшись лицом к выходу, хотела нажать кнопку седьмого этажа, как вдруг заметила, что в массивную дверь подъезда кто-то стучит, изо всех сил дергая ручку с другой стороны. Лифт закрылся. В Светиной груди радостно ухнуло. Она нажала на первый этаж и в разъезжающемся проеме увидела, как за высокой стеклянной дверью мечется Иван. Света бросилась к выходу.
— Я так испугался, — бормотал Иван, обнимая ее крепко, до боли. — Я так испугался, что ты ушла, а у меня даже нет твоего телефона… — Он целовал ее лоб, глаза, губы. Света была близка к счастливому обмороку.
— Пойдем к тебе, — шептал Иван, приподнимая Свету от пола. — Пойдем к тебе, и я останусь у тебя навсегда.
— Нет, Ванечка, сейчас не получится.
— Я так не могу… Я никогда не обманывала мужа… Понимаешь? Давай завтра. Я буду ждать. Я буду считать минуты.
— Хорошо, — Иван взял себя в руки. — У тебя ручка есть?
Света, дрожа всем телом, пыталась отыскать в сумке ручку.
— Вот, — наконец сказала она и протянула ему золотой «Паркер». — Запиши, а ручку оставь себе — будешь книги писать и обо мне думать.
Иван записал Светин телефон на ладони.
— Я не поеду с тобой наверх.
— Не надо, — Света вдруг почувствовала страшную усталость. — До завтра, Ванечка.
Иван повернулся и, не оборачиваясь, выбежал из подъезда.
На следующий день Свету разбудил телефонный звонок. «Это он!» — разлилась по всему телу счастливая мысль. Света подскочила на кровати и схватила трубку.
— Але! — послышался недовольный голос матери.
— Мама? Это ты? — Света с трудом скрыла разочарование.
— А кому же еще быть? Ты мне вчера даже не позвонила.
— Мамочка, прости, пожалуйста, я вчера очень поздно приехала.
— Ну и что, что поздно! Если хочешь знать, я из-за тебя вчера всю ночь не спала, думала, с тобой что-то случилось.
— А что же не позвонила?
— Так ты же на ночь телефон отключаешь.
— Да, правда, ну прости меня, я свинья.
— Когда ты появишься? Я соскучилась. Тебя сегодня ждать?
— Сегодня? Не знаю… У меня есть кое-какие дела. Я попозже тебе позвоню. Хорошо?
— Ну, пока.
Света положила трубку и пошла в ванную. Она разделась, залезла под душ, но тут же выскочила, завернувшись в полотенце, прошлепала босыми ногами в комнату и, прихватив с собой телефон, вернулась обратно в ванную. Вода шумела, телефон молчал.
Ближе к полудню раздался звонок. На этот раз звонила подруга, Нинка.
— Ну что, приехала, красавица? — заорала она, как всегда, нарочито бодрым голосом.
— Слушай, Нин, приезжай, а? — попросила Света.
— Сейчас. Я здесь сижу без еды, даже кофе в доме нет.
— А чего в магазин не сходишь?
— Звонка жду. Приезжай, будь другом! Купи всего. Я тебе деньги отдам.
— Ну ладно, часика через два буду.
Нинка приехала ближе к вечеру.
— Раньше не получилось, дела! — кричала она из коридора, стряхивая с себя вместе с пальто запах мороза. — На-ка вот, я тебе пожрать принесла!
Нинка, грубоватая и неунывающая, все время пребывала в состоянии радостного безумия, хотя никаких особых поводов радоваться у нее быть не могло. Она хорошо знала, почем фунт лиха. Росла без отца, с матерью, в полной нищете, а теперь, обманутая и брошенная мужем, в такой же нищете растила двоих детей, работая всюду, где заплатят. Говорят, характер — это судьба. По Нинкиному характеру ей должна была достаться веселая, легкая жизнь. Но как видно, в этом случае сработало другое правило — бог дает испытания по силам. Нинке по силам было все. Она дюйм за дюймом отвоевывала у судьбы крохотные островки счастья и оставалась вполне довольна своими завоеваниями.
Света приняла у подруги две набитые сумки и, с трудом дотащив их до кухни, свалила на стол. Следом за ней на кухню ворвалась Нинка, и тут же квартира наполнилась запахами супа, кофе и веселыми окриками:
— Кастрюля где? Соль дай… Ну что с тобой? Давай выкладывай, — не прерывая суеты и ни на секунду не останавливаясь, бросила она Свете. — Опять злодейка замучила?
— Какая злодейка? — не поняла Света.
— Да Усик твой. Пригрела змею на груди! Вот теперь расхлебывай.
— Да нет, Нинуль, я про нее и думать забыла.
— Да что ты?! Неужели исправилась? Не поверю.
— Да она тут вообще ни при чем! — всплеснула руками Света.
— А что же тогда? Вид у тебя — краше в гроб кладут.
— Влюбилась я, понимаешь, — выдохнула Света и, не справившись с чашкой кофе, вылила его на себя.
— Что, что ты сказала? — переспросила Нинка, даже на мгновение замерев.
— Влюбилась до смерти! — Света побежала в комнату переодевать испачканный халат.
Нинка шла за ней по пятам, держа в руке жалкого куренка с фиолетовым отливом.
— И когда же ты сподобилась? Вроде вчера еще все нормально было, ты же мне из дома звонила?
— Нет, Нин. Как раз вчера все было ненормально. Плохо все было. А потом в самолете появился он — и все встало на свои места.
— Ага, — Нинка смотрела на подругу, как смотрит врач, встревоженный подозрительным спокойствием пациента. — И кто же этот несчастный?
— Он писатель, Ваней зовут.
И Света принялась рассказывать о своем дорожном приключении, сдабривая детали изложением своих удивительных ощущений. Нинка слушала, внимательно скосив на Свету умные глаза.
— Ну? — сказала она, когда Света наконец замолчала.
— Прекрасная история. Очень романтично. Не каждая женщина в нашем возрасте может позволить себе подобные радости.
— Я так и знала, что ты сейчас про возраст заговоришь. Что же ты, считаешь, что влюбляться уже неприлично?
— Почему? Очень даже прилично. Жизнь у тебя устроена, дома полный порядок — муж, ребенок, о хлебе насущном думать не надо. Самое время порезвиться напоследок. Вот за это и выпьем! — Нинка извлекла из сумки бутылку шампанского. — Устрой себе каникулы, Светик. Отдохнешь, а там, глядишь, все само собой наладится.
— Нет, Нин, ты меня не поняла. Я полюбила, и полюбила серьезно. Мне теперь на все наплевать. Я обратно не поеду.
— Ты что, совсем крыша съехала?! — Нинка бросила возиться с бутылкой, пробка с треском вылетела в потолок. — Ягодкой себя почувствовала? — продолжала она, не обращая внимания на растекающуюся по столу пену. — Полюбила она, видите ли! — Нинка передразнила подругу и пренебрежительно фыркнула. — И где он, этот человек? Покажи мне его. Ты с утра, как бобик, у телефона сидишь, а он не звонит. Не звонит ведь?
— Нет… — Света повесила голову.
— И не позвонит! — торжествующе объявила Нинка. — Пока ты на стену не полезешь. А потом появится и будет делать с тобой, что захочет.
— И пусть делает. Я только об этом и мечтаю.
— Дура ты дура! Мужиков наших не знаешь? Они же все на баб тренированные.
— Как это — тренированные?
— Да он такую черемуху каждый день перед кем-то разыгрывает. Ему это вообще ничего не стоит. Ты думаешь, он после тебя домой поехал страдать? На-кась выкуси! — Нинка сунула Свете под нос увесистую фигу. — Наверняка к телке какой-нибудь поскакал, пожар душевный тушить.
— Нет, ты просто не знаешь, что такое настоящее чувство, поэтому так говоришь.
— Ага-ага! — презрительно скривилась Нинка. — Ты еще скажи, что я тебе завидую.
— Этого я не говорила.
— Если хочешь знать, я тебе действительно завидую. Только не этой глупости, а твоему семейному счастью. А чувства… Они у меня во где сидят! — Нинка провела рукой по горлу. — У нас их здесь хоть отбавляй. Ногами по ним ходим. Куда ни плюнь, всюду чувства, а жизни никакой. Как не надоело — сорок пять лет все одно и то же! Я, например, реального человека хочу, с деньгами и старого, чтобы с глупостями не приставал! — Нинка взмахнула ножом и ловким ударом рассекла курицу на две части. — Сациви есть будем, — объявила она безо всякого перехода и повернулась лицом к плите.
— И все равно он не такой, он совершенно особенный… — мечтательно произнесла Света, возя по столу тряпкой.
— Сколько ему лет-то, твоему особенному?
— Не знаю. На вид лет тридцать пять.
— А дети у него есть?
— Не знаю.
— Не знаю, не знаю, — опять передразнила ее Нинка. — А что ты знаешь-то? Ты-то небось ему все разболтала?
«И правда, — подумала Света, — я рассказала о себе все, а о нем почти ничего не знаю».
— Конечно, — продолжала Нинка, гремя крышками кастрюль. — Видит мужик — сидит миллионерша, да еще хорошенькая, ну как такую возможность упустить? Тем более что сам нищий.
— Да откуда ему знать, что я миллионерша?
— Ха! Да ты на свои руки посмотри. Ему одного твоего колечка на десять лет шикарной жизни хватит.
— Так ты что же, считаешь, что в меня уже влюбиться нельзя? — обиделась Света.
— Можно. Особенно если знать про твои миллионы, — Нинка внимательно посмотрела подруге в глаза. — Свет, я тебе один раз совет дам, а там поступай как знаешь. Не связывайся ты с этим писателем. Ты человек непрочный, к сложностям непривычный, он тебя разведет, выпотрошит и бросит.
— Я все равно разводиться хотела.
— Не ври! Ты еще вчера голову ломала, как семью сохранить. И это был верный ход мыслей. У тебя ребенок, муж золотой, в прямом и переносном смысле, передохни здесь пару дней и поезжай домой, пока не поздно.
— А почему должно быть поздно?
— Ты думаешь, твой Даниель тебя всю жизнь дожидаться будет? Свято место пусто не бывает. Его живо кто-нибудь к рукам приберет. Давай за стол садиться, а то ночь уже на дворе, а мы не завтракали. Все готово.
— А сколько времени?
Света покосилась на телефон.
— Да не позвонит он сегодня, не жди. Это у них тактика такая. Вместо того чтобы добиваться, ухаживать — на неделю пропал, и она твоя.
Нинкину речь прервал телефонный звонок. Света бросила на подругу победоносный взгляд и потянулась к трубке.
— Але! — крикнула она и тут же сникла. — Ja, ja[13], — перешла она на немецкий язык.
— Даниель? — прошептала Нинка.
Света мрачно кивнула.
— Как долетела? — спросил Даниель.
— Нормально.
— Как погода в Москве?
— Холодно.
«Ну разве это разговор между двумя близкими людьми?» — с досадой подумала Светлана и спросила:
— Как у тебя дела?
— Я без тебя не могу.
— А Маша как? — безучастно продолжала Света.
— Капризничает, ругается с Маргаритой. Я надеюсь, ты там недолго?
— Посмотрим.
— Schatz, возвращайся домой, прошу тебя!
— Я подумаю…
— С Машей хочешь поговорить?
— Мама, тетя Маргарита дура! — услышала она раздраженный голос дочери.
— Как тебе не стыдно, разве можно так говорить о взрослых?!
— Дура, дура, — не унималась Маша. — Она меня к Марине не пускает и на ужин кашей кормит, а я ее терпеть не могу!
Раздались короткие гудки. Света с удивлением посмотрела на трубку.
— Ну, что там? — поинтересовалась Нинка.
— Машка хулиганит. Трубку бросила.
— Так ты перезвони.
— Нет, не буду. Сами разберутся. Давай ужинать.
Маша бросила трубку и с ревом кинулась наверх, в свою комнату.
— Что с ней? — растерялся Даниель, вопросительно глядя на Маргариту.
— Что? Ваше воспитание! — развела та руками.
— Маша! — крикнул Даниель и пошел вслед за дочерью.
Девочка лежала на кровати ничком, накрыв голову подушкой.
— Mäuschen[14], что с тобой? — спросил Даниель, присаживаясь на край кровати.
Маша прогудела что-то из-под подушки и заколотила ногами по одеялу.
— Зачем ты обижаешь Маргариту? Она же тебе ничего не сделала.
Девочка резко перевернулась на спину, закинув подушку в другой конец комнаты.
— Она меня не любит! — Глаза у нее были сухие, без слез, и тем заметнее полыхало в них отчаяние.
— С чего ты взяла? — робко возразил Даниель.
— Потому что… потому что я знаю! Она злая. Баба-яга!
— Да что она тебе сделала, в самом деле? — начал раздражаться Даниель.
— Я не хочу ее вместо мамы! — Маша обмякла и, забравшись к отцу на колени, горько заплакала.
— Вот глупенькая! — Даниель прижал девочку к себе. — Кто же тебе сказал, что она вместо мамы? Она только на несколько дней пришла, чтобы я мог работать.
— Это вы для меня придумали! — всхлипывала Маша. — А мама уехала навсегда.
— Да что ты такое говоришь? Кто тебе это сказал?
— Маргарита.
— Что она тебе сказала? Что? — Даниель оторвал дочку от себя и, слегка встряхнув, заглянул ей в глаза.
— Она сказала, что богатые всегда с жиру бесятся, думают о своих удовольствиях, а потом дети сиротами растут!
Первую часть фразы Даниель не понял, Маша сказала ее по-русски, но зато высказывание насчет сирот потрясло его окончательно. Даниель бросился вниз по лестнице, на ходу повторяя про себя:
— Прошу вас немедленно покинуть мой дом. Прошу вас немедленно покинуть мой дом!
Маргарита стояла в дверях уже в пальто и, пыхтя, устраивала на голове допотопный вязаный берет.
— Прошу вас… — начал Даниель.
— Да я и так ухожу, — прервала его Маргарита. — Не могу я с вашим ребенком, капризная она очень. Вы уж на меня не обижайтесь, — Маргарита подняла с пола тяжелую нейлоновую сумку со своими вещами.
— Да-да, хорошо, — смутился Даниель. — Подождите, деньги…
— Да какие там деньги, — махнула рукой Маргарита. — Я вас и так подвела. До свидания, — она включила на улице свет и вышла.
Даниель остался в прихожей один, пытаясь сосредоточиться. Мысли громоздились, наезжая одна на другую, как льдины на реке. «Что, что я сделал не так? — пытался понять Даниель. — Как допустил, что вся эта дурацкая история зашла так далеко? — и тут же с привычным упрямством сам себе возражал: — Я ни в чем не виноват. Просто Света не умеет ценить хорошее. Это она из-за какой-то ерунды губит семью. Права Марина — ей просто слишком хорошо живется».
В душе ярким цветом распускалась пышная, как пион, обида. Захотелось взять кого-нибудь под локоть и, доверительно заглядывая в глаза, излить душу. О господи! Как же ему не хватает сострадания, понимания, сочувствия! Но кому, кому здесь дело до его личных проблем? Он не допускал даже возможности начать такой разговор с кем-нибудь из знакомых.
В комнате зазвонил телефон.
— Не подходи! — завопила Маша. Она неслась вниз по лестнице. — Это мама! — Маша сорвала трубку. — Алло! — закричала она, задыхаясь. И тут же совершенно другим тоном радостно вскрикнула: — Марина?! У нас все хорошо. Мама? Мама в Москве. А папа здесь. А ты ко мне приедешь? Папу? Сейчас! — Маша повернула к отцу сияющую физиономию. — Марина! — радостно объявила она и протянула отцу трубку.
Даниель вдруг почувствовал, как ослабевает нервное напряжение: так падает у больного давление после кровопускания.
— Здравствуй, Марина, приезжай, нам нужна твоя помощь, — попросил он.
— Сейчас буду, — коротко ответила Марина, не задавая излишних вопросов.
Время уже давно перевалило за полночь, а Даниель все говорил и говорил, как будто боялся упустить последнюю возможность высказаться. Марина сидела напротив и, подперев щеку ладонью, сострадала ему. Вторая бутылка вина была на исходе.
— Не понимаю, что ей еще надо? — вздыхала Марина. — Она не знает, что такое настоящие проблемы. Я к своему Феде и то лучше относилась, чем она к тебе.
— Это верно, — соглашался Даниель, с трудом ворочая языком. — А ведь я живу только для семьи. Мне самому ничего не надо.
— Давай спать, — предложила Марина и заботливо добавила: — Тебе же завтра на работу.
— Да, — Даниель кивнул отяжелевшей головой.
— Я с Машей в комнате лягу, ей сейчас тяжело, вдруг ночью проснется.
— Ты чужой человек, а о ребенке беспокоишься больше, чем родная мать.
— Я ее люблю, — Марина театрально закатила глаза, кивнув в сторону Машиной спальни.
— Даже не знаю, что бы я без тебя делал! — расчувствовался Даниель и поднялся.
— Иди, иди, — махнула рукой Марина, — я здесь все уберу.
Даниель поплелся наверх, крепко держась рукой за перила. Он долго возился в ванной — чистил зубы, разглядывал в зеркало свое осунувшееся, постаревшее лицо, потом надел пижаму и вышел. Прямо перед дверью лицом к нему стояла Марина. Вид у нее был странный, в глазах сверкали опасные огоньки. «Что это?» — успел подумать Даниель. Марина подошла вплотную, а дальше произошло что-то совсем непонятное, в чем Даниель участвовать не хотел. Он попытался было сопротивляться, но тут, как по щелчку переключателя, вдруг вырубилась воля, и он поплыл, как в состоянии невесомости, беспомощно двигая руками и ногами, инстинктивно пытаясь найти точку опоры и не отдавая себе отчета в происходящем. Иногда он совсем близко видел Маринины глаза, похорошевшие и как будто безумные, ее заострившийся нос, губы, с которых срывались дикие влекущие звуки. Он с удивлением прислушивался к своему телу, утопающему, помимо его воли, в незнакомом, жгучем наслаждении. В какие-то моменты ему становилось страшно, и он делал над собой усилие, чтобы остановиться, прервать наваждение, но каждый раз новая, еще более сильная волна возбуждения подхватывала его и несла все дальше и дальше в потоке чувственного безумия, не давая прийти в себя, опомниться, сообразить, что происходит. Марина, как опытная жрица, уверенно творила обряд любви: это была ее стихия. Не первый раз в жизни ей приходилось преодолевать яростное сопротивление на последнем рубеже сближения с мужчиной, но дальше, за этим рубежом, хозяйкой становилась она. Даниель потерял ощущение места, времени, бытия. Это было и восхитительно, и жутко, как полет с высокой горы. Никогда прежде он не испытывал ничего подобного.
Он пришел в себя под утро. Лежал на кровати, злой и опустошенный.
— Зачем мы это сделали? — выдавил он сквозь зубы. — Это ужасно.
— Ужасно? — наивно удивилась Марина. — А мне показалось, тебе было со мной хорошо.
— Да разве в этом дело? — простонал Даниель. — Хорошо — не хорошо…
— Тогда объясни в чем.
— В том, что свинство это по отношению к моей семье, да и к тебе тоже.
— Да не переживай ты так, — Марина встала. Ее голое тело было некрасивым, но продолжало привлекать тугой, какой-то земной округлостью. — Тебя это ни к чему не обязывает. Я просто хотела доставить тебе удовольствие. — Покачивая монументальными бедрами, Марина направилась к двери.
— Я не свожу любовь к удовольствию, — сердито крикнул ей вслед Даниель. — Мы не животные. Так нельзя!
— Хорошо, больше не буду, — спокойно согласилась Марина и, подхватив одежду, ушла в ванную.
Весь день Даниель терзался чувством стыда за свое малодушие, прятал глаза от сослуживцев. Казалось, что каждый, заглянув в них, тут же раскроет его тайну. В душе бушевало негодование к Марине: такое вероломство! И это лучшая подруга жены! О господи, что же теперь делать? Ситуация представлялась совершенно безвыходной. Бессонная ночь и неожиданно тяжелое похмелье лишь усугубляли чувство непоправимости того, что произошло. Даниель кое-как дотянул до конца рабочего дня, почти не вникая в дела, и поспешил домой с твердым намерением избавиться от Марины и уговорить Свету завтра же вернуться обратно.
Дома, еще в прихожей, Даниель услышал раскатистый хохот Маши.
— Что у вас здесь происходит? — крикнул он, невольно заражаясь весельем.
— Мы играем! — закричала Маша. Голос ее впервые за эти дни звучал счастливо.
Даниель зашел в комнату. Маша сидела верхом на коленях Марины и, крепко держа ее за руки, изо всех сил раскачивалась, как на качелях, то взмывая вверх, то прогибаясь назад, почти касаясь затылком пола, и хохотала взахлеб. Марина вторила ей приглушенным грудным смехом. Разрушить эту идиллию Даниель не решился.
«Ладно, — подумал он, — поговорим завтра. Да она, наверное, и сама все поняла».
Вечер прошел спокойно, и они рано легли спать: сказалась усталость после бессонной ночи. Даниель, едва добравшись до кровати, закрыл глаза и приготовился мгновенно уснуть, но сон, как ни странно, не шел. Стоило ему закрыть глаза, как все дневные страхи и угрызения куда-то исчезали, и вместо них навязчивое воображение восстанавливало в памяти эпизоды прошедшей ночи, возбуждая и будоража его. Он долго вертелся, садился на постели, вставал, решил даже посреди ночи принять ледяной душ — все было напрасно. Марина, как наваждение, упрямо заполняла каждую клеточку. Наконец, измученный и разъяренный, сам не зная, зачем он это делает, Даниель ворвался к Марине в комнату.
Она полусидела на кровати.
— Ты не спишь? — удивился Даниель.
Марина загадочно улыбнулась. Нет, она не спала. Она не спала ни минуты. Она все слышала. Она ждала.
— Иди ко мне… — прошептала она своим особенным низким голосом и протянула к нему руки.
Нинкины пророчества начинали сбываться. Света и вправду готова была лезть на стену. В ожидании звонка она вот уже двое суток не выходила из квартиры. Проклятый телефон вел себя подло. Звонки раздавались по нескольку раз на дню, заставляя Свету замирать от счастья и тут же, услышав чей-то ненужный голос, проваливаться в пропасть отчаяния. Прожив на свете сорок пять лет, она даже не подозревала о существовании такого чувства — огненного, пронзающего насквозь. «Господи, — укоряла она себя, в отчаянии заламывая руки, — я все, все не так сделала! Если бы только он сейчас появился! Я все отдала бы за один только взгляд! Как я могла не пустить его? Ведь он же хотел остаться!»
Света металась по комнатам, хваталась за голову. Краем сознания она понимала, что ведет себя, как безумная. Иногда мрачной тучей проплывала в голове мысль о Маше и Даниеле, но Света гнала, гнала ее прочь. Она отчаянно страдала, но в этом страдании не было места ни для мужа, ни для ребенка. Только он, только Иван мог вернуть ее в нормальное состояние.
На исходе второго дня она поймала себя на мысли, что понимает, в каком состоянии люди кончают жизнь самоубийством. Если он не объявится, ей тоже больше незачем жить. Вернуться в Германию, к обычным обязанностям казалось страшнее смерти.
Света легла на диван и, закутавшись в плед, задремала. Ей снилось, что звонит телефон, а она никак не может добраться до него, чтобы снять трубку. Она повернулась на другой бок и вдруг отчетливо поняла, что это не сон. Телефон трезвонил настойчиво и громко. Вскочив с дивана и путаясь в пледе, она бросилась на кухню.
— Алло, алло! — закричала она, задыхаясь.
— Ты что, зарядку делаешь? Почему так запыхалась?
Светино сердце заметалось в груди и рухнуло куда-то вниз.
— Ваня, Ванечка… — прошептала она. — Ты где был все это время?
— Какое время? — засмеялся Иван. — Всего два дня прошло. У меня дел по горло.
— Приезжай, пожалуйста, — попросила Света.
— Сейчас. Немедленно. Я тебя так жду…
— Ну, ладно, сейчас приеду, — спокойно согласился Иван. — У тебя номер квартиры какой?
Иван нажал пальцем на рычаг, продолжая держать в руке трубку.
— Та-ак… — задумчиво произнес он и глубоко затянулся. Серый столбик пепла на сигарете надломился и упал на кушетку. Иван равнодушно наблюдал, как маленький огонек прожигает дырку в зеленой обивке. — Та-ак… — еще раз протянул он.
В комнате стоял полумрак. Свет фонарей, проникающий с улицы, освещал кушетку, стул с оставленной на нем чашкой кофе и книжные полки. Больше никакой мебели в комнате не было. По стенам на гвоздях болталось несколько вешалок с одеждой. Иван встал и, прихватив с собой телефон, отправился на кухню. Здесь царил немыслимый беспорядок — на столе вокруг печатной машинки были навалены горы исписанной бумаги вперемешку с грязной посудой и остатками пищи. К стене скотчем был приклеен большой лист бумаги с телефонами. Иван поискал глазами номер своего школьного товарища Готлиба.
— Та-та-та-та, — пропел он и несколько раз повернул телефонный диск.
— Алло! — отозвался энергичный, но деловой голос.
— Лев Борисович?
— Он самый.
— Привет, старичок.
— Ваня, ты? — обрадовался голос. — Вот не ожидал! Сколько лет! Как живешь, писатель?
— Да ничего, вот только нищета заела.
— Что, плохо платят вашему брату?
— Да вообще не платят. Я последний гонорар три месяца назад получил.
— А как же ты живешь?
— Да я и сам не знаю.
— Слушай, если тебе помочь надо, говори.
— Я за этим и звоню.
— Сколько? — Голос стал напряженным.
— Да я не за деньгами.
— А за чем же?
— Ты ведь у нас специалист по международному праву, верно?
— Мне узнать нужно… — Иван замялся.
— Давай, давай, выкладывай поскорее, — ободрил его Лев Борисович.
— Лев, ты мне скажи, если русская женщина разводится со своим богатым немецким мужем, ей что-нибудь причитается?
— Так-так… — усмехнулся собеседник. — Мы что же, теперь охотимся на богатых невест?
— Ты мне на вопрос ответишь? — спросил Иван.
— Отвечу. Если женщина разводится с богатым мужем, ей полагается ровно половина от имущества и капитала, нажитого в браке. Она замужем сколько лет?
— Лет десять.
— Ну, тогда она с пустыми руками наверняка не останется, если, конечно, брачного контракта нет. А дети есть?
— Есть. Дочка.
— В Германии родилась?
— Так вот, если она в Москву вернуться захочет, то ребенка присудят отцу. Ты ее предупреди, а то потом годами судиться будет, все деньги на это потратит и ничего не добьется. Я знаю, у меня таких заявлений полно.
— Хорошо, предупрежу. Спасибо, старичок.
— Вань, а теперь ты мне скажи: неужели из-за денег? Ты же всегда таким идеалистом был. И потом, как же Лариса? Она ведь этого не переживет.
— Ларисе жизнь нужно устраивать. Что я ей могу предложить? Мою нищету помножить на ее, и получится нищета в квадрате. А что касается моего идеализма, то в процессе жизни он здорово поистрепался. Я теперь на вещи смотрю практически. Я влюбился, но ее богатство, безусловно, входит в образ. Она спокойная и независимая. По жизни плывет — отдыхает, ну и я хочу отдохнуть рядом с нею. Все, пока, мне пора! — Иван положил трубку, сорвал с гвоздя куртку и вышел из квартиры.
— Ваня, Ванечка… — шептала Света, принимая душ, подкрашивая ресницы, судорожно наводя порядок в квартире. — Ваня, Ванечка…
Уже через двадцать минут она при полном параде уселась в кресло и стала ждать. Нет, время решительно не хотело двигаться с места. Это было невыносимо. Она включила телевизор — не помогло. Внутри все звенело от нетерпения. Сварила кофе, закурила, посмотрела на часы. Прошло всего десять минут. Невероятно! «Надо домой позвонить», — подумала Света и схватилась за телефон. С третьей попытки дрожащими руками набрала номер.
— Алло! — раздался в трубке голос Марины. Света решила, что от волнения перепутала номер, положила трубку, набрала еще раз.
Опять Марина?!
— Марина, это ты?
— Я думала, что ошиблась номером.
— Нет, ты не ошиблась.
— Что ты делаешь у меня дома? — поинтересовалась Света, с удивлением отметив, что ненависти к подруге никакой нет.
— Пасу твоего ребенка.
— А где Маргарита?
— Сбежала.
— А Даниель дома?
— Нет, и Маши тоже нет.
— Хорошо, я позвоню попозже.
Света положила трубку. Нет, все же, что она там делает? Страшная догадка сжала сердце. Господи! Неужели он… Ужас, холодный и липкий, как жидкая глина, залепил ее душу. Все было ясно: Марина, воспользовавшись отсутствием подруги, окончательно заняла ее место. Окончательно — значит, навсегда.
В дверь звонили давно и настойчиво, но Света, словно окаменев, не двигалась с места.
Слепой массажист
— Скажи мне, какая ты? Ты — красивая?
— У тебя — прозрачная кожа? И глаза — огромные, темные с длинными пушистыми ресницами?
— Я люблю тебя! Я люблю тебя так, как не любил никогда никого! Я даже не знал, что бывает такое чувство, и я так несчастен из-за этой своей любви!
Валера то обнимал Людмилу, то страстно целовал ее лицо, плечи, то вдруг начинал ее ощупывать с ног до головы. Его широко открытые глаза блуждали, взгляд не держался на одной точке, зрачки расфокусированы, отчего создавалось впечатление, будто каждый глаз живет сам по себе.
Валера был слеп, и эта слепота заслоняла от него образ возлюбленной. Это было невыносимо, непостижимо, жестоко.
Иногда ему казалось, что вот стоит выбрать в черном пространстве, окружающем его уже больше двадцати лет, маленькую точку, и хорошенько сосредоточиться на ней, как в этой точке появится свет, и, если зацепиться за это световое пятно, то оно будет с каждым мгновением становиться все больше и больше, и наконец в этом сияющем пространстве он сможет разглядеть Люду.
Одной секунды, одной только секунды ему бы хватило на всю оставшуюся жизнь. А потом он бы безропотно жил до конца своих дней в мягком бархате слепоты и никогда бы не сетовал на свою участь.
Он пытался представить себе Людино лицо и не мог. За двадцать лет он забыл, как выглядят женские лица. В его сознании остались только расплывчатые очертания внешнего мира, некие обрывки, штрихи, из которых ничего не складывалось.
Валера взял Людмилу за руку и повел к дивану. Он уверенно двигался по своей комнате, как зрячий.
— Девочка моя, моя единственная, ведь ты никогда не уйдешь от меня, правда?
Валера посадил Люду на диван и встал перед ней на колени.
Он в тысячный раз начинал исследовать своими невероятно чувствительными пальцами ее лицо, шею, волосы, дотрагивался до груди, проводил рукой по животу.
Людмила вздрагивала от его прикосновений, изгибалась всем телом, мучилась и боялась умереть от нахлынувшего на нее счастья. Счастье было таким внезапным, таким неожиданным. Людмила уже давно от жизни ничего не ждала. Ей было без малого тридцать пять, и за все эти годы ни один мужчина не взглянул на нее иначе, как с сожалением.
В комнате что-то скрипнуло, Валера прислушался.
— Шкаф! — угадал он. — Это шкаф. Иногда по ночам мне кажется, что оттуда кто-то выходит.
И действительно, дверца шкафа медленно поехала, распахнулась сама по себе, и в зеркале, привинченном к ее внутренней стороне, Люда увидела свое отражение. «Как хорошо, что он меня не видит!» — подумала она.
Когда Люде было двадцать пять лет, в ее жизни мелькнула секундная надежда. Она вспыхнула, как спичка в темноте, и тут же погасла.
В санатории, где она работала санитаркой, однажды появился мужчина лет сорока. Люда так долго ждала мужского внимания, что даже не успела понять, как оказалась с ним в каком-то складском помещении, где этот мужчина стал с обидной поспешностью расстегивать на ней кофту из толстого мохера. Он расстегивал пуговичку за пуговичкой, а Люда с такой же поспешностью застегивала их обратно. Наконец мужчина совершенно изнемог, уселся на какие-то мешки и, закурив, посмотрел на Люду с упреком.
— Ну чего ты, в самом деле? Жалеть же потом будешь. Все равно, кроме меня, на тебя никто не позарится.
Мужчина встал, поправил на себе брюки, подошел к Люде и, с сомнением глядя на ее лицо, произнес:
— М-да, уж лучше бы ты была уродом, и то было бы интереснее…
И наверное, ничего более точного нельзя было сказать о ее внешности.
Все в ней было какое-то дебелое, рыхлое, глупое. Бесцветные глаза навыкате, обрамленные жесткой щеткой таких же бесцветных ресниц, толстые губы, обвисшие, тоже безо всякого оттенка выразительности, широкая фигура, бесформенная.
Люда была добрым человеком, но и доброта ее казалась какой-то придурковатой, бессмысленной. Коллеги привыкли относиться к ней с этаким снисходительным высокомерием. Ее не просили об одолжении, а как бы делали одолжение, складывая на нее свои обязанности.
И Люда безропотно принимала все.
— А что, — говорила она, оставаясь за кого-то на дежурстве, — у них семья, жизнь, а мне все равно идти некуда.
И действительно, все тридцать пять лет ей совершенно некуда было идти.
По жизни она двигалась не в каком-то определенном направлении, как это делают целеустремленные люди, а по замкнутому кругу, каждый день повторяя один и тот же маршрут.
Никакого протеста или недоумения относительно ее незадачливой судьбы в ее душе не было. Напротив, ей казалось, что все устроено вполне разумно. Не может же женщина с таким ужасным лицом на что-то рассчитывать. Спасибо и на том, что ей отведен скромный уголок в этом большом и серьезном мире, где она может жить, никому не мешая. И вот однажды в этом самом уголке, как будто загорелся свет, яркий, радостный. И вся Людина жизнь осветилась надеждой.
Валера появился в пансионате в конце осени.
Все было так грустно, так безнадежно в этот день. Из бесконечных коридоров старинного здания пансионата постепенно уходил дневной свет, и зимняя мгла заволакивала пространство за окнами.
Люда сидела на стульчике возле процедурной и пыталась побороть сонную дремоту, которая окутывала ее каждый раз с наступлением спокойного времени года, и вдруг она услышала какой-то странный звук. Легкое постукивание, доносящееся из конца коридора. Постукивание было неравномерным, как будто дятел сбился с ритма.
Люда мгновенно проснулась, и безотчетная радость наполнила ее сердце.
Она встала, пошла навстречу звуку и увидела, как из глубины коридора ей навстречу двигается человек высокого роста, с густым ежиком седых волос на голове и в непроницаемых темных очках, сидящих на носу несколько криво. Мужчина исследовал пространство перед собой палочкой, которая и издавала этот восхитительный звук.
Люда замерла, она даже перестала дышать, боясь вспугнуть слепого, но, несмотря на это, когда мужчина проходил мимо Люды, он вдруг остановился, внимательно прислушался и произнес куда-то в пространство:
— Здравствуйте!
Люда огляделась по сторонам, кроме нее, в коридоре никого не было, это «здравствуйте» было обращено к ней. Люда сложила на груди руки и вежливо поклонилась, мужчина тоже кивнул и пошел дальше.
С тех пор Людина душа зацвела нежным чувством.
Она никому не поверяла своей любви. Она охраняла ее от посторонних глаз и носила с собой, как некое сокровище, о существовании которого знала она одна.
Валера оказался слепым массажистом, и с его появлением обстановка в пансионате стала какой-то странной. К нему потянулась длинная вереница страдающих различными недугами женщин. Женщины часами ожидали своей очереди в коридоре, в то время как в соседнем массажном кабинете, где принимала массажистка Рая, не было никого.
— Конечно, — говорила Рая, презрительно глядя на посетительниц, — я же только массаж делаю.
И сотрудники понимающе переглядывались.
От таких разговоров Людино лицо покрывалось красными пятнами.
Невостребованность у мужчин сформировала в ней болезненную целомудренность, что являлось постоянным предметом насмешек сослуживцев.
— Во, во, смотрите, ща в обморок упадет! — хохотала грубоватая Рая, тыча пальцем в Людину сторону. — Люд, а Люд, ты бы хоть из любопытства откупорилась, а то ведь так и в могилу сойдешь целехонькая. Обидно все-таки!
Люда чувствовала, как у нее на глазах наворачиваются слезы, и, дабы никто не заметил ее слабости, она быстро пряталась в процедурной. Оставшись одна, Люда давала волю слезам. Ей было обидно, но не за себя. Она страдала за Валерия Степановича. В ее глазах, он был чистейшим человеком, чуть ли не святым мучеником, которого все эти люди, с их грязными шуточками, были просто недостойны.
За те недолгие месяцы, которые Валерий Степанович работал в санатории, Люда сумела стать для него чем-то вроде среды обитания. Так, для рыбы, например, средой обитания является пруд, и без воды она начинает задыхаться. Валерий Степанович тоже испытывал что-то вроде удушья, когда подолгу не чувствовал рядом с собой молчаливого, мягкого и доброжелательного присутствия санитарки Люды.
Она никогда не докучала ему ненужными разговорами, она просто опережала движения его рук. Бывало, он потянется за полотенцем и тут же чувствует прикосновение мягкой ткани. Хочет включить кран, чтобы помыть руки, а из крана уже льется теплая вода.
Казалось, что темное пространство вокруг него населено добрыми духами. Он еще никогда не чувствовал себя таким уравновешенно-счастливым.
И как ни странно, это состояние душевной гармонии было настолько высокого порядка, что он никак не связывал его с присутствием в его жизни женщины. И действительно, нельзя же полюбить среду обитания.
Судьба Валерия Степановича до знакомства с Людой выписывала причудливые кульбиты.
Когда в его жизни все было вроде бы неплохо, он был ужасно несчастлив, а последнее время — слепой и одинокий, он почему-то чувствовал себя вполне состоявшимся человеком.
Правда, эта устойчивая позиция в жизни далась ему дорогой ценой.
В двадцать два года Валера был молодым, подающим большие надежды офицером. И в этом же возрасте он женился на девушке, которая была первой красавицей военного городка. Ее звали Наташенькой, и она была блондинкой с большими карими глазами, нестерпимо пухлыми губами и фигуркой примитивной, но таящей в себе намек на большие удовольствия. Внутри этого развратного и лживого существа не было ровным счетом ничего, все напоказ.
Все свое детство и юность Валера провел в казарме, в двадцать лет он был совершенно не искушен в вопросах любви, поэтому первый же поцелуй, которым Наташенька одарила его походя, сделал из Валеры абсолютного безумца.
Он стал преследовать предмет своей страсти денно и нощно, на что Наташенька реагировала неоднозначно: она то допускала Валеру до себя, и всякий раз в момент близости была образцом нежности и страсти, то вдруг исчезала из его жизни, и он начинал метаться, как дикий зверь, совершенно изнемогая от ревности.
Товарищи по службе пытались образумить Валеру, мягко намекая на то, что эта женщина является чем-то вроде общественного достояния. Валера не верил никому, он верил Наташеньке, которая шептала мягкими губками:
— Ну что ты слушаешь, дурачок, они же завидуют.
И Валера не слушал.
Их отношения уже длились больше полугода. Все это время Валера преследовал ускользающее от него счастье с неподражаемым упорством. Он клялся в любви, грозился, даже пробовал применять силу, что всякий раз приводило Наташеньку в чувственный экстаз.
Наконец, исчерпав все аргументы и ничего не добившись, Валера нарвал в сквере сирени и заявился к ней с предложением руки и сердца.
И здесь, надо отдать должное, Наташенька проявила редкое благородство. Она окинула печальным взором благоухающую чувственным ароматом сирень и произнесла даже с некоторым глубокомыслием:
— Ты что, дурак, что ли? Разве на таких, как я, женятся?
Валера не внял благоразумному наставлению невесты, и свадьба состоялась ровно через два месяца.
На свадьбе гулял весь военный городок, и собравшиеся так и не смогли решить, кто из двоих красивее — жених или невеста. В самом деле, Валера в черном гражданском костюме, высокий, сильный, с открытым волевым лицом, ничуть не уступал в красоте своей новоиспеченной супруге.
Свадьба была последним счастливым днем в Валериной жизни, а потом начался длинный мучительный путь к катастрофе, которая перевернула все вверх дном.
Выйдя замуж за Валеру, Наташенька не пожелала менять ровным счетом ничего. Она продолжала вести образ жизни похотливой самки, нисколько не таясь от мужа. На все Валерины замечания ответ был один:
— Я тебя предупреждала.
Валера бился в тесных сетях собственной страсти, как пойманный сом.
Все происходящее с ним было настолько абсурдно, что он постепенно перестал ассоциировать себя с человеком, пребывающим в этой дикой ситуации.
Ему казалось, что он — посторонний наблюдатель, с ужасом глядящий на невероятное развитие событий. Это мучительное раздвоение личности удавалось привести в некоторое равновесие с помощью известного русского средства.
Валера стал выпивать. Поначалу ничего особенного в этом явлении никто не заметил.
— Ну, мужик расслабляется, — говорили коллеги. — С такой женой немудрено…
Но спираль событий, закрученная чьей-то ловкой рукой, разворачивалась с такой скоростью, что даже начальство забило тревогу, когда однажды Валера, неизвестно откуда раздобыв пистолет, стал бегать по поселку, грозясь перестрелять всех любовников жены, что вызвало нешуточную панику у большей части мужского населения военного городка.
Рано или поздно все это обязательно закончилось бы тюрьмой, если бы Валерины любовные эскапады не были прерваны еще более трагическим событием.
Однажды в разгар лета Валера с двумя офицерами решил выехать на пикник на Волгу: благо военная часть находилась недалеко. По дороге, прямо у вокзала, они купили копченой рыбки, три бутылки водки, еще какой-то снеди и, уютно устроившись на берегу, развели костерок и принялись пиршествовать. Сидели долго, пока не стемнело. Погода была теплой, вода с тихим плеском ластилась к песчаному берегу, деревья выдыхали озон.
— Эх, мужики! — воскликнул Валера, переполненный такой небывалой красотой окружающего мира. — Пойду-ка я окунусь!
Он быстро скинул с себя одежду и, вздрагивая красивым, мускулистым телом, вошел в воду.
Впереди, над гладкой поверхностью черной реки, дрожали огоньки расположенной на другой стороне деревни.
Валера радостно вздохнул, опустился с головой под воду и поплыл.
Когда он через короткое время вынырнул, то огоньков на другом берегу не было.
И не было вообще ничего.
Вокруг стояла кромешная мгла.
Валера с силой тряхнул головой, чтобы сбросить наваждение, но от этого ничего не изменилось.
— Э… — крикнул Валера.
Он крикнул очень тихо, потому что ему было страшно, как во сне, а во сне, как известно, шуметь нельзя.
Он покружился в воде, дна под ногами не было, и Валера не мог определить, в каком направлении ему плыть.
— Э… — крикнул он еще раз и услышал доносящийся из некоторого отдаления смех друзей.
«Смеются, — подумал он, — значит, не так все плохо».
Валера поплыл на этот смех с надеждой в душе. Ему казалось, что, как только он доплывет до берега, наваждение исчезнет и он увидит костер и сидящих у костра товарищей. Но на берегу не было ничего, кроме все той же непроглядной тьмы.
— Ребят! — позвал Валера. — Помогите выйти, я что-то ничего не вижу.
Потом послышался шорох песка под ногами, испуганное пыхтение ребят. Они подхватили его под руки и вывели на берег.
По дороге в больницу двое Валериных товарищей тоже лишились зрения.
— Пищевое отравление! — с каким-то остервенением закричал врач. — К нам каждый день таких, как вы, привозят. Учишь их, учишь! Теперь только на бога надейтесь.
На бога надеялись все трое, но зрение он вернул только двоим Валериным товарищам.
Почему всевышний на Валере остановил свой выбор, навсегда останется неизвестным. Когда Валера узнал, что больше никогда не увидит света дня, он по-деловому, без всякого сожаления, полез на подоконник, чтобы выброситься с седьмого этажа.
Его остановил врач. Это был мудрый пожилой человек, видавший всякое на своем веку. Он не хватал Валеру за пятки, не пытался удержать, он говорил тихим, спокойным голосом, в котором слышалось большое знание жизни. И Валера решил дослушать его до конца.
— Верьте мне, молодой человек, — произнес врач. — В жизни нет ничего страшнее смерти. А смерть… Ее приглашать не надо, она сама придет, когда время настанет. Впрочем, удерживать вас я не стану, решайте сами.
И все, больше он ничего не сказал, вышел из кабинета и закрыл за собой дверь.
Валера, стоя на подоконнике, услышал тихий щелчок закрывающегося замка.
Это было странно, очень странно, ведь если бы врач попытался его остановить, то, скорее всего, после короткой борьбы Валера бы все-таки пробил стекло и, пролетев несколько метров, уже лежал, бездыханный, на асфальте.
Своим уходом врач как бы лишил Валеру воли к поступку. Ему сделалось страшно. Медленно, боясь не удержать равновесия, Валера нащупал ногой край подоконника, спрыгнул на пол, и больше мысли о самоубийстве никогда не посещали его.
Вопреки всем ожиданиям, Наташенька осталась при ослепшем муже. С самоотверженностью, свойственной русским женщинам, она принялась обустраивать его жизнь. Валера, никак не ожидавший со стороны своей непутевой супруги такой жертвенности, совершенно обалдел. «Черт их разберет, этих женщин… — думал он. — Когда был здоровый, был не нужен, а теперь слепой, больной, сделался вдруг нужен!»
Первые несколько лет Валерино состояние оставляло желать лучшего. Чернота, в которой протекала его жизнь, давила со всех сторон, и его мысли лихорадочно метались в этом темном туннеле в поисках выхода. Примирение не наступало.
Все его существо рвалось, тянулось к свету. Наташенька, наивно верившая, что ее прелестями можно утешить любое горе, постоянно предлагала себя. Надо сказать, она с искренним увлечением играла эту возвышенную роль. Но Валере с наступлением слепоты все эти глупости стали совершенно неинтересны. Он раздражался, отталкивал от себя жену, все больше и больше поражаясь ее необузданной глупости.
Наташенька была разочарована. Она ждала признания, пламенной благодарности, а вместо этого перед ней день изо дня сидел на диване, уставившись в неведомое ей пространство, злой и некрасивый мужчина.
Наташенька заскучала.
И примерно в это же время, когда она заскучала, у Валеры появились слуховые галлюцинации. То ему мерещилось, будто кто-то посторонний ходит по комнате, то скрипнет кровать и затем раздастся сдавленный смех.
— Кто здесь? — вскрикивал Валера, хватаясь за голову, и тут же слышал легкую поступь босых Наташенькиных ног и затем чувствовал мягкое прикосновение ее ладошки к его щеке.
— Никого, никого… — шептала она. — Успокойся, мы здесь одни.
— Почему ты босиком? — спрашивал Валера, он уже научился различать звуки комнаты. — Ты что, спишь? Сейчас же день! Или уже ночь?
— Успокойся… — ворковала Наташенька. — Я просто прилегла, устала и прилегла.
Но все эти утешения на Валеру не действовали.
В его душе, ставшей чуткой, как птица, росла тревога. Он решил, что сходит с ума, и потребовал, чтобы жена записала его к врачу. Наташенька долго сопротивлялась, находила различные отговорки, но в конце концов сдалась и отвела мужа в поликлинику.
Оставшись наедине с врачом, Валера долго рассказывал о симптомах своего помешательства. На протяжении всего этого разговора врач угрюмо молчал, так что Валере стало казаться, что нет никакого врача, что он один в комнате.
— Э, здесь есть кто-нибудь? — испуганно крикнул Валера и напряженно прислушался.
— Есть, конечно, есть… — послышался грустный голос врача. — Я вас внимательно выслушал и хочу сказать следующее — вы абсолютно нормальны.
— А галлюцинации?
— Да никакие это не галлюцинации, наивный вы человек.
— А что же?
— Валерий Степанович, я понимаю, для вас будет очень тяжело это услышать, но так продолжаться не может, потому что об этом говорит вся часть.
— О чем? — Валера выпрямился.
— Валерий Степанович, — врач взял его за руку, — ваша жена, пользуясь вашим положением, водит домой мужчин. Так что это не галлюцинации. Звуки, которые вы слышите, имеют реальное происхождение.
Валера почувствовал, как из него на мгновение выпорхнула жизнь, подрожала-подрожала в воздухе и потом опять вернулась на место.
— Вам надо с этой женщиной разойтись, она вас погубит.
— Я инвалид, я один не смогу… — произнес Валера глухим голосом.
— Сможете! — возразил врач. — Сейчас открылась при военной академии специальная школа, где инвалидов по зрению обучают массажу. Там все обустроено, и жить вы сможете бесплатно. Если хотите, я походатайствую. Хотите?
Валера тяжело кивнул.
История с Наташенькой оставила в душе Валеры глубокий, уродливый след. Он решил, что больше никогда не сможет полюбить женщину. Теперь они все казались ему лживыми, злобными, пустыми.
Совсем не так обстояло дело с самими женщинами. С тех пор как Валера стал работать массажистом, он явно почувствовал, что пациентки под его пальцами ведут себя неадекватно.
Поначалу Валера не мог распознать неоднозначных намеков и только дивился тому состоянию неги и томления, в которое впадали всякий раз его подопечные во время массажа.
Душа Валеры, чтобы выжить, омертвела, но тело продолжало жить своей циничной повседневной жизнью, и в скором времени Валера научился пользоваться преимуществами, которые несла с собой его специальность и слепота.
Он никогда не делал первого шага, но всегда чувствовал расположенность пациентки. Он их не видел, и в этом заключалось какое-то особое, неистовое удовольствие — бесконтрольная, свободная радость соития охватывала его и то другое, неизвестное ему существо, находящееся по другую сторону этой радости.
И ни разу, ни разу у него не возникло желания прозреть, чтобы увидеть хоть одну из них. Он всех их презирал, он даже не спрашивал их имени.
Однажды вечером, когда прием уже закончился, дверь в Валерином кабинете тихо скрипнула, и кто-то вошел в помещение. Сначала Валера подумал, что это Люда, и по его лицу пробежала неровная улыбка. Но уже через секунду он услышал тихий щелчок, потом еще один — кто-то закрыл замок на два оборота.
— Кто здесь? — Валера встал и тут же почувствовал, как его обхватывают женские руки.
В нос ударила удушливая смесь запаха табака, пота и дешевых духов. «Рая…» — догадался Валера и попытался высвободиться, но Рая вцепилась в него железной хваткой.
— Ну, давай, давай! — возбужденно шептала она. — Чего ты? Всем можно, а мне нельзя, что ли? Я, вон, уже пять лет как без мужика сижу.
Она попыталась расстегнуть на нем брюки, но Валера схватил ее за руки.
— Рая, — сказал он, устремив невидящий взгляд в потолок, — я на работе такими вещами не занимаюсь. И вообще, может быть, вы, прежде чем меня раздевать, разрешения спросите?
— Валер, ну ты чего, я же по-хорошему! — растерялась Рая. — Другие-то у тебя тоже разрешения не спрашивают! А здесь все-таки коллега.
Валера опешил. Он был уверен, что его интимная жизнь остается сокрытой от посторонних глаз.
— Другие? Какие другие?
Уловив некоторую растерянность в голосе Валеры, Рая пошла в наступление, она уперла руки в боки и визгливо закричала:
— А ты что думаешь, здесь все дураки, что ли?! Весь пансионат только и говорит о твоих похождениях! Подумаешь, какой недотрога! Ты здесь с такими крокодилами якшаешься, что со мной должен еще за счастье почесть.
В дверь тихо постучали.
— Валерий Степанович, у вас все в порядке? — послышался настороженный голос санитарки Люды.
— О! — завопила Рая и бросилась открывать. — Твоя вздыхательница пришла!
Дверь распахнулась, на пороге стояла Люда, бледная как мел.
— Ну, давай заходи! — пригласила Рая. — Может, он тебя наконец оприходует.
Люда сделала шаг и оказалась в комнате.
— Во, парочка! — захохотала Рая. — Слепой и убогая! — Она выскочила из кабинета и нарочито громко, чтобы привлечь всеобщее внимание, стала выкрикивать что-то непотребное.
Когда Раин голос смолк, в кабинете Валеры воцарилась такая тишина, что Валере казалось, будто он слышит биение Людиного сердца. А потом эта тишина наполнилась такими прерывистыми, до боли трогательными звуками.
— Что это? — испугался Валера.
Он подошел к Люде, обнял ее и прошептал:
— Ты что, плачешь? Не надо. Из-за меня еще никто никогда не плакал.
В ответ Люда уткнулась носом в его грудь и надсадно всхлипнула.
Валера почувствовал, как его душа вздрогнула, как после глубокого обморока, и наполнилась чем-то неведомым, чарующим, нежным. Он впервые обнимал женщину и не презирал ее, напротив, ему хотелось спрятать ее в себя, чтобы защитить от злого и глупого мира. Валера наклонился и поцеловал Людино лицо — оно было мокрым от слез и мягким.
Потом он стал ощупывать ее глаза, щеки, шею.
Люда стояла, не шевелясь, она боялась даже вдохнуть, потому что ей казалось, что любое движение может вспугнуть эту фантазию, которая на мгновение стала явью. Она даже помыслить не могла, что такой человек, как Валера, может полюбить ее, простую санитарку, да еще такую глупую, некрасивую.
А Валера, потрясенный собственным чувством, продолжал исследовать ее лицо.
— Какая ты красивая… — наконец прошептал он. — Я хочу тебя увидеть!
— Нет, не надо! — вырвалось у Люды.
— Я не такая, как ты думаешь.
— Я знаю, ты не такая, ты в тысячу раз лучше.
Валера взял ее одной рукой за подбородок, другой нащупал губы и поцеловал.
Это был совершенно новый поцелуй — не жадный, зовущий, мгновенно взвинчивающий острое желание, это был поцелуй тихий, спокойный, умиротворяющий — поцелуй женщины, которую никто никогда не любил.
Это прикосновение было похоже на прикосновение прохладного компресса к воспаленной голове.
Валера ощутил, как все в нем улеглось, успокоилось.
Он вдруг с удовольствием подумал, что уже не молод и что большей части жизни, оставшейся позади, не жаль, потому что она была пустой, в ней не было Люды, а значит, вообще ничего не было, и что отныне он будет проживать каждый день так, как будто утро — это рождение, а вечер — смерть.
То есть каждый день станет для него отдельной маленькой жизнью с Людой.
Люда, никогда не ведавшая счастья, совершенно не понимала, как быть с такой великой задачей. Она любила Валеру до полного самозабвения. Все ее мысли и чувства оживали при звуке Валериной палочки и умирали, как только этот звук отдалялся даже на незначительное расстояние.
Ей стала ненавистна Валерина работа. Ее постоянно терзала болезненная ревность при мысли о том, что его руки, такие чувственные руки, касаются тела другой женщины.
— Ну что ты, глупенькая! — успокаивал ее Валера. — Мне, кроме тебя, никто не нужен. Ты — мой покой, ты — мое счастье.
Эту мысль Валера вкладывал в Людино сознание каждое утро до тех пор, пока Люда не начала верить, и тогда вся ее унылая фигура осветилась божественным светом любви, и, вся облитая этим нежным свечением, она шагала на работу, торжественно держа под руку свою судьбу.
При этом ей казалось, что воздух, деревья, люди вокруг нее, все должно ликовать и радоваться вместе с ней.
Иногда она внезапно останавливалась посреди улицы.
— Что случилось? — спрашивал Валера, чутко приподнимая вверх подбородок. — Почему ты остановилась?
— Мне их так жалко, — произносила Люда.
— Каких людей?
— Всех, всех людей, живущих на земле.
Она провожала печальным взглядом несущихся мимо нее прохожих с серыми угрюмыми лицами, с тяжелыми сумками, в которых они все тащили и тащили что-то по домам, и ей было ясно, что ни один из них никого не любит и их не любит никто.
— Они все такие несчастные… — бормотала она, и на глазах у нее наворачивались слезы.
— Да с чего ты взяла? — смеялся Валера. — У каждого человека есть свое маленькое счастье. У кого-то — побольше, у кого-то — поменьше.
— Нет! — возражала Люда. — Ты так говоришь потому, что ты их не видишь. Они все такие темные, да, погасшие, как покинутые дома. И все они мечтают об одном, чтобы рядом был родной человек, который их понимает. Почему, почему такая, самая простая вещь на свете ни у кого не получается?
В то время как Валера с Людой витали где-то в им одним доступных пределах, в процедурной, разложив на массажном столе обед, мечтала о самой простой вещи на свете массажистка Рая.
Ее жизнь до последнего времени складывалась ровно и отвратительно, то есть не было в этой жизни ничего, о чем она могла бы вспомнить с удовольствием.
Прежде Рая никогда об этом не задумывалась. «Ну а чего думать о какой-то ерунде, все так живут. Кто-то с семьей мучается, кто-то — без семьи. А вон Людка и вовсе как перст — сирота казанская, и ни один нормальный мужик к ней даже не приблизится!» И именно эта мысль о Людке, о ее глобальном пугающем одиночестве, как выяснилось, была спасительной.
То есть Людка служила тонкой мембраной между Раей и крайней точкой одиночества.
Людину любовь Рая восприняла как бунт на корабле, как какое-то форменное безобразие восприняла она этот смехотворный союз. От созерцания чужого счастья ее душа скукожилась, и сердце то и дело неприятно сжималось от зависти.
«Тоже мне, — с нездоровым ехидством думала Рая, — и у меня в жизни были счастливые моменты…» — после чего ее мысли начинали блуждать в воспоминаниях. Ей так хотелось нащупать нечто сопоставимое той радости, которой была разукрашена Людкина физиономия.
И однажды как результат этих усилий на поверхность ее сознания вдруг выплыл торт «Полет», который она получила пять лет назад в подарок от сотрудников. На шоколадной поверхности белым кремом было написано — «Поздравляем Раю с 30-летием». Помнится, в тот день по пути домой, поднимаясь по железнодорожной лестнице, она споткнулась и попала кулаком прямо в «Поздравляем Раю».
И получалось так, что это было самым большим потрясением в ее жизни, потому что, как ни старалась Рая вспомнить еще хоть что-нибудь, из этого ничего не получалось — торт «Полет» заслонял собой все остальные воспоминания. Видимо, это была защитная реакция организма, потому что все остальное было совсем никуда не годным.
Рая была женщиной точно такой же, как все, не хуже и не лучше. У нее было мясистое лицо с маленькими утопленными глазками и небольшим поджатым ротиком, тщательно вымазанным красной помадой. На голове огненным цветом полыхала шестимесячная завивка с отросшей на корнях сединой. Вся ее фигура могла бы аккуратно уместиться в квадрат.
Впрочем, в молодости Рая была кокетливой и заводной. Мужчинам это нравилось, и Рая думала, что надо хватать, пока не поздно. И до тридцати лет она хватала всех, кого ни попадя. К тридцати годам поток кавалеров стал истощаться, а после этой роковой даты и вовсе оскудел. Иногда ей удавалось перехватить того или иного мужичка благодаря массажу, но все эти романы мгновенно заканчивались, даже не успев начаться. Но и к этому Рая могла бы относиться по-философски, если бы не ежедневное мелькание перед ее носом этой неуемной санитарки с ее слепцом.
А Люда даже как будто похорошела за последнее время и не как будто, а точно похорошела, похудела, что ли, порозовела как-то, расправилась. И ходит теперь не как раньше, как будто мешок на себе тащит, а прямо газелью молодой скачет.
«Для кого старается, дура! Он же слепой, все равно ничего не видит. И вообще, кому он такой нужен, глаза болтаются, как на ниточках! Тьфу ты, страшно смотреть!» — и вот в этом самом пункте Раин отлаженный ход мыслей давал сбой.
Не получалось у нее додумать до конца, какой Валера никудышный. Видимо, в нем что-то такое есть, раз бабы по нему с ума сходят. И ей становилось до слез обидно, что это что-то разглядела не она, а Людка.
И если прежде Раину плоть при виде Валеры будоражили шаловливые желания, то теперь ее чувства переместились куда-то в область груди, и что-то там постоянно шевелилось, и давило, и рвалось наружу, не давая покоя.
С появлением в жизни Валеры Люды обстановка в Раином массажном кабинете несколько оживилась. Больные гражданки больше не считали Валеру непревзойденным массажистом. И все чаще находили себе утешение на массажном столе Раи. Здесь они изливали свою досаду на улизнувшего от их чар любовника, не стесняясь в выражениях. И Рая с затаенным сладострастием выслушивала рассказы о том, какое это счастье — слепой любовник.
— Да еще такой! — при этом рассказчица многозначительно закатывала глаза.
Но Рая этого не видела, она видела перед собой только заплывшую жиром спину, которую месила с остервенением, как тесто, видела затылок, в который так и хотелось вцепиться, и чувствовала, как в ее груди зреет что-то жуткое, темное, и нет от этого чувства спасения ни днем, ни ночью.
Тем временем на улице наступила весна.
Окна сияли вымытыми стеклами, и через распахнутые форточки в коридоры пансионата проникал нестерпимо нежный и чувственный запах цветущего тополя.
Пансионат начал пополняться отдыхающими.
Между этими людьми в белоснежном халатике, в шапочке, со стопкой чистых простыней в руках мелькала санитарка Люда, и было в ней что-то такое, что заставляло людей останавливаться и долго смотреть вслед ее удаляющейся фигуре.
— Странно… — бормотали некоторые мужчины. — Некрасивая, а ведь что-то такое есть…
Раньше Люда старалась никогда не улыбаться, потому что ее улыбка сильно оголяла розовые десны, и ей казалось, что собеседнику это неприятно. Теперь же улыбка не сходила с ее лица, и никто не замечал ее десен, напротив, все улыбались в ответ.
Каждое утро Люда с Валерой приходили на работу вместе, и каждый вечер рука об руку шли домой.
Раино терпение лопнуло, когда однажды она увидела Люду выходящей из гинекологического кабинета.
Страшная догадка поразила ее.
— Заходите, раздевайтесь! — крикнула она стоящей на пороге пациентке. — Я сейчас…
И ринулась вслед за Людой.
— Люд! — крикнула она, задыхаясь от бега. — Люд!
Люда остановилась, и когда она обернулась, то Рая увидела такое выражение на ее лице, что лучше бы уж она была слепой и не видела вообще ничего вокруг, чем увидеть это лицо, осененное таким счастьем, такой непостижимой внутренней гармонией.
— Люд, ты чего, залетела? — прокашляла Рая, она никак не могла отдышаться.
— А ты откуда знаешь? — удивилась Люда, она оголили свои глянцевые десны.
— Так ты же только что у Галины Васильевны была, а к гинекологу так просто не бегают.
— Ой, Раечка! — Люда обняла Раю и прошептала ей в самое ухо: — Я такая счастливая! Наверняка мальчик будет, такой же красавец, как Валерий Степанович.
Потом она еще раз улыбнулась этой своей отвратительной улыбкой, поцеловала Раю и пошла по коридору какой-то совершенно новой, аккуратной походкой.
Раю как будто пригвоздили к месту.
«Я тоже, я тоже хочу мальчика… — думала она. — Я тоже хочу так по-идиотски улыбаться и радоваться жизни каждый день. А Людка эта — воровка, она у меня, можно сказать, мужика украла, я первая была у Валеры. Если бы не она, он бы меня полюбил».
Эта мучительная мысль захватила Раино сознание полностью. Она больше не могла ни говорить, ни думать ни о чем другом, кроме как о коварном предательстве своей коллеги.
Благо пациентки на массаже все время менялись. Они не знали ни Люду, ни Валеру, и каждой из них Рая могла излить свою душу. И все в одних и тех же словах, в одних и тех же словах. Так что к концу рабочего дня в ее голове, как в барабане, крутился до отвращения заученный текст. И даже когда она ложилась спать, то все никак не могла избавиться от этих навязчивых, разъедающих мозг мыслей.
Избавление пришло в лице старухи, у которой кожа висела по всему телу длинными пустыми мешками, как у питекантропа. В Раином сознании люди распределялись по категориям состояния их кожи. Это была самая трудная категория — делать массаж человеку, на котором все болтается, тяжело и неприятно.
Поэтому Рая как-то очень кратко и скомканно поведала старухе историю своей любви и дальше продолжала работу молча. Но тут заговорила старуха прямо в дырку в массажном столе, в котором располагалось ее лицо. Голос у нее был глухой и темный, как ночь, так что Рая даже испугалась.
— Тебе надо на нее порчу навести… — проскрипела старуха.
— На кого? — не поняла Рая.
— На разлучницу твою. На кого же еще?
— А… — Рая ощутила где-то под ложечкой ледяной холод, и в то же время мрачная радость распространилась от сердца по всему телу. — А как ее наводят-то, порчу? Я не умею.
— Конечно, не умеешь! — Рая уловила в голосе старухи усмешку. — Здесь специалист требуется.
— А где же я его возьму-то, специалиста?
Старуха тяжело заворочалась, массаж был закончен, она попыталась встать.
— Давайте я вам помогу! — услужливо подставила свое плечо Рая.
Старуха села, ее лицо оказалось таким же обвисшим и страшным, как тело.
— Приходи ко мне вечерком.
— Дай-ка сумочку.
Рая подала старый потрескавшийся ридикюль, и старуха извлекла из него новенькую, глянцевую визитную карточку.
— Вот, — протянула она карточку Рае, — там все написано, жду. Да, и деньги с собой принеси, три тысячи, я бесплатно ничего не делаю.
По пути к ворожее Раю бил радостный озноб.
Ее болезненная ненависть к Люде стала утихать, и мысли вырвались наконец из замкнутого круга и потекли по сладостному пути мести. И месть свою она начала с того, что три тысячи, необходимые на оплату обряда по нанесению порчи на Люду, заняла у самой же Люды, испытав при этом злостное удовольствие.
Вообще, надо сказать, что с момента появления в массажном кабинете этой старухи Рае стало казаться, будто она — это не она. Будто всеми ее мыслями и поступками руководит какое-то третье лицо. И в этом мистическом ощущении в себе чьей-то воли она усматривала высшее назначение. Вроде самой ей такое и не пришло бы в голову, но раз уж высшие силы вмешиваются, то как тут устоять!
К старухе путь был не близкий — трамвай, электричка, а там еще автобус.
Наконец, с трудом пробираясь через весенние топи, она подошла к черному деревянному домику, наполовину ушедшему в землю. Дом выглядел заброшенным.
Рая с удивлением посмотрела на визитную карточку, на которой золотыми буквами, изящным шрифтом с вензелями было выведено имя колдуньи — «Ада Карловна Варёнкина». А на обратной стороне вручную приписан адрес. Ошибки быть не могло, и Рая вошла во двор.
Дверь в избу оказалась раскрытой настежь. Рая робко перешагнула порог и крикнула:
— Здесь есть кто-нибудь?
Ответа не последовало.
Рая пересекла маленькую прихожую и приподняла тряпку, которая служила неким подобием занавески. Ее взору открылась крохотная каморка, посреди которой за столом сидела старуха с мертвым лицом. Помещение освещалось единственной свечой, и все это вызывало в душе Раи животный ужас.
Она так и застыла на пороге, не в силах шелохнуться.
— Что встала, проходи… — послышался голос, как будто из потустороннего мира.
Рая, как загипнотизированная, сделала пару шагов.
Приведенный в движение воздух, шелохнул свечу, и по лицу ведьмы поползли страшные тени.
— Деньги принесла? — спросила Ада Карловна.
Рая, от испуга потерявшая дар речи, только кивнула.
— Давай! — Старуха протянула вперед руку.
— Я сейчас, сейчас… — трясущимися руками Рая достала кошелек, отсчитала три тысячи. — Вот.
Рука цапнула деньги, и тут же, на глазах у Раи, они куда-то исчезли, как у фокусника. Рае захотелось сесть, она огляделась, но стул в комнате был только один, и на нем сидела Ада Карловна.
И вообще складывалось такое впечатление, будто в этом доме никто не живет. Ни мебели, ни посуды, все в полном запустении.
— А теперь слушай меня внимательно, — заговорила ворожея. — Вот тебе зелье… — она достала откуда-то из складок юбки маленький тряпичный мешочек. — Это травяной напиток, он уже заворожен. Будешь читать над ним всю ночь молитву. Вот текст… — она подала Рае аккуратно сложенный листок в клетку. — А утром заваришь и дашь выпить злодейке.
— А дальше что?
— А дальше будет она мучиться, а ты радоваться.
— А она не помрет?
— А это уж как там, наверху, распорядятся. Ты молитву-то для чего читаешь?
— Для чего?
— А для того, чтобы все было по справедливости. Если у нее перед тобой грех большой, то и наказание большое будет. А то, может, и помрет.
За окном как будто раздался гудок автомобиля.
— Ну все, иди, иди! — заторопилась старуха. — Если что, приезжай, я всегда здесь.
Рая покинула дом вместе с Адой Карловной, и удивительным было то, что Ада Карловна, не закрыв дверь и даже не погасив свечи, вдруг шмыгнула куда-то в кусты, вместо того чтобы выйти вместе с Раей через калитку.
Вообще все это было в высшей степени странно, и весь обратный путь Рая пыталась привести к общему знаменателю свои мысли.
С одной стороны, у нее не осталось ни малейших сомнений в том, что она имела дело с настоящей колдуньей. А с другой стороны, соприкосновение с этим страшным и непонятным миром вызвало в ней такой ужас, что захотелось бросить все, отказаться от задуманного, и только мысль о потерянных деньгах не давала ей выкинуть к чертовой матери мешочек вместе с молитвой.
Придя домой, Рая расположилась на кухне, поставила на огонь чайник, и, разложив перед собой листок в клетку, прочла:
— Боже наш, еси на небеси…
Эти слова произвели на Раю сильное впечатление. Она налила в чашку чаю, сделала глоток и подумала — по адресу ли она вообще обращается?
Это было как-то странно, привлекать к подобным делам Бога.
Потом она стала читать дальше и быстро успокоилась, поскольку весь остальной текст состоял из бессмысленного набора слов, расположенных даже в некотором стихотворном порядке, что создавало убаюкивающий эффект. Так что до утра Рая не дотянула, уснула где-то посредине, прямо за столом.
Наутро она проснулась разбитая, но полная решимости. Вечерние сомнения и страхи рассеялись, и теперь в ее душе безраздельно орудовала старуха. Это она кипятила воду, заваривала зелье, наливала его в китайский термос с облезлым цветком. Это она испытывала злобное ликование по пути на работу. И это ей казались ничтожными и мелкими все людишки, которые выполняли свои ежедневные обряды — тряслись в автобусах, бежали по улицам и даже не подозревали, что краем соприкасаются со страшной тайной, налитой горячим густым отваром в китайский термос.
И Рая впервые в жизни ощутила себя чем-то значительным.
В ее сумке плескалась судьба другого человека, и эта мысль была настолько сильнее и выдуманной любви, и невыдуманной ненависти, что Рая совершенно освободилась и от того, и от другого, полностью сосредоточившись на своей великой миссии.
Этим утром Люда проснулась раньше обычного.
Причиной этому было странное ощущение, которое появилось на мгновение внизу живота и сразу исчезло. Она открыла глаза и настороженно прислушалась, ощущение не повторялось.
«Показалось, наверное…» — подумала Люда и повернулась на другой бок.
Но не успела она закрыть глаза, как в животе опять что-то потянуло, дернуло, и она отчетливо ощутила в себе что-то новое, непостижимое.
— Валера, Валера! — закричала Люда.
— Что, что случилось? — Валера подскочил в кровати. — Тебе плохо? Надо врача?
— Не надо никакого врача… — Люда обняла его и шепнула ему в ухо: — Он шевелится…
— Кто? — не понял Валера.
— Кто? Ребенок наш. Он только что впервые дал о себе знать. Господи! Какие же вы, мужики, несчастные — не можете всего этого почувствовать…
Валера был потрясен, он положил руку на Людин живот, и ему показалось, что все темное пространство вокруг него налилось светом, и в этом свете он отчетливо увидел Люду.
Иллюзия была такой силы, что Валера на мгновение подумал, будто он прозрел.
А потом все погасло, и Люду опять поглотила темнота, и в этой темноте опять сделалось невыносимо.
Валера обнял Люду, и вдруг из его слепых глаз впервые в жизни полились слезы.
— Я ведь никогда, никогда его не увижу… — бормотал Валера, всхлипывая. — И тебя я тоже не увижу никогда…
— Ну и что! — утешала его Люда. — Зато мы будем смотреть на тебя и радоваться.
На работу Валера и Люда, как всегда, ехали вместе. Они ехали молча, потому что боялись словами вспугнуть ощущение объединяющей их радости.
Сидя в своем массажном кабинете, Рая буквально тряслась от нетерпения. Посетителей не было, и не на что было отвлечься, а Люда, как назло, задерживалась, и Валера тоже.
«Уж не случилось ли там чего… — тревожилась Рая. — Не начала ли молитва прежде времени действовать?»
Наконец в коридоре послышался стук Валериной палочки, и Рая обмерла.
В этот момент ей стало ясно, что означает выражение — сердце захолонуло в груди. Сделалось жутко, но в то же время как-то по-дикому радостно.
Сейчас, сейчас все свершится.
А дальше Рая действовала с совершенно несвойственной ей изворотливостью. Крадучись, она подошла к двери и выглянула через маленькую щелочку в коридор. Прямо в открывшейся ей узкой полоске света стояли, обнявшись, Валера и Люда.
— Я тебя люблю… — прошептал Валера и поцеловал Люду в губы. — Давай пообедаем сегодня в скверике, на улице так тепло.
Эти простые слова произвели в Раиной душе что-то вроде взрыва. Ей никогда никто не говорил: «Давай пообедаем в скверике…» Никогда никто не целовал вот так — осторожно и нежно.
Теперь она была полна решимости уничтожить эту любовь, эту Людку вместе с ее приплодом, даже если за это ей придется сидеть в тюрьме или гореть в аду. Второе было как-то непонятно, поэтому пугало меньше, чем перспектива попасть за решетку. Но даже этот страх был не в силах остановить уже запущенный в ее мозгу механизм.
Дождавшись, пока Валера исчезнет в своем кабинете, Рая прокралась в коридор. Да-да, именно прокралась, потому что она чувствовала, как в ее движениях появляется что-то нечистое, заговорщическое. Она тихонько притворила дверь, подошла к Люде и тронула ее за локоть.
— Ой! — вскрикнула Люда. — Раечка, как же ты меня напугала!
— Привет! — Рая почувствовала, как ее маленький ротик искривила змеиная улыбка. — Ты как себя чувствуешь, Людочка, хорошо? — произнесла она с притворной заботой в голосе.
— Ой, хорошо! — улыбнулась Люда. — Вот ты представляешь, тридцать пять лет прожила, даже не подозревала, что так хорошо бывает. Дай бог тебе, Раечка, тоже такого счастья!
— Да я-то уж… — Рая махнула рукой.
— Нет! — Люда перехватила ее руку в воздухе. — Ты верь, что все будет хорошо. Знаешь, любовь — она как магнит. Если в тебе любовь есть, то к ней обязательно кто-нибудь прилипнет, и ты больше никогда не будешь одна.
Рае показалось, что вот сейчас, сейчас в ее груди лопнет самая важная струна, она разревется, обмякнет и не сможет довести до конца задуманное.
— Я тебе это, витаминный отвар приготовила… — заторопилась Рая, глотая комок в горле. — Меня бабка в свое время научила. Он хорош для беременных. Мы теперь всем миром твое дитя сохранять будем. Пойдем ко мне, пойдем, я этот чаек всю ночь для тебя готовила.
— Ой, да что ты, Раечка, не стоило ради меня. Может, позже? А то я опаздываю.
— Ничего, пять минут обойдутся без тебя… — бормотала Рая, подталкивая Люду к своему кабинету. — Ты сейчас чашечку выпьешь, а остальное я тебе в термосе с собой дам.
В кабинете Рая ловко распаковала термос, открутила крышечку и налила в нее отвар:
— На-ка вот, выпей.
Люда послушно взяла в руки стаканчик, подула и сделала глоток.
— Мм… вкусно… — пропела она и даже зажмурилась от удовольствия. — А что ты туда намешала?
— Ой, это долго рассказывать… — Рая поднесла термос к носу, поморщилась. — Там тридцать три травы предутреннего сбора.
«Откуда что берется… — подумала Рая. — Какой предутренний сбор?»
— А что, ты травы тоже сама собирала? — поинтересовалась Люда.
— Нет, травы я у одной старухи в деревне купила, еще осенью. Ты пей, пей… — Рая хотела подлить.
— Нет, Раечка, больше не могу — Люда поставила пустой стаканчик на стол, — спасибо тебе. А вот термос я с удовольствием с собой возьму.
Весь оставшийся день до вечера Рая пребывала в состоянии радостного возбуждения. Она как-то неестественно резвилась, то и дело выглядывая в коридор, чтобы посмотреть на Люду, не начало ли действовать зелье. Но Люда проплывала мимо нее все такая же счастливая и безмятежная.
— Ты чаек-то пьешь? — спрашивала Рая, восхищаясь собственным коварством.
— Пью, пью… — улыбалась Люда. — Уже почти весь выпила.
«Ничего, — со злорадством думала Рая, — к ночи ее скрутит, не может быть, чтобы не скрутило».
И к ночи действительно скрутило, только не Люду, а саму Раю. Все началось с того, что ей приснился сон. Страшный сон, который буквально вывернул наизнанку все Раино сознание.
Ей снилась Ада Карловна, но не в виде старухи, а в виде бесконечных складок дряблой кожи, в которых Рая блуждала, как в лабиринте. И откуда-то у нее было знание, что из этого душного, пропахшего старушечьим потом лабиринта ей уже не выбраться никогда. И это никогда будет длиться долго, очень долго, так будет проходить вечность. И осознав это, Рая закричала.
Она проснулась от звука собственного голоса.
В комнате было темно, на столе тикал будильник, в трубах старого дома что-то надсадно гудело, и ничего милее этих звуков Рая не слышала никогда. Они являлись живым подтверждением того, что это был всего лишь сон и что вот сейчас Рая перевернется на другой бок и ей будет сниться только приятное.
Так Рая и поступила.
Но не успела ее голова коснуться подушки, как комната с ее милыми сердцу предметами мгновенно исчезла, и Рая опять переместилась в небезызвестный лабиринт, и на сей раз ужас, охвативший ее, был такой силы, что Рая не могла даже закричать, и от этого никак не могла проснуться.
К утру она вырвалась наконец из ночного кошмара, открыла глаза и поняла, что пропала. Что этот сон будет сниться ей каждый день, до тех пор, пока она не умрет, и тогда он станет явью.
— Что я наделала… — прошептала Рая, засовывая ноги в тапки.
Она прошаркала на кухню, где из крана так буднично капала вода, поставила на огонь чайник и тяжело опустилась на табурет.
— Что я наделала… — Рая взялась руками за голову. — Это не я, не я сама, это проклятая старуха меня с панталыку сбила. Мне бы без нее такое даже на ум не пришло. И что же теперь? Она через меня свое бесовское дело сделала, а я расплачивайся! А может, ничего? Может, не подействует старухино зелье? — Раино сердце радостно дернулось в груди. — Я же молитву-то не всю прочла! Сейчас, сейчас побегу на работу, и если с Людкой все в порядке, то, значит, пронесло.
Рая стала быстро собираться и только на пороге, перед выходом из дома, вспомнила, что сегодня суббота, а значит, собираться ей некуда.
«Что же это теперь, два дня в неведении — ведь этак я до понедельника и не доживу…» — После нескольких часов мучений Раину голову наконец осенила гениальная идея.
«Как же я раньше не додумалась! — От радости Рая даже подпрыгнула на месте. — Я же вчера зарплату получила!» — Рая быстро сунула ноги в резиновые сапоги, поверх домашнего халата нацепила пальто и, подвязавшись платочком, выскочила из дома.
На улице шел дождь, было мрачно и холодно, как будто это не весна, а осень, но Раю это нисколько не огорчало, она неслась навстречу своему избавлению!
Теперь она точно знала, как можно все исправить.
«На каждый приворот есть отворот… — рассуждала она. — А значит, на каждый заговор должен быть и отговор». И за этим самым отговором она пустилась в дальний путь к Аде Карловне. «Я ей дам три тысячи, пять, сколько попросит, лишь бы сняла она с Людки эту ворожбу, чтобы я спать могла спокойно…»
Всю дорогу Рая тряслась от нетерпения. Время тянулось слишком долго. Ей казалось, что трамвай застревает на каждой остановке, электричка тащится еле-еле, а автобус и вовсе появляется раз в час.
Наконец, добравшись до места назначения, она рысью побежала по знакомому адресу. Дорогу от дождя развезло, сапоги застревали в грязи, но Рая не обращала никакого внимания на это. До домика ворожеи оставалось несколько шагов. Вот развалившийся сарай. Она еще в прошлый раз его заприметила, за ним — поворот налево, потом — мостик через ручей, небольшой пустырь и…
Рая остановилась с открытым ртом.
Вместо домика из земли торчали обгорелые деревяшки. Они были белесые от пепла, и в воздухе чувствовался запах гари.
Рая беспомощно зашевелила губами.
— Как же так, как же так… — бормотала она. — Что же мне теперь делать?
— Ты чего тут? — послышался сзади грубоватый женский голос.
Рая обернулась.
Перед ней стояла тетка в красном платке, в набухшей от дождя телогрейке, за руку она держала мальчишку лет шести. Во внешности матери и ребенка было что-то шельмоватое, что придавало им большое сходство.
— А я, я здесь старушку одну ищу… — обрадовалась их появлению Рая. — Вы ее наверняка знаете, ее Ада Карловна зовут, Варёнкина, она жила в этом доме.
— Да что ты, милая! — хохотнула тетка, и парнишка хохотнул вместе с матерью диковатым недетским смешком. — В этом доме уже лет десять как никто не живет. Его мужики намедни спалили, чтобы чужие не лазали, а то последнее время цыганьё повадилось, того и гляди детей покрадут…
Крестьянка повернулась и пошла прочь, а Рая еще долго смотрела ей вслед таким взглядом, каким провожают уходящую навсегда надежду.
Остаток субботы и все воскресенье Рая провела как в аду. Спать она не ложилась совсем, потому что боялась повторения сна, есть она тоже не могла — кусок просто не лез в горло. Свою совесть она ощущала как гипертрофированный воспаленный орган, боль в котором можно унять разве что при помощи хирургического вмешательства.
К концу второго дня ее мучения дошли до такой точки, что она с любовью стала поглядывать на торчащий из потолка крючок, на котором бесстыдно болталась ничем не прикрытая лампочка.
Ночью Рая бросилась на поиски веревки, которой, к счастью, в доме не оказалось.
Когда рано утром в понедельник Рая явилась на работу, то уборщица выронила из рук ведро.
— Батюшки-светы, что с тобой? — запричитала она.
На Раю действительно было страшно смотреть — двухдневная бессонница разукрасила ее лицо темными пятнами, на голове скатался колтун, щеки ввалились.
— Людка не приходила? — спросила Рая у уборщицы.
— Нет, не приходила… — ответила уборщица, продолжая горестно держаться за щеку. — Так рано же еще.
Рая молча проследовала в свой кабинет, хотела открыть ключом дверь.
— Открыто! — крикнула уборщица. — Тебя там ждут, я впустила.
Рая налегла на ручку, дверь медленно отворилась, и Рая увидела, как на массажном столе, по-стариковски свесив ноги, сидит Ада Карловна.
Недолго думая, Рая закрыла дверь на ключ, упала на колени и поползла, протягивая руки к колдунье:
— Матушка, избавь, избавь ты меня от этих мучений! Не хочу я ей никакого зла, сними заговор, я тебе денег дам сколько захочешь! Вот три тысячи! Пять! Десять! — Рая вынимала из кошелька одну за другой бумажки и все ползла по полу к старухе.
— Да успокойся ты! — Ада Карловна слезла со стола и боязливо попятилась к окну.
«Уж не спятила ли она?» — думала ворожея, отступая все дальше и дальше. Рая действительно выглядела как безумная — глаза горят, руки трясутся, волосы дыбом.
— Ты, это, деньгами-то не тряси… — растерялась на мгновение Ада Карловна.
Упершись задом в подоконник, она остановилась и попыталась войти в роль, но вид распростертой у ее ног женщины несколько смущал.
Рая затрясла головой.
— Встань! — Голос колдуньи набирал силу.
Рая поднялась на трясущихся ногах, вид ее был настолько страшен, что даже бывалое сердце мошенницы дрогнуло.
— Деньги давай!
Рая быстро сунула ей в руки весь кошелек и все, что она успела из него достать.
Ада Карловна расторопно спрятала добычу в свой ридикюль, подошла к Рае и, положив ей на лоб руку, повелительно произнесла:
— Повторяй!
Рая повторяла за старухой какие-то непонятные слова, заклинания и чувствовала, как из ее души изливается что-то черное, жуткое.
— А теперь иди! — приказала Ада Карловна, покончив с заклинанием.
— Куда? — не поняла Рая.
— На улицу и жди, пока она придет.
— А она вообще жива?
— Ну, говорю же тебе, придет, значит, жива.
— Ой, спасибо, спасибо вам… — Рая выскочила из кабинета и полетела по коридору, не побежала, а именно полетела — свободная и легкая, как птица.
На душе у нее было светло. Оказавшись на улице, она остановилась на круглых ступенечках и сразу увидела, как по дорожке в обнимку двигаются Люда со своим слепцом.
И в сердце у Раи полыхнула бешеная радость.
«Жива! Жива! Не взяла греха на душу!» — Окрыленная, она понеслась обратно, ей хотелось плакать и благодарить всемогущую Аду Карловну.
Со словами: «Господи, счастье-то какое!» — она ворвалась в массажный кабинет, но старухи нигде не было, она исчезла так же загадочно, как появилась.
— А как же массаж?.. — пробормотала Рая.
Ей хотелось кружиться и петь.
Она даже сделала несколько скачков по комнате, когда вдруг из конца коридора послышался привычный звук.
«Тук» — услышала она стук Валериной палочки: «тук» — отозвалось у нее в груди каким-то темным, нехорошим эхом.
«Тук-тук…» — Рая насторожилась.
Стук Валериной палочки раздавался все ближе и ближе, и по мере его приближения Рая переставала кружиться.
Легкость, которая осенила ее душу, стала куда-то вымещаться, и Рая почувствовала, как в ее груди корявым, уродливым грибом опять разрастаются все те же чувства: любовь — сильная, как ненависть, и ненависть — страстная, как любовь.
Любонька моя
Любасик сидела на стуле ровно, робко сжав колени. Она даже не решалась положить ногу на ногу, как поступала обычно в присутствии мужчин, когда хотела выставить напоказ сильные, плотные ноги. Тогда короткая юбка слегка приподнималась, и становились видны кружевные резинки от чулок. Но здесь было совсем другое дело. Напротив нее сидел человек лет пятидесяти с серьезным, можно даже сказать, сердитым лицом, и смотрел на Любасика строго, как смотрит учитель на провинившегося ученика. Любасик робела и ерзала на стуле, не зная, куда себя деть.
«На кой черт я согласилась идти к этому психотерапевту? — с досадой думала она, глядя куда-то под стол. — Вечно эта Верка чего-нибудь придумает, а я, как дура, соглашаюсь». Ей захотелось подняться и убежать, просто так, без всяких объяснений, выскочить за дверь, и все. И когда она уже совсем было решилась осуществить этот маневр, вдруг послышался мягкий, как пух, голос Евгения Марковича (так звали психотерапевта):
— Вы, Любовь Семеновна, расслабьтесь и не волнуйтесь. Чаю хотите?
От этого удивительного голоса Любасик мгновенно оттаяла, напряжение спало, и, решительно закинув ногу на ногу, она ответила:
Психотерапевт поднялся, включил чайник, который стоял на подоконнике. При этом — удивительно! — он посмотрел на ее ноги таким же взглядом, которым смотрят те, другие мужчины.
— Ну, рассказывайте, — предложил психотерапевт, усаживаясь на свое место и ставя перед Любасиком красивую дымящуюся чашку с чаем.
— А чего рассказывать-то? — Любасик нагловато откинулась на спинку стула и, небрежно свесив обе руки, стала слегка покачиваться.
— Я не знаю. Это вы ко мне пришли, значит, вам есть чего рассказать, — проговорил Евгений Маркович все тем же завораживающим голосом.
— Вы знаете, у меня такая профессия интересная… — Любасик раскачивалась на стуле в ожидании вопроса: «Какая профессия?», но психотерапевт не проявлял ни малейшего любопытства. Он ждал.
— Скажите, а у вас можно курить? — Любасик полезла в сумочку.
— Курите, пожалуйста, — психотерапевт поставил перед ней пепельницу. — Так вы сказали, что у вас интересная профессия.
— Да, — Любасик выдула в потолок струю дыма. — Я проститутка, — она победоносно уставилась на Евгения Марковича, но эффекта не получилось. Лицо психотерапевта оставалось строго непроницаемым. — К вам что, каждый день такие, как я, на прием приходят? — удивилась Любасик.
— Кто и когда ко мне приходит — не имеет к нашей с вами беседе никакого отношения. С вашего позволения, сегодня мы будем говорить о вас.
Любасик опять оробела. Этот человек явно смущал ее интеллигентными манерами.
— Хорошо, — сказала она и опять уселась ровно. — Вы знаете, когда я раньше по телевизору смотрела передачи о проститутках, я плакала. Я тогда думала — бедненькие, им, наверно, так страшно ночью на дороге стоять, а потом с незнакомыми мужиками куда-то ехать. А позже, когда я постарше стала, то поняла: киношники, которые эти фильмы снимают, просто никогда не были в том городе, где я жила, поэтому им жизнь проститутки такой ужасной кажется.
— А из какого вы города?
— Да что толку говорить… — Любасик затушила сигарету и прикурила новую. — Вы все равно такого не знаете. Но вы уж мне поверьте, что лучше в Москве на панели стоять, чем жить в этой дыре, — и Любасик коряво, путаясь в словах, поведала Евгению Марковичу короткую историю своей жизни.
Первые пятнадцать лет своей жизни Люба просидела у окна, глядя через морозное стекло на грязные клубы дыма, которые немного оживляли белесое пространство, пересеченное страшными заводскими трубами. Завод уже давно не работал, а дым почему-то остался и время от времени оседал на город, раскрашивая вечную мерзлоту черными узорами. Любин отец спился рано и, не дожив до тридцати лет, замерз где-то в лесу. Его нашли только весной, когда снег подтаял. Но Люба этого всего не помнила, она была еще маленькой. Она только помнила, как безобразно голосила мать на похоронах и как ей было за нее стыдно. Раньше мама любила Любу, называла ее «Любонька моя». Любовь кончилась, когда закрыли завод и мать потеряла работу. Потом она подрабатывала, где могла. Убиралась, стирала, готовила, но этого все равно не хватало. Мать начала пить и, пьяная, всегда ругала покойного отца.
— Сволочь, — бормотала она, заливаясь слезами. — Ребенка родил и окочурился, а я здесь одна выживай как знаешь!
Мать смотрела на Любу горящими от ненависти глазами. Кого уж она в этот момент ненавидела — покинувшего ее в беде мужа или Любу, — трудно сказать.
В школе Люба училась плохо. Ей это было неинтересно, и в пятнадцать лет, закончив восьмилетку, вовсе перестала туда ходить.
— Во корова, все сидит да в окно таращится! — бранилась мать. — Хоть бы работу нашла какую-нибудь. Сил моих больше нет все это на себе тащить!
Но пятнадцатилетнюю Любу на работу никуда не брали, и она продолжала сидеть у окна, глядя в одну точку. Что уж она там видела? Какие фантазии будил в ней кудлатый дым? Неизвестно.
Однажды весной, накануне шестнадцатилетия, Люба отправилась в гости к своей однокласснице Вере Коровиной послушать музыку и помечтать вдвоем. Вериных родителей дома не было, они уехали на три дня к родственникам в деревню. Люба с трудом попала в подъезд — перекошенную дверь завалило мокрым снегом. На лестнице пахло мочой и крысиным пометом: привычные запахи, которые Любино обоняние уже давно не замечало. Звонок не работал. Люба забарабанила по подвижным дверным доскам. Ей открыл незнакомый молодой человек с красивым нездешним лицом.
— А где Вера? — смутилась Люба.
— А зачем вам Вера? — улыбнулся парень и, мягко взяв Любу за руку, провел ее в прихожую. — Меня зовут Алексей, — добавил он, оглядывая Любу с головы до ног. — У вас ноги-то, наверно, промокли? Давайте наденем тапочки. — Алексей встал перед Любой на колени, достал разношенные войлочные тапки Вериного отца и стал расстегивать ей сапоги. Люба едва держалась на ногах от счастья. Любовь полыхнула сразу, как пожар, в котором с треском исчезло все ее неказистое прошлое. «Вот оно! — думала она, глядя на склоненную перед ней фигуру незнакомого парня. — Еще минуту назад не было ничего, даже надежды, и вдруг раз — и жизнь переменилась. Оказывается, счастье и искать не надо, само приходит в положенное время».
Алексей снял с Любы шапку, пальто и повел ее в комнату.
— А где же все-таки Вера? — еще раз удивилась Люба.
— Она там, — неопределенно махнул рукой Алексей.
В комнате играла тихая музыка, на столе стояли открытые бутылки, стаканы, закуска. Пахло рыбными консервами.
— Коньяк будешь? — Алексей протянул Любе стакан.
Люба никогда не пробовала крепких напитков. Мало того, она испытывала страх перед этим всемогущим зельем, которое отняло у нее отца и до неузнаваемости изменило мать. Но возразить Алексею не могла.
— Давайте, — Люба взяла стакан и залпом вылила содержимое. У нее перехватило дыхание, в горле нестерпимо жгло, но она, сделав над собой усилие, улыбнулась.
— Ты что, в первый раз, что ли? — усмехнулся Алексей и, откинув прядку, закрывавшую Любино лицо, с нежностью погладил ее по щеке.
— Да нет, — смутилась Люба, — просто крепкий очень.
— Давай потанцуем. — Алексей взял у Любы пустой стакан и, поставив его на стол, прижал ее к себе. Комната тихо поплыла по кругу. Алексей смотрел ей в глаза непонятным взглядом, от которого становилось горячо. Они двигались в волнах блюза. Алексей придвинулся ближе и стал целовать ее в губы. Люба попыталась вырваться, но больше от смущения, оттого что не умела целоваться.
— Ну что ты, глупенькая, — прошептал Алексей умопомрачительным шепотом, — не бойся, мы не будем делать ничего, пока ты сама не захочешь.
«Да я хочу! Хочу!» — чуть было не закричала Люба, но вместо этого пробормотала:
— А где же все-таки Вера?
— Далась тебе эта Вера! — Алексей обиженно отстранил от себя Любу.
— Нет, не отпускай! — испугалась девушка и повисла у него на шее.
— Вот умница, — похвалил Алексей и, взяв ее на руки, понес к дивану. Потом, лежа на боку и глядя на нее сверху вниз, он еще раз удивленно спросил: — Ты что, в первый раз, что ли?
Да! Да! Это было в первый раз! С ним все-все было в первый раз! Потому что до него вообще ничего не было. Одна пустота. Что было дальше, Люба помнила плохо.
Она знала только, что это были самые счастливые три дня в ее жизни. Они много пили, много смеялись, не ели почти ничего и любили, любили друг друга до полного изнеможения, до потери рассудка.
Утром третьего дня Алексей стал собираться.
— Ты куда? — насторожилась Люба.
— Да я за сигаретами сбегаю, — смутился Алексей. — Кончились, — для убедительности он смял и бросил на стол пустую пачку.
— Я с тобой, — подскочила Люба. Ей не терпелось пройтись под руку с таким красивым парнем.
— Ой, мышонок, а мы вдвоем не можем, — Алексей сокрушенно вздохнул.
— У нас ключа нет. Да я один сбегаю, а ты меня здесь под одеяльцем подожди, хорошо?
Алексей поцеловал Любу и вышел. Странный это был поцелуй. Протяжный и крепкий. У нее даже заболели губы. И посмотрел он тоже странно — виновато, через плечо, уже когда выходил в дверь.
Люба просидела в кровати до вечера, так и не вылезая из-под одеяла. Когда на улице совсем стемнело, она услышала, как в замке поскрипывает ключ. Вернулся! Люба бросилась к двери, зябко перебирая босыми ногами по холодному полу. Выскочив в коридор, она остановилась, пораженная страшной догадкой: так у него же ключа нет!
Дверь скрипнула и раскрылась. На пороге стояла Верка.
— Ты чего здесь голая прыгаешь? С ума сошла? Сейчас родители вернутся! — заорала она с порога.
— А где Алексей? — прошептала Люба.
— А я почем знаю?
— Так это же твой знакомый?
— Ничего он мне не знакомый. Он у меня квартиру на три дня снимал и попросил с симпатичной подружкой познакомить. А что же, он тебе ничего не сказал, что ли?
— Чего не сказал?
— Ну, что уезжает. И адреса не оставил?
Люба ничего не ответила. Она молча оделась, молча вышла на улицу и поплелась домой, загребая тяжелыми сапогами сочный весенний снег.
Через два месяца выяснилось, что Люба беременна. Денег на аборт не было. Верка нашла какую-то спившуюся врачиху, которую из больницы давно выгнали, и теперь она практиковала на дому, подпольно, за копеечную плату, которой хватало как раз на следующую бутылку.
— И чтоб у меня не орать! — пригрозила врачиха, укладывая Любу на стол, накрытый посеревшей простыней. — У меня здесь соседи. А то смотри, живо на улицу выкину!
— А зачем же вы мне руки привязываете? — спрашивала осипшим от страха голосом Люба.
— Чтоб смирно лежала, у меня все-таки инструмент в руках! — Врачиха угрожающе потрясла в воздухе какой-то железкой, похожей на ложечку на длинной ручке.
Вера стояла тут же и, с ужасом тараща глаза, наблюдала за страшными приготовлениями.
— Ну, я пошла, — виновато пробормотала она, когда врачиха надела перчатки и пристроилась между широко раскинутыми в стороны Любиными коленями.
— Куда?! — остановила ее врачиха. — А ассистировать кто будет?
— Чего? — не поняла Вера.
— Помогать кто будет? Я одна не могу. Стой здесь, держи ее за голову и рот закрывай, чтобы тихо было.
…Говорят, что боль со временем забывается. Это неправда. Ужас той операции Люба не смогла забыть никогда. Она даже не подозревала, что человека можно резать вот так, на живую. И это не на войне! При этом надо молчать, хотя хочется заорать так, чтобы дом рухнул вместе с этой проклятой старухой, которая кромсает ее внутренности. Удивительным было то, что Люба не теряла сознания, напротив, каждое мгновение отпечаталось в ее памяти с необыкновенной ясностью, навсегда.
После операции Люба думала, что умрет: две недели была на грани жизни и смерти. В беспамятстве она улавливала только перепуганные глаза матери, которые, казалось, единственные связывают ее с жизнью. Потом кризис миновал, и она стала поправляться. Это было прекрасное время. Мать любила ее, как в детстве. Варила бульоны и подавала в постель. Люба лежала на чистом белье и мечтала. Она мечтала о том, как поедет в Москву и встретит там Алексея. Почему-то ей казалось, что он должен быть обязательно в Москве. Ни злости, ни обиды у нее на него не было — одна любовь.
Болела она долго — несколько месяцев. Потом потихоньку начала вставать и передвигаться по комнате, но все-таки здоровой себя не чувствовала. Живот постоянно болел и был твердый, как камень.
— Ну, что с тобой? — приставала с расспросами мать.
— Не знаю, мама, — Люба держалась за низ живота. — Может, у меня там какая-нибудь опухоль образовалась? Смотри, как выпирает.
Наконец стало ясно, что больше ждать нельзя. Мать продала все, что было в доме, чтобы заплатить за хорошего врача, и повезла дочку в районный центр.
Врачом оказалась молодая полная блондинка с красивым сонным лицом и таким же прекрасным именем — Анастасия Вениаминовна.
— Ну, что у вас? — приветливо встретила она Любу с мамой.
— Да вот… — начала мать, даже не поздоровавшись, и нетерпеливым движением вытолкнула Любу на середину комнаты. — Дочка моя ковырнулась подпольно, потом чуть не сдохла, дура, теперь живот у нее болит. Небось повредила что-нибудь.
— Вы здесь не ругайтесь, — строго заметила врач. — Садитесь, — пригласила она Любу, — а вам придется за дверью подождать.
— Как же за дверью? — обиделась мать. — Она ведь несовершеннолетняя.
— Не волнуйтесь, после осмотра я с вами обо всем поговорю.
Сделав недовольное лицо, мать обиженно сгорбилась, но вышла.
— Так, и кто же над тобой это зверство совершил? — начала врач медовым голосом.
Люба удивленно подняла брови.
— Аборт у кого делала?
— A-а, а это я не знаю, то есть я ее совсем не знаю, я ее первый раз в жизни видела.
— Где живет, помнишь?
— Нет! — выпалила Люба и покраснела.
— Ну, давай, давай, пока ты ее здесь покрываешь, она еще пару девчонок таких, как ты, искалечит. Да неужели ты не понимаешь? Это же преступление! У нас знаешь сколько девочек от последствий таких операций умирает?
Люба упрямо смотрела в пол, не произнося ни слова.
— Ну ладно, не хочешь, не говори, мы ее без тебя найдем. Давай на кресло, посмотрим, что с тобой.
Люба вскарабкалась на гинекологическое кресло. С непривычки никак не могла пристроиться, наконец сложила руки на животе и, умирая от стыда, затихла.
Врачиха озабоченно мяла живот, щупала ее изнутри и время от времени приговаривала:
— Ну вот, так я и знала, так я и знала…
«Да что, что ты такое знала? — хотелось закричать Любе. — Я умираю? Ну, так и скажи. Чего ходить вокруг да около».
— Давай-ка слезай с трона, — приказала наконец врачиха.
— Зачем? — испугалась Люба.
— На кушетку ложись.
— А-а… — Люба неуклюже свалилась с кресла и улеглась на кушетку. Доктор озабоченно уставилась в компьютерный экран, поглаживая по Любиному животу какой-то пластмассовой штукой.
— Ты смотри! — воскликнула она. — Ребеночек-то как за жизнь борется!
— Какой ребеночек? — не поняла Люба.
— Твой, — врач посмотрела на Любу взглядом, полным нежности и сочувствия.
— Этого не может быть, ведь я же аборт сделала!
— Сделала, да не доделала, — грустно усмехнулась Анастасия Вениаминовна. — Такое бывает, когда черт знает кто за дело берется. Теперь моли бога, чтобы ребенок здоровый родился.
— Какой ребенок, я не хочу никакого ребенка, — забормотала перепуганная Люба. Она плохо улавливала смысл происходящего.
— Теперь уже хочешь — не хочешь, а родить придется, аборт делать поздно. У тебя за пятый месяц перевалило. В крайнем случае можешь в роддоме оставить, дело твое.
Ребенок родился недоношенным, слабеньким. Это была девочка, и когда Люба впервые прижала ее к себе, весь мир как будто перевернулся, и не перевернутыми остались только она и ее дочка Леночка. Люба носила ее на руках, спотыкаясь от счастья. Она даже не подозревала о существовании такой любви! «Неужели мама любила меня так же?» — думала она. Совершенно непереносимой была мысль, что она чуть не убила это маленькое существо. А еще хуже — могла бы покалечить!
Мать тоже совершенно переменилась. Она теперь работала еще больше, но не пила, и ее недовольство жизнью сменилось тихой, умиротворенной радостью. Казалось, этот ребенок примирил всех и навсегда.
По мере того как подрастала Леночка, город, в котором она имела несчастье родиться, тихо умирал. Это была медленная, мучительная агония, в которую были втянуты дома, природа, жители. Сначала, когда были замечены первые признаки смертельной болезни, было страшно. Потом люди стали не то чтобы привыкать — как-то непроизвольно, один за другим втягиваться в процесс умирания. Когда в городе впервые отключили электричество, никто не паниковал: нам ли от такой ерунды теряться! Мы и не такое видали! В окнах замелькали подвижные огоньки свечей. Люди решили, что переждут. Но пережидать пришлось долго. Не одну неделю и не две. Постепенно становились очевидны последствия этой катастрофы. На складах, лишенных холодильников, портились продукты, в больницах умирали больные, по темным улицам стало опасно ходить. О городе, казалось, забыли, как если бы он провалился в черную дыру, и весь мир, поискав немного и разведя сокрушенно руками, вздохнул: «Бывают же чудеса на свете!» — и зажил спокойно дальше. Постепенно стали исчезать продукты, магазины закрывались один за другим, а потом, посреди лютой северной зимы, вдруг взяли и отключили отопление.
Лучше уже не становилось. Жизнь все катилась и катилась под откос с неумолимым ускорением. Они еще продолжали жить, разговаривать, но во всем, что делали, сквозила некая сомнамбулическая медлительность, заторможенность, как если бы они двигались во сне или под воздействием гипноза. Поднимет человек ногу, чтобы перейти через лужу, постоит-постоит, да и опустит ее в воду. Или откроет дверь, да так и застынет, как швейцар, держась за нее, а в подъезд не заходит. Казалось, что город охватила смертельная инфекция, наподобие чумы или холеры, но без четких клинических признаков. Заболевание это носило невинное название — депрессия, но человек, заметивший у себя первые признаки этой болезни, знал, что он обречен. Единственной терапией против этого страшного недуга являлось бегство. Прочь, прочь от этого уходящего на дно небытия города. От людей с расплывающимися в сонном безразличии лицами. И те, кто был помоложе и еще мог держаться на ногах после затяжных приступов пьянства, уносили ноги — кто куда. Направление было неважно, лишь бы подальше от этих мест.
Люба с мамой держались долго. Их наполняла вдохновением жизни маленькая Леночка, да и бежать им было некуда. Они мужественно и кропотливо обустраивали свою жизнь: закупали свечи, доставали сахар, топили буржуйку, месяцами сидели без новостей из другого, живого мира.
Первой из знакомых уехала Верка. Безрассудная и отважная, она махнула просто так, в никуда. Осела где-то в Москве. Чем занималась, неизвестно, но говорили, что живет хорошо. Родителям деньги шлет регулярно. И только Люба знала, как достаются Вере эти деньги. Во внутреннем кармане ее пальто лежало письмо, в котором Вера с наивным восторгом описывала подробности своей уличной жизни и Любу звала.
«Приезжай, — писала она, — не будь дурой! Мне никто не помогал. Самой всего добиваться пришлось. Соглашайся, пока я не передумала, а то сгниешь в этой дыре».
Предсказаниям подруги Люба не верила и все ждала, что жизнь вот-вот наладится. Надо только немного перетерпеть. И Люба терпела, каждый вечер откладывая надежду на завтра. Первой очнулась от обманчивого забытья мать: ее пробудил кашель ребенка. Леночка покашливала давно, мелким сухим кашлем, а Люба с матерью все ходили и ходили кругами со счастливыми блаженными лицами под звуки коротких, тихих выстрелов, которые доносились из Леночкиной груди. Ее бледное, как бумага, личико стало непривычно розоветь. «Смотри, какая румяненькая!» — радовалась Люба, и мать согласно улыбалась. Так продолжалось долго, пока однажды ночью Леночка не стала задыхаться от приступа удушья. Кашель — разросшийся, злой — был слишком велик для ее маленькой груди и душил ее изнутри, не в силах прорваться наружу.
Мать очнулась сразу. «Любка, вставай, ребенок умирает!» — закричала она. Но Леночка не умерла. Приступ прошел, лишь наделав страху, и Люба собралась было зажить, как прежде, ничего не замечая. Но мать уже пришла в себя и принялась тормошить дочь, не давая ей погрузиться в сонную эйфорию, похожую на ту, которую человек испытывает, умирая на морозе.
Леночку отвели к врачу. Провели обследование в местной больнице.
— Ну, что я вам могу сказать? — произнес тусклым безразличным голосом врач и посмотрел на Любу пустыми глазами. — Лекарств от этой болезни у меня нет, а советам, которые я вам могу дать, вы все равно не сможете следовать.
— А что, что это за болезнь? — встряла сидящая здесь же мать.
От ее энергичного голоса врач слегка вздрогнул и поморщился.
— Это начинающийся туберкулез, — заговорил он, продолжая глядеть на Любу. — В начальной стадии это заболевание хорошо поддается лечению, но для этого нужны медикаменты, хорошее питание, чистый воздух, сухой и теплый климат. А так как ничего этого у нас с вами нет, то… — врач развел руками и виновато улыбнулся.
— Поезжай за Веркой, в Москву, — сказала мать, выходя из больницы. — Ребенка надо спасать. Деньги нужны.
— Да что ты, мама! — воскликнула Люба, прижимая к себе Леночку. — Если бы ты только знала, как она эти деньги зарабатывает!
— Да знаю я, — оборвала ее мать. — Все уже всё знают. Да и письмо твое я читала. Собирайся.
— Ты что, хочешь, чтобы я на панель пошла?! — не поверила своим ушам Люба.
— Не хочу, но другого выхода нет. Если бы я сама могла… Но я для этого дела старая, так что придется тебе. И нечего нюни распускать! Слава богу, хоть Верка есть, а то бы мы здесь все передохли.
В этот же вечер Люба пошла на телеграф, заказала телефонный разговор с Москвой и, услышав Верин голос, коротко сказала: «Я согласна».
— Ишь ты, согласна! — затараторила Верка. — Да ты у меня в ногах валяться должна за мою доброту!
Люба молчала.
— Ну ладно. Слышь, ты еще здесь?
— Ну ладно, я все организую. Деньги зарабатывать начнешь — расплатишься.
Верин голос сильно изменился, стал резким, крикливым, она не говорила, а нападала, наскакивала, как будто боялась, что ее кто-то опередит и наскочит первым.
— Ну ладно, пока, — задиристо крикнула Верка.
— Подожди, а как же билеты? — попыталась остановить подругу Люба, но из трубки уже доносились короткие категоричные гудки.
Через пару недель рано утром в квартиру позвонили. Люба открыла дверь. На пороге стоял мужчина, одетый в неряшливую железнодорожную форму. На его сером уставшем лице выделялись двумя фиолетовыми пятнами большие набухшие мешки под глазами.
— Я вам билеты на поезд принес, — порывшись во внутреннем кармане сюртука, мужчина извлек пухлый конверт. — Вот, — он протянул конверт Любе. — Там еще деньги. Поезд отходит сегодня вечером, в восемнадцать тридцать.
— Как, так быстро? — удивилась Люба. — А я не готова…
— Я этого ничего не знаю, — проворчал мужчина, — я там проводником в третьем вагоне. Александр Григорьевич меня звать, если что надо, обращайся. Смотри, не опаздывай, поезд ждать не будет. — Проводник повернулся и пошел по лестнице вниз. Потом остановился и крикнул уже снизу: — Да, и это, сказали, с собой ничего не брать, только в дорогу самое необходимое.
На перроне, прощаясь с мамой и дочерью, Люба сильно плакала. Нервно бросалась то к одной, то к другой, прижимала их к себе и бормотала что-то невнятное. Наконец поезд, до сих пор стоявший смирно, как будто ожил. В нем что-то лязгнуло, зашипело, вагоны дернулись.
— Давай заходи скорее, — сердито закричал знакомый проводник, — а то сейчас без тебя уедем!
Люба испуганно прыгнула на подножку. Поезд тронулся, проводник закрыл железную дверь. Любу слегка качнуло, и она прислонилась к стенке тамбура. В этом лязге железа, в самой железной стенке, холодящей спину, было что-то решительное, бесповоротное, как щелчок ключа в замке запирающейся двери. Люба закрыла глаза.
— Пошли, я тебе купе покажу, — услышала она хриплый голос проводника. — Как барыня поедешь — одна.
Люба пошла за проводником и, глядя в его неряшливую спину, подумала, что ей совершенно не страшно ехать в Москву, не страшно заниматься опасным ремеслом уличной проститутки. Весь ее страх остался там, в городе, из которого она ни разу прежде не выезжала. Поезд быстро набирал ход, и чем больше становилось расстояние между Любой и ее прошлым, тем ощутимее был ужас перед перспективой вернуться туда, в этот страшный, нескончаемый сон. Оставшись в купе одна, Люба сжала кулаки и, глядя в окно на проносящуюся мимо нее заснеженную ледяную родину, громко сказала:
— Я сюда не вернусь никогда, даже мертвой. Пусть меня похоронят в придорожной канаве, только не здесь.
В Москве, на перроне, проводник подвел Любу к высокому крепкому парню с некрасивым, изуродованным заячьей губой лицом.
— Илья, — представился парень и оскалился дикой звериной улыбкой.
— Любасик, значит, — поправил ее парень, оглядывая Любу с ног до головы строгим коммерческим взглядом. — А ты ничего, у нас такие нарасхват.
Люба смущенно застучала коленкой по сумочке, которую держала двумя руками перед собой.
— Ну ладно, дядь Саш, это тебе, — Илья сунул проводнику деньги. — Пошли, — кивнул он Любе и взял у нее сумку.
По дороге на квартиру Люба крутила головой так, что у нее заболела шея. Город совершенно потряс ее своим великолепием. Этот свет, который так и заливает ночные улицы, огни — мерцают, как драгоценные камни! Все мелькает, кружится, и жизнь бешеными музыкальными аккордами проносится за окнами такси.
— Нравится? — усмехнулся Илья и, грубовато похлопав Любу по ноге, нагло запустил ей руку под юбку.
— Перестаньте! — Любасик сжала колени — инстинктивный жест, которым женщина обычно защищается от нежелательных посягательств.
Илья даже не шелохнулся. Напротив, он сжал Любину ногу чуть повыше колена и, глядя на нее с неприятным прищуром, произнес:
— С самого начала предупреждаю, никаких фокусов — или будешь хорошей шлюхой, или сразу домой отправлю, даже из машины выйти не успеешь, а потом всю жизнь за билет не расплатишься, — Илья смерил ее взглядом, которым смотрят на кусок грязи, прилипший к ботинку.
Люба перевела глаза на зеркало заднего вида и встретилась в нем с насмешливым недобрым взглядом водителя.
— Тебе понятно? — спокойно спросил Илья и сжал ее ногу так, что Люба вскрикнула.
— Понятно… — испуганно пробормотала она.
— Ну, вот и хорошо, — Илья разжал пальцы и, продолжая по-хозяйски шарить между Любиных ног, добавил: — И давай повеселее, за такую зашуганную бабок никто не даст.
Водитель при этом заржал наглым похотливым смехом.
— А как ты думаешь, — оживился Илья, — даст за нее кто-нибудь бабок или нет?
— Не знаю, — смутился водитель. — Я бы дал.
— Сколько?
— А сколько положено?
— Ишь ты, положено… Сколько положу, столько и положено. Ну ладно, я сегодня добрый, — Илья посмотрел на Любу изучающим взглядом. — Бери бесплатно.
Люба вздрогнула.
— Как, прямо сейчас, здесь?
— Зачем же здесь? Мы сейчас в переулочек свернем. А я на вас посмотрю. А то что же мне, кота в мешке покупать? Вот если Ваське сейчас чего не понравится… Тебя как зовут? — обратился Илья к водителю.
— Ну, так Кольке. Если ему чего не понравится, он же тебя сразу обратно на вокзал и отвезет. Понятно?
Люба поняла, что Илья не шутит и в эту минуту решается все.
— А чего же тут непонятного, — промурлыкала она ей самой незнакомым голосом и, нагло уставившись в зеркало заднего вида, стала расстегивать кофточку. Водитель резко затормозил и неприятно задышал, надсадно выдувая из легких воздух. Любасик повела одним плечом, другим, блузка соскользнула на сиденье. Водитель оглянулся и жадно зашарил взглядом по ее гладкой груди, плечам. Люба почувствовала, как тошнота подкатывает к горлу, но Илья держал ее своим острым взглядом, как под прицелом. Люба сделала над собой усилие и заманчиво улыбнулась.
Водитель выскочил из машины, распахнул заднюю дверцу и стал торопливо расстегивать штаны.
— А ну пошел вон отсюда! — вдруг заорал Илья истерическим голосом и резким движением выкинул ногу вперед и вбок, прямо через Любу. Тяжелый ботинок врезался водиле в живот. — Давай вылезай! — приказал он Любе и потащил ее за собой, не давая одеться.
Люба выбралась из машины и бросилась за Ильей, на ходу натягивая блузку.
— Ишь ты! — возмущался Илья. — Как на халяву — все мы рады!.. Чтоб бесплатно — никому! Понятно?
— Понятно, — Люба задыхалась от бега.
— Давай сюда, — Илья рванул ручку подъезда. Люба нырнула в дверной проем, и сразу знакомые запахи окружили ее со всех сторон. На миг подумала, что вот она ехала, ехала и опять приехала домой.
— Поднимайся на второй этаж, — вернул ее к действительности Илья.
«Странно, — подумала Люба, — такой город, а в подъездах воняет так же, как у нас».
Дверь открыла Вера.
— Любка! — закричала она, сжимая от радости кулачки. — Приехала! Ну, заходи! Вместе жить будем!
Люба робко перешагнула через порог. В прихожей царил страшный беспорядок, вещи были разбросаны так, как если бы здесь только что произвели обыск. В комнате слышалась какая-то возня.
— Коза, получай подружку, — Илья подтолкнул Любу в спину. Козой он называл Веру. — Ты давай-ка Любасика проинструктируй, а то она, по-моему, не очень въезжает, какие тут порядки. Ну ладно, я пошел, через час на работу. Вы ее здесь приоденьте. Найдется чего-нибудь ее размера?
— Найдется, найдется, — угодливо суетилась Верка. — Ты иди, а мы из нее за час королеву сделаем.
— Королеву? — Илья с сомнением почесал в затылке и вышел.
Любасик стояла на обочине Ленинградского шоссе. Было холодно, мокрый снег все летел и летел, попадая в глаза и в уши. Любасик притопывала ногами, обутыми в короткие сапожки на высоченных каблуках, и зябко куталась в легкую шубку из искусственного меха. Время от времени подъезжали машины и высвечивали фарами темноту, в которой стояли девочки. Тогда Любасик распахивала шубку и демонстрировала заказчику свое тело. При этом она каждый раз улыбалась бездушной заученной улыбкой и слегка поводила бедрами. Ноги у Любы были короткими и плотными, как у пони, форма бутылочкой, талия широкая, живот плоский и большая крестьянская грудь. На этой простоватой фигуре кружевное белье с чулочками на резинках смотрелось нелепо. Даже Илья в первый раз расхохотался, когда увидел ее в рабочем костюме. Но, как ни странно, мужчинам это нравилось. Любасика брали часто, почти всегда, хотя рядом, освещенные фарами, стояли длинноногие стройные девицы, и лица у них были смазливее, и улыбались они заманчивее. А выбирали почему-то Любасика. Похоже, плотская крепость ее фигуры срабатывала безотказно, запуская низменные инстинкты подъезжающих мужчин. Любасик гордилась своими профессиональными успехами и каждый раз, садясь в машину, не забывала окинуть победоносным взглядом оставшихся не у дел подельниц. Илья тоже ценил Любасика. «Ты мой золотой фонд», — говорил он, ласково похлопывая ее по крупу. Любасик рдела от удовольствия и строила большие планы на будущее. Денег она зарабатывала много. Так много, что и матери отослать получалось, и отложить кое-что.
— Что ты все копишь, дура, — вразумляла ее Верка, которая кутила с каким-то непонятным остервенением. — Соскочить хочешь? Думаешь, умнее всех? Так тебя Илюша и отпустил! Будешь торчать на этом месте, пока у мужиков на тебя стоит. А если дернешься, то Илья тебя на все бабки поставит. Понятно?
Но Любасик понимать не хотела и продолжала с крестьянской расчетливостью распределять свои финансы, пока однажды не случилось то, что с такой прозорливостью предсказывала Коза.
Илья с пристальным вниманием следил за жизнью своих подопечных. Он знал все их страстишки — наркотики, алкоголь, любовников. Все это в разумных пределах поощрялось хитрым и изворотливым сутенером. Меры он принимал только тогда, когда эти забавы начинали мешать работе. Все знали, как жестоко расправлялся Илья с непутевыми девицами, как таскал за волосы, колотил ногами куда ни попадя, а потом, швырнув несчастную жертву куда-нибудь в угол, объявлял штрафную сумму, которую она должна отработать. Большинство девочек уже давно висели на крючке и не имели никаких шансов отказаться от этой профессии. Разве что болезнь или физическое уродство могли изменить их судьбу — в таких случаях, надо отдать ему должное, Илья с почетом провожал их на пенсию и даже выделял небольшое денежное пособие на первое время.
С Любасиком у Ильи возникли сложности. Она вела себя безукоризненно: пила немного, не курила, к наркоте не притрагивалась, денег приносила больше всех. У нее появились постоянные клиенты, которые приезжали по нескольку раз и, если Любасика не оказывалось на месте, больше не хотели иметь дело ни с кем. Илья понимал, что долго это продолжаться не может: или уведут, или подкопит денег и сама соскочит. Нужно было что-то делать. Не терять же такую доходную телку!
Как-то весенним теплым вечером к их точке подъехал шикарный автомобиль с затемненными стеклами. Девочки подтянулись и взволнованно задвигались. Из приоткрывшегося переднего окна со стороны водителя высунулась крепкая рука, сделав знак Любасику, чтобы подошла. Любасик беспокойно оглянулась: в богатых тачках зачастую находились очень опасные клиенты.
Илюша выскочил из кустов как черт из табакерки и резвым аллюром рванул к машине. Пару минут он беседовал с водителем, низко склонившись и наполовину засунув голову в окно. Любасик ждала. Наконец Илюша выпрямился, сунул в окно руку и, получив деньги, подал Любасику знак, что все в порядке. Дальше все было разыграно с такой бесстыдной наглостью, перед которой любая претензия выглядела бы просто смехотворной.
В машине оказался мужчина, похожий на осколок скалы. Он привез Любу на квартиру и, ни слова не говоря, протянул ей бокал шампанского. Не успела она сделать и нескольких глотков, как комната сильно накренилась, как корабль во время бури. Люба попыталась удержаться на ногах, но пол раскачивался в разные стороны, бросая ее от стены к стене. Последнее, о чем подумала Люба, — что она не успела попрощаться с дочерью. А дальше ее сознание отключилось так надежно, что даже спустя время она ничего не могла вспомнить о подробностях того вечера.
На следующий день ее разбудили вопли Козы и еще одной квартирантки, Шоньки.
— Буди давай, — визжала в коридоре Шонька, — а то он нас с тобой грохнет! Ты что, не слышала, как он по телефону говорит, я от страха чуть не облезла!
— Сама буди, я уже пробовала! — крикливо отвечала Коза. — Они ей чего-то сыпанули!
В дверь позвонили три раза, медленно, с расстановками.
— Илья! — присела от страха Шонька. Это был условный знак.
— Открывай! — прошептала Коза, в ужасе тараща глаза.
Шонька трясущимися руками оттянула собачку замка. Дверь с силой распахнулась, Шонька отлетела к стене и застыла в предчувствии чего-то нехорошего. На пороге стоял Илья, рядом с ним возвышалась громада вчерашнего Любиного клиента.
— З-здравствуйте… — икнула Коза.
Ни слова не говоря, Илья оттолкнул Козу в сторону и ударом ноги распахнул дверь в комнату. Любасик присела на кровати, прикрывшись одеялом, и заерзала, отползая, пока не уткнулась спиной в угол.
— Ты что же делаешь, с-сука, — прошептал Илья зловещим шепотом. Его раздвоенная губа нервно вздрагивала, обнажая длинные, как у волка, зубы.
Любасик видела много раз, как искусно доводит себя Илья до припадков истерической ярости, необходимой для начала расправы, и теперь, глядя побелевшими от страха глазами на хозяина и заметив признаки начинающегося припадка, принялась медленно натягивать на голову одеяло.
— Ты что же делаешь? — повторил Илья все тем же сжатым, как тугая пружина, голосом и сорвал с Любасика одеяло.
Оставшись голой, Любасик беспомощно обхватила руками колени и съежилась в комок.
— Где твоя сумка? — перед ее лицом синим огнем полыхнули Илюшины глаза.
— Там! — прохрипела Люба и выкинула вперед руку с оттопыренным указательным пальцем.
Илья резво метнулся в прихожую, притащил сшитую мешком кожаную сумку и, недолго думая, вытряхнул ее содержимое на кровать.
— Это что? — заорал он, схватил Любу за волосы и ткнул ее лицом в свернутую роликом и перехваченную резинкой пачку денег. — У клиентов деньги воруешь?! А знаешь, что за это полагается?
— Илюша, ты же меня знаешь, это не я, я ничего не помню, — лепетала Люба, понимая, что ее подставили, что она пропала. «Убьют», — мелькнуло в голове.
— Илюша, — попыталась встрять Верка, — это подстава, ее же домой принесли.
— А с тобой я потом разберусь, — пообещал Илья и хлопнул дверью прямо перед ее носом.
Верка сразу затихла, стало слышно, как она на цыпочках пробирается на кухню.
Первым ударил вчерашний клиент. Удар был такой силы, что Любасик сорвалась с кровати и, пролетев полкомнаты, ударилась головой в дверь.
— Ты чего, с ума сошел? — возмутился Илья. — Покалечишь! Это же моя лучшая девка, ей сегодня на работу.
— Ну, так бы сразу и сказал, — усмехнулся каменный гость, массируя ушибленный кулак. — А то ведь я и убить могу, только свистни.
Как ни странно, от этого удара Любасик пришла в себя и стала соображать с какой-то невероятной ясностью. Говорит, вечером на работу, значит, убивать не собирается.
— Здесь сколько бабок? — спросил Илья, кивнув головой на пачку.
— Пять штук баксов было, если она ничего не взяла.
— Ты слышишь! — Илья ткнул Любасика ногой, но не больно, а так, для порядка. — Отдашь в трехкратном размере. А теперь давай, приведи себя в порядок, скоро на манеж выходить.
Но этим вечером Любасик на работу не вышла. Не вышла и на следующий день. У нее было сотрясение мозга. Она две недели пролежала в постели, а потом еще долго носила свою голову, как посторонний предмет, время от времени прислушиваясь к странным звукам, раздающимся изнутри, как будто кто постукивает по стенкам пустого кувшина.
Илюша был не на шутку напуган. Он приходил каждый день, приносил медикаменты и фрукты и только изредка поторапливал:
— Ты давай делай что-нибудь, на работу пора выходить, мне это все денег стоит, — он обводил взглядом убогую комнату, в которой жили проститутки. — Я инвалидов держать не могу.
Он чувствовал себя виноватым, но виду не подавал, и все расходы, необходимые на содержание Любы во время ее болезни, аккуратно записывал на ее счет.
Прошло немало времени, прежде чем Любасик смогла занять свое место на Ленинградском шоссе, но только теперь, притопывая каблуками и распахивая шубку, она твердо знала, что это навсегда. Что никогда в жизни не расплатиться ей с этим долгом, что ее будущее и судьба ее семьи целиком и полностью находятся в руках людей расчетливых и жестоких, которые не дадут ей жить, но и умереть тоже не позволят — до тех пор, пока она в состоянии приносить доход. Это открытие не возмутило ее и не вызвало никакого протеста. Она только отметила, что с самого начала неправильно поняла правила игры, после чего решила исправиться и больше никогда не повторять былых ошибок. Ей было жаль денег, которые у нее отобрали таким простым и бесцеремонным способом, поэтому она решила больше не копить и жить в свое удовольствие. Удовольствия эти были нехитрыми — недорогие крикливые тряпки, рестораны, шумные кутежи.
А еще при помощи Илюши Любасик открыла для себя волшебный мир морфия. Долго, очень долго она не хотела притрагиваться к этому зелью. Срабатывал здоровый инстинкт, страх оторваться от реальной жизни и погрузиться в сладкую агонию — мир взлетов, распада и отчаяния, который открылся ее глазам нескончаемой чередой дергающихся тел, лиц с закатившимися глазами и ломок, сопровождавшихся истерическими припадками и мучительными судорогами. Долго, очень долго Люба обходила все это стороной, по краю, пока однажды, поддавшись на ласковый шепот Ильи, не подставила ему руку. Укол оказался больнее, чем она думала, — игла не сразу попала в тонкую вену. Любасик даже застонала от боли.
— Потерпи, потерпи, маленькая моя, — уговаривал ее Илюша, точно так, как тогда, в первый раз, шептал ей на ухо Алексей, лишая невинности. — Потерпи…
Люба не успела заметить, как боль переросла в ощущение немыслимого счастья. Такой всепоглощающей, отчаянной радости, которую нужно было удержать во что бы то ни стало, любой ценой. Сначала это ощущение росло, перекатывалось огромными сытыми волнами, выплескивалось через край, и это длилось долго, очень долго, целую вечность, а потом оно стало убывать, уменьшаться — стремительно, быстро. Любасик старалась ухватить его, остановить, но оно все ускользало и ускользало из ее рук, а потом исчезло совсем, и перед нею разверзлась черная, страшная пропасть, в которую так и тянуло ринуться вниз головой. Но Илюша, как заботливый санитар, всегда подхватывал ее на краю бездны и опять ласково шептал:
— Потерпи, потерпи…
Деньги за использованные наркотики автоматически высчитывались из зарплаты, и Любасик радовалась, что все заботы Илюша взял на себя. Он регулярно посылал деньги маме и Леночке, даже тогда, когда Любасик сама забывала об этом, доставал ей недорогие наряды, приносил спиртное. Она была довольна, ей было хорошо.
— Ну что, девчонки, замерзли? — Илюша подбежал сзади, весь заснеженный, с покрасневшим от мороза носом. — Выпить хотите?
— Да чего пить-то на холоде, — лениво отозвалась высокая крепкая проститутка по кличке Лошадь. — Давай по домам расходиться, в такой колотун все равно ни у кого не встанет.
— Да, Илюш, — поддержали другие, — два часа стоим, хоть бы одна тачка подъехала.
— Ну чего, по домам? — с сомнением пробормотал Илья. — Совсем без выручки расходимся.
— А если мы еще полчасика постоим, то завтра все сляжем. Что, лучше, что ли? — заметила Шонька.
— Да уж, у нас горячий цех, болеть нельзя, — шутливо пригрозил Илья. — Ладно, бабы, давайте сворачиваться, а то я здесь вместе с вами околею, — Илья зазывно махнул рукой и двинулся в сторону парковки, где их дожидалось старое маршрутное такси, на котором девочек развозили по домам.
Проститутки вспорхнули сразу, шумно и весело, как стайка экзотических птиц, и в тот момент, когда они, уже совсем расслабившись, переходили через узкую боковую дорожку, вдруг откуда ни возьмись их ослепил свет фар. Илюша остановился как вкопанный и сделался похож на пинчера, почуявшего близость кошки.
— Давай назад! — скомандовал он. — Клиент пошел.
— Ну, кого еще принесла нелегкая? — заворчали девицы, нехотя разворачиваясь.
— Господи, на тачку-то посмотри, сейчас развалится!
— Да ему самому впору на панель вставать, — хихикнула Коза.
— Цыц! — прикрикнул Илья. — Клиент есть клиент, живо на работу!
Девочки уже издалека принялись шутливо помахивать полами пальто, выражая пренебрежение к ничтожной жалкой «Оке», в которой сидел молодой, слегка смущенный паренек.
— Ой, какой сладенький, — запели проститутки, подойдя поближе, — маленький какой! А ты в детский садик завтра не опоздаешь?
Парень растерянно хлопал глазами. Было видно, что с ним это в первый раз.
— Каравай, каравай, кого хочешь выбирай, — прокричала Лошадь, и девочки разом распахнули пальто.
От неожиданности клиент отпрянул от окна.
— Ой, смотри, испугался, маленький, — продолжала глумиться Лошадь, искоса поглядывая, не идет ли Илья. За такие шутки можно было здорово схлопотать. — Ну что, кого из нас тебе на сладкое? Смотри, какие мы все спеленькие.
— Да ладно тебе изгаляться-то, — одернула товарку Любасик и посмотрела на парня с ласковым пониманием. — Ты что, не видишь, — зеленый совсем.
Почувствовав поддержку, парнишка сразу приосанился и строго оглядел девиц.
— Вот ты! — он ткнул пальцем в Любу. — Иди сюда.
Люба сделала знак Илье. Тот подбежал к машине, взял деньги и, проходя мимо Любы, ободряюще шепнул:
— Ничего, мать, паренек начинающий, работа не трудная, скоро вернешься, а я тебе ночью гостинцев принесу.
Люба согласно кивнула и села в машину. В салоне было холодно. Люба поплотнее запахнула шубу.
— Отопление не работает, — виновато произнес парень.
— Ничего, — ответила Люба, выпуская изо рта ледяное облачко.
«Ока» надсадно тарахтела, тужилась. Водитель двигался вместе с автомобилем назад, вперед, вбок, как будто это была не машина, а строптивая кобыла, которую ему приходилось объезжать. Ехали долго, по каким-то темным незнакомым улицам. Сначала Люба следила за дорогой, потом совсем сбилась и стала смотреть в затуманившееся лобовое стекло. «Как он едет, — равнодушно думала она, — ведь ничего же не видно». Наконец они остановились в открытом дворе, со всех сторон окруженном стройкой.
— Вылезай, — сказал парень, смущенно пряча глаза.
«Дурачок, стесняется, — подумала Люба даже с какой-то нежностью. — Может быть, в первый раз, совсем еще пацан». Люба с трудом выбралась из тесной машины и направилась в сторону дома.
— Эй, ты, — услышала она за своей спиной, — не туда.
Люба удивленно обернулась — это был единственный жилой дом в ее поле зрения.
— Нам туда, — парень указал на деревянную времянку на краю стройки, в которой горел свет.
— Не, я туда не пойду, — запротестовала Люба. — Ты бы меня еще в нужнике трахнул.
— Ну, пожалуйста, — захныкал парень, — дома родители, а там никого нет.
— О господи, ну что с такой зеленью делать! Ну ладно, пошли, — Люба заковыляла на каблуках по обледеневшим комьям земли, разбросанным вокруг стройки.
Дверь во времянке была не заперта, внутри стояло несколько топчанов, прикрытых грязными рваными одеялами, стол, сколоченный из нетесаных досок с остатками воблы на газетах. Пустые бутылки, грязные стаканы валялись попросту на полу.
— Да ты меня за кого принимаешь? — возмутилась Люба. — Чтоб я в этой помойке… — она брезгливо огляделась по сторонам. — Да сюда нормальный человек даже собаку на случку не приведет. А ну, пошли отсюда! — Любасик решительно обернулась — в помещении никого не было.
Так! Это еще что за фокусы? Она подошла к двери и сердито толкнула ее ногой. Дверь оказалась заперта снаружи.
— Ах ты, маленький сукин сын! — закричала она, изо всех сил дергая дверную ручку. — А ну, открой немедленно!
Но за дверью стояла гробовая тишина, ночь, ни звука. Люба остановилась посреди времянки, и страх, как хищный зверь, навалился на нее, не давая продохнуть. Ей было ясно: она в западне, сейчас произойдет что-то ужасное. Казалось, время остановилось. Электрическая лампочка болталась на шнуре прямо перед ее носом, и Люба смотрела на нее не отрываясь, как завороженная, как будто в этом маленьком источнике света было ее спасение.
Сначала она услышала скрип снега, движение множества ног по ледяному покрову ночи, потом тихие, сдержанные голоса. Слов она не могла понять: говорили на каком-то незнакомом языке. Затем щелкнула задвижка, дверь дернулась и распахнулась. В комнату стали заходить люди. Их было много, очень много — человек десять, а может, и больше, Люба никак не могла сосчитать. Все мужчины — черные, бородатые, чужие. Они прошли мимо Любы, даже не взглянув на нее, и, расположившись вокруг стола, закурили. В помещении сильно запахло анашой. Время от времени мужчины перебрасывались какими-то фразами и смеялись гортанным диким смехом. На Любу они не обращали никакого внимания, так что ей стало казаться, будто все это сон. Что и мужчин этих нет, и ее самой нет в этой страшной времянке, и что стоит только сделать пару шагов, дойти до двери — и она сможет вырваться из этого сновидения целой и невредимой. Люба даже сделала робкий шаг в сторону двери. Но едва она шевельнулась, как все головы разом повернулись в ее сторону. От страха Люба попятилась и рухнула на жесткий топчан. Один из мужчин встал, пересек комнату и, прокаркав что-то на своем языке, вдруг смачно плюнул Любе в лицо. Он был человеком, этот кавказец, а человеку, для того чтобы изнасиловать женщину, нужно ее презирать. Поэтому он плюнул ей в лицо. Следом за ним поднялись и все остальные. Нехотя, как будто приступая к тяжелой обязанности, они окружили Любу плотным кольцом и принялись выкрикивать что-то, нервно размахивая перед ее носом руками. Руки мелькали все ближе и ближе. Потом она услышала звуки ударов, но боли почему-то не чувствовала — видимо, страх действовал как анестезия. Потом мужчины схватили ее за руки, за ноги, за голову. Они наваливались на нее один за другим, все больше зверея от общей ненависти, раздирали ножами белье, оставляя порезы на теле. Один то и дело проводил лезвием по ее горлу, дико выкатывая глаза и улыбаясь. Сначала Любе было страшно, очень страшно, но не больно. Потом она поняла, что живой ей отсюда все равно не выбраться, и страх пропал, зато появилась боль. Болело все — изнутри и снаружи, а они все лезли и лезли, подзадоривая друг друга. «Скорее бы конец», — подумала Люба и потеряла сознание.
Кавказцы оставили ее только после того, как один из них решил, что она уже давно умерла, и получалось, что они забавляются с трупом. Эта мысль им не понравилась, и они, бросив растерзанное голое тело на разбитой кушетке, один за другим бесшумно покинули помещение.
Не успели стихнуть их шаги, как от стены стоящего напротив жилого дома отделилась фигура, направившись прямо через стройку к времянке. Человек то и дело спотыкался, низко ныряя и касаясь руками земли. Стройка утопала в кромешной неподвижной мгле. Попав в тусклый отблеск струящегося из открытой двери времянки света, человек выпрямился и шагнул внутрь. Это был тот самый парнишка, владелец «Оки», который пару часов назад запер здесь Любу. Во время расправы он стоял возле дома, прижавшись спиной к стене, и смотрел, не отрываясь, на тени, хаотично мелькающие в крохотных окнах рабочей постройки. Несмотря на сильный мороз и легкую одежду, парень вспотел и то и дело вытирал обеими руками мокрое лицо. Как только вереница теней исчезла на противоположной стороне улицы, он сорвался с места и кинулся к времянке, прямо по краю огромного котлована. Оказавшись в помещении, он сразу уткнулся взглядом в обезображенное тело проститутки. На фоне черного топчана особенно бросалась в глаза его страшная белизна. Парень поморщился: комната была наполнена терпким запахом мужских гормонов и пота. Плохо соображая, что делает, он собрал с других топчанов грязное тряпье и стал забрасывать Любу, пока она не исчезла в этой неряшливой куче с головой. Затем он погасил свет, вышел на улицу и уткнулся головой в стену сарая. Его рвало.
Евгений Маркович поменял пепельницу и в задумчивости прошелся по комнате.
— Меня нашли на следующий день, — продолжала свой рассказ Люба. — Это были рабочие, которые работали на стройке. Врач говорит, что я чудом осталась жива, а я думаю, они меня не прикончили, потому что думали, что я умерла. Ушли, звери, и шубу с собой унесли, а меня каким-то грязным тряпьем забросали. Я только поэтому и не замерзла, — Люба отхлебнула остывшего чаю, поморщилась.
Психотерапевт старался сохранять спокойствие, но было видно, что даже его, бывалого, многое повидавшего на своем веку человека, этот рассказ потряс. Любасик продолжала равномерно покачиваться на стуле, выдувая в воздух струйки табачного дыма.
— Та-ак, и какой же помощи вы ожидаете от меня? — заговорил Евгений Маркович, опять устроившись за столом. — Я понимаю, ваша психика нуждается в восстановлении. Но это очень длительный процесс. Вам придется приезжать ко мне несколько раз. Если сейчас не принять меры, последствия могут остаться на всю жизнь.
— Какие такие последствия?
— Самые разные. Вы получили тяжелую психическую травму. Вас надо лечить.
— Да не надо меня лечить, — вяло возразила Любасик и посмотрела на врача взглядом, страшным, как бездна.
Евгений Маркович вздрогнул. Ему показалось, что сама смерть взглянула на него глазами этой девочки. И он понял — нет у нее никакой будущей жизни, и лечить ее незачем.
— Так какой же помощи вы от меня ждете?..
— Мне сказали, что вы можете сделать что-то типа гипноза. Можете?
— Так вот, загипнотизируйте меня так, чтобы я не боялась.
— Чего не боялась? — не понял психотерапевт.
— На работу выходить. А то здесь недавно одну убили, всего на два квартала дальше стояла, совсем молоденькая, шестнадцати не было…
День рождения
— Володь, — сказала Наташка и повела глазами по какой-то головокружительной траектории.
Володя насторожился: эта ужимка не предвещала ничего хорошего. «Сейчас чего-нибудь клянчить начнет», — подумал он и посмотрел на жену твердо, как бы заранее давая отпор любому посягательству.
Наташка вскочила и, подбежав сзади, повисла у него на спине. Володя упрямо сидел на стуле и соображал, что, потеряв из поля зрения жену, он потерял точку опоры, необходимую для сопротивления.
— Володенька, — прошептала Наташка ему прямо в ухо, — пожалуйста, пожалуйста, давай Нинку тоже пригласим!
«Слава богу, пронесло», — подумал Володя и на всякий случай недовольно повел плечами, освобождаясь от приятной Наташкиной тяжести.
— Зови, если хочешь, — неохотно сказал он. — Не знаю, что ты в ней нашла?
— Спасибо, Володечка! — Наташка радостно подпрыгнула и схватилась за телефон. — Алло, Нина, привет! Слушай, мы сегодня Володин день рождения празднуем на даче, поехали с нами! Что? Не можешь? Почему?
Володя наблюдал за тем, как счастливое Наташкино лицо постепенно расплывается в плаксивой гримасе. «Вечно она Наташкой манипулирует, — с раздражением думал он. — Не может, и черт с ней».
— Что? Собака?.. — продолжала Наташка растерянным голосом. — А Ирка не может с ней посидеть? Да, ты права, на твою дочку никак нельзя положиться… А что же делать?..
«Надо же, как трогательно расстраивается», — умилился Володя.
— Да пусть она собаку с собой возьмет, — предложил он.
— Точно! — просияла Наташка. — Слышишь, Нин, Вовка чего предлагает? Мы собаку тоже приглашаем. Пусть попасется животное на свежей травке. Все. Собирайся. Я через час за тобой заеду. На чем? — Наташка удивленно округлила глаза. — На моей ласточке. Да что ты, Нин, да не укачает твою собаку на «Оке».
— Тьфу ты, совсем на старости лет сбрендила! — сплюнул Володя, не в силах наблюдать, как жена хнычет и унижается. — Спроси, «девятка» ее пса устроит?
— А как же ты? — прошептала Наташка, закрывая трубку рукой.
— Черт с вами, я на «Оке» поеду.
— Нин, Володя мне свою «девятку» дает! В «девятке» не укачает? Ну все, жди! — она положила трубку.
— Сдалась тебе эта стерва! — проворчал Володя.
— Володечка, тебя как мама учила? О людях нельзя говорить плохо.
— О людях нельзя, а о ней можно. Езжай осторожно, у тебя в багажнике кастрюля с шашлыком.
Наташка радостно запрыгала по комнатам, на ходу насвистывая и напевая.
«Смешная она у меня», — подумал Володя и добродушно покачал головой. Они были женаты вот уже семь лет, а он все никак не мог опомниться от радости, что эта веселая и легкая красавица досталась ему, заурядному и простоватому тюфяку.
Наташка держалась за рулем красиво, как умелый наездник в седле. Новенькая «девятка» требовала торжественной осанки, не то что мятая, похожая на пивную банку «Ока».
Рядом на сиденье расположилась Нинель. Прозвище Нинель должно было хитроумно указывать на несоответствие Нинкиных амбиций и ее незамысловатой, простецкой сути. Но Нинка не желала понимать тонкого подтекста и, относясь к изящной французской интерпретации своего имени буквально, так и представлялась — Нинель.
Амбиции у Нинки появились недавно: она устроилась работать на телевидение и стала как заклинание повторять: «Мы творческие люди».
На просторных Нинкиных коленях самозабвенно дремал очаровательный таксик Степа. Его уши свисали, как два бархатных лоскутка; короткие и кривые, как у самовара, ножки подпирали длинное атласное тельце, которое заканчивалось хвостиком-сабелькой. Брюшко было украшено довольно крупным детородным органом, тоже сабелькой, только повернутой в другую сторону.
— Слушай, Нин, а он, когда гуляет, этим делом до асфальта не достает? — поинтересовалась Наташка и потянулась за сигаретой.
— До асфальта не достает. А вот по снегу мы с трудом ходим.
Наташка хихикнула и нажала на кнопку электрической зажигалки.
— Наташ, в машине не кури, — попросила Нинка. — Он этого не любит.
— Кто? — удивилась Наташка.
— Степа. У него на дым аллергия. Чихать начинает.
— А-а… — Наташка сунула незажженную сигарету в пепельницу. — Жалко, — вздохнула она, — сигаретка в «девятке» — это шикарно!
— Нам все равно скоро останавливаться.
— Ему прогуляться нужно, а то у него голова закружится. Тогда и покуришь.
Наташка искоса взглянула на песика: его добродушная мордочка безмятежно вздрагивала во сне. «Ничего у него не кружится», — подумала Наташка и, повернувшись к подруге, спросила:
— Как дела у Ирки?
— Вчера из больницы привезли, — ответила Нинка и нахмурилась.
— Господи, что произошло? Рассказывай!
— Позавчера Сашка приходит с работы, лезет за чем-то к Ирке в карман и находит пачку сигарет.
— Сколько ей? Четырнадцать?.. — поинтересовалась Наташка. — Рановато…
— Вот и Сашка так же подумал и не нашел ничего лучше, как дать ей по физиономии.
— О господи! Да разве так можно?..
— Вот и я говорю — нельзя. Она у нас к таким методам воспитания не привыкла. Но ты же знаешь, у мужиков рефлексы. Дремучие существа!
— Ну, а она что?
— А она закрылась в ванной и сожрала все таблетки, которые были в аптечке.
— Как все? — ахнула Наташка.
— Ну, не все, конечно, но достаточное количество, чтобы на тот свет отправиться. Хорошо хоть вовремя заметили.
— А как заметили?
— Смотрим, полчаса не выходит из ванной, час… Постучали — никакого ответа, и тишина такая зловещая, ну, ни шороха, понимаешь? Тут Сашка очухался и давай дверь ломать.
— Ну, сломал. Ирка на полу лежит без сознания. Врач приехал, говорит — еще бы полчаса, и конец.
— А что же вы так долго ждали?
— Да Сашка характер велел выдерживать.
— Выдержали?
— Выдержали. А Ирку в больницу увезли на «Скорой».
— Та-ак… А ты чего?
— А я сдуру в ее дневник полезла. Хотела понять, чем моя дочь дышит.
— Почему сдуру? Я бы тоже полезла.
— Наташ, я тебя заклинаю, — вдруг заполошно вскинулась Нинка. — Когда твоя Верочка подрастет, не делай этой глупости! — Нинель встревоженно смотрела на подругу.
— Почему? Что случилось-то? Что ты там отыскала?
— Как все?
— Вот так. Хочешь, прочитаю? Он у меня с собой, дневник этот проклятый.
Нинель полезла в сумку и достала маленькую розовую книжечку в детском лаковом переплете.
— «13 апреля 1998 года», — прочитала она.
— Так это же год назад было!
— Вот именно. Значит, ей тогда тринадцать только исполнилось. «Светка говорит, что ей повезло с родителями, — продолжала читать Нинель. — По-моему, врет! Нет, конечно, если удачей считать, что они ее не бьют и кормят, то я тоже счастливчик. Господи! Скорее бы восемнадцать… Я прямо в день рождения из дома уйду! С утра. До вечера не дотяну.
28 апреля 1998 года.
Верка обхаживает моего Лешечку. Хочет у меня отбить. Для нее главное не чувства, а победа надо мной. Дура! Да я ей его и так отдам. Надоел.
11 мая 1998 года.
Сегодня встречаюсь с Габо. Он черный, как африканская ночь. Жутко и интересно».
— О господи! — ахнула Наташка. — И это в тринадцать лет! А ты что же, ничего не замечала?
— Нет, ну как, негра я, конечно, заметила, когда она его к нам домой привела.
— Да ну-у?
— Вот тебе и «да ну-у». Здоровенный такой африканец. Красивый, между прочим. Я бы сама не отказалась…
— Нин, ты что, с ума сошла? Речь же идет о твоем ребенке! — возмутилась Наташка.
— О ребенке, говоришь? — зло усмехнулась Нинель. — Ну, слушай дальше.
«12 мая 1998 года.
Фу, какая гадость этот Габо! Даже вспомнить противно, что он со мной делал. Наверное, для таких вещей я еще просто маленькая. Стыдно.
13 мая 1998 года.
Звонил Габо. Я твердо решила больше с ним не встречаться. Но он мне такого по телефону наговорил! Теперь как на иголках сижу, не дождусь вечера.
15 мая 1998 года.
Мама удавилась на телефоне, а я звонка жду. Вот уже второй час учит какую-то Ирочку, как мужика на себе женить. А та дура слушает. Знала бы она, что мамаша сама только в двадцать семь замуж вышла, да еще за папу.
29 мая 1998 года.
Кажется, я начинаю понимать, почему бабы от Габо с ума сходят. Только вот зря я на колеса согласилась — вполне достаточно было шампанского… Что-то меня тошнит. Потом допишу…»
Наташка резко вильнула вправо и остановилась на обочине. Нинель повернула голову и увидела, что тонкий Наташкин нос покраснел и блестит, как лепесток тюльпана. Глубоко вздохнув, Наташка уронила голову на руль и заплакала.
— Ты чего? — удивилась Нинель.
— Она такая… такая маленькая… — всхлипывала Наташка, — а тебе совершенно, совершенно все равно…
— Да не все равно мне, — вяло возразила Нинель.
— Нет, все равно! — упрямо повторила Наташка. — Если бы моя Верочка такое написала, я бы сразу на месте умерла. А ты сидишь здесь как ни в чем не бывало!
— Твоя Верочка еще ребенок. Вот подрастет, тогда поговорим.
Тут в разговор вмешался Степа. Он зевнул, отчаянно вывернув челюсти, взвизгнул и тут же принялся старательно подскуливать Наташке, видимо стараясь произвести впечатление.
— Ах ты, мой маленький! — умилилась Нинель и смачно поцеловала песика в нос.
Наташка брезгливо поморщилась.
— Пойдем пройдемся, я курить хочу, — сказала она и, продолжая громко всхлипывать, вылезла из машины.
— Понимаешь, Наташ, — говорила Нинка, провожая тревожным взглядом Степу. — Ты всех по себе меряешь. Ну, а если я не испытываю такой страсти к ребенку, как ты к своей Верочке? Конечно, я Ирку тоже люблю, но не могу я ее без конца целовать и тискать, и смотреть на нее как на икону тоже не могу.
— А я что, на Верочку как на икону смотрю?
— Нет. Как на иконостас. Ирка, когда маленькая была, тоже выклянчивала у меня всякие нежности. Видно, ей этого не хватало.
— А ты что?
— А я от нее отбрыкивалась. Ну, что делать, если мне это противно!
— Да, если противно, ничего не поделаешь, — вздохнула Наташка. — Ну, ничего, Ирка перерастет. Она умная, талантливая. И потом, вы столько в нее вложили. Всякие там рисования, музыки…
— Перерастет, наверное, — согласилась Нинель, — если, конечно, выживет. Время сейчас не шуточное — болезни разные, наркотики. Поехали дальше, — устало сказала она. — Мы с тобой эту проблему сейчас не решим. …Степа, Степашенька, иди скорее сюда, — вдруг завопила Нинель и похлопала себя по бедрам. Песик с восторженным визгом выскочил из травы и стал крутиться у Нинкиных ног, радостно постукивая хвостом.
— Мальчик мой, красавец! — обрадовалась Нинель. Она подхватила Степу на руки и, прижимаясь к его мордочке щекой, пошла к машине.
Машина, неуклюже двигаясь по неровной дороге, свернула к дачным участкам.
— Ну, наконец-то доехали, — недовольно проворчала Нинель. — Что за манера — ехать к черту на рога, чтобы день рождения отпраздновать…
Наташка зарулила в распахнутые ворота, «девятка» нырнула носом и остановилась.
— Здесь же природа, — весело вразумила она подругу, — этого в Москве ни за какие деньги не достанешь! Мы здесь себя человеками чувствуем. Вова! — закричала она через забор. — Иди скорее шашлыки вытаскивай!
— Чего так долго-то, — откликнулся Володя. Он бежал к машине, смешно выкидывая ноги: коленями в стороны. — Все уже собрались, только вас ждем. Я уже и баньку растопил, — бормотал он, вынимая из багажника большой эмалированный бак.
Нинель свесила ноги из машины и аккуратно спустила на землю Степу. Песик радостно бросился к Володе и с ходу плюхнулся перед ним на спину, широко раскинув в стороны короткие ножки, как бы демонстрируя тем самым полное и безоговорочное признание Володиного авторитета.
— Ах ты, красавец! Мужик, настоящий мужик! — похвалил песика Володя и потрепал его по мягкому животику. Степа вскочил на ноги и, не обращая внимания на открытую калитку, стал втискиваться в дыру под забором, нетерпеливо скуля и выбрасывая задними лапками комья земли.
— Охотник! — пояснила Нинель, выбравшись из машины, и самозабвенно потянулась. — Красота! — сказала она, оглядываясь по сторонам.
— Еще бы… — смущенно улыбнулся Володя, явно принимая похвалу на свой счет. — У нас здесь райские кущи. Подожди, ты еще баню не видела, — продолжал он. — Баня смолой пахнет, дерево свеженькое. Своими руками построил! — Володя поставил бак с шашлыком на землю и предъявил как доказательство красивые, крупные руки. — А воздух у нас какой! Сделаешь глоток — и здоров! А лес, а речка!.. — продолжал торжествовать Володя, как будто все это тоже было создано его руками. — Наташ, ты Нинке грядки наши покажи. У меня свекровь — юный мичуринец! Ну, ты представляешь, перцы болгарские — во-о! — Он развел ладони и обозначил размер гигантских перцев.
— Зачем показывать? — весело откликнулась Наташка. — Мы сейчас всего этого нарвем и будем салат делать. А ты пока мужиков в баню веди, а то прогорит, нам не останется.
— Да-да, — спохватился Володя и, подхватив бак, затрусил в глубь участка.
Друзей у Володи было немного, всего двое, но зато это были друзья с детства, а значит, настоящие. Их дружба началась в трехлетием возрасте, здесь, на дачах. В те далекие времена участки были голыми и пустынными, дома только строились и из земли торчали тонкие, как прутья, молодые деревца. Но трехлетним владельцам дачной недвижимости эта поросль казалась непролазными джунглями. Они носились с одного участка на другой, восхищенные свободой, друг другом и ощущением надвигающейся жизни. Детство казалось бесконечным. Уже выстроили в округе дома, поднялись деревья, и загустела зелень в садах, а друзья все еще гоняли в футбол и ловили в пруду головастиков. А потом, вдруг, детство кончилось, оборвалось, как показалось Володе, на самом взлете этой прекрасной поры. И оборвал его один из лучших друзей — Толян. Однажды он вторгся в их девственный мир со своей ранней любовью.
Володя и Саня обиделись. Они узрели в поведении Толяна измену и дулись до тех пор, пока и Саня не попал в эту прекрасную западню. Толян долго баламутил дачное общество, сотрясая своей любвеобильной натурой семейные устои и соблазняя непорочных девиц, пока вдруг, неожиданно для всех, не остановил свой выбор на бледной и скучной однокурснице в очках. Саня же оказался однолюбом: он женился на своей первой любви. Так что уже на первом курсе института бобылем оставался только Володя.
Саня и Толян учились в университете, они были способными, а Володя звезд с неба не хватал. «Зачем они мне, звезды эти, — думал он. — Мне бы здесь, на земле, управиться». Институт он закончил самый заурядный — и то, чтобы не расстраивать маму, но в силу добротности своего характера крепко овладел знаниями, необходимыми для хорошего прораба, коим впоследствии и работал, год от года все больше осваиваясь в профессии и зарабатывая нешуточные деньги. Наташка влетела в его жизнь неожиданно, как птичка в открытое окно, и с этого момента он был озабочен только одним: как бы она, не дай бог, не вылетела обратно на свободу. Он любил ее постоянно. Днем и ночью, дома и на работе, ни на минуту не забывая о своем счастье.
Наташка окружала его веселой заботой. Она с первых же дней растворилась в нем полностью, без остатка, как будто и не было двадцати пяти лет самостоятельной жизни до замужества. Постепенно поняв, что жена от него никуда бежать не собирается, Володя успокоился и совершенно заблаженствовал. К этому моменту его друзья один за другим развелись. Толян не выдержал ограничений, которые накладывала на его независимую натуру семейная жизнь, а Саньку жена бросила, сбежав к соседу по даче и прихватив с собой общего сына, в котором Санька души не чаял. Оправиться от удара ему помог деревенский священник, и Саня, как человек, впервые уверовавший в Бога, долгое время не мог говорить ни о чем другом в надежде обратить и друзей на путь истинный. Так что в семейных водах Володя теперь остался один. И, как тихоходный катерок, медленно и упрямо тащил вверх по реке волшебный груз своего счастья.
Банька была маленькая, но жаркая. Ее деревянное нутро уютно освещалось светом тусклой лампы.
— Если в раю вот так, то я согласен пребывать в нем, — заявил Володя, блаженно нахлестывая себя веником.
— Да кто тебя туда приглашает? — усмехнулся Саня. Он лежал на верхней полке, растянувшись во весь свой необыкновенный рост, а длинные и узкие, как у зайца, ступни упирались в горячую стену. — Пару поддай.
— Только что поддавали, нельзя, зальем, — деловито вмешался Толян, распаренный и подобревший.
— Эх, мужики! — Володя спустился с полки и, зачерпнув крохотным чугунным черпачком душистой смеси, плеснул ее на камни. Баньку заволокло мятно-эвкалиптовым дурманом. — У каждого человека есть свое культовое место, — продолжал он, опять устраиваясь на полке. — У Санька — церковь, у Толяна — его кафедра в университете, а на меня здесь благодать нисходит. Я как заберусь сюда один, и знаешь, какое чувство? Я и бог, и больше никого.
— Ну и место ты выбрал для встречи со всевышним! — хохотнул Толян.
— Так ты же в бога не веришь, — серьезно заметил Саня.
— Это я в твоего бога не верю. А так…
— Ты так говоришь, как будто я — единый и безраздельный владелец какого-то особого бога. Да пойми ты — нету такого! Бог у всех один.
— Сань, давай не сегодня, а? — перебил его Володя. — У меня же все-таки день рождения.
— Жалко мне тебя, — вздохнул Саня.
— Давай ты меня с завтрашнего дня дальше жалеть будешь, а сегодня мы отдохнем.
— Я выхожу, — заявил Саня. — Сейчас под душ, а потом пивка холодненького! — Он радостно скакнул к двери и взялся за ручку, но та неожиданно рванулась из его рук. Дверь распахнулась, и Саня, отлетев назад, уселся прямиком на Толяна.
— Ты чего? — возмутился тот, пытаясь приподняться.
Голый Саня, смешно растопырив ноги, таращился на дверь. На пороге, расперев обеими руками дверной проем, застыла Нинель. Вид у нее был страшный: не по-дачному нарядная одежда испачкана в грязи, в растрепанных волосах какой-то мусор, на лице — настоящее отчаяние.
— Что случилось, Нин, пожар, что ли? — прошептал Володя и замер в ожидании ответа.
— Да если бы пожар! — отмахнулась Нинель от пустяшного предположения. — Степа под дом залез и выбраться не может! Помогите, мальчики… — проскулила она. — На вас одна надежда…
Мужчины многозначительно переглянулись.
— Ладно, сейчас достанем твоего Степу. Ты это, за дверью подожди. Дай хоть одеться-то, — смущенно попросил Саня.
Нинка покорно удалилась.
Друзья обнаружили Нинель на коленях у цоколя дома. Наполовину исчезнув в небольшом квадратном проеме фундамента, Нинель шарила в темноте слабым лучом электрического фонарика.
— Ну что, видишь чего-нибудь? — спросил Саня, явно смущенный Нинкиной позой.
— Ни черта не видно, — прогудела Нинка.
— А ну, вылезай! — приказал Толян. — Нечего без толку раком стоять. Здесь с умом подходить надо.
Нинка поднялась на ноги и обреченно затихла, всем своим видом демонстрируя неуместность шутки в такой трагический момент. Толян достал из кастрюли кусок мяса, заботливо стряхнул с него лук и перец и положил в дырку между кирпичами, где только что была Нинкина голова. Потом резко свистнул и защелкал языком, пытаясь привлечь внимание Степы, но тут опомнилась Нинель. Она подлетела к стокилограммовому Толяну, легко отбросила его в сторону и, схватив мясо с земли, швырнула его обратно в кастрюлю.
— Ты что, с ума сошла? — обалдел Толян.
— Нет, это ты с ума сошел! — заорала Нинка, полностью потеряв самообладание. — Это же свинина! Ты что, не знаешь, что собакам свинину нельзя?!
— Ну, во-первых, я понятия не имею, что собакам можно, а что нельзя, — ответил Толян, красиво, по-мужски сдерживая ярость, — а во-вторых, это не свинина, а говядина. Вчера сам на рынке брал.
— Ага, значит, ты хочешь, чтобы у моего Степочки было коровье бешенство! — не сдавалась Нинель.
— Если твой Степочка и заразится бешенством, то не от мяса, а от тебя, — огрызнулся Толян и, безнадежно взмахнув обеими руками, ушел в дом.
— Нин, а ты уверена, что он под домом сидит? — попытался сгладить неловкость ситуации Саня.
Нинка ответила ему взглядом, полным отчаяния.
— Нет, правда, — продолжал Саня, — может, он сейчас где-нибудь бегает и над нами, дураками, смеется?
— Я же своими глазами видела, — зарыдала Нинель, — он под дом залез! А там, наверное, крысы.
— Нин, перестань из-за собаки такой цирк устраивать! — смутилась Наташка.
— Это для тебя, для тебя собака… — билась в истерике Нинка.
— А для тебя кто? — усмехнулся Володя.
— А для меня… Для меня — это единственный ребенок! — прорыдала Нинка.
— Да? А я думал, у тебя Ирка единственный ребенок, — напомнил Володя. — Пойду баню выключу, все равно уже прогорела. Так что париться сегодня не придется.
— Если вот эти два кирпичика выдернуть, я бы под дом залез, — миролюбиво предложил Саня.
Нинель насторожилась.
— Наташенька, родная, позови мужиков, мы кирпичики уберем! — взмолилась она.
Наташка неохотно побрела по тропинке в сторону бани.
Дверь в предбанник была широко распахнута. В ее лихом отвороте мерещилось что-то нехорошее. Наташка подошла поближе и осторожно заглянула внутрь. Володя сидел на узкой скамейке и пил большими глотками из пивной кружки. У его ног стояла открытая бутылка водки.
— Ты что делаешь? — испугалась Наташка и, подбежав к мужу, схватила наполовину пустую бутылку.
Володя поставил кружку на скамью.
— Понимаешь, малыш, — сказал он, как бы меся языком резину, — я в трезвом виде за себя не отвечаю, — он обнял Наташку и, уткнувшись носом в ее живот, затих.
Наташка погладила мужа по голове.
— Ничего, Володенька, — успокаивала она его, — я сейчас все сделаю. Шашлычков нажарю, посидим, и все будет в порядке.
— Я тебя умоляю, убери ты куда-нибудь эту придурочную вместе с ее собакой, пока я ее не убил, — попросил Володя.
— Ну куда же я ее теперь дену? — бормотала Наташка, одновременно соображая, что просьба о разборке фундамента будет сейчас, пожалуй, неуместна. — Знаешь что, — предложила она, — ты пойди, приляг на полчасика, а я пока все приготовлю. Хорошо?
Володя упрямо замычал, аккуратно отставил Наташку в сторону, встал на ноги, сделал шаг вперед и, несколько раз покачнувшись, решительно сел мимо лавки.
— Перебрал. На голодный желудок, — объяснил он свою неустойчивость и виновато улыбнулся.
— Старик, ты чего это на полу делаешь? — в дверях стоял Толян. Он держал в руках бутылку пива и растерзанный батон белого хлеба. — Там твоя подружка совсем обезумела, — обратился он к Наташке. — Подкоп начала.
— Толь, займись именинником, — на ходу попросила Наташка, сунула ему в руку бутылку водки и выскочила за дверь.
Нинка действительно кружила вокруг дома с лопатой в руке. Вид у нее был решительный и недовольный.
— Ты где пропадаешь? — взвилась она, завидя подругу.
— Знаешь что… — Наташка подошла поближе. — Если тебе нравятся земляные работы, ты, конечно, можешь продолжать подкапывать наш дом, пока он не рухнет, а у меня есть дела поважнее.
— Какие? — обалдела Нинка. Она никак не могла придумать, что может быть важнее поисков ненаглядного Степы.
— Мне нужно мужиков накормить, — коротко ответила Наташка. — Саш, помоги мне с мангалом.
Саня виновато посмотрел на Нинку и побрел к кухне.
— Да-а, друзья познаются в беде, — резюмировала Нинель и замерла с лопатой в руке живым олицетворением скорбного осуждения.
Володя сидел за столом и восторженно жевал перья зеленого лука, только что срезанного с грядки. Неровная поверхность струганого стола постепенно исчезала под тарелками, мисками и салфетками. Наташка торопилась и поторапливала Саню, в мангале у которого никак не занималось отсыревшее дерево.
— А если водки на него плеснуть? — предложил Толян, нетерпеливо кружа вокруг мангала.
— Нет, водка слабовата, не загорится. Спиртику бы… — мечтательно произнес Саня.
— Ууу, ууу, — мычал Володя, пытаясь справиться с луковым усом, торчащим у него изо рта. — У меня в машине, — наконец выдавил он, — бутылка рома…
— Ром для такого дела жалко, — возразил Толян.
— Да ладно, жалко! — воскликнул Володя. — Я сейчас сырыми шашлыки сожру или с голоду сдохну. Тащи сюда ром! — Он порылся в кармане и, вытащив ключи от машины, бросил их Сане.
— Так, мальчики, давайте-ка пока салатику, — суетилась Наташка. Она выставила на стол огромную миску, благоухающую подмосковным летом.
— А рюмочки? — напомнил Володя.
— Да какие тебе рюмочки! — ахнула Наташка. — Ты, вон, без Толи на ноги подняться не можешь.
Володя сделал протестующий жест.
— Рюмочки будут под шашлык! — отрезала Наташка и для убедительности хлопнула крышкой от банки с маринованными грибами.
— Да где они, шашлычки-то? — Володя обвел тоскливым взглядом участок, как будто искал глазами потерявшиеся шашлычки.
За домом мелькала забытая всеми Нинка. Она то выскакивала из-за угла, то опять исчезала, словно кукушка из часов. Чуть дальше за забором ритмично двигались соседи, охваченные строительным угаром.
Смотреть на них пьяному человеку было мучительно. Соскользнув взглядом на тропинку, ведущую от калитки к кухне, Володя увидел Саню, который разглядывал на ходу импортную бутылку.
— Голубь ты наш, спаситель! — обрадовался Володя и замахал руками, загребая воздух к себе. — Скорее, скорее! — поторапливал он Саню, не в силах подняться навстречу.
Ром оказался настоящим. Дрова вспыхнули мгновенно.
— Видали, чего кубинцы пьют? — подивился Толян. — Чистый огонь. А еще говорят — мы пьяницы.
— Да, несправедливо к вам относится мировая общественность, — усмехнулась Наташка и многозначительно посмотрела на мужа.
Шампуры провисали под тяжестью шашлыка. Душистый маринад капал в огонь и с шипением вспыхивал в воздухе сочным ароматным букетом.
Наташка вышла из кухни с рюмками.
— Ребята, Нинку надо позвать, — сказала она и окинула друзей взглядом, как бы прикидывая, кому поручить эту важную миссию.
— Да я бы сходил, — сразу принял просьбу на свой счет Саня, — но они же здесь без меня шашлык сырым сожрут.
— Ладно, я сама схожу, — сказала Наташка, видимо признав оставшиеся две кандидатуры непригодными, и, поставив рюмки на стол, пошла в сторону дома.
— Ребят, давайте по маленькой, пока Наташки нет, — предложил Володя.
— Точно, — обрадовался Толян и стал торопливо разливать по рюмкам оставшийся в бутылке ром.
Не успели пустые рюмки коснуться поверхности стола, как из-за дома появилась Наташка. К ее правому плечу тяжело припадала обессилевшая Нинель. Нинкино отчаяние было настолько выразительно, что мужчины, завидя ее, замерли почетным караулом по краям тропинки с шампурами наперевес.
Володя виновато захлопал глазами. Он чувствовал, как вместе с ромом по его организму расходятся волны безудержного альтруизма.
— Так, — воскликнул он, — я тебе этого пса сейчас из-под земли достану! — В подтверждение своей решимости он рванул зубами сочный кусок шашлыка и воткнул пустой шампур в землю. — Мужики, за мной! — Володя сделал лихой поворот вокруг своей оси, потоптался на месте, обозначив движением локтей старт, и, сделав два больших скачка в сторону дома, вдруг обо что-то споткнулся и растянулся во всю длину поперек огорода. — Что это со мной? — Он встал на четвереньки, тряхнул головой и уставился прямо перед собой неподвижным взглядом.
Наташка свалила на скамейку безжизненную, как тряпочная кукла, Нинку и бросилась к мужу.
— Фу, какая гадость! — вскрикнула она, подбежав поближе.
Предметом, о который споткнулся Володя, оказалась огромная дохлая крыса. Подошли Саня с Толяном и тоже с недоумением принялись рассматривать покойницу.
— Откуда она здесь взялась? — удивился Саня.
— И вправду, мы же здесь сто раз проходили, ее не было, — оглядывался по сторонам Толян.
Володя поднялся и, беззлобно взмахнув ногой, отфутболил крысу далеко в кусты. Почти одновременно в траве зашуршало. Звук в точности повторил траекторию полета крысиной тушки.
— Ой! Да их там много! — завизжала Наташка и спряталась за широкого Толяна.
— Похоже, там действительно логово, — насторожился Володя. — Пойду топор принесу. — Он стал пятиться к дому, воинственно расставив руки в стороны.
В траве опять зашуршало. Володя принял позу, выражающую решительную готовность к бою. Из высокой травы появился Степа. Перехватив крысу поперек живота, он прогарцевал, торжественно вскидывая лапы, по направлению к Нинке, не удостоив компанию даже беглым взглядом.
— Так это он нам свою охотничью доблесть демонстрировал! — обрадовался Саня. — Добычу принес, а ты ее ногой…
— А по-твоему, я должен был ее на блюде с петрушкой на стол подать? — поинтересовался Володя.
Услышав слова «блюдо», «стол», «петрушка», Толян приятно заволновался.
— Друзья мои, — произнес он, — похоже, драма приближается к счастливой развязке.
— Драма — это когда плохой конец, — педантично заметил Саня, — а у нас здесь водевиль! — Он кивнул головой в сторону лужайки.
Рядом с мангалом в небольшой кучке золы лежала Нинель. На ее животе покоилась убиенная крыса. Нинель время от времени вскидывала руки вверх, чтобы дотронуться до Степы, который, скуля и дрожа от восторга, старательно слизывал с Нинкиного лица обильные слезы счастья.
— А все-таки есть что-то трогательное в такой любви к животному, — заметила Наташка.
— Да, совершенно умилительно, — согласился Толян и гадливо поморщился.
— Мужики, мангал еще тлеет! — всполошился Володя. — Если он прогорит, нам хана — рома то больше нет, разжигать нечем.
— Держи огонь! — крикнул вслед убегающему Володе Саня, как будто предлагал держать вора, и философски добавил: — Все хорошо, что хорошо кончается.
«…все они мечтают об одном, чтобы рядом был родной человек, который их понимает. Почему, почему такая, самая простая вещь на свете ни у кого не получается?»
«…в семейных водах Володя теперь остался один. И, как тихоходный катерок, медленно и упрямо тащил вверх по реке волшебный груз своего счастья».
«Легкость, которая осенила ее душу, стала куда-то вымещаться, и женщина почувствовала, как в ее груди корявым, уродливым грибом опять разрастаются все те же чувства: любовь — сильная, как ненависть, и ненависть — страстная, как любовь».
«Проза Эры Ершовой «слегка горчит» — так бывает, когда взгляд автора, исполненный любви к своим героям, в то же время точен и беспощаден. В ее рассказах полотно жизни многослойно и прихотливо, юмор балансирует на грани сарказма, а динамичный сюжет венчают драматические и подчас неожиданные развязки. Классические истории «маленького человека» обретают в прозе Эры Ершовой новое дыхание, а блестящая психологическая разработка поступков и характеров героев не оставит равнодушным даже самого взыскательного читателя».
Виктория Платова
История с женой оставила в душе Валерия Степановича глубокий, уродливый след. Он решил, что больше никогда не сможет полюбить женщину. Даже внезапная слепота не изменила его отношения к противоположному полу — лживому и пустому. И только после встречи с Людой Валера вдруг почувствовал, как душа его вздрогнула, словно после глубокого обморока, и наполнилась чем-то неведомым, чарующим, нежным. Он впервые обнимал женщину и не презирал ее, напротив, ему хотелось спрятать ее в себя, чтобы защитить от злого и глупого мира. Счастье Людмилы было тоже внезапным. Она уже давно ничего не ждала от жизни. Ей было без малого тридцать пять, и за все эти годы ни один мужчина не взглянул на нее иначе, как с сожалением. А сейчас Люда просто боялась умереть от нахлынувшего на нее счастья.
Чужое счастье, как правило, становится чьим-то горем…
В повести «Слепой массажист», как и в других произведениях, вошедших в эту книгу, Эра Ершова обращается к теме хрупкости человеческой жизни.
Эра Ершова. Это имя запоминается сразу. Из-за необычности: в нем соединились История и Литература.
А потом — после знакомства с повестями и рассказами — это имя входит в сердце. Надолго. Может быть, навсегда. Проза Эры Ершовой воздает нам недостаток любви.
«Эра Ершова «мусор» реальности прорисовывает беглыми штрихами, мгновенными прикосновениями кисти. Детали перекликаются тонко, точно и часто непредсказуемо. «Легко и неуловимо, как шорох платья». Виртуозность почерка и продуманная изумленность зрения».
Лев Аннинский
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Примечания
Руки вверх (нем.).
Не стрелять (нем.).
Глянь-ка, любовь с первого взгляда! (нем.).
Это невероятно! Я и правда ревную (нем.).
Добрый вечер (нем.).
Красиво? (нем.).
Мясо — красное вино. Салат? (нем.).
Приятного аппетита! (нем.).
Идем в спальню (нем.).
Доброй ночи, ангелочек (нем.).
Сокровище (нем.).
Ангелочек (нем.).
Да, да (нем.).
Мышонок (нем.).



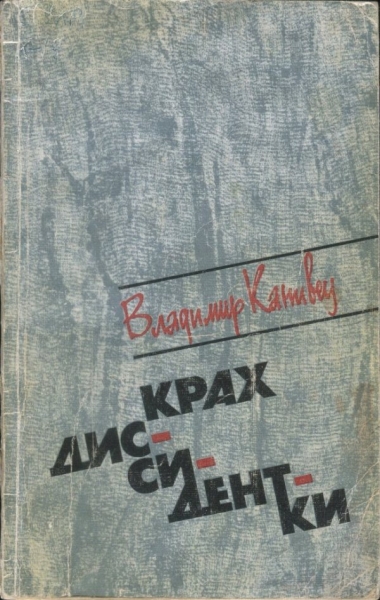



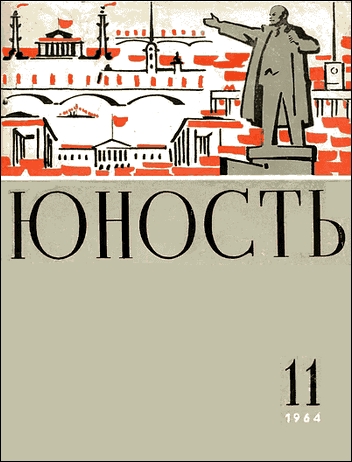
Комментарии к книге «Самая простая вещь на свете», Эра Ершова
Всего 0 комментариев