Эра Ершова В глубине души Проза Эры Ершовой
Посвящается Вере Глаголевой
Чудны дела твои…
На юбилей свадьбы Антон преподнес Изабелле царский подарок в виде котенка.
Котенок этот был помещен в корзинку на бархатную подушку, но вертелся, царапался и изо всех сил старался выбраться из бархатного плена. А вел он себя так потому, что в силу младенческого возраста не имел ни малейшего понятия о своем нешуточном происхождении.
Дело в том, что в вопросе выбора подарка Антон поступил привычным образом.
Он сел к компьютеру и набрал в «Гугле» «самые дорогие кошки в мире». Антон всегда покупал все самое дорогое и в данном случае не собирался делать исключение.
Но на такую удачу не мог рассчитывать даже он.
Первым же номером в списке ссылок появилась кошка такой красоты, что у Антона перехватило дыхание.
Называлось это чудо саванна. Происхождением оно было обязано причудливой фантазии человека, которому вздумалось скрестить леопарда с обычным домашним котом.
В результате этой фантазии на свет появилось животное, стоимость которого несколько превосходила стоимость слитка золота такого же размера. И это радовало. Не мог же Антон подарить супруге дешевку!
Когда Изабелла впервые увидела это крошечное, но чрезвычайно подвижное существо, в ее душе что-то сдвинулось.
Там как будто открылось небольшое отверстие, через которое медленно стала уходить накопившаяся годами горечь от неудавшейся жизни. Изабелла вдруг почувствовала необычайную легкость во всем теле, и любовь, которую ей пришлось похоронить заживо, вырвалась из плена и заполонила собой все.
Она встала на колени перед корзинкой с подарком и, прислонившись к котенку щекой, в первый раз за много лет улыбнулась.
И страшнее этой улыбки трудно было себе что-либо представить. Прекрасное лицо Изабеллы перекосилось, обнажив с правой стороны великолепные белые зубы, в то время как левая сторона оставалась мертвой, неподвижной. Изабелла подняла дивные глаза на мужа и, увидав на его лице брезгливую гримасу, заплакала.
…Это несчастье случилось с ней много лет назад, накануне свадьбы.
Ничто тогда не предвещало беды. Юность ее была лучезарна, жизнь открывала свои объятия и манила предвкушением чего-то неизведанного, волшебного.
Изабелла была так хороша, что иногда, остановившись перед зеркалом, она смотрела на себя с изумлением.
И действительно было чему удивляться.
Природа редко доходит в своих творениях до такого совершенства, каким выросла Изабелла — нежнейшее создание с лицом настолько необычайной красоты, что временами оно казалось призрачным, нереальным.
Все в этой девочке было вышито тонкими нитками, ничего грубого, приземленного.
И таким необыкновенным явлением не замедлил заинтересоваться один из самых видных женихов Москвы. Антон увидел Изабеллу из окна своего бронированного автомобиля. Его поразило, с какой нерешительностью она пытается перейти дорогу, как неуверенно трогает ногой проезжую часть, будто собирается войти в воду.
— Останови! — крикнул он водителю, который промчался через зебру, не обращая внимания на пешеходов.
По первому сигналу хозяина водитель ударил по тормозам. Автомобиль, как вкопанный, встал посреди дороги.
Следом за ним, на расстоянии метра, затормозила машина охраны. Недолго думая, Антон выскочил на проезжую часть и, лавируя между гудящими автомобилями, помчался навстречу судьбе. Перед ним, пытаясь остановить движение, неслась встревоженная охрана.
Конечно, случай невероятный. Где это видано, чтобы мужчина такого ранга бегал по улицам за какими-то девицами!
Но в том-то и дело, что Антон был человеком незаурядным и часто совершал поступки, не поддающиеся никакой логике. Ну что ж, средств у него хватало на любые безрассудства. Он был единственным сыном и наследником губернатора области.
Правда, область эта была не бог весть что — маленькая, захудалая, и доходов с нее едва хватало, чтобы прокормить семью губернатора. На население области не оставалось ничего. Ну совсем ничего!
Население это было, можно прямо сказать, нищим. И от этой бедности с ним постоянно случались всякие неприятности в виде природных катаклизмов и неизлечимых болезней.
Губернатор был мужиком хозяйственным и отважно боролся с многочисленными напастями.
Но без денег что же сделаешь?
И потому, как это часто бывает на Руси, наводнения приходилось разводить руками. Он их и разводил, пожары тушил, выкручивался, как мог, — и все для того, чтобы вывести в люди свою единственную надежду и опору, Антошку.
В результате всех этих жертв и усилий из Антошки вырос человек незаурядных качеств. Получив образование в лучших университетах мира, он не захотел остаться ни в Лондоне, ни в Нью-Йорке, ни в другой части света, где у него были роскошные дома и квартиры, а поселился в Москве, в скромном особняке, расположенном на небезызвестном направлении.
Свой выбор он объяснил тем, что деньги можно делать только в Москве. Конечно, ему было известно, что и в других странах люди зарабатывают деньги, но здесь важно понимать разницу — одно дело зарабатывать, а другое — делать. Делать можно и вправду только в Москве. И он стал на практике применять те знания, которые получил, — в результате чего область, которой управлял отец, стала еще беднее, а семья Антона — еще богаче.
Но первое обстоятельство Антона не смущало, поскольку в области этой он бывал только в раннем детстве и никогда не видел, как там люди страдают. А когда страдающих людей не видишь, то и жалости к ним откуда взяться?
Таким образом, Антон жил своей фантастической жизнью и мечтал о любви.
Да, да, он был романтиком! Деньги еще не испортили его окончательно, и в каждой женщине он пытался разглядеть что-то искреннее, настоящее, что-то такое, что отличало бы ее ото всех остальных. Но среди многочисленных московских красавиц не нашлось ни одной, в которой было бы что-то особенное. Все на одно лицо. Казалось, смахни все наносное, и от них ничего не останется.
Вот потому Антон выскочил из машины и помчался за девушкой, которая переходила Дорогу.
В ее нерешительности и отрешенности он увидел то, что так долго искал. И когда девушка оглянулась на оклик, последние сомнения рассеялись, и Антон понял, что это — она.
Изабелла казалась сотканной из света. В ее глазах мог утонуть рассудок любого мужчины, но Антон был первым, и он окружил избранницу таким высоким забором любви, что через него к ее сердцу не мог пробраться ни один соперник.
Изабелла, девушка из простой семьи, отнеслась к знакомству с одним из лучших женихов России как к должному. Она как раз такого ждала и не видела в этом ничего удивительного.
После недолгих приготовлений назначили день свадьбы.
И тут произошло событие, которое в одно мгновение перевернуло все. Накануне свадьбы, примерно за неделю, Изабелла отправилась в кремлевскую поликлинику, чтобы удалить зуб мудрости.
Зуб этот ей совершенно не мешал, но врач, видимо, для того, чтобы заслужить внимание высокопоставленной пациентки, заглянув красавице в рот, произнес:
— Зуб мудрости! Зачем он вам нужен?
Изабелла не нашла что ответить на такой странный вопрос.
Зуб мудрости ей был действительно ни к чему. Ведь жила же она без него девятнадцать лет, и вдруг, нате, пожалуйста, вырос!
И десна вокруг него слегка припухла.
— Давайте-ка мы его удалим! — потирая руки, предложил врач.
И опять Изабелла не сумела возразить и согласилась на операцию.
Операция, по уверению врача, была настолько пустяшной, что Изабелла даже не воспользовалась услугами шофера, а поехала в поликлинику сама, на роскошном кабриолете, который как раз получила в подарок от жениха.
Но домой она самостоятельно вернуться не сумела, поскольку врач, чтоб у него руки отсохли, рванул зуб с такой силой, что повредил у красавицы челюстно-лицевой нерв, после чего мимика правой стороны ее прекрасного лица была безвозвратно утеряна и волшебная улыбка, которой она пленила блестящего жениха, навсегда исчезла с ее губ.
Поняв, какое горе случилось с его возлюбленной, Антон не дрогнул и не отказался от нее, как это сделало бы большинство мужчин из его окружения. Он только перенес свадьбу, чтобы дать невесте время оправиться от перенесенного шока.
Лишенное мимики, лицо Изабеллы не утратило красоты. Даже по прошествии многих лет ни одна морщина не коснулась ее прекрасного лика, но что-то жуткое было в этой застывшей маске.
Леденящую душу мертвенность излучали ее огромные, выписанные с таким тщанием глаза, и неизъяснимая обида таилась в скорбных складках ее губ.
Многие годы супруги думали, что все поправимо, ездили по лучшим клиникам мира, показывались таким специалистам, до которых простой смертный даже дотянуться не мог. Потратили на эти обследования целое состояние — все бесполезно!
Ни один врач на свете не мог помочь их беде.
И по мере того, как становилась очевидна вся безнадежность их положения, душа Изабеллы, когда-то веселая и беспечная, как птичка, все более и более приобретала сходство с лицом.
Она становилась такой же застывшей, безжизненной, мрачной. И мрачным становилось все вокруг. Даже прислуга не выдерживала подолгу в доме, из которого был изгнан смех.
Любая улыбка, любой смешок, случайно затерявшийся в лабиринте бесконечных комнат их дома, рассматривался как бестактность по отношению к хозяйке, и преступник получал строгий выговор.
Если бы у Изабеллы были дети, ей было бы легче справляться с бедой. Но дети, как известно, рождаются от любви, а любовь Антон унес к другой женщине, Алине, которая, может быть, и не была такой красавицей, но зато хохотала так, что от ее смеха звякала в шкафу посуда.
И сердце Антона тоже звякало, и жизнь вокруг Алины ходила ходуном. Она не была так призрачна, так несбыточна, как Изабелла. Она крепко, двумя ногами, стояла на мраморном полу загородного дома, и по полу этому без устали сновали двое близнецов, как две капли воды похожих друг на друга и на Антона.
Несколько лет Антон деликатно навещал подругу два раза в неделю. Он хоть и воспитывался в Европе, но в жилах его текла крестьянская отцовская кровь. И эта кровь диктовала свои законы. Женился — живи. Изменять — пожалуйста, но разводиться — ни-ни!
И Антон, натешившись любовью молодой энергичной женщины, честно плелся в семейный склеп. Таиться он перестал, когда на свет появились близнецы.
Здесь, уж извините, не до деликатности. Такое событие! Жену он по-прежнему не бросал, но дома появлялся редко. И общения с Изабеллой старался избегать.
Появление мужа Изабелла всегда встречала одними глазами. Глаза на ее лице были единственным живым инструментом, при помощи которого она старалась выразить чувства, передать мужу все то, что было между ними наболевшего, недосказанного.
И от этого мучительного желания диалога ее зрачки становились такими огромными, что глаза чернели, и в лице появлялось что-то мистическое, потустороннее.
— Я ее боюсь, — жаловался Антон своей возлюбленной. — Мне кажется, она превратилась в ведьму.
— Не понимаю, чего человеку надо? — охотно откликалась возлюбленная. — Живет, как королева, ни в чем отказа не знает, и все ей не так. Вот если бы я была твоей женой…
Но такие разговоры Антон пресекал сразу.
И дело здесь было не только в его мужской порядочности. По здравом рассуждении, жена в его положении была необходима. Она занимала то самое место, на которое могли бы претендовать многие.
Мать его детей Алина не оставила бы Антона в покое, будь он холост. А так вопрос решен раз и навсегда. И это освобождало Антона от посягательств на его имущество со стороны алчущих больших капиталов московских красавиц.
Конечно, любовницу он содержал по высшему разряду. Но любовница — не жена. Она не может требовать, а может только просить. Алина просила, а Антон никогда не отказывал и чувствовал себя благодетелем.
— Женщина — она как кошка, — любил повторять Антон, — ко всему привыкает. Нужно только поласковее…
Алина по своему характеру действительно походила на кошку, которая урчит и нежится, когда ее ласкают, но каждый шаг хозяина ставит под сомнение и при всяком удобном случае норовит продемонстрировать свою независимость. Это Алина со своим кошачьим характером придумала на годовщину свадьбы подарить Изабелле котенка.
— Должна же она хоть кого-то любить! — посочувствовала она сопернице и подсела к Антону за компьютер.
Котенку дали загадочное имя Гуяр, которое находилось в некотором созвучии с ягуаром.
И этот самый Гуяр с первых же дней проживания в доме сделался средоточием всех радостей и огорчений в жизни хозяйки.
Изабелла не расставалась с ним ни на минуту, для ухода за маленьким любимцем в доме появилась специальная прислуга.
По совету ветеринара, чтобы утолить охотничьи инстинкты молодого зверя, ему на ужин привозили живых лабораторных мышей, за которыми он охотился в специальном вольере.
В отличие от полевых мышей, лабораторные были стерильными и не разносили никаких инфекций.
Изабелла лично контролировала все, и постепенно, под воздействием этих неусыпных забот, ее любовь к Гуяру стала превращаться в озадачивающую окружающих страсть.
— Чего-то хозяйка наша совсем, — поговаривала обслуга. — Вчера у этой твари прихватило живот, так такой переполох поднялся, хозяин примчался и врача с собой привез. Врач-то кошачий, а откачивать ему пришлось хозяйку, она чуть инфаркт не получила.
— Эх, люди, люди, Бога не знают, — вздыхал садовник Иван Тимофеевич. — Разве ж можно из-за кота так душу рвать!
Но в жизни Изабеллы больше не было никого, из-за кого она могла бы рвать душу. Гуяр стал единственным живым доказательством того, что у нее вообще еще сохранилась какая-то Душа.
И, прислушиваясь к тихим шорохам внутреннего мира, Изабелла с исступлением прижимала к себе пятнистого любимца и целовала его в сухой нос с такой страстью, что было в этом даже что-то неприличное.
Со временем из маленького комочка вырос здоровенный наглый кот, который, казалось, прекрасно знает себе цену.
Прислугу он презирал и любое движение в его сторону рассматривал как покушение на свою особу — выгибал спину, шипел и показывал крупные белые зубы, которые явно свидетельствовали о его родстве с хищником.
Надо сказать, что зверь этот обладал изворотливым умом, и по некоторым поступкам даже можно было предположить, что он владеет искусством интриги. Так, например, он научился открывать дверь холодильника, в котором хранилось свежее мясо. Украв приличный кусок, он никогда не забывал закрыть дверь обратно.
Свою добычу кот не ел, потому что был всегда сыт, а прятал ворованное под диваном в доме охранника.
За короткое время опустошив таким образом холодильник наполовину, он прекратил свою деятельность и затаился.
Когда разразился скандал, Гуяр сидел на кухне и наблюдал за происходящим с человеческим любопытством.
Кухарку обвинили в воровстве и с позором выгнали. Та плакала и клялась, что никогда ничего не брала, и если бы кто-нибудь в этот момент взглянул на морду кота, то мог бы прочесть в его глазах выражение злорадства.
Кухарка обращалась с ним грубо, ругала нехорошими словами, чего Гуяр, конечно же, понять не мог. Но тон! А однажды она обнаглела до того, что огрела его полотенцем! Теперь пусть знает, кто здесь хозяин.
Гуяра вскорости разоблачили, потому что мясо стало источать зловонный запах, но репутация кухарки была навеки погублена. Хозяева даже не извинились. Напротив, Изабелла была в восторге от хитроумной проделки любимца и долгое время только об этом и говорила.
В то время как в доме Изабеллы кипели кошачьи страсти, в вотчине ее свекра случилось очередное несчастье.
Там что-то разлилось и затопило половину области. Дома жителей оказались под водой, а сами жители с детьми, козами, гусями и курами сидели на крышах и чего-то ждали. Русский человек всегда чего-то ждет, сам не зная чего. Губернатор был в бешенстве.
— Эти идиоты, — кричал он, — держатся за свои лачуги, как безумные! Я сколько раз посылал спасателей, предлагал перевезти их на сушу. Так нет же! Сидят, так их растак, и с места не двигаются. Мародеров они, видите ли, боятся! Да что у них брать!
И в этом пункте мнение губернатора в корне расходилось с мнением пострадавших.
Это с его точки зрения у них взять нечего. А с точки зрения самих граждан — в домах оставалось все, что им удалось тяжелым трудом скопить за всю жизнь, и, бросив это жалкое имущество, они рисковали обнищать окончательно. Поэтому они сутками сидели на мокрых крышах в надежде, что вода как-нибудь схлынет сама по себе.
На эти крыши к людям поступали сообщения, что для них готово теплое общежитие и что со временем они получат новые дома.
Но люди почему-то в это не верили и продолжали вести журавлиный образ жизни. Только беременных женщин, стариков и детей удалось выманить с их поста.
Все же остальные держали оборону до последнего. Они даже наладили некое подобие жизни, то есть ездили друг к другу в гости на плотах, обменивались новостями, и все это до тех пор, пока вода не стала уходить тем же естественным путем, которым пришла.
И только тогда стал ясен весь размах постигшего их несчастья. Вода унесла с собой последние надежды. Хозяйства были безнадежно погублены. И зря люди так долго терпели все эти лишения. Лучше бы послушали губернатора и пересидели в тепле.
Восстановить разрушенное можно было только путем вложения значительных средств. И тут с жителями региона случилось небывалое! На них посыпались пособия.
Люди, не привыкшие чего-либо получать, буквально ошалели. Они таких денег в руках-то никогда не держали. А здесь, нате, пожалуйста, деньги свалились буквально с неба.
И пошло веселье! Сначала долго праздновали удачу, и за этим делом как-то позабыли, для чего выделялись средства. Потом опомнились и взялись за восстановление разрухи.
И тут ликование стало уходить с такой же неумолимостью, с какой давеча уходили вешние воды. На деле оказалось, что денег едва хватает, чтобы как-то подшаманить жилье на лето, а что зимой делать, никто не знал. И право дело, чего о зиме-то думать, когда весна на дворе?
И распорядившись средствами, кто как мог, люди зажили покосившейся жизнью так, как если бы ничего не случилось.
— А чо? — поговаривали мужики. — Мы ща все лето горбатиться будем, последние деньги потратим, а осенью опять все смоет. Вот на осеннее пособие и ремонтироваться станем.
За таким развитием событий с тревогой наблюдал священник одного деревенского прихода — отец Михаил.
Отец Михаил был плохим священником, и собственная плохость мучила его беспрерывно. Не было в нем той стати, того внушительного голоса и той глубины взгляда, при помощи которых иной батюшка приводил в трепет паству.
Отец Михаил был мал ростом, неказист и до болезненности застенчив. И голос у него был писклявый, как у девицы.
«С таким бы арсеналом в монахи, — думал он, — да обет молчания на себя наложить. А я, вона, людей наставлять на путь праведный взялся».
А кого наставлять-то? Приход почти пустой. Не ходят к отцу Михаилу люди. Так, пара старух захаживает, и те смотрят на него с сомнением. Но при всех недостатках отец Михаил, помимо искренней веры в Бога, обладал еще одним неоспоримым достоинством — он любил людей.
Любил не за какие-то особенные качества, а всех огульно, одной жалостью. Всю жизнь он страдал и мучился из-за собственного несовершенства, из-за неумения донести до прихожан самые простые вещи, научить их жить на земле правильно, так, как предписано Богом. И выдумывать ничего не надо, был уверен отец Михаил, — делай, как сказано, и все будет хорошо.
Но люди почему-то всегда все делали наоборот. Они безобразничали, пьянствовали, мучили друг друга, и их вину отец Михаил брал на себя. Это он не нашел правильных слов, не смог собрать людей вокруг храма.
Кстати, о храме. Именно храм во время наводнения пострадал больше всего. Он стоял на непривычном месте, ближе к реке, в низинке и по самую колокольню ушел под воду.
Церковка и так-то была плохонькой, прямо под стать служителю, а здесь и вовсе одни стены остались.
Отец Михаил, как положено, доложил начальству о случившемся несчастье — так, мол, и так, приход разрушен, молиться негде.
Сообщил и стал ждать. И здесь сказывалась его слабая натура, нет бы надавить, поехать, разобраться.
Но всего этого отец Михаил не умел. Он тихо молился за спасение дома Господня и с ужасом наблюдал за тем, как под воздействием всеобщей разрухи неумолимо разлагаются нравы селения.
Русскому человеку нужен каркас в виде власти, или Бога, или страха, на худой конец. А когда ничего такого нет, то он быстро опускает руки, спивается.
Женщины еще как-то держались, а мужики разболтались окончательно. Нет, не на пользу им пошло пособие.
И тут отец Михаил вдруг почувствовал в себе что-то новое. Дойдя до самого края и увидав, в какую пропасть заваливается доверенная ему община, он вечером пришел в пустую церковь, зажег лампадку и встал на колени перед тем, что когда-то было иконой, а теперь превратилось в черную сырую доску с остатками позолоты.
Вода пришла в храм ночью, и иконы он спасти не сумел.
Молился отец Михаил всю ночь, и когда наутро пропели первые петухи, он уже знал, что нужно делать.
С самого утра, не давая себе перерыва на отдых, он начал голыми руками, как мог, восстанавливать храм. Он собирал по всей округе ненужные доски, камни, в общем, все, что могло хоть как-то помочь залатать дыры, и в старой тачке подвозил все это к церкви.
Поначалу на его деятельность никто не обратил внимания, но потом около храма стали собираться любопытные.
Они просто стояли в сторонке и время от времени обменивались репликами:
— О, глянь, батюшка церковь взялся восстанавливать. Здесь, можно сказать, люди на улице остались, а он Богу домик строит.
— Да не построит, — успокаивал собеседник. — Разве без материалов чо сделаешь?
Батюшка слушал и понимал, что люди правы и что никогда ему самому не справиться, а в вышестоящих инстанциях почему-то не чешутся.
Но ночью, на молитве, на него снизошло прозрение. Ему стало ясно, что кто-то должен начать собирать развалившуюся жизнь по крохам, из ничего, но собирать, а не рушить. И эта уверенность в том, что он действует верно, что главное не сворачивать с пути, и была тем новым, что открылось ему с криком петуха.
Первым, кто откликнулся на молчаливый призыв священника, был самый никчемный мужик на деревне — Егорыч.
Никто не знал, как он угодил в Егорычи, потому что отца его звали Николаем.
Откуда прицепилось к нему это прозвище? Может, оттого, что было в этом имени что-то колючее, ершистое, а Егорыч — известный дебошир и пьяница?
Но пьяницей он был не от слабости, а по разумению, потому что поиски смысла земного бытия замучили его совершенно.
Однажды утром он отверз отуманенные очи и понял, что жизнь ему не мила, но не мила не обычной похмельной немилостью, а как-то по-особенному, горько, бесповоротно, хоть в петлю лезь.
И он бы непременно полез, если бы не нашел в печи у супруги бутылку самогона. Она думала, что он под золой не сыщет, а он сыскал. Пристроившись у окна, Егорыч опрокинул рюмочку и стал смотреть в волнистое мутное стекло, как в телевизор. Там, на улице, происходило много всякого интересного.
«Если повезет, — думал он, — то можно увидеть драку, и тогда надо бросить все и бежать принимать чью-то сторону по справедливости, или глядеть, как пастух гонит коров — утром тощих, голодных, а вечером сытых, осторожно несущих полное вымя. Или просто глядеть на закат».
Но на сей раз Егорычу не везло. Улица была пустынна. Ее пустота как будто наполняла собой его душу и, огорченная этой безутешной душой, вытекала в мир.
И это оказалось пострашнее наводнения, потому что от такой безутешности спасение было только в самогонке.
Так Егорыч просидел бы до вечера, но самогонка стала заканчиваться. Тогда он, натянув на тощий зад треники с пузырями на выпуклых местах, выполз на улицу и стал крутить головой, озираясь и обдумывая, кто из товарищей может угостить.
Мимо прошел гусь тети Вари. Он старательно поводил задом из стороны в сторону, как будто направлялся по важному поручению. Промчался на кривом велосипеде соседский мальчик, за ним девочка, тоже на кривом.
«Не то, все не то», — думал Егорыч.
И вдруг из-за поворота появилось колесо, большое, резиновое, и это колесо влекло за собой сначала ржавую тачку с каким-то мусором, а потом пристроившегося к ней попа в длинной черной рясе.
Егорыч насторожился. Не в том смысле, что с попом можно было выпить, а в том, что в этом явлении он усмотрел что-то необычное.
И когда священник проходил мимо, он как будто смахнул рясой Егорыча с места, и тот поплелся вслед за тачкой. Поплелся так, из чистого любопытства.
— А чой-то ты такое делаешь, отец Михаил? — через некоторое время поинтересовался Егорыч.
— Да вот, храм хочу восстановить, — признался отец Михаил, надсадно дыша, видно, тяжелая тачка была ему не по силам.
— Ха! — усмехнулся Егорыч. — Ха-ха, да разве из этого мусора храм построишь!
— Не знаю, построю или нет, но строить буду, — отозвался священник. — Все лучше, чем сложа руки сидеть.
Эта мысль почему-то особенно поразила Егорыча, и он, недолго думая, дружелюбно оттолкнул попа в сторону. Оттолкнул и покатил тачку сам.
— Передохни, — пояснил он свои действия, — а то вон неведомо, в чем душа держится, а все туда же, тачки толкать.
Когда-то Егорыч был богатырем, в последнее же время от пьянки весь ссохся и только по привычке думал о себе в преувеличенном смысле, то есть считал, что он крупнее, выше и сильнее хилого священника.
Так, сменяя друг друга, они докатили груз до места назначения и стали перетаскивать содержимое тачки к стенам храма.
И здесь Егорыч действовал механически — мол, помогаю хорошему человеку, выпить все равно не с кем, почему бы и не помочь.
Занимался он этой нелегкой работой до глубокого вечера, и чем больше уставал, тем легче становилось у него на сердце, будто не церковь очищал от грязи и мусора, а растаскивал завалы в собственной душе.
И там, в душе, становилось легко и пусто, и в эту пустоту нужно было поместить что-то серьезное и важное, что-то такое, что Егорычу было совершенно неведомо.
И не зная, чем наполнить эту пустоту, он, попрощавшись с отцом Михаилом, отправился к друзьям, которые как раз сидели у реки и, тихо беседуя, смотрели на воду.
Друзей было четверо, и все они покосившейся статью и осоловелыми лицами походили на Егорыча.
— О, садись к нашему огоньку! — крикнул один из них. — Смотрите, братцы, времени десятый час, а он — ни в одном глазу!
Послышалось мелодичное бульканье, и в руке у Егорыча оказался граненый стакан, до краев наполненный мутным зельем.
Егорыч поблагодарил, выпил и почувствовал, что душа его до краев наполняется хмелем, мир вокруг становится привычным. И хочется говорить.
— Я, братцы, сегодня храм строил, — объявил он.
— М-м-м… — удивленно промычали братцы.
— И знаете, — продолжал Егорыч, — впервые в жизни человеком себя почувствовал.
В ответ вновь раздалось знакомое бульканье, и в руке у Егорыча опять оказался стакан. Выпив и закусив запеченной на ржавом щите рыбешкой, он выплюнул на песок кости и заговорил.
Суть его речи сводилась к тому, что жизнь без идеи совершенно бессмысленна, и если бы не поп, то он бы так и не понял ничего до конца своих дней.
Конечно, изложить такую глубокую сентенцию ему было непросто, поскольку язык заплетался и мысли в голове были какими-то вязкими, путаными. Но все же за несколько часов Егорыч сумел донести основную идею до собеседников, после чего они вповалку уснули прямо на берегу.
…Проснулся Егорыч от удара мокрым полотенцем по лицу.
— Ээ… — замычал он и открыл глаза.
Ужас всей его жизни, жена Галина стояла спиной к реке, и восходящее солнце рисовало по бокам ее силуэта огненные крылья.
— А ну, вставай! — заорала она таким визгливым голосом, что в мозгу у Егорыча сразу образовалась брешь.
Опасаясь за голову, Егорыч поднялся с ночного ложа и, на ходу отряхивая песок, покорно поплелся за супругой, как идущая на водопой корова. Они молчали. Они молчали всю жизнь. Потому что все важное было сказано тогда, давно, в молодости, а теперь осталось одно недовольство, о котором говорить не имело никакого смысла, потому что переделать друг друга они уже не могли.
Но Галина не сдавалась, она все ждала чего-то от жизни, все думала: а вдруг случится чудо, ее муж перестанет пить, и они заведут ребеночка.
И, поддаваясь несбыточным мечтам, она внезапно начинала бунтовать на ровном месте и нападала на супруга, не умея объяснить, зачем она это делает, тем самым вызывая у того недоумение и, как следствие, — желание напиться.
Так и на сей раз, глядя на перекатывающуюся походку жены, Егорыч взялся думать о своем — что эта баба дана ему в наказание и что надо бы залить это горе.
Но вот на этой мысли, относительно залить, он почему-то споткнулся и вдруг отчетливо понял, что водка ему опротивела, как и все остальное. Что поутру, вместе с хмелем, ушла та наполненность миром и ощущение гармонии, ради которых он пил, и в душе опять образовалось что-то вроде пещеры, пустой и гулкой, и это пространство требовало какого-то наполнения. Недолго думая, Егорыч отстал от жены, шмыгнул в какой-то проулок и, поражаясь собственной прыти, рванул к церкви.
Отец Михаил был уже на посту.
Он по-прежнему проделывал какие-то бессмысленные манипуляции, которые никак не могли послужить реставрации храма. Увидав копошение попа, Егорыч с облегчением вздохнул и принялся за дело.
Где-то к полудню на пригорке показались его давешние собутыльники. Они уже успели похмелиться и смотрели на мир ласково.
Сначала они только делали замечания и давали советы, но как-то незаметно и сами втянулись в работу, и теперь на руинах храма перетаскивало с места на место мусор уже шесть человек.
К вечеру, обессилев от трудов, Егорыч вернулся домой, где его во всеоружии встретила Галина, готовая к скандалу. Но едва она раскрыла рот, как муж подошел к ней и нежно потрепал по щеке.
Галина так и осталась стоять с открытым ртом. В этом жесте было что-то родное, из прошлого, что-то такое, что отдаленно напоминало счастье.
И тут, не помня себя от радости, она заметила, что ее муж, Сергей, первый раз за много лет трезв.
— Сереженька… — прошептала она.
Егорыч оглянулся и изрек:
— Галь, я пить больше не буду, надоело. Я теперь с батюшкой храм строю.
По привычке Галине хотелось закричать:
— Видали, храм он строит! Здесь зима скоро, нам самим вот-вот на голову крыша рухнет!
Но она сдержалась, потому что каким-то седьмым чувством угадала — муж не шутит, случилось нечто из ряда вон выходящее, нечто такое, что может изменить их жизнь — случилось долгожданное чудо!
Когда отец Михаил затевал ремонт храма, он представлял себе размах задуманного предприятия как человек, который пытается составить себе картину мира, глядя на него в замочную скважину.
В эту скважину была видна церковь, Егорыч с товарищами, и отцу Михаилу не было страшно, потому что он понимал, что сил у него достанет и на Егорыча, и на его друзей, и даже на всю деревню.
Но когда на строительство церкви со всей округи потянулись толпы паломников, батюшка испугался. Он был человеком скромным и не знал, что делать с такой вселенской славой.
Началось все с того, что Галина рассказала соседке, будто отец Михаил ее мужа от пьянки спас.
Соседка вытаращила глаза и потащила своего ханурика в церкву. Как это ни странно, но и ее муж поддался трудотерапии и за работой на время позабыл о бутылке.
Как всегда на Руси, весть о случившемся чуде стала распространяться со скоростью пожара, обрастая по пути самыми невероятными подробностями. Человеческая молва зачислила отца Михаила в старцы, святые великомученики.
Поговаривали, будто он наложением рук лечит любые болезни. И снялась со своих мест Русь-матушка, и, казалось, вся округа двинулась в сторону развалившегося прихода.
Люди шли с бедами, надеждами. Большинство из них и в церкви-то никогда не бывали.
Сколько раз отец Михаил молил Бога образумить заблудшую паству и прислать к нему прихожан. Но здесь Всевышний явно перестарался. Паломничество принимало размах бедствия.
И тогда отец Михаил опять встал перед доской, на которой по прошествии времени едва узнаваемым темным пятном стал проявляться лик Господень. И опять отец Михаил молился до утра и просил пособить ему маленько в непосильной задаче.
И опять Господь услышал его. Наутро отец Михаил почувствовал в душе необычайную бодрость. Выйдя на ступени храма, он обозрел огромную толпу прихожан и произнес:
— Дорогие мои, — голос его звучал необыкновенно громко и ясно, — я так долго вас ждал! И вот вы наконец пришли!
Толпа загудела одним общим одобрительным гулом.
— Я не святой, — продолжал отец Михаил, — и чудес творить не умею.
И опять раздался гул, но теперь уже какой-то тревожный, недовольный.
— Да поймите вы, — батюшка повысил голос и почувствовал, что в его речи появилось правильное колокольное звучание, — поймите, чудо в вас самих! Потому что вас Господь создал по образу и подобию своему, и если вы в это поверите, то для вас не будет невозможного. А вера зажигается не от чудес, а от дела. Творите добрые дела, друзья мои, и воздастся вам по деяниям вашим.
В воздухе повисла напряженная тишина. И священник понял: это внимание, его слушают.
В это утро он говорил долго, сам поражаясь тому, какие мудрые, правильные слова Господь вкладывает в его речь.
Он говорил о том, что русскому человеку необходимо вокруг чего-то объединяться. И когда он объединяется вокруг бутылки, то получается то, что получается. И что надо найти для себя что-то важное. А что может быть важнее Бога?
На следующий день толпа паломников значительно поредела.
Многие ушли по домам разочарованные. Ждали чудес, а получили что?
Но зато оставшиеся стояли у церкви. И по их лицам было видно, что в их сознании запущен некий механизм, которому обязательно надо дать развитие. С этого дня отец Михаил каждое утро читал проповеди на улице, и счастье, неведомое до сей поры счастье, наполняло всю его душу. Он наконец-то обрел себя.
Отец Михаил чувствовал, как на него сверху щедрым потоком снисходит благодать, и он готов был служить проводником для каждого, для самого ничтожного, самого глупого, самого маленького, стоит ему только захотеть.
История со строительством храма облетела весь район и дошла до слуха администрации. И тут, как это часто бывает, высокопоставленные мужи почувствовали добычу.
Не в том смысле, что здесь можно было что-то урвать, нет, им уже давно это было неинтересно, а в том, что подобный сюжетец мог бы очень украсить их имидж, стоит только правильно подойти к делу. И они подошли правильно.
Отец Антона — Петр Васильевич Чудаков со свитой свалился на голову мирного селения неожиданно.
Посреди бела дня по кривым улицам деревни пронесся невиданный кортеж из пяти машин.
Домашняя скотина в панике разлеталась из-под колес, люди тоже.
Такие автомобили люди видели разве что по телевизору, и это произвело на них такое ошеломляющее впечатление, что они даже позабыли обидеться за то, что машины все-таки передавили немало живности.
Автомобили с мигалками и сиреной подлетели к церкви, где отец Михаил как раз мирно читал проповедь.
Первыми из машины выскочили какие-то страшные мужчины в модных пиджаках и стали теснить толпу в сторону.
В их действиях и выражении лиц было нечто такое, что убеждало людей сразу, без сопротивления выполнять их команды.
Только отец Михаил решился поднять голос.
— Что вы делаете, — пискнул он, — оставьте людей в покое!
— Не положено, — отчеканил один из нападающих, — сейчас хозяин выходить будет.
И действительно, дверца самого большого и самого блестящего автомобиля отворилась, и оттуда степенно, с достоинством вышел господин, ухоженный какой-то нездешней ухоженностью, — Петр Васильевич Чудаков.
Сразу следом за этим, как по команде, открылись двери всех остальных машин и оттуда посыпались, как горох, люди самого разнообразного вида.
Вся деревня уже собралась на пригорке, и жители вылупив глаза смотрели на разворачивающееся перед ними действо.
С какой-то дьявольской быстротой несколько человек распаковывали видеоаппаратуру.
Вокруг, издавая звуки, напоминающие крик голодной чайки, носился какой-то субъект.
Охрана выстроилась забором, лицом к толпе, и, сложив на причинных местах нешуточные ладони, буравила взглядами мирных селян.
Наконец все было готово, и Чудаков размеренным шагом двинулся к батюшке.
Следом за ним шел оператор с камерой на плече и корреспондентша с микрофоном.
Отец Михаил был возмущен до крайности, и это отчетливо читалось на его лице.
— Ты его физиономию пока не снимай, — кинул Чудаков через плечо оператору.
— Что вы себе позволяете! — просипел батюшка, когда важный гость подошел достаточно близко.
Но Чудаков обладал обольстительностью дьявола. Он в совершенстве владел искусством убеждения и без труда обращал врагов в самых преданных друзей. А уж с таким простаком, как этот поп, он мог бы справиться даже во сне.
Не дойдя нескольких шагов до храма, Чудаков встал на одно колено и осенил себя широким крестом, что батюшке не понравилось: уж больно театральным было его припадание.
Но затем, поднявшись на ноги, Чудаков напялил на физиономию такую обворожительную, такую искреннюю улыбку, что сердце священника дрогнуло, и он подумал: человек с такой улыбкой не может быть негодяем, а весь этот трамтарарам, наверное, является предписанием для таких важных особ. А что особа важная, не было никакого сомнения.
— Благословите, отец святой! — попросил Чудаков и подошел под благословение, тем самым показав, что законы церкви ему известны.
Отец Михаил благословил, но неохотно. Что-то все-таки мешало ему открыться этому обаятельному человеку.
После благословения Чудаков взял костлявую ладошку священника в свою мясистую горячую руку и заговорил с мягким упреком:
— Что же вы, батюшка, такую ношу на себя взвалили? Разве один в поле воин?
— А я не один, — возразил батюшка. — Вон у меня сколько помощников.
Он повел взглядом в сторону людей, отгороженных от него охраной.
— Да люди-то людьми, а без средств-то как же?
— А мы и средства собираем потихоньку. С Божьей помощью храм растет.
— Чудной вы, ей-богу! — улыбнулся отеческой улыбкой Чудаков. — Я глава администрации области. Что же ко мне-то не обратились?
— Я доложил в епархию, как положено.
— Ну, и что, помогли?
— Не помогли… — Отец Михаил поник головой.
Ему неприятно было об этом говорить, как неприятно бывает человеку, когда посторонний вмешивается в дела его семьи.
Голос Чудакова звучал как певучий инструмент, звуки которого проникали в самое сердце и заставляли верить каждому его слову.
— Что ж, помощи мы любой рады, — пролепетал смущенный священник.
Все дальнейшее помнилось ему как в тумане.
Куда-то исчезли суровые стражи порядка, толпа людей смешалась с гостями, откуда-то появилось несколько ящиков водки.
Отец Михаил пытался воспротивиться спаиванию селян, но его никто не слушал.
Народ опьянел как-то мгновенно, и страшное, ненормальное веселье охватило всех собравшихся.
Бабы с визгом пустились в пляс, мужики зажигательно посвистывали, и в центре этой беснующейся толпы, высоко вскидывая руки в белых манжетах, давал гопака сам глава области.
Отец Михаил, стоя на ступеньках храма, смотрел на происходящее с ужасом.
Ему казалось, будто сам сатана примчался из преисподней и за полчаса уничтожил труды стольких дней.
Те непрочные росточки, которые в последнее время стали пробиваться в душах его прихожан, от одного прикосновения нечистого превратились в тлен, и на волю вырвалось то бесноватое, дикое, что он так не любил в русском человеке.
— Люди, что вы делаете, люди… — бормотал отец Михаил.
Но голос его опять утратил звучность, движения — целеустремленность, и он почувствовал, что Господь оставил его.
И тогда, опустившись на грязную ступеньку храма, отец Михаил обхватил голову руками и тихо заплакал.
На следующий день от прихожан осталась лишь жалкая кучка.
А через неделю вся деревня сидела у телевизоров.
Отец Михаил тоже пошел в соседский дом, чтобы увидеть воочию свое падение, увидеть и понять, где он сделал ошибку.
Но репортаж, который показали по телевидению, изменил картину до неузнаваемости.
Там не было ни нашествия лимузинов, ни безобразного поведения охраны, и вообще никакой охраны видно не было.
Отец Михаил видел свою физиономию с елейной улыбкой, прихожан, трезвых, но веселых, которые дружелюбно пожимают высокому гостю руки.
А потом самого высокого гостя, который под общее ликование дает обещание выделить средства на строительство нового храма и предлагает гражданам оказание помощи по любым интересующим их вопросам.
И тут на экране крупным планом появилось румяное лицо некой Зинаиды, а рядом с ним такое же розовое, пышущее здоровьем личико девочки.
И корреспондент поведала миру, что для лечения этого ребенка в заграничной клинике администрация области выделяет средства.
Отец Михаил смотрел на улыбающееся непорочной улыбкой лицо женщины и вспоминал, как все было на самом деле.
…Когда Чудаков предложил гражданам обращаться с просьбами, веселье замерло, и люди в растерянности стали переглядываться.
Легко сказать — обращайтесь с просьбами! А поди пойми, с чего начать?
И тут неожиданно толпа раздвинулась, и из ее самых задних рядов вышла женщина.
От стеснения она как-то нелепо топотала отекшими ногами, обутыми в обрезанные валенки с галошами. На голове у нее красовался похожий на половую тряпку пуховый платок. На руках женщина несла девочку с голубым личиком.
Девочка лет четырех смотрела на мир с такой отрешенностью, как будто в ее детских глазах уже угнездилось понимание того, что этот мир создан не для нее, что ее затрудненное тяжелой болезнью дыхание может прерваться в любую минуту и она окажется где-то в другом месте, куда и был устремлен ее взгляд.
Отец Михаил знал эту женщину, которая пришла за сорок верст в надежде получить помощь для больного ребенка.
— А ты была в больнице-то? — спрашивал ее отец Михаил.
— Да где я только не была, — отвечала Зинаида. — У них один разговор — заграница. А где ж я такие деньги-то возьму?
Отец Михаил не знал, что ответить.
Денег у него тоже не было, и поэтому он пытался подарить надежду. Но это служило плохим утешением матери, теряющей единственного ребенка. Когда Зинаида вышла из толпы, то вид ее мог бы тронуть даже каменное сердце.
Тут же выскочил вперед оператор с камерой и стал снимать несчастную.
— Ты чего делаешь! — прикрикнул на него Чудаков, и отец Михаил подумал, что в губернаторе проснулось что-то человеческое.
— А что? — удивился оператор. — Снимаю.
— Ты чего снимаешь-то?
— Ну, ты в порядок ее сперва приведи, а то народ от такого вида в обморок упадет.
От этакого цинизма у священника захватило дух.
— Постыдились бы… — пискнул он слабым голосом.
Но его никто не услышал.
Зинаиду подхватили под руки, и тот парень, который больше всех суетился вначале, администратор, поволок ее вместе с ребенком к машине.
— Ты чего эту рвань на голову нацепила? — выговаривал он по дороге. — Жара же на улице!
— Так я же в церковь шла, — объяснила Зинаида, — без головного убора нельзя, а ничего другого у меня нет.
Это признание отскочило от администратора как от стенки горох.
Он ловко затолкнул Зинаиду с дочерью в телевизионный автобус, и уже через мгновение они вышли оттуда размалеванные, как матрешки.
Но на экране этой грубой работы не было видно. Зинаида выглядела вполне естественно, как женщина, только что напившаяся парного молока.
Чудаков поджидал просительницу на пригорке.
По всему было видно, что мероприятие опротивело ему до крайности. Он нервно подергивал ногой, посматривал на дорогой «Ролекс» на руке и стриг недовольным взглядом поверх голов людей, которых охрана опять оттеснила подальше.
Для репортажа уже нашелся персонаж, а лишние просители были ему ни к чему.
Увидав приближающуюся женщину, Чудаков мгновенно преобразился. На его лице опять заиграла открытая доброжелательная улыбка, и он, стараясь смотреть мимо камеры, чтобы на экране выглядеть как можно естественнее, и широко расставив в стороны руки, двинулся навстречу просительнице.
Женщина опять несла девочку на руках — видимо, от слабости та не могла ходить.
— Как же вы, милая, столько верст, с такой тяжестью! — воскликнул Чудаков и взял ребенка из рук матери. Девочка вяло протянула к матери ручки и тут же сдалась, она привыкла жить без протеста. — Вы бы хоть колясочку какую-нибудь приспособили.
— Да нету у меня никакой колясочки. Я уж так, по привычке.
— Вот все вы так, — мягко упрекнул Чудаков. — За жизнь ребенка-то бороться надо!
— А я что делаю! Вон полземли исходила! — Зинаида чуть не плакала.
Она впервые в жизни почувствовала заботу. Заботу настоящую — не ту беспомощную, эфемерную, которой окружал ее поп, а энергичную, действенную, от которой в сердце распускается мягкий бутон надежды.
— Да что ж ходить-то неведомо куда? — продолжал Чудаков. — Ребенку в больницу надо.
— Да была я в этих больницах! Они там все что-то про Германию говорят.
— Да где я и где Германия.
— Ах, милая! — Чудаков потрогал пальцем напомаженную щеку девочки и брезгливо посмотрел на свой палец. — Германия-то совсем недалёко. Двадцать первый век на дворе.
И тут Зинаида не выдержала.
Как есть, во всем своем единственном обмундировании, она упала на колени прямо в грязь и, громко рыдая, воздела к чиновнику руки.
— По… по… по… — взмолилась она, — отец, родной, помоги!
Увидав мать в таком положении, девочка тоже залилась тихим плачем.
Чудакову все это не нравилось. Ситуация явно выходила из-под контроля. Эта тетка валяется в грязи, опять вся вывозилась, снимать невозможно, ребенок ревет прямо в ухо.
Чудаков не был злым человеком и людям иногда действительно помогал, но, объездив пол-Европы и усвоив хорошие западные манеры, он не мог спокойно смотреть на подобные сцены.
Вместо жалости они вызывали в нем раздражение.
«Что же это такое, почему люди нормально разговаривать не умеют, — думал он, — обязательно нужны какие-то крайности».
На помощь ринулся отец Михаил.
Он попытался поставить Зинаиду на ноги, но та сопротивлялась, и между ними завязалась какая-то непотребная борьба.
— Ну все, хватит! — наконец не выдержал губернатор и передал ребенка на руки охране. — Тебе придется монтировать из того, что есть, — крикнул он на ходу оператору, — а меня можешь доснять на даче. По коням!
Все гости мгновенно двинулись к машинам.
Перед Чудаковым почтенно распахнули дверь его лимузина. Он грузно уселся на заднее сиденье, машина тронулась.
И через затемненные стекла было видно, как беспомощно, опустив руки, застыла на толстых ногах Зинаида, а рядом с ней поп с больным ребенком на руках.
И сердце Чудакова дрогнуло.
— Останови! — крикнул он водителю.
Машина остановилась.
— На-ка вот, отнеси. — Он протянул сидящему с правой стороны от водителя охраннику пухлый конверт, который был приготовлен совсем для другого дела. — Отдай попу, скажи, что это пожертвование на церковь, а остальные средства, в том числе и на лечение ребенка, придут в ближайшее время.
Ближайшее время долго не наступало, а вместо этого наступила зима, как всегда, неожиданно.
Зинаида поселилась в доме у священника, где уже много лет не ступала нога женщины.
Отец Михаил был вдовцом. И чтобы не думать о том, что происходит с ее дочерью, Зинаида взялась налаживать расстроенное хозяйство.
У батюшки появилась горячая еда, и дом перестал быть таким бесприютным, темным.
Церковь так и осталась недостроенной, и через дырявую крышу в нее повалил снег. Проповедовать на улице зимой не получалось, люди не хотели мерзнуть.
И, боясь потерять то, что он собрал по крохам с таким трудом, отец Михаил решил двинуться в областной центр, добиться встречи с Чудаковым и призвать его к ответу. Все-таки он на всю страну давал обещания. Пусть теперь держит слово.
Запасясь пирогами на несколько дней, он оделся-обулся потеплее и тронулся в путь.
Дорога была нелегкой.
Электричка к ним не ходила, и приходилось ехать где на автобусе, где на перекладных.
Наконец, добравшись до места и несколько ошалев от городского шума, отец Михаил расположился на вокзале и решил здесь же переночевать, а с утра, со свежими силами, отправиться в администрацию.
Но отдохнуть за ночь ему не удалось, потому что жизнь вокзала произвела на него такое сильное, такое удручающее впечатление, что он не сомкнул глаз до самого утра.
Здесь, как в капле воды, отражающей мир вселенной, ярко и бескомпромиссно отражалась жизнь всей большой и неустроенной страны. Казалось, что люди застряли на этом вокзале со времен Второй мировой войны и что им, несчастным, неведомо, что на дворе наступил двадцать первый век и что это век компьютеров и новых технологий.
Они по-прежнему валялись на грязных тюках, как будто время отсортировало их и выбросило на этот вокзал, чтобы они не мешали всеобщему ликованию мира.
Иногда мимо пробегали грязные дети с шельмоватыми глазенками, и отец Михаил понимал, что это беспризорные.
В сравнении с этой городской бесприютностью беды его прихода казались маленькими и поправимыми.
«Господи, сколько еще дел на земле, делать — не переделать!» — вздохнул священник и твердо решил, что завтра, у губернатора, обязательно скажет веское слово.
Но этот настрой, который он так бережно нес к зданию администрации, полностью улетучился за несколько часов унизительного ожидания в приемной.
Впрочем, ждать его никто не просил.
Напротив, секретарь объяснила, что Петр Васильевич принять не может и что вообще нужно записываться за несколько месяцев.
Но, из уважения к сану, она не посмела выставить попа на улицу и разрешила ждать сколько угодно, впрочем, предупредив, что ожидание бессмысленно.
Отец Михаил сидел в роскошной приемной и под воздействием окружающей его обстановки с каждым часом чувствовал себя все меньше и меньше.
Мимо него без устали сновали какие-то важные люди с бумагами в руках. Они забегали в кабинет губернатора с таким видом, как будто ныряли в прорубь, и выскакивали оттуда взбодренные и встревоженные.
Отец Михаил смотрел на эту деловую коловерть и думал, что, пожалуй, слишком много возомнил о себе. Не ему, карлику, бороться с этакими великанами.
И в тот момент, когда он уже готов был сдаться и покинуть свой пост, дверь кабинета распахнулась, и оттуда вышел сам хозяин.
Секретарша поспешно вскочила, и, поддаваясь инерции ее движения, вместе с ней вскочил с места отец Михаил.
Он оказался буквально лицом к лицу с губернатором, так близко, что сумел прочесть в его глазах ускользающее узнавание.
И в следующее мгновение, не дав посетителю опомниться, Чудаков резко крикнул через плечо:
— Почему посторонние?
Секретарша что-то прокудахтала, а Чудаков, не говоря больше ни слова, с недовольной гримасой прошел мимо и исчез за массивной резной дверью. Дверь сердито хлопнула, и с этим хлопком отцу Михаилу стало очевидно, какими наивными и глупыми были его надежды.
Деревня встретила его молчаливым ожиданием.
Казалось, все лица обращены к нему с одним вопросом: ну что, царь батюшка смилостивился?
Отец Михаил прятал глаза, ему было стыдно за свою беспомощность.
Но самой страшной была встреча с Зинаидой.
Она выслушала рассказ отца Михаила, как приговор, и отреагировала с таким безразличием, которое появляется у человека накануне казни.
— А я ничего другого не ждала, — прошелестела она сухими губами. — Домой пойду, хочу, чтобы Лидочка дома померла.
И тут в душе отца Михаила вспыхнул такой протест против этой простой и бескомпромиссной правды, что в его сознании сам по себе возник конверт, который он получил тогда от охранника Чудакова.
Конверт этот он даже не открывал, а как есть, запечатанным, сунул в щель за печку. Сделал он это потому, что денег этих нечистых касаться не хотел. Было в этом конверте что-то унижающее человеческую душу.
Но вот теперь, когда гибель полюбившегося ему ребенка стала неотвратимой, деньги эти оказались единственно возможным решением. Недолго думая, отец Михаил кинулся к печи и, слегка пошарив в тайнике рукой, вытащил потемневший от жара пакет.
— Что это? — без всякого любопытства спросила Зинаида.
— Да сам не знаю, — признался батюшка. — Охранник Чудакова сунул.
С этими словами он надорвал бумагу и ахнул.
В конверте ровными рядами лежали крупные купюры, счесть которые можно было не сразу.
Зинаида почему-то заплакала, а батюшка почувствовал, что на деньги эти лег совершенно другой свет — свет спасения ребенка.
Весть об очередном случившемся чуде разлетелась по деревне мгновенно. Люди собрались у дома священника, желая своими глазами посмотреть на невиданную сумму.
— Ну вот, а все говорили, что губернатор плохой! Видал, какие деньжищи отслюнявил! — шептались в толпе.
Отец Михаил слушал подобные речи односельчан и думал, что опять чаша весов перевешивает в сторону чиновника. Что не достучаться ему до душ прихожан, пока в мире правит эта разрисованная бумага. А с другой стороны, без бумаги получается никак. Такую магическую силу она имеет над человеком.
Сосчитав сумму в конверте и обалдев окончательно, селяне стали держать совет. Деньги-то вроде большие, а, бог их знает, хватит ли на операцию?
— Ты когда эти купюры на евры обменяешь, то от них останется во-от столечко, — предположил Егорыч и расставил большой и указательный палец так, что между ними оказалось не больше полусантиметра.
Точнее никто в деревне не сумел определить настоящую ценность денежных знаков, и поэтому, для уточнения вопроса, было решено снарядить экспедицию в местную больницу, а заодно проконсультироваться у врача о состоянии здоровья девочки.
И опять, как тогда, летом, ради спасения храма, люди объединились — теперь уже во спасение ребенка.
Все вызывались пойти добровольцами в больницу. Как говорится, и доброе дело сделать, и мир посмотреть.
Но после недолгих споров утвердили кандидатуру Егорыча. Он был как-то побойчее всех остальных, к тому же как бросил пить, так ни разу и не притронулся.
Галина провожала мужа торжественно, как на войну. Она шла рядом с телегой, на которой возлегали Зинаида с Лидочкой, а вожжи держал, смущаясь, как артист на подмостках, ее Сергей.
Вся деревня следовала за телегой, давая напутствия, а возглавлял все это шествие большой конусообразный живот, которым Галина прокладывала себе дорогу.
Летом она понесла и теперь специально надевала узкое пальто, чтобы все видели, как выпирает из него новая жизнь.
Вернулась делегация через три дня.
Сначала селянам показалось, что Егорыч вернулся один, потому что в телеге никого не было видно.
Но по мере приближения люди разглядели Зинаиду, которая, обняв Лидочку, лежала на соломе, как кучка ветоши, и не шевелилась.
Жадные до новостей деревенские жители поняли все сразу без слов и любопытствовать не стали.
О провале предприятия также свидетельствовала согнутая коромыслом спина Егорыча.
Зинаиду осторожно препроводили в избу и уложили на кровать. Она больше не разговаривала, вся ушла в себя.
А Егорыч потихоньку поведал, что денег этих едва хватит на дорогу и проживание, а на лечение и операцию ничего не остается.
— Ох, горемычная, горемычная, — заохала Галина. С тех пор как в ее животе зародилась жизнь, беда Зинаиды встала к ней особенно близко. — Если б хотя бы не надеяться, все было бы легче.
— Так надеяться-то больше и не на что, — вздохнул Сергей. — Говорят, жить ей осталось без операции не больше трех месяцев, а кто ж за такое короткое время эдакую сумму соберет…
Вечером отец Михаил отправился к церкви, вернее, к тому, что от нее осталось. Забравшись через сугробы внутрь, он вынул из-за пазухи икону, которая дважды ему так помогла, зажег лампадку и перекрестился.
В руинах церкви было темно, и свет от лампадки разбрасывал по углам нехорошие тени. Сумрачно было у священника на душе, и не открывалось сердце для молитвы.
Не понимал он замысла Божьего. Если нужен ему младенец, пускай заберет, но мать-то, мать зачем так мучить! То даст надежду, то отымет. Это какой же человек такое выдержит!
Отец Михаил перекрестился еще раз, потом еще и понял, что ничего у него не получится. Не мог он подавить в себе обиду… Обиду?.. Против Кого?..
Он завернул икону в тряпочку, тяжело вздохнул и дунул на лампадку. По стене храма метнулась косая тень, но фитиль не погас. И это было странно, потому что отец Михаил дунул крепко, в сердцах.
Перекрестившись, священник поднес лампадку к губам и дунул еще раз. И опять кривой отблеск молнией озарил стены. Огонек на мгновение погас и вдруг опять возник из ничего.
Не понимая, что происходит, отец Михаил набрал полные легкие воздуха и, сложив губы рожком, стал дуть изо всех сил. Фитиль плясал под напором воздуха, то исчезая, то вспыхивая вновь, и маленькое пламя, как блестящая медная рапира, выписывало немыслимые зигзаги.
И когда воздух в легких священника кончился, он больше не предпринимал попыток. Он понял, что Бог услышал его и хочет с ним говорить.
Разговор был коротким. Через час батюшка выбрался из храма тем же путем, каким туда попал, и торопливой походкой направился к дому Лизаветы Ивановны.
Во время молитвы его осенило, что сын этой женщины служит в Москве, в доме сына их губернатора Чудакова садовником. И это тебе не в кабинетах сидеть. Садовник, поди, хозяина каждый день видит. Может, замолвит словечко за земляков-то.
Дом Лизаветы Ивановны был темен и глух. Как замерзший темный куб стоял он среди снега, и по всему было видно, что хозяйка спит, и хозяйство ее спит вместе с ней.
«И право дело, — подумал священник, — ночь на дворе, а я визиты делать наладился».
Постояв еще мгновение пред калиткой и поразмыслив, не разбудить ли хозяйку, отец Михаил все же сделал над собой усилие и, оторвавшись от калитки, с сожалением поплелся домой.
Сожаление его происходило от того, что уж больно хотелось ему поделиться случившимся с ним чудом, рассказать хоть кому-нибудь о негасимой лампадке. Ведь не всякий день удается так близко почувствовать Бога.
Придя домой, он заглянул за занавеску к Зинаиде. Она лежала с открытыми глазами и смотрела перед собой, как мертвая.
Вся жизнь остановилась в ней, и душа замерла, собирая силы для того страшного, что должно было случиться. Ей было не до чудес.
Но на сей раз страдание Зинаиды не отдалось болью в сердце священника, напротив, свет от лампадки как будто переместился в его грудь и теперь горел там живым теплым огоньком, поминутно напоминая, что они в мире не одни и что не надо сомневаться, а нужно просто доверчиво идти по своему пути, как дитя идет, держась за руку родителя. С этими мыслями отец Михаил отошел ко сну и спал крепко и счастливо до самого рассвета.
Лизавета Ивановна была женщина не молодая и не старая.
Бывают такие бабы на деревне, которые как дозреют до определенного возраста, так и остаются в нем до самого конца. Все в ней говорило о недюжинном здоровье и вообще об удовольствии находиться на этом свете.
И действительно, жизнь ее задалась! Муж-пьяница сгинул где-то в тюрьме и не успел сгубить непотребным примером их единственного сына Ивана. Иван вырос, на удивление всей деревне, человеком с нездешними глазами. Не было в его взгляде той бытовой озабоченности, которая устоялась во взгляде большинства односельчан. Его взор был устремлен куда-то за пределы видимого, отчего глаза казались дремотными, мечтательными.
— Эх, Лизка, не будет с твоего пацана толку! — предсказывали соседи. — Смотри, какой он у тебя странный, — живет, как будто спит.
Да Лизка и сама все присматривалась к своему отпрыску и думала: чужой он какой-то, будто не родной сын, а подкидыш. Чего он там себе думает, когда смотрит, как леший?
А Иван думал о том, что вот закончит он школу, отслужит армию и домой возвращаться больше не будет, а пойдет учиться в ПТУ на садовника. Выучится и будет сажать не капусту с картошкой, как мать, а большие просторные парки, по которым будут бегать дети.
И именно эта мечта делала его глаза такими чужими, непонятными. Все остальные селяне жили без мечты, одними заботами.
Мечту свою Иван осуществил, ПТУ закончил и даже сад посадил.
Вернее, не сад, а палисадник перед зданием мэрии.
И надо такому случиться, чтобы этот самый палисадник развернул всю его судьбу в совершенно неожиданном направлении.
Губернатор Петр Васильевич Чудаков собственной персоной оценил его работу и, смекнув, что встретился с талантливым самородком, тут же решил узурпировать садовника для дома сына в Москве.
Ивана никто не спрашивал, хочет он там работать или нет, он просто получил наряд, как в армии, и отказаться не было никакой возможности, тем более что мать, когда услышала, какие условия ему предлагают, прямо вся зашлась от радости.
И в этом зашедшемся состоянии Лизавета так и продолжала существовать, думая, что судьба ее такая особенная, потому что она сама такая необыкновенная.
Когда отец Михаил на следующий день подошел к дому Лизаветы, она как раз покончила со своим утренним хозяйством и теперь, как каждое утро, висела двумя локтями на калитке, плохо отдавая себе отчет в том, зачем она там висит.
— Утро доброе, Лизавета Ивановна, — поприветствовал ее священник.
Как всегда, когда нужно было о чем-то просить, он испытывал страшную робость.
— Доброе, — откликнулась Лизавета. — Это не ты у меня вчера вечером под калиткой натоптал?
— Я… — еще больше смутился батюшка.
— А-а… — с некоторым разочарованием произнесла Лизавета, — а я-то думала — воры.
— У меня дело к тебе, — признался батюшка, — разговор серьезный.
— Серьезный, говоришь, ну, давай, выкладывай. — Продолжая висеть на калитке, Лизавета с любопытством уставилась на гостя, но в дом не звала. Батюшка чувствовал, что ноги его коченеют, но проситься на порог без приглашения не хотел, знал повадку деревенских — в дом зовут только по случаю.
— Ты вот что, — запинаясь, начал батюшка, — Иван-то твой у сына губернатора служит?
— Ну… — Лизавета насторожилась.
Селяне игнорировали ее высокое положение, вели себя так, как будто ничего не случилось. И Лизавета затаила скрытую обиду на земляков за то, что они не хотят ее почитать.
Поэтому когда отец Михаил заговорил о сыне, в душе ее вспыхнула нечаянная радость.
«Вспомнили! — подумала она. — Вот теперь, когда что-то надо, вспомнили. Ну, я им отплачу за унижение».
Но мысли эти не удержались в ее голове, когда батюшка завел разговор о ребенке. Он говорил о Лидочке как-то так жалостно и смотрел на Лизавету с такой надеждой, что сердце ее сжалось, и она, недолго думая, пообещала написать сыну сегодня же.
— Да нет, Лизавета Ивановна, — возразил священник, — нету у нас времени на переписку. Лидочка совсем плоха. Того и гляди помрет.
— А что же делать?! — испугалась Лизавета. Она теперь чувствовала себя ответственной за этого ребенка.
— Не писать, а звонить надо, — вздохнул батюшка.
— Да Иван мне звонить-то не велел, говорит, хозяин заругает!
Батюшка безмолвно развел руками, мол, решай сама.
— Эх, была — не была! — воскликнула Лизавета. — Он сказал, звони только в экстренных случаях. А куда же экстреннее. Подожди меня здесь, я только за телефоном сбегаю и пойдем звонить на почту.
Иван Тимофеевич Морохов работал в доме у Антона вот уже восьмой год. Жизнь семьи проходила у него на глазах, и ничего радостного он в этой жизни не видел.
И в своей жизни он тоже не видел ничего замечательного. Дело он делал любимое, и хозяин его ценил.
Но не по душе ему было хозяйские грядки окучивать и траву для кота стричь, чтобы он мышей легче ловить мог.
Было в этой деятельности что-то постыдное, нехорошее, что-то такое, от чего волком выть хочется.
Не о том мечтал он, когда учился.
Иван Тимофеевич людям радость хотел приносить, а получалось, что, кроме этого котяры и его хозяйки, ни одна живая душа его цветников и деревьев не видит.
Дом — мертвый, и никто сюда не заглядывает.
Правда, платят хорошо, живет он на всем готовом, хозяева не обижают.
Да разве это человеку нужно для счастья!
Получается, что за хорошие харчи поплатился он мечтой, а без мечты душа сохнет. И высохла бы наверняка, если бы не звонок матери.
Когда Ивана Тимофеевича позвали в домик охраны, он сильно испугался. Мать его запрет помнила и по пустякам бы беспокоить не стала.
Поэтому, добежав до телефона рысцой, он с тревогой крикнул в трубку:
Голос матери звучал непривычно бодро и как-то напористо.
— Слушай сюда, сыночка, — заговорила она, — здесь помощь твоя требуется!
— Фу ты, мать, — с облегчением вздохнул Иван и зашептал, прикрывая трубку рукой. — Ты чего звонишь? У меня же неприятности будут.
— Неприятности! — крикнула мать. — Здесь ребенок помирает, а у него неприятности!
— Ребенок… — Иван Тимофеевич насторожился. — Какой ребенок?
— Да какая разница какой? Маленький. А в городе, кроме тебя, никого нет, обратиться не к кому.
Дальше Лизавета Ивановна путано изложила суть дела, из чего ее сыну стало ясно, что без его вмешательства девочка пропадет.
И это ощущение, что от него зависит нечто серьезное, настоящее, нечто такое, ради чего стоит поставить на кон все его бессмысленное существование, наполнило его душу бодростью.
Положив трубку, Иван Тимофеевич подумал: «Все сделаю, все, буду просить, унижаться, если надо, украду. Лишь бы помочь этому ребенку!»
Но красть Ивану Тимофеевичу ничего не пришлось.
В этот же вечер, полный решимости, он подошел к хозяйке, когда та возвращалась с прогулки с Гуяром, и не попросил, а скорее потребовал ее незамедлительного вмешательства в судьбу ребенка.
К удивлению садовника, Изабелла окинула его озерным взглядом и, едва шевеля губами, произнесла:
— Хорошо, проходите, пожалуйста, в дом и расскажите все по порядку.
Все сладилось так легко и с такой дьявольской скоростью, что отец Михаил сразу почувствовал что-то неладное.
Не Божья это была повадка. Вот с утра они звонили Лизаветину сыну, а уже к вечеру пришло сообщение, что хозяин дает деньги и Зинаида с ребенком должна выехать в Москву для оформления документов и получения средств.
Народ ликовал, и только у священника на душе было сумрачно и тревожно. Что-то нехорошее ему чудилось в таком лихом развитии событий. Но времени на обдумывание не было.
Лидочка таяла на глазах, и действовать нужно было незамедлительно. Зинаида, узнав, что ей предстоит собираться в дальний путь, затосковала окончательно.
Видимо, не было у нее больше сил ни на радость от полученного известия, ни уж тем более на такие дальние путешествия.
Только услыхав слово «Москва», она натянула на голову одеяло и, отвернувшись лицом к печи, затихла.
И тогда отец Михаил решил сам отправиться в путь. Собрав документы и получив от Зинаиды доверенность, заверенную в местной администрации, он помолился Богу и поехал с Лидочкой в столицу.
Все было как-то неопределенно.
Лизаветин сын дал указания, куда ехать, пообещал со стороны хозяйки всяческую поддержку, но в чем будет заключаться эта поддержка, никто не знал.
Не знал этого и сам Иван Тимофеевич, поскольку разговор с хозяйкой носил какой-то неопределенный характер. Она пригласила его в дом, внимательно выслушала, а может, ему только показалось, что внимательно, лицо-то у нее как маска, понять ничего нельзя.
Но номер мужа она набрала сразу и после короткого разговора произнесла:
— Пускай приезжают, деньги мы выделим. И, наверное, документы нужно оформить.
Ошалев от такого неожиданного успеха, Иван Тимофеевич не решился вдаваться в подробности, а сразу же помчался к телефону, чтобы сообщить радостную новость матери.
И только сообщив, задумался: а как же все это на деле-то будет? Вот приедут они в Москву. Где им жить, с больной девочкой? Кто документы оформлять будет? Ведь никто даже понятия не имеет про эту Германию. Как там найти эту больницу?
С теми же мыслями садился в самолет отец Михаил. Он чувствовал себя как человек, который вышел в открытое море на дырявой лодке, не умея плавать, да еще и ребенка с собой прихватил.
«Куда лечу? Зачем?» — в панике думал священник, совсем позабыв, что его воли в этом решении не было, что все сложилось само собой и другого выбора ему никто не предлагал.
В то время как садовник и священник терзались непреходящей тревогой, Изабелла пребывала в самом лучшем расположении духа.
Ей нравилось делать добрые дела, тем более когда это не требовало от нее никаких усилий.
Позвонив мужу и получив от него согласие на финансовую поддержку, она сразу забыла и о садовнике, и о больной девочке, но осталось в ее душе приятное послевкусие от совершенного благого дела.
Ей всегда хотелось заниматься благотворительностью, но было как-то недосуг. Она сидела в зимнем саду и ласкала любимца Гуяра.
Тот лежал на спине, широко раскинув в стороны все четыре лапы, и, громко урча, наслаждался тем, как нежная рука хозяйки поглаживает его бархатистое брюхо.
Изабелла делала это с самозабвением, как вдруг ее чувствительные пальцы нащупали на животе зверя что-то непривычное, некое уплотнение с правой стороны. В паху.
«Что это?» — испугалась Изабелла и принялась исследовать живот Гуяра внимательнее.
Кот выглядел вполне здоровым, и серьезных причин для беспокойства вроде бы не было, но настроение Изабеллы было безнадежно испорчено. Тревога красной ржавчиной осела на ее сердце.
Вечером к Гуяру был приглашен врач.
Изабелла пригласила его, чтобы избавиться от этого тревожного чувства. Она надеялась, что ветеринар лишь посмеется над ее мнительностью и она спокойно заснет.
Но ветеринар, обследуя живот Гуяра, сделал страшные глаза и перепугал Изабеллу окончательно.
— Кота нужно срочно отвезти в больницу, — заявил он, закончив осмотр. — Надо сделать анализы.
— Какие анализы? Что с ним? — прошептала Изабелла побелевшими губами.
— Пока никаких поводов для беспокойства нет, — сдал на тормозах ветеринар. Он испугался, что ему опять придется откачивать вместо кота хозяйку. — Но что-то конкретное я смогу сказать только после обследования.
Обследование закончилось в один день, и в результате его выяснилось ужасное.
У Гуяра обнаружили рак в такой стадии, что московские врачи от операции и лечения отказывались.
На Изабеллу было страшно смотреть.
— Лучше бы уж я заболела, лучше бы я! — рыдала она.
И никто не мог облегчить ее страданий.
Антон не отходил от супруги ни на шаг.
«Что за несчастная судьба, — думал он, — одно горе за другим».
Ему хотелось убежать, спрятаться, чтобы не попасть в магический круг этих несчастий.
У него была своя, восхитительная жизнь, и он боялся несчастий, как мнительные люди боятся инфекций. Боялся, но вахту возле супруги не сдавал. Существуют же какие-то важные вещи!
И в тот самый момент, когда Антон, умирая от жалости, стоял на коленях перед кроватью Изабеллы и клялся, заламывая руки, сделать все для спасения Гуяра, отец Михаил с Лидочкой вышли из здания аэропорта.
Он знал, знал заранее, что ничего хорошего из этой затеи не выйдет, но, не понимая, что еще можно предпринять, продолжал двигаться по намеченному маршруту, веря, что Господь не оставит его.
На улице стоял страшный мороз. Какой-то ненормальный для средней полосы. Казалось, что даже воздух превратился в прозрачный лед.
Достав из сумки шерстяное одеяло, батюшка закутал в него Лидочку и встал перед входом в аэропорт, не понимая, как быть дальше.
В таком огромном кипучем городе он еще никогда не был.
И опять, как все в этом путешествии, решение из его рук выскользнуло, потому что к нему, осеняя себя на ходу крестами, подошел солидный мужчина средних лет.
Солидность его состояла в том, что он был очень надежно одет, во все чистое, теплое, и взгляд священника, непривыкший видеть хорошо одетых людей, почему-то перенес это впечатление на личные качества незнакомца. Поэтому, когда мужчина предложил подвезти, батюшка, обрадовавшись такой удаче, бездумно уселся на заднее сиденье заграничного автомобиля.
Лидочка сразу уснула. Она была так безразлична к своей судьбе и окружающему ее миру, что любопытство, столь свойственное детям ее возраста, в этом измученном тяжелой болезнью ребенке никак не проявлялось.
Зато любопытству батюшки не было предела. Он без устали крутил головой, поражаясь тому, что люди сотворили из мира Божьего.
Конечно, он не раз видел по телевизору московские улицы, но это было совсем другое, нежели самому оказаться в самом сердце вертепа.
Картины за окном менялись с такой невероятной скоростью, что казалось: вот сейчас все промелькнет в одно мгновение, и жизнь закончится.
Было страшно и как-то по-нехорошему весело. Но все-таки больше страшно. На протяжении всей поездки водитель угрюмо молчал, и только время от времени батюшка встречался глазами с его напряженным взглядом в зеркале заднего вида.
Не прошло и получаса, как машина остановилась в маленьком проулке. Справа и слева ровными рядами тянулись гаражи, своим видом напоминавшие их деревенские сараи.
— Приехали, — заявил водитель.
— А где же дом-то? — поинтересовался батюшка.
— А дом там, за гаражами, — заверил водитель. — Я туда подъехать не могу. С тебя… — Водитель на мгновение задумался и назвал такую сумму, что у отца Михаила перехватило дыхание.
— Ты что, мил человек, — попытался протестовать он, — разве за полчаса такие деньги брать можно?
— Можно, нельзя! — возмутился водитель. — Сначала цену спрашивать надо, а потом садиться. Ты все-таки в Москву приехал, здесь все так.
От трубного голоса водителя Лидочка беспокойно заворочалась.
«Не буду препираться», — подумал батюшка, расплатился и вышел. А водитель завернул за гаражи, припарковался у подъезда и пошел на девятый этаж рассказывать жене, как ловко он объегорил иногороднего попа.
Доехал из аэропорта до дома, а поп расплатился да еще тройную сумму дал.
Батюшка с поклажей и Лидочкой на руках долго шел вдоль гаражей и наконец выбрался на большую дорогу.
Здесь в бешеном вихре мелькали прохожие и автомобили. Достав из сумки записку с адресом, отец Михаил выделил из толпы несущуюся прямо на него молодую женщину и открыл рот, чтобы спросить, как пройти к дому.
Но женщина неожиданно пронеслась сквозь него и так же неожиданно растворилась в пространстве.
Тогда батюшка обратился к мужчине, который стоял у фонаря и совсем по-деревенски лузгал семечки.
Мужчина взял из рук священника записку, долго, с удивлением рассматривал ученический почерк Лизаветы, которым она записала адрес, и безмолвно вернул записку обратно.
— Так вы не знаете, как мне по этому адресу пройти? — поинтересовался батюшка.
— Тоже, нашел, у кого спрашивать! — послышался сердитый женский голос откуда-то сзади.
Батюшка оглянулся и увидел размалеванную физиономию в завитых кудрях.
— Чурка, он же по-русски ни бум-бум… — Для убедительности женщина постучала по кудрям кулаком и тут же, перепрыгнув через священника, вскочила в автобус и уехала.
Отца Михаила охватило отчаяние. Силы его были на исходе.
Лидочка хоть и была легкой, как пух, но все же руки гудели, и в ногах появилась необоримая слабость. Наконец на обочине остановилось такси.
«Спрошу у таксиста, — подумал отец Михаил. — Они всё знают».
Таксист взял записку, надел на нос очки и, бросив короткий взгляд на адрес, произнес с сильным кавказским акцентом:
— Садись, довезу.
— Да нас уж довезли! — испугался батюшка. — Здесь должно быть недалеко.
— А кто ж говорит, что далеко, — улыбнулся таксист. — Недалеко, километров тридцать будет.
— Сколько? — Ноги у отца Михаила подкосились.
Увидав такое дело, водитель перестал улыбаться и вышел из машины. Он оказался мужчиной невероятной толщины с мягким, как у женщины, лицом.
— Ну что, развели тебя, отец святой! В Москве поосторожнее надо. Здесь ворья знаешь сколько! Ладно, садись.
Он открыл багажник и взялся за сумку. Но отец Михаил был теперь уже стреляный воробей!
Придерживая Лидочку одной рукой, он изловчился и схватил водителя за руку.
Водитель с удивлением поднял брови.
— А сколько стоить будет?
Водитель посмотрел на священника теплым южным взглядом и с сочувствием произнес:
— Садись, бесплатно довезу. Что мы, не люди, что ли! У меня все равно там заказ, за городом.
И тут отец Михаил вспомнил, что дом-то действительно должен быть за городом, а этот жулик его в Москву привез.
Всю дорогу священник горестно рассказывал водителю о своих злоключениях, а тот слушал и качал головой.
— Что же ты делать будешь, люди… — сделал он немногословное заключение в конце пути и добавил: — Ты, когда к этим богачам пойдешь, ребенка с собой не таскай, пусть в машине поспит, а я тебя подожду, вдруг чего не так, обратно придется ехать.
Сказал водитель — обратно ехать, и как в воду глядел.
Иван Тимофеевич вот уже два дня не находил себе места.
Весть о заболевании кота распространилась среди обслуживающего персонала мгновенно, и все тут же встали на цыпочки и заговорили шепотом, как это принято в доме умирающего.
Иван Тимофеевич понимал, что в такой обстановке подойти к хозяйке со своими проблемами невозможно.
Здесь бы выждать, пока все утрясется, но мать сказала, что священник с девочкой уже вылетели в Москву и будут с минуты на минуту.
Предупредив охранников, что к нему должны приехать, Иван Тимофеевич сел в своем флигеле у окна в надежде увидеть хозяина и спросить у него, как быть.
Ждать ему пришлось долго.
Через пару часов Антон вышел из дома и, прикрыв за собой дверь, провел ладонью по лицу.
Издалека казалось, что он плачет. Затем он застегнул пальто и направился по дорожке к машине.
Видимо, собирался уезжать. Недолго думая, Иван Тимофеевич выскочил из своего убежища и заспешил наперерез хозяину.
Увидав бегущего садовника, Антон остановился и вопросительно поднял брови, как если бы хотел спросить: «В чем дело?»
— Антон Петрович, — торопливо заговорил садовник, подойдя поближе. Он торопился, потому что понимал, что в любой момент его могут прервать, не дослушав. — Антон Петрович, здесь священник из моей деревни едет.
— Зачем священник? — удивился Антон. — Мы кота не крестили.
— При чем здесь кот? — произнес Иван Тимофеевич с плохо скрываемым упреком в голосе.
И этот упрек от человека, стоящего бесконечно ниже его на социальной лестнице, заставил Антона сосредоточиться.
— Так в чем дело? Зачем тогда священник?
— Да это я по тому делу, — начал объяснение садовник, чувствуя, как от волнения предательски мерцает его голос.
— По какому делу? — В голосе Антона слышалось напряженное недовольство.
— Ну, помните, пару дней назад Изабелла Федоровна с вами говорила насчет больной девочки?
— Какой девочки?
— Больной, которой операция нужна, в Германии. И вы пообещали дать, ну эти, как их… — Иван Тимофеевич не хотел произносить слово деньги, ему казалось это неуместным, и поэтому он судорожно искал замену. — Ну, эти, средства, — наконец вспомнил он.
Антон посмотрел на садовника потемневшим взором и сдвинул брови.
— И вы считаете это возможным?
— Что? — не понял садовник.
— Вы считаете возможным сейчас, когда в доме горе, обращаться ко мне с подобными просьбами? — Антон повысил голос. — Какая наглость, какая бестактность! Изабелла Федоровна в тяжелом состоянии, я ночей не сплю, а он деньги просит!
— Так я же не для себя! — окончательно оробел Иван Тимофеевич. — Там ребенок помирает!
Но Антон не желал этого слышать. Он оттолкнул с дороги Ивана Тимофеевича и пошел своим путем.
Но тут с садовником случилось что-то невероятное. Робкий человек, непривычный к протесту, он вдруг почувствовал в себе такое негодование, что сердце его чуть не разлетелось вдребезги.
Не понимая, что делает, он помчался за хозяином и нагнал его, когда тот уже собирался садиться в машину.
Оттолкнув водителя, который почтенно придерживал дверь автомобиля, Иван Федорович рванул хозяина за руку с такой силой, что тот мгновенно обернулся.
Теперь в глазах Антона вместо презрительного негодования читалось выражение испуга.
— Вы человек или нет? — закричал садовник не своим голосом. — Вам говорят, ребенка привезли, по вашему обещанию. Девочка умрет, если вы ей не поможете, а вы здесь по коту траур справляете! Стыд вы потеряли, вот что!
Антон в ужасе смотрел на разбушевавшегося подчиненного, и смысл его слов доходил до него плохо.
Он думал о том, что жизнь его в опасности, потому что садовник, как клещами, сжимал его руку, и он чувствовал, что этот дикарь при желании может раздавить его, как козявку.
Вся эта безобразная сцена длилась не больше минуты, потому что подоспела охрана и оттащила взбесившегося садовника в сторону. Антон с возмущением поправил на себе пальто и, бросив через плечо начальнику охраны:
— Чтобы к моему возвращению его здесь не было, — уселся в машину и уехал.
Когда машина выезжала из ворот, водитель заметил на другой стороне улицы батюшку.
Он как-то обреченно смотрел на дом и не двигался с места. Антон попа не заметил.
— Ты чего, Тимофеич, с ума сошел? — вразумляли коллегу охранники. — Они ж тебя с такими характеристиками выгонят, с голоду помрешь.
— Ну и пусть! — угрюмо отвечал Иван Тимофеевич. — Я в этом доме поганом все равно больше ни минуты не останусь. С жиру они бесятся! Людей вокруг себя не замечают.
С этими словами он двинулся во флигель собирать вещи, и тут начальник охраны пришел сообщить, что к нему визит — батюшка ожидает.
Иван Тимофеевич, не зная, как смотреть священнику в глаза, поплелся в домик охраны. Отец Михаил сидел на стуле и смотрел на садовника ласковым взглядом.
— Зря ты скандал устроил, — произнес он вместо приветствия, и Иван Тимофеевич с облегчением понял, что охранники уже все рассказали. — Не зря же сказано, — продолжал батюшка, — скорее верблюд войдет в игольное ушко, чем богатый в царствие небесное! Видно, не судьба этой девочке пожить на этом свете.
— А где же девочка? — удивился садовник.
— А она в такси спит, таксист хороший мужик попался, бесплатно нас катает.
— Ты это… — Садовник со смущением полез в карман брюк и достал внушительных размеров конверт. — Вот, возьми… — Он положил деньги на стол перед священником. — Я восемь лет копил, думал, на какое-то дело, а какое ж дело может быть важнее жизни ребенка.
— Спасибо… — Священник положил руку на конверт, тем самым давая понять, что деньги принял.
— Ну что ж. — Отец Михаил встал. — Пойду я тогда, в обратный путь нужно пускаться.
Он откланялся и двинулся было к двери, когда садовник закричал:
— Стой! Я с вами пойду.
— Да подожди ты суетиться, — попытался остановить его начальник охраны. — Тебе собраться надо, расчет получить.
— А я уже собрался, — весело выкрикнул садовник, — а деньги я у них не возьму, пускай подавятся!
И все увидели, что в Иване Тимофеевиче что-то изменилось. Он выглядел как человек, которого из тюрьмы отпускают на свободу, в то время как остальные должны отбывать наказание дальше.
И эти остальные смотрели на него с затаенной завистью.
Весело сверкая глазами, Иван Тимофеевич попросил батюшку немного обождать и рысью помчался к оранжерее.
Эта оранжерея была его детищем и единственным утешением в постылой жизни. Он болел душой за каждый цветочек, за каждое растение как за собственных детей.
Растения были все дорогие, привезенные с разных концов света.
Иван Тимофеевич ворвался в оранжерею и остановился посредине, не понимая, зачем он сюда пришел. Привычный влажный запах растений на мгновение лишил его решимости.
«Может, остаться, — подумал он, — вымолить у хозяина прощение. Он простит, потому что другому садовнику с его хозяйством не справиться… — Но тут же, припомнив высокомерный тон и презрительный взгляд Антона, садовник опять пришел в бешенство. — Так не цвести же вам для этих иродов!» — воскликнул он, и звук его голоса эхом размножился в стеклянных покатых стенах.
Надев перчатки, Иван Тимофеевич принялся за дело. Только первые два лимонных деревца причинили ему боль, а потом он вошел в раж и стал безжалостно, с корнем выдирать одно растение за другим.
Разорив таким образом половину оранжереи, он наконец заметно поутих и понял, что надо бежать.
За такое дело и за решетку угодить можно. По-быстрому стянув перчатки и бросив их в образовавшуюся на полу кучу земли, Иван Тимофеевич понесся в свой флигель, схватил вещи и уже через пять минут вместе со священником сел в такси и отъехал от проклятого места.
— Ты нас в аэропорт отвези, — обратился отец Михаил к таксисту. — Довольно ты по городу из-за нас намотался. Мы с Лидочкой там переночуем, а завтра, глядишь, домой улетим. Прямо не знаю, как матери ее в глаза-то смотреть! Провалил я мероприятие. Как есть провалил.
— Ну, во-первых, не ты, а я провалил, — возразил Иван Тимофеевич. — Мне и ответ держать. Я, батюшка, с тобой домой поеду. Осточертела мне эта Москва! Больно жадный город. Не для людей. Так что я с тобой в аэропорт.
— Вы что! Совсем, что ли! — возмутился водитель. — Какой аэропорт! Ребенок еле дышит, а они его в аэропорт ночевать тащат!
— А что же нам делать, — вздохнул батюшка, — у нас здесь жилья нет.
— Ко мне поедете, — заявил таксист. — Я здесь недалеко квартиру снимаю. Соседи хорошие, земляки. Мы с женой и детьми к ним пойдем, а вы у нас переночуете. Да, кстати, меня Гурам зовут, а вас?
Познакомились.
Квартира, которую снимал Гурам, была двухкомнатной халупой, расположенной на рабочей окраине. Фасадом дом выходил прямо на трубу, из которой день и ночь в небо вырывалось открытое пламя, и трудно было представить себе более бесприютное место на земле.
Но когда Гурам привел гостей в дом, ощущение бесприютности сразу пропало.
В тесной квартирке, до отказа набитой людьми, было тепло и почему-то просторно. Никто друг другу не мешал, и казалось, что люди эти не замечают, в каком бедственном положении находятся.
Детей накормили и уложили спать, а взрослые уселись на крохотной кухне, и жена Гурама Лия до глубокой ночи потчевала их грузинскими блюдами. Пили чачу, и, охмелев, Гурам поведал историю их бегства.
— Жили мы в Гаграх, — рассказывал он, — хорошо жили, дружно. Кто абхазы, кто грузины, никто не различал. А потом началась эта война. Люди стали как звери. Отца моего, старика, на пляж вывели и расстреляли. Да разве этот пляж для таких дел годится! Мы с женой и детьми, слава богу, в это время в Тбилиси были, у родственников. Чудом живы остались. Всё бросили, всё! Какой дом был, с виноградником! Вид на море! Ничего не осталось! — Гурам заплакал.
— Ничего, ничего, — потрепала его по волосам Лия, — главное, живы.
И Гурам согласился:
— Да, да, главное — живы, и дети растут, в школу ходят.
Наутро Гурам повез гостей в аэропорт.
Все сидели грустные.
Что-то безнадежное было в судьбах этих людей, и теперь они объединялись вокруг этой безнадежности.
Даже отец Михаил, который всегда во всем полагался на Бога, вдруг усомнился.
«Что же это получается? — думал он, глядя на прозрачную Лидочку. — Не услышал Бог моей молитвы. Как же слаба вера моя, раз правда оказалась на их стороне, на стороне этих богатых бездушных людей!»
С такими невеселыми мыслями компания доехала до Внукова.
Гурам, со свойственной грузинам деловитостью, быстро решил вопрос с билетами, и выяснилось, что ждать нужно шесть часов.
Сели в кафе.
Гурам хотел угостить новых друзей. Не принимала его горячая душа нищеты, хотелось швырять деньгами, которых не было, и поэтому, заказав ребенку мороженое, а взрослым капуччино, он в уме стал подсчитывать сумму, которую придется за все это заплатить, и от этого подсчета почувствовал жжение в затылке.
Сидели тихо, почти не говорили.
Отец Михаил пил диковинный напиток и думал, что Зинаиду он никуда не отпустит. Пусть Лидочка помирает у него в доме. Он же сам ее и отпоет. Лидочка сидела перед вазочкой с мороженым и неохотно ковыряла в нем ложкой, когда из-за соседнего столика на нее устремила пристальный взгляд какая-то женщина.
Лицо у женщины было неприятное, мужской жесткой кладки. Глаза из-под толстых очков смотрели настырные, буравящие. Когда отец Михаил заметил эту особу, то попытался загородить Лидочку.
«Сглазит еще», — подумал он и незаметно перекрестился.
Но женщина, потеряв девочку из вида, встала и подошла к их столу.
— Здравствуйте, — произнесла она таким тоном, каким обычно разговаривает полицейский с нарушителем порядка.
— А в чем дело? — сразу занял оборону Гурам.
Он привык к уязвимости своего положения и на всякий случай всегда был готов к самозащите.
Ничего не объясняя, женщина пододвинула себе стул и, усевшись напротив Лидочки, взяла ее за руку.
— Что вы хотите? — окончательно испугался за свою подопечную батюшка.
— Вы знаете, что девочка тяжело больна? — поинтересовалась женщина.
— Мы-то знаем, — встрял Иван Тимофеевич. — А вам это откуда известно?
— Это видно невооруженным взглядом, — сердито произнесла незнакомка. — Я — врач, ребенка нужно срочно в больницу.
И вдруг через непроницаемую броню холодной сдержанности этой незнакомой женщины отец Михаил почувствовал биение горячего сердца. Сердца, неравнодушного к беде чужого ребенка.
Он это почувствовал и понял — не надо пытаться руководить промыслом Божьим, потому что получается одна ерунда.
Женщину звали Алла Николаевна, она работала врачом в программе Российского детского благотворительного фонда.
В аэропорт приехала, чтобы встретить и препроводить в больницу больного мальчика. И эту Аллу Николаевну после всех мытарств поставил на их пути Господь. Это ли не чудо!
Но Алла Николаевна ни про какие чудеса ничего не знала. Она делала свое земное дело. Делала сухо, изо дня в день, с максимальным вложением сил. Ни детей, ни семьи у нее не было, и поэтому ее семьей были больные дети, которых она спасала по всей России, как могла.
В этот же день отец Михаил с Лидочкой оказались в больнице под неусыпным надзором врачей, а через две недели они опять были в аэропорту, только летели уже в другом направлении, в Германию.
Лидочку слегка подлечили, и теперь она шла своими ножками. В самолете, проходя через салон бизнес-класса, они увидели женщину с мертвым лицом.
Рядом с женщиной на сиденье стояла большая корзина, в которой на пуховой подушке лежало животное невиданной красы.
Это был кот огромных размеров с шерстью леопардовой окраски. Ему, видимо, вкололи снотворное, и он глубоко спал. Увидав этакое чудо, Лидочка остановилась.
— Кошечка… — произнесла она и протянула к корзинке руку.
— Не трогай, девочка, — произнесла женщина, как чревовещатель, не открывая рта.
— Пойдем, Лидочка, не надо… — Отец Михаил провел Лидочку на свое место, и они уселись в один ряд — Алла Николаевна, Лидочка и отец Михаил. Самолет взлетел, и каждый задумался о своем.
Алла Николаевна думала о том, как разместить батюшку, если места в общежитии при госпитале не окажется. Она всегда думала о практическом.
Отец Михаил думал о том, что теперь Бог не оставит их и Лидочка наверняка будет здорова. Врачи дают хорошие прогнозы.
Лидочка думала о том, что когда она вырастет, то будет врачом, как Алла Николаевна.
И это была ее первая мечта о будущем, раньше она мечтала только об ангелах.
А Изабелла в бизнес-классе думала, что эта девочка, которая хотела погладить Гуяра, была похожа на нее в детстве.
И почему-то именно это сходство вызвало в ней настолько сильное раздражение, что она ее осадила.
Девочка чуть не заплакала. А как трогательно она прошептала: «Кошечка…»
Вот и Изабелла была такой же трогательной девочкой, открытой для любви. Этот ребенок еще не знает горя и не понимает, что люди любви не стоят, никто, даже дети.
Другое дело — животные. Они невинны, никому не причиняют зла и страдают только от людей. И поэтому Изабелла поклялась, что, если Гуяра вылечат, она откроет приют для бездомных животных и все свои силы и средства употребит на спасение этих несчастных. А если не вылечат…
Чужое лицо
Артем Олегович Зайцев чувствовал себя отвратительно. Вокруг его носа навязчиво порхала кисточка визажистки, которая нестерпимо пахла пудрой и выделениями чужих потовых желез.
Визажистка была молодая и упругая, как резиновая кукла, с таким же, как у куклы, идиотским выражением лица. Если бы она молчала, то Зайцеву было бы проще справиться с желанием придушить это бессмысленное создание и услышать напоследок, как она пискнет. Но визажистка, убежденная в собственной неотразимости, как назло, говорила без умолку, и каждое слово, которое слетало с ее губ, было неподражаемым образцом пошлости.
Артем Олегович старался не слушать, чтобы не умереть от отчаяния, и вот наконец, когда его собственное лицо стало неузнаваемо в зеркале, визажистка скроила дешевую гримасу и удовлетворенно объявила:
— Готово, можно вызывать администратора.
Артем Олегович с отвращением посмотрел на свое отражение в зеркале и подумал, что в принципе заслуживает именно такую физиономию, неестественно гладкую, фальшивую. Человек, который живет не своей жизнью, должен носить чужое лицо как наказание.
— Спасибо… — пробормотал он, стараясь не глядеть на визажистку. Хотя, даже если бы он посмотрел ей прямо в глаза и даже сказал бы все, что о ней думает, это вряд ли принесло бы удовлетворение. Она была сделана из какого-то словоотталкивающего материала, внутрь которого не могла проникнуть ни одна человеческая мысль.
Администратор Костик ворвался в гримерную весь в испарениях женского парфюма. Любовная истома не оставляла его ни на минуту. Он все постанывал, вздыхал и так усердно вращал глазами, как будто задался целью вытолкнуть их из орбит.
— Ну что, готовы? — прохныкал Костик.
Одарив Артема Олеговича непереносимо душным взглядом, он щелкнул накрашенными ресницами и, изловчившись, ухватил гостя за руку. Зайцеву сделалось дурно. Потная ладошка похотливого Костика была совершенно непереносима.
— Оставьте меня! — закричал он и рванул руку с такой силой, что администратор чуть не оказался на полу.
— Псих какой-то! — выкрикнул Костик вдруг совершенно нормальным мужским голосом. — Я просто хотел проводить вас в студию.
— Ну так провожайте, — взял себя в руки Зайцев. — Я не слепой и не маленький, в поводыре не нуждаюсь.
— Ой, да пожалуйста, пожалуйста! — опять перешел на нытье Костик. — Прям можно подумать!
Он сделал какой-то немыслимый спиралеобразный разворот и строго произнес:
— Следуйте за мной.
Артем Олегович следовал и думал, что, наверное, именно такими людьми населен ад и все это ему дается как предвкушение.
В студии было полно народу. Ведущая — в каком-то клоунском наряде — отдавала последние распоряжения. Ее вполне мужское лицо могло бы выдержать испытание даже бородой и усами. Когда она разговаривала с Костиком, то казалось — все поправимо, стоит только этих двоих поменять местами.
Артем Олегович не в первый раз принимал участие в ток-шоу и всякий раз ненавидел себя за это, а вместе с собой ненавидел и всю эту кухню, всю систему, которая как-то совершенно незаметно увела его от всего подлинного, настоящего.
Ведущая с бешеным именем Клеопатра подлетела к Зайцеву, как только он занял свое место. Она низко склонила над ним тяжелое лицо и заговорила, нажимая на каждое слово. От нее пахло застоявшимся табаком, смешанным с такими же духами, которыми опрыскивал себя Костик.
— Вы меня поняли? Вы меня поняли? — трясла Зайцева Клеопатра.
— Да понял я, понял… — Зайцев все пытался отодвинуть свое лицо от нависающей над ним физиономии ведущей и потому уже почти лежал в кресле.
— Начинаем! — заорала наконец ведущая и отхлынула.
Сразу стало легче дышать. В студии вспыхнул свет, и все вокруг как будто увеличилось в размерах, сделалось доминантным, выпуклым: и зрители с одинаковыми лицами, и герои программы, и гости.
Ведущая торжествовала. Одного за другим она выволакивала на свет Божий каких-то невменяемых людей, которые что-то в жизни не поделили и пытались поделить в студии на глазах у всей страны.
Зайцева тошнило, но он никого не винил. Ведь он же мог не приходить на программу, не принимать участия во всех этих мерзостях. Но тогда бы упали продажи его книг.
Читатель забудет бедного Зайцева, и ему придется переместиться из дорогих ресторанов в «Крошку-картошку». А сейчас книги его продаются хорошо, огромными тиражами, хотя объяснение этому не мог найти ни один здравомыслящий человек и в первую очередь сам Зайцев.
Вообще в последнее время в его душу закрались смутные подозрения, что его читателей вовсе не интересует содержание произведения. Они читают не книгу, а просто складывают буквы в слова, слова — в предложения, а предложения — в абзацы.
Если бы это было иначе, то ни один из них не смог бы дочитать его книгу до конца, потому что там не осталось ничего, кроме бессмысленного набора слов с редкими эротическими сценами и описаниями географических достопримечательностей, которые он добросовестно списывал из справочников и путеводителей.
— Имя работает на тебя, старик! — хлопал его по плечу редактор.
И Артем Олегович представлял себе свое бедное имя, которое, согнувшись от непосильных трудов, влачит на себе эту тяжкую ношу — работает!
И все было бы хорошо, потому что Зайцев уже много лет вкушал от этих трудов праведных и забыл, забыл совершенно, что так было не всегда, и надо же такому случиться, чтобы накануне эфира, вечером, к нему на квартиру приволокли этого начинающего писаку.
Зайцев разговаривал с ним свысока, а тот весь потел и трясся от страха. Он хотел услышать мнение мэтра.
— Артем Олегович, — лепетал он. — Я так люблю ваши ранние рассказы. В них столько света! Я бы хотел научиться вот так, из ничего собирать сюжет. Но у меня это плохо получается. Я все описываю истории, которые где-то услышал, и, знаете, боюсь отклониться от реальности. Ведь это недостаток. Правда?
Гость раздражал Зайцева. Он представлял себе, как весь вечер, вместо того, чтобы посидеть у телевизора, ему придется читать очередной бред прыщавого подростка. И ведь за дверь не выставишь! Потому что Нина Николаевна просила, главный редактор!
— Вы, молодой человек, не беспокойтесь. — Артем Олегович милостиво улыбнулся. — Оставьте рукопись, я посмотрю на досуге.
— Вы меня извините, я рукопись оставить не могу, — смутился гость.
— Она у меня в одном экземпляре.
— Ну тогда пришлите мне ее в электронном виде.
— У меня нет компьютера.
— Так что же вы от меня хотите?
— Я хочу прочесть.
— О, господи! Только этого мне не хватало! — Зайцев стал нетерпеливо покачивать ступней.
— Впрочем, если это вас так затрудняет… — испуганно вскочил с места гость.
«Чертова баба! — подумал Зайцев. — Не простит, если я этого сморчка выставлю вон».
Гость прижимал к груди стопку листов и поглядывал на дверь, как бы прикидывая траекторию побега.
— Да сядьте вы! Как вас там?
— Гарик! — радостно воскликнул гость. — Гарик Зотов.
— Ладно, Зотов, давай, читай свою писанину. Подожди, я только за коньяком схожу.
Читал Гарик из ряда вон плохо. Он волновался, брызгал слюной, глотал слова, но, несмотря ни на что, с первых же слов он властно овладевал вниманием слушателя.
Зайцев пил коньяк, и выражение его лица с каждой страницей становилось все более угрюмым и неприветливым.
Этот парень имел талант, и талант немалый. И у него есть все шансы выстоять. А у Зайцева этих шансов больше нет. У него больше ничего нет, кроме дорогого коньяка и дешевых баб.
И в этот момент, глядя на трясущегося от волнения дебютанта, он готов был отдать все, все за одну только возможность поменяться с ним местами. Вернуться к началу, когда он еще мог выбирать, по какой дороге двинуться в будущее: направо пойдешь… налево пойдешь… А он пошел куда-то совсем не туда.
В эту ночь Зайцев спал плохо. Можно сказать, он совсем не спал. Ему все виделись пассажи из талантливого рассказа Зотова, и хотелось вскочить, взъерошить волосы, усесться за стол и наскоком создать что-то грандиозное, гениальное. Что-то такое, чего никто никогда не писал. Обойти этого недоросля на крутом повороте. Чтобы знал, что такое — настоящий мастер.
В какой-то момент Зайцев даже почувствовал, что в его грудной клетке опять появилось некое напряжение, что-то такое там шевельнулось, он даже вспомнил слово «душа» и от неожиданности вскочил с дивана, на котором давеча уснул, не раздеваясь.
Письменный стол был освещен таинственным светом луны, падавшим из окна. И в этом отблеске вечности матово белели разбросанные листы бумаги.
Зайцев почувствовал, как приятное беспокойство охватывает все его существо. И легкое гудение вокруг, как будто порыв ветра, несет и соединяет в сознании еще не оформившиеся зыбкие образы, мысли.
«Неужели вдохновение!» — восторженно подумал Зайцев. Он уже давно забыл про эту волшебную штуку.
Стараясь не шуметь, на цыпочках он прокрался к письменному столу и затаился. Он ждал, как охотник ожидает, что вот-вот на него выйдет зверь. Ему нужна была только одна фраза, чтобы начать, зацепиться… А там уже все пойдет само собой. И обрывки этой фразы уже завивались где-то в подсознании. И образы уже цеплялись один за другой, и рукой он уже нащупал любимую толстенькую ручку с резиновым ободком, и вот, когда эта ручка коснулась листа, в его голове вдруг появился и заслонил собой все толстый зад молодой аспирантки Люси.
«При чем здесь это?!» — испугался Артем Олегович. Пшла прочь! Но Люсин круп насмешливо колыхался на поверхности сознания, как бы даже подмигивая всеми своими аппетитными складочками.
Зайцев одеревенел и в этот же момент почувствовал, как все его творческое напряжение ослабевает и безвольно стекает куда-то вниз живота.
«Какая пошлость! — подумал Зайцев, все еще не веря в такое позорное завершение высокого порыва. — Неужели я больше ничего не могу? Господи, на что я разменял свой талант!»
Зайцев выключил настольную лампу, встал, ощупью пробрался к дивану и, улегшись поверх шерстяного пледа, тяжело задумался.
А может быть, не было никакого таланта? Может быть, все это была очередная выдумка Веры? Она могла из кого угодно сделать все, что ей взбредет в голову.
Артема она вообразила писателем, и он стал писателем, и был им, пока она находилась рядом. А потом она ушла и забрала с собой все то, что сама же в него вложила. И от Артема не осталось ничего, ничего, кроме пустой оболочки, фантика.
«Я тебя разорю…» — были ее последние слова, и Артем тогда рассмеялся, потому что думал, что она говорит о деньгах. А настоящий смысл ее обещания открылся ему только сейчас, по прошествии двадцати пяти лет.
Зачем он тогда изменил Вере? Поддался на уговоры каких-то сомнительных друзей. Им все не давало покоя, что он десять лет хранит верность старухе.
Она действительно была на пятнадцать лет старше, но старухой ее назвать было нельзя. Ее даже нельзя было назвать взрослым человеком, потому что непосредственности в ней было больше, чем в восемнадцатилетнем Артеме.
Да, он едва закончил школу, когда впервые увидел ее на кухне у своего приятеля. Там была уйма народу. Все сидели за столом, пили и о чем-то спорили, стараясь перекричать друг друга.
А Вера стояла в углу, у холодильника, и с тихим завыванием читала свои стихи. На нее никто не обращал внимания и никто не слушал. А она все читала и читала, закрыв глаза и слегка покачиваясь в звуках собственного ритма.
И Артему захотелось взять ее за руку, вывести с этой прокуренной кухни и спрятать в каком-нибудь надежном месте, настолько надежном, чтобы доступ туда был открыт ему одному.
Вера была поэтессой, и с точки зрения нормального обывателя, она, конечно же, была сумасшедшей. Все, что она делала, было до такой степени экстравагантно и непонятно, что большинство знакомых, пожимая плечами, отходило подальше.
А Артем не отошел. Он сразу почувствовал, что вокруг нее творится что-то непостижимое, чарующее, что-то такое, от чего даже воздух меняет свою окраску, и она стоит в этой световой гамме, как в радуге, волнующая и не похожая ни на кого.
Не чуя под собой линолеума, Артем сделал несколько шагов по кухне и оказался с ней рядом.
И тут же весь остальной мир перестал существовать. Она продолжала читать, но теперь уже для него. И он стал покачиваться вместе с ней, и с каждым витком рифма уносила его все дальше и дальше, он поднимался на цыпочки и чувствовал, что пальцы его ног вот-вот оторвутся от земли и, презрев притяжение, он вылетит куда-то к звездам.
— Это творчество, — объясняла она позже. — Ты еще не знаешь, что это такое, и поэтому еще не живешь. Но когда-нибудь и тебе откроется эта великая тайна. Ты — человек талантливый: жди.
Произнося это заклинание, она коснулась его лба губами, и он действительно почувствовал себя талантливым, и этот талант, как дополнительный орган, стал пульсировать в нем днем и ночью, не оставляя ни минуты покоя.
Но из этого беспокойства долгое время ничего не получалось, оно только разбухало и множилось от напряженного желания создать хоть что-нибудь. Хоть одну ничтожную рифму.
Слова играли с ним в нехорошие игры. Они мерцали в его голове, цепляясь друг за друга, и даже как будто выстраивались в некие многообещающие ряды, но на бумаге всегда получалась полная ерунда.
— Как ты это делаешь? — спрашивал Артем, молитвенно глядя на Веру.
— Что? — удивлялась она.
— Как ты подчиняешь себе слова? Ведь мы с тобой говорим на одном языке, только у тебя он складывается в какие-то божественные формы, а у меня — в уродливые конструкции. Мне кажется, я бы жизнь отдал только за одно такое стихотворение, которыми ты соришь на каждом шагу.
— Тебе не нужно отдавать жизнь за рифму, — говорила Вера, обвивая его шею своими шелковыми руками. — Ты не можешь быть поэтом, ты для этого слишком земной.
— А что же мне делать? — лепетал Артем.
Он боялся, что вот сейчас она перестанет верить в его талант, в его любовь, в его существование, и тогда он исчезнет, развеется бесследно. И никто не вспомнит о нем.
Но Вера смотрела на него снизу вверх, и ее огромные глаза наполнялись бесовской мутью.
— Ты будешь писать прозу… — шептала она.
И он вдыхал ее шепот вместе с ее поцелуем и понимал, что не может быть другой жизни, другой женщины, другого смысла, кроме того, который вкладывала в него Вера.
И, следуя этому смыслу, Артем стал по-другому структурировать мысли. Он отпустил на волю обрывки рифм, которые засоряли его голову, и сразу почувствовал, что весь мир вокруг него приобретает совершенно иное, логическое звучание.
И люди со своими поступками, и события, и природа, все складывается, как будто само собой, в определенные небольшие сюжеты, которые так и хочется наполнить содержанием.
Но как? Этого Артем еще не знал. И тут опять на помощь пришла Вера.
— Ты должен уловить первый звук, — советовала она. — Найти верную фразу, ключ к будущему произведению. Слушай вселенную. Там уже все записано. Нужно только правильно прочесть.
Артем слушал, и иногда ему действительно казалось, что существует некая магическая связь между Творцом и тем загадочным миром, который Вера называла вселенной.
И тогда его душу охватывало мучительное томление. Ему хотелось силой прорвать невидимую преграду, которая отделяла его от этого неисчерпаемого источника творчества. Он силился, старательно морща лоб, силился до судорог, до головной боли.
— Отпусти, — шептала Вера, — не мучайся так. Все, что положено, само придет.
Артем отпускал и, обнимая ее упоительное тело, думал: «К черту стихи, к черту прозу! Зачем все это, когда есть Вера?»
Она, как всегда, во всем оказалась права. Он перестал гоняться за словами, успокоился. Но в этом спокойствии не было отречения, а было что-то от глубокомысленного ожидания рыбака, сидящего на берегу полноводной реки.
И вот однажды на него вышла фраза. Она была такой объемной, многообещающей, и ее окончание как будто одновременно являлось началом — началом чего-то нового, неизведанного.
Едва дыша и вздрагивая от нетерпения, Артем положил перед собой стопку листов бумаги и, стараясь держать непрочное равновесие, записал:
«Город, в котором провел свое детство и юность Олег Сомов, был настолько провинциален и тих, что долгое время никакие внешние раздражители не нарушали колыбельного состояния его души».
Это был рассказ о художнике, который погнался за большими деньгами и от этого быть художником перестал.
Закончив читать его первое произведение, Вера посмотрела на Артема совершенно новым, оценивающим, взглядом и произнесла:
— Куда? — не понял Артем.
— Пошли, увидишь.
Всю дорогу, в автобусе и в метро, Вера крепко держала Артема за руку и напряженно молчала.
Они приехали к высотному дому на Пресне, в лифте, похожем на лаковую шкатулку, поднялись куда-то под небеса.
Все так же, не выпуская руки Артема, Вера прошла по коридору, остановилась перед пухлой, обитой красным дерматином дверью и замерла. Мгновение она стояла, не двигаясь, и вдруг резко обернулась.
Артем испугался. У нее было какое-то совершенно незнакомое лицо. Напряженное, жесткое, с зияющими отверстиями глаз.
— Запомни, — произнесла она, приблизившись к нему как для поцелуя. — Я буду с тобой до тех пор, пока это тебе будет нужно.
Артем запомнил, но не понял, что она хотела этим сказать. Понимание пришло позже, много лет спустя. Вера не хотела отнимать у него свободу.
Дверь открыла девочка, по виду совсем ребенок. На ее младенческом лице застыло выражение испуга. Она как будто хотела позвать на помощь, но боялась.
— Вадим дома? — поинтересовалась Вера и, не дожидаясь приглашения, вошла в квартиру, держа Артема за руку.
— Дома, проходите, пожалуйста.
— Да уже прошли. — Вера на ходу скинула дубленку и сразу направилась в гостиную. Было видно, что она в этом доме прекрасно ориентируется.
— Скажите ему, пусть выходит, — крикнула Вера. — Я его жду.
Девочка покорно шмыгнула мимо Артема и исчезла в кулуарах барского чертога.
Артем остался стоять посреди просторного коридора. Его буквально сморило от подавляющей роскоши обстановки. Все вокруг утопало в коврах и бархате. По стенам разбрасывали искры света хрустальные светильники, и в воздухе витал какой-то странный запах, принадлежность которого не в силах было определить аскетическое обоняние советского человека.
— Артем, ты где застрял? — послышался голос Веры.
Он звучал гулко, как будто издалека. Артем сделал несколько шагов и оказался в большой светлой комнате. Вера полулежала на мягком диване.
— Располагайся, — пригласила она и, протянув руку, взяла с журнального столика тяжелый графин с коньяком.
— Где мы? — не переставал удивляться Артем.
— Мы, — Вера улыбнулась со значением, — мы у директора одного большого издательства. От него очень, очень многое зависит…
Не успела Вера закончить эту фразу, как двустворчатые двери из смежной комнаты распахнулись, и на пороге появился сам хозяин дома. Его плотную фигуру бережно обнимал плюшевый халат. Между двумя рядами белоснежных зубов торчала невероятной толщины сигара.
— А, Верунчик… — промычал он, не вынимая сигары изо рта. — А я-то думаю: кто бы это мог быть? Мне Шиншилла говорит: «Иди, тебя там ждут…»
— Кто говорит? — не поняла Вера.
— Ах, это девчушка, которая вам дверь открыла. Когда я ее подобрал, на ней было пальто с воротником из драной кошки. Вот я ее в шутку и прозвал «Шиншилла». Пальто-то мы давно поменяли, а прозвище осталось.
— Да, Вадик, — усмехнулась Вера, — чем старше ты становишься, тем моложе твои избранницы. Боюсь, что в следующий раз дело дойдет до старшей группы детского сада.
— Может быть, может быть! — Вадим выпустил изо рта толстое кольцо дыма. Было видно, что слова Веры он воспринимает как комплимент. Люди такого склада привыкли к тому, что их за всё хвалят.
— Так что привело тебя, детка, в мою скромную хижину? — Лицо Вадима играло всеми оттенками самодовольства, и от этого его мимика казалась неестественной.
— Меня привело желание познакомить тебя с начинающим автором, — произнесла Вера в таком же полушутливом тоне, и ее правая бровь изогнулась — как всегда, когда Вера настаивала, а не шутила.
— Ах, детка, если бы ты только знала, как мне осточертели все эти авторы. — Вадим бросил косой взгляд на Артема, как бы давая понять, что и он не является исключением. — Они все делятся на две категории: на тех, которые ни черта не могут, но пишут то, что положено, и на тех, которые что-то могут и все время лезут на рожон. Неужели нет золотой середины?!
— Почему же нет? — Вера встала, вышла в коридор и вернулась со своей сумкой.
— О, господи! Я надеюсь, ты не хочешь испортить мне настроение?! — с притворным ужасом воскликнул Вадим, глядя на то, как Вера расправляет на коленях измятые листки. — Боже, зачем же так много?! Это нескромно! Начинающий автор должен излагать свои мысли в сжатой форме, иначе никто не станет читать!
— Станет… — усмехнулась Вера, продолжая сортировать страницы.
— Да! И кто же? — Вадим сверкнул белоснежными зубами и, сделав в воздухе округлый жест рукой, вставил в рот погасшую сигару.
— Кто? — Вера протянула Вадиму стопку исписанных листов. — Ну, конечно же, ты.
— О нет! — В поведении Вадима было что-то жеманное, женственное. Артем с трудом сдерживал гримасу отвращения.
— Верунчик, — произнес Вадим с мольбой в голосе. — Оставь у меня все это художество, а через недельку…
— Никаких неделек, — отрезала Вера. — Мы сейчас пойдем на кухню, а ты спокойно почитаешь.
— Да, но у меня были совсем другие дела… — Вадим с тоской посмотрел на дверь, за которой, по всей видимости, пряталась Шиншилла.
— Твои дела никуда не убегут! — отрезала Вера и, больше ни слова не говоря, вышла на кухню.
Артем последовал за ней, потрясенный той бесцеремонностью, с которой его подруга разделалась с этим важным индюком.
— Какой неприятный тип… — прошептал он, закрывая за собой дверь. — Откуда ты его знаешь?
— Это мой муж, — заявила Вера и, не давая Артему опомниться, добавила: — Он не так плох, как кажется с первого взгляда.
— Муж?! Какой муж? — Артем безвольно опустился на угловой диванчик. — Нет, у тебя не может быть мужа! Ты — моя!
Не удостоив Артема ответом, Вера повернулась к плите и стала готовить кофе.
— Зачем же ты меня сюда привела?.. — бормотал Артем. — К твоему мужу? А, я понимаю. Детский сад, большая разница в возрасте. Ты хотела ему отомстить!
И тут Вера резко обернулась. За ее спиной лопнула шапка набухшего кофе и послышалось шипение затухающей конфорки.
— Ты что! Ты что подумал?! — выкрикнула она с каким-то ненормальным надрывом. — Я ушла, ушла от него совсем!
Вера бросилась к Артему, опустилась перед ним на пол и обняла его колени.
— Я не могу жить с циником! Он меня уничтожает! — возбужденно шептала она.
И Артему казалось, будто она сейчас пытается найти оправдание своему безумному поступку и поэтому так крепко прижимается к нему, так боится разомкнуть руки и понять, что он, Артем, — всего лишь плод ее фантазии, в то время как директор издательства, пусть даже нарцисс и циник, является все же вполне реальной номенклатурной единицей, за которой проглядываются нешуточные привилегии.
И хотя в последующие несколько лет Вера неоднократно на деле доказывала свою любовь, Артем больше не смог избавиться от чувства, что является всего лишь инструментом для выяснения отношений этих двух людей.
…Не прошло и пятнадцати минут, как Вадим появился на кухне. Он с подчеркнутым равнодушием взглянул на распростертую на полу Веру, ни слова не говоря, выключил источающую ядовитый запах конфорку и открыл окно. Кухня быстро наполнилась морозным воздухом.
— Поздравляю, молодой человек! — произнес нараспев Вадим, усаживаясь напротив Артема. — Неплохо, очень неплохо. Я бы даже сказал — талантливо. У моей жены всегда был хороший нюх на молодые дарования.
В слово «молодые» он постарался вложить двойной смысл, отчего все сказанное приобрело какой-то неприятный каламбурный оттенок. Вера подняла голову и посмотрела на Вадима с ненавистью.
— Напечатаешь? — спросила она, поднимаясь на ноги.
— Надо подумать…
— О чем тут думать?! — воскликнула Вера. — Сам же говоришь: «талантливо»! Как бездарей печатать, так небось не думаешь!
В нападках Веры на мужа чувствовалась невысказанная обида, и было видно, что право на эту обиду Вадим за ней признает.
— Понимаешь, детка, — Вадим величественно развалился на стуле, — бездари — это благодатный материал. Они знают свое место и поэтому всегда готовы служить. А человек талантливый двигается как заяц, никогда не знаешь, куда вильнет, а мне потом разбирайся с начальством.
— Замолчи! — Вера болезненно сморщилась и закрыла уши руками. — От твоего цинизма хочется умереть!
— Ну, зачем же так серьезно, детка? — смутился Вадим и заговорил нормально, по-человечески. — Ты пойми, чтобы вывести писателя на орбиту, одного рассказа мало. Я правильно понимаю, что молодой человек находится в начале своего пути?
Он обращался к Вере так, как если бы Артема вообще не было на кухне.
— Прекрати называть меня «деткой», — выпалила Вера вместо ответа. — Ты знаешь, что я этого терпеть не могу! У тебя все твои девчушки «детки», потрудись исключить меня из общего ряда!
— Хорошо, не буду… — Вадим положил ногу на ногу. — Так что, молодой человек, есть у вас что-нибудь в таком же роде?
Обратился Вадим теперь уже к Артему и ткнул холёным пальцем в рукопись. Не успел Артем раскрыть рот, чтобы сказать: «Нет, это — мой первый опыт, и я не знаю, смогу ли написать что-нибудь еще…» — как инициативу перехватила Вера.
— Конечно, у него есть рассказы и в таком роде, и в другом, один лучше другого!
Артем не верил своим ушам! Она лгала! И эта ложь могла обернуться для него катастрофой.
— Хорошо, приносите завтра, — услышал Артем насмешливый голос Вадима.
«Все пропало!» — подумал он.
— Завтра мы не можем, — быстро отреагировала Вера. — У меня горящая путевка в Дом творчества, приедем через две недели, и тогда…
— Отлично! — Вадим встал, давая понять, что аудиенция окончена. — Приносите через две недели, напечатаем в следующем номере.
Всю свою жизнь Артем не мог ответить на вопрос — что было бы с ним, если бы Вера тогда не подвергла его этому мучительному испытанию, не заставила напрячь все свои силы и за две недели сделать то, на что у других уходят годы.
Она действительно на следующий день увезла его, но не в Дом творчества, а на свою дачу в Переделкино. И там, в обморочной тишине, посреди заснеженного леса Артем с ужасом понял, что в его голове нет ни одной мысли, что рассказ, который он написал несколько дней назад, был результатом аварийной поломки мозга. Там в его голове произошло что-то вроде короткого замыкания, и больше этого никогда не повторится.
— Зачем ты обманула его, Вера? — упрекал Артем свою возлюбленную. — Я — бездарь, я ничего не могу, этот рассказ — случайность.
— Ты так говоришь, потому что не знаешь законов искусства, — утешала его Вера. — В этой сфере случайностей не бывает. Не думай ни о чем. Просто смотри. Как падает снег.
И Артем смотрел на незатейливый танец снежинок, на белое небо, на белые крыши домов и чувствовал, как его душа затихает, из головы уходят суетливые, ненужные мысли, она становится пустой и легкой, и в этой приятной пустоте что-то такое происходит, что-то непроизвольное, зыбкое, как навевающийся сон.
— Чтобы писать, нужно забыть себя… — шептала Вера.
И Артем понимал, что она имеет в виду. Забыть, забыть все, что держит его в материальном пространстве, выйти туда, где обитают ее стихи.
Перехода он не заметил. А просто очнулся на четырнадцатый день, окруженный ворохом исписанной бумаги.
— Вера… — позвал он. Ответа не последовало.
— Вера! — крикнул Артем громче, и по тому, как гулко вернулся назад звук, понял, что дом пустой.
— Странно… — Артем потер лоб. — Я где-то был. Но где?
Он встал и пошел по шуршащим страницам. В доме было холодно, и все вокруг было так незнакомо, странно.
«Я чего-то хотел… — подумал Артем. — Мне что-то было нужно».
Он пришел на кухню и вспомнил, что ему очень хотелось есть. Холодильник оказался пустым. Да-да, стоящий с открытой дверцей холодильник был мертв.
Артему сделалось страшно в этом чужом, выстуженном доме. Он быстро бросился к входной двери, сунул ноги в стоящие под вешалкой валенки, натянул пальто, нахлобучил шапку, выбежал на улицу и увидел, как, утопая в снегу, к дому идет Вера.
И по мере ее приближения Артем чувствовал, как к нему возвращается жизнь, и он вспоминает все эти долгие дни и бессонные ночи, вспоминает ощущение счастья — сильного и яркого, такого, которого не бывает в обычной жизни.
— Я тебя люблю! — крикнул Артем и бросился в снег, чтобы принять у Веры сумки.
Вера улыбалась.
— Я что-то писал, но еще не знаю… — бормотал Артем. — Пойдем, я тебе прочту.
— Нет! — возразила Вера. — Сначала тебе надо поесть, ты уже неделю сидишь не вставая.
— Я не хочу есть, я должен знать, что получилось. Может быть, это все мусор!
Они зашли в дом.
— Мусор? — Вера посмотрела на Артема сияющим взглядом. — Да это лучшее, что я читала за последнее время!
— Откуда ты знаешь? — не поверил Артем. — Ты же не читала. Там же в комнате всё разбросано.
— Не всё… — Вера подтолкнула его в гостиную, и он увидел на столе аккуратно уложенные стопки листов. — Я время от времени выгребала завалы. Здесь шесть рассказов, и каждый из них — чистое золото!
— Вера! — Артем подхватил Веру и закружил по комнате. — Это ты вдохнула в меня талант, ты пробудила меня к жизни! Без тебя я бы никогда не проснулся!
Весь следующий день они пили вино и читали, и Артем, прислушиваясь к собственному голосу, все не верил, что это он написал такие непостижимые для его еще полудетского сознания вещи. Что это его воображение породило такие удивительные по своей красоте и силе образы.
— Из тебя выйдет большой писатель… — пообещала Вера, когда чтение было закончено. — Это только начало.
На следующий день она поехала к Вадиму одна.
— Так будет лучше! — заявила Вера. — Жди.
Артем ждал долго. Полдня и весь вечер, и потом еще до середины ночи.
И ожидание это было ужасно, потому что он думал об этом противном Вадиме, с отвращением представлял, как тот трогает своими белыми пальцами листы, на которых осталась какая-то часть самого Артема, содрогался от мыслей о том, как Вадим смотрит своими масляными наглыми глазами на Веру, будто оставляя на ней жирные пятна.
Он готов был бежать туда, на Пресню, вломиться в квартиру и отнять рассказы и Веру. И пусть, пусть он испортит себе все, пусть его больше никогда не напечатают, но он сохранит то, что ему дороже всего на свете, — свою любовь и творчество.
И если бы Артем тогда решился выйти из дома и действительно реализовал свой порыв, вся его жизнь пошла бы совершенно по другому пути. Но он не трогался с места. Он пытался дисциплинировать свои чувства. И это было первым опытом подавления в себе иррационального ради рационального.
Потом, позже, подобный диалог с собой сделался привычным и заканчивался очень быстро и безболезненно полной победой рассудка.
Вера пришла домой далеко за полночь, и Артему показалось, что что-то в ней неуловимо изменилось. От нее пахло сигарами и коньяком, и этот запах как будто перекидывал мостик туда, к ее мужу.
— Ты где так долго была? — спрашивал Артем, пытаясь заглянуть ей в глаза.
Вера отводила взгляд, смотрела мимо. И загадочно улыбалась.
«Она была с ним… — думал Артем. — Все кончено! Я больше никогда не смогу ее любить».
Странно, но в эту минуту Артем совершенно забыл, зачем Вера ездила к своему мужу. Он впервые в жизни познавал чувство ревности и был увлечен им совершенно.
— Артем, я уже десять минут дома! — наконец не выдержала Вера. — А ты все ходишь за мной с подозрительным видом и никак не спросишь, как прошли переговоры.
— И как же они прошли? — угрюмо поинтересовался Артем.
Тут Вера совершенно преобразилась и стала прежней. Она подошла к Артему так близко, как будто хотела войти в него, и, закинув голову так, что ее взгляд оказался устремленным мимо глаз Артема прямо в самый центр его души, медленно, нараспев произнесла:
— Ты входишь в мир большой литературы, мой милый. Это огромная ответственность. Смотри, не урони себя.
Артем плохо понимал, что она говорит, он только чувствовал. Как ее слова вливаются в него волшебным потоком, и все в нем оживает; и любовь, и желание создавать что-то новое. И вот сейчас Вера скажет что-то еще! Что-то чрезвычайно важное. Но не надо, не надо торопиться. Еще немного этого блаженного ожидания. Она поняла, она улыбается, она длит мгновение, но вот…
— Через месяц напечатают твой рассказ… — слышит Артем сквозь шум движения собственной крови. — А к весне выйдет твоя книга. Но над этим нужно еще поработать.
Артем обнимает Веру, прижимает к себе, и ему кажется, что он обнимает весь мир, который сделался вдруг так непереносимо прекрасен. И все, все люди в нем стали необыкновенно хороши — и даже этот Вадим с его барскими замашками. Больше Артем никогда не испытывал такого счастья. Это был самый сильный аккорд в его жизни. И потом, когда ему бывало трудно, он всегда возвращался к этому моменту, чтобы оттолкнуться от него. И двигаться дальше.
Вера взяла на себя все. Артему оставалось только писать. Его продвижение в литературе было стремительным и ярким. И первые плоды не заставили себя долго ждать.
Артем становился узнаваем. И сразу, вслед за этим, произошло раздвоение. Эти люди на улицах, которые тревожно оглядывались ему вслед, знали, что вот идет известный писатель Артем Зайцев. И каждый такой взгляд как будто отхватывал от Артема кусочек его «я». И чем больше становилось поклонников, тем меньше этого драгоценного «я» оставалось в самом Артеме. Они как будто растаскивали его по частям.
— Не поддавайся соблазну, иди ровно по своему пути, — предупреждала Вера. — Люди не стоят того, чтобы растрачивать на них лучшее, что в тебе есть. Если ты не сохранишь целостность своей натуры, то твой талант превратится для тебя в наказание.
Поначалу Артем внимательно прислушивался к ее мнению и старался изо всех сил не размениваться, не гнаться за наживой. Вера была для него как для слепого поводырь. Он боялся отпустить руку и упасть, потеряться, утратить ориентир.
Но постепенно хвалебные оды, которые пели вокруг него читатели, писатели и критики, утвердили его во мнении, что Вера со своим болезненно-чутким отношением к его творчеству уже давно перестала быть нравственной направляющей. Что он давно перерос ее чисто женскую интуицию и сам понимает лучше всех, что такое хорошо и что такое плохо.
И с этим пониманием Артем Зайцев почувствовал, как буквально физически поднимается надо всем сущим, и кривая улыбка высокомерия заиграла на его губах. Он ходил с этой улыбкой по улицам, сидел в ресторанах, тратил огромные гонорары, которые получал от продажи своих книг, и чувствовал, что ему больше не надо гоняться за жизнью, что жизнь сама идет к нему, покорная и ласковая, как прирученное животное.
Он продолжал писать с удовольствием и много, но что-то такое закрылось в его душе. Какая-то дверка, ключ от которой был безвозвратно потерян. Там, за этой дверкой, спрятано самое главное, что-то такое, без чего все его рассказы не стоят ломаного гроша, потому что из них ушло вдохновение.
Но потом он забыл и это. Никакие сомнения больше не тревожили его. И полилась вода на мельницу литературы. И жернова этой мельницы вращались все быстрее, все легче, не обремененные ни смыслом, ни содержанием. И это блаженное почивание на лаврах прерывалось только недовольным гудением Веры.
— Что ты делаешь! — возмущалась она. — Я думала, из тебя получится настоящий мастер!
— Так что же ты хочешь? — притворно удивлялся Артем. — Меня читают миллионы людей.
— Это не оценка! — не унималась Вера. — Талант не может измеряться цифрами.
— Талант оценивается чувством собственного достоинства, которое ты потерял ради цифр и превратился в модное ничто!
Подобные перепалки утомляли Артема. Он желал блаженствовать, а Вера смущала безоблачную синеву его души. Она заставляла его копаться в себе, вытаскивать на свет божий какие-то ненужные вещи — достоинство, честь — какие-то глупости, средневековые понятия. Это, в конце концов, смешно в современном мире.
В общем, стала ощущаться разница в возрасте. Конечно же, Вера принадлежала к другому поколению. Поэтому и в перестройку вписаться не смогла со своими старомодными стихами.
Но одно из этих старомодных понятий все же нравилось Артему чрезвычайно. И имя этому понятию было — благородство.
Нравилось потому, что его можно было носить как украшение, как золотую цепочку, например, или орден.
И, руководствуясь этим самым благородством, он твердо решил, что стерпит все, но свою стареющую любовницу не бросит.
Тем более что в этом не было особой необходимости. Вера предоставляла ему полную свободу. Этой свободой Артем пользовался деликатно.
— Нельзя обижать женщину, посвятившую тебе жизнь, — говорил он друзьям.
И его сознание при этих словах наполнялось торжеством. Он поступал благородно! И все вокруг с затаенной завистью качали головами. Это было красиво, жертвовать собой ради увядшей любви.
Друзьям тоже хотелось такого величия, но не хотелось во имя этого расставаться со своими милыми привычками, и поэтому благородство они откладывали на потом, на старость, когда все утрясется само собой и больше не захочется так жадно пожирать жизнь, а захочется наоборот — созерцать и переосмысливать.
Правда, нужно сказать, что, представляя себя жертвой обстоятельств, Артем лукавил. Просто он все еще, даже по прошествии стольких лет, не познал до конца таинственной сути своей подруги.
Вернее, он никак не мог определить, где заканчивается он и начинается она, где проходит та граница, которая определяет личность каждого из них. Это позже, оставшись один, он поймет, что нет никакой личности Артема Зайцева, что Вера унесла все с собой.
И что это она была его сутью, его творческим началом, его устремлением. А тогда, на пике известности, ее требовательность, ее призывы к нравственной высоте раздражали.
А еще раздражала Верина неувядающая красота и его чувственная зависимость от ее вечно манящей женственности. Как пубертатный подросток пытается разрушить образ матери, чтобы уйти в свою взрослую жизнь, так и Артем рвался прочь от затянувшегося чувства.
Его душа жаждала свободы, самостоятельности, перемен. И, руководствуясь этим своим желанием, он сам, не ведая того, все ближе и ближе подходил к своему творческому концу.
Тому способствовало многое, и в первую очередь новая нарождающаяся культура — плоская и бессмысленная, как лужица на асфальте.
Она, эта культура, хлопала своими молодыми, незатуманенными глубинными процессами глазками, и Артем понимал, что в них, очищенных от всякой мысли, он отражается очень выгодно и изящно.
И уровень его будет недосягаем, даже если он будет просто водить рукой по бумаге, даже не подключая к этому процессу голову.
— Чем проще, тем лучше, — говорил Артем Зайцев на творческих вечерах. — Я хочу быть доступен широкой массе читателей.
И этот принцип действовал прекрасно. Чем бессмысленнее становились его произведения, тем лучше продавались его книги. Но тогда еще рядом была Вера, и Артем все-таки стыдился своей беспомощности.
Она измеряла его творчество четко, как барометр атмосферное давление. Веру он не мог обмануть. И поэтому хотелось уйти, уйти от этого вездесущего взгляда, закружиться в легком романе с какой-нибудь красивой молодой дурочкой, которая будет смотреть на него как на божество и молчать, молчать, молчать! И, как только эта мысль оформилась в голове Артема окончательно, случай не заставил себя долго ждать.
Вера уехала надолго. Она часто исчезала неизвестно куда и возвращалась, когда ей вздумается. Артем никогда не знал, где она проводит время.
На этот раз Вера предупредила, что будет не скоро, и попросила его два раза в неделю поливать цветок. В ее жизни всё было так. Она жила намеками, как будто сочиняла какой-то запутанный стих. А Артем, как ни старался, не мог разгадать его скрытого смысла.
Если бы Вера просто сказала, не запутывая его мыслей в неразделимый клубок, так, мол, и так, буду через два дня, — Артем не привел бы в дом этой девицы. Но Вера сказала: «Поливай цветок два раза в неделю», — тем самым намекнув, что самое малое неделю ее не будет, и Артем почувствовал себя в полной безопасности.
Тем более что он не стал ждать ни неделю, ни полнедели, а привел ее сразу же, на второй день. Это случилось как бы само собой.
Артем даже плохо помнил, как оказалась эта вульгарная грудастая особа в их с Верой доме. Он долго праздновал что-то неведомо где. Было выпито немерено всяческих напитков, и вот, когда наступил момент усталости и полного отупения всяческих чувств, Артем подсел к барной стойке и старчески округлил спину, как бы создавая своим туловищем сферу для очередной рюмки водки.
— Ну все, последнюю и пойдем, — проговорил он куда-то в себя.
Рюмка взлетела в воздух, голова запрокинулась, и водка, как вода, проскочила в желудок.
Артем решительно повернулся и уткнулся носом в большое благоухающее декольте.
Лица он разглядеть не успел, потому что при виде этого колышущегося моря плоти его пьяные чресла пришли в совершеннейшее смятение. Он схватил обладательницу необъятного бюста за руку и потащил за собой. Обладательница не сопротивлялась.
Не сопротивлялась настолько, что в какой-то момент Артему стало казаться, будто он бредит. Будто она — что-то вроде фрагмента белой горячки. Домой ехали на такси, и там, на заднем сиденье, его спутница полностью материализовалась.
Артем трясся, как в бешеном танце дикаря. Он и не подозревал в себе такой грубой затаенной силы. Ему так и хотелось разорвать любовницу на мелкие, ничего не значащие куски, так, чтобы ушло это нагнетаемое звериное чувство.
С трудом донеся свою страсть до порога квартиры, Артем сорвал с себя одежду и, не добравшись до кровати, устроился со своей гостьей на кухне. Она сидела на его коленях лицом к нему, и голова ее запрокидывалась все дальше и дальше, так, что Артему стало мерещиться, будто голова отвалилась и осталась одна вздыбленная грудь.
«Вот и хорошо, без головы даже лучше», — успел подумать Артем, и его сознание на мгновение погасло, потрясенное страшным взрывом.
Какое-то время он был отключен от всего сущего, но потом сознание стало заполнять голову, и, прежде, чем открыть глаза, он подумал, что было бы неплохо, если бы все это ему только приснилось.
Но перевести случившееся в сновидение не удалось, потому что под закрытыми веками что-то загорелось, и Артем понял, что в кухне включили свет.
— Но кто? — думал Артем, не открывая глаз.
В квартире было только два человека: он и эта тяжелая женщина, неприятное тепло которой он еще ощущал своими коленями.
«Кто это? Кто?» — Артем в ужасе распахнул глаза и увидел Веру.
Она держала руку на выключателе и как-то жутко, по-лисьи скалилась.
— Вера… — умоляюще прошептал Артем и почувствовал, как его душа наполняется безотчетным ледяным отчаянием, и сразу вслед за этим пришло осознание того, что все бесполезно, исправить ничего нельзя.
Вера беззвучно, передвигаясь, как в замедленной пантомиме, собрала разбросанные на полу вещи, подошла к окну и, широко распахнув створки, выбросила все во двор.
После чего гостья Артема сползла с его колен и нелепыми скачками стала пробираться в ванную.
Артем с отвращением успел отметить ее дряблые ноги и перевел удивленный взгляд на тонкую, элегантную фигуру Веры.
— Зачем я это сделал?… — прошептал он и взялся обеими руками за голову.
— Не знаю… — ответила Вера. — Я сейчас уйду, и больше ты меня никогда не увидишь.
— Нет! — воскликнул Артем.
Он в отчаянии вскочил с места, бросился было к Вере, но тут же заметил, что он без штанов, и это обстоятельство делало любое объяснение невозможным.
— Я рада, что все так закончилось, — произнесла Вера, с безжалостной насмешкой глядя на Артема. — Ты превратился в ничтожество, и у меня к тебе больше нет никаких чувств.
Она вышла за дверь, а Артем остался сидеть на кухонном диванчике. Он слушал, как хлопают дверцы шкафов, из которых Вера собирала вещи. Эти звуки походили на выстрелы, и каждый из них попадал Артему прямо в сердце.
На кухню, прижимаясь к стене, вползла какая-то тетка. На ней были надеты джинсы Артема и майка тоже, кажется, из его белья.
Артем не сразу узнал в ней партнершу по давешней страсти и даже слегка испугался.
— Сумку отдай! — просипела тетка.
— Сумку? — Артем в недоумении вытаращил глаза.
— Сумку, сумку! — рявкнула она и, выхватив из-под Артема потрепанный ридикюль, быстро побежала к двери.
Артем был унижен. Ему хотелось исчезнуть из этого мира. Не умереть, нет, для этого он был слишком слаб. Ему хотелось, ну, стать невидимкой, что ли.
Вся эта отвратительная случка не поймешь с кем была ужасна сама по себе, и Артему без того стоило бы больших трудов разобраться со своей совестью, не говоря уже о венерическом диспансере. А здесь еще свидетель. И какой! Да лучше бы его увидела вся страна по телевидению, но только не Вера!
Тем временем Вера собрала большую спортивную сумку, поставила ее у двери и вернулась на кухню.
Артем видел, какого труда ей стоит сдерживать гнев. Ее подбородок дрожал, глаза блестели металлическим звездным блеском. Она подошла к Артему вплотную, как это делала всегда, когда хотела сообщить что-то чрезвычайно важное, и наклонилась к самому его уху.
На мгновение Артему показалось, что она хочет его поцеловать, и надежда блеснула в сознании, как серебряный хвост сорвавшейся с крючка рыбы.
— Я тебя разорю… — прошептала Вера.
И Артем подумал, что в последний раз вдыхает запах любимой женщины. И что вот она сейчас так рядом, а он больше не имеет права ее обнять. И вместо того, чтобы заплакать и попытаться вымолить прощение, он вдруг произнес:
— Ты можешь убить меня, но разорить не можешь, потому что уже много лет живешь за мой счет.
Вера выпрямилась. В ореоле гнева она была прекрасна. Она хотела что-то сказать, но потом передумала. По ее лицу было понятно, что она больше не хочет тратить на Артема слов. Вера махнула рукой, повернулась и пошла к двери, а Артем почему-то рассмеялся ей вслед. Наверное, этим смехом он хотел защитить себя. Так слабый человек защищает ладонью лицо от удара. Но Вере это было уже неинтересно. Она уходила от Артема навсегда.
Веру он больше никогда не видел. Ходили слухи, что она вернулась к Вадиму, когда у него были очень трудные времена. А потом он стал олигархом, и Вера оставила его.
Как-то, давая телеинтервью, Вадим сказал, что готов отдать все до копейки за близость любимой женщины, и добавил:
— Но, видимо, у меня недостаточно денег, чтобы вернуть ее любовь.
Он все еще курил сигары, но его зубы больше не сияли такой здоровой белизной, и вообще время значительно потрепало его.
Артем был единственным человеком, который понимал, о ком идет речь. Он тоже готов был отдать все, но у него больше не было ничего такого, чем бы он мог заинтересовать такую личность, как Вера.
Говорят, время лечит. Но в случае с Верой, чем больше становился временной разрыв, тем безнадежнее представлялась Артему дальнейшая жизнь.
Вера выполнила свое обещание и разорила его полностью, дотла. Она унесла с собой все, оставив только самые ничтожные вещи: тщеславие, деньги и безразличие.
…В большой телевизионной студии было нестерпимо душно и так же нестерпимо светло. Шоу близилось к своей кульминации.
Слева от Зайцева сидела какая-то старуха. Она бессмысленно жевала пустым ртом и затравленно смотрела по сторонам.
Справа, аккуратно сложив костлявые ножки, красовалась известная телевизионная дурочка. Вот уже несколько лет она с удивительным постоянством мелькала на всех телевизионных шоу, где каждый раз произносила одну и ту же фразу — что-то такое про свою неотразимость. Больше она ничего сказать не могла, в силу умственной отсталости, но, видимо, и этого для нынешней публики было довольно.
Ведущая металась в свете прожекторов, как заяц, пойманный лучом автомобильных фар. Она громко кричала, размахивала руками, демонстрировала свой неповторимый стиль.
— Ну, расскажите, расскажите! — умоляла она. — Как вы решились выйти замуж за человека, который на шестьдесят лет старше вас, и поселиться с ним в таежной землянке?
Молодая женщина с лицом дикого животного безмолвно таращилась в пространство. Было видно, что до нее плохо доходит смысл происходящего. На руках у женщины сидел младенец с таким же, как у матери, выражением лица, а рядом, на диванчике, примостился похотливый старикашка, который безо всякого стеснения поведал миру, что пользует эту не совсем нормальную особу с ее четырнадцати лет.
В зале все дружно зааплодировали.
«Странно, — подумал Зайцев. — Вообще-то на этом месте в студию должна войти полиция и увести мерзавца в тюрьму».
— У нас на программе присутствует актриса, в которую в свое время были влюблены все мужчины Советского Союза! Елена Соловьева! — на манер циркового конферансье объявила Клеопатра.
Зал взорвался овациями, и Артем Олегович увидел, как прямо на него несется ведущая с микрофоном в вытянутой руке. В какой-то момент Зайцеву показалось, что он сходит с ума.
Елена Соловьева?! Женщина с лицом ангела?! Но ее здесь нет. И не успел он додумать эту мысль до конца, как увидел, что Клеопатра сует микрофон в рот сидящей рядом с ним старухе.
— Елена, что вы думаете относительно наших героев?
«Что? — Зайцев даже слегка привстал с места. — Вот это вот Соловьева?»
Он пригляделся внимательнее. Да, это была она. Все тот же слегка раскосый разрез глаз, слегка вздернутый нос, но все это как будто спрятано за безобразной маской неопрятной старости.
«Этого не может быть! — подумал Зайцев. — Она ведь всего на пятнадцать лет старше меня. И Вера была на пятнадцать лет старше. Неужели и она вот так?..»
И в этот момент Зайцеву стало ясно, что он опоздал. Что все эти годы он жил только потому, что была надежда. Надежда увидеть Веру и объясниться, рассказать, как пуста и безнадежна была его жизнь без нее. А жизнь-то тем временем закончилась, и объясняться больше не с кем.
Зайцев встал, Клеопатра метнула в него вопросительный взгляд и тут же, пытаясь поймать вышедшую из-под контроля ситуацию, подскочила к нему с микрофоном.
— Что скажет известный писатель Артем Зайцев?! — воскликнула она. — Как бы поступили вы на месте главного героя?
Зайцев угрюмо молчал.
— Ну, представьте себе, все-таки тайга, маленькие дети, антисанитария… — подсказывала ведущая, понимая, что с писателем творится что-то неладное.
— Я бы… — Зайцев обвел печальным взглядом студию, охватывая всех присутствующих. — Я бы переселил вас всех на Луну.
Клеопатра как-то неопределенно замычала.
— Ну, чтобы легче было дышать… — пояснил Зайцев. — Готов возглавить эту экспедицию.
С этими словами он нетерпеливым жестом убрал со своего пути ведущую и направился к выходу.
За его спиной нарастала волна негодования.
На улице стоял страшный мороз, но Зайцев распахнул пошире пальто и не надевал шапку. Ему было жарко. Впервые за двадцать пять лет он почувствовал свободу и хотел прикасаться к этой свободе головой, кожей, мыслями.
Придя домой, он, не раздеваясь, сел к письменному столу, мгновение подумал и записал:
«Артем Олегович Зайцев чувствовал себя отвратительно. Вокруг его носа навязчиво порхала кисточка визажистки, которая нестерпимо пахла пудрой и выделениями чужих потовых желез…»
Алик и Женька
Свою первую жену Алик очень любил. Он скучал по ней каждую минуту, где бы ни находился: и на работе, и в отпуске. И даже лежа в объятиях какой-нибудь посторонней женщины, бывало, подумает: «Зачем мне это все нужно?» — и уже доведет любовный акт до конца без всякого удовольствия, чтобы потом, вернувшись среди ночи домой, растормошить сонную Женьку и в подробностях рассказать, как плохо ему было с той, другой.
Женька смотрела на него сонными глазами, из которых сыпались маленькие, как бисер, слезинки. У нее было все маленькое, у его Женьки, — ручки, ножки и личико, такое жалкое, как у школьницы, получившей двойку.
— Зачем ты мне все это рассказываешь, Алик? — всхлипывала она. — Ты же меня так мучаешь!
— Как! — Алик садился в кровати. — А кому же мне это рассказывать? Ты моя жена, у меня ближе тебя никого нет. — При этом на его лице отображалось такое неподдельное изумление, что Женьке становилось стыдно за свою несообразительность. Она виновато моргала, и в ее огромных голубых глазах появлялось сострадание.
В такие минуты Алик был счастлив. Он целовал Женьку в дрожащие губы и тихо шептал:
— Глупенькая моя девочка, мне же, кроме тебя, никто не нужен, неужели ты не понимаешь?
Женькино тело от его шепота становилось податливым и мягким, как воск. Она вся устремлялась навстречу его ласкам, и только ее глупая, наивная душа отказывалась понимать — как это так, если он любит ее? Зачем тогда все остальные? В поисках ответа на этот вопрос Женька провела половину своей жизни. Однажды она попыталась добиться объяснения у Алика. Но он ответил что-то совсем несуразное:
— Да если бы я тебя так не любил, то не было бы всех этих Танечек и Любаш, неужели непонятно?
Нет, Женьке было ничего непонятно, но спросить еще раз она не решалась, боялась показаться несообразительной.
Женька стала утешаться самогонкой, которую варила сама по рецепту матери. Повсюду: в ванной, в коридоре, на кухне стояли, прикрытые крышками, фляги с брагой, в доме постоянно пахло дрожжами.
Алику самогонка нравилась: есть чем принять гостей, да и самому хлопнуть после работы рюмашку не мешает. Женька гнала с удовольствием и вообще все, что было для Алика, она делала с удовольствием. Когда в плавающей по поверхности большого бака миске скапливался первач, Женька сначала протяжно нюхала прозрачную жидкость, а потом, зачерпнув маленьким серебряным половничком, наливала себе рюмочку. «Только одну, — думала она, — надо же попробовать, что получилось». За первой рюмочкой следовала вторая, затем третья, после четвертой Женька неизменно начинала рыдать.
Когда до Алика наконец дошло, что жена спилась, было уже поздно. Он все чаще заставал её в состоянии, непригодном для тихих признаний и бурных любовных примирений. Он повыкидывал из дома все кастрюли и фляги. Пробовал объяснять, пробовал прибегать и к более жестким воспитательным мерам, но Женька, проснувшись под утро с синяком под глазом, с удивлением рассматривала свое лицо в зеркале и спрашивала:
— Алик, ты не знаешь, где я могла так стукнуться?
Так что воспитания никакого не получалось. Алик был в отчаянии. И чем несчастливее становилась его семейная жизнь, тем большим чувством он проникался к своей непутевой жене и тем сильнее сжималось его сердце при виде ее распростертого в беспамятстве тела. Женька таяла день ото дня. Алик мучился и не знал, как удержать в этом крохотном существе жизнь. Он водил ее от врача к врачу, устраивал в наркологические центры, до тех пор, пока однажды ему не сообщили, что все его усилия тщетны, жить ей осталось совсем недолго — рак.
Алик взвыл. Впервые в жизни он почувствовал, что такое беда, большая, неотвратимая, которой не с кем поделиться, потому что чужое сочувствие кажется таким лживым, ничтожным по сравнению с его горем. Другие женщины больше не интересовали его, даже сама мысль о них была ему отвратительна. Зачем все это, когда от него уходит Женька, единственное существо на свете, для которого стоило жить? Все последние месяцы он носил ее на руках — на кухню, в туалет, в ванную. Мыл под душем. Женька стеснялась своего худого, обвисшего тела, она все еще реагировала на его прикосновения как женщина и прикрывала ладошками почти исчезнувшую вялую грудь. Для нее это были месяцы полной гармонии и счастья. Всем тем, что было недоступно при жизни, вдруг неожиданно и так щедро ее одарила смерть.
Однажды вечером Алик пришел домой и застал у Женьки незнакомую женщину. Женькина голова — маленькая, высохшая — лежала на подушке. На висках и под глазами залегли зеленоватые тени.
— Подойди ко мне, — прошептала Женька мерцающим шепотом.
Алик кинулся к постели. В его душе что-то оборвалось, он почувствовал приближение того ужасного, неотвратимого, что так страшно произнести вслух…
— Это Люся. — Женя указала глазами на стоящую в изголовье женщину.
«Зачем она мне это говорит? — подумал Алик. — Какая Люся, разве это сейчас важно?»
— Это моя подруга, — продолжала Женя, — она очень порядочный и добрый человек.
— О чем ты, Женечка? — Алик плакал.
— Не перебивай меня, а то я не успею сказать. Ты не сможешь жить один. И порядочную женщину найти не сможешь, они все будут хотеть от тебя только денег. А она будет тебя любить, как я, и терпеть все будет. Люся…
Женщина наклонилась над кроватью.
— Береги его… — Женя еще успела соединить их руки и умерла. А Алик остался стоять, до боли сжимая в своей руке ладонь совершенно незнакомой женщины.
Люся оказалась именно такой, какой ее описала Женька. Алика она любила послушно и преданно. Она действительно терпела все: и его крутой нрав, и измены. Но не было в ее покорности того страстного отчаяния, которое Алик каждый раз находил в Женьке. Не вызывала в нем Люся той блаженной жалости, от которой по всему телу разливается нежность и сердце млеет от любви и желания. Люсины страдания были какими-то безвкусными, тупыми. Покорный коровий взгляд, невыразительная сутулая спина с провисшими плечами.
О своих любовных похождениях Алик Люсе никогда не рассказывал, с ней это было неинтересно. Она обо всем догадывалась сама. Он частенько не приходил ночевать, в дом звонили посторонние женщины. Люся подзывала мужа к телефону и молча пряталась у себя в комнате. Она была очень одинокой, эта Люся. Всю жизнь одна, ни семьи, ни детей, и вот в сорок лет такая удача — замуж вышла. Спасибо покойной подруге. Конечно, радости в такой семейной жизни было мало, но все-таки, все-таки…
Какой должна быть настоящая семья, Люся имела весьма смутное понятие: она воспитывалась в детском доме, и все, что было потом, после этого кошмарного детства, уже казалось ничего, сносным. Алика Люся полюбила давно, по Женькиным рассказам, и хотя Женька поведала ей ужасные вещи, ощущение от этих откровений оставалось захватывающим, манящим, как на краю прекрасной бездны, в которую так и тянет сорваться, чтобы за несколько секунд до гибели ощутить полноту счастья в полете. У Женьки было такое лицо, когда она говорила о муже! Такой непонятный, одурманенный взгляд, что Люсе мерещилось, будто она видит саму любовь в голом, неприкрашенном виде. И ей так хотелось прикоснуться к этому обжигающему чувству — хоть немного, чтобы только почувствовать, как страшно и приятно гореть на этом выжигающем дотла огне.
Самой Люсе на долю выпала вялая, унылая судьба. И хотя Бог не обделил ее скромной привлекательностью, в ее пугливой душе чего-то не хватало, чтобы привлечь к себе внимание мужчин. Люся увядала тихо и безропотно, и только мечты об Алике, которого она никогда не видела, будоражили ее не познавшую любви плоть.
Когда умирающая подруга попросила Люсю принять у нее эстафету, в Люсиной душе полыхнула неуместная радость. Она даже не сразу поняла, что условием для осуществления ее мечты является смерть единственного близкого человека. Потом Люся спохватилась, заплакала, замахала руками:
— Что ты, Женечка, о чем ты говоришь?! Это твой муж, и ты будешь с ним жить до глубокой старости.
Но Женька остановила ее слабым движением руки.
— Я прошу тебя, Люсенька, пожалуйста.
И Люся согласилась.
Нет, она никогда не жалела о принятом решении, но ничего того, о чем мечтала, думая об Алике, Люся в семейной жизни не нашла. Алик послушно выполнял супружеский долг, аккуратно, два раза в неделю, и Люся, придавленная тяжестью мужского тела, глядела в потолок и гадала, что же так окрыляло Женьку в этом малоприятном занятии.
Алик тоже не испытывал никаких взлетов с новой женой, но в их отношениях это было не главным. А вот что было главным, он никак не мог понять. Кому нужен был этот вялый неинтересный союз? Спасла его покойная Женя или погубила, навеки привязав к чужой женщине? Этот вопрос Алик задавал себе редко. Он жил своей интенсивной жизнью: работа, друзья и женщины занимали все его время. А дом, уютный и теплый, встречал его безропотным взглядом Люсиных слегка обиженных глаз. Она была как тень, как дух, который всегда появляется там, где в этом есть необходимость.
С годами Алик стал испытывать к Люсе что-то вроде благодарности за ее ненавязчивую услужливость, за ее тихий, податливый нрав. В ее присутствии его буйная, необузданная натура успокаивалась, утихала, ему порой даже становилось неловко за свою несдержанность. Все то, что так любила Женька, — его взвинченную, раскаленную нервозность, доходящую до бешенства беспредметную ревность и даже побои, заканчивающиеся страстными любовными воплями, — казалось невообразимым в применении к Люсе. Она действовала на него как колыбельная перед отходом ко сну. С ней рядом он дремал, отдыхая от житейских бурь. Все чаще хотелось прилечь на диван и забыть о том, что за порогом бушует настоящая жизнь.
Алик старел и постепенно проникался благодарностью к своей покойной жене. Теперь, на старости лет, он понял, каким подарком одарила его Женька. В их отношениях с женой появилась нежность, и Люся, старая Люся впервые в жизни поняла, что такое чувственность. Алик больше не исполнял супружеский долг — он ее любил.
Конечно, в его жизни мало что изменилось, он все еще не научился довольствоваться одной женщиной. Да и не собирался он этому учиться на старости лет. «С природой не поспоришь, — думал Алик, — раз уж создал меня Бог с таким темпераментом, то придется отрабатывать свое назначение до конца». Темперамент у него был действительно необыкновенный. Другие мужчины в его возрасте уже давно ушли на покой и смирно сидели под боком у растолстевших жен, и только Алик, ведомый своими неуемными желаниями, все разбрасывал направо и налево взгляды, от которых в глазах у женщин появлялась любовная тоска.
Люся страдала молча и молча уничтожала следы, которые оставляли на муже другие женщины — выветривала на балконе пропахший чужими духами пиджак, брезгливо снимала прилипший к рубашке волос, бросала в туалет найденную в кармане записку с подписанным женским именем телефоном. О конспирации Алик не заботился, а Люсино поведение рассматривал как молчаливое согласие с его образом жизни, в котором его, Алика, все очень устраивало.
— Знаешь, Люсенька, а ведь у нас с тобой будет счастливая старость, — обещал он в минуты близости. — Рядом с такой женщиной, как ты, совершенно не страшно состариться.
Люся не знала, как понимать эти его слова. Почему не страшно? Может быть, он ее за женщину не считает, а может, это, наоборот, комплимент? Спросить она не решалась, потому что относилась к мужу как к существу высшего порядка и не хотела вызывать его раздражения ненужными вопросами. Люся была человеком терпеливым. Она собиралась перетерпеть всех тех, других, и дождаться обещанного счастья, тем более что старость была уже не за горами.
Люся еще держалась, она была пятью годами моложе, а вот Алик заметно одряхлел. Его когда-то сухая энергичная спина сгорбилась, шея одрябла, фигура стала походить на большой задумчивый знак вопроса. Слегка подрагивали руки, слегка покачивалась голова, но все это было пока терпимо и даже незаметно, особенно в те минуты, когда Алика охватывало вдохновение. Он все еще был душой компании, любил угощать, делать дорогие подарки. Женщины от его щедрости млели, и под их нежными взглядами Алик молодел буквально на глазах, даже спина как будто распрямлялась и становилась не такой сутулой. Хватало этого эффекта ненадолго, женщины стали быстро надоедать, все чаще тянуло домой, к Люсе.
В день Люсиного шестидесятилетия случилось нечто ужасное. Алик принес жене в подарок норковую шубу — большую, богатую, прямо как на боярыню — и, завернув ее в дорогой мех, прошептал:
— Поздравляю, милая.
Люся была потрясена. Нет, не подарком, новым словом — милая. Он еще никогда, никогда не обращался к ней так ласково. «Неужели дожила?» — подумала Люся и тихо заплакала.
— Ты что же плачешь, глупенькая? — Алик запустил руки под шелковую подкладку шубы и с нежностью притянул к себе Люсино неподатливое тело. — Может быть, тебе мой подарок не нравится?
— Да что ты, Аленька, как же такая вещь может не нравиться! Только зря ты на меня так потратился, — сквозь слезы проговорила Люся.
— Что ты такое говоришь, Люсенька? На кого же мне еще тратиться? Детей у нас нет, в могилу ничего с собой не возьмешь, а деньги к рукам так и липнут, честное слово, прямо девать некуда. Так что носи на здоровье.
— Да не успею я поносить ее. — Люся вытерла ладонями с лица слезы и подняла на Алика заплаканные глаза.
— Почему не успеешь? — не понял Алик.
— Потому что на улице весна, — Люся кивнула в сторону окна, — а к зиме меня уже не будет.
Алик оттолкнул Люсю от себя и замахал руками:
— Нет, нет, не говори ерунду! Даже слышать не хочу всякие глупости!
— Это не глупости. — Люся продолжала стоять, укутанная в шубу, и только маленькая, похожая на птичью головка смешно торчала из широкого воротника. — Умираю я, Алик, рак у меня.
Алик сполз по стене на пол и, упершись локтями в колени, горестно обхватил голову руками.
Люся скинула шубу и бросилась к мужу.
— Прости, прости меня! — плакала она, прижимаясь к нему мокрыми щеками. — Я не хотела тебе говорить, не хотела расстраивать, но вот видишь, как получилось…
Последние несколько месяцев они не расставались ни на минуту, и Люся умерла счастливой женщиной.
После смерти жены Алика охватил кошмар одиночества. Он продолжал жить, двигаться по привычной орбите: работа, друзья, но все это происходило теперь за бортом его душевной ладьи, в которой царила мертвая, старческая пустота. Женщины больше не будоражили его воображение. Он с удивлением ловил на себе их зовущие взгляды и никак не мог вспомнить, что же так вдохновляло его в этой перекличке полов. Он омертвел душой и телом и хотел только одного: уткнуться кому-нибудь в плечо и горько, по-стариковски, пожаловаться. Все его мысли крутились вокруг умерших жен. В воспоминаниях он иногда путал Женю и Люсю, ему мерещилось, что это одна и та же женщина и что Люся — это постаревшая Женька. Алик так упивался своим горем, что со временем стал находить в этом даже некоторое удовольствие. Роль убитого горем старика имела свои преимущества. Он заметил, как люди вокруг него подобрели, на их лицах появилось внимание, озабоченность его судьбой. Это было так приятно и неожиданно, что Алик еще долго после того, как горе уже отпустило, все продолжал ходить шаркающей походкой и гнуть к земле и без того согнутые плечи.
В то время как душа искала сострадания, его тело стало подавать первые признаки жизни. Алика это немало изумило. Он привык думать, что роль ловеласа похоронена вместе с Люсей, и эта мысль нисколько не огорчала его, напротив, он испытывал облегчение, как будто избавился от изнурительной обязанности. Поэтому, ощутив в себе позыв к деятельности, Алик даже растерялся. За годы одиночества он забыл, что же полагается делать в таких случаях. Объектом этих непредсказуемых реакций организма оказалась моложавая пенсионерка, с которой он познакомился в гостях у своего друга детства. Знакомство было явно подстроено, потому что все присутствующие с любопытством наблюдали за тем, как будут разворачиваться события. Ее звали Инночка. Ей так подходило это имя — веселое, задорное, оно так гармонировало с ее хитроватым выражением лица, на котором легкий инсульт оставил едва заметную дисгармонию. Левый глаз был слегка прищурен, отчего создавалось впечатление, будто она все время усмехается.
Инночка выглядела очень молодо. Алик даже не поверил, когда узнал, что ей уже шестьдесят. Стройная, подтянутая, она и двигалась как совсем молодая женщина. Рядом с ней Алик особенно остро чувствовал свою старческую неповоротливость. «Что делает в нашем возрасте разница в десять лет!» — подумал он и кинулся без оглядки в водоворот охватившего его чувства.
Всю первую ночь знакомства они сидели на кухне у приятеля, и Инночка без умолку рассказывала о себе. Ее муж, большой начальник, не перенес перестройки и умер в возрасте сорока пяти лет, оставив жену и двоих детей в полной нищете. Повышение он получил незадолго до смерти и все переживал, что не успел попользоваться благами, которые сулила должность начальника главка при советской власти.
— Да я бы при Брежневе полк солдат пригнал и такую дачу отгрохал бы! — жаловался он, придерживая сердце ладонью. — А теперь что? Другие наворовали, а мне отвечай?!
Инночка мужа очень любила. Когда он умер, она бросалась на гроб и требовала, чтобы ее похоронили вместе с ним. Женщины плакали, а мужчины косились на своих жен: было видно, что они такому чувству завидуют.
— Нет, это было ужасно, ужасно! — жаловалась Инночка, продолжая усмехаться правой стороной лица. Алик держал ее за руку и чувствовал, как в него вливается жизнь: он готов был просидеть вот так до конца своих дней, глядя на нее глазами, полными слез. Инночка продолжала что-то говорить, Алик слушал, не разбирая слов. Ее голос звучал, как лирический напев, как предвкушение большого чувства.
— А еще этот попугай! Я совершенно не знала, что с ним делать. Ведь Гарик так его любил!
— Какой попугай? — испугался Алик. Как оказался в этом трагическом рассказе попугай? Алика охватило странное чувство, которое возникает у человека, внезапно разбуженного посреди захватывающего сна. Он даже потряс головой, чтобы вернуться к действительности.
— Так я же вам рассказываю. — Инночка освободила свою руку и закурила. — У нас был попугай Боря. Маленький волнистый попугайчик. Так вот, Гарик его научил говорить.
— А кто такой Гарик?
— Гарик — это мой покойный муж, — обиделась Инночка.
— Ах, простите, простите! — Алик опять поймал ее руку и прижал к своим губам. — Я такой невнимательный…
— Так вот, когда мой муж приходил с работы домой, попугай орал на всю квартиру: «Гарик пришел!» А потом он умер, а попугай все продолжал кричать: «Гарик пришел». — Инночка всхлипнула. — Я первое время думала, что с ума сойду. Хотела утопить эту проклятую птицу, так она меня измучила. А со временем привыкла и даже благодарна была. Потому что попугай был единственным, кто про Гарика не забывал. А так, друзей, подчиненных, которые толпами возле него крутились и все хныкали, хныкали, все чего-то клянчили, после его смерти как корова языком слизнула. Обратиться не к кому, когда чего-нибудь надо.
Алик сочувственно вздохнул:
— Что ж делать, Инночка, это жизнь.
— Да, вот и дети так говорят — жизнь. А мне это ничего не объясняет. Что значит жизнь? Это когда все друг друга только используют, что ли?
— А у вас дети есть? — Алика это как будто удивило.
— Дети! — воскликнула Инночка. — У меня уже внуков полон дом! — В ее восклицании не слышно было привычной для счастливой бабушки радости, скорее раздражение. Даже отчаянье.
— Внуки — так это же прекрасно, — пробормотал Алик с некоторым сомнением.
— Да, прекрасно?! — Инночка вскочила с места и забегала по крохотной кухне. — А я больше так не могу!
— Да потому, что они все только одного хотят. Чтобы меня не было.
Алик вытаращил глаза.
— Нет, нет, они не желают мне смерти, они просто хотят, чтобы я исчезла, испарилась, и желательно без следа. Шуточное ли дело! Мы все толчемся на шестидесяти квадратных метрах общей площади. Нас шесть человек: сын с женой и дочкой и дочь с сыном, муж от нее уже сбежал и теперь пытается отсудить себе угол. А ведь я их тогда умоляла не связываться с иногородними! Так нет же, не послушали, а теперь я же лишняя оказалась. А куда мне деваться? Куда?!
От каждого ее восклицания сердце Алика радостно ухало. «Вот сейчас, — думал он, — она еще продолжает метаться по своей неустроенной бесприютной жизни и не понимает, что уже одной ногой стоит на другой, благополучной территории. Это хорошо, что у нее ничего нет. Я старик, что я могу ей предложить, кроме материального благополучия? Все, все отдам, до трусов разденусь, лишь бы была рядом».
Инночка ловила уголком прищуренного глаза трясущуюся голову, сгорбленную спину и совершенно не подходящее к этому старческому антуражу еще довольно молодое, вдохновленное чувственным порывом лицо Алика и думала, что если все это разместить в роскошной четырехкомнатной квартире без наследников (а именно такую информацию об Алике она получила от их общей подруги), то может получиться совсем неплохо. Конечно, он уже совсем дряхлый и, наверное, придется нянчиться, как с ребенком, но это хоть того стоит, а то нянчишься всю жизнь с детьми, с внуками, а они потом тебя же со свету сживают.
Когда Алик сделал Инночке предложение, за окном уже затевался ранний июньский рассвет. Легко щебетали птицы, и все вокруг казалось таким молодым, новым.
— А я-то, идиот, помирать собрался! — воскликнул Алик, когда услышал от Инночки тихое «да». — Вон еще сколько вокруг жизни! — Он вскочил с места и закружил Инночку по кухне в неуверенном шатком вальсе.
Инночка смеялась, но смех этот был каким-то ненастоящим, чего-то в нем не хватало, радости, что ли? Головой Инночка вроде понимала, что наступил конец всем ее жилищным мытарствам, и была благодарна подруге, которая устроила это знакомство, но на душе все-таки было нехорошо. Было во всем происходящем что-то ненормальное, гадкое. И в том, что ее обнимает этот старый незнакомый человек, и в том, что она хочет заполучить его квартиру, а значит, будет ждать его смерти. И все это уже заложено в их едва начавшихся отношениях. Чтобы не сбежать, Инночка смеялась еще громче, потому что бежать ей было абсолютно некуда.
Заявление в загс подали сразу.
— А чего тянуть, правда, коли все решено, — заторопился Алик и вручил невесте шкатулку с украшениями от умерших жен.
Украшения были дорогими, и их было много, но было нечто отталкивающее в этих переплетенных в бесформенные узлы золотых цепочках, сияющих тусклым огнем бриллиантах и помертвевших серых жемчугах. Инночке показалось, что она принимает в наследство несчастные судьбы этих двух ушедших из жизни женщин, и ей стало не по себе.
— Что, не нравится? — Алик испуганно потянулся к шкатулке.
— Нет, очень нравится, — солгала Инночка и спрятала подарок за спину.
— Ну, тогда носи на здоровье.
— Спасибо. — Инночка еще раз взглянула на украшения и подумала, что надевать все это ей вовсе не обязательно, а отказаться от такого шального подарка может только сумасшедшая.
Алик не знал, чем еще угодить невесте. Куда посадить? Как развлечь? К своему ужасу, он чувствовал, что в нем просыпается былое желание. Это требование организма в его преклонные годы было настолько неожиданным, что Алик растерялся. И, как неопытный подросток, все никак не мог понять, как лучше подступиться к этому вопросу. В Инночкином поведении все указывало на то, что она рассчитывает на невинный платонический союз двух вышедших в тираж стариков, и Алик до смерти боялся вспугнуть невесту своими притязаниями. Окрыленный новым чувством, он подтянулся, помолодел, вынул из гардероба и надел на себя все самое лучшее и выглядел теперь настоящим франтом: дорогой пиджак, вместо галстука — шарфик, чтобы прикрыть дряблую шею, рубашка с золотыми запонками. В общем, с таким кавалером не стыдно показаться. Но Инночка, похоже, так не думала. На улице она всегда убегала на несколько шагов вперед, походка у нее была упругая, стремительная, и Алик никак не поспевал за ней своей стариковской поступью. Общественных мест Инночка старалась избегать и на предложение посетить ресторан всегда отвечала: а может, лучше дома? В общем, впечатление складывалось такое, будто она его стесняется. Алик старался всего этого не замечать, потому что если заметить, то надо же с этим что-то делать? А сделать он решительно ничего не мог. Страсть, настоящая страсть полностью подавила его волю. Алик никогда еще не испытывал такого рабского чувства к женщине. Было в этом состоянии что-то унизительно-прекрасное — вот так полностью отдаться на волю другого человека, не оставляя за собой никаких прав. Дело шло к свадьбе, а Алик все ходил и ходил вокруг невесты, ни звуком, ни жестом не решаясь намекнуть на свои низменные желания.
Инночка же была как будто не в себе. Она то смеялась, то плакала, то вдруг начинала скупать совершенно ненужные вещи и все удивлялась тому, как Алик безропотно вынимает кошелек и платит, не глядя на цену. «Господи, ну почему, почему он такой старик? — думала она, стараясь подавить в себе отвращение. — Один раз за столько лет улыбнулась удача, и обязательно в лице такой развалины». Сама Инночка, невзирая на солидные годы, чувствовала себя совсем молодой, ее организм словно не поспевал за возрастом: движения не утратили упругой гибкости, лицо оставалось гладким, без всяких мешков и складок, как это бывает у старух. На нее еще оборачивались мужчины, и их взгляды зарождали в душе надежду, что старость так и пройдет стороной, не оставив на ней безобразных отметин. Со смерти Гарика прошло уже пятнадцать лет, а Инночка все никак не хотела мириться с мрачной действительностью. Душой она еще пребывала в той радостной и беспечной атмосфере, в которой протекала тогда их семейная жизнь. Это нежелание расстаться с прошлым, видимо, и оказывало на нее омолаживающее действие. Она не признавала этих прожитых без Гарика лет, и время как будто отступило от нее, осталось на той точке, где закончилась ее счастливая жизнь.
Алик ловил на себе брезгливые взгляды невесты и думал: лет двадцать назад она смотрела бы на меня совсем по-другому. Поздновато, конечно, для таких чувств, но ничего, ничего, привыкнет.
Накануне свадьбы Алик совершил большую ошибку. Он пригласил невесту на пляж. Что это ошибка, стало ясно позже, а поначалу он ничего такого не думал и был полон радостного предчувствия увидеть невесту в купальнике.
В Серебряном Бору было полно народу. Алик вышел из кабинки для переодевания и сквозь мелькание человеческих тел увидел, как Инночка снимает через голову легкий шифоновый сарафан. Алик остановился, взглянул на свои голубые ноги и выпирающий неровный живот. Ему захотелось спрятаться в кабинке, он даже сделал шаг назад, но было поздно, Инночка его заметила и приветливо взмахнула рукой. Она была такой молодой, такой стройной в своем пестром бикини. Алик почувствовал смущение. Он нес свое бледное дряхлое тело, осторожно ступая неверными ногами по неровностям пляжа, и ему казалось, что Инночка всем своим моложавым видом, загорелой, подтянутой фигурой смеется над ним.
— Ну что ты ползешь, как краб! — крикнула Инночка и приставила руку козырьком к глазам. — Пойдем скорее купаться!
Алик аккуратно сложил на траву брюки, рубашку и, глядя исподлобья на невесту, со злорадством отметил, что вблизи она выглядит не так уж молодо. Конечно, не на шестьдесят, но и не на тридцать, как ему показалось издалека.
— Ну, готов? — Инночка нетерпеливо гарцевала на месте.
— Готов. — Алик попытался выпрямить плечи.
— Тогда вперед! — Инночка сбросила сандалии и, весело подпрыгивая, помчалась к воде.
— Какая бестактность, — бормотал Алик, устремляясь ей вслед все той же ползущей походкой. Она все делает для того, чтобы подчеркнуть его немощь. И это сравнение с крабом… А ведь и вправду в его движениях есть что-то от старого членистоногого…
Инночка с разбега нырнула в реку и поплыла, быстро и ловко загребая воду руками. Алик заставил себя взбодриться.
— Э-эх, — крякнул он, осторожно трогая воду ногой. Вода была холодная, и его тело мгновенно покрылось мелкими мурашками. — Эх! — Алику захотелось прилечь, погреться на теплом солнышке, но вместо этого, влекомый фонтаном брызг, в котором мелькали Инночкины руки, он стал шаг за шагом погружаться в ледяную воду. Когда-то Алик был хорошим пловцом, и теперь вода пробуждала в нем воспоминания о былой бодрости. Алик поплыл, и его тело, такое тяжелое и неповоротливое на земле, вдруг обрело легкость и подвижность. К нему словно на мгновение вернулась юность, и Алик с досадой подумал, что последний раз он плавал лет двадцать назад. Даже стало обидно, будто бы он потерял нечто чрезвычайно важное.
Радость понемногу заполняла его, ему казалось, что это его душа, подобно большой мягкой подушке, расправилась и плывет по реке. И так прекрасно было все вокруг — и эта вода с легким запахом мазута, и другой берег, весь в кружеве зелени, и Инночка, которая даже плывет так, как будто смеется — весело и быстро. Надо немедленно ее догнать, поймать в воде и поцеловать. Как он любил такие игры в молодости!
— Подожди! — крикнул Алик и поплыл быстрее. Но Инночка делала вид, что не слышит, и уплывала все дальше и дальше, к середине реки. Алик увлекся погоней. Он плыл брассом, с силой отталкиваясь от воды ногами, но расстояние между ним и Инночкой все увеличивалось и увеличивалось. «Врешь! Не уйдешь!» — подумал Алик и, набрав воздуха в легкие, нырнул. Он настроился на настоящий спортивный стиль, вдохнул, опустив голову в воду. Но под водой случилось непредвиденное: ему вдруг стало лень выныривать, лень двигать руками и ногами — будто бы у него внутри сломался какой-то механизм. И Алик, находясь в полном уме и памяти, стал медленно опускаться на дно. «Надо же, — думал он, с удивлением наблюдая, как сквозь непроглядную зелень воды пробивается тонкий луч солнца, — а ведь, похоже, я утонул…» Он еще раз глубоко вздохнул и, к своему удивлению, не почувствовал ни боли, ни удушья, а только приятный холодок в легких. «Надо же…» Он вздохнул еще раз и, уже теряя сознание, на мгновение вспомнил Женьку.
Инночка перевернулась на спину и там, где только что торчала голова приятеля, увидела гладкую поверхность воды.
— Алик! — крикнула она. Странно, в подобной ситуации люди всегда кричат, хотя ясно, что под водой их никто не услышит. — Алик! — крикнула еще громче. — О Господи, да что же это?! А-а… — Инночка понимала, что крикнуть нужно что-нибудь другое, караул, например, или на помощь, но у нее это почему-то не получалось, и она продолжала кричать «а-а-а…» на одной ноте, как заведенная сирена. В принципе кричать было совсем не обязательно, потому что случившееся уже заметили, и с нескольких сторон к месту, где исчез Алик, плыли мужчины.
От страха Инночка мгновенно обессилела и сомневалась, сможет ли сама доплыть до берега. Вода бурлила под пятками ныряющих и выныривающих спасателей. Инночка плыла на спине, и ее сердце колотилось, отдаваясь в ушах неровно и громко, как неумелая барабанная дробь. Она выползла на берег на трясущихся ногах одновременно со спасателями, которые вытаскивали бездыханное тело Алика. По пляжу со всех ног мчалась к ним какая-то пузатая женщина.
— Разойдись! — крикнула она издалека и с разбега бросилась на Алика. Все подались назад, и Инночка увидела, как женщина, громко отдуваясь, проделывает над Аликом какие-то манипуляции.
— «Скорую» вызвали? — крикнула женщина, ни на секунду не прекращая движения.
— Вызвали, — ответил кто-то из набежавшей толпы.
Женщина дергала Алика за ноги, складывала на груди руки, жала на грудь, прикладывалась ртом к его губам. Издалека казалось, будто она с ним заигрывает.
— Не откачает, наверное… — слышала Инночка за своей спиной.
— Да подожди, может, откачает, врачиха все-таки.
— А с чего ты взял, что врачиха?
Инночка закрыла глаза. У нее кружилась голова и было тесно в груди, так, будто она сама находится под водой и никак не может продохнуть. Потому что кругом вода, вода и ничего, кроме воды. Инночке было жаль Алика. Она успела к нему привязаться, а если бы хватило времени, то, может, смогла бы и полюбить. Он так заботился о ней… Инночку охватило чувство сиротства.
— Ну почему, почему все так глупо?.. Господи, — бормотала она в порыве раскаяния, — сделай так, чтобы он ожил, я буду за ним ухаживать, как за родным, как за Гариком, только бы был жив…
И как ответ на ее мольбы в толпе болеющих за жизнь утопшего раздался дружный вздох облегчения.
Врачиха отпрянула от Алика и, отерев обеими руками пот с лица, отряхнула ладони.
— Все! — победоносно воскликнула она. — Родственники кто-нибудь есть?
Инночка плохо соображала. Она только видела сквозь множество голых ног, как Алик судорожно откашливается.
— Родственники, родственники! — засуетились в толпе сопереживающих.
Инночке вдруг захотелось спрятаться: родственницей она не была, а объявить себя сейчас на весь пляж невестой было как-то дико.
На берегу появились люди в белых халатах с носилками в руках.
— Вот, «скорая» приехала, — услышала Инночка из толпы, — а где же кто-нибудь из родных? Неужели дед на пляже один?
— Да нет, не один он, — подала голос Инночка. Она уже собралась с силами и поднималась на ноги.
— Так вот, вот же жена! А что же вы до сих пор молчали, гражданочка?
— Да ей самой неотложку надо, не видишь, что ли? Бедная женщина от страху еле на ногах держится. Вам помочь?
— Не надо. — Инночке было обидно. Обидно, что ее сразу приняли за жену такого старого человека и вот теперь обращаются, как с немощной старухой. Инночка постаралась взбодриться.
— Это ваш муж? — спросил приехавший доктор и как-то небрежно ткнул пальцем в лежащего на земле Алика.
— Видите ли… — Инночка хотела объясниться, но в этот момент поймала на себе взгляд Алика. Он смотрел на нее снизу вверх, как смотрят поверженные — с мольбой и надеждой.
Инночка запнулась.
— Мы забираем его в больницу, — продолжал врач, не дожидаясь ответа. — Если хотите, можете поехать с нами. Место в машине есть. — С этими словами он сделал знак рукой двум сопровождавшим его мужчинам, и те, ловко подхватив Алика за руки, за ноги, водрузили его на носилки и быстро побежали в сторону дороги.
Алик беспомощно приподнялся на локте и потянулся рукой к Инночке.
— А как же я?.. — пробормотала Инночка, в растерянности глядя вслед удаляющимся носилкам.
— А вам своими ногами придется дойти, — усмехнулся доктор.
— Да?! — Инночка на ватных ногах сделала шаг в сторону машины.
— Стойте, гражданочка, — смягчился доктор. — Вещи-то соберите. Вас в купальнике в больницу не пустят. И поскорее — нам здесь рассиживаться некогда. Не вы одни тонете.
В машине «Скорой помощи» было тряско. Инночка сидела на жестком сиденье и, сжимая в своей руке ледяную ладонь Алика, наблюдала за тем, как мерно покачивается из стороны в сторону голова санитара, похожего на китайского болванчика, с таким же большим бесформенным животом и щекастой головой на тонкой шее. Равнодушие ко всему происходящему было выгравировано на его лице. Чужое горе его не трогало, он к нему привык. Инночке было холодно. Холод исходил от бесчувственной руки Алика, от безразличного санитара, холод был у нее внутри, такой, как будто она проглотила льдинку. Инночка старалась вести себя так, как это приличествовало в подобной ситуации; смотрела на Алика обеспокоенными глазами, пожимала ему руку, говорила обнадеживающие слова, но при этом ее не покидало чувство, будто все это ненастоящее — и эта машина, и Алик, и она сама. Будто она смотрит в замочную скважину и видит там себя. И от этого ей становится не по себе, в голове все путается. Она больше не хочет выходить замуж за Алика, не хочет держать его за руку, и квартиру его она не хочет. Что она делает в этой машине? Ей нужно домой, к внукам!
«Скорая помощь» остановилась, санитар перестал раскачиваться.
— Приехали, — произнес он неожиданно писклявым голосом. Этот почти девичий голос у такого крупного мужчины был настолько удивителен, что Инночкины мысли сделали неожиданный вираж и потекли в другом направлении. Теперь она думала о том, что у Алика в квартире остались все драгоценности и норковая шуба, которую он ей недавно подарил, и, случись что, она не сможет получить их, потому что квартиру немедленно опечатают и будут искать прямых наследников или просто всё украдут. Надо бы поехать и все перевезти домой. Мысли эти были не ее, их как будто кто-то подложил ей в голову, привыкшую думать совсем о другом. Она не хотела этих мыслей, но они всё роились и роились в ее голове, причиняя почти физическую боль.
Тем временем Алика выкатили из машины. Теперь он лежал на высокой каталке, которая при движении издавала ржавый, скрежещущий звук. Они ехали по длинным коридорам, покрытым волнистым линолеумом. Вдоль стен стояли кровати, на которых лежали никому не нужные люди. Лежали, не двигаясь, с отрешенными лицами, как будто понимали, что обратно, в нормальную жизнь их уже никто не примет. Алика остановили перед дверью с надписью «процедурная».
— Вы, гражданочка, здесь подождите, — вежливо попросил врач, — мы вашего мужа обследуем и потом с вами поговорим.
Инночка увидела, как в дверном проеме исчезают голые пятки Алика, и снова уткнулась взглядом в надпись «процедурная». Инночке хотелось присесть, она огляделась по сторонам, но стульев нигде не было. Подперев спиной стену, она принялась ждать. Первые полчаса показались вечностью, потом время пошло быстрее, и Инночка даже стала с любопытством приглядываться к происходящему вокруг. У противоположной стены стояла каталка, на которой боком лежал мужчина самого неказистого вида: лицо рядового алкоголика, худое, с надутыми желтыми мешками под глазами, беззубый рот слегка приоткрыт, и из него свешивался отталкивающего вида синеватый язык.
«Инсульт», — подумала Инночка и брезгливо поморщилась. Мужичок был одет в грязную майку и мокрые тренировочные штаны, от которых по всему отделению распространялся сильный запах мочи. Над изголовьем каталки в позе, выражающей отчаяние, склонилась женщина. Женщина была невзрачная, как тень. На ее худых плечах болтались какие-то лохмотья, и она то и дело прикладывалась губами к грязным спутанным волосам лежащего на каталке мужчины. Она шептала ему что-то на ухо, и из ее глаз катились ничем не сдерживаемые слезы.
«Как же можно такого любить?» — думала Инночка. Она еще никогда не видела столь простого и искреннего выражения любви. Женщина так и льнула к больному, как будто собиралась перелить в него свою жизнь.
От этих наблюдений Инночку отвлек голос врача.
— Водолеева, Водолеева! — выкрикивал он. Врач был какой-то другой, Инночка его ни разу не видела и продолжала стоять, не обращая на его призывы никакого внимания. — Да где же эта чертова Водолеева?! — рассердился врач и хлопнул дверью.
Через мгновение из двери показалась голова доктора, который забирал Алика с пляжа.
— Так вот же она, — сердито произнес врач, указывая на Инночку. — Что же вы молчите, гражданочка? Мой коллега чуть голос не сорвал, кричит на весь коридор, а вы молчите, как будто не к вам обращаются.
— Так я… — Инночка оттолкнулась от стены. — Я… — Она не знала, что сказать. До нее только сейчас дошло, что фамилия Алика Водолеев, и, значит, врач думает, что она Водолеева. — Извините, пожалуйста, я не расслышала, задумалась.
— Думать дома будете, а здесь, пожалуйста, пособраннее, пособраннее, здесь все-таки медицинское учреждение. Пройдемте. — Он открыл дверь и впустил Инночку в процедурную. Алика в помещении не было.
— А где?.. — пролепетала Инночка, подавленная авторитарным тоном врача.
— Вы не волнуйтесь, ваш супруг уже в палате, чувствует он себя хорошо, но ему придется полежать у нас несколько дней. Мы хотим понаблюдать. Знаете, человек пожилой, всякое бывает. Вы согласны?
— Конечно, конечно.
— Тогда вот заберите его личные вещи, а завтра можете его навестить. — С этими словами врач разложил перед Инночкой мокрые плавки, допотопные часы отечественного производства и вставную челюсть.
«А я-то радовалась, какие у него хорошие зубы», — подумала Инночка, глядя на пластмассовые десны — розовые с темными пятнами в углублениях. Челюсть лежала на столе, и ее нужно было взять рукой и куда-то положить — в сумочку, что ли.
— Я не могу… — пробормотала Инночка.
— Что вы не можете? — удивился врач.
— Я ничего не могу… — Инночка попятилась к двери.
Оба доктора в недоумении переглянулись.
Инночка нащупала рукой дверную ручку.
— Я не его жена, я не Водолеева! — выкрикнула она. — Я не могу забрать эти вещи!
С этими словами Инночка выскочила за дверь и бросилась бежать по коридору. Драгоценности, шуба, челюсть, все перепуталось в ее голове. В кармашке сумочки позвякивали ключи от Аликовой квартиры. Инночка открыла сумочку и попыталась поймать ключи, но они выскакивали из ее рук, как будто были живыми. Наконец она поймала металлическое кольцо и, подбежав к окошечку с надписью «регистрация», сунула туда ключ.
— Вот, возьмите, пожалуйста.
Из окошечка выглянуло удивленное морщинистое лицо, стянутое белой шапочкой на макушке. Казалось, если шапочку снять, то все морщины распустятся и лицо превратится в бесформенный мешок. Инночка отшатнулась, ее пугала старость.
— Что вы сказали? — прошамкала старушка пустым ртом.
Инночка сделала над собой усилие.
— У вас больной лежит, по фамилии Водолеев, это ключи от его квартиры. Врачи просили вам передать.
— А вы кто ему будете? — поинтересовалась старушка, принимая ключи.
— Я никто, просто случайный посетитель… До свидания. — Инночка повернулась и быстро побежала в сторону выхода.
— Я никто, никто, я ему никто, — повторяла она в исступлении. Лето шумело над ее головой молодой, еще не отяжелевшей листвой, и все вокруг было так свежо и молодо: и небо, и воздух, и люди, бегущие в разные стороны. Это завтра, завтра она будет жалеть об оставленном Алике, о потерянной квартире, шубе, украшениях, а сегодня ей хотелось бежать, сливаясь с шумной толпой. И в каждом толчке, в каждом окрике ощущать жизнь — грубоватую и веселую московскую жизнь. Она забыла, что ей самой шестьдесят: зачем вспоминать возраст, он сам о себе напомнит, когда время придет.
Инночка вскочила в вагон метро и, сжатая со всех сторон такими же, как она, живыми людьми, радостно задержала дыхание.
Букинист
Если бы не квартира, то, скорее всего, Люсик сошел бы с жизненной орбиты незамеченным. Он попросту пропал бы в московской клоаке, как пылинка, сдунутая с лица земли.
Но наличие квадратных метров в самом центре Москвы привлекло к нему внимание сразу нескольких действующих лиц, и он не успел оглянуться, как оказался во вполне приличном заведении, за высоким забором, под неусыпным надзором хорошо обученного персонала.
Здесь, в приятном заточении, он вдруг, впервые за долгое время почувствовал себя на месте, и его воспаленная жизненными неурядицами душа постепенно стала успокаиваться, рассудок прояснился, и он отчетливо вспомнил всю свою жизнь, такую бесконечно долгую и одновременно такую короткую.
Этот эффект бесконечности жизни, если ее разложить на события, и одновременно ее мимолетности поражал его всегда. А особенно теперь, в старости. Когда последние двадцать лет куда-то исчезли, а вся остальная жизнь подошла так близко, как будто все это было вчера.
Люсик, как завороженный, перелистывал страницы собственной судьбы и открывал в ней немало удивительного. Например, что у него была любовь, и семья, и ребенок.
А потом эта любовь куда-то подевалась. Где она сейчас? Ее поглотили последние двадцать лет, которых как будто не было, и все остальное исчезло в этом мутном временном пространстве, как в черной дыре, в которой скоро исчезнет и весь Люсик со своей удивительной судьбой.
Его первые воспоминания были ужасны: вот он сидит на грязном топчане в холодной комнате. На улице ночь, и он один на один с этой ночью, и все вокруг чуждо и враждебно, и хочется плакать от голода, но плакать нельзя, потому что мамы нет дома — она по ночам работает, а хозяйка-бурятка — злая, как ведьма, и может прибить.
И тогда Люсик начинает свою обычную игру — он жует черный хлеб. Никакого хлеба во рту нет, но он так старательно двигает челюстями, что постепенно на языке возникает сладковатокислый вкус, и с этим вкусом он засыпает.
Все это называется эвакуация, и длится она, несмотря на бессобытийность, бесконечно долго, почти как отдельная жизнь. Потом война заканчивается, все как будто проясняется, и вокруг открывается огромное, наполненное светом пространство — это жизнь!
И Люсик вступает в этот радостный мир ошарашенный восторгом и благодарностью за дарованное ему счастье.
Счастье было буквально разлито вокруг, на него можно было наступать и идти по нему, как по мостовой, его можно было трогать, от него просто некуда было деваться, и молодой Люсик, худой и оборванный, развивал бешеную скорость, чтобы ничего не упустить.
Друзья, театр, концерты, выставки, книги! Боже мой! Сколько было всего! Десяти жизней не хватит! На этой скорости, окончив школу, он однажды влетел в автодорожный институт и замер, потрясенный простой картиной.
Около доски объявлений стояла девочка в крепдешиновом платье и изучала списки поступивших.
Ее лица Люсик не видел, но ее тонкая шея с мягкими кудряшками темных волос, жалкий поясок, перетягивающий узкую талию, и каблучки, которые делали всю ее легкую фигуру какой-то беспомощной, ломкой, чуть не заставили Люсика разрыдаться.
Люсик почувствовал, как его еще непрочная душа вздрогнула и прогнулась под натиском этого непомерного чувства. Он встал на цыпочки и пошел так осторожно, как ловец, который намеревается накрыть сачком бабочку. Подойдя поближе, он почувствовал, что воздух вокруг девочки напоен чарующим ароматом, похожим на запах свежей травы и полевых цветов. «Господи, что это со мной?» — подумал Люсик.
И в этот момент она обернулась… Ее лицо показалось Люсику знакомым, таким же знакомым, как небо над головой, как исхоженный до последнего миллиметра Арбат с его бесконечными дворами и закоулками, как собственное отражение в зеркале.
Девочка сдвинула темные брови так, как если бы она собиралась рассердиться, ее глаза смотрели строго из-под тенистых ресниц, и когда Люсик весь сжался от страха, как будто в ожидании оплеухи, уголки ее губ вдруг дрогнули, глаза потеплели, и она расхохоталась веселым безудержным смехом.
Люсик смешался, он совершенно не понимал, что делать. Он думал, что девочка смеется над ним, над его нелепой фигурой в коротких штанах, над его костлявым лицом с огромным носом, над дикой, не поддающейся никаким расческам шевелюрой.
Он был близок к отчаянию, когда вдруг среди всполохов смеха услышал:
— Регина, меня зовут Регина… — и все вокруг замерло, и он услышал биение собственного сердца, ее смех растаял, и теперь они смотрели друг на друга большими удивленными глазами.
Регина Павловна долго возилась с ключом. Замок, который прежде открывался так легко и привычно, долго не слушался. Наконец, в уставшем механизме что-то щелкнуло, дверь отворилась, и Регина Павловна застыла в горестном недоумении — перед ней была глухая стена.
Квартира оказалась буквально замурована картонными коробками, пластиковыми клетчатыми сумками. И еще каким-то хламом, о происхождении которого свидетельствовал густой нестерпимый запах московской помойки.
— Что это?… — прошептала Регина Павловна и перевела вопросительный взгляд на Ирину Николаевну, свою бывшую соседку по лестничной площадке. Та беспомощно пожала плечами:
— А что же мы могли сделать? Мы вам писали, только вы не хотели верить.
— Не хотела… — пробормотала Регина Павловна.
— Кто же в такое может поверить. Пойдемте! — Ирина Николаевна взяла соседку под руку. — Пойдемте, я вас чаем напою.
В доме у Ирины Николаевны за последние двадцать лет не изменилось ровным счетом ничего, и это сильно поражало воображение. За эти годы Регина Павловна сменила две страны, выучила два языка, вырастила внуков, а здесь этот кусок жизни оказался как будто утерянным. Как затонувший во времени корабль тихо покоилась на дне истории жалкая советская квартира с ее до боли знакомыми предметами: хрустальными вазочками, полированными книжными полками и апогеем советской роскоши — гжелью на обшарпанной кухне.
И Регине Павловне, уже привыкшей к ухоженной жизни в эмиграции, вдруг безудержно захотелось туда — в ее нищее прошлое, на московскую кухню, где творилась жизнь и где навсегда осталось что-то настоящее, без чего все остальное не имеет никакого смысла.
…Люсик с Региной поженились на последнем курсе института. Они бы поженились и раньше, но Регина боялась, что появятся дети и ей придется прервать учебу.
После свадьбы молодые поселились у Регининой мамы в четырнадцатиметровой комнате, в самом сердце Арбата, на Собачьей площадке.
И остается непонятным, из чего было соткано тонкое кружево счастья, которым были окутаны они все? Из воздуха, что ли?
Казалось, что все друзья, сокурсники, даже прохожие на улицах пребывают в состоянии непрерывного ликования, и над этой радостью жизни не имела власти ни нищета, ни теснота, ни даже политика.
Хотя именно политика тех лет определяла общее состояние духа. Оттепель! Весна! Молодость! Молодость жизни! Молодость страны! Большой, сильной! Мы победили! И сколько побед у нас еще впереди! И это «мы» — оно было значительно больше и важнее, нежели «я».
«Я» — со своими навязчивыми желаниями — есть, пить, создавать уют. Какая все это ерунда! На помойку! На помойку все эти низменные инстинкты! Будем жить одним духом! И жили! И ведь получалось!
Когда родилась Вика, в комнате сделалось тесно, и Люсику пришлось переместиться под стол.
Из старых досок он сколотил широкую лежанку на колесах и по ночам уезжал на ней под тяжелую старинную скатерть, а утром выкатывался на божий свет, посвежевший и отдохнувший.
Там же, под скатертью, стыдливо пряталась от общинного существования комнаты их интимная жизнь.
Регина ложилась спать вместе с ребенком и нетерпеливо ждала, пока мама притворится спящей, и тогда, легким скачком перемахнув на другой конец комнаты, она приподнимала занавес в рай.
Там, в свете ночника, виднелась всклокоченная голова самого дорогого человека на свете — ее мужа. Сложившись в три погибели, Регина с трудом протискивалась на его ложе, он нетерпеливо прижимал ее к себе, и занавес опускался.
Сколько лет, сколько дней прошло с тех пор! Сколько иллюзий унесло беспощадное время! И все же они были, эти чудные иллюзии, и собственная душа ощущалась, как птица, трепещущая чуткими крыльями, и мир вокруг был нестерпимо прекрасен, и палатки на берегу реки казались дворцами, и звук гитары — симфонической музыкой!
Айда купаться! Десятки сильных ног несут молодую ораву к реке. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью! А нам и делать ничего не надо! Потому что жизнь и так сказочно прекрасна!
В те послевоенные годы Люсика часто будило по утрам ощущение нестерпимой радости.
Он открывал глаза, видел перед собой обратную сторону столешницы и широко улыбался. Сейчас он возьмется руками за ножки стола, сделает сильное, пружинистое движение и вылетит на своей колеснице в сияющий день, полный улыбок родных людей, интересных встреч и захватывающих дух открытий!
Улыбка не сходила с лица Люсика, когда он приветствовал жену и тещу, подбрасывал вверх визжащую от восторга Вику, отстаивал длинную очередь в коридоре к единственному умывальнику, из которого мерцающей струйкой текла ледяная вода.
Улыбка сопровождала его по пути на работу, и там, среди таких же, как он, восторженных молодых коллег, он чертил, проектировал и строил, и верил, что он незаменим.
А потом радость стала куда-то уходить, очень медленно, шаг за шагом, но совершенно бесповоротно, и было как-то странно, потому что жизнь становилась все лучше и лучше, и пропорционально ее улучшению убывало счастье.
Каморка на Арбате сменилась двумя комнатами в коммуналке на Пресне, лежанку под столом сменила вполне приличная двуспальная кровать под орех, и трюмо, и шифоньер из того же гарнитура, и все эти предметы как будто вытесняли из жизни Люсика что-то чрезвычайно важное.
А вот что? Он никак не мог понять.
Ощущение было такое, как будто он с семьей переехал, а его душа так и осталась блуждать по Арбату, запутавшись в его кривых переулках, Люсик часто шел по ее следу в надежде найти самого себя.
И однажды эта встреча произошла.
Как-то вечером, после работы, Люсик вышел на станции метро «Библиотека имени Ленина» и, обогнув с левой стороны ресторан «Прага», зашагал по хорошо знакомому маршруту.
С тех пор минуло больше пятидесяти лет, но Люсик хорошо помнил и ледяную поземку, которая вилась под ногами, и приглушенные морозом голоса людей, и совершенно особое арбатское освещение — мягкое, теплое, как в уютной комнате с крахмальными занавесками.
Он помнил, как зашел в зоомагазин, где пахло мышиным пометом и из всех клеток бусинками хомячьих глаз выглядывало неприхотливое детство — хорошо!
Но это не то, совсем не то, что ему было нужно.
Люсик немного погрелся и пошел дальше.
Постоял у театра Вахтангова, почитал репертуар и подумал, что они с Региной уже давно не выходили из дома, а раньше бывали в театре чуть ли не через день.
Потом он заходил куда-то еще и еще, а потом не заметил, как оказался у двери хорошо знакомого букинистического магазина.
В этом магазине в юности он проводил немало часов. Ему нравился совершенно особый запах бумажного тлена, нравилось лицо продавца — бородатое, умное, древнее, нравились люди, заходившие, чтобы поглазеть на старинные издания, которые в изобилии лежали под стеклом на витрине.
Тогда, в студенческие годы, весь этот старый хлам его не интересовал совершенно.
Они с друзьями охотились за современными изданиями, Люсик ни разу не видел, чтобы кто-нибудь купил книгу с превратившимися в темное кружево краями, по цене, за которую можно было купить целое собрание сочинений Алексея Толстого или Паустовского.
Люсик остановился перед обшарпанной дверью, и сердце его потяжелело от радостного предчувствия. Что-то похожее он испытывал, когда шел на первое свидание с Региной.
Прислушиваясь к своим внутренним ощущениям, Люсик уставился невидящим взглядом в витрину. Он как будто примерз к ледяному асфальту, когда дверь в букинистический магазин отворилась и оттуда вышел мужчина неопределенного возраста в перелицованном драповом пальто с шарфом на голове.
Он вежливо придержал дверь, как бы приглашая Люсика войти.
— Спасибо! — Люсик шмыгнул вовнутрь, пробежал несколько ступенек вниз и сразу уткнулся взглядом в человека, который поражал своей барской наружностью.
Такого на советских улицах не встретишь. Он стоял, элегантно облокотясь на старинную этажерку, из-под распахнутой волчьей шубы виднелся костюм из такого красивого материала, что так и хотелось провести по нему рукой, теплые ботинки из тонкой кожи бережно облегали ногу.
Мужчина держал в руках фолиант в красном переплете с золотым тиснением и любовно перелистывал страницы.
Когда Люсик вошел в магазин вместе с волной морозного воздуха, посетитель оторвался от книги и одарил его доброжелательным взглядом.
С трудом справившись со смущением, Люсик подбежал к стеллажу и, уткнувшись носом в какие-то журналы, усердно зашуршал страницами.
— Не там ищете, молодой человек! — услышал он за своей спиной голос незнакомца.
Люсик обернулся: на его физиономии было написано неподдельное изумление.
— Вы ко мне? — прошептал он и для надежности ткнул себя пальцем в грудь.
— К вам, к вам, к кому же еще? Здесь вроде бы, кроме нас, никого нет. Разве что Герман Карлович… — Мужчина повел взглядом в сторону продавца. — Но он никак не годится в молодые люди.
Герман Карлович улыбнулся и выразительно покачал головой — мол, все проходящее.
— Да отойдите вы от этого хлама! — воскликнул удивительный посетитель даже с некоторым раздражением в голосе.
Люсик оторвался от полок с журналами и, как завороженный, пошел в направлении этой барской особы, на ходу чувствуя, что в его движениях появляется нечто неприятное, холопское.
— Что это вы так смутились? — расхохотался незнакомец. — Из-за моей шубы, что ли? Да бог с ней, в самом деле. Разве это важно! Вы лучше объясните мне, как можно рыться в этом советском мусоре, когда здесь имеются вот такие издания? — Он протянул Люсику книгу, которую держал в руках.
От соприкосновения с такой вопиющей крамолой Люсику сделалось жутко и весело. Это сочетание слов — «советский мусор», произнесенных в присутствии двух свидетелей, еще несколько лет назад могло бы стоить всем троим жизни.
Люсик взял книгу — на красной обложке золотом было вытеснено: «Гоголь, собрание сочинений, 1851 год».
— Вы хоть понимаете, что держите в руках прижизненное издание Гоголя? — поинтересовался мужчина.
Люсик оторвал взгляд от книги и только сейчас заметил, что его собеседник молод и очень хорош собой.
— Понимаю… — ответил Люсик, и тяжесть книги в его руках как будто увеличилась в несколько раз.
— Откройте, откройте. Вы видите, какая бумага? — Мужчина провел холеной рукой по странице. — Сейчас таких книг не выпускают. Мелованная бумага — слишком дорогое удовольствие для издательств, а уж переплет с золотым тиснением и подавно. Да и писателей, произведения которых заслуживают подобного оформления, сейчас нет.
Потом, много лет спустя, Люсик пытался представить, что было бы с ним, если бы он тогда не зашел к букинисту, и каждый раз приходил к заключению, что встреча эта была из разряда мистических, судьбоносных. Она нужна была для того, чтобы жизнь Люсика сложилась именно так, как она сложилась, и никак иначе.
Но это он понял много, много позже.
А тогда холодным зимним вечером на Арбате он слушал чарующие речи незнакомца и чувствовал, как с его мягким, гипнотизирующим голосом в кровь сладкой инфекцией проникает что-то новое, что-то основополагающее, некое предчувствие, которое еще непонятно, но уже уверенно берет верх надо всем остальным.
Так композитор нащупывает новую мелодию на клавишах, еще не зная, что из нее получится, но уже понимая, что, кроме этой зарождающейся мелодии, в мире больше нет ничего.
Когда незнакомец покинул букинистическую лавку, Люсик еще долго стоял посреди магазина как завороженный. Из оцепенения его вывел голос Германа Карловича:
— Вы только что говорили с писателем Анатолием Рыбаковым.
Люсик вздрогнул и увидел себя и Германа Карловича и неизвестно отчего испытал щемящее чувство потери. Этот человек — он возник так случайно и больше не появится в его жизни никогда, почему же такая пустота возникла после его ухода?
— Советую вам хорошенько запомнить это имя… — вымолвил Герман Карлович, мечтательно глядя на дверь, за которой исчез гость. — Со временем из него вырастет большой художник.
Люсик запомнил и впоследствии много раз дивился прозорливости букиниста, но тогда, стоя посреди книжной лавки, он томился и страдал, мечтая хоть чем-то заполнить образовавшуюся пустоту.
И, не помня себя от тоски, он совершил поступок, который по тем голодным временам можно было приравнять к преступлению.
Он вынул из внутреннего кармана пиджака кошелек, отсчитал тридцать рублей — весь аванс, свеженький, хрустящий, полученный пару часов назад, и, протянув деньги продавцу, спросил:
— Этого достаточно?
— Для чего? — удивился Герман Карлович.
— За Гоголя… — пояснил Люсик. — И положил руку на драгоценный переплет книги.
Герман Карлович покачал головой. Видимо, в его арсенале не было более выразительного жеста.
— Я, конечно, могу продать вам эту книжку за эту цену, но хочу предупредить, вы ступаете на опасный путь. Мне эта страсть к собирательству разрушила всю жизнь. Когда-то я, так же, как вы… — Герман Карлович окинул Люсика критическим взглядом и, видимо, убедившись в его неотразимости, продолжил: — Так же, как вы, был молод и хорош собой, и меня любила женщина. И это была лучшая женщина на свете. Жаль, что я смог это понять, когда вся жизнь оказалась в прошлом и уже ничего не вернешь. Я думал, что я сильнее страсти.
— Какой страсти? — не понял Люсик.
— Страсти к собирательству, — пояснил Герман Карлович. — Я думал, что я управляю ею, а на поверку оказалось, что она завладела мной полностью, и в моей жизни не осталось места ни для любви, ни даже для ребенка, которого родила мне моя жена. Остались только книги и неистребимое желание собрать их все, все до единой, даже те, которых я никогда не захочу прочесть. Это болезнь как алкоголизм или морфинизм… — Герман Карлович опять покачал головой. — До революции я собрал огромную библиотеку. Мои родители были обеспеченными людьми, и я мог себе это позволить. Им нравилось мое увлечение. И моей жене нравилось иметь мужа-эрудита. Но потом грянул семнадцатый год, и стало ясно, что моей семье нужно спасаться. Мы стали готовиться к отъезду. И вот тут разыгралось страшное противоборство. Я должен был выбирать между семьей и библиотекой.
— И что же вы выбрали? — прошептал потрясенный Люсик.
— Если бы я выбрал семью, вы бы сейчас со мной не разговаривали, молодой человек. Я выбрал библиотеку. Правда, в мое оправдание можно сказать, что я не совсем понимал, что делаю. Я думал, что смогу найти решение, как вывезти книги, или пристрою их в какое-нибудь государственное учреждение. Я не мог тогда предполагать, что мои книги окажутся никому не нужными, что ими будут топить печки, что дом, в котором жила моя семья, в короткое время превратится в некое подобие барака, что я сам вместо Европы окажусь за решеткой и проведу там долгие пятнадцать лет, и еще буду благодарить Бога за то, что остался жив. Я все время как будто оправдываюсь и забываю о том, что в моем возрасте это уже не нужно. В моем возрасте уже ничего не нужно, даже Гоголь. Забирайте книжку, молодой человек, но помните: не давайте страсти взять верх надо всем остальным. Это ведет к гибели.
Люсик взял книгу, спрятал ее под пальто, на сердце, и, поблагодарив букиниста, вышел из магазина.
На улице стоял лютый мороз.
Все вокруг как будто остекленело и стало прозрачным и безжизненным.
Только люди неслись, съежившись от холода, и вокруг них, оживляя пространство, теплым облаком клубилось дыхание.
Люсик не чувствовал мороза, его грудь обжигала приобретенная им книга. И это жжение постепенно перерождалось в ужас от им содеянного. Что-то подобное он испытывал во время войны, когда у него украли продуктовые карточки, и перед ним с матерью встала реальная угроза голодной смерти.
«Что я наделал! — думал Люсик, подбегая к троллейбусной остановке. — Регина каждую копейку экономит, чтобы прокормить семью, а я такие деньги за ненужную вещь выкинул!»
На троллейбусной остановке угрызения совести достигли такой силы, что Люсик, пропустив троллейбус, пустился в обратный путь с твердым намерением вернуть книгу букинисту.
Он добежал до магазина и остановился перед погасшей витриной.
— Как же я не заметил? — удивился Люсик. — Уже начало девятого, магазин закрыт. Ну, ничего… — утешил он сам себя. — Скажу Регине, что аванс задержали, а книгу верну завтра.
Всю ночь Люсик читал Гоголя на кухне и увидел его совершенно новыми глазами.
Теперь он читал хорошо знакомый текст так, как будто вел разговор с автором, и для него открывались все новые и новые глубинные мысли этого загадочного гения.
Была это магия книги или просто правильное прочтение Гоголя требовало от человека определенной душевной зрелости, Люсик тогда не понял, но ему стало ясно, что расстаться со своим новым приобретением он сможет только вместе с жизнью.
Ах, зачем, зачем Регина тогда проявила снисхождение и, вместо того, чтобы выставить его за дверь, прижала к себе и прошептала в ухо:
— Ничего, ничего, милый, выкрутимся как-нибудь. Не хлебом единым жив человек…
Ах, если бы она знала, на что обрекает себя и его и всю их еще не состоявшуюся жизнь!
Если бы она только знала, она легла бы поперек порога и не дала бы Люсику вечерами, после работы, рыскать по городу в поисках пищи для своей неутолимой страсти.
Но интуиция Регины спала, убаюканная советами матери, которая приговаривала:
— У мужчины должно быть свое увлечение, он не может жить только интересами семьи. Другие пьют или по бабам бегают, а наш — собирает книжки. Так что же может быть лучше!
И лучше действительно ничего не было.
Люсик знал свою библиотеку наизусть.
Он обладал феноменальной памятью и даже, проснувшись посреди ночи, мог процитировать Толстого или Пруста с указанием страницы того произведения, откуда взята цитата.
Какие беседы, какие споры велись по вечерам в их уютной коммуналке! Какие люди встречались там за столом!
В их доме быт занимал самое незначительное место. Никто не знал, откуда берутся продукты и были ли они вообще в наличии. Иногда друзья приносили что-нибудь с собой на ужин, и тогда посиделки затягивались далеко за полночь.
— Черт их разберет! — жаловалась своей товарке соседка Мария Ивановна. — Всё сидят и сидят, не выпьют, не споют, даже драки ни одной не было. Спрашивается — чего сидеть-то? Штаны просиживать.
— А про что говорят? — выпытывала любопытная гостья.
— Да всё про книжки. Этот еврей — Лазарь — хитрый. Знает, во что деньги вкладывать.
— Вот в книжки-то и вкладывает.
— В книжки? Так это ж макулатура!
— Это для тебя макулатура, а он из этой макулатуры такие деньги делает!
Надо отдать должное прозорливости Марии Ивановны, потому что именно в тот момент, когда она произносила эти пророческие слова, страсть Люсика к собирательству действительно начала приносить первые плоды.
Постепенно среди московских доков коллекция Люсика стала приобретать известность. Она собиралась со знанием дела и большим вкусом.
В ней не было ничего случайного, лишнего.
Человеку, покупавшему книгу из такой коллекции, имя библиомана служило определенной гарантией качества.
Особенно важно это было для людей, желающих приобрести какое-нибудь редкое издание и не особо разбирающихся в материи.
В таких случаях Люсик являлся незаменимым экспертом. Но деньги приносили не только антикварные книги, настоящим источником доходов был книжный дефицит.
Ненасытная, бездонная прорва потребителей тянула к Люсику руки, умоляя продать тот или иной томик по цене половины их жалкой зарплаты, и Люсик, как мог, удовлетворял запросы советских эрудитов.
Он был вездесущ, его всклокоченную голову хорошо знали во всех издательствах, во всех редакциях, во всех книжных и букинистических магазинах.
Он брал в одном месте, сдавал в другое, на вырученные деньги приобретал что-то редкое в третьем месте и нес в четвертое.
На заработанные таким образом деньги он неустанно расширял свою библиотеку.
Тем временем в двух комнатах их коммунальной квартиры становилось тесно.
Книги были повсюду: на столе, под столом, на кровати, под кроватью.
Книги заполонили все места общественного пользования: коридор, кухню, опасно провисала набухшим животом антресоль.
При этом Люсик каким-то непостижимым образом завоевал расположение довольно скандальной соседки Марии Ивановны и умудрился втиснуть несколько коробок в ее маленькую каморку.
Мария Ивановна чувствовала себя хранительницей несметных сокровищ, и это слегка приподнимало ее над ее некрасивой судьбой, над безутешным одиночеством и вносило неведомый доселе смысл в ее никому не нужную жизнь.
Иногда по вечерам она приподнимала верх одной из картонных коробок и с затаенной гордостью рассматривала переплеты книг, своим скудным умом пытаясь проникнуть в великую тайну, которая толкает человека на путь познания.
И, видимо, это непосильное напряжение умственных способностей со временем привело несчастную женщину к полнейшему помешательству.
Однажды вечером, ничего не подозревая, Люсик постучался в дверь к соседке. Ответа не последовало, но из-за двери отчетливо слышалось дребезжащее, монотонное пение. Люсик постоял некоторое время, прислушиваясь, и, наконец, решившись, приоткрыл дверь.
Картина, которая открылась его взору, вызвала у Люсика что-то вроде мгновенного паралича.
Мария Ивановна сидела за столом совершенно голая, только на голове у нее красовался большой капроновый бант, и резала на крохотные кусочки одно за другим ценнейшие издания.
Какое-то время Люсик стоял с выпученными глазами не в силах шелохнуться, потом, как бы мгновенно налившись нечеловеческой силой, он рванулся с места, подлетел к старухе и, сжав ее мертвой хваткой, заорал на всю квартиру:
— Регина, вызывай психиатричку!
Мария Ивановна, оказавшись обездвиженной, выронила из рук ножницы, кокетливо пошевелила плечами и, глядя на Люсика с неподражаемой нежностью, произнесла:
— Зачем вам это, Лазарь Яковлевич, вы что, себе помоложе найти не можете?
В этот же вечер Мария Ивановна оказалась в сумасшедшем доме, где через месяц благополучно скончалась в состоянии радостного безумия. Освободившаяся таким образом комната перешла в распоряжение семьи Люсика.
Посягательства жены и тещи на свободные метры Люсик пресек сразу, аргументировав свои права на комнату тем, что уже при жизни соседки на этой территории располагалась часть его библиотеки. И вот, с этого момента, именно с этого момента, в поведении Люсика стало появляться нечто маниакальное. Он как будто ушел из семьи в эту проклятую комнату. Первое время Регина пыталась бороться. Она продолжала приглашать друзей, чувствуя, что это единственная возможность выманить мужа из его берлоги, и Люсик ловился на эту хитрость, принимал участие в посиделках. Но его присутствие за столом становилось все короче и короче, а со временем и вовсе свелось на нет. Твой муж великое дело делает — утешали Регину друзья. Такой частной библиотеки не сыщешь во всем Советском Союзе! Да этому цены нет!
Лучше бы он все продал и оставался нормальным человеком — сетовала Регина.
«Это безответственно, — упрекали друзья-интеллектуалы. — Ты являешься женой сподвижника, в каком-то роде гениального человека! Твоя задача помогать ему на этом трудном пути».
Но Регина устала помогать. По сути, она являлась соломенной вдовой. Книги, как китайская стена, встали между ней и мужем. Постепенно у нее появлялось устойчивое отвращение ко всему печатному. Она даже перестала читать в знак протеста.
— Я больше не могу жить в этом архиве! — выговаривала она мужу. — Ты совсем сошел с ума, нам скоро ходить негде будет!
— Потерпи, потерпи немного, — утешал ее Люсик, — сейчас новую картотеку составлю. И станет ясно, что можно продать. Вот увидишь, половина уйдет. Мы с тобой богатыми людьми станем и поедем в Сочи.
Но обогатить семью Люсику так и не удалось, потому что в стране стали происходить события, трагических последствий которых тогда никто предвидеть не мог.
Начало перестройки семья Люсика встретила с энтузиазмом. Еще бы! Плюрализм, свобода, демократия! Какие слова! Какие понятия! Люсик даже на время забыл о своих книгах. Он чувствовал, что вокруг творится история, и он находится в самом ее эпицентре. И опять, как много лет назад, после войны, из маленького частного на его глазах на свет появлялось огромное общее, и он, Люсик, вместе со всеми своими страстями, становился частью этого пульсирующего, живого организма, который демонстрациями растекался по улицам, собирался на митинги и верил, что всё в его руках. По прошествии нескольких лет Люсик заглядывал в погасшие лица прохожих и думал — неужели это те же люди, которые увлекали его за собой по улице Горького, которые часами стояли на морозе перед зданием Моссовета в надежде изменить мир к лучшему. Где, на каком отрезке пути надежда оставила их? Когда, в какой момент их светящиеся свободой лица превратились в мертвые маски? Лицо Люсика тоже превратилось в такую маску, он больше не верил ни во что. Он только видел, как бледнеют и подменяются уродливыми карикатурами понятия, за которые еще совсем недавно он готов был отдать жизнь, как дробится на маленькие составные части общество и как бессильно оно противостоять беспощадному ходу событий. А события в семье Люсика разворачивались самым неблагоприятным образом. Конструкторское бюро, в котором Люсик проработал всю жизнь, распалось, и ему пришлось уйти на пенсию. Таким же образом обстояли дела у Регины. Их общие сбережения уничтожила инфляция, и перед ними, вот уже в который раз за их долгий век, раскрыла свои безобразные объятия нищета. Только тогда, после войны, нищета не пугала, потому что было ощущение начала, теперь же во всем происходящем явно усматривалось настроение конца, конца для таких людей, как Люсик. Мир вокруг него, надежный, прочный, в стенах которого он прожил всю свою жизнь, накренился под опасным углом. Люди стали неузнаваемы. Даже у близких друзей появился в глазах нездоровый блеск, и все куда-то побежали на большой скорости, чтобы успеть, не пропустить. Такого момента больше не повторится! И были такие, которые успели. А Люсик не успевал. Увлекаемый общим потоком, он тоже метался из стороны в сторону в поисках какого-то заработка, но траектория его маршрута неизменно заканчивалась на книжном рынке, где на деревянных ящиках сидели интеллигентные старики и старухи и торговали каким-то литературным мусором. Правда, надо отдать должное, что среди прочего стали появляться и серьезные издания. И на приобретение этих изданий Люсик, не задумываясь, выкладывал всю свою пенсию. Страсть к собирательству, на какое-то время приостановленная перестройкой, накрыла его с новой силой. Он как бы выпал из действительности, которую не понимал, не принимал. Ушел в свой мир, до прозрачности знакомый, ясный, в котором не было живых людей, а были только литературные образы, созданные разумными, талантливыми людьми. И в поведении этих литературных героев все было по-человечески — и плохое и хорошее. Во всех их поступках усматривалась определенная логика, которая невидимыми нитями была связана с их душой. А те существа, с которыми Люсик сталкивался ежедневно на улицах, в метро, на рынках, где-то растеряли свои души и теперь бегали легкие и пустые, опасно подхватываемые ветром и ничего не ведающие о своей пустоте. Их Люсик боялся. Это от них он прятался в своем убежище, до потолка заполненном коробками с книгами.
Однажды на пороге бывшей комнаты Марии Ивановны Люсик увидел Регину. Он не сразу узнал в этой измотанной неухоженной тетке свою жену. Регина выглядела на двадцать лет старше той женщины, которую зафиксировала его память. Она стояла в дверном проеме, в старом, изношенном до дыр халате, и во всем ее облике было что-то сильно смахивающее на сумасшедшую старуху, которую много лет назад из этой комнаты увезли в психиатрическую больницу. И тем сильнее поразили Люсика слова, которые произнесла Регина прямо с порога.
— Ты совсем сошел с ума, — сказала она, обводя взглядом его бумажное царство.
— Кто, я? — удивился Люсик.
— Ну, а кто же еще! — устало вздохнула Регина, зашла в комнату, прикрыла за собой дверь, огляделась по сторонам и, не найдя ничего лучшего, уселась на одну из коробок, — знаешь, я уже давно смирилась с тем, что у меня нет мужа.
— Как это нет! — взбудоражился Люсик. — Я здесь! Я еще живой! — Для убедительности Люсик даже похлопал себя руками.
— Живой! — Регина горько усмехнулась. — Да разве это жизнь! Ты за последние годы хоть раз поинтересовался, на какие деньги мы влачим это жалкое существование? Ведь ты же не видишь ничего вокруг себя, кроме своих книг, ты даже не заметил, что умерла моя мама.
— Как умерла? — испугался Люсик. — Мы же ее отвезли в больницу.
— Отвезли, три года назад, только из больницы она не вернулась. Ты хоть раз спросил, здорова ли я, как дела у твоей дочери.
— У моей? — Люсик вскинул на Регину удивленный взгляд. Какой смысл Люсик вкладывал в этот вопрос, оставалось неясным. Может быть, Люсик хотел подчеркнуть, что Вика является не только его дочерью, и тем самым поделить ответственность на двоих? Но Регина, как всегда, поняла все буквально. Она посмотрела на мужа пробирающим до костей взглядом и с неподражаемым равнодушием произнесла:
— Не вижу ничего удивительного в том, что ты забыл о наличии у тебя ребенка. Странно, что ты вообще еще дорогу домой находишь. Неужели ты не видишь, что служишь призракам, что твое время давно ушло, что весь этот хлам, — Регина обвела рукой комнату, — уже давно никому не нужен.
— Регина! — На лице Люсика появилось выражение священного ужаса. — Как ты можешь называть книги хламом!
— Лазарь, — Регина тяжело вздохнула, — люди книги на помойку выносят, не до книг им сейчас, понимаешь. Все, что ты когда-то приобретал за большие деньги, теперь ничего не стоит. Посмотри, книжные магазины забиты. А ты все покупаешь, покупаешь, вместо того, чтобы хоть что-нибудь попытаться продать. Я знаю, тебе тяжело признать, что дело всей твоей жизни потерпело банкротство. Ну, что ж теперь делать! Ты не один. Вся страна потерпела банкротство. Если бы мы были помоложе, то, наверное, могли бы начать все заново, организовать какой-нибудь бизнес, что ли, сейчас такие возможности. Но мы слишком устали, у меня ни на что нет сил.
Все это время Люсик сидел нахохлившись, как больной воробей. Вот и она про бизнес, думал он, глотая комок в горле. Куда подевалась та девочка, которая шептала ему в ухо: не хлебом единым жив человек. Что сделалось с ними со всеми? Почему они перестали походить на людей?
Регина молчала, она смотрела перед собой невидящим взглядом и о чем-то думала.
— Это неправда! — вдруг воскликнул Люсик.
От неожиданности Регина подпрыгнула. В тишине комнаты голос мужа прозвучал неожиданно резко.
— Что неправда? — Регина с удивлением посмотрела на Люсика.
— Все, что ты говоришь, неправда! Потому что все настоящее безвременно, а моя коллекция настоящая! Понимаешь? Это настоящая культурная ценность! И она не поддается тлению, которому подвержено все вокруг. Мы все умрем, а мои книги будут жить вечно! И не беда, что сейчас никто не дает за них настоящую цену, их ценность все равно не измеряется денежными знаками.
— А чем, чем она измеряется? — воскликнула Регина. — Ты благородная натура, тебя денежные знаки не интересуют, потому что их для тебя добывают другие.
— Неправда, — обиделся Люсик, — я тоже получаю пенсию!
— Пенсию! — Регина недобро усмехнулась. — Да на твою пенсию ты не смог бы прожить и нескольких дней! И где она, твоя пенсия? Я лично ее ни разу не видела. Ты все спускаешь на свои книги и даже не замечешь, что мы с дочерью торгуем тряпьем на рынке.
— Неправда! Наша дочь работает врачом в поликлинике.
— Эх, Лазарь, Лазарь! — Регина встала, подошла к мужу и, усевшись рядом, обняла его скованные недоумением плечи, — ты идешь мимо нашей жизни, как мимо пустого места, потому что для тебя пустым является все, что не заполнено книгами. Вика уже давно оставила службу в поликлинике.
— Почему? — вяло поинтересовался Лазарь. — Она не должна была этого делать.
— Конечно, не должна, — устало вздохнула Регина, — но в поликлинике ничего не платят, а у нее на руках два старика.
— Я не старик! — встрепенулся Лазарь.
— Ты не старик, — Регина погладила мужа по костлявой спине, — ты безумец, а безумец в семье — это дорогое удовольствие.
Лазарь не возражал. Конечно же, он безумец, если за норму взять то, что происходит вокруг. Так что если они все нормальны, то лучше уж он будет оставаться сумасшедшим.
Теперь они сидели молча, и Люсик чувствовал слабое тепло женщины, которую когда-то любил, и этого тепла было так мало, что оно не в состоянии было пробудить в душе Лазаря ничего, кроме печали.
— Давай уедем, — вдруг произнесла Регина.
— Уедем? Куда? — удивился Лазарь.
— Мы уедем в Израиль, — Регина стала слегка покачиваться, и теперь ее речь напоминала колыбельную, — там тепло, там море, и там мы будем среди своих. Вика опять станет работать врачом, выйдет замуж, родит нам внуков, а мне больше не придется мерзнуть на рынках. Мы сможем вести достойный образ жизни. Поехали, Лазарь, давай попробуем спасти хотя бы то, что осталось.
Лазарь чувствовал проникающее действие этих волшебных слов — тепло, море, беспечность на берегу безбрежного водного пространства. Когда это было в последний раз и было ли когда-то вообще? Конечно, конечно, надо уехать. Регина и дочь — два последних человека в этом мире, которые его понимают или хотя бы пытаются понять. Лазарь прижался к жене покрепче, почувствовал биение ее сердца, и ему показалось, что это его сердце бьется в ее груди.
— Милая, — прошептал он, — сколько же ты со мной натерпелась! А ведь была такая красавица! Могла бы выйти замуж за нормального человека.
— Если бы мужей выбирали, как яблоки на рынке, я бы, конечно же, выбрала себе что-нибудь попроще, — улыбнувшись, вздохнула Регина, — но мужей не выбирают, замуж идут по любви. Я не смогла бы никого любить так, как любила тебя.
— Любила! А сейчас больше не любишь.
— Если бы не любила, не звала бы с собой. Давай, собирайся, Лазарь. — Регина встала и направилась к выходу. — Мы уже подали документы на выезд, сейчас оформляют быстро, а нам еще нужно успеть продать квартиру и библиотеку.
С этими словами Регина вышла из комнаты, а Лазарь остался сидеть на своем месте. Очарование момента постепенно рассеивалось, и перед его взором на месте Регины теперь отчетливо вырисовывался старый букинист, который тогда, сто лет назад, на Арбате предсказал Лазарю его судьбу. Он хотел только предупредить Лазаря, а получилось пророчество. Как его звали, этого старика? Кажется Герман Карлович? Лазарь не верил в мистику, он был реалистом, но в данный момент он отчетливо ощущал в себе волю другого человека, человека, который уже давно умер и теперь блуждал в книжных лабиринтах, только уже в других мирах. И этот человек как будто принуждал Лазаря в точности повторить ту ошибку, которая привела его самого к гибели.
— Я не могу оставить библиотеку, — громко проговорил Лазарь. Кому предназначались эти слова, неизвестно, поскольку в комнате больше никого не было. — И вывезти самые ценные издания я не смогу, меня с ними не выпустят.
На какое-то мгновение он почувствовал себя как человек, который всю жизнь своими руками строил себе убежище, и вот наступил момент, пришли люди, надели на дверь засовы, и человек понял, что это не убежище, а темница, из которой ему уже не выбраться никогда. Лазарь не дрогнул. Его физическое тело за последние годы стало таким неприхотливым, что он был готов к любым невзгодам. Единственное, чего он никак не мог лишиться, — это веры в то, что, в конце концов, разум воздержит верх над невежеством, и тогда он сможет передать труд всей своей жизни в достойные руки.
Регина с дочерью собирались недолго.
— Прошлое с собой не заберешь, — сказала Регина, — а барахлом и там обрастем.
Лазарь не поехал в аэропорт.
— К чему все эти душераздирающие сцены, — весело выкрикивал он, помогая выносить вещи, — вы еще хорошенько устроиться не успеете, как я к вам приеду. Вот только разберусь с библиотекой.
Регина молчала. Она молчала, когда они застегивали чемоданы, когда ехали в родном, ухающем, как сова, лифте вниз, когда мучительно утрамбовывали в багажнике старого такси поклажу, а Лазарь все это время тарахтел, как подвыпивший одессит, который решился любой ценой развеселить общество. И только когда багажник закрыли и таксист включил зажигание, Лазарь вдруг замолчал и стал переводить испуганный взгляд с жены на дочь и опять на жену.
Вика заплакала первая. Она обняла отца и срывающимся голосом произнесла:
— Береги себя, папочка! И приезжай поскорее, мы тебя будем ждать.
— Я приеду, я обязательно приеду… — всхлипывал Лазарь.
Когда Вика уселась в такси, Регина подошла к мужу.
— Мне нужен примерно месяц, — заторопился Лазарь, — я все самое ценное продам…
— Не надо, — остановила его Регина, — не трать последние мгновения на ложь. Давай лучше посмотрим друг другу в глаза и поблагодарим за все хорошее.
— Ну вот, вечно ты сгущаешь краски! — попытался сохранить водевильный тон Лазарь.
Но Регина как будто его не слышала.
— Знаешь, все-таки хорошего было больше, чем плохого, — продолжала она, — и я, пожалуй, все хорошее возьму с собой в Израиль, а плохое брошу здесь, зачем таскать за собой по миру ненужный груз. Прощай, Лазарь.
Регина обняла мужа.
— Почему прощай? — прошептал Лазарь ей в воротник.
— Потому что я знаю и ты знаешь, что мы больше никогда не увидимся. — С этими словами Регина села в машину, захлопнула дверь, и такси тронулось.
Регина ошиблась. Много лет спустя им все-таки предстояло встретиться еще раз.
…На кухне у Ирины Николаевны было как в парной. Батарея шпарила на полную катушку, при этом форточка была широко раскрыта, и оттуда тянуло морозным воздухом. Смешно, конечно, отапливать улицу, но в этом было что-то грандиозное, широкое, великодушное, и Регина Павловна, уставшая от крохоборских расчетов в мире строгой экономии, сидела под форточкой и дышала полной грудью. На столе перед ней лежали два листа, исписанных мелким, пляшущим, до боли знакомым почерком. Это была рука ее мужа Лазаря. Вот уже битый час Регина Павловна не решалась приступить к чтению. Наконец, Ирина Николаевна догадалась оставить гостью одну.
— Я пойду прилягу, — сказала она, — что-то с утра сердце побаливает, а вы здесь в покое почитайте, а потом поговорим.
Соседка вышла. Регина Павловна взяла в руки документ и приступила к чтению.
Я, Лазарь Яковлевич Готлиб (1931 г.), оказался полтора года назад в трудном положении. Не имея возможности проживать в собственной квартире, захламленной мною до такой степени, что в нее невозможно даже открыть входную дверь, я стал спать под дверью своей квартиры и через некоторое время был изгнан соседями по коридору. Я стал жить по лестничным клеткам разных домов, и отовсюду меня гнали, как бомжа. К тому же мною были утеряны все документы, удостоверяющие личность. В конце марта этого года в таком состоянии меня встретила на улице моя соседка — Лазарева Ирина Николаевна (1937 г.) Ирина Николаевна через общих знакомых связалась с моей женой Готлиб Региной Павловной, проживающей уже много лет с дочерью в Канаде, и предложила помочь в восстановлении моих утерянных документов и в определении меня в пансионат. На что моя жена согласилась и обещала приехать, как только будут готовы все документы для решения моей дальнейшей судьбы. Ирина Николаевна отвела меня в «Социальный патруль» в Теплом Стане, но меня не приняли, так как я фактически бомж, а не юридически. После этого Ирина Николаевна отвела меня в санпропускник на Ярославском шоссе, дом 9 и, получив справку о моей дезинфекции, добилась, чтобы мне разрешили ночевать на лестнице дома, где она проживает и где расположена моя квартира. Затем Ирина Николаевна водила меня по всем инстанциям для восстановления утраченных мною документов. Сейчас мы получили в собесе пакет документов для оформления меня в пансионат престарелых (дом-интернат).
У меня есть знакомый по району Юрий Свалыгин. Это уличное знакомство. Он знал, что я имею квартиру. В конце апреля сего года Юрий предложил мне жить у него на полном пансионе, и за это я ему должен подарить свою долю квартиры, т. е. одну вторую, где я являюсь собственником вместе с женой. С 29 апреля я начал жить у него, но, прожив несколько дней, понял, что хочу в пансионат. Ирина Николаевна, которая навещала меня у него, говорила ему неоднократно, что вопрос квартиры будет решен, только когда приедет жена, и если это будет не в пользу Юрия, то ему будет уплачено за мое проживание у него. 14 мая 2011 года Юрий заставил меня против моей воли написать дарственную на его имя. Я написал дарственную собственноручно, но не подписал, так как все равно мой паспорт, в целях безопасности, находится у Ирины Николаевны. На что Юрий ответил, что это не проблема, он за несколько дней сделает мне новый паспорт, а этот будет считаться утерянным. В случае если Юрий заставит меня официально оформить дарственную, так как у меня нет сил противостоять его давлению, прошу дать официальный ход моему заявлению, с целью дискредитации дарственной.
Отложив в сторону заявление, Регина Павловна достала из сумочки пакетик с бумажными носовыми платками. Внешне она казалась спокойной, только руки ходили ходуном, и у нее никак не получалось вытащить из упаковки платок.
— Не нервничайте вы так, — послышался голос соседки.
Регина Павловна подняла голову кверху и увидела над собой доброе морщинистое лицо Ирины Николаевны.
— Успокойтесь, — произнесла она, заботливо заглядывая Регине Павловне в глаза, — все самое страшное уже позади.
Этот заботливый взгляд и успокаивающий голос как будто развязали в горле у Регины Павловны жесткий узел, который сковал ее дыхание во время чтения.
— Нет, нет, не беспокойтесь! — произнесла она, громко вздохнула и разрыдалась с такой силой, что сердце, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди.
— Я думала, я думала… — всхлипывала она, — что он нас забыл, нашел себе другую женщину. Все эти годы я холила свою обиду и не могла простить ему предательства, а, оказывается, он просто не сумел изменить своей идее и от этого сошел с ума. Господи, а ведь я же когда-то была в состоянии его понять! Наверное, он до последнего рассчитывал на мое понимание. И получается, что это не он меня, а я его предала.
— Да не убивайтесь вы так! — попыталась успокоить соседку Ирина Николаевна. — Сейчас главное понять, что делать с содержимым квартиры.
— С содержимым? Как деликатно вы это назвали… — Регина Павловна горько усмехнулась.
— Ну да, он последнее время приносил мусор с помойки, там развелись крысы. Я вообще не знаю, осталось ли что-нибудь от библиотеки. — Ирина Николаевна смущенно откашлялась. — Вам необходимо освободить квартиру, отремонтировать и сдать. На вырученные деньги вы сможете оплачивать интернат, в который помещен ваш муж. До сих пор я сама вносила деньги на его содержание. Это всего два месяца, но вы поймите меня правильно, я больше платить не могу.
— Что вы, что вы! Вам не надо ничего платить! — испугалась Регина Павловна. — Вы и так столько для нас сделали! Вы такой замечательный человек! Как мало осталось людей, которые готовы помочь, вот так, совершенно бескорыстно! — Регина Павловна взяла соседку за руку и попыталась заглянуть ей в глаза, но та отвернулась. — Вы только не волнуйтесь, деньги я вам немедленно верну, и с процентами. А насчет квартиры, вы правы, нужно что-то делать, но я даже не представляю себе, как взяться за эту задачу.
— Вы знаете, я кое-что надумала, — Ирина Николаевна села, — нужно найти съемщика, который будет готов самостоятельно решить эту проблему и сделает ремонт, а вы за это какое-то время не будете брать с него квартирную плату.
— А где же я такого найду? — Регина Павловна продолжала плакать, но теперь уже тихо, без надрыва.
— У меня есть такой один на примете, — проговорила Ирина Николаевна, смущенно спрятав глаза.
— А он сумеет правильно распорядиться библиотекой? Вы поймите, там есть ценнейшие издания, они не должны пропасть. Если бы я была помоложе, я бы сама перебрала всю библиотеку, подержала бы в руках каждую книжку. Но мне скоро восемьдесят…
— Регина Павловна, — прервала ее соседка, — вы должны понять — трехкомнатная квартира забита до отказа. Лазарь Яковлевич спал долгие годы, сидя на коробках, потому что лечь было негде. Для того чтобы все это разобрать, даже молодому человеку понадобится полгода, а нам с вами и того дольше. Претендент на вашу квартиру согласился вывезти книги в отапливаемый гараж и потом уже потихоньку заняться их классификацией. У нас с вами нет другого выхода. Мы должны ему верить.
— Да, вы правы, — согласилась Регина Павловна, — у нас нет другого выхода. Я не могу оставаться здесь дольше пяти дней. Вике нужна моя помощь. Она работает, двое детей, сами понимаете.
— Вот и замечательно! — обрадовалась Ирина Николаевна. — Завтра в одиннадцать он будет здесь. Я знала, что сумею вас убедить, и заранее обо всем договорилась.
На следующий день с утра Регина Павловна снова сидела у соседки на кухне. Время подходило уже к половине двенадцатого, а обещанного съемщика все не было.
— Может быть, он передумал? — нервничала Регина Павловна. — Это было бы ужасно! Ведь у меня билет на субботу.
— Не волнуйтесь, — уговаривала ее Ирина Николаевна, — он приедет. Задержался где-нибудь, вы же знаете, в Москве такие пробки!
Наконец, в районе двух часов в дверь позвонили. Это был особый звонок — продолжительный, требовательный, по такому звонку в тридцатые годы узнавали НКВД. Регина Павловна вздрогнула, и сердце ее непроизвольно наполнилось страхом.
— Ну вот, а вы боялись! — обрадовалась Ирина Николаевна. — Я же говорила, что он придет.
— А может быть, это вовсе не он?
— Не может быть, — уверенно заявила соседка, — это он, он всегда так звонит.
Через мгновение в кухню вошли двое — один, здоровенный детина в красивом шерстяном пальто, и второй, коротышка. У коротышки была бритая, неровная, как булыжник, голова, обрюзгшее лицо с отвисшими губами, которые как будто специально сложились в гримасу отвращения, глубокие глазницы казались пустыми, и только любопытный блеск указывал на наличие в них глаз. Из распахнутой дорогой куртки насмешливо выпирал большой покосившийся живот.
— Ну чего, давайте квартиру посмотрим, а то у меня времени в обрез, — прогнусавил коротышка и бросил взгляд на выдающихся размеров золотой «ролекс», который гирей висел на его маленькой руке.
Регина Павловна обомлела:
— А может быть, вы сначала представитесь?
Гость сделал короткое движение в сторону своего спутника, и тот четко, как автомат, достал визитку и положил ее на стол перед Региной Павловной.
— Скажите, а когда бы вы хотели въехать? — поинтересовалась Регина Павловна.
— Я вообще никуда въезжать не собираюсь, — фыркнул гость, — квартира мне нужна для одной сотрудницы, и если мы сейчас договоримся, я готов подписать договор и заплатить за полгода вперед, конечно, за вычетом расходов за ремонт. Мой адвокат, — он сделал пренебрежительный жест в сторону детины, — уже все подготовил.
— Но вы знаете, что в квартире есть одна сложность? Там хранится библиотека, которая является культурной ценностью. — В присутствии этих двоих слова Регины Павловны про культурную ценность прозвучали как-то неуместно и глупо.
— Да знаю я про ваши культурные ценности. Мне, вон, Ирина Николаевна все уши прожужжала. Завтра приедет грузовик, и вся культура-мультура поедет на дачу, в гараж, чтобы здесь можно было начать ремонт. А там я отдам распоряжение, и специалисты займутся этой проблемой.
Регина Павловна чувствовала, как под воздействием взгляда этого человека ее душа превращается в рогожку, и вся она как будто уменьшается в размерах, чтобы уступить место этому агрессивному хозяину жизни. Она знала, что ему нельзя верить, и все же верила, верила, потому что у нее не было другого выхода.
— Давайте договор, я все подпишу, — устало произнесла она.
Адвокат с готовностью, но без излишней поспешности распахнул папку, долго зачитывал пункты договора. Регина Павловна слышала его монотонный голос, но смысл слов не доходил до нее совершенно. Ей казалось, что этот человек зачитывает не договор, а приговор всей их жизни и что сейчас, своей подписью она удостоверит бессмысленность всего того, что было ее духовной составляющей. Подпись она поставила не задумываясь, как будто ее рукой водил кто-то посторонний. Адвокат поблагодарил, захлопнул папку, и через мгновение оба посетителя исчезли. Они не ушли, а именно исчезли, как два дематериализовавшихся духа.
— Какой неприятный человек, — в задумчивости произнесла Регина Павловна. — Откуда вы его знаете?
Ирина Николаевна включила воду и, повернувшись лицом к раковине, произнесла:
— Он живет с моей дочерью. Это для нее он снимает квартиру.
Такси остановилось на окраине Москвы, у высокого забора. Регина Павловна с трудом выбралась с переднего сиденья, попросила таксиста подождать и направилась к воротам, таким же высоким, безликим, как сама ограда. Безутешная пустота ландшафта вокруг строения придавала ему сходство с острогом. На сотни метров вокруг открывалось побеленное снегом пространство, и только вдалеке виднелся чахлый кустарник, а за ним синеватая полоска леса. Зато сразу за воротами оказался настоящий оазис — заснеженный сад с расчищенными дорожками, в глубине виднелся вполне приличный особнячок современной постройки, со стороны которого доносился запах общественной кухни. Лазаря Яковлевича Регина Павловна нашла сидящим на скамейке среди сугробов. Он и сам походил на маленький одинокий сугроб, такой же покатый и неподвижный. Сердце Регины Павловны забилось гулко, как барабан. Они с Люсиком не виделись больше двадцати лет, и она думала, что вся эта часть жизни уже давно отболела, отмерла. И вот теперь, аккуратно ступая по хрустящему снегу, она с каждым шагом ощущала, как в ее душе набухает тяжелая, всепоглощающая жалость. Такое чувство, которое можно испытывать только к родному человеку. Подойдя, Регина уселась рядом с Лазарем. Он даже не обернулся, продолжая смотреть в одну точку.
— Лазарь, — позвала Регина.
Лазарь вздрогнул. Некоторое время он сидел не оборачиваясь, как будто прислушиваясь к эху, которое оставил в его душе голос Регины, затем удивленно поднял брови и покосился в сторону. Разглядев рядом с собой фигуру женщины, он резко по-молодому вскочил на ноги.
— Регина, ты! — воскликнул он. — Какими судьбами?!
В этом возгласе было что-то отталкивающее, официозное, так встречают постороннего человека.
Регина с трудом встала, подошла к Лазарю и попыталась его обнять, но вместо мужа у нее в руках оказался воздух, которым до отказа была наполнена его дутая куртка.
— Пойдем в дом, — смущенно предложил Лазарь, — у нас там прекрасное кафе, тепло и можно поговорить.
…Регина с Лазарем сидели за пластмассовым столиком, накрытым бумажной скатертью, и молчали. Перед ними стояли чашки с горячим кофе со сливками, и Лазарь с видимым наслаждением время от времени шумно отхлебывал.
«Теперь он уже так и умрет с плохими манерами», — думала Регина, со скрытой тоской наблюдая за мужем.
— Знаешь, — вдруг заговорил Лазарь, — что было самым сильным ощущением, когда я впервые попал в этот интернат?
— Горячий суп. Я много лет не ел горячего супа и совершенно забыл, какое это чудо!
— Лазарь, — Регина нерешительно взяла мужа за руку, — поехали со мной в Канаду. У тебя есть семья, есть внуки. Ведь ты же их еще ни разу не видел. Мы не смогли прожить жизнь вместе, но можно попробовать прожить вместе хотя бы старость.
Лазарь молчал, напряженно о чем-то думая. Регина ждала.
— Я не могу, — наконец вымолвил Лазарь.
— Не помню. — Он мучительно наморщил лоб. — Но ведь была же какая-то причина, по которой я не уехал тогда, давно.
Регина изменилась в лице:
— Как, ты совсем-совсем ничего не помнишь?
— Нет, помню! — оживился Лазарь. — Помню, что это было что-то чрезвычайно важное, что-то такое, для чего я вообще родился на свет.
— Что может быть важнее семьи, детей, внуков? — Регина попыталась увести мужа от воспоминаний.
— Я не знаю, не знаю! — Лазарь тер ладонями виски. — Но еще вчера знал… Регина, — Лазарь решительно встал, — ты поезжай, поезжай, а я приеду, как только вспомню…
На протяжении всего обратного пути в Канаду Регина плакала и, только когда шасси коснулись взлетной полосы, слезы сами собой закончились. Они здесь были никому не нужны, ее слезы. Регина вышла из самолета как в другое измерение, и все, что она оставила в России, теперь опять казалось смутным фантастическим сном.
В двадцати километрах от Москвы, на безбрежном пустыре полыхал костер. Это было необычное пламя — сухое, ясное, до самого неба. Дерево так не горит, и мусор тоже, так может полыхать только бумага. Двое грузчиков с недовольными лицами стаскивали с грузовика завязанные пластиковой бечевкой коробки и, не глядя, швыряли их в огонь. И видимо, этот пластик, сгорая, завивался тонкими завихреньями на красном фоне, создавая ощущение, как будто что-то живое мучительно пробирается сквозь языки костра к небу.
— Чего палим-то, Михалыч? — крикнул простуженным голосом один из грузчиков.
— Да вроде книжки какие-то, — ответил Михалыч.
— Книжки? — На испитом лице грузчика отобразилось недоумение. — Зачем же их жечь-то? Они все-таки денег стоят.
— А это, Колян, не наше дело. Хозяин сказал сжечь, вот мы и жгем. — Грузчик крякнул и с натугой вытащил из грузовика последнюю коробку. Бечевка, не выдержав тяжести, лопнула, книги рассыпались по снегу и беспомощно затрепетали на ветру страницами.
— Смотри, как мучаются, тоже ведь помирать не хотят, — сочувственно произнес тот, которого называли Коляном. Он присел на корточки и взял в руки одну из книг. — Смотри, какая красивая, с золотцем, — задумчиво произнес он.
— Давай, заканчивай, — недовольно прикрикнул коллега, — а то вон в горле пересохло. — Он попытался вырвать книгу из рук Коляна, но тот ловко спрятал находку за спину.
— А эту я жечь не дам, я ее Люське подарю, там сказки, наверное, пущай ребенок порадуется. — Колян убрал находку за пазуху и, побросав остатки книг в огонь, забрался в кузов грузовика.
Через некоторое время машина тронулась. Михалыч сидел в кабине, он был старший по званию и мог претендовать на место в тепле, а Колян, чтобы не околеть от холода, обхватил себя руками и нащупал сквозь куртку твердый предмет. Он расстегнул «молнию» и вынул на свет божий книгу, на красной обложке которой золотом было вытеснено «Н. Гоголь, собрание сочинений, 1851 год».
Горячая дружба
Галя не понимала, что она делает, она только видела, как под ее ногами стремительно мелькают ступеньки, сливаясь в одну линию, и думала, что вот сейчас она споткнется и полетит вниз головой, и это будет хорошо.
Но ноги не хотели ошибаться, они несли ее все дальше и дальше, вниз по стертой лестнице старого дома.
Не помня себя, Галя вылетела на улицу, лихорадочно огляделась по сторонам, заметила слева быстро несущийся автомобиль огненно-красного цвета и, недолго думая, бросилась под колеса.
Звук тормозов болезненно резанул слух, и она увидела свою короткую жизнь, в бешеном вихре летящую куда-то в небо. Потом свет погас и сделалось легко.
В себя Галя приходила долго, и все это время кошмар случившегося все прокручивался и прокручивался в ее мозгу, как бесконечная лента, на которой отчетливо отпечатались события того дня. И невозможность отказаться от этих событий, вытолкнуть их из сознания, как что-то отвратительное, гадкое, непримиримое, делало дальнейшую ее жизнь ненужной.
В такую жизнь Гале не хотелось возвращаться, хотелось избавиться от нее и улететь туда, куда летели воспоминания, когда на нее наезжала машина, — в небытие.
У ее изголовья стояли часы, и она слышала, как они выбрасывают в вечность секунды, одну за другой, как подсолнечную шелуху, и в этой никчемности отживших секунд было что-то безнадежное.
Иногда Галя путалась, и ей казалось, что время тикает не в будильнике, а в ее голове. И тогда, поддаваясь завораживающей магии этого звука, она переставала сознавать себя в настоящем моменте, и все ее сотрясенное сильным ударом сознание переносилось в недалекое прошлое, где все было так светло и радостно и все понятия располагались на своих местах, как посуда на полке у радивой хозяйки.
Галя так любила это стройное, безупречное устройство жизни, в которой каждое явление, каждый предмет были обозначены определенным названием, таким же четким и ясным, как человеческие имена.
Да, каждое понятие имело свое имя, и такое понятие, как крепкая привязанность друг к другу двух человеческих существ, тоже имело имя — оно называлось дружбой, и ради этой самой дружбы Галя готова была на все.
С Наной Гомиашвили Галя познакомилась в 1976 году, когда читала списки поступивших в педагогический институт абитуриентов. Увидев свое имя, Галя взвизгнула и бросилась на шею первой попавшейся девочке. Это была Нана, которая, в свою очередь, ошалев от радости, чуть не задушила Галю в объятиях.
Еще не узнав имен друг друга, девочки обнимались и чувствовали, что между ними зарождается что-то великое, что-то такое важное, ради чего стоит жертвовать собой. Это было чувство огненное и яркое, как солнце Грузии, откуда Нана была родом.
И Галя бросилась в дружбу с головой. Она дружила насмерть, требуя от подруги такой же бескомпромиссной преданности. Но Нана все больше интересовалась обрядовой стороной дружбы; клятвами, уверениями, признаниями.
Однажды дело даже чуть не дошло до кровопускания, когда Нана вдруг вообразила, что им необходимо побрататься.
Девочки встретились на квартире у Гали. На столе зловеще поблескивал остро заточенный грузинский кинжал, который Нана стащила у деда и привезла с собой в Москву.
Кинжал был боевой, с какими-то непонятными надписями на рукоятке. Нана рассказывала, что в их семье это оружие неоднократно использовалось для осуществления кровной мести. Галя с ужасом поглядывала на красноватые отблески стали, и ей казалось, что она видит следы крови жертв.
— Мы должны, — инструктировала Нана, — порезать себе руки вот так… — Она провела лезвием по внутренней стороне ладони в миллиметре от кожи. При этом взгляд ее черных глаз был устремлен Гале прямо в сердце. — А потом, — продолжала Нана, — обменяться кровью… — Нана крепко сжала Галину руку. — И тогда мы станем кровными сестрами. Ты готова?
— Да… — Галя была бледна, как мел, на нее сильно действовало все мистическое.
Дело тогда не сладилось, только потому что пришла Галина мама и позвала пить чай, но ощущение у Гали осталось такое, будто капля Наниной крови действительно коснулась ее сердца и обожгла его навсегда.
Наверное, в Галиной жизни не хватало любви, и она пыталась заменить ее дружбой, потому что иначе нельзя было объяснить такую страстную привязанность к подруге.
Другое дело Нана. Она была редким, экзотическим явлением в стенах московского вуза. Не то что бы красавица, но от ее лица, на котором играли сочные контрастные краски, многие не могли оторвать взгляда.
Галя же, при всей своей миловидности, чувствовала себя чем-то вроде приложения к роскошной подруге.
Нана царствовала охотно, ее движения были величавы и исполнены ранней женственности. В то время как все девчонки на курсе, еще не выйдя из подросткового возраста, кололись острыми коленями и ключицами, Нана торжественно несла по коридорам института восточную округлость бедер, которые в комплекте с удлиненной талией создавали весьма волнующий силуэт.
Понимая свою власть над мужской половиной курса, Нана умело обыгрывала свои формы, при ходьбе слегка покачиваясь из стороны в сторону.
Существовало и еще одно обстоятельство, которое делало Нану необычайно интересной в глазах сокурсников, — она была для них совершенно недоступна. Поклонникам позволялось только вздыхать, и это разжигало дух соперничества.
Не раз разгоряченные мечтой молодые люди пытались взять этот бастион — и все безуспешно.
Нана охотно шла на контакт до определенного предела, после чего соискателю объявлялось, что у нее в Тбилиси есть жених, и она ни за что не нарушит данное ему слово.
Про этого загадочного жениха знал уже весь институт.
— Да где этот Тбилиси и где Москва! Что же она теперь пять лет простаивать будет?! — сокрушались сокурсники.
К Гале, как к Наниной подруге, относились снисходительно и называли Галчонком, что само по себе указывало на незначительность ее роли.
По сути своей Галя действительно была человеком незначительным. Даже в самой ее внешности — тихой и заурядной — было что-то безропотное.
Такого человека хочется взять за руку и вести, потому что видно, что сам он может всю жизнь так и простоять на перепутье.
Нана поняла это сразу, поняла не умом — нет, она потянулась к Галчонку горячей душой, потому что почувствовала бездонность ее доброты и одиночества.
С появлением Наны жизнь Галчонка стала закипать и выходить из берегов. Галя открыла в себе неведомые силы, страстью окрасилось все вокруг, захотелось совершить что-то великое, например, принести какую-то жертву.
Случай не заставил себя долго ждать.
В начале третьего курса в институте появился молодой доцент совершенно недопустимой для девичьего вуза наружности.
От взгляда его темных глаз по аудитории растекалась такая нега, что ни о какой учебе не могло быть и речи, и все время лекций девочки находились в каком-то чувственном оцепенении.
Доцент Алексей Ильич хорошо понимал силу своей харизмы и пользовался этим беззастенчиво. То там, то сям вспыхивали очаги страсти, и не одна студентка пала жертвой его внимания.
Алексей Ильич был человеком увлекающимся, он вспыхивал мгновенно, как факел, и так же мгновенно угасал, оставляя в глазах покинутой жертвы тоску, мертвую и серую, как пепел.
По этим перегоревшим глазам можно было сразу определить студенток, попавшихся на крючок опытного ловеласа.
К Нане он подступался несколько раз, но, наткнувшись на решительный отказ, сразу отступал. Весело и непринужденно — так, как будто для него это не имело никакого значения. И тут же рядом с Алексеем Ильичом начинала крутиться какая-то другая студентка.
Такая всеядность возмущала целомудренную натуру грузинки и в то же время завораживала.
— Что же это за человек такой, — восклицала она, — что никто устоять не может?
Алексей Ильич не стремился отвечать на подобные вопросы, он попросту шел на поводу у могучего организма, и в принципе женская индивидуальность интересовала его мало, ему все казались хорошенькими. Конечно, ему была заметна Нанина привлекательность, но на борьбу у него попросту не хватало времени, отвлекало бешеное разнообразие женских образов. Он боялся, что молодость вот-вот закончится, и какой-то уголок этого чарующего мира останется неизведанным.
Нане некого было винить, она сама первая сделала шаг в пропасть. Не выдержала испытания безразличием.
Как-то раз, после лекции, она подошла к Алексею Ильичу и тоном строгим, не допускающим никаких фамильярностей, попросила об индивидуальной консультации — поскольку ей не совсем понятны некоторые пассажи из статьи о научном коммунизме.
Алексей Ильич ответил, что как раз пишет диссертацию по этому предмету. И охотно поможет Нане сегодня же вечером.
Он произносил эти строгие слова — про научный коммунизм и диссертацию, а их смысл по пути к сознанию Наны трансформировался в ее голове в какую-то волшебную музыку, и Нана уже подспудно знала, что не сможет противостоять.
Они встретились вечером около метро.
На улице стояла поздняя весна, и весь город был в цветении. Казалось, цветет все: яблони, тополя, дома, люди. В руках у Алексея Ильича тоже были цветы, красные тюльпаны.
Нана не помнила, как оказалась в его квартире. В коридоре они наткнулись на пожилую женщину.
— Привет, мамуль! — крикнул Алексей Ильич и повлек Нану в комнату.
Мама проводила девушку недобрым взглядом и что-то проворчала.
Оказавшись наедине с Алексеем Ильичом, Нана растерялась.
Она хорошо знала, что нужно делать, чтобы не допустить до себя мужчину, но совершенно не понимала, как быть, если это уже случилось. Глупо продолжать быть недоступной, когда на тебе расстегивают кофточку.
Нана пыталась справиться с охватившим ее волнением, пресечь поползновения Алексея Ильича, но его руки были вездесущи, он с такой виртуозной легкостью снимал с нее одежду, что Нана опомниться не успела, как оказалась посреди комнаты совершенно голая.
Она в ужасе обхватила себя руками и стала пятиться в угол, к письменному столу.
Алексей Ильич, не отрывая от нее гипнотического взгляда, быстро скинул с себя рубашку, оголив при этом невероятно рельефный торс, подошел к Нане и, с нежностью взяв ее за руки, произнес:
— Прекрати жеманиться, тебе это не к лицу.
Дальше последовал поцелуй, от которого Нана буквально потеряла сознание.
Нет, она не упала в обморок, она просто перестала осознавать себя.
Все, что с ней проделывал любовник, было непонятно, жутко и восхитительно.
Она буквально сгорала в его руках, без остатка, дотла.
Алексей Ильич был совершенно неутомим, до утра он умирал от восторга, клялся в любви, позволял себе совершенно недопустимые вещи, и Нана, вылетев за рамки дозволенного, кувыркалась в этом немыслимом апофеозе страсти до тех пор, пока Алексей Ильич вдруг не остановился, посмотрел на часы и, совершенно изменившись в лице, воскликнул:
— Малышка, уже седьмой час, сейчас мама проснется, беги скорей домой!
Это выглядело так, как если бы робота отключили от электрической сети. Его взгляд погас, тело обмякло, на лице отобразилась скука и усталость.
Нана обмерла или умерла. Она не поняла, что с ней случилось, но потрясение было такой силы, что хотелось как-нибудь сразу перестать существовать.
Нана вскочила с дивана и стала лихорадочно одеваться. Тем временем Алексей Ильич повернулся на бок, лицом к стене, и дремотным голосом проворчал:
— А что же ты сразу не сказала, что я у тебя первый, я бы по-другому все это обставил… — Последние его слова потонули в молодецком храпе.
Нана выскочила за дверь, чуть не сбила с ног маму и под аккомпанемент ее голоса, который проскрипел: «Эх, девицы, совсем стыд потеряли!» — вылетела на лестничную площадку.
Нане казалось, что все ее тело обожжено, что от стыда пылает каждый сантиметр кожи, что она больше никогда не сможет появляться среди нормальных людей, которые не испытали на себе подобного кошмара.
Домой она добиралась пешком, расстояние было неблизким и вполне можно было доехать на трамвае, но Нана боялась оказаться среди людей, боялась, что к ней кто-то прикоснется в толкучке и она этого не переживет.
Она бежала, не останавливаясь, бежала на неустойчивых каблуках, подворачивая ноги.
Добравшись до общежития, она, дико оглядываясь по сторонам и прячась за уступы стен при малейшем шорохе, поднялась на свой этаж и тихонько приоткрыла дверь в комнату.
Ее соседка Ира Медведева еще спала.
Заслышав стук двери, она приоткрыла глаза, но Нана этого не заметила, она быстро сунула руку под матрац, вытащила дедовский кинжал и, недолго думая, с силой полоснула по вене на запястье.
Кровь брызнула с такой силой, что под ее ногами мгновенно образовалась лужа.
Ира Медведева безмолвно выползла из-под одеяла и, вытаращив глаза так, как будто хотела их вовсе вытолкнуть из орбит, просипела:
— Ты чего делаешь? Дура!
Нана вздрогнула, окинула соседку бешеным взглядом, отчего Ира опять полезла под одеяло, и, перекинув нож из одной руки в другую, резанула по второй вене.
— А… — попыталась крикнуть Ира Медведева, но звука ей издать не удалось, голос пропал.
Нанино лицо покрылось мертвенной бледностью, нож выпал, и она, покачнувшись, рухнула на пол.
И вот с этого момента, именно с этого самого момента на авансцену Наниной жизни вышла Галчонок.
Так бывает, когда тихое беспомощное существо вдруг наполняется невероятной силой и готово свернуть горы, чтобы помочь близкому.
В такие моменты человек возвышается над собой, растет и обретает в своих глазах высшее значение.
Забыв про учебу и все прочее, Галя неусыпно дежурила у постели больной.
Из Тбилиси прилетели Нанины родители. Вокруг Алексея Ильича разгорался скандал.
— Ну, что вам, в самом деле, русских девочек мало? — поучала нерадивого доцента немолодая, но еще очень привлекательная ректорша. — Связались с грузинкой. У них же все по-другому.
Алексей Ильич со всем соглашался. И покорно кивал.
— Ну как можно сердиться на такого простофилю? — сетовала ректорша и ласково трепала молодого самца по волосам.
Но Нанин отец Лондер Зурабович был несколько иного мнения о случившемся. К тому же он оказался человеком при должности и со связями. Он требовал немедленного увольнения охальника из института. Не помогали никакие уговоры.
— Знаешь, что? — наконец придумала ректорша. — А ты женись на ней!
Услышав это, Алексей Ильич впал в такое отчаяние, что ректорше пришлось отпаивать его чаем.
— Нет! — кричал он. — Нет! Уж лучше остаться без места, без диссертации! В тюрьму — и то лучше!
Ректорша подливала в его стакан кипяток и ждала.
После второго стакана чая Алексей Ильич стал утихать, а на третьем и вовсе призадумался.
Тогда ректорша пододвинула к нему стул, взяла за руку и, с нежностью глядя ему в глаза, произнесла:
— Ну что ты так всполошился, глупенький? Не понравится, разведешься. А может, понравится! Грузинки — хорошие жены, мужьям все прощают… — С этими словами ректорша обвила его шею руками и подставила губы для поцелуя.
Предложение руки и сердца оказалось для Лондера Зурабовича весомым аргументом, он сразу ослабил хватку и стал ждать, пока Нана достаточно окрепнет после пережитого шока, чтобы сообщить ей радостную весть.
Все это время семейство Гомиашвили проживало в квартире у Галчонка. Им была выделена комната в однокомнатной квартире, а Галя с матерью ютились на кухне.
Нана быстро шла на поправку, но ее психическое состояние оставляло желать лучшего.
Каждый день, начиная с раннего утра, она в мельчайших подробностях рассказывала Галчонку о своем горе. Она говорила о своих страданиях, о том, как безобразно надругался над ней ее первый мужчина. Родители к подобным разговорам не допускались.
Галчонок все сносила одна. Закончив печальную повесть, Нана делала короткую передышку, настолько короткую, что времени как раз хватало, чтобы набрать воздуха в легкие, и тут же все начиналось сначала. Галя проявляла ангельское терпение.
— А потом он подошел и взял меня за руки, а потом он посмотрел на меня вот так… и поцеловал. — И в этом месте рассказа Гале все казалось, будто Нана лукавит, потому что на ее лице все еще читались едва заметные следы от того чувственного удовольствия, которое она испытала от близости с Алексеем Ильичом.
И Галя, слушая свою подругу, думала: «Господи, если бы меня хоть раз, хоть кто-нибудь взял вот так за руки и поцеловал, я бы простила ему все, все…»
На исходе второй недели Галя не выдержала. В самой трагической точке рассказа Наны она вдруг коротко хохотнула.
— Тебе смешно? — обиделась Нана.
— Нет! — Галя в испуге зажала ладонью рот, на глаза ее навернулись слезы.
— А почему же ты усмехаешься? — с угрозой в голосе произнесла Нана.
И тут Галю как прорвало. Она захохотала каким-то диким ненормальным смехом.
— Что с тобой? — насторожилась Нана.
— Нет! Нет! — выкрикивала Галя, громко икая.
На шум прибежали из кухни родители, Галчонка пришлось отпаивать валерьянкой, но зато Нана мгновенно пришла в себя.
На истерике подруги она как будто выскочила из затяжного кризиса и теперь с неподражаемой нежностью хлопотала вокруг нее.
К вечеру, когда страсти улеглись, обе семьи встретились за столом на кухне, и Лондер Зурабович торжественно сообщил дочери о предстоящей свадьбе.
Реакция Наны удивила всех: она встала из-за стола, ее лицо, шея, руки покрылись малиновыми разводами.
— Я сейчас вернусь… — произнесла Нана и ушла в ванную комнату. Там, закрыв за собой дверь, она включила душ и уселась на крышку унитаза.
Ее бил озноб от одной только мысли, что она еще раз окажется в одной постели с Алексеем Ильичом. В ее организме поднялась такая буря, что она сама не знала, что по этому поводу думать, и было только одно желание — спрятаться, спрятаться навсегда, чтобы никто не заметил, как сильно она хочет повторения с Алексеем Ильичом и как сильно стыдится этого желания.
— Нет, нет, я этого больше не переживу… — пробормотала Нана и сунула голову под струю ледяной воды.
Холодная вода привела мысли в порядок, и теперь Нана могла думать так, как думала ее мать, бабка, прабабка и вся эта бесконечная вереница родственников, которые были озабочены только одним — следить за тем, чтобы чувства не взяли верх над разумом.
На кухню Нана вернулась спокойная и решительная.
Она гордилась тем, что сумела справиться с собой и не пойти на поводу у низменных инстинктов.
Она села за стол и, глядя отцу в глаза каким-то совершенно новым, пугающим взглядом, заявила, что ни за что на свете не пойдет замуж за русского, она поедет в Тбилиси, и если Дото не откажется от нее после всего случившегося, то выйдет замуж за него, как и обещала.
— А как же учеба?! — воскликнула мама.
— Учебу на какое-то время придется прервать! — ответила Нана, и в ее голосе было столько решимости, что никто не отважился возражать.
Галя была ни жива ни мертва. Она чувствовала, что вот сейчас из ее жизни уходит что-то чрезвычайно важное, что-то основополагающее, что-то такое, без чего она дальше не сможет жить.
Галя не умела распыляться, ей не нужен был большой круг знакомых и интересов, она все ставила на одну карту, и эта карта оказалась бита.
Но горя Гали никто не замечал, все были озабочены судьбой Наны, Нана была трагической фигурой, которой приходилось выбирать между двумя женихами, между учебой и свадьбой, между Москвой и Тбилиси.
А Гале выбирать не приходилось. У нее не было ни одного жениха, и даже поклонника ни одного не было, и теперь еще единственная подруга собиралась уезжать навсегда. Конечно, выйдя замуж, Нана уже не вернется никогда.
После Наниного отъезда Галя впала в состояние такой тяжкой хандры, что мама даже обратилась к психиатру.
Психиатр поставил диагноз «депрессия».
— Побольше гулять, — посоветовал он, — получше питаться, но вообще-то… Ей нужен какой-то позитивный толчок. Смена места, какое-нибудь радостное событие. В общем, знаете, как клин клином вышибают? Нужно хорошее потрясение, и все встанет на свои места.
— Где же я его возьму-то, потрясение? — сетовала мать, покидая кабинет врача.
— Ну, это уж вы сами придумайте.
Но думать Галиной маме не пришлось, потому что в тот же день раздался телефонный звонок.
Звонила Нана.
— Зоя Викторовна! — кричала она в трубку. — Приезжайте, приезжайте с Галочкой ко мне на свадьбу! Двадцать четвертого июля, мы вас ждем, очень!
Зоя Викторовна поехать не смогла, было дорого, но зато Галя мгновенно ожила. В ее глазах засветились счастливые искорки, депрессии как не бывало!
— Доченька, нельзя так привязываться к подругам, — поучала ее мать. — У каждой девушки — своя судьба, эта судьба для нее всегда будет важнее дружбы.
Но Галчонок пропускала эти наставления мимо ушей.
Умом она понимала, что мама права, что ее привязанность к Нане носит болезненный характер, но душой она рвалась туда, в неведомый жаркий мир страстей и любви, в котором понятия еще сохранили первоначальные значения. Где мужчины в представлении Гали были рыцарями, а женщины все, без исключения, должны были быть такими, как Нана, — гордыми и красивыми.
Галя еще ни разу не уезжала так далеко от дома, она была человеком робким и слегка побаивалась дальних путешествий.
Но гудки поездов не раз будили в ней страстное желание отправиться куда-то далеко-далеко, оказаться в неведомых странах среди незнакомых людей и ходить среди них совершенно обновленной, красивой и свободной.
Одним словом, ей хотелось просто взять и убежать от одиночества, от неудач, от собственных комплексов и начать где-то там, с чистого листа совершенно новую жизнь.
Когда поезд на Тбилиси, в котором у Гали было место в плацкартном вагоне, тронулся, вместе с ним тронулось и поплыло в безудержном потоке радости Галино сердце.
Там, впереди, в волшебном городе Тбилиси ее ожидало что-то кардинально новое.
Вагон покачивался, поезд напевал незатейливую мелодию — тук-тук, тук-тук, и Гале казалось, что за всю жизнь она не слышала ничего прекраснее.
Ее мысли перекатывались в голове с таким же мелодичным постукиванием день и ночь, потом еще один день, а потом поезд остановился, и Галя увидела в окне Нану, которая держала за руку усатого красавца, и Наниных родителей, и цветы, и когда она вышла из вагона, то воздух юга, напоенный какими-то неведомыми запахами, сразу взял ее в объятия и наполнил предчувствием счастья.
Все вокруг смеялись и обнимали ее, и она смеялась и плакала от непомерности чувств.
С первых же дней пребывания в доме Наны Галя почувствовала, что с ее подругой творится что-то неладное.
Она не оставалась с Галей наедине, не вела никаких откровенных бесед, как это было принято между ними раньше, была какой-то отчужденной и официальной.
— Ты счастлива? — однажды спросила Галя, и Нана, гневно сверкнув глазами, ответила:
Это «да» получилось каким-то ненастоящим, как будто в нем было сокрыто совершенно иное значение, кардинально противоположное.
Галя жалела, что задала этот вопрос, потому что с этого момента Нана вовсе стала избегать ее, и только вечером, накануне свадьбы, когда они стояли вдвоем на балконе, Нана вдруг рванулась к Галчонку и, крепко обняв, проговорила сдавленным голосом:
— Дото, он такой благородный, он простил мне измену, он любит меня, и я буду, буду любить его по гроб жизни! И больше никогда не спрашивай меня об этом, хорошо?
Галя кивнула, но ощущение от этого разговора осталось тягостное, как будто Нана чего-то недоговаривала, что-то самое главное осталось невысказанным, но что — Галя не могла понять, для этого у нее не хватало жизненного опыта.
Свадьбу праздновали три дня, и все эти три дня Галя совершенно не узнавала себя.
Мир вокруг нее — радостный и яркий — отражал какую-то совершенно другую девушку.
То и дело она ловила на себе восторженные взгляды мужчин.
Ее светлые волосы, белая кожа, хрупкая фигура — все, что в Москве казалось бледным, безликим, незрелым, здесь, в мире, перенасыщенном яркими кричащими красками, представлялось утонченной изысканной редкостью, и мужчины, позабыв о знойных подругах, наперебой делали ей комплименты, приглашали танцевать, шептали горячие слова.
Галя, со всей искренностью натуры, устремилась навстречу этой внезапно открывшейся для нее стихии, стихии страсти и нежности. Она никогда прежде не чувствовала на себе таких обжигающих, зовущих взглядов, не слышала таких многообещающих слов.
Все это вместе вызвало в ней эмоциональный взрыв такой силы, что когда в середине первого вечера она посмотрела в зеркало, то совершенно не узнала себя.
В ее глазах появилось нечто плывущее, увлекающее вглубь, на щеках загорелся нежнорозовый румянец, даже волосы — обычно бледные и скучные — вдруг заиграли светлыми переливами и завились от счастья.
Галя с восхищением рассматривала произошедшие в ней перемены, когда в зеркале рядом с ней внезапно отобразилась Нана.
В своем свадебном платье, с фатой на голове, с высокой прической она выглядела грубо, как будто белоснежный наряд был создан специально для того, чтобы оттенить некоторую тяжеловесность ее форм, восточную жесткость лица. Особенно это было заметно в контрасте с нежным инфантильным отражением Гали.
Галя испуганно посмотрела на подругу, ей было неловко за свои мысли, она надеялась, что Нана не увидит того, что увидела она.
Но взгляд Наниных глаз был темен и чужд, по этому взгляду Галя поняла, что они обе смотрят на отражение в зеркале одинаково.
Галя выпрямилась, она больше не хотела быть приложением к Нане. Она приняла вызов.
— Галчонок, — заговорила Нана, совладав с собой, — ты такая красивая! Я никогда не думала, что ты можешь быть такой! Где ты все это прятала?
— За твоей спиной, — усмехнулась Галя. — Мне всегда казалось, что рядом с тобой я смотрюсь как обычная серая мышь.
— Надо же! А я и не думала, что так тебя подавляю… — обиделась Нана.
— Нет, что ты, Наночка! — опомнилась Галя. — Ты никогда меня не подавляла, просто я не верила в себя.
— А теперь поверила? — Нана поправила фату и встретилась в зеркале с Галиным взглядом.
— А теперь поверила… — ответила Галя.
— Галчонок, это все замечательно. — Нана с трудом скрывала раздражение. — Но я хочу тебя предупредить…
— О том, что здесь не Москва, здесь совершенно другие порядки и нравы, что если ты и дальше будешь вести себя так легкомысленно, то мужчины будут думать, что с тобой все дозволено.
Галино лицо вспыхнуло, отчего стало еще привлекательнее.
— Значит, ты считаешь, что я себя неприлично веду? — выпалила она. — Что я компрометирую твою семью?!
— Ну что ты! — Нана быстро подошла к Гале и обняла ее как-то чересчур крепко, так, что Галя даже вскрикнула. — Что ты, Галчонок! Как ты можешь меня компрометировать! Я горжусь, что у меня такая красивая подруга! Я просто предупреждаю тебя, что с грузинскими мужчинами нужно быть осторожнее, они обычный взгляд, улыбку могут воспринять как обещание. Потом не отделаешься.
— А может, я не хочу отделываться, может, я тоже замуж хочу!
Если бы Нана над ней посмеялась или попробовала ее отговорить от бредовой идеи выйти замуж за грузина, то Галя начала бы отстаивать свои позиции и ей было бы легче, но Нана не сказала ни слова, она только посмотрела на подругу с глубоким сочувствием. И еще какой-то оттенок был у этого взгляда, какой-то неприятный, оттенок высокомерия, что ли.
Галя поняла это позже и, поняв, подумала, что Нана во всем оказалась права.
Но тогда, на свадьбе, ей было не до того. Ей просто хотелось счастья — легкого и доступного. Оно прямо лежало на поверхности, это счастье, манило и заигрывало с ней.
В разгар праздника среди прочих гостей появился молодой человек, строгий и серьезный.
Он сидел за столом тихо и наблюдал за происходящим таким печальным взглядом, как будто знал о людях что-то особенное, что-то такое, что заслуживает глубокого сострадания.
Его красивое, обрамленное коротко стриженной бородкой лицо выделялось на общем фоне застывшим выражением.
Галя заметила его сразу, и легкая тревога коснулась ее сердца. Она несколько раз ловила на себе взгляд его непонятных глаз и с тоской отмечала, что на нее он смотрит не иначе, как на всех остальных — обобщенно.
— Кто этот парень? — спросила она, улучив момент, у Наны.
— Какой? — Нана огляделась по сторонам.
— Вон тот.
Нана устремила взгляд в указанном направлении, увидела гостя и, прошептав:
— Гия?! — побледнела.
Галя отметила, что молодой человек с печальными глазами тоже изменился в лице — на Нану он смотрел совершенно иначе, нежели на всех остальных.
— Даже не вздумай! — произнесла Нана с угрозой в голосе и, ничего не объясняя, пошла прочь.
Галя обиделась: от лучшей подруги она ждала другого поведения. Нана могла хотя бы сделать вид, что радуется Галиному успеху, а не ревновать так дико, так некрасиво, тем более что ее собственная жизнь уже сложилась наилучшим образом.
Подумав так, Галя ощутила в душе незнакомое чувство. Оно было веселым и озорным, оно побуждало к необдуманным поступкам. Это было неведомое ей прежде чувство решимости.
Галя встала из-за стола, поймала взгляд Гии и, удерживая его, как канатоходец удерживает равновесие, пошла к Гие навстречу.
Ее движения были многообещающе грациозны, из глаз струилась манящая чувственность.
Галя шла и как будто любовалась собой. Было видно, что в этот момент она ощущает себя необыкновенно привлекательной. И в глазах Гии появился едва заметный интерес. А когда Галя подошла к нему достаточно близко, он даже улыбнулся.
Улыбка была ему не к лицу, она обесценивала строгую задумчивость образа, и было в ней что-то настораживающее, неприятное, что-то дикое. Такое, что Галя даже на мгновение остановилась. Но тут, заметив ее нерешительность, поднялся из-за стола Гия.
Он был огромен, как вставший во весь рост медведь, и двигался медлительно, но уверенно. Гия спокойно обошел стол, взял Галю за руку и, ни слова не говоря, повел за собой в круг танцующих.
Уже при первом прикосновении его горячих рук Галя почувствовала, что теряет волю. Она шла за ним, как завороженная, а вокруг танцевали люди, мелькали руки, спины. Среди них непримиримыми огнями мерцали глаза Наны, это придавало всему происходящему особую остроту и привкус недозволенности, который разжигал в Гале дух противоречия.
Гия обнял ее сильными руками, и Гале показалось, что он не танцует, а укачивает ее, как в детстве укачивал отец. И больше она не видела ничего, только чувствовала перекаты музыки и волнующую близость незнакомого мужчины.
Потом они сидели за столом и пили домашнее вино из красного винограда сорта «Изабелла». Гия поведал, что он художник, что у него мастерская в подвальном помещении дома, в котором теперь будут жить Нана и Дото.
Все это он рассказывал как будто с принуждением, Галя чувствовала, что ему не хочется с ней говорить.
И ухаживать за ней тоже не хочется, а делает он это по какому-то заведенному обычаю, который гласит, что мужчина не может быть равнодушен в присутствии женщины.
Галя пила вино большими глотками, как сок, и чем больше она пьянела, тем больше нравился ей ее собеседник.
Он был такой отстраненный, такой недоступный, и ей так хотелось, чтобы он хоть раз, хоть один только раз взглянул на нее так, как смотрел на Нану, — диким, прожигающим насквозь взглядом.
Но Гия не смотрел на нее вовсе, на протяжении всей беседы он с пристальным вниманием разглядывал свои необыкновенно красивые руки, и Гале казалось, что если она сейчас встанет и уйдет, то он этого не заметит и будет продолжать разговор со своими руками.
То и дело к Гале подходили молодые люди и приглашали на танец, она отказывала, но и этого Гия не замечал, он был полностью сосредоточен на самом себе, как будто беспрерывно решал какую-то важную задачу.
«Какая я дура! — наконец сообразила Галя. — Теряю время с человеком, который мной совершенно не интересуется, когда вокруг столько замечательных молодых людей».
Подумав так, она решила, что пойдет танцевать с первым, кто пригласит ее на танец, но, когда к ней подошел немолодой мужчина с седыми усами и бородой, Галя обнаружила, что не в состоянии подняться на ноги. Она еще отметила, что мысли в ее голове ясные и только совершенно ноги не держат.
Тогда Гия, проговорив что-то про батон, вежливо раскланялся с пожилым претендентом на кадриль и, обойдя стол, взял Галю на руки.
— Ах! — хотелось воскликнуть Гале, но она промолчала и правильно сделала, потому что ничего романтического в этом жесте не было.
Гия по-деловому отнес Галю на кушетку в комнату и, проговорив:
— Это «Изабелла», тебе надо немного вздремнуть… — оставил ее одну.
Галя отключилась мгновенно.
Сквозь непрочный сон она слышала шум свадьбы, музыку, звонкую грузинскую речь, и ей все мерещилось, что вот сейчас, сейчас она вспорхнет и побежит туда, где царит праздник, а потом все заслонило лицо Гии, оно было злым и неприятным, и он выкрикивал что-то на непонятном языке, и ему вторил женский голос.
Галя проснулась и поняла, что это не сон, что где-то рядом с ней на высоких тонах происходит разговор между мужчиной и женщиной.
Она приподнялась, преодолевая резкую боль в голове, выглянула в окно, которое выходило на небольшую, заросшую диким виноградом террасу.
Прямо перед собой она увидела Нану, которая, гордо закинув назад голову, говорила что-то по-грузински в пустое пространство.
Потом послышался мужской голос откуда-то снизу. Галя встала, на трясущихся ногах подошла к окну вплотную — и… лучше бы она этого не делала.
Перед Наной на коленях стоял Гия, его облитое слезами лицо пылало вдохновением. Он держал Нанину руку и о чем-то молил.
Нана слушала с удовольствием, но без поощрения. Наконец, Гия вскочил на ноги, рванул Нану на себя и поцеловал в губы.
Ночь была светлая, луна и звезды освещали их лица, и Галя отчетливо видела, с какой страстью Нана ответила на этот поцелуй, но уже через секунду она вырвалась из его рук и, замахнувшись, ударила Гию по щеке с такой силой, что вся его исполинская фигура покачнулась.
Потом Нана выкрикнула что-то резкое и, указав пальцем в пол, таким жестом, каким указывают место собаке, повернулась и пошла прочь.
Галя была потрясена.
Гия остался на террасе один, на его лице сияло выражение восторга. Он медленно дотронулся до щеки, по которой ударила Нана, и, мечтательно закатив глаза, поцеловал эту руку.
Галя вернулась на кушетку, ее бил озноб, сказывалось похмелье и шок, пережитый от проникновения в чужую тайну.
Она еще никогда не видела живьем такого проявления страсти. Ее как будто обожгло пламенем этих чувств. И теперь она особенно остро чувствовала бесприютное одиночество.
Галя обхватила колени руками, положила на них голову и горько заплакала о несправедливости устройства мира. В таком положении ее обнаружила наутро Нана.
Свадьба уже давно отшумела, Нана сняла свадебный наряд, и теперь, в будничной одежде, она выглядела особенно свежо и привлекательно.
— Галчонок! — воскликнула она. — Вот ты где! А я тебя по всему дому ищу, с ног сбилась.
Галя подняла голову и посмотрела на Нану из-под опухших век.
— Скажи, — пробормотала она, — как у тебя это получается?
— Что? — не поняла Нана.
Она смотрела на подругу с искренней тревогой, вид у Галчонка был не очень.
Галя попыталась встать на ноги, но, заметив, что хмель еще не окончательно покинул ее хрупкий организм, опять опустилась на кушетку.
— Я вас видела…
— Кого, нас?
— Тебя и Гию, вот на этой террасе, сегодня ночью.
— Ну и что? — Нана была невозмутима.
— Скажи, зачем он тебе нужен? Ты что, его любишь?
Нана села рядом и обняла Галю за плечи.
— Понимаешь, — проговорила она, глядя на Галю с некоторым сожалением. — Гия — это моя первая любовь. Мне было пятнадцать лет, когда мы с ним познакомились, и он не будет любить никого, слышишь, никого, кроме меня.
— Ничего не понимаю! — удивилась Галя. — Любит одного, спит с другим, замуж выходит за третьего!
— Здесь нечего понимать, — отрезала Нана. — Гия был моим женихом, мы собирались пожениться, и вдруг я узнаю, что он изменяет мне направо и налево. Он, видите ли, не знал, куда темперамент девать, свадьбы не мог дождаться. Я его и прогнала, и пусть он теперь до конца дней мучается.
— Вот как, значит, ты из противоречия замуж вышла! Это неправильно, Наночка! Ты же всех вокруг себя несчастными сделаешь и сама погибнешь!
— Молчи! — закричала Нана. — Что ты понимаешь! Я люблю мужа! — Ее лицо пылало, глаза побелели.
Галя испугалась: по этой реакции она поняла, что попала в самую больную точку.
И тут же возникло чувство такой щемящей близости, такого сочувствия к этой несчастной женщине, готовой из-за непомерной гордости исковеркать свою судьбу.
— Наночка! — Галя прижалась к подруге. — Может, еще не поздно? Может, еще все можно исправить?
Нана резко вскочила на ноги, отчего Галя отлетела в угол кушетки и больно стукнулась головой о стену.
— Ты в нашей жизни ничего не понимаешь! — выпалила Нана, как в горячке. — У нас не выходят замуж на пять минут, как в России, поэтому не лезь с советами. Сегодня вечером встречаемся у Дото на квартире, тебя туда отвезут. А теперь поспи, на тебя страшно смотреть… — С этими словами Нана вышла из комнаты.
В другой раз Галя бы обязательно обиделась, но сейчас, потрясенная трагизмом ситуации, она только чувствовала, как ноет сердце, и силилась распознать, по кому эта тоска, обволакивающая душу, — по Нане или по ней самой?
Вечером у Дото собрались несколько самых близких друзей, среди которых оказался и Гия.
Квартира была тесной и душной, но всё — и вино, и песни, и даже эта духота — как будто пыталось сплавить людей в нечто общее, неделимое.
И здесь, за этим столом, действительно казалось неважным, за кого Нана вышла замуж — за Дото или за Гию, с кем она ляжет спать после шумного праздника.
Все в этом доме казалось единым, и все принадлежали всем.
Галя, как завороженная, внимала грузинскому многоголосью, она была влюблена непонятно в кого; то ли в Гию, то ли в Нану, то ли во всю Грузию!
Ей хотелось всю жизнь вот так сидеть за этим столом среди бородатых красавцев и слушать, как в слаженный хор мужских голосов нежной тоскующей нотой вплетается сильное сопрано ее единственной подруги Наны.
Галя не умела петь, но ее душа, сливаясь воедино со стройными голосами, возносилась так высоко, что становилось трудно дышать, и, подчиняясь магической силе мгновения, Галя забыла о наставлениях Наны, и ее чувства, отяжелевшие от непомерной красоты вечера, прорвав все преграды, опять устремились к невозмутимому Гие, который сегодня был особенно хорош в своей задумчивой отстраненности.
Весь вечер он сидел, тяжело навалившись на край стола, и его горестная фигура гармонично вписывалась в орнамент вечера, как бы сдерживая, не давая взорваться радости, заложенной в идее свадьбы.
Это было красиво — и его молчаливое страдание, и сочувствующее понимание гостей, и снисходительное внимание Дото, который оказывал милость к падшему. Все это гармонично сливалось в органное гудение голосов, и только Галя силилась и никак не могла понять, для чего этим людям нужно такое хитросплетение нитей судьбы.
Зачем они запутывают такие простые и ясные вещи? Чтобы потом страдать, любуясь нелепостью получившегося узора?
Уже было далеко за полночь, когда Гия встал и вышел курить на балкон. Курить можно было и в комнате, но он почему-то вышел.
Галя видела со своего места распахнутое окно, черное небо и на фоне этой черноты — белый дым от его сигареты. И ей показалось, что он ее ждет, специально выйдя из комнаты.
Галя встала, направилась на балкон. Там она бесшумно подошла к Гие и тихонько дотронулась до его плеча. Он медленно повернул голову и улыбнулся своей хищной улыбкой.
— Что, надоели наши песенки? — Только сейчас Галя заметила, что Гия был сильно пьян.
Его язык заплетался, веки тяжело лежали на глазах, приоткрывая диковатые белки.
«Нет, все-таки хорошо, что Нана вышла за Дото!» — подумала Галя. В этом Гие была какая-то скрытая злость, которая прорывалась наружу, когда он переставал за собой следить.
— Они здесь все до утра сидеть будут, — произнес Гия и с презрением выстрелил недокуренной сигаретой в черное пространство. — А мне надоело, все они надоели. Хочешь, спустимся ко мне в мастерскую? Она здесь, в подвале. Я тебе мои работы покажу.
Если бы на балконе в этот момент был кто-то третий, то Галя была бы уверена, что Гия обращается не к ней, а к тому самому третьему. Гия как-то странно избегал ее взгляда, как будто выискивал кого-то в темноте.
— Ну, что, пошли? — Гия взял Галю за руку.
— Нет! — Галя попыталась высвободить свою руку. — Я не пойду.
— Почему? — Гия сжал ее руку так, что Галя вскрикнула. — Я не пойду, пусти, мне же больно!
— Прости! — Гия поднес Галину руку к губам и поцеловал в раскрытую ладонь. — Я немного перебрал с выпивкой, проводи меня, пожалуйста, а то я сам не дойду.
Теперь он смотрел ей в глаза, и в его взгляде была то ли усталость, то ли нежность, Галя не могла понять. Но для нее было ясно одно — она пойдет за ним в мастерскую и, наверное, пойдет на край света, только бы он смотрел на нее вот так — из-под полуприкрытых век, и держал за руку, даже если это причиняет боль.
— Я не пойду! — сделала последнюю попытку Галя. — Это неудобно.
— Не придумывай, — мягко возразил Гия. — Чего тут неудобного? Мы же друзья.
«И действительно, — подумала Галя, — я же только работы посмотрю и вернусь».
Гия нетерпеливо тянул ее за руку.
— Хорошо, — сдалась Галя. — Я Нану сейчас предупрежу.
— Не надо никого предупреждать, — возразил Гия, — смотри, здесь с балкона лесенка прямо в мой подвал. Они и не заметят, как ты уже вернешься.
Галя с тоской взглянула на витые чугунные перила, на черные ступеньки, уходящие в темноту, и ее безудержно потянуло туда, в манящую неизвестность.
— Бежим… — прошептала она, чувствуя, как от волнения перехватывает дыхание. — Только тихо.
Она сняла туфли и, мягко ступая босыми ногами по холодным ступеням, первая побежала вниз. Добежав до подвала, они остановились перед тяжелой железной дверью. Галя была как в лихорадке, так должен чувствовать себя человек, который спасается от погони.
— Ну что ты возишься… — бормотала она, пока Гия открывал дверь. — Давай поскорее.
— А куда торопиться? — невозмутимо отвечал Гия.
«Да, действительно, что это со мной? — думала Галя. — Я же ничего не украла! Просто хочу посмотреть картины».
В мастерской было душно и пыльно, но в этой пыли, вобравшей в себя запах красок, и в духоте, проникнутой присутствием Гии, было нечто доверительное.
У Гали было такое чувство, как будто она сразу, одним скачком, оказалась в самой сердцевине его интимной жизни, скрытой здесь, в глухом подвале от посторонних глаз.
Гия включил свет.
Галя видела, как он нажал находящуюся рядом с дверью кнопку выключателя, и эта несвойственная ей наблюдательность оказалась потом спасительной.
Мастерская озарилась тусклым светом, и сквозь неясное мерцание единственной электрической лампочки, свисавшей на длинном шнуре с потолка, Галя увидела, как со стен на нее взирают странные существа с огромными головами и черными провалами глаз, в которых, как в омуте, исчезала любая надежда.
Эти лица были повсюду: и на стенах, и на расставленных по мастерской мольбертах.
Галя бродила среди них, как в лабиринте, и ей чудилось, что вот сейчас они сойдут с полотен и утащат ее в непонятный, страшный мир.
Это было безусловно талантливо, потому что производило сильное впечатление, но какой темной и непроглядной должна была быть душа художника, видевшего людей таким образом!
В панике Галя оглянулась и увидела, как Гия большими глотками допивает из стакана прозрачную жидкость.
Перехватив Галин взгляд, он поставил опустевший стакан на доску, служившую столом, решительно подошел к Гале и, дыхнув на нее водкой, с угрозой произнес:
— Раздевайся.
В одно мгновение образ обаятельного, задумчивого рыцаря, который сложился в голове Гали, разрушился, и на его месте возникло размноженное на этих многочисленных портретах лицо с дикими злыми глазами.
И Гале стало ясно, чего она испугалась.
— Гия! — произнесла Галя дрожащим голосом. — Мы же друзья, я — Нанина подруга.
— Не смей! — заорал Гия. — Не смей произносить ее имя!
Двумя руками он схватил Галино новое платье за ворот и, с силой дернув, порвал его на две части.
— Что ты делаешь? — закричала Галя в ужасе.
Но Гия ее не слышал, его глаза налились кровью и выкатились из орбит, он перестал быть похожим на человека.
Понимая, что сейчас случится что-то ужасное, Галя сорвалась с места и спряталась за мольбертом.
Но Гия с легкостью опрокинул мольберт. Наступив тяжелым ботинком на собственную работу, он поймал Галю за руку и с силой рванул на себя. От боли Галя вскрикнула.
— Прекрати орать! — пригрозил Гия.
Тут Галя поняла, что он боится шума, и закричала изо всех сил.
От неожиданности Гия выпустил Галину руку, что дало ей возможность отбежать к столу.
На столе Галя нащупала бутылку из-под водки и запустила ею в Гию. Потом в него полетело все, что попадалось под руку, но он с легкостью уклонялся от летящих предметов, неуклонно надвигаясь на Галю.
— Зачем ты это делаешь? — пыталась вразумить мучителя Галя. — Ты мне так нравился, я бы и так с радостью осталась с тобой.
— Мне не надо с радостью! — взревел Гия. — Я вас всех, всех ненавижу! Только ее люблю! — С этими словами он опрокинул Галю на стол.
И навалился на нее всей тяжестью.
«Я пропала…» — подумала Галя и почувствовала, как стол под ней покачнулся.
Неловкими движениями Гия пытался сорвать с нее остатки одежды.
Стол кренился все больше и больше, и, когда Гия был уже почти у цели, раздался грохот, и вся непрочная конструкция рухнула.
Не чувствуя боли, Галя мгновенно высвободилась, бросилась к двери и, заметив месторасположение замка, нажала на кнопку выключателя.
Мастерскую поглотила кромешная тьма. Гия растерялся.
— Зажги свет! — истерически завопил он.
Но Галя, недолго думая, быстро нащупала дверную ручку, повернула замок, открыла тяжелую дверь и уже через секунду опрометью неслась вверх по лестнице, на второй этаж, где располагалась квартира Дото.
Открыли не сразу.
Галя в панике все жала и жала на кнопку звонка. Наконец дверь распахнулась, и, к своему облегчению, Галя увидела на пороге Дото, а за его спиной Нану.
— Господи, ребята, какое счастье! — плакала Галя. — Он меня чуть не убил! Он сумасшедший? Сумасшедший, да? — Она попыталась пройти в квартиру, но Дото стоял на пороге.
И даже не думал уступать ей дорогу.
— Наночка, мне надо переодеться и умыться… — пролепетала Галя, предчувствуя что-то недоброе.
Нана молча взирала на нее из-за спины мужа, и выражение ее глаз было точь-в-точь таким же, как у людей, изображенных на портретах Гии.
Наконец заговорил Дото:
— Галя! — произнес он менторским тоном. — Я не могу тебя впустить в квартиру в таком виде. У меня гости, ты меня скомпрометируешь.
— Как? — не верила своим ушам Галя. — Вы это серьезно?! Это же ваш друг! Он хотел меня изнасиловать! Он меня чуть не убил!
— Тебя никто не заставлял спускаться к нему в мастерскую… — отрезал Дото и с грохотом закрыл перед Галиным носом дверь.
До последней секунды Галя ждала, что Нана вмешается, защитит ее, объяснит мужу, что так с друзьями не обращаются.
Но Нана не вымолвила ни слова, она стояла за спиной мужа, как его тень. И вся ее поза выражала молчаливое согласие.
Галя думала недолго. Сначала ее охватила неуемная дрожь, дрожь была такой силы, что Галя слышала, как стучат друг о друга зубы. Потом все успокоилось, и она почувствовала, как в ее душе темной, вязкой массой разливается безразличие. А потом ее как будто что-то толкнуло в спину, и она полетела вниз по лестнице.
…Сидя в плацкарте на нижней полке, Галя смотрела в окно и с восторгом ощущала в себе движение, как будто не поезд несся сквозь пространство, разбивая его на ритмичную звуковую гамму, а пространство протягивалось через нее в сладком звуковом потоке.
Это было как песня, беспрерывно звучащая где-то под сердцем. Галя возвращалась к себе. Не к себе домой, где ждала ничего не ведавшая мама, она возвращалась к своему «я», к своему началу, от которого увела ее неправильная мечта.
Теперь Галя твердо знала, что мечтать можно только о вещах, суть которых тебе хорошо известна.
Какой наивной она была, когда ехала в этом же поезде в другом направлении, и какой умудренной опытом чувствовала себя, навсегда покидая Тбилиси. Она понимала, что благодаря событиям последнего месяца она нащупала нечто чрезвычайно важное, некое ощущение, смысл которого пока остается для нее закрытым, но обязательно откроется в течение жизни.
Ей стало ясно, что все произошедшее с ней является всего лишь ключом к сложнейшей структуре человеческих взаимоотношений и что ни из чего нельзя делать однозначных выводов, потому что каждый человек может быть одновременно очень плохим и очень хорошим. Вот, например, Гурам…
Гурам ехал на своей красной «копейке». Ничего не подозревая. Он насвистывал какую-то дурацкую, привязавшуюся с самого утра мелодию, и настроение его было безоблачным и приятным, когда вдруг из подъезда дома на проспекте Руставели выскочила девица и с лету бухнулась ему под колеса.
Гурам был опытным водителем, и поэтому удар получился несильным, но тем не менее Гурам подумал, что это конец.
Как это ни было странно, но в этот момент он думал не о конце девчонки, а о собственном конце, потому что за руль он сел в легком подпитии.
К счастью, на улице никого не было. Гурам вышел из машины, воровато огляделся по сторонам и, убедившись, что свидетелей нет, подошел к жертве происшествия.
Галя лежала на асфальте почти голая. Непроизвольно Гурам отметил сияющую белизну кожи и нежнейшую линию груди.
Он приложил два пальца к ее шее, нащупал тонкую жилку — пульс бился ровно.
«Слава богу, — подумал Гурам. — Ничего страшного, скорее всего, просто шок».
Он аккуратно поднял Галю на руки, отнес в машину и уложил на заднее сиденье.
Гурам был очень приличным человеком и никогда никому не причинил зла, но сейчас мысли в его голове, сами по себе, как будто без его участия, двигались в преступном направлении.
«Правильным было бы отвезти ее в больницу, — думал он, — чтобы проверить, нет ли переломов, разрывов внутренних органов. Но в больнице коллеги начнут задавать ненужные вопросы, потом обнаружится на машине вмятина, в общем, не отвертишься».
Гурам был хирургом. И как раз ехал домой после удачной операции, а тут надо же — такая превратность судьбы! Только что там, на операционном столе, спас человека, а здесь чуть не убил.
Галя тихо застонала.
«Ладно, — решил Гурам, — отвезу ее на квартиру к матери. Мать у родственников в горах, квартира пустует. Сам обследую, сам выхожу, а если, не дай бог что, в больницу никогда не поздно».
После тщательного осмотра Гурам пришел к выводу, что девица — целехонька, только испытала сильнейший шок.
— Найти бы этого мерзавца, из-за которого она на такую глупость решилась, своими бы руками задушил!
Гурам позвонил жене, сообщил, что ему придется какое-то время пожить у матери, и попросил принести еды.
Жена ни о чем не спрашивала. Надо так надо.
Она твердо усвоила одно правило — меньше знаешь, крепче спишь. Ее силы уходили на воспитание детей, а на измены мужа сил не оставалось.
На следующий день Гурам позвонил на работу и сказался больным. Жене объяснил все как есть и, как вещественное доказательство, предъявил пациентку, которая лежала в бреду.
— Ты мне помоги, Нино! — попросил он.
Увидев полудохлую девицу, Нино несказанно обрадовалась.
«Такая никак не может быть соперницей», — подумала она и ошиблась, потому что Гурам с первого же мгновения, еще когда увидел ее полуобнаженное тело на черном асфальте, почувствовал, как в груди его образовывается большая пустота, готовая впустить в себя новое чувство.
Гурам был романтиком, его не интересовали случайные связи. Если он увлекался, то это было всерьез и надолго.
И единственным непреложным правилом во всех его романах было одно: семья — это святое!
И Нино, зная об этом, была относительно спокойна.
Чем дольше Гурам ухаживал за своей подопечной, тем сильнее проникался к ней трогательным нежным чувством. И Галя задолго до того, как окончательно пришла в себя, стала испытывать нечто вроде доверия к окружавшему ее пространству.
Оно было живым и теплым, это пространство, и ей хотелось лежать и лежать в нем, как в колыбели, и чувствовать вокруг себя чье-то очень заботливое присутствие.
Когда Галя впервые за долгое время открыла глаза и увидела лицо Гурама, оно показалось ей совершенно родным, как лицо человека, которого знаешь всю жизнь.
— Ну наконец-то… — произнес Гурам и стал щупать пульс на ее запястье.
— Где я? — поинтересовалась Галя.
— Слава богу, не на небе, — пошутил Гурам. — Вы у меня дома, меня зовут Гурам, и под моей машиной вы пытались покончить со своей жизнью. Почему?
Ответу на этот вопрос Галя посвятила последующие несколько дней.
Гурам заботливо слушал, держа в крепких руках хирурга ее слабую ладошку, и эта слабость, эта беззащитность разливались томящим чувством вокруг его сердца.
Галя была такой хрупкой, такой невесомой! И он уже знал все изгибы ее полудетского тела.
Тем временем Галя быстро шла на поправку, и вот однажды, почувствовав себя достаточно окрепшей, она встала и удалилась в ванную комнату.
Она отсутствовала долго, так долго, что Гурам начал нервничать.
Он несколько раз постучал в дверь, чтобы узнать, все ли в порядке. На что Галя отвечала мелодичным пением и плеском воды. Наконец дверь отворилась, и из клубов пара к нему навстречу шагнуло что-то божественное, что-то немыслимое, что-то такое, отчего Гурам разом лишился рассудка.
На Гале была надета мужская рубаха, которая доставала ей почти до колен; пушистые светлые волосы обрамляли до прозрачности нежное лицо, губы приоткрывались в заманчивой улыбке.
— Богиня! — прошептал Гурам и бухнулся на колени. — Всю жизнь на руках носить буду! Никому, никому не отдам!
Какой смысл вкладывал Гурам в эти слова? Скорее всего, никакого. Он был попросту потрясен красотой момента.
Но в Галином сознании отпечаталось каждое слово, каждый звук. Она поняла эту фразу буквально — на всю жизнь! И ее душа, так долго ожидавшая любви, тихо и доверчиво поплыла к нему в руки.
Страсть Гурама была поистине африканской. Он кормил Галю виноградом, аккуратно каждую ягодку закладывая ей в рот, и движения ее губ, округлые и неторопливые, приводили его в неистовое состояние, он рвал на ней рубашки одну за другой, одну за другой, пока рубашки не закончились, и Галя уселась пришивать на них пуговицы, чтобы продлить удовольствие возлюбленному.
Про свое удовольствие она не думала, потому что никакого удовольствия не испытывала.
В любви Гурам был чрезмерно тороплив и ненасытен.
Его возбуждения хватало ровно на одну минуту, зато, сделав короткий перерыв, он быстро воспламенялся вновь, и Галя, не имевшая никакого другого опыта, думала, что так и должно быть. Правда, представить себе, что это продлится всю жизнь, она не могла и не хотела.
«Наверное, он когда-нибудь успокоится, — думала Галя, — главное, что он меня любит, а это и есть счастье».
Счастье было прервано внезапным появлением Нино.
Она никогда бы себе не позволила вот так бесцеремонно вторгнуться в интимную жизнь мужа, если бы не получила известие о том, что мать Гурама тяжело заболела. Теперь срочно требовалась его помощь, а он, как назло, отключил телефон.
Нино приехала на квартиру, где Гурам как раз закладывал очередную виноградинку в рот Гали, и позвонила.
Гурам был так сосредоточен на своих ощущениях, что даже не услышал звонка.
— Звонят в дверь! — попыталась пробудить его внимание Галя.
Но Гурама как раз в этот момент накрыла волна страсти.
— К черту! — махнул он рукой. — Не буду открывать.
Нино, стоя под дверью, прислушалась. Не услышав ничего, она подумала, что муж куда-то ушел, и решила оставить на столе записку, а заодно посмотреть, что с телефоном.
Она открыла своим ключом дверь, прошла на кухню, написала записку и хотела уже уйти, но подумала, что на кухне Гурам записку, скорее всего, не увидит, нужно оставить ее на обеденном столе в комнате.
По пути в комнату Нино сняла в коридоре телефонную трубку и послушала тишину.
— Странно… — пробормотала она и тут услышала из комнаты какой-то странный звук.
Звук походил на рычание дикого животного.
Нино в ужасе замерла, прижимая к себе записку.
Звук усиливался по нарастающей, Нино, преодолевая страх, подошла к комнате и открыла дверь.
Картина, которая предстала ее взору, была страшнее всего, что Нино приходилось видеть когда-либо в жизни.
На старинной пружинистой кровати матери с силой раскачивался ее муж. Это он издавал такие страшные звуки.
Сначала Нино решила, что Гурам сошел с ума, потому что он походил на обезьяну, которая старается раздербанить сетку кровати, но потом она заметила, что между сеткой и ее мужем находится что-то еще. Сделав пару шагов, она разглядела женщину, вдавленную тяжестью мужского тела в кровать так, что ее почти не было видно.
Нино знала, что муж ей изменяет, но никогда, даже в кошмарном сне, она не могла вообразить, что это выглядит так безобразно!
— Боже мой! — прошептала Нино по-грузински и увидела, как движения мужа замедлились, он перестал скакать, и только пружины все еще покачивали его вверх-вниз, вверх-вниз, и из подушек выглядывало удивленное лицо девочки, которая попала к нему под машину.
Спина Гурама напряглась, он резко обернулся и встретился с полными ужаса глазами Нино.
— Вот, я хотела передать тебе записку… — пролепетала Нино.
Гурам вскочил на ноги, натянул на себя простыню и быстро заговорил по-грузински.
Нино пятилась к двери, а Гурам наступал на нее, продолжая говорить.
Галя, лежа на кровати, ничего не могла понять.
Почему он так страшно кричит на эту бедную женщину? И кто она? Почему открыла своим ключом квартиру? Может быть, соседка? Как неудобно получилось, пожилой человек… И застала нас в таком виде. Но почему же он ее не выпускает, почему пытается обнять?
Гурам действительно пытался заключить Нино в объятия.
Нино обиженно уворачивалась и все норовила выбежать в дверь, но Гурам преграждал ей путь к отступлению.
До Гали постепенно начинал доходить смысл происходящего. А когда Гурам бухнулся перед Нино на колени и в отчаянии прижался лицом к ее ногам, то сомнений никаких не осталось.
— Это твоя жена? — спросила Галя, поражаясь собственному спокойствию.
— Да, девушка, я его жена! — гордо выпалила Нино. — Мать троих его детей. И вы бы постыдились. С женатым мужчиной…
— Мне нечего стыдиться, — возразила Галя, — это пускай ваш муж стыдится, что обманул меня. Я не знала, что он женат. Он сказал, что будет любить меня всю жизнь, и я ему поверила.
— Гурам, ты ей действительно так сказал? — воскликнула Нино.
Гурам безмолвствовал.
— Пусти, пусти меня! — закричала Нино.
Она вырвалась из рук мужа, ринулась в коридор, по пути обо что-то споткнулась, упала. С трудом поднялась на ноги и, сильно хромая, вышла за дверь. Гурам продолжал стоять на коленях.
— Что ты наделала… — наконец вымолвил он. — Теперь она от меня уйдет и детей заберет.
И почему-то в этот самый момент, именно в этот момент, Галя поняла, что стала взрослой, и ей стало нестерпимо жаль и этого Гурама, и его жену, и Нану с ее нелюбимым мужем.
И только себя она не жалела совсем, потому что вдруг почувствовала себя совершенно чужим человеком в этом запутанном мире выдуманных страстей — гостем, который запросто может повернуться и уйти в свободную, лишенную этих странных предрассудков жизнь.
А эти люди останутся здесь навсегда и будут продолжать терзать друг друга до тех пор, пока не состарятся.
Галя спокойно встала с кровати, надела очередную мужскую рубашку и, направляясь в ванную, попросила Гурама:
— Пожалуйста, включи телефон, мне нужно позвонить.
Выйдя из ванной, Галя набрала номер Наны. Нана подошла сразу, как будто все это время сидела у телефона и ждала Галиного звонка.
— Але, Галчонок, куда ты исчезла? — как ни в чем не бывало закричала Нана. — Мы здесь чуть с ума не сошли от страха! В розыск тебя объявили!
В другой раз Галя бы обязательно задала вопрос, о чем же вы думали, когда выставили меня за дверь в разорванной одежде, без копейки денег и без документов, но сейчас ей не хотелось к этому возвращаться. А хотелось как можно скорее оставить это все в прошлом, выбраться из этого города и больше никогда об этом не думать.
— Пожалуйста, забери меня отсюда, — попросила Галя. — Я бы доехала сама, но у меня нет одежды. И, пожалуйста, собери все мои вещи и документы не забудь, я хочу сегодня же уехать в Москву.
Провожали Галю всем миром.
На вокзал поехали Нана, Дото, Гия, Гурам, и все они, как ни в чем не бывало, подносили чемоданы, совали в руки цветы, пакеты со всякой снедью.
Никто не извинялся, не просил прощения, как будто все происшедшее было обычным, житейским делом.
Может быть, оно и было житейским делом для них, но Галя больше не поддавалась обаянию момента. Она уже провела черту, и там, за пределами этой черты, все было ненастоящее.
И поэтому, когда поезд тронулся, Галя попросту задернула занавеску. Нет, это была не ее жизнь.
В глубине души
В приемной Marienhospital скопилось большое количество народу. Дело было в канун Рождества, и на лицах людей, ожидавших приема, постепенно появлялось выражение безнадежности. Прошло уже несколько часов, а дежурный врач еще ни разу не появился. На все вопросы ответ был один — доктор занят. Сам факт, что праздничный вечер придется провести в унылых коридорах больницы, интересовал не многих. Преобладающее большинство посетителей были люди других вероисповеданий, для которых Рождество было обычным, ничем не примечательным днем. Но почему-то именно эти люди проявляли больше всего беспокойства. Сильно ругался и сверкал темными глазами пожилой турок. Речи его понять никто не мог, но жестикуляция была достаточно выразительна. Он привел в больницу тщательно упакованную во всю необходимую атрибутику жену. Та затравленно выглядывала из своих платков и прижимала к носу пакетик со льдом. Судя по тому, что из-под пакетика по лицу расплывался большой фиолетовый синяк, нос был сломан, и она чувствовала себя виноватой. Другая арабская семья явилась всем кланом. Беременная женщина с целой оравой неугомонных детей, муж и еще двое каких-то мужчин. Все они громко переговаривались, и только женщина с красивым бледным лицом сидела тихо и задумчиво смотрела на свой живот. Были здесь и беженцы с африканского континента. Ожидание казалось для них делом совершенно естественным. Они жили вне времени и в каждой жизненной ситуации устраивались так, как если бы это было навсегда. Их лица были безмятежны, они улыбались. И рядом с этим монументальным спокойствием чем-то диким казалась русская женщина, которая, громко рыдая, пыталась ровно усадить на стуле своего пьяного мужа. А тот расслабленно улыбался и все норовил свалиться на пол. И все на ту сторону, где у него было явно что-то не в порядке. Видимо, он где-то упал, и теперь рука болталась совершенно произвольно, не соображаясь с движениями туловища.
Вся эта компания составляла серьезный противовес небольшой кучке немцев, которые со смиренным спокойствием наблюдали за всем происходящим. Они старались оставаться демократами, но В ГЛУБИНЕ ДУШИ…
Монотонность ожидания была прервана шумом, который зародился где-то в начале коридора, а потом, стремительно разрастаясь, стал приближаться. Пока наконец все присутствующие не увидели санитаров «скорой помощи», которые катили перед собой коляску с сидящей в ней сияющей старухой. На ее лице виднелись кровоподтеки, аккуратно уложенная прическа растрепалась, и теперь волосы свисали вдоль лица унылыми прядями. И все же улыбка пергаментными брызгами разлеталась ото рта к глазам. Старуха въехала на своей коляске в приемное отделение победоносно, как на колеснице, и выражение лица ее говорило о том, что большего счастья в этот праздничный день с ней никак не могло случиться. И озирая присутствующих, она всех как будто приглашала разделить с ней эту радость.
— Notfall, Notfall[1], — покатилось по коридору. Как по волшебству, закрытые двери стационара на мгновение распахнулись и, поглотив старуху вместе с санитарами, тут же замкнулись, теперь уже наглухо.
Ждущие очереди почувствовали себя одураченными и загомонили все разом, но не зло, а как-то задорно. Улыбка старухи оставила на лице каждого из них свой сияющий след.
Неприятность застала фрау Райнхард врасплох. Она как раз спускалась со второго этажа своего маленького домика, чтобы посмотреть, как чувствует себя праздничное жаркое. И надо же такому случиться, чтобы в этот момент ее любимая кошка Матильда выскочила из своего убежища и метнулась прямо ей под ноги! Не успела фрау Райнхард сообразить, что произошло, как оказалась на полу.
Боль она почувствовала не сразу и даже сумела сделать пару шагов до дивана, где и свалилась, сраженная внезапным прострелом в бедре. Жаловаться было бессмысленно, потому что рядом никого не было. Да и кто бы мог быть? Вот уже больше двадцати лет на Рождество и другие праздники фрау Райнхард оставалась одна. Впрочем, одна она оставалась не только по праздникам, но и весь круглый год, давно к этому привыкнув, и только в первый Advent[2] в ее душе открывалась большая темная воронка, в которой таким непостижимым образом исчезало все, что когда-то составляло ее жизнь. Это тоскливое чувство возникало всякий раз, когда она начинала готовить тесто для Plätzchen[3]: фрау Райнхард была большой мастерицей печь эти игрушечные печенья, которые требовали от хозяйки большого терпения и буквально ювелирной точности. Она с удовольствием растапливала масло, при помощи венчика размешивала в нем сахар, разбивала яйца, отделяла желтки от белка — и все эти монотонные, отработанные годами движения как будто возвращали ее туда, к истокам, где жизнь наносила свои первые узоры на поверхность судьбы.
До того злополучного дня, когда арестовали отца, судьба Лизхен (так звали в детстве Элизабет Райнхард) была самой обыкновенной. То есть она ничем не отличалась от судеб других девочек, рожденных за пару лет до начала Второй мировой войны в одном из затаенных уголков Шварцвальда. Здесь каждый день походил один на другой, и никто не роптал на однообразие такого существования. Люди с их заботами, тревогами и радостями знали друг друга с рождения и до самой смерти. И эта застывшая картина бытия была так патриархальна, что походила на опрокинутый мир, застывший отражением в озере, раскинувшемся у подножия горы. Там отражались Kirche[4], построенная на самой верхушке холма, маленькие домики на скалах, парившие над миром в каком-то сказочном оцепенении, горбатые узкие улочки, старинный колодец на крошечной площади перед расписной ратушей. Все это Лизхен как будто привнесла в мир вместе со своим рождением и чувствовала себя неотъемлемой частью сельского сообщества, в котором веками люди не делились на плохих и хороших, а жили как единый организм, в котором каждый орган незаменим и поэтому очень важен. Ее мировоззрение складывалось из мелочей: из звона колокольчика, которым оглашала деревенские улицы молочница, когда разносила парное молоко, из блеянья козы, из смены красок природы. Но углубленное, пристальное внимание к таким, казалось бы, незначительным явлениям создавало в душе Лизхен неповторимый, свойственный ей одной мир. Этот мир был гармоничен с природой, с людьми, с животными. И от этого Лизхен всегда улыбалась расслабленной задумчивой улыбкой.
Эта улыбка вызывала протест у жителей селения, на лицах которых лежала печать суровости жизни и окружающей среды, что, по их мнению, гораздо лучше сочеталось с вековой традицией местности. Лизхен знала, что соседи считают ее странной, знала и не обижалась, потому что считала всех людей прекрасными созданиями Божьими. Так учил ее отец — сельский пастор, и так воспринимала их она — маленькая девочка, никогда не ведавшая ничего дурного.
Лизхен не успела окончить школу, когда началась война. С этим событием жизнь деревни внешне практически не изменилась, но что-то покачнулось в привычном ходе вещей. Как будто из-под зыбкого строения кто-то вынул самый нижний кирпичик и все стены пошли враскачку. Общая картина стала распадаться на отдельные сегменты, и между людьми поселилось какое-то странное чувство отчужденности. Видимо, это происходило от того, что ситуация требовала определенного мнения от каждого. Внешне все люди единодушно выражали восторженную поддержку политике фюрера, но В ГЛУБИНЕ ДУШИ… Впрочем, в такие времена душа должна быть достаточно глубокой, чтобы суметь затолкать туда непрошеные сомнения.
Отец Лизхен был человеком упрямым и в своих убеждениях не допускал никаких компромиссов. На воскресных проповедях он открыто призывал людей опомниться. Указывал на то, что народ заменил Бога фюрером, и утверждал, что это приведет к крушению германской нации. Он проповедовал так до тех пор, пока Kirche не опустела окончательно и он не остался в храме один.
— Бог оставил этих людей, — сообщил он матери, придя домой, — я больше ничего не могу для них сделать.
Мать обняла мужа и заплакала. А к вечеру отца забрали, и больше Лизхен его никогда не видела.
И началась совсем другая жизнь. Жизнь ради жизни, единственной целью которой являлось самосохранение.
Лизхен едва исполнилось тринадцать лет, она еще не понимала всего происходящего, но, унаследовав от отца чуткое восприятие картины бытия, буквально кожей чувствовала, как отторгает ее та среда, в которую она гармонично вплеталась каждой клеточкой своего существа. Как неприветливы сделались соседи, как униженно и некрасиво стало поведение матери, и даже животные, казалось, отвернулись от нее. Перестала вилять хвостом соседская собака, а вместо этого, завидев Лизхен, скалила желтые зубы и утробно рычала. И гуси, важно поводя хвостами, переходили на другую сторону. Конечно, скорее всего, ей это только казалось, но Лизхен никак не могла справиться с чувством глубокой обиды на весь окружающий мир, и, чтобы не растерять эту свою обиду, она часто уходила к заброшенной водяной мельнице.
Когда-то, много веков назад, эта мельница стучала лопастями по волнам небольшой горной речушки. А потом река высохла, и мельница осталась умирать, всеми забытая и никому не нужная. И именно эта ненужность, это вековое одиночество влекло Лизхен к старой мельнице и к гроту, образовавшемуся под небольшим мостком, поросшим пушистым мхом. И здесь позже случилось событие, которое определило ее дальнейшую судьбу на много лет вперед.
В 1944 году, когда война уже клонилась к концу, Лизхен начала работать на почте. Каждое утро она забирала письма из почтового ящика, расположенного на стене ратуши, и шла восемь километров в соседний городок, где сдавала почту в управление, а с собой забирала все то, что предназначалось для соседей.
Убежище Лизхен как раз находилось по пути ее следования, и она каждый день делала там остановку, чтобы передохнуть и помечтать в уединении. И вот однажды, сама не зная как, она открыла сумку и стала разглядывать адреса на конвертах. В основном люди писали родственникам или на фронт, где находилось почти все мужское население деревни. Эти далекие полевые адреса будили в душе Лизхен тоску и бередили воображение, которое переносило ее туда, на далекие ледяные поля чужой страны, где гибли немецкие солдаты. Каждую неделю она держала в руках чью-нибудь смерть и, передавая сообщение о гибели родным, испытывала странное чувство вины, как будто была причастна к этому событию.
Лизхен перебирала конверты один за другим, один за другим, и вдруг ее взгляд наткнулся на непривычный адрес. Письмо направлялось в полицейское управление. Лизхен хорошо знала отправителя. Это был дядя Пауль, хромой крестьянин, который жил на самой окраине поселка. Он был человеком пьющим, и его жена тетя Хильде все время бегала по соседям и жаловалась на мужа. Их единственный сын погиб в первые дни войны, и с тех пор дядя Пауль совсем свихнулся, забросил хозяйство и пил не просыхая с утра и до вечера.
Какая сила заставила Лизхен распечатать конверт? Она никогда даже в мыслях не позволяла себе ничего подобного! Что толкнуло ее на должностное преступление, которое по законам военного времени могло стоить ей жизни? На все эти вопросы Лизхен не могла найти ответа до самой старости. Она действовала по наитию. Как будто чья-то непреклонная воля руководила ее движениями. Может быть, это был отец, чей дух охранял свою нерадивую паству оттуда, из неведомого далека? Одним словом, Лизхен аккуратно, не повредив конверта, достала листок серой дешевой бумаги, на которой корявым узловатым почерком был нацарапан донос. Лизхен читала и не верила своим глазам: дядя Пауль, который вырезал для детей фигурки из дерева, который так весело пел и приплясывал, когда выпьет, этот самый дядя Пауль доносил в полицейское управление о том, что в соседнем доме вдова Шонлебер прячет умственно отсталого сына Ганса, в то время как по новым законам рейха все эти идиоты должны подлежать уничтожению.
Ганс был любимцем всей деревни. Тихий и задумчивый, он сидел всегда на одном и том же месте, во дворе под орехом, и счастливо улыбался каждому. И люди, проходя мимо, тоже улыбались и думали, что в глазах этого больного мальчика затаилось какое-то глубокое понимание человеческой природы, доступное ему одному…
Лизхен несколько раз пробежала записку глазами, затем положила ее в конверт и, недолго думая, спрятала в своем гроте под большим плоским камнем.
С этого момента Лизхен каждый день, по пути в управление, останавливалась у старой мельницы и внимательно просматривала все письма. Если бы отец своим воспитанием не заложил в ней прочную основу, способную выдерживать серьезные испытания, не превращая душу в тлен, то Лизхен наверняка бы пала жертвой мизантропии. Картина, которая открылась ее подростковому сознанию, была ошеломляющей. Чуть ли не через день жители деревни писали доносы на своих соседей. Здесь были жалобы на неуплату налогов, на неблагожелательные высказывания в адрес властей, на симуляцию болезней для устранения от военной службы. Все эти письма, попади они в правильные руки, могли бы повлечь за собой самые серьезные последствия, и поэтому Лизхен хоронила их под камнем в гроте, не испытывая при этом ни малейших угрызений совести. Как это ни странно, но, познав все несовершенство человеческой натуры, Лизхен не озлобилась, а, напротив, примирилась со своей обидой. Теперь она видела своих односельчан как бы душевно оголенными, не защищенными телесной оболочкой от своей мрачной сути. И ей было нестерпимо жаль всех этих людей, мучающих друг друга и мучающихся самих. Весь год, вплоть до окончания войны, Лизхен спасала односельчан от самих себя. Под камнем образовалось уже целое кладбище конвертов, содержанием которых было взаимоуничтожение друг друга. Для чего люди делали это? Их же никто не заставлял! Никто не требовал от них такой животной покорности системе, особенно здесь, в глуши, где власти не имели такого пристального контроля над происходящим.
С этими вопросами Лизхен стремительно взрослела. Она хотела понять, почему темные, потаенные стороны человека обретают силу именно в такие тяжелые времена, когда вокруг столько горя и требуется сочувствие. Этот вопрос оставался открытым до самой ее старости. Иногда в течение жизни фрау Райнхард казалось, что она вот-вот разгадает эту загадку, но дверка, за которой таился ответ, захлопывалась, стоило подойти к ней на достаточно близкое расстояние. И фрау Райнхард опять, озираясь на свою жизнь, дивилась тому, как однообразно и непритязательно добро и как прихотливо и изобретательно зло.
Война закончилась как-то внезапно. Не то чтобы этого никто не предполагал. Конечно, все измучались и томительно ждали конца. Но когда конец настал, люди как-то растерялись. Как хромой, у которого внезапно выбили из рук костыли, они в недоумении оглядывались по сторонам, как бы вопрошая: а что же теперь делать? Как дальше жить?
С фронта возвращались домой искалеченные мужчины. Их было немного, большинство или погибло, или пропадало где-то в далеких сибирских лагерях. Но даже эти немногие сразу оживили атмосферу селения. Они привезли с собой рассказы о своих военных подвигах и поражениях, и теперь каждый вечер мужское население деревни встречалось за пивом, чтобы обсудить дела минувших дней. Женщины радостно обслуживали это небольшое сообщество, которое являлось для них неким проводником в мирную жизнь.
Жизнь действительно постепенно входила в обычную колею. Стали рождаться дети, и улицы поселка задвигались, зашумели, как когда-то давно, до войны. Лизхен по-прежнему работала на почте, но теперь она уже не читала адресов на конвертах. Доносы прекратились, и никто больше не тревожил старого камня, под которым была похоронена воспаленная войной человеческая совесть. И Лизхен не вспоминала об этом. Она хотела дальше жить среди этих людей, которые вдруг совершенно преобразились и вновь смотрели друг на друга с заботой и любовью. Как будто это не они уничтожили ее отца и чуть не уничтожили друг друга. Теперь семья Лизхен пользовалась поддержкой и неусыпным вниманием общины, без которых ей и ее больной матери было бы не выжить в голодные послевоенные годы. И это ценное, ничем не заменимое ощущение себя как части одного большого сообщества Лизхен никак не хотела терять.
Однажды, возвращаясь домой с работы, Лизхен встретила в лесу молодого мужчину. Он сидел на большой коряге, оставшейся от срубленного дерева, и, опустив ноги в ледяной ручей, улыбался. Выражением лица он походил на больного Ганса. Такая же блуждающая улыбка, предполагающая приятие мира без всяких условий, таким, какой он есть, и от этого гармонично преображающая мир. На эту улыбку Лизхен пошла, как идет на свет человек, привыкший к полумраку подземелья. Ни слова не говоря, она села рядом, сняла растоптанные сандалии и тоже опустила ноги в воду. Теперь они сидели вдвоем молча. Но это молчание не разделяло, а как будто объединяло их.
— Как тебя зовут? — спросил наконец мужчина.
— Элизабет, — ответила Лизхен и поняла, что впервые назвала себя полным именем.
— А… — ответил на это мужчина и сделал вялое движение ногой, отчего по воде побежала небольшая волна от него к ней.
— А вы откуда? — спросила Лизхен, удивляясь собственной смелости. — Я вас здесь раньше никогда не встречала.
— Я недавно вернулся из плена. — Мужчина повернулся вполоборота, и Лизхен увидела, что у него по локоть нет одной руки. — Так обидно, — продолжал он, — на фронте целый остался, а в лагере пилой повредил, и вот… — Он скосил глаза на обрубок.
Лизхен отсутствие руки нисколько не смутило. Она чувствовала, как с появлением этого человека в ее душе зазвучала какая-то новая, совсем незнакомая нота. Как будто кто-то невидимый тихо насвистывал что-то на свирели. По выражению лица своего нового знакомого она видела, что и он прислушивается к этой волнующей, как будто объединяющей их мелодии, и поэтому было не важно, что и как он говорит, есть ли у него руки, ноги и насколько хороша Лизхен. Он слышал музыку ее души.
В деревню они вернулись вместе. Одной рукой Элизабет держала его за единственную руку, а в другой несла почти пустой чемодан. Больше они не расставались.
Хорст Райнхард был человеком добрым и совершенно безвольным. То ли война отняла у него желание к волевым поступкам, то ли природа наделила слишком мягким характером — трудно сказать, но, женившись на Элизабет, он самозабвенно отдался на ее милость. И милости этой не было конца. Элизабет любила своего мужа не той любовью, которой любили мужей деревенские женщины, слегка язвительной, примиренческой — мол, что с него возьмешь, мужчина… Элизабет любила Хорста любовью сострадательной. Каждый раз, когда Хорст рассказывал о своем житье в окопах, Элизабет плакала, и ему это нравилось. Вскоре у них родился сын, которого нарекли Рудольфом. На крестинах Хорст сильно выпил и, обнимая всех подряд, произносил одну и ту же фразу:
— Ну надо же! У такого обрубка, как я, сын родился целенький!
Казалось, что это открытие ошарашило его совершенно.
— А что же ты, чудак, думал, что ребенок тоже безруким родится, что ли? — подтрунивали односельчане.
Хорст так не думал, он просто не знал, как скрыть глубокое душевное потрясение, которое вызвало появление на свет сына. Он, человек, в течение пяти лет видевший, как люди убивают друг друга, вдруг понял, кого они убивали. Они убивали вот этих самых младенцев! Ведь каждый, каждый из них лежал когда-то вот так, на руках матери, и доверчиво улыбался миру, даже не подозревая, на что способны эти самые милые люди, так ласково улыбающиеся, глядя на него, и на что будет способен он сам. И поэтому Хорст приставал к соседям со своими глупыми восклицаниями. Он попросту боялся разрыдаться на глазах у всего мира. Элизабет видела и понимала, что с мужем творится что-то неладное, она чувствовала каждое движение его души и сопереживала каждой его мысли. Он был ей так же дорог, как только что родившийся сын, и так же, как ребенка, она готова была опекать и защищать его, взвалив на себя большую часть обязанностей и ответственности за их общую жизнь. Хорст нежился в этом семейном гнезде, думая, что судьба его теперь предрешена и что именно эта предрешенность делает ее такой прекрасной. Ни он, ни его жена не могли предположить, каким жутким отголоском прозвучит еще раз война в их жизни. А произошло следующее.
В начале пятидесятых местные власти задумали провести новую дорогу, чтобы облегчить сообщение между деревней и районным центром. Все радовались этому событию несказанно, потому что эта дорога должна была сократить путь на несколько километров, что в условиях гористой местности, где движение всегда затруднено, немаловажно. По этому поводу даже устроили Srassenfest[5], где городская администрация заявила, что желающие принять участие в строительстве могут получить подряд и неплохо заработать.
На предложение откликнулись почти все. Денег на жизнь не хватало. Предполагаемая магистраль как раз проходила через то место, где располагалась старая мельница. Узнав, что достопримечательность придется снести, сельчане на мгновение погрустнели, а потом дружно взялись за работу. Строили быстро и аккуратно, как подобает немецкому характеру. И вот строительные работы подошли к мельнице, которая стояла, торжественно замерев в своем вековом безмолвии, и никто не решался двинуться с места, чтобы ее снести. Эта мельница являлась живым свидетелем былых времен, и, уничтожив ее, как будто уничтожали связь поколений. Это был редкий момент коллективного прозрения, когда люди вдруг понимают свою глубинную суть и предназначение в этом мире. Молчание затянулось и дошло до такой точки, когда нужен был взрыв, чтобы разрядить ситуацию. Тут вышел вперед молодой рабочий из пришлых, один из тех новых людей, у которых нет почвенной связи с местом. На плече он нес тяжелый молот, который легко придерживал своей мускулистой рукой.
— Ну, что уставились? — хохотнул он, воинственно приподнимая зловещее орудие. — Мы сейчас эту рухлядь в один момент разнесем! — И, размахнувшись, треснул со всей силы по зеленой от вековой сырости лопасти.
Мельница издала человеческий вздох и стала разваливаться. Она действительно прогнила до самого основания, и было просто удивительно, как она не рухнула до сих пор. Это был просто контур, наполненный временем. К вечеру от мельницы и мостика не осталось и следа, и утомленные работники уселись отдыхать в небольшом гроте, который обнаружили под разрушенным мостком. Настроение было благостное. Мужчины разложили прямо на земле салфетки и выкладывали у кого что было, устраивая совместную трапезу. Некоторые принесли с собой пиво и теперь, блаженствуя в вечернем уюте леса, отдыхали, как умеют отдыхать только немцы, с сознанием хорошо выполненного долга.
Вскоре к мужьям подтянулись жены, и началось веселье. Кто-то достал губную гармонику, и люди даже пытались приплясывать под ее незатейливую мелодию. Вечер уже клонился к закату, но было еще по-летнему светло. Птицы восторженно вторили звукам гармоники, и воздух распирало от каких-то волшебных запахов, когда этой безмятежной радости жизни внезапно пришел конец. Молодой рабочий, тот, который развалил мельницу, вдруг встал с камня, на котором сидел, и, схватив его двумя руками, вознес над головой. Было это провидением судьбы или просто проявлением избытка молодецкой силы — трудно сказать. Но пока парень стоял в этой исполинской позе, все присутствующие обратили свои взоры на то место, где только что находился камень. Там, в углублении, лежали совершенно целые, даже ненамокшие, сероватые конверты военных времен. О том, что это были конверты именно тех лет, свидетельствовали плохое качество бумаги и марки, уже давно вышедшие из оборота, на большей части которых красовалась физиономия Гитлера.
Вид кладбища писем вызвал у присутствующих тревожное чувство, какое появляется, когда человек откапывает затаившееся в земле взрывное устройство. Сельчане недоуменно переглядывались, как бы спрашивая друг друга: не опасно ли это? А парень все стоял с камнем над головой, как-то по-идиотски улыбаясь собственной молодости и удали. Наконец силы его закончились, камень с грохотом полетел в ущелье. И тут парень увидел, куда устремлены все взгляды.
— Что это? — с любопытством произнес он и протянул руку к конвертам.
— Не тронь, — предупредил его строгий голос.
И парень тут же послушался, отступил. По глазам присутствующих было видно, что каждый думает о чем-то своем и усердно избегает взгляда соседа.
Молчание прервал Хорст. Работать на строительстве он не мог в силу своего увечья, а пришел вместе с женщинами, чтобы поболтать с односельчанами.
— Давайте закопаем все это в землю, не читая, — предложил он, — или сожжем. — Мало ли что там, в этих письмах! Зачем ворошить былое?
Все головы повернулись в его сторону, и на лицах было одинаковое выражение. Так смотрят на чужого, который лезет не в свое дело.
Хорст встал со своего места.
— Засиделся я тут, — смущенно произнес он, — жена ждет.
Хорст ушел, ушли и Wanderarbeiter[6], которым в принципе ни до чего не было дела. Они ни к чему не прирастали душой, а все шли и шли дальше, от стройки к стройке, чтобы не умереть с голоду. В лесу остались только коренные жители деревни, которые помнили друг друга еще той глубинной памятью предков и этой памятью были связаны неразрывными узами. И только оставшись наедине, они стали один за другим подходить к углублению в гроте и вынимать оттуда письма.
Читали молча, не поднимая глаз, и каждый думал, зачем они не послушали Хорста, зачем не закопали письма или не сожгли их. Да, лучше было сжечь, чтобы следа не осталось от тех страшных трансформаций, которым подвергается человеческая душа во времена, когда зло становится правомерным и закон находит оправдание самым чудовищным поступкам. Ведь и вправду они были всего лишь жертвами этого самого закона. Что же делать, если время требовало от них бдительности?
Они старались так думать, но В ГЛУБИНЕ ДУШИ все эти аргументы как-то не работали перед свидетельством очевидной человеческой подлости. И люди, читая доносы свои и своих соседей, почему-то вспоминали проповеди отца Лизхен, который так горячо призывал их не забывать своего человеческого предназначения, а именно способности к милосердию и снисхождению по отношению к своим собратьям. Читали долго, пока не стемнело, потом, ни слова не говоря, сложили конверты в сумки из-под еды и отправились по домам.
Событие это имело какое-то замедленное зловещее действие. Сначала все попытались жить так, как будто ничего не случилось. Люди все так же дружно ходили на строительство магистрали, все так же вместе вечеряли на природе и очень старались сохранить общий многовековой строй жизни. Но что-то разладилось в этом едином механизме. Как будто в многоголосье прозвучала одна фальшивая нота, которая безнадежно все портила. Еще несколько лет сельчане старательно умалчивали тот факт, что попросту перестали любить друг друга. Пропало доверие, то самое чувство, которое совершенно необходимо для такого тесного сосуществования. Это ядовитое облачко всеобщей настороженности проникало в семьи, которые складывались из детей доносчиков и их жертв, в школу, где ученики делились на плохих и хороших по тому же принципу. В общем, в сердце каждого сельчанина застряла заноза, которую непременно нужно было извлечь, чтобы община не развалилась, как старая мельница.
Стали искать занозу, и это сразу почувствовали на себе Элизабет и ее семья. Жители селения стали обходить их дом стороной. Элизабет пыталась уладить недоразумение. Она ходила из дома в дом, объясняла соседям, что тогда, во время войны, ею руководили только добрые побуждения. Что нужно забыть об этих доносах как о простой человеческой слабости, которую можно понять в условиях войны. Соседи, каждый в отдельности, выслушивали объяснения, согласно кивали, но глаза прятали, как будто чувствовали себя провинившимися. А когда Элизабет выходила за дверь, ощущала, как за ее спиной смыкается воздух, образуя непреодолимое препятствие между ней и всей общиной.
Казалось, что Хорст относится к происходящему безучастно. Ему уже давно никто не подавал руки, а здоровались молчаливым кивком. С женой он об этом не говорил, и она боялась потерять уважение к единственному близкому человеку.
«Бесхарактерный», — думала она. А может быть, еще хуже? Может быть, он ее осуждает?
И как же раскаивалась она позже в этих своих мыслях!
Однажды, когда односельчане в конце недели собрались в только что открывшемся кабачке, Хорст тщательно оделся и, ни слова не говоря жене, куда-то ушел.
— Ты куда? — еще успела спросить Элизабет.
Но он не ответил, а только молча закрыл за собой дверь. Элизабет не знала, что думать. Она увидала на лице мужа новое, незнакомое ей выражение. Так смотрит человек, который принял какое-то тяжкое решение.
Поразмыслив некоторое время, Элизабет накинула пальто и побежала вслед за мужем. Она обнаружила Хорста в кабачке. Он сидел, как изгой, за отдельным столом и в упор смотрел на односельчан, которые пили пиво за общим столом и как-то нарочито веселились. Сквозь это веселье проглядывала явная неловкость. Время от времени то один, то другой бросали недобрые взгляды на Хорста, и взгляды эти должны были говорить: «Ну, что ты, не понимаешь? Люди отдыхают, а ты все портишь! Уйди!»
Но Хорст никуда уходить не собирался. Он пришел, чтобы получить ответ, и теперь своим молчаливым присутствием готовил соседей к объяснению. Его лицо было сосредоточенно, как у человека, в глубине души которого залегла какая-то очень важная мысль, которая ждет своего часа, чтобы прозвучать в полный голос.
Элизабет притаилась в прихожей, за занавеской. Она не хотела обнаруживать своего присутствия, чтобы не смущать мужа. Отсюда ей хорошо были видны его глаза, в которых появилось какое-то твердое, непримиримое выражение, и Элизабет чувствовала, что сейчас произойдет что-то важное, решающее, что-то такое, что навсегда определит ее отношение к мужу. Чувствовали это и гости. Это было заметно по тому, как все чаще они, переговариваясь, поглядывали на Хорста и как громко и неестественно звучал их смех. Все чего-то ждали.
Наконец один из соседей не выдержал. Прихватив с собой полную кружку пива, он подошел к Хорсту и, снисходительно похлопав его по плечу, молча поставил кружку перед ним. Так выносят объедки собаке, которая истосковалась перед дверью, ожидая хозяина. И этот унизительный жест великодушия преобразил Хорста совершенно. Элизабет даже тихонько ахнула в своем убежище. Таким она своего мужа никогда не видела. «Должно быть, вот так идут в атаку, — подумала она, — когда на тебя направлены пулеметы и нужно собрать всю волю, чтобы подняться, не струсить». Хорст стоял посредине зала — какой-то непропорционально огромный. Волосы его растрепались, глаза выкатились из орбит, и единственная рука сжалась в кулак. В помещении воцарилась мгновенная тишина. Все замерли в ожидании гневной речи, исполненной горьких обвинений. Люди к этому были готовы. Они множество раз проговаривали между собой аргументы, которые мгновенно должны были поставить бунтаря на место. Но Хорст речей произносить не умел. Он был не говорлив. С минуту он стоял в этой угрожающей позе, а потом, взяв преподнесенную ему кружку, подошел к Stammtisch[7] и, глядя в глаза сразу всем присутствующим, громко произнес:
Видимо, он хотел стукнуть по столу кружкой, но не смог, а просто поставил ее на край и вышел. Он вышел, не заметив в прихожей жены, и очень быстро побежал в сторону дома. Если бы Хорст долго и убедительно взывал к совести односельчан, это не смогло бы произвести такого впечатления, как короткое «Эх вы!», сказанное с такой энергией, что смысл, как пуля, пробил сердце каждого. Элизабет видела это из-за занавески. Она хорошо знала своих односельчан и умела читать в их душах. Их души дрогнули все разом. Люди поняли, что никогда не удастся им переложить собственную вину на кого бы то ни было. Поняли, но было поздно.
Для Элизабет и ее мужа теперь уже ничего нельзя было изменить. Из деревни нужно было уезжать.
Переезд в город Элизабет перенесла на удивление легко. Страх перед таким серьезным сломом жизни как-то растворился в хлопотах. Дом, в котором родились Элизабет, ее мать, дед, прадед и все предыдущие поколения, пришлось продать за бесценок. Посторонних покупателей не нашлось, а своим попросту нечем было платить. Элизабет знала, что уезжает навсегда, что больше никогда не приедет сюда, не увидит этих скал, водопадов, не услышит завороженной тишины леса, не почувствует запаха лугов. Но она не плакала. Все ее чувства как будто окаменели. Так бывает, когда человеку нужно совершить какой-то отчаянный шаг и, чтобы не умереть, он перестает чувствовать. При этом мысли в голове Элизабет оставались холодными и ясными, как звезды. Даже по прошествии многих лет она могла с невероятной точностью поминутно вспомнить каждый свой шаг, предшествовавший ее отъезду. Видимо, потому, что эти шаги были самыми решающими.
До сих пор жизнь Элизабет складывалась в предложенных обстоятельствах, то есть так, как если бы кто-то невидимой рукой набросал общий план, которому ей предстояло неуклонно следовать, и все. Личная инициатива была минимальной — от и до. И вдруг все изменилось; завершилось движение по проторенной дорожке, исчезли вехи, опознавательные столбы. И мир, в который вступала Элизабет, казался безжизненным и пустым. Понадобилось много лет, прежде чем из этого хаоса стали проступать какие-то люди, улицы, в которых можно было найти отражение себя, а значит, полюбить их. Все эти годы Элизабет отчаянно пыталась найти отклик в большом безликом городе. Она устроилась на работу кассиршей в огромный супермаркет, где мимо нее бесконечным потоком шли люди. Элизабет не видела их лиц, а видела только руки, которые отсчитывали денежные купюры, совали в автомат пластиковые карты и исчезали навсегда, не оставляя никакого следа. И Элизабет казалось, что все они только притворяются людьми, так же, как парк за окном притворяется лесом, а городские голуби — птицами.
Шли годы. Хорст на работу так и не устроился. Как инвалид войны, он получал небольшое пособие, и это было его единственной лептой, которую он вносил в семейный бюджет. Элизабет относилась к бездействию мужа со смирением. Она любила его по-прежнему и понимала, что слишком много испытаний выпало на его долю. Хорст с ними попросту не справился. Он перенес ужас войны, лагерь, потерю руки, а предательство соседей, людей, с которыми делил хлеб, перенести не смог. Тогда, в кабачке, чтобы защитить жену, он собрал свои последние силы и сжег их в одно мгновение. Он перегорел, как электрическая лампочка, накалившаяся до крайнего предела, и теперь жил погасший и безразличный ко всему, даже к собственному сыну.
Между тем сын рос независимым и сильным. Он мало интересовался жизнью родителей. Вся его энергия была устремлена в будущее, туда, в отрыв от мутного времени, в котором протекала юность старшего поколения. Об этом времени он знал немногое: в школе подробности умалчивались. Но и этого немногого было достаточно, чтобы поглядывать на безрукого отца и изработавшуюся до одури мать сверху вниз. Он был чист и не имел никакого отношения к ошибкам родителей. Во всяком случае, ему очень хотелось так думать.
Однажды, незадолго до окончания школы, в классе появился новый учитель истории. Он был стар, согнут к земле и очень удручен жизнью. Своих учеников он не то чтобы не любил, а относился к ним с какой-то брезгливостью, как к существам, еще не доросшим до звания человека. Каким способом он добивался внимания гимназистов, было непонятно. Он на них даже не смотрел. Его голова свисала на тонкой шее так низко, что казалось, будто он носом упирается в стол. И говорил он этим же самым носом, как человек, страдающий хроническим насморком. Но была в нем какая-то внутренняя сила, что-то такое, что уводило внимание слушателей от внешних недостатков и заставляло сосредоточенно прислушиваться к каждому его слову.
Герр Трунк — это имя Элизабет запомнила на всю жизнь, потому что с появлением этого господина в гимназии в головы подростков вселилось беспокойство. Он первый в школе заговорил о преступлениях нацистов, о коллективной вине. И однажды Руди увидел у него на столе маленькую брошюру. Его внимание привлекла какая-то жуткая фотография на обложке. Дождавшись конца урока, Руди подошел к учителю и молча потянулся к книжке.
— Постой, — Герр Трунк положил свою руку на фотографию, — ты уверен, что хочешь знать всю правду?
— Уверен, — твердо произнес Рудольф.
— Хорошо, я дам тебе эту книгу, но, прочитав ее, ты поймешь, что твои родители и родители всех остальных учеников преступники. Сможешь ли ты с этим жить?
— Не знаю, — честно ответил Руди, — но я должен знать, что там написано.
— Хорошо, бери, — Герр Трунк протянул ему брошюру, — и знай, что я там был. Здесь нет ни одного слова выдумки. Они уничтожили всю мою семью, а я для чего-то остался жить. Наверное, для того, чтобы рассказать тебе об этом.
До глубокой ночи Руди сидел на скамейке в парке, рассматривал фотографии и читал комментарии к ним. Это были документальные свидетельства массовых уничтожений людей. От одной мысли, что его родители могли иметь к этому какое-то, пусть даже самое косвенное отношение, Руди почувствовал такое отвращение к своей семье, что даже мысль о том, чтобы жить с этими людьми под одной крышей, казалась ему чем-то чудовищным.
Разглядывая брошюру, Руди еще долго сидел в парке и не хотел возвращаться домой.
— Где бы он мог быть? — нервничала Элизабет, поминутно глядя на часы. — Уроки давно закончились!
— Оставь парня в покое, — советовал Хорст. — Ему восемнадцать лет! Я в его возрасте уже сидел в окопах.
Но Элизабет успокоиться не могла, она чувствовала, что произошло что-то неладное. Руди никогда не задерживался без предупреждения. Наконец входная дверь с грохотом распахнулась, и родители увидели сына. Он стоял в дверном проеме, освещенный тусклым светом лестничной лампы, и как будто не решался переступить порог.
— Что с тобой, сынок? — воскликнула Элизабет.
Что-то поразило ее в облике сына. Он походил на Хорста — когда в кабачке тот вышел за пределы своей сути и сгорел.
Рудольф поставил портфель у стены и, сделав над собой усилие, вошел в комнату. В руке он что-то держал. Элизабет и Хорст с затаенным страхом взирали на сына, который чеканным шагом подошел к столу и, с силой взмахнув рукой, шмякнул на скатерть какую-то растрепанную книжку.
— Что это? — произнес Руди с угрозой в голосе.
Если бы Элизабет и Хорст могли подготовиться к подобному объяснению, они бы нашли множество аргументов в свое оправдание. Но Руди атаковал их так неожиданно, что, увидев страшное свидетельство своего времени, Хорст не нашел ничего лучше, как сказать:
— Все это неправда, сынок! Это вражеская пропаганда!
Откуда в его голове так не ко времени возник этот плакатный аргумент времен Третьего рейха? Хорст никогда так не думал! Он хорошо знал цену всему, что тогда произошло. Его подвело неумение аргументировать, четко выражать свои мысли, и поэтому он высказал чужую мысль, которая оказалась роковой.
Все дальнейшее происходило как в кошмарном сне, когда человек понимает, что сейчас случится что-то ужасное, но, скованный рамками сновидения, не в силах ни на что повлиять. Так и Элизабет с Хорстом молча наблюдали за тем, как их единственный сын собирает в походную сумку вещи. Он делал это, не говоря ни слова. И только в конце, перед тем как выйти за дверь, он обернулся и произнес:
— Мы больше никогда не увидимся.
Потом дверь захлопнулась, и свет в сердце Элизабет погас.
Хорст сдался не сразу. Наоборот, он как будто снова воспрянул к жизни и теперь неустанно занимался поисками сына. Но следов Рудольфа нигде не было. Даже в школе никто не мог дать никаких сведений. Только несколько лет спустя от одного школьного приятеля сына Хорст узнал, что Руди тогда уехал в Америку, закончил там школу, поступил в университет и возвращаться не собирается. Это сообщение отняло у Хорста последнюю надежду, и он, не захотев дальше жить, умер от инсульта.
Потеряв мужа и сына, Элизабет осталась одна. И наступило безвременье. То есть дни проходили один за другим, не оставляя никакого следа. За днями проходили месяцы, годы, и фрау Райнхард не знала, чем пометить время, чтобы не упустить его окончательно. Все казалось однообразным, бессмысленным, и все же в ГЛУБИНЕ ДУШИ тлела крохотная, как горошина, надежда на то, что сын когда-нибудь поймет и простит ее и она еще сможет заключить его в свои объятия. И поэтому она тщательно готовилась к каждому Рождеству. Ей почему-то казалось, что именно в Рождество души людей тянутся к родным местам, что ее сын однажды не захочет преодолевать это притяжение, сядет в самолет и прилетит. Так и на этот раз: фрау Райнхард готовила ужин на двоих. Она даже купила подарки, которые так и остались лежать под елкой, обернутые в праздничную бумагу.
Но фрау Райнхард не жалела, что ей пришлось уехать из дома на «скорой помощи». И о переломе шейки бедра она тоже не жалела. Любому самообману рано или поздно приходит конец. Зато в больнице над ней склонялись заботливые лица, и всем было интересно, как она себя чувствует, нет ли жалоб, не затруднено ли дыхание. И от этой простой человеческой заботы у нее на сердце становилось легко. А утром, еще не совсем очнувшись от наркоза, она увидела рядом со своей кроватью сына.
Или ей это только показалось…
«…бездари — это благодатный материал. Они знают свое место и поэтому всегда готовы служить. А человек талантливый двигается как заяц, никогда не знаешь, куда вильнет…»
«…дни проходили один за другим, не оставляя никакого следа, и фрау Райнхард не знала, чем пометить время, чтобы не упустить его окончательно. Все казалось бессмысленным, и все же в ГЛУБИНЕ ДУШИ тлела крохотная, как горошина, надежда на то, что сын когда-нибудь поймет и простит ее и она еще сможет заключить его в свои объятия. И поэтому она тщательно готовилась к каждому Рождеству…»
«Это было красиво, жертвовать собой ради увядшей любви.
Друзьям тоже хотелось такого величия, но не хотелось во имя этого расставаться со своими милыми привычками, и поэтому благородство они откладывали на потом, на старость, когда все утрясется само собой и больше не захочется так жадно пожирать жизнь, а захочется, наоборот, созерцать и переосмысливать…»
«…вдруг через непроницаемую броню холодной сдержанности этой незнакомой женщины отец Михаил почувствовал биение горячего сердца. Сердца, неравнодушного к беде чужого ребенка. Он это почувствовал и понял — не надо пытаться руководить промыслом Божьим…»
Вплоть до окончания войны юная Лизхен, работавшая на почте, спасала односельчан от самих себя — уничтожала доносы. Кто-то жаловался на неуплату налогов, кто-то — на неблагожелательные высказывания в адрес властей. Дядя Пауль доносил полиции о том, что в соседнем доме вдова прячет умственно отсталого сына, хотя по законам рейха все идиоты должны подлежать уничтожению. Под мельницей образовалось целое кладбище конвертов. Для чего люди делали это? Никто не требовал такой животной покорности системе, особенно здесь, в глуши. Шли годы. Для строительства магистрали требовалось снести мельницу. Тут-то и открылось тайное кладбище…
В повести «В глубине души», как и в других повестях и рассказах Эры Ершовой, вошедших в книгу, исследуется человеческая душа. Автор поражается тому, как однообразно и непритязательно добро в человеке и как прихотливо и изобретательно зло.
Эра Ершова. Это имя запоминается сразу. Из-за необычности: в нем соединились История и Литература.
А потом — после знакомства с повестями и рассказами — это имя входит в сердце. Надолго. Может быть, навсегда. Проза Эры Ершовой воздает нам недостаток любви.
«Проза Эры Ершовой "слегка горчит" — так бывает, когда взгляд автора, исполненный любви к своим героям, в то же время точен и беспощаден. В его рассказах полотно жизни многослойно и прихотливо, юмор балансирует на грани сарказма, а динамичный сюжет венчают драматические и подчас неожиданные развязки. Классические истории "маленького человека" обретают в прозе Эры Ершовой новое дыхание, а блестящая психологическая разработка поступков и характеров героев не оставит равнодушным даже самого взыскательного читателя».
Виктория Платова
ISBN 978-5-699-99107-5
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Примечания
Notfall — несчастный случай (нем.).
Advent — одно из предрождественских воскресений (нем.).
Plätzchen — рождественское печенье (нем.).
Kirche — церковь (нем.).
Strassenfest — уличный праздник (нем.).
Wanderarbeiter — кочующие рабочие (нем.).
Собравшимся (нем.).

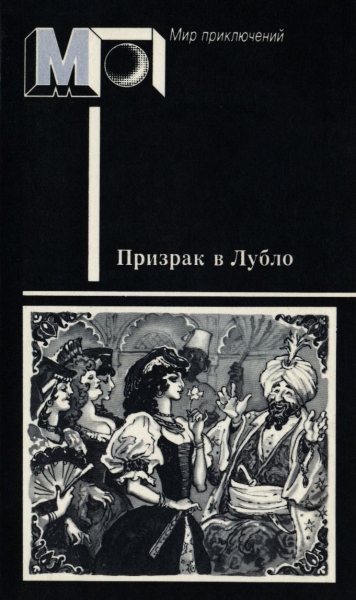



Комментарии к книге «В глубине души», Эра Ершова
Всего 0 комментариев