Эдуард Филатьев Тайна булгаковского «Мастера…»
Несколько слов автора ко второму изданию книги
В ноябре 1966 года мне предстояло лететь в командировку на Дальний Восток. Чтобы было, что почитать в дороге, купил только что вышедший одиннадцатый номер журнала «Москва». В нём была напечатана первая половина романа почти никому тогда не известного писателя Михаила Булгакова под ничего не говорившим названием «Мастер и Маргарита». Уже в самолёте начал читать.
Необычность сюжета, невероятная странность некоторых героев (Воланда и его свиты), неожиданность переноса времени повествования из первой половины двадцатого века в самое начало века первого, а также необыкновенное остроумие и мудрость автора романа ошеломили невероятно. Но сразу возникло множество вопросов, ответов на которые в атеистической стране победившего социализма найти было невозможно. Тем более мне, не только ни разу не читавшему тогда Библии, но и почти толком не знавшему её содержания. К тому же в журнале публиковалась сокращённая версия романа, и эта сокращённость ещё больше увеличивала количество непонятных (а потому весьма загадочных) мест булгаковского произведения.
Продолжения романа пришлось ждать довольно долго — журнал «Москва» напечатал вторую часть «Мастера и Маргариты» только в 1967 году (в февральском номере). Но и это чтение не уменьшило число загадок (а соответственно и вопросов), а лишь многократно увеличило их.
Годы спустя, когда роман Булгакова был, наконец, опубликован полностью, и удалось прочесть его заново, оказалось, что количество загадочных мест в нём не уменьшилось, а возросло. И начались раздумья. Очень хотелось не только понять, что именно хотел сказать своим читателям Михаил Булгаков, но чтобы эти объяснения были максимально логичными и обоснованными.
Вскоре стали публиковаться другие произведения Михаила Булгакова — его повести и пьесы. И в них тоже обнаруживалось немало мест, которые очень трудно было понять тем, кто жил в ту советскую эпоху.
Пришлось засесть в архивы и, изучая документы прошлого, попытаться понять, что же происходило в стране Советов с октября 1917 года (время большевистского переворота) по март 1940‑го (время кончины Михаила Афанасьевича Булгакова).
Исторические факты, а также самые разнообразные приметы времени, зафиксированные в книгах и газетах советской поры и в многочисленных святых фолиантах, помогли разгадать многие загадки булгаковских произведений. Передо мной стала разворачиваться совсем иная картина. За героями Булгакова начали неожиданно проступать совсем другие (реальные) прототипы и события, отчего произведения великого Мастера приобрели новый смысл.
Удалось ли раскрыть всё, что так аккуратно и тщательно зашифровывал сам Мастер, угадывать не берусь, потому что сам Михаил Афанасьевич в своём романе воскликнул:
«Ах, дорого бы я дал, чтобы проникнуть в его тайну…»
Эта фраза так и просилась в эпиграф книги. И она туда попала.
В 2011 году эта книга впервые увидела свет. За прошедшие годы она, как мне кажется, не потеряла актуальности, и я рад представить на суд читателей её второе, дополненное, издание.
Эдуард Филатьев
24 июня 2017 года
Небольшой пролог
«Ах, дорого бы я дал, чтобы проникнуть в его тайну…»
Это был невероятный обмен! На грани откровенного и весьма ловкого шулерства! И на него нельзя было не обратить внимания!
Тем более что сообщала об этой фантасмагорической денежной операции одна из самых популярных и солидных газет середины шестидесятых годов прошлого столетия — «Литературная». В одном из её номеров на последней странице — среди юморесок, дружеских шаржей, пародий и прикольных афоризмов — был напечатан небольшой рассказ. В нём‑то и описывалась история о том, как некий Андрей Фокич Соков, буфетчик из театра Варьете, пришёл на квартиру к заезжему магу‑иллюзионисту с неожиданной просьбой: обменять пачку резаной бумаги на настоящие денежные купюры.
Рассказ был забавный, местами довольно смешной, а его герои при всей их невероятной странности казались выхваченными из повседневной жизни. И было жаль, что повествование обрывалось на самом интересном месте. Впрочем, газета тут же разъясняла, что опубликовала всего лишь главу из романа, который очень скоро будет напечатан в одном из московских журналов.
В конце 1966 года обещанное произведение начали публиковать в журнале «Москва».
Так состоялось знакомство читателей Советского Союза (а ещё чуть позднее — и всего мира) с почти забытым к тому времени писателем Михаилом Афанасьевичем Булгаковым и с его созданным на закате жизни романом «Мастер и Маргарита».
Время шло, круг булгаковских почитателей стремительно расширялся. Уже на Западе «Мастера…» уважительно провозгласили «романом‑откровением», «выдающимся романом века», «последним явлением великой русской литературы». И вдруг…
Совершенно неожиданно у нас в стране отдельные читатели начали вдруг, смущаясь, признаваться, что сумели понять в «Мастере и Маргарите» далеко не всё. Мало этого, стали высказываться предположения, что чуть ли не в каждой строке романа упрятан какой‑то иной (тайный) смысл, а в самом тексте таится тщательно зашифрованный подтекст.
Посыпались недоумённые вопросы:
— Кто они, собственно, такие — эти неведомо откуда взявшиеся черти с непривычно замысловатыми фамилиями и кличками: Воланд, Коровьев, Бегемот, Азазелло?
— Для чего так внезапно объявились они в Москве?
— Были ли у них, равно как и у остальных действующих лиц всей этой фантасмагории: Берлиоза, Лиходеева, Римского, Варенухи, барона Майгеля, мадам де Фужере и так далее — реальные прототипы?..
Ответы на эти и многие другие аналогичные вопросы попытались дать критики‑литературоведы — в многочисленных диссертациях, статьях, брошюрах и книгах. Однако орешек оказался слишком крепким — сходу разгадать загадку «Мастера и Маргариты» не удалось. И тогда его торжественно нарекли «непривычным по форме и по смыслу произведением», созданным «изощрённо‑сказочной фантазией» и «парадоксальной выдумкой» талантливого писателя. Именно так и сказано в книге маститого литературоведа А.З. Вулиса «Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита».
Другой толкователь смысла булгаковского творчества, А.Н. Барков, как бы подводя некий предварительный итог поисково‑исследовательским усилиям, недавно написал: «Вот уже тридцать лет литературоведы всего мира бьются над „расшифровкой“ содержания „закатного „романа Михаила Афанасьевича Булгакова».
В числе отгадывателей «мастер‑и‑маргаритовских» тайн оказался и автор этих строк, три с половиной десятилетия ломавший голову над загадками, которые не дают покоя многим. И вот однажды, листая подшивки газет 20‑х годов ХХ‑го столетия, он вдруг почувствовал… Нет, ему неожиданно показалось, что перед ним промелькнул след долгожданной отгадки. Дело в том, что…
Но не будем опережать события. Скажем лишь, что случайно обнаруженный след привёл автора этих строк не только к более глубокому пониманию тайного смысла «Мастера и Маргариты», но и помог ему немного приоткрыть завесу, сотканную из загадок и недосказанностей, которая окутывает и другие произведения замечательного русского писателя. При этом оказалось, что таинственные «зигзаги» творчества Михаила Булгакова довольно точно повторяют все «изгибы» его жизненного пути…
И вот тут‑то внезапно выяснилось, что под найденными «следами» находятся совершенно другие «следы», которые не только ведут совсем в другую сторону, но которые…
Впрочем, стоп! Расскажем всё по порядку. Используя при этом любопытную методику, очень помогающую вести подобные «расследования». Честь её открытия принадлежит…
В книге «Жена и муза», посвящённой творчеству Александра Сергеевича Пушкина, её автор поэтесса Лариса Васильева предложила литературоведам новый способ исследования или даже некий новый инструмент — пушкиночувствование». Эта метода, с точки зрения самой Ларисы Николаевны, абсолютно иррациональна, а потому и антинаучна, поскольку «претендует не столько на в дение, сколько на понимание, ощущение, догадку и, конечно, предчувствие». И, тем не менее, способ этот оказался увлекательным и весьма плодотворным.
Давайте же с его помощью — с помощью «булгакочувствования» — попытаемся отгадать загадки булгаковского мастерства (хотя бы какую‑то часть из них) и раскрыть тайны его гениального «Мастера…». Поэтому, как любил повторять сам Михаил Афанасьевич, вперёд, читатель! Или, точнее, назад — в самый конец девятнадцатого столетия, в те времена, когда все эти «загадки» и «тайны» ещё только‑только зарождались.
Часть первая Восхождение на Олимп
Глава первая Становление личности
Роковая наследственность
Любую биографию написать непросто. Это хорошо понимал и Михаил Булгаков, заметив в «Театральном романе»:
«Удивительно устроена человеческая память. Ведь вот, кажется, и недавно всё было, а между тем восстановить события стройно и последовательно нет никакой возможности. Выпали звенья из цепи! Кой‑что вспоминаешь, прямо так и загорится перед глазами, а прочее раскрошилось, рассыпалось и только одна труха и какой‑то дождик в памяти».
И всё же попробуем «восстановить». По возможности «стройно и последовательно».
А начнём с утверждения, что жизнь непродолжительная (да ещё и с драматичным финалом) была уготована Михаилу Булгакову задолго до его рождения. На первый взгляд подобное заявление кажется надуманным. Но, рассмотрев его со всех сторон самым тщательнейшим образом, приходишь к выводу, что не так уж оно и фантастично.
Попытаемся разбираться.
Как известно, родился Михаил Афанасьевич в последнем десятилетии XIX века в Киеве. Оба деда будущего писателя (как с материнской стороны, так и с отцовской) были православными священниками. Мать, Варвара Михайловна Покровская, до замужества учительствовала на Орловщине. Отец, Афанасий Иванович Булгаков, закончил Киевскую духовную Академию, а затем стал преподавать в ней.
В 1890 году 31‑летний Афанасий Булгаков и Варвара Покровская, 21 года, обвенчались. 3 (по новому стилю — 15) мая 1891 года у них родился сын, которого при крещении (18 мая) нарекли Михаилом — в честь архангела хранителя города Киева.
Духовное или «именное» наследство, которое, едва появившись на свет, получил маленький Миша, было весьма любопытным. Имя «Михаил» в переводе означает «подобный Богу». Отчество «Афанасьевич» образовано от имени «Афанасий», которое переводится как «бессмертный». Фамилия Булгаков происходит от тюркского слова «булгак», что означает «баламут», «наводящий беспорядок, смуту».
Иными словами, маленький киевлянин явился на свет сыном «бессмертного» отца. С самого крещения малыша «уподобили Богу». И всю жизнь ему предстояло носить фамилию, которая досталась его семье от какого‑то дальнего предка, любившего «смущать» и «баламутить» окружающих.
К началу XX века у супругов Булгаковых было уже семеро детей. Семья жила дружно и гостеприимно. Подрастающее поколение воспитывалось в духе здорового консерватизма, то есть в категорическом неприятии любых потрясений, способных поколебать устои общества. Видимо поэтому гимназист Миша Булгаков, с удовольствием участвуя во всех драках, затевавшихся сверстниками, решительно сторонился любых шумных сборищ и сомнительных компаний. Стоит ли удивляться, что первую русскую революцию 1905 года булгаковское семейство не приняло самым решительным образом.
В 1906‑ом Афанасий Иванович и Варвара Михайловна решили переехать в более просторную квартиру. Подходящий вариант нашли в доме на Андреевском спуске Киева:
«… двухэтажный домик изумительной постройки с уютной квартирой на втором этаже», —
так двадцать лет спустя о нём будет сказано в романе «Белая гвардия».
Стали готовиться к новоселью — к событию, как известно, светлому и радостному. Однако на этот раз оно оказалось окрашенным в тревожно‑мистические тона. Всё дело в том, что порядковый номер у выбранного дома был тринадцатый.
Наверняка кто‑то из сослуживцев Афанасия Ивановича пытался отговорить его от столь опрометчивого шага, советуя бежать без оглядки от «нехорошего» адреса. Слишком уж дурной славой пользовалось дьявольское число тринадцать, прозванное в народе «чёртовой дюжиной». И от переезда в дом с таким бесовским номером можно было ожидать самых всевозможных и совершенно невероятных неприятностей.
Но А.И. Булгаков был человеком образованным (владел, кстати, несколькими иностранными языками), к суевериям относился с иронической улыбкой, и потому к предостережениям коллег не прислушался.
Вскоре в доме № 13 шумно и весело отпраздновали новоселье. А ещё через некоторое время совершенно неожиданно…
Да, не успели новосёлы освоиться в новой квартире, как в дом со злосчастным номером прокралась беда: внезапно заболел глава семейства. Всё началось с необъяснимой слабости, которая стала вдруг одолевать Афанасия Ивановича. К загадочным симптомам поначалу отнеслись спокойно: мало ли бывает в жизни недомоганий. Но когда к концу лета резко ухудшилось зрение, пришлось обратиться к окулистам.
Однако лечение не помогло: больной продолжал стремительно слепнуть.
Вскоре выяснилось, что нелады со зрением — всего лишь следствие гораздо более серьёзного недуга: наследственной болезни почек. Перед нею тогдашняя медицина была бессильна.
Жизнь тем временем шла своим чередом. В декабре 1906 года Афанасий Булгаков стал доктором богословия, в феврале 1907‑го — ординарным профессором, получил чин статского советника. Судьба, казалось, спешила отнестись к нему со всей своей благосклонностью. Но воспользоваться этими запоздалыми наградами было, увы, не суждено.
Вся семья была в шоке, когда узнала, что её глава обречён, что у него та же самая болезнь, что свела в могилу Петра Первого, Мольера и сотни тысяч других землян.
Старший сын Афанасия Ивановича, Михаил, скорее всего, отнёсся к пророчествам эскулапов с недоверием.
Почему он должен потерять отца? И какого отца! Энциклопедиста, полиглота, необыкновенной души человека, тактичнейшего наставника‑воспитателя. Сколько интереснейших бесед провёл он с Михаилом! В том числе и на религиозные темы. А сколько ещё собирался рассказать…
Сын, конечно же, бросился к отцу, чтобы тот опроверг известие, ошеломившее своим ужасом…
Успели ли они толком переговорить, неизвестно. Судя по тем косвенным сведениям, что дошли до наших дней, обстоятельного разговора, скорее всего, не получилось: Афанасию Ивановичу стало совсем плохо, с каждым днём он чувствовал себя хуже и хуже.
Всю свою дальнейшую жизнь Михаил Булгаков горевал по поводу того, что он что‑то не договорил с отцом в те горестные мартовские дни…
Было ещё одно тревожное обстоятельство. Врачи, лечившие отца, и его старшему сыну напророчили ту же участь: заболеть в 48 лет и скончаться на больничной койке. С тех пор до конца дней своих Михаил Булгаков будет панически бояться оказаться пациентом больницы.
Вполне возможно, что перед самой своей смертью Афанасий Булгаков всё же успел передать сыну свой отцовский наказ: постараться не передать грядущим поколениям ту страшную болезнь, которая досталась их семье по наследству от предков.
9 марта 1907 года профессор Булгаков написал прошение об увольнении его из Академии по состоянию здоровья. А через пять дней, 14 марта, «бессмертный» Афанасий скончался. Не дожив чуть больше месяца до своего 48‑летия.
Юный Миша Булгаков наглядно убедился в том, с какой убийственной точностью сбываются мрачные предсказания врачей. Он ясно представил себе, как однажды у него внезапно ухудшится зрение, затем возникнет скоротечная болезнь, которая завершится мучительной смертью. Вычислить роковую дату было совсем нетрудно. Отец родился 17 апреля 1859 года, значит, до своего 48‑летия он не дожил ровно 33 дня. Стало быть, того, кто появился на свет 3 мая 1891‑го, смерть должна поджидать 31 марта 1939 года. «31» — это «13» наоборот, а «39» — три раза по «13».
Семья Булгаковых в трауре по А.И.Булгакову. 1907 г. Сидят на полу: Лёля, Ваня; второй ряд: Варя, Варвара Михайловна с Колей и Надя; стоят: Миша и Вера
Кто знает, не тогда ли в голове гимназиста Булгакова впервые появились мысли о дьяволе и о его злобных каверзных проделках?
В этом месте нашего рассказа убеждённые материалисты наверняка могут саркастически усмехнуться. Любая попытка связать чью‑либо судьбу с влиянием на человеческую жизнь каких бы то ни было «роковых» чисел кажется им наивной и нелепой.
Что ж, материализм — понятие серьёзное, спорить с ним совершенно бессмысленно. Но не будем забывать, что Булгаковы были людьми глубоко верующими. Глава семейства «сгорел» буквально на глазах родных и близких, и произошло это именно после переезда в дом с «нехорошим» номером. Вот почему та мистическая аура, которая окружает «чёрную дюжину», не только всю жизнь тревожила и без того суеверного Михаила Булгакова, но и оставила след в его творчестве.
Вспомним хотя бы обречённый дом, погибший в огне внезапного пожара (в рассказе «№ 13 — дом Эльпитрабкоммуна»).
Или историю безнадёжно больного доктора‑наркомана, который кончает жизнь самоубийством именно 13 февраля в рассказе «Морфий».
В повести «Собачье сердце» крах великой России, по мнению профессора Преображенского, начался с кражи калош, оставленных в парадном подъезде калабуховского дома. И произошло это варварское событие 13 апреля.
А в «Мастере и Маргарите» поэт Бездомный бросается искать загадочного «консультанта» в доме № 13. А глава, в которой впервые появляется главный герой романа, мастер, тоже 13‑я по счёту.
Но вернёмся к 16‑летнему гимназисту Мише Булгакову. Знание точной даты своего ухода из жизни, вне всяких сомнений, должно было навеять на него глубокую печаль. Однако молодость — пора оптимизма. Для юного человека отрезок времени длиною в целых 32 года кажется бесконечно длинным. А коварная болезнь с летальным исходом, затаившаяся где‑то в конце жизненного пути, совсем не страшит.
К тому же в жизни, как известно, мрачные и светлые полосы постоянно чередуются, и в один прекрасный день к осиротевшему юноше суровая повседневность повернулась самой ослепительно‑волнительной своей стороной.
Знакомство с жизнью
Наступило лето 1908 года. Революционное возбуждение, охватывавшее молодых людей в 1905‑ом, давно уже схлынуло, сменившись здравой рассудительностью и деловитым спокойствием. Лишь очень немногие продолжали играть в противостояние с властью.
Среди этих немногочисленных сорвиголов был и будущий «поэт Октября» Владимир Маяковский. Летом 1908‑го он уже состоял членом запрещённой в России партии — РСДРП, бросил гимназию, имел за плечами один арест, одну «сидку» в Московской полицейской части и страстно мечтал стать профессиональным революционером, защитником интересов простого народа.
Другой поэт, которому чуть позднее тоже предстояло воспеть революцию, Александр Блок, в том же 1908 году высказал пророческую мысль:
«Бросаясь к народу, мы бросаемся прямо под ноги бешеной тройке, на верную гибель».
Михаил Булгаков русский народ любил, самодержавие уважал и к любой революционной деятельности (по давней традиции булгаковской семьи) относился с глубоким неодобрением. Летом 1908 года у него были самые обычные каникулы, и он отдыхал.
Гимназист Михаил Булгаков. Киев, 1908 г.
Судьбе было угодно, чтобы в тот же отрезок времени в Киев приехала гимназистка Татьяна Лаппа, дочь управляющего саратовской Казённой палатой. Приехала на каникулы — погостить у бабушки и тётки, родной сестры отца. Тётушка эта была в дружеских отношениях с матерью Михаила Булгакова.
Много лет спустя повзрослевшая гимназистка вспоминала:
«Тётка сказала:
— Я познакомлю тебя с мальчиком. Он покажет тебе Киев».
Так пятнадцатилетняя волжанка Таня Лаппа встретилась с семнадцатилетним киевлянином Мишей Булгаковым. Свой родной город гостье из Саратова он, конечно же, показал. Во время этой прогулки выяснилось, что у молодых людей очень много общих интересов. Началась дружба, которая быстро переросла в романтичную юношескую влюблённость. Жизнь сразу приобрела новый смысл, загадочный и волнующий.
Через год Булгаков закончил гимназию. Аттестат зрелости украшали две отличные отметки: по закону божьему и географии. Знания по остальным предметам были оценены на «хорошо» и «удовлетворительно».
Встал вопрос о выборе дальнейшего пути.
Ещё совсем недавно Михаил мечтал о карьере оперного певца или (как бы на худой конец) модного писателя. Но жизнь внесла свои коррективы. Дети, на глазах которых от неизлечимой болезни умирает кто‑либо из близких, повзрослев, как правило, стараются стать врачами. Чтобы быть во всеоружии при возникновении любого недуга. Мать Михаила, Варвара Михайловна, к тому времени вторично вышла замуж за врача‑педиатра Ивана Павловича Воскресенского. Её родные братья тоже были врачами.
И Булгаков поступил на медицинский факультет Киевского Императорского университета имени Святого Владимира. Через двадцать с небольшим лет в романе «Жизнь господина де Мольера» он (явно исходя из собственного опыта) напишет:
«Я полагаю, что ни в каком учебном заведении образованным человеком стать нельзя. Но во всяком хорошо поставленном учебном заведении можно стать дисциплинированным человеком и приобрести навык, который пригодится в будущем, когда человек вне стен учебного заведения станет образовывать сам себя».
Поразительный факт — именно дисциплинированность в поведении студента‑первокурсника Булгакова как раз и отсутствовала. К учёбе он относился спустя рукава, часто пропускал занятия. Зато во встречах с саратовской гимназисткой, наполненных волшебством и восторгом, никаких пропусков не допускалось. В этом деле царило завидное постоянство: то она приезжала в Киев, то он наведывался в Саратов.
В 1911 году Татьяна Лаппа окончила гимназию и стала работать классной дамой в Саратовском женском училище.
Осенью 1912 года и зимой 1913‑го молодые люди почти не расставались. Занятия в университете были совершенно заброшены, на экзамены Булгаков не явился. Нерадивому студенту грозило отчисление, но этот прискорбный факт не очень волновал влюблённого юношу. Он с воодушевлением водил даму своего сердца на драматические спектакли, в оперу и на концерты. Всё остальное время проводил за игрой в карты и на бильярде. И ещё студент‑медик пробовал писать. Украдкой, никому не показывая написанное.
Весной 1913 года, когда полным ходом шли приготовления к свадьбе, неожиданно выяснилось, что невеста беременна. Жених с невестой решили, что заводить детей им не время — сначала Михаилу надо закончить университет. Но кто знает, может быть, на это решение повлияла боязнь передать следующим поколениям неизлечимую болезнь почек? Как бы там ни было, но деньги, присланные Николаем Николаевичем Лаппой, отцом Татьяны, на свадебные расходы, потратили на медицинское вмешательство.
Татьяна и Михаил обвенчались 26 апреля. А «26» — это два раза по «13».
— Как, опять? — с удивлением воскликнут убеждённые материалисты. — Снова про «чёртову дюжину»?
Да, и тут уж ничего не поделаешь. «Роковое» дьявольское число вновь вторглось в биографию нашего героя. И что бы ни говорили вокруг о том, что любые цифры, каждодневно встречающиеся на пути людей (пусть даже самые «нехорошие»), никак на их жизнь не влияют, суеверный Булгаков вряд ли прислушивался к подобным здравомыслящим суждениям.
Начались семейные будни. Жить молодые стали отдельно от родных, сняв небольшую квартирку в одном из домов на всё том же Андреевском спуске. А бесшабашного Булгакова, любителя карточной игры, бильярда и прочих развлечений, словно подменили: он наконец‑то взялся за учёбу.
Первые испытания
Лето 1914 года супруги проводили в Саратове. Там их и застало известие о начавшейся войне, которой суждено было войти в историю как первой мировой войне XX века. Если вспомнить о загадочных трёх сатанинских пророчествах, то это событие вполне можно считать первым сбывшимся.
На начало боевых действий мать Татьяны, Евгения Викторовна Лаппа, откликнулась весьма патриотично, оперативно организовав в Саратове небольшой госпиталь на полтора десятка коек. В нём до самого конца каникул и проработал, ухаживая за поступавшими с фронта ранеными, Михаил Булгаков.
Вернувшись к началу занятий в Киев, он узнал, что многие из его бывших однокурсников досрочно получили дипломы и отбыли в действующую армию. Ему же, отставшему от товарищей на год, предстояло ещё два университетских курса. И он с головой ушёл в учёбу.
В 1915‑ом Булгаков был признан «негодным для несения походной службы». Это означало, что на передовую его не пошлют, а в прифронтовой госпиталь мобилизовать могут.
Апрель 1916 года ознаменовался блестящим (с золотой медалью) окончанием университета. Это дало право её обладателю не раз впоследствии говорить, что он «лекарь с отличием».
В книгах, посвящённых Булгакову, почему‑то редко упоминается о том, какую врачебную специализацию получил он по окончании университета. А между тем «.лекарь с отличием» стал урологом‑венерологом, то есть в том числе и специалистом по тому самому заболеванию, что свело в могилу его отца.
Но войне, что разгорелась уже весьма основательно, требовались врачи совсем иного профиля. И доктор Булгаков пошёл работать хирургом в киевский госпиталь Красного Креста, который (вскоре после знаменитого Брусиловского прорыва) был переброшен поближе к зоне боевых действий наступавшей армии.
За мужем последовала и жена. Впоследствии она вспоминала:
«… в госпитале я работала сестрой, держала ноги, которые он ампутировал. Первый раз стало дурно, потом ничего… Он был там хирургом, всё время делал ампутации».
Работать в прифронтовой полосе пришлось недолго: в конце лета 1916‑го Булгакова неожиданно откомандировали в Смоленск. Там он получил назначение в больницу села Никольского. В одном из булгаковских рассказов даётся объяснение этой неожиданной перемене места службы: опытных врачей мобилизовывали в действующую армию, а на их места направили выпускников медицинских факультетов:
«Весь мой выпуск, не подлежащий призыву на войну (ратники 2‑го разряда выпуска 1916 года), разместили в земствах».
Смоленская глубинка встретила Булгакова не очень ласково. Об этом впоследствии он напишет в «Записках юного врача»:
«Если человек не ездил на лошадях по глухим просёлочным дорогам, то рассказывать мне ему об этом нечего: всё равно не поймёт. А тому, кто ездил, и напоминать не хочу.
Скажу коротко: сорок вёрст, отделяющих уездный город…
от… больницы, ехали мы с возницей моим ровно сутки».
Михаил Афанасьевич уже вполне освоился на новом месте, когда из Киева сообщили, что ему выписано свидетельство об окончании университета. Произошло это 31 октября 1916 года. Вновь перед нами типичная «дьявольская» отметина — число 31 (то есть 13 наоборот). Убеждённые материалисты имеют полное право на очередную ироническую усмешку.
Тем временем наступил год 1917‑ый. В мае месяце Булгакову предстояло отметить своё двадцатишестилетие — всё те же «два раза по 13». А тут ещё глушь сельская. Нелегко после шумной, переполненной людьми и событиями киевской жизни, после напряжённых месяцев, проведённых в прифронтовом госпитале, оказаться вдруг в тихой смоленской глубинке. Слишком большой был контраст. Любой почувствовал бы себя неуютно.
О том, что ощущал тогда Михаил Булгаков, довольно подробно описано в его рассказе «Морфий». Все события там разворачиваются в самом начале 1917 года.
«… 20 января.
…я очень рад. И слава Богу: чем глуше, тем лучше…
11 февраля.
Всё вьюги да вьюги… Заносит меня!.. С работой я свыкся. Она не так страшна, как я думал раньше. Впрочем, много помог мне госпиталь на войне. Всё‑таки не вовсе неграмотным я приехал сюда».
Да, он очень быстро освоился, втянулся в спокойный размеренный ритм сельской больницы, и его настроение изменилось. В том же рассказе «Морфий» сказано:
«Давно уже отмечено умными людьми, что счастье — как здоровье: когда оно налицо, его не замечаешь. Но когда пройдут годы — как вспоминаешь о счастье, о, как вспоминаешь!
Что касается меня, то я, как выяснилось это теперь, был счастлив в 1917 году, зимой. Незабываемый, вьюжный, стремительный год!»
Но именно в этом «вьюжном, стремительном» году и случились два «незабываемых» события, заметно повлиявших на дальнейшую судьбу доктора Булгакова.
В феврале он получил отпуск, и вместе с женой поехал к родственникам в Саратов. Туда и пришло сообщение о революции, которая смела самодержавие.
Это означало, что свершилось второе дьявольское пророчество.
Вскоре настал черёд и третьего сатанинского предсказания. Об этом Татьяна Николаевна рассказывала так:
«… отсасывая через трубку дифтеритные плёнки из горла больного ребёнка, Булгаков случайно инфицировался и вынужден был ввести себе противодифтеритную сыворотку. От сыворотки начался зуд, выступила сыпь, распухло лицо. От зуда и болей он не мог спать и попросил вспрыснуть ему морфий».
То, что случилось потом, — в описании самого Булгакова:
«Не могу не воздать хвалу тому, кто первый извлёк из маковых головок морфий. Истинный благодетель человечества. Боли прекратились через семь минут после укола».
(«Морфий»)
После первой инъекции Булгаков попросил сделать ему вторую. За второй последовала третья, затем — четвёртая…
«Лекарь с отличием» не мог не знать, какую опасность таит в себе эта «целебная» благодать, за «семь минут» избавляющая от любых страданий. Но, намаявшись от болей, зуда и бессонницы, он потерял самоконтроль.
Это была не первая встреча Михаила Булгакова с наркотиками. Ещё в 1913 году он предложил молодой жене поучаствовать в «эксперименте». Достав кокаин, сказал, что ему, как будущему врачу, необходимо знать, как человеческий организм реагирует на это зелье. Татьяна Николаевна вспоминала:
«Я по молодости лет, по глупости согласилась, вместо того, чтобы устроить скандал. Мы жили мирно, никогда сильно не ссорились, но тут я должна была проявить характер, а вместо этого сама попробовала наркотик, зная, какие от него бывают беды. После кокаина у меня возникло отвратительное чувство, тошнить стало. Спрашиваю у Миши:
— Ну, как ты?
— А я спать хочу, — неопределённо ответил он и уснул.
Утром я к нему снова бросилась с вопросом:
— Как ты себя чувствуешь?
— Да так себе, — отвечает он, — не совсем хорошо.
— Не понравилось?
— Нет, — говорит.
И тут я успокоилась, а зря».
В 1917‑ом последствия были намного серьёзнее. Хотя поначалу казалось, что ничего страшного не происходит, просто сновидения стали чуточку ярче. Вот как описаны они в рассказе «Морфий»:
«Таких снов на рассвете я ещё никогда не видел. Это двойные сны…
Причём основной из них, я бы сказал, стеклянный. Он прозрачен…
… сквозь переливающиеся краски… выступает совершенно реально край моего письменного стола, видный из двери кабинета, лампа, лоснящийся пол…
… будить меня не нужно… я всё слышу и могу разговаривать…
Вредны ли эти сны? О нет. После них я встаю сильным и бодрым. И работаю хорошо. У меня даже появился интерес, а раньше его не было…
А теперь я спокоен.
Я спокоен».
Свои ощущения заболевший доктор стал записывать в дневник:
«По сути дела, это не дневник, а история болезни, и у меня, очевидно, профессиональное тяготение к моему единственному другу в мире…»
Он ещё не знал, что уже попал в цепкие объятия наркотического пристрастия, и потому писал с надеждой:
«… morphium hidrochloricum грозная штука. Привычка к нему создаётся очень быстро. Но маленькая привычка ведь не есть морфинизм?..»
Однако очень скоро пришло осознание того, что жить без регулярных инъекций он уже не может. Впрочем, герой рассказа «Морфий» (в нём совсем нетрудно узнать самого Булгакова) продолжает хорохориться:
«… если бы я не был испорчен медицинским образованием, я бы сказал, что нормальный человек может работать только после укола морфием».
Но действие наркотика быстро заканчивалось, и тотчас возникала потребность в новых инъекциях. В конце концов, произошло то, что и должно было произойти: стойкое привыкание к коварному болеутоляющему средству. Доктор Булгаков стал морфинистом. В наши дни таких людей мы называем наркоманами.
Роковое пристрастие
Сколько раз жена просила, умоляла Булгакова взять себя в руки и постараться пересилить тягу к дурманящему зелью! Но он никого и ничего не желал слушать. Когда же не удавалось своевременно получать вожделенную дозу морфия, на него наваливался жуткий страх, и доктор‑морфинист приходил в ярость:
«… я впервые обнаружил в себе неприятную способность злиться и, главное, кричать на людей, когда я не прав».
Он пробовал заменить морфий кокаином, но с ужасом обнаружил, что…
«… кокаин в крови… это смесь дьявола с моей кровью… Кокаин — чёрт в склянке!».
Через десять лет Булгаков обратится к читателям с предупреждением («Морфий»):
«13 апреля.
Я — несчастный доктор…, заболевший… морфинизмом, предупреждаю всех, кому выпадет на долю такая же участь, как и мне, не пробовать заменить морфий кокаином. Кокаин — сквернейший и коварнейший яд…
Действие его таково:
При вспрыскивании одного шприца 2 %‑ного раствора почти мгновенно наступает состояние спокойствия, тотчас переходящее в восторг и блаженство. И это продолжается только одну, две минуты. И потом всё исчезает бесследно, как не было. Наступает боль, ужас, тьма».
Как‑то, воспользовавшись тем, что у Татьяны Николаевны возникли боли под ложечкой, он чуть ли не насильно вспрыснул ей порцию морфия — в надежде на то, что, став наркоманкой, она перестанет донимать его упрёками и лишать вожделенных доз наркотика, приносившего ему «восторг и блаженство». Булгаков знал, что Татьяна беременна, но это не остановило его. К тому же он боялся, что ребёнок у наркомана‑отца (предрасположенного к почечным болезням) родится больным, с двойной «нехорошей» наследственностью.
Операцию по прерыванию беременности врач‑морфинист провёл собственноручно.
В сентябре 1917 года его перевели в Вязьму — в городскую земскую больницу, где назначили заведующим инфекционным и венерическим отделениями. На изменения в своей жизни он отреагировал с равнодушным спокойствием («Морфий»):
«Надвигавшаяся вьюга подхватила меня, как клочок изорванной газеты, и перенесла с глухого участка в уездный город».
Радовала лишь печать, которую ему вручили. Она давала право заверять любой рецепт. Ведь тяга к наркотику всё усиливалась.
3 октября Михаил Афанасьевич написал письмо сестре Надежде. В нём — ни слова о морфинизме, зато есть одна загадочная фраза:
«Мне на этих днях до зарезу нужно было бы побывать в Москве по своим делам, но я не могу ни на минуту бросить работу…
Если удастся, я через месяц приблизительно постараюсь заехать на два дня в Москву, по более важным делам».
Надежда Афанасьевна Земская (Булгакова) впоследствии разъяснила, что её брат стремился в Москву с целью получить там освобождение от военной службы. По причине истощения нервной системы. Но…
30 октября той же Надежде было отправлено ещё одно письмо:
«Милая Надюша,
напиши, пожалуйста, что делается в Москве. Мы живём в полной неизвестности, вот уже четыре дня ниоткуда не получаем никаких известий.
Очень беспокоимся и состояние ужасное».
Причины для беспокойства были. Вот уже пять дней власть в стране находилась в руках большевиков, слухи об этом, видимо, дошли и до Вязьмы. Но нам в данном случае интереснее другое — то, что письмо это написано не Булгаковым, а его женой. Поэтому последние слова («состояние ужасное») вполне могут быть отнесены к самочувствию Михаила Афанасьевича. Позднее, в рассказе «Морфий», он признается:
«Не „тоскливое состояние“, а смерть медленно овладевает морфинистом, лишь только вы на час или два лишите его морфия. Воздух не сытный, его глотать нельзя… в теле нет клеточки, которая бы не жаждала… Чего? этого нельзя определить, ни объяснить. Словом, человека нет. Он выключен. Движется, тоскует, страдает труп. Он ничего не хочет, ни о чём не мыслит, кроме морфия. Морфия!
Смерть от жажды — райская, блаженная смерть по сравнению с жаждой морфия…
Смерть — сухая, медленная смерть…»
Став морфинистом, Булгаков весь ушёл в себя. Бурные революционные события клокотали где‑то «там», в туманной недосягаемой дали, он не обращал на них никакого внимания. И вряд ли больного вяземского доктора взволновали бы (даже если б он их и услышал) пророческие слова Александра Блока, сказанные поэтом 19 июня 1917 года:
«Я нисколько не удивлюсь, если (хотя и не очень скоро) народ, умный, спокойный и понимающий то, чего интеллигенции не понять, начнёт так же спокойно и величаво вешать и грабить интеллигенцию (для водворения порядка, для того, чтобы очистить от мусора мозг страны)».
Вряд ли были известны тогда Булгакову не менее пророческие строки поэтессы Зинаиды Гиппиус:
У доктора‑наркомана в тот момент была только одна святыня — вожделенный божественный морфий.
В декабре 1917 года он всё‑таки посетил Москву.
Ответ прочитывается в рассказе «Морфий». Его герой, доктор Поляков, именно в конце 1917 года едет в Москву и ложится в психиатрическую клинику — в отчаянной попытке выкарабкаться, порвать с морфинизмом. Но, так и не вылечившись, сбегает из больницы, после чего записывает в своём дневнике:
«Итак, после побега из Москвы из лечебницы… я вновь дома…
(Здесь страница вырвана.)
… вал эту страницу, чтоб никто не прочитал позорного описания того, как человек с дипломом бежал воровски и трусливо и крал свой собственный костюм…
Ах, мой друг, мой верный дневник. Ты ведь не выдашь меня? Дело не в костюме, а в том, что я в лечебнице украл морфий…
Меня интересует не только это, а ещё вот что. Ключ в шкафу торчал. Ну, а если бы его не было? Взломал бы я шкаф или нет? По совести?
Взломал бы».
Своему лечащему врачу («доктору N.») Поляков бойко заявил при встрече, что чувствует себя лучше и потому «решил вернуться к себе в глушь». И услышал в ответ:
«— Вы ничуть не чувствуете себя лучше. Мне, право, смешно, что вы говорите это мне. Ведь одного взгляда на ваши зрачки достаточно…»
Зрачки! Они выдают морфиниста с головой! Годы спустя в «Мастере и Маргарите» Булгаков обратится к читателям с признанием:
«Поймите, что язык может скрыть истину, а глаза — никогда! Вам задают внезапный вопрос, вы даже не вздрагиваете, в одну секунду вы овладеваете собой и знаете, что нужно сказать, чтобы укрыть истину, и весьма убедительно говорите, и ни одна складка на вашем лице не шевельнётся, но, увы, встревоженная вопросом истина со дна души на мгновение прыгнет в глаза, и всё кончено. Она замечена, и вы пойманы!»
31 декабря 1917 года Булгаков написал сестре Надежде очередное письмо. В нём — едва ощутимое, но всё‑таки подтверждение того, что в метаниях доктора Полякова отразились драматичные коллизии самого автора рассказа «Морфий»:
«В начале декабря я ездил в Москву по своим делам, и с чем приехал, с тем и уехал…»
Какие «свои дела» не получились у Булгакова? Не добился желаемой демобилизации или так и не вылечился в московской клинике?
Зато доподлинно известно, что из Москвы Михаил Афанасьевич направился в Саратов — навестить тестя и тёщу По пути окунулся в самую гущу набиравшего силу российского бунта, о чём не преминул упомянуть в том же письме от 31 декабря 1917 года:
«Придёт ли старое время?
Настоящее таково, что я стараюсь жить, не замечая его… не видеть, не слышать!..
Я видел, как серые толпы с гиканьем и гнусной руганью бьют стёкла в подъездах, видел, как бьют людей. Видел разрушенные и обгоревшие дома в Москве… Тупые и зверские лица… Видел толпы, которые осаждали подъезды захваченных и запертых банков, голодные хвосты у лавок, затравленных и жалких офицеров, видел газетные листки, где пишут, в сущности, об одном: о крови, которая льётся и на юге, и на западе, и на востоке, и о тюрьмах. Всё воочию видел и понял окончательно, что произошло».
В письме есть строчки, позволяющие представить, в каком ужасном состоянии находился тогда сам Михаил Булгаков:
«… вновь тяну лямку в Вязьме, вновь работаю в ненавистной мне атмосфере среди ненавистных мне людей. Моё окружение настолько мне противно, что я живу в полном одиночестве…»
Вот до чего уже дошло — он ненавидел всех и стремился к уединению. Очень похожая ситуация описана и в рассказе «Морфий»:
«Целыми вечерами я один, один. Зажигаю лампу и сижу. Днём‑то я ещё вижу людей. Но работаю механически…
… я один».
Но отсутствие общества Булгакова не тяготило. Он даже находил в этом положительные стороны:
«У морфиниста есть одно счастье, которое у него никто не может отнять, — способность проводить жизнь в полном одиночестве. А одиночество — это важные, значительные мысли, это созерцание, спокойствие, мудрость…
Мне ни до чего нет дела, мне ничего не нужно, и меня никуда не тянет».
Вся его жизнь теперь была разделена надвое: на те ужасные часы, когда по каким‑то причинам инъекции отсутствовали, и на сладостные мгновения блаженства, эйфории. Обратим внимание на это слово — блаженство. И запомним его. Оно ещё встретится на пути нашего героя.
В дневнике доктора Полякова (а по сути дела в записях самого Булгакова) под датой 17 января 1918 года идут такие слова:
«Я погиб, надежды нет.
Шорохов пугаюсь, люди мне ненавистны во время воздержания. Я их боюсь. Во время эйфории я их всех люблю, но предпочитаю одиночество».
О своей отрешённости, отстранённости от окружающих Михаил Афанасьевич сообщал (не раскрывая истинных, болезненных причин своего состояния) и сестре Надежде. Дочитаем фрагмент письма от 31 декабря 1917 года до конца:
«… я живу в полном одиночестве. Зато у меня есть широкое поле для размышлений. И я размышляю. Единственным моим утешением является работа и чтение по вечерам. Я с умилением читаю старых авторов… и упиваюсь картинками старого времени. Ах, отчего я опоздал родиться! Отчего не родился сто лет назад!».
Буквально теми же словами Булгаков начнёт и написанный чуть позднее рассказ «Необыкновенные приключения доктора»:
«За что ты гонишь меня, судьба? Почему я не родился сто лет тому назад? Или ещё лучше: через сто лет. А ещё лучше, если б я совсем не родился…».
В обоих отрывках (из письма и из рассказа) перед нами предстаёт человек, оказавшийся на грани полнейшего отчаяния. Энергично прогрессировавший морфинизм делал своё чёрное дело, и Булгаков периодически впадал в тяжелейшую душевную депрессию («Морфий»):
«… избегаю оперировать в те дни, когда у меня начинается неудержимая рвота с икотой…
Здешнему персоналу я сообщил, что я болен. Долго ломал голову, какую бы болезнь придумать. Сказал, что у меня ревматизм ног и тяжёлая неврастения».
Эти термины («ревматизм ног» и «неврастения»), придуманные для прикрытия истинного заболевания, нам тоже ещё встретятся. Запомним и их.
Однажды, когда жена отказалась идти в аптеку за очередной порцией наркотика, он запустил в неё горящим примусом.
Татьяна Николаевна вспоминала:
«В Вязьме нам дали комнату. Как только проснусь — „иди, ищи аптеку“. Я пошла, нашла аптеку, приношу ему. Кончилось это — опять надо. Очень быстро он его использовал. Ну, печать у него есть — „иди в другую аптеку, ищи“. И вот я в Вязьме там искала, где‑то на краю города ещё аптека какая‑то. Чуть ли не три часа ходила. А он прямо на улице стоит, меня ждёт. Он тогда такой страшный был… И одно меня просил: „Ты только не отдавай меня в больницу“.
Господи, сколько я его уговаривала, увещевала, развлекала… Хотела всё бросить и уехать. Но как посмотрю на него, какой он, — как же я его оставлю? Кому он нужен?
Да, это ужасная полоса была… Отчего мы и сбежали из земства… Он такой ужасный, такой, знаете, какой‑то жалкий был».
В феврале 1918‑го Булгакова наконец‑то освободили от воинской службы. Он получил документ, в котором говорилось, что причиной демобилизации стало «истощение нервной системы» («Морфий»):
«Внешний вид: худ, бледен восковой бледностью…
На предплечьях непрекращающиеся нарывы, то же на бёдрах.
Была… галлюцинация…
… лежу после припадка рвоты, слабый…»
В марте Михаил и Татьяна Булгаковы вернулись в Киев и поселились в родительском доме на Андреевском спуске. Демобилизованный военный доктор стал частным врачом‑венерологом, практикующим у себя на дому. Жена по‑прежнему активно помогала ему, выполняя обязанности медицинской сестры.
Литературовед Мариэтта Омаровна Чудакова несколько десятилетий тому назад создала уникальную книгу — «Жизнеописание Михаила Булгакова». Этот труд для всех булгаковедов является своеобразным «Евангелием», мы тоже будем постоянно обращаться к нему В «Жизнеописании…» приведено много воспоминаний Татьяны Николаевны Булгаковой. Её рассказы, касающиеся киевского периода, очень печальны:
«Когда мы приехали, он пластом лежал… И всё просил, умолял:
— Ты меня в больницу не отдавай!
— Какой же больницы он боялся?
— Психиатрической, наверно… Стал пить опий прямо из пузырька. Валерьянку пил. Когда нет морфия — глаза какие‑то белые, жалкий такой».
Больной всё чаще терял самообладание. В один из таких моментов (ему в очередной раз показалось, что жена не торопится идти в аптеку) он навёл на неё браунинг. К счастью, вбежали братья и отобрали оружие.
С маниакальной настойчивостью Булгаков требовал всё новых и новых инъекций. К тому же в Киеве в тот момент наркотические препараты продавали совершенно свободно — в любой аптеке и без рецепта.
Как‑то Татьяна Николаевны попробовала слукавить:
«Сказала однажды:
— Тебя уже на заметку взяли.
Тогда он испугался, но потом снова стал посылать».
В минуты просветления Михаил Афанасьевич продолжал делать записи о своём состоянии. Даже озаглавил их: «Недуг». Писал воспоминания о работе в селе Никольском: «Наброски земского врача». И по‑прежнему никому не показывал написанное. Даже жене.
Тем временем болезнь стремительно приближалась к трагической развязке. Герой рассказа «Морфий» панически вопрошает:
«Люди! Кто‑нибудь поможет мне?».
Спасти обречённого больного могло только чудо. И оно явилось к нему — в образе жены Татьяны («Жизнеописание Михаила Булгакова»):
«Ей он обязан был избавлением от болезни. Она стала обманывать его, впрыскивать дистиллированную воду вместо морфия, терпеть его упрёки, приступы депрессии. Постепенно произошло то, что бывает редко — полное отвыкание. Как врач, он, несомненно, хорошо понимал, что случившееся было почти чудом».
Рассказ об этом чудесном исцелении заставит, наверное, в очередной раз скептически усмехнуться не только убеждённых материалистов, но и всех, кто считает, что чудес на свете нет и быть не может. В самом деле, есть ли шансы у закоренелого наркомана, находящегося в последней стадии болезни, неожиданно излечиться? Да и возможно ли вообще с такой невероятной лёгкостью отвыкнуть от пристрастия к наркотику?
Конечно же, нет!
Обмануть матёрого морфиниста, вспрыскивая ему вместо наркотика привычной «крепости» дистиллированную воду, невозможно. Кстати, в рассказе «Морфий» как раз и описан случай, когда фельдшерица вколола доктору Полякову не «тот» раствор:
«… она сделала попытку (нелепую) подменить пятипроцентный двухпроцентным…
И из‑за этого у нас была тяжёлая ссора ночью».
Всего лишь два процента вместо вожделенных пяти получил морфинист, и тотчас заметил это, произошла «тяжёлая ссора». А как бы отреагировал он на замену пятипроцентного раствора дистиллированной водой?
Герой булгаковского рассказа видит только один способ избавиться от пристрастия к морфию — с помощью яда:
«Позорно было бы хоть минуту длить свою жизнь. Такую — нет, нельзя. Лекарство у меня под рукой. Как я раньше не догадался?
Ну‑с, приступаем. Я никому ничего не должен…»
И доктор Поляков кончает жизнь самоубийством.
Но так порвал с морфинизмом герой вымышленный. А как сумел освободиться от цепкой наркотической зависимости вполне реальный доктор Булгаков? Как удалось его жене в одиночку совершить то, с чем не смогли справиться даже в специализированной московской клинике?
В «Белой гвардии» завеса над этой тайной слегка приподнимается — в эпизоде, где описаны страдания раненого и заболевшего тифом Алексея Турбина. Врач, приглашённый к нему, заявил, что «надежды вовсе никакой нет и, значит, Турбин умирает». И тогда сестра его Елена, встав на колени перед иконой Богоматери, стала молиться:
«— На тебя одна надежда, пречистая дева. На тебя. Умоли сына своего, умоли Господа Бога, чтоб послал чудо…
Шёпот Елены стал страстным, она сбивалась в словах, но её речь была непрерывна, шла потоком. Она всё чаще припадала к полу, отмахивала головой, чтоб сбить назад выскочившую из‑под гребёнки прядь».
И то, на что так страстно надеялись, произошло.
«Второго февраля по турбинской квартире прошла чёрная фигура с обритой головой, прикрытой чёрной шёлковой шапочкой. Это был сам воскресший Турбин. Он резко изменился. На лице, у углов рта, по‑видимому, навсегда присохли две складки, цвет лица восковый, глаза запали в тенях и навсегда стали неулыбчивыми и мрачными».
Так в «Белой гвардии» описано то чудодейственное выздоровление. Без каких бы то ни было медицинских подробностей, один голый факт: была молитва, мольба о чуде. И чудо свершилось — герой воскрес. Но в виде совсем другого человека — у него появилась новая внешность, он стал походить на мастера из последнего булгаковского романа: мрачного, неулыбчивого, в чёрной шёлковой шапочке на голове…
Завершив написание эпизода об этом чудесном выздоровлении, Булгаков прочёл его жене. Татьяна Николаевна впоследствии вспоминала («Жизнеописание Михаила Булгакова»):
«Однажды он мне читал про эту… молитву Елены, после которой… кто‑то выздоравливает…
Я подумала: „Ведь эти люди всё‑таки были не такие тёмные, чтобы верить, что от этого выздоровеют “…
Я ему сказала: „Ну, зачем ты это пишешь?“ Он рассердился и сказал: „Ты просто дура, ничего не понимаешь“».
Татьяна Николаевна действительно не поняла тогда, что это её, жену‑спасительницу, вывел Булгаков в образе Елены.
Молилась ли она, прося дать мужу исцеление? Нам это неизвестно. Скорее всего, молилась. Уж очень безнадёжен был муж‑морфинист. И Булгаков это помнил.
В «Мастере и Маргарите» Булгаков как бы невзначай заметит:
«Ну, а колдовству, как известно, стоит только раз начаться, а там уж его ничем не остановишь».
Так что и нам теперь придётся смотреть во все глаза, чтобы не пропустить, где и когда на жизненном пути нашего героя объявится очередное «колдовство».
Создавая в конце 30‑х годов «Дон Кихота», Булгаков вложит в уста своего героя слова, которые вполне могли быть высказаны и им самим (в момент исцеления от морфинизма). Хитроумный идальго благодарит бакалавра Сансона, который помог ему избавиться от помутнения рассудка. Освободившийся от наркотической зависимости военный доктор теми же словами мог благодарить за своё спасение ангелов (или дьяволов):
«Мой разум освободился от мрачных теней. Вы своими ударами вывели меня из плена сумасшествия».
Попробуем подвести некоторый итог. Поскольку истинную причину загадочного булгаковского выздоровления раскрыть весьма затруднительно, придётся принять на веру «дистиллированную» версию. А она гласит, что, как только наркотический раствор был заменён обыкновенной водой, настал день, когда морфинизм, казавшийся неодолимым, был повержен. И побеждён окончательно.
Вот только окончательно ли?
Цепкая, как спрут, наркотическая зависимость покинула организм больного, но оставила в его душе незаживающие раны. На исцелившегося морфиниста стали периодически накатываться волны пугающей неуверенности и беспричинных страхов. В иные дни события повседневной жизни казались ему причудливым фантастическим сном, а загадочные сновидения представлялись подлинной явью.
Любой опытный нарколог мог заметить в булгаковских глазах отблеск недавно бушевавшего заболевания:
«В глазах этих…, на самом дне их — затаённый недуг».
Мы взяли эту фразу из булгаковского романа о французском драматурге Мольере. Но не себя ли самого, не последствия ли своей собственной тяжкой болезни имел здесь в виду Михаил Афанасьевич?
Как бы там ни было, но злой недуг отступил. И наш рассказ о коварном морфинизме подошёл к концу.
Но не зря говорят, что свято место пусто не бывает. Болезнь ушла, но ей на смену тотчас пришёл не менее страшный враг — пора смут и всеобщих беспорядков.
Смутное время
В ту пору Украиной правил бывший кавалергард и генерал царской свиты П.П. Скоропадский, которого избрали гетманом. Однако истинными хозяевами страны были немцы, оккупировавшие после Брестского мира украинскую территорию.
Гетманское правление длилось недолго — в полном соответствии с фамилией верховного правителя он очень «скоро пал»: в Германии произошла революция, и оккупанты бежали, прихватив с собою и гетмана. Это случилось 14 декабря 1918 года. Власть в стране перешла в руки петлюровцев. Потом Киев заняли большевики. Через несколько месяцев их прогнали белогвардейцы… В написанном через несколько лет фельетоне «Киев‑город» Булгаков так охарактеризует те смутные времена:
«По счёту киевлян у них было 18 переворотов…, я точно могу сообщить, что их было 14, причём 10 из них я лично пережил».
Властная чехарда (на протяжении всего лишь года с небольшим) породила полнейшую анархию. Практически всё мгновенно обесценилось. И, прежде всего, сама человеческая жизнь. Каждый мог быть отправлен на тот свет в любую минуту. И абсолютно безнаказанно. Но при этом все, кто оказывался у властного руля, начинали вдруг остро нуждаться в медицинских услугах. При гетмане и Петлюре, при большевиках и белых профессия врача стала одной из наиболее востребованных.
И Михаилу Булгакову пришлось вновь надевать форму военного врача. Сначала его призвали в гетманские вооружённые формирования. Вот как это описано в рассказе «Необыкновенные приключения доктора»:
«Меня мобилизовала пятая по счёту власть…
Пятую власть выкинули, а я чуть жизни не лишился…»
Затем доктором Булгаковым заинтересовались петлюровцы:
«Меня мобилизовали вчера. Нет, позавчера. Я сутки провёл на обледеневшем мосту. Ночью 15 ниже нуля (по Реомюру) с ветром… Потом все побежали в город. Я никогда не видел такой давки. Конные. Пешие. И пушки ехали, и кухни… Мне сказали, что меня заберут в Галицию. Только тогда я догадался бежать…»
О том, что произошло дальше, известно из воспоминаний Татьяны Николаевны:
«В час ночи — звонок…, побежали, открываем: стоит весь бледный. Он прибежал совершенно невменяемый, весь дрожал. Рассказывал: его уводили со всеми из города, прошли мост, там дальше — столбы или колонны… Он отстал, кинулся за столб…. и его не заметили…
После этого заболел, не мог вставать… Была температура высокая. Наверное, это было что‑то нервное».
Занятие Киева частями Красной армии тотчас отразилось на жизни дипломированного медика Михаила Булгакова. Читаем в том же рассказе о «приключениях доктора»:
«17 февраля.
Достал бумажки с 18 печатями [о] том, что меня нельзя уплотнить, и наклеил на парадной двери, на двери кабинета и столовой.
Меня уплотнили…
21 февр[аля].
… И мобилизовали».
22 февр[аля].
К счастью, и у красных служба оказалась непродолжительной. 31 августа 1919 года Киев заняли полки белого генерала Бредова, и доктор Булгаков сменил красноармейскую форму на белогвардейскую. Татьяна Николаевна рассказывала:
«Он получил мобилизационный листок, кажется, обмундирование — френч, шинель. Его направили во Владикавказ, в военный госпиталь».
Воспоминания Татьяны Николаевны слегка расходятся со сведениями, содержащимися в документах. Сохранилось предписание, выданное киевским начальством мобилизованному медику:
«М.А. Булгаков, врач военного резерва, направляется для прохождения службы в Пятигорск».
Младший брат Михаила Афанасьевича, Николай, в тот момент как раз тоже получил назначение в Пятигорск. Туда же, видимо, попросился и брат старший.
Впрочем, не столь уж и важно, куда на самом деле направили Булгакова — в Пятигорск или во Владикавказ. Гораздо интереснее другое: во время остановки поезда в Ростове‑на‑Дону военврач зашёл в бильярдную. Мгновенно вспыхнувший азарт игрока неудержимо потянул его к шарам и кию. Чем закончилась та игра — в рассказе Татьяны Николаевны (муж называл её Тасей):
«Он там сильно проигрался в бильярд и даже заложил мою золотую браслетку. Эту браслетку мама подарила мне ещё в гимназии. Михаил всегда просил её у меня „на счастье“, когда шёл играть. И тут выпросил в дорогу — и заложил. И случайно встретил в Ростове двоюродного брата Константина… и сказал: „Вот тебе квитанция — выкупи Тасину браслетку!“ И отправился дальше во Владикавказ».
Прибыв в пункт назначения, Булгаков вызвал к себе жену. Она приехала, и супруги отправились в Чечню, где Третьему Терскому конному полку срочно требовался начальник медицинской службы. Вскоре Михаил Афанасьевич вступил в эту должность.
Татьяна Николаевна впоследствии вспоминала:
«Когда я приехала во Владикавказ, он мне сказал: „Я печатаюсь“. Я говорю: „Ну, поздравляю! Ты же всегда этого хотел!“»
Начало своей литературной деятельности описал и сам Булгаков. В октябре 1924 года, сочиняя одну из первых своих автобиографий, он предал гласности такие подробности:
«Как‑то ночью в 1919 году, глухой осенью, едучи в расхлябанном поезде, при свете свечечки, поставленной в бутылку из‑под керосина, написал первый маленький рассказ. В городе, в который затащил меня поезд, отнёс рассказ в редакцию. Там его напечатали».
Автобиография сочинялась в большевистской Москве и предназначалась большевистскому журналу Поэтому Булгаков и не мог назвать город, в который «затащил» его поезд — всем сразу стало бы ясно, что его литературный дебют состоялся в белогвардейской газете. В те годы напоминать об этом было опасно.
Много лет спустя (уже в 70‑х годах) первую булгаковскую публикацию разыскали. Рассказ, написанный в «расхлябанном поезде», назывался «Грядущие перспективы» и был подписан инициалами «М.Б.». Газета, которая опубликовала его, издавалась в городе Грозном и тоже называлась «Грозный».
«Грядущие перспективы» были напечатаны 13 ноября 1919 года. Как тут не встрепенуться и не воскликнуть: «Опять! Опять это дьявольское число — «13»! Как прочно «привязалось» оно к Михаилу Булгакову!».
Но вернёмся к рассказу. Вот небольшой отрывок из него:
«Наша несчастная Родина находится на самом дне ямы позора и бедствия, в которую её загнала „великая социальная революция“… Перед нами тяжёлая задача — завоевать, отнять свою собственную землю. Расплата началась. Герои‑добровольцы рвут из рук Троцкого пядь за пядью русскую землю… Но придётся много драться, много пролить крови, потому что, пока за зловещей фигурой Троцкого ещё топчутся с оружием в руках одураченные им безумцы, — жизни не будет, а будет смертная борьба…
Безумство двух последних лет толкнуло нас на страшный путь, и нет нам остановки, нет передышки. Мы начали пить чашу наказания и выпьем её до конца».
Иными словами, доктор Булгаков, сам с таким трудом избавившийся от безумной наркотической зависимости, теперь ставил диагноз всей стране, заявляя, что Россией тоже овладело «безумство», за которое ей ещё предстоит расплачиваться. И цена этой расплаты будет безмерно высока:
«Там, на Западе, будут сверкать бесчисленные электрические огни, лётчики будут сверлить покорённый воздух, там будут строить, исследовать, печатать, учиться… А мы… Мы будем драться. Ибо нет никакой силы, которая могла бы изменить это. Мы будем завоёвывать собственные столицы».
Статья, подобная этой, могла появиться только в белогвардейской прессе. Всякого, кто попытался бы рассуждать о красном «безумстве» в большевистских газетах, без всяких рассуждений поставили бы к стенке.
Удачный дебют вдохновил начинающего литератора, и очень скоро его статьи‑фельетоны стали печатать многие кавказские газеты. Газеты (подчеркнём ещё раз) белогвардейские. Именно с белым движением связывал тогда Булгаков свою дальнейшую судьбу. В том числе и литературную.
Тем временем Красная армия перешла в наступление, нанося добровольческим частям поражение за поражением. Белая гвардия с боями отходила к Новороссийску.
Булгаков смотрел на происходившее «с ужасом и недоумением». Ему давно уже надоело кромсать и штопать тела, изувеченные в братоубийственной бойне. Несмотря на весь свой гуманизм интеллигентного человека, он больше не хотел этого делать ни за что на свете («Необыкновенные приключения доктора»):
«Довольно глупости, безумия. В один год я перевидал столько, что хватило бы Майн Риду на десять томов… Я сыт по горло и совершенно загрызен вшами. Быть интеллигентом вовсе не значит обязательно быть идиотом…
Довольно!».
Сменить профессию Булгаков собирался уже давно. И много лет спустя в одном из писем написал о том, что он…
«… пережил душевный перелом 15 февраля 1920 года, когда навсегда бросил медицину и отдался литературе».
Да, ему очень хотелось навсегда оставить беспокойные врачебные дела и посвятить себя литературе, ремеслу, как ему казалось, тихому и абсолютно безопасному. Но для этого надо было бросить службу.
Надо… Но как это сделать в разгар войны? Ведь его тотчас объявили бы дезертиром, и поступили бы с ним в полном соответствии с законами военного времени?
И всё же с военной службой он распрощался.
Новые испытания
В разгар ожесточённых боёв за Северный Кавказ Михаил Булгаков познакомился с уже известным тогда писателем Ю.Л.Слёзкиным (писавшим под псевдонимом Жорж Деларм). Позднее Юрий Львович, вспоминая о тех временах, скажет:
«С Мишей Булгаковым я знаком с зимы 1920 г. Встретились мы во Владикавказе при белых. Он был военным врачом и сотрудничал в газете в качестве корреспондента. Когда я заболел сыпным тифом, его привели ко мне в качестве доктора. Он долго не мог определить моего заболевания, а когда узнал, что у меня тиф — испугался до того, что боялся подойти близко и сказал, что не уверен в себе… позвали другого…»
Рассказанный эпизод свидетельствует о том, с каким паническим страхом относился тогда Булгаков к смерти преждевременной, случайной. Едва выкарабкавшись из одной страшной болезни, он безумно боялся стать жертвой какого‑либо другого, не менее ужасного заболевания.
Но так уж заведено в этой жизни, что удары судьбы в первую очередь, как правило, обрушиваются на тех, кто больше всего их боится. Свалила болезнь и Булгакова. И именно та, которой он так остерегался. Её приближение он почувствовал в вагоне поезда, когда возвращался из кратковременной поездки в Пятигорск. Через три года он напишет в дневнике:
«… вспомнил вагон в январе 20‑го года и фляжку с водкой на сером ремне, и даму, которая жалела меня за то, что я так страшно дёргаюсь».
О начале заболевания рассказывается и в повести «Записки на манжетах»:
«Голова. Второй день болит. Мешает. Голова! И вот тут, сейчас, холодок странный пробежал по спине. А через минуту — наоборот: тело наполнилось сухим теплом, а лоб неприятный, влажный. В висках толчки… Лишь бы не заболеть…
Боже мой, боже мой, бо‑о‑же мой! Тридцать восемь и девять… да уж не тиф ли, чего доброго?..
Тридцать девять и пять!».
А вот что рассказывала Татьяна Николаевна:
«… головная боль, температура — сорок. Приходил очень хороший местный врач, потом главный врач госпиталя. Он сказал, что у Михаила возвратный тиф:
— Если будем отступать, ему нельзя ехать».
Затем наступил кризис, сопровождавшийся всё той же высокой температурой и бессвязным бредом. Впрочем, так ли бессвязен был тот бред («Записки на манжетах»):?
«Мне надоела эта идиотская война! Я бегу в Париж, там напишу роман, а потом в скит…
Опять сорок и пять!..
— Доктор! Я требую… Немедленно отправить меня в Париж! Не желаю больше оставаться в России!.. Если не отправите, извольте дать мне мой бра… браунинг!» («Записки на манжетах»)
И снова слово — Татьяне Николаевне:
«Однажды утром я вышла и вижу, что город пуст. Главврач тоже уехал… Михаил совсем умирал, закатывал глаза… Во время болезни у него были дикие боли, беспамятство… Потом он часто упрекал меня:
— Ты — слабая женщина, не могла меня вывезти!
Но когда мне два врача говорят, что на первой же остановке он умрёт, как же я могла везти? Они мне так и говорили:
— Что же вы хотите — довезти его до Кавказа и похоронить?»
Из воспоминаний Юрия Слёзкина:
«По выздоровлении я узнал, что Булгаков болен паратифом. Тотчас же, ещё едва держась на ногах, пошёл к нему с тем, чтобы ободрить его и что‑нибудь придумать на будущее».
А придумывать надо было — город уже заняли бойцы 9‑ой армии РККА, которой командовал Иероним Уборевич. И оба литератора (выздоровевший и выздоравливавший) стали составлять план действий («Записки на манжетах»):
«Беллетрист Юрий Слёзкин сидел на шикарном кресле…
— Что же те‑перь бу‑дет с на‑ми? — спросил я и не узнал своего голоса. После второго приступа он был слаб, тонок и надтреснут…
Слёзкин усмехнулся одной правой щекой. Подумал. Вспыхнуло вдохновение.
— Подотдел искусств откроем!
— Это… что такое?..
Взметнулась хозяйка.
— Ради бога, не говорите с ним! Опять бредить начнёт…
— А что с нами? Бу‑дет?..
— Мишенька, не разговаривайте! Доктор…
— Потом объясню! Всё будет! Я уж заведывал. Нам что? Мы аполитичны. Мы — искусство!..
— Ты завлитом будешь. Да».
Такие строили они планы. Но чтобы воплотить их в жизнь, сначала нужно было выздороветь. А это было непросто («Записки на манжетах»):
«Ночь плывёт. Смоляная, чёрная. Сна нет: лампадка трепетно светит. На улицах где‑то далеко стреляют. А мозг горит. Туманится…
Строит Слёзкин там. Наворачивает. Фото. Изо. Лито. Тео. Тео. Изо. Лизо. Тезо… Ингуши сверкают глазами, скачут на конях… Шум. В лупу стреляют. Фельдшерица колет ноги камфарой: третий приступ!..
— О‑о! Что же будет?! Пустите меня! Я пойду, пойду, пойду…
После морфия исчезают ингуши. Колышется бархатная ночь…»
Вот как оно обернулось! Ему опять кололи морфий! Ему, с таким трудом излечившемуся от наркотического пристрастия? Значит, Булгаков вновь был на волоске от рецидива коварной болезни?
К счастью, всё обошлось. Несмотря на практически полное отсутствие квалифицированной медицинской помощи, Татьяна Николаевна спасла мужа и на этот раз — выходила. В мае 1920‑го он с трудом, но встал на ноги. Ходил с палкой, опираясь на руку жены.
На этом история доктора Булгакова, который на досуге сочинял статьи‑фельетоны, закончилась. Начался новый виток жизни. Вчерашний военврач принялся всерьёз овладевать профессией литератора. Профессией, которой предстояло стать главным делом его жизни.
Глава вторая Становление мастерства
Литературная секция
На всём Северном Кавказе уже прочно установилась советская власть, а Михаил Булгаков продолжал ходить по Владикавказу в шинели белогвардейского офицера. Другой верхней одежды у него просто не было.
В книгах о Булгакове почему‑то не указывается, до какого звания дослужился он у белых. Косвенные сведения дают основания предположить, что оно вполне могло быть полковничьим (возглавлял медицинскую службу полка). Но пусть он даже был майором или капитаном, всё равно белый офицер у красных должен был чувствовать себя не очень уютно. Два раза в месяц ему надлежало являться в местное отделение ЧК для перерегистрации. На вопросы об образовании он теперь отвечал, что закончил естественный факультет университета, а не медицинский — чтобы не мобилизовали.
А в городе уже многое изменилось. Об этом — в дневнике Юрия Слёзкина:
«Белые ушли — организовался ревком, мне поручили заведование подотделом искусств. Булгакова я пригласил в качестве заведующего]литературной секцией».
О том, как начиналась служба у большевиков, рассказано в повести «Записки на манжетах»:
«После возвратного — мёртвая зыбь. Пошатывает и тошнит. Но я заведываю. Зав. Лито. Осваиваюсь».
Через год, 1 февраля 1921 года, в письме к двоюродному брату Константину (он находился тогда в Москве) Михаил Афанасьевич подробно обрисовал свою жизнь периферийного литератора:
«Ты спрашиваешь, как я поживаю. Хорошенькое слово. Именно я поживаю, а не живу…
Весною я заболел возвратным тифом, и он приковал меня… Чуть не издох, потом летом опять хворал».
По поводу своих эпистолярных занятий Булгаков сообщал следующее:
«Я живу в скверной комнате на Слепцовской улице …. пишу при керосиновой лампе… За письменным столом, заваленным рукописями… Ночью иногда перечитываю свои раньше напечатанные рассказы (в газетах! в газетах!) и думаю: где же сборник? Где имя? Где утраченные годы?
Я упорно работаю…»
Из чего состояла это работа? На первых порах он принимал участие в просветительских вечерах, которые устраивались на летних эстрадах и в кинотеатрах. Об этом и написал брату Константину:
«Это лето я всё время выступал с эстрад с рассказами и лекциями».
За выступления платили деньги. Не очень большие, но для семейного бюджета весьма ощутимые. На подобное «жалованье» жили тогда многие из тех интеллигентов, кто волею судеб оказался в большевистском Владикавказе.
Местным властям были явно не по душе эти «рассказы» и «лекции» вчерашних белогвардейцев. И в один прекрасный день («Записки на манжетах»):
«Кончено. Всё кончено… Вечера запретили…
Ума не приложу, что ж мы будем есть? Что есть‑то мы будем?»
Запрет лекций перекрывал источник поступления хоть каких‑то денег. Ведь за работу в подотделе не платили ничего. Выручала лишь Татьяна Николаевна («Жизнеописание Михаила Булгакова»):
«Жили мы в основном на мою золотую цепь — отрубали по куску и продавали. Она была витая, как верёвка, чуть уже мизинца толщиной. Длинная — я её окручивала два раза вокруг шеи, и она ещё свисала… С тех пор, как родители мне её подарили, я всегда её носила не снимая… И вот на эту цепь мы жили!»
В литературный отдел, которым заведовал Булгаков, часто заглядывали гости — писатели, поэты. Среди них были и довольно известные личности.
«… Осип Мандельштам. Вошёл в пасмурный день и голову держал высоко, как принц. Убил лаконичностью:
— Из Крыма. Скверно! Рукописи у вас покупают?..
— Но денег не пла… — начал было я и не успел окончить, как он уехал. Неизвестно куда…
Беллетрист Пильняк. В Ростов, с мучным поездом, в женской кофточке.
— В Ростове лучше?
— Нет, я отдохнуть!!
Оригинал — золотые очки…»
В стране, завершавшей гражданскую войну, поэты и писатели искали тепла, участия. Но, прежде всего, им нужны были средства для пропитания. Лишь двадцатисемилетний Борис Пильняк рискнул поехать просто «отдохнуть». Неслыханная по тем временам роскошь. Булгаков ни о чём подобном даже подумать не мог, ведь само его существование зависело от золотой цепочки жены. И пока было что от неё отрубать, он писал. Много писал. И не только рассказы и фельетоны. Пробовал себя в драматургии. В том же письме брату Константину сообщал:
«… на сцене пошли мои пьесы. Сначала одноактная юмореска „Самооборона“, затем написанная наспех, чёрт знает как, 4‑х актная драма „Братья Турбины“.
О «Братьях Турбиных» впоследствии воспоминал и Юрий Слёзкин:
«Действие происходит в революционные дни 1905 г. — в семье Турбиных — один из братьев был эфироманом, другой революционером. Всё это звучало весьма слабо».
Булгаков тоже не был в восторге от этой пьесы. Но ещё больше расстраивало его другое, и он жаловался Константину:
«Ты не можешь себе представить, какая печаль была у меня в душе, что пьеса идёт в дыре захолустной, что я запоздал на 4 года с тем, что я должен был давно начать делать — писать…
… моя мечта исполнилась… но как уродливо: вместо московской сцены сцена провинциальная, вместо драмы об Алёше Турбине, которую я лелеял, наспех сделанная, незрелая вещь.
Судьба — насмешница.
Потом, кроме рассказов, которые негде печатать, я написал комедию‑буфф „Глиняные женихи “… Наконец на днях снял с пишущей машины „Парижских коммунаров „в 3‑х актах… Я писал её 10 дней. Рвань всё: и „Турбины“, и „Женихи“, и эта пьеса. Всё делаю наспех. Всё. В душе моей печаль.
Но я стиснул зубы и работаю днями и ночами. Эх, если бы было где печатать!»
Он торопился. Стремился наверстать потерянное. Он должен успеть. Потому и работал, стиснув зубы, днём и ночью…
Спектакли, поставленные по булгаковским пьесам, местная публика принимала хорошо. Может быть, даже слишком хорошо. И Михаил Афанасьевич, находясь под впечатлением тёплого приёма, на какое‑то время даже перестал считать свои сочинения «рванью»:
«„Турбины“ четыре раза за месяц шли с треском успеха. Это было причиной крупной глупости, которую я сделал: послал их в Москву…»
В столице Советской России в ту пору проходил всероссийский конкурс драматических произведений, посвящённых Парижской коммуне — большевистский режим нуждался в революционном репертуаре. И Булгаков отправил свои пьесы в театральный отдел (сокращённо — Тео) Народного комиссариата по просвещению. Брату он признавался:
«Проклятая „Самооборона“ и „Турбины“ лежат сейчас в том же „Тео“, о них я прямо и справляться боюсь. Кто‑то там с маху нашёл, что „Самооборона“ „вредная“…»
Многоточие после слова «вредная» поставил сам Михаил Афанасьевич. И сделал сноску в конце письма, продолжавшую незаконченную фразу:
«… и что её нужно снять с репертуара!.. (отзыв скверный, хотя исходит единолично от какой‑то второстепенной величины)».
Это была самая первая рецензия на творчество Михаила Булгакова, вышедшая из‑под пера столичного рецензента. И мнение его было резко отрицательным. Стало быть, в «Самообороне» содержалось нечто такое, что заставляло бдительного москвича насторожиться.
Самого автора «одноактной юморески» такой поворот событий, конечно же, опечалил:
«Отзыв этот, конечно, ерундовый, но неприятный, жаль, что я её, «вредную» „Самооборону “, туда послал…»
И, ни на что уже больше не надеясь, драматург просил брата: «Если она провалилась (в чём не сомневаюсь), постарайся получить её обратно и сохранить».
Сообщая о приёме, который публика оказывала спектаклям, поставленным по его пьесам, Булгаков ни единым словом не обмолвился о том, как к его творениям относились местные власти. Между тем владикавказская газета «Коммунист» встретила «Братьев Турбиных» очень недружелюбно:
«Мы не знаем, какие мотивы и что заставило поставить на сцене пьесу Булгакова. Но мы прекрасно знаем, что никакие оправдания, никакая талантливая защита, никакие звонкие фразы о „чистом искусстве“ не смогли бы нам доказать ценности для пролетарского искусства и художественной значительности слабого драматургического произведения „Братья Турбины“…
Автор… с усмешкой говорит о „черни“, о „черномазых“, о том, что царит „искусство для толпы разъярённых Митек и Ванек“. Мы решительно и резко отмечаем, что таких фраз никогда и ни за какими хитрыми масками не должно быть. И мы заявляем больше, что, если встретим такую подлую усмешку к „чумазым“ и „черни“ в самых гениальных образцах мирового творчества, мы их с яростью вырвем и искромсаем в клочья».
Любопытную деталь подметил периферийный рецензент. Он обратил внимание на то, что герои булгаковских пьес, созданные на потребу толпе «разъярённых Митек и Ванек», скрывали свои лица под «масками». И «маски» эти были не простые, а «хитрые». Запомним этот нюанс. С «масками» в произведениях Булгакова (да и в его жизни тоже) нам предстоит встретиться ещё не раз.
Критические замечания в адрес своих произведений Булгаков воспринимал очень болезненно. Но с рецензентом из газеты «Коммунист» вступать в споры не стал. Лишь посвятил ему (назвав «дебоширом») несколько фраз в «Записках на манжетах»:
«Господи! Дай так, чтобы дебошир умер! Ведь болеют же кругом сыпняком. Почему же не может заболеть он? Ведь этот кретин подведёт меня под арест!..»
Арест упомянут здесь не случайно — именно арестом пригрозили Булгакову за его статью в местной прессе. Об этом — в рассказе «Богема»:
«Фельетон в местной владикавказской газете я напечатал и получил за него 1200 рублей и обещание, что меня посадят в особый отдел, если я напечатаю ещё что‑нибудь похожее на этот первый фельетон.
— За что?..
— За насмешки».
Даже не шибко грамотные комиссары из небольшого северокавказского городка сразу поняли, какая «собака» зарыта в дерзких статьях и пьесах бывшего белогвардейца. И чересчур осмелевшему литератору тотчас заявили о том, что большевики смеяться над собой не позволят. И произведений, противоречащих их вкусам и требованиям, публиковать не будут.
Такой поворот событий Михаила Булгакова, конечно же, не устраивал. И он начал подумывать о том, как бы поскорее покинуть негостеприимный Владикавказ.
Накануне бегства
16 февраля 1921 годы Булгаков отправил брату Константину ещё одно письмо, в котором просил его связаться с родственниками из киевского дома № 13 на Андреевском спуске: «Я тщетно пишу в Киев и никакого ответа не получаю… У меня в № 13 в письменном столе остались две важных для меня рукописи: „Наброски Земск[ого] вр[ача]“ и „Недуг“ (набросок) и целиком на машинке „Первый цвет“. Все эти три вещи для меня очень важны. Попроси их, если только, конечно, цел мой письменный стол, их сохранить. Сейчас я пишу большой роман по канве „Недуга“…
Сообщи мне, целы ли мои вещи и Т[асин] браслет».
Затем (после других просьб и поручений) Михаил Афанасьевич сообщал брату о своих планах на ближайшее будущее:
«Во Влад[икавказе] я попал в положение „ни взад ни вперёд“. Мои скитания далеко не кончены. Весной я должен ехать или в Москву (м[ожет] б[ыть] очень скоро), или на Чёрное море, или ещё куда‑нибудь… Сообщи мне, есть ли у тебя возможность мне перебыть немного, если мне придётся побывать в Москве».
Выделенные нами слова («ещё куда‑нибудь») явно намекают на то, что Булгаков по‑прежнему не исключал возможности своей разлуки с родиной. Об этом же в апреле месяце он сообщал и сестре Надежде:
«На случай, если я уеду далеко и надолго, прошу тебя о следующем: в Киеве у меня остались кой‑какие рукописи — „Первый цвет “, „Зелёный змий“, а в особенности важный для меня черновик „Недуг“… Выпиши из Киева эти рукописи, сосредоточь их в своих руках и вместе с „Сам[обороной]“ и „Турб[иными]“ — в печку.
Убедительно прошу об этом…»
Булгаков прощался. Со всеми родственниками. И с рукописями, очень для него «важными».
В связи с планировавшимся отъездом за рубеж возникал вопрос, брать ли с собой на чужбину жену? Михаил Афанасьевич колебался, не зная, что предпринять. Поэтому в письмах родным просто сообщал о том, что Татьяна Николаевна пока ещё с ним:
«Тася со мной. Она служит на выходах в 1‑м Советском Владикавк[азском] театре, учится балету…
P.S. Посылаю кой‑какие вырезки и программы… Если уеду и не увидимся — на намять обо мне».
Сестре Вере Булгаков написал немного подробнее о том, что успел за это время создать:
«… творчество моё разделяется резко на две части: подлинное и вымученное. Лучшей моей пьесой подлинного жанра я считаю 3‑х актиую комедию‑буфф салонного тина „Вероломный панаша“ („Глиняные женихи“). И как раз она не идёт, да и не пойдёт, несмотря на то, что комиссия, слушавшая её, хохотала в продолжение всех трёх актов…
Эх, хотя бы увидеться нам когда‑нибудь всем. Я прочёл бы вам что‑нибудь смешное. Мечтаю повидать своих. Помните, как иногда мы хохотали в № 13?»
Но какие бы планы ни строились, все они могли в одночасье рухнуть, узнай власти о медицинском образовании Булгакова. Его тотчас мобилизовали бы в Красную армию. Вот почему в письме (от 26 апреля) он в очередной раз просит сестру Надежду не вести никаких «.лекарских» разговоров…
«… которые я и сам не веду с тех пор, как окончил естественный и занимаюсь журналистикой».
8 мая владикавказская газета «Коммунист» сообщила читателям, что булгаковскую пьесу «Парижские коммунары» собираются ставить в Москве. Да, такие планы существовали. Но от автора потребовали переделок. Булгаков ничего исправлять не пожелал, и по его просьбе сестра Надежда забрала пьесу.
Тем временем подотдел искусств, в котором служил Михаил Афанасьевич, расформировали. Театр, где работала его жена, закрыли. И тотчас…
«… грозный призрак голода постучался в мою скромную квартиру, полученную мною по ордеру».
Пришлось срочно сочинять пьесу‑агитку «Сыновья муллы», прославляющую новые большевистские порядки. Писалась она в соавторстве со знатоком местных обычаев, владикавказцем Т. Пейдзулаевым. В «Записках на манжетах» Булгаков назвал его «помощником присяжного поверенного, из туземцев».
«В туземном подотделе пьеса произвела фурор. Её немедленно купили за 200 тысяч. И через две недели она шла.
В тумане тысячного дыхания сверкали кинжалы, газыри и глаза. Чеченцы, кабардинцы, ингуши, после того как в третьем акте геройские наездники ворвались и схватили пристава и стражников, кричали:
— Ва! Подлец! Так ему и надо!»
И наиболее темпераментные из зрителей палили в потолок из пистолетов.
Впоследствии Булгаков всячески открещивался от этой своей пьесы, а в рассказе «Богема» даже написал:
«… если когда‑нибудь будет конкурс на самую бессмысленную и наглую пьесу, наша получит первую премию…»
Ещё более уничтожающая характеристика «Сыновьям муллы» дана в повести «Записки на манжетах»:
«В смысле бездарности — это было нечто совершенно особенное, потрясающее. Что‑то тупое и наглое глядело из каждой строчки этого коллективного творчества…
Вы, беллетристы, драматурги в Париже, в Берлине, попробуйте! Попробуйте, потехи ради, написать что‑нибудь хуже! Будьте вы так способны, как Куприн, Бунин или Горький, вам это не удастся. Рекорд побил я! В коллективном творчестве. Писали же втроём: я, помощник поверенного и голодуха. В 21‑м году, в его начале…»
И всё же, какой бы эта пьеса ни была, за неё Булгаков получил деньги («Записки на манжетах»):
«— Сто тысяч… У меня сто тысяч!..
Я их заработал!..
… Бежать! Бежать! На 100 тысяч можно выехать отсюда. Вперёд. К морю. Через море и море, и Францию — сушу — в Париж!»
Но много ли это — сто тысяч? Деньги таяли катастрофически быстро. В рассказе «Богема» Булгаков признавался:
«Семь тысяч я съел в 2 дня, а на остальные 93 решил уехать из Владикавказа».
Ехать было решено в Тифлис («Богема»):
«Почему именно в Тифлис? Убейте, теперь не понимаю. Хотя припоминаю: говорили, что:
1) В Тифлисе открыты все магазины.
2) — “ — есть вино.
3) — “ — очень жарко и дёшевы фрукты.
4) — “ — много газет, и т. д. и т. д.».
Этому‑то «множеству газет» Булгаков и намеревался предложить свои фельетоны. А пьесами планировал заинтересовать театры солнечной Грузии. Заработав таким образом необходимую сумму, он и собирался через Батум отбыть в Турцию.
Однако большой уверенности в том, что планы эти осуществятся, у него не было. И в конце мая он отправил сестре Надежде письмо, полное неопределённостей:
«… сегодня я уезжаю в Тифлис‑Батум. Тася пока остаётся во Владикавказе…
В случае отсутствия известий от меня больше полугода, начиная с момента получения тобой этого письма, брось рукописи мои в печку…
В случае появления в Москве Таси, не откажи ей в родственном приёме на первое время по устройству её дел».
Операция «Батум»
Столица Грузии очень быстро разочаровала Булгакова. В «Записках на манжетах» он воскликнет:
«Что это за проклятый город Тифлис!»
Причина недовольства заключалась в том, что на берегах Куры ни его пьесы, ни фельетоны никого не заинтересовали. Это выяснилось почти сразу, как он приехал в Тифлис. Пришлось написать родственникам письмо, которое Михаил Афанасьевич, видимо, считал прощальным:
«2‑го июня 1921 года
Тифлис, Дворцовая № 6, Номера „Пале‑Рояль“ (№ 15) Дорогие Костя и Надя, вызываю к себе Тасю из Владикавказа] и с ней уезжаю в Батум, как только она приедет и как только будет возможность. Может быть, окажусь в Крыму…
Целую всех. Не удивляйтесь моим скитаниям, ничего не сделаешь. Никак нельзя иначе. Ну и судьба! Ну и судьба!».
В середине июня Татьяна Николаевна прибыла в Тифлис. Деньги, полученные за «Сыновей муллы», к тому времени уже кончились. Пришлось расстаться с последними своими сокровищами («Жизнеописание Михаила Булгакова»):
«Мы продали обручальные кольца — сначала он своё, потом я. Кольца были необычные, очень хорошие, он заказывал их в своё время у Маршака — это была лучшая ювелирная лавка. Они были не дутые, а литые, и на внутренней стороне моего кольца было выгравировано: „Михаил Булгаков“ и дата — видимо свадьбы, а на его — „Татьяна Булгакова“.
Продав кольца, тут же поехали в Батум — осуществлять последний пункт задуманного плана: побег в Турцию.
И тут вдруг Булгакова вновь стали одолевать сомнения… Может быть, всё‑таки остаться?.. Ведь если в «своей» Грузии в его услугах никто не нуждается, кому он будет нужен в «чужой» Турции?
Или всё‑таки бежать?..
Михаил Афанасьевич колебался. Им завладели суеверия. По воспоминаниям жены, стоило ей что‑то пообещать, как он тут же брал её за руку и спрашивал на полном серьёзе: клянёшься смертью? Татьяна Николаевна вздрагивала.
Ехать за рубеж вместе с женой Булгаков так и не решился. И вскоре отправил Татьяну Николаевну в Москву. Она села на пароход, который шёл в Одессу, и (после непродолжительной остановки в Киеве) в начале сентября 1921 года прибыла в столицу Советской России.
А Булгаков продолжал мечтать о Константинополе. Но это были голодные мечты. Или, точнее, мечты голодного. Вот как описаны они в повести «Записки на манжетах»:
«Довольно! Пусть светит Золотой Рог. Я не доберусь до него. Запас сил имеет предел. Их больше нет. Я голоден, я сломлен. В мозгу у меня нет крови. Я слаб и боязлив. Но здесь я больше не останусь. Раз так… значит… значит…»
И он отправился вслед за женой — в Москву, в город, в котором ему предстояло прожить всю оставшуюся жизнь.
«Домой! По морю. Потом в теплушке. Не хватит денег пешком. Но домой. Жизнь погублена. Домой».
Этими словами заканчивается первая часть «Записок на манжетах».
Стремительный бросок голодного литератора в не очень сытую Москву на первый взгляд выглядит не совсем логичным. В самом деле, зачем прошедшему огни и воды 30‑летнему человеку, бросив всё, что только можно бросить, устремляться в чужой малознакомый город? Что мог найти в нём тот, кто «сломлен», чья жизнь (и без того обречённая быть недолгой) уже «погублена»?
На эти непростые вопросы ответить можно было бы и так: Булгаков направлялся в Москву, потому что знал, что едет туда не простым искателем приключений. Он владеет пером! Мало этого, он легко…
«… находит смешные стороны в людях и любит по этому поводу острить».
Эти слова он вскоре посвятит другому острослову великому французскому драматургу. Но их вполне можно отнести и к самому Михаилу Булгакову который был готов применить своё насмешливое оружие против ненавистной ему большевистской системы.
Иными словами, изголодавшийся и измаявшийся 30‑летний Булгаков жаждал мщения. За исковерканную судьбу за поруганные святыни, за растоптанные мечты, за годы, потраченные на бессмыслицу. В этом ореоле благородного мстителя он, видимо, и мечтал взойти на литературный Олимп.
Невольно напрашивается параллель. За 20 лет до этого (в самом начале XX века) другой 30‑летний россиянин, Владимир Ульянов, покидал родину с тем же желанием: отомстить! За повешенного старшего брата, за поломанную карьеру, за не осуществившиеся мечты. Незадолго до отъезда (во время последнего допроса) полицейский следователь спросил у Владимира Ильича:
— На кого вы замахнулись, молодой человек? Перед вами — стена!
Ульянов, как утверждали его биографы, якобы, усмехнувшись, ответил:
— Стена, да гнилая. Ткни — и развалится!
И что же? Самодержавную стену царской России Владимир Ильич Ленин развалил весьма основательно. До основанья, как пелось в революционной песне. Затем на развалинах самодержавия большевики принялись строить своё «царство» всеобщего равенства — тот самый «новый мир», в котором все, кто был никем, должны были получить возможность стать всем. Вот эту‑то утопическую большевистскую державу и мечтал растрясти своим насмешливым творчеством Михаил Булгаков.
Наверняка эту каверзную мысль внушил ему…
«… дьявол, в когти которого он действительно попал, лишь только связался с комедиантами».
Так напишет он годы спустя в романе о Мольере. А в пьесе «Дон Кихот» его рыцарь Печального Образа не без гордости скажет о самом себе:
«… этот печальный рыцарь рождён для того, чтобы наш бедственный железный век превратить в век златой! Я тот, кому суждены опасности и беды, но также и великие подвиги. Идём же вперёд…! Летим по свету, чтобы мстить за обиды, нанесённые свирепыми и сильными беспомощным и слабым, чтобы биться за поруганную честь, чтобы вернуть миру то, что он безвозвратно потерял, — справедливость!»
Что и говорить, планы у Булгакова были грандиозные. Но для того, чтобы начинать «.мстить за обиды», «биться за поруганную честь», чтобы попытаться вернуть миру потерянную им «справедливость», ему ещё надо было попасть в Москву.
Дьявольский год
Год 1921 был для Советской России трудным, голодным, а для многих и просто трагическим. В стране царила разруха, в Поволжье свирепствовал голод. Один из большевистских вождей, Николай Бухарин, признался в январе 1921‑го:
«У нас положение гораздо более трудное, чем мы думаем. У нас есть крестьянские восстания, которые приходится подавлять вооружённой силой, и которые обострятся в будущем».
Тяжёлые испытания выпали в тот год не только на долю рядовых граждан. Беды не обходили стороной и тех, кто, казалось бы, должен был жить припеваючи — правителей рабоче‑крестьянской державы.
Именно в 1921‑ом начали вдруг преследовать жуткие головные боли Ленина. Заболели Троцкий, Зиновьев, Рыков, Бухарин, Томский, Сокольников, Дзержинский… Даже редко болевший Сталин и тот слёг в Солдатенковскую больницу — на операцию аппендицита.
Правда, рассерженный на большевиков Горький (он жил в ту пору в Петрограде) по поводу недомоганий Троцкого и Зиновьева заявил:
«Это самоотравление гневом».
Когда об этих словах донесли Зиновьеву, тот распорядился провести обыск в квартире «буревестника революции». Великому пролетарскому писателю тут же припомнили всю его нелицеприятную критику в адрес вождей нового режима и стали настойчиво выпроваживать за границу.
Весной 1921 года подал прошение о выдаче ему заграничного паспорта и Фёдор Шаляпин. Сохранившиеся в архивах протоколы свидетельствуют, что 31 мая Ленин, Зиновьев, Молотов, Бухарин, Калинин, Петровский и Томский на очередном заседании политбюро решали «шаляпинский вопрос» (в повестке дня был по счёту двадцать первым):
21. О выпуске Шаляпина за границу.
Постановили:
21. Отпустить Шаляпина за границу».
Вскоре великий певец покинул родину Навсегда.
Тем же летом тяжело заболел Александр Блок. И его судьбу тоже пришлось решать кремлёвским правителям. 12 июля на заседании политбюро ЦК присутствовали Ленин, Троцкий, Каменев, Зиновьев, Молотов и Бухарин.
2. Ходатайство т.т. Луначарского и Горького об отпуске в Финляндию А. Блока.
Постановили:
2. Отклонить. Поручить Наркомнроду позаботиться об улучшении продовольственного положения Блока».
Возмущённый таким поворотом дела Горький обратился к Каменеву с решительным протестом, и 23 июля вождям пришлось вновь «решать вопрос» о судьбе больного поэта:
«Опрошены по телефону т.т. Ленин, Троцкий, Каменев, Зиновьев, Молотов.
5. Предложение т. Каменева — пересмотреть постановление н/б о разрешении на выезд за границу А.А. Блоку.
Постановили:
5. Разрешить выезд А.А. Блоку за границу».
Однако время было упущено, и вскоре Александр Блок скончался.
В июле уехал за границу и Алексей Максимович Горький.
Голодную и неприветливо‑угрюмую страну Советов покидали не просто россияне, обидевшиеся на большевистский режим. Уезжали профессионалы и великие мастера, остро почувствовавшие свою невостребованность. А на освободившиеся места устремлялись честолюбивые молодые люди, мечтавшие ухватить за хвост птицу удачи.
В их числе был и 22‑летний симферопольский студент Илья Сельвинский, сочинявший стихи, удивительно талантливые по форме и резко антисоветские по содержанию. Он прибыл в красную столицу из только что освобождённого от белых Крыма, чтобы продолжить образование в Московском университете. Была у него и заветная мечта: оседлав крылатого коня Пегаса, взлететь на нём на самую вершину поэтического Олимпа.
Интересно сопоставить, сравнить жизненный (а также творческий) путь Михаила Булгакова с судьбою тех, кто вместе с ним совершал восхождение на пик литературной славы. Поэтому в нашем рассказе мы будем по ходу дела бросать взгляд и в сторону других советских писателей и поэтов.
Большевистская столица
Свой приезд в Москву Булгаков описывал многократно. В автобиографии сообщал:
«В конце 21‑го приехал без денег, без вещей в Москву, чтобы остаться в ней навсегда».
Когда именно это произошло? В сентябре 1923 года в булгаковском дневнике появилась такая фраза:
«Как жаль, что я не помню, в какое именно число сентября я приехал два года тому назад в Москву».
В рассказе «Сорок сороков» указан лишь месяц прибытия в столицу:
«… въехал я в Москву ночью. Было это в конце сентября 1921 года».
В повести «Дьяволиада» сообщается день, который можно рассматривать как предположительную дату приезда: 20 сентября. А из второй части «Записок на манжетах» можно узнать даже точный час:
«Бездонная тьма. Лязг. Грохот. Ещё катят колёса, но вот тише, тише. И стали. Конец. Самый настоящий всем концам конец. Больше ехать некуда. Это — Москва. М‑о‑с‑к‑в‑а…
Два часа ночи. Куда же идти ночевать?»
У литератора, прибывшего сражаться с большевистским режимом, не было крыши над головой. Какие уж там активные «боевые» действия?
Но Булгаков быстро сориентировался. Разыскав жену, которая уже успела в Москве «зацепиться», то есть найти «угол», он кинулся на поиски хлеба насущного. Об этом рассказывается во второй части повести «Записки на манжетах». Она имеет подзаголовок, слегка загадочный и немного тревожный: «МОСКОВСКАЯ БЕЗДНА. ДЮВЛАМ».
Что хотел сказать этим названием автор?
Булгакову (во всяком случае, в первые месяцы после приезда) Москва и в самом деле должна была казаться бездной. Об этом он совершенно откровенно признался в рассказе «Сорок сороков»:
«Теперь, когда все откормились жирами и фосфором, поэты начинают писать о том, что это были героические времена. Категорически заявляю, что я не герой. У меня нет этого в натуре. Я человек обыкновенный — рождённый ползать, — и, ползая по Москве, я чуть не умер с голоду».
Впрочем, поначалу его дела складывалось не так уж плохо (Рассказ «Воспоминание…»):
«Два дня я походил по Москве и, представьте, нашёл место. Оно не было особенно блестящим, но и не хуже других мест: также давали крупу и также жалование платили в декабре за август. И я начал служить».
«Место», о котором пишет Булгаков, называлось Главным политико‑просветительским комитетом при Народном комиссариате по просвещению или, как было принято говорить в то стремительное время, Главполитпросветом Наркомпроса. В этом учреждении имелся литературный отдел (сокращённо — ЛИТО), а в нём — вакантное место секретаря.
Почему именно сюда обратился приехавший в столицу литератор? В «Записках на манжетах» по этому поводу сказано следующее:
«В сущности говоря, я не знаю, почему я пересёк всю Москву и направился именно в это колоссальное здание. Та бумажка, которую я бережно вывез из горного царства, могла иметь касательство ко всем шестиэтажным зданиям, а вернее, не имела никакого касательства ни к одному из них».
Как бы там ни было, но «место» нашлось. Для того, чтобы занять его, требовалось лишь заполнить анкету. Она сохранилась. Свидетельствуя о том, что в Москву прибыл совсем не тот человек, что знаком нам по Киеву, Вязьме и Владикавказу. Имя, отчество и фамилия остались у него прежними, но биографические данные претерпели существенные изменения.
Вот ответы Булгакова на некоторые из вопросов анкеты:
«Участвовали ли в войнах 1914–1917 — прочерк
Участвовали ли в войнах 1917–1920 — прочерк
Участвовали ли в боях, где, когда, имеются ли ранения — прочерк
Ваше отношение к воинской повинности — имею учётную карточку
Специальность — литератор
Социальное положение до 1917 года
и основное занятие — студент
Ваш взгляд на современную эпоху — эпоха великой перестройки».
И ни слова об отце, докторе богословия и статском советнике. Ни слова о своём медицинском образовании. Ни слова о службе в царской, гетманской, петлюровской, красной и белой армиях. Отныне всё это становилось тайной.
Со стороны ситуация выглядела так, будто на должность секретаря ЛИТО оформлялся не коренной россиянин, не «лекарь с отличием», воспылавший любовью к литературе, а вражеский лазутчик, проникший в страну с секретным заданием и потому вынужденный скрывать своё истинное лицо.
Ощущения, которые возникли у Булгакова при оформлении на работу, он чуть позднее описал в рассказе «Похождения Чичикова»:
«Пяти минут не просидел Павел Иванович и исписал анкету кругом. Дрогнула только у него рука, когда подавал её.
“ Ну, — подумал, — прочитают сейчас, что я за сокровище и… „
И ничего ровно не случилось.
Во‑первых, никто анкету не читал, попала она в руки к барышне‑регистраторше, которая распорядилась ею по обычаю: провела вместо входящего по исходящему и затем немедленно её куда‑то засунула, так что анкета как в воду канула.
Ухмыльнулся Чичиков и начал служить».
Точно так же поступил и Булгаков. По поводу того, ухмыльнулся ли он, заполнив анкету, нам ничего не известно, но то, что он начал служить, — это, как говорится, факт подлинный.
Началась его служба 1 октября 1921 года. День этот запомнился Михаилу Афанасьевичу появлением молодого человека с мешком в руках («Записки на манжетах»):
«Молодой тряхнул мешком, расстелил на столе газету и высыпал на неё фунтов пять гороху.
— Это вам 1/4 пайка».
Таким образом, вопрос, на что жить‑существовать, как бы решился. Можно было подумать и о чём‑то более возвышенном. К примеру, выяснить, что представляет собою Москва литературная («Записки покойника»):
«Прежде всего я отправился в книжные магазины и купил произведения современников. Мне хотелось узнать, о чём они пишут, как они пишут, в чём волшебный секрет этого ремесла».
Из современных ему писателей Булгаков наверняка должен был обратить внимание на Бориса Пильняка — того самого, что «в женской кофточке» заглядывал в их владикавказский подотдел по дороге в Ростов. Из поездки по югу страны Пильняк давно уже возвратился, и жил неподалёку от пролетарской столицы, в Николе‑на‑Посадьях, где в ноябре 1921‑го завершил работу над повестью под названием «Метель». Одним из первых её читателей, по‑видимому, стал и новоиспечённый секретарь ЛИТО Михаил Булгаков.
Будничный день страны Советов Пильняк изображал в очень тоскливых тонах:
«Время действия — революция.
Место действия — город…
Над землёю метель, над землёю свобода, над землёю революция!..
… по городу идёт будённый советский день…
Кожаные куртки, папахи…
День белый, день будничный. Утро пришло в тот день синим снегом. Скучно. Советский рабочий день. А оказывается, этот скучный рабочий день и есть — подлинная — революция. Революция продолжается».
Пильняк не трубил в медные трубы, не славил новую жизнь и не пытался скрыть своего подлинного отношения к новым порядкам. Более того, он позволял себе откровенно издеваться над советской действительностью.
У Булгакова, относившегося к большевикам не менее отрицательно, позиция Пильняка должна была вызвать уважение. Но стиль изложения материала поддержки не нашёл, вызывающе «голая» правда «Метели» секретарю ЛИТО не понравилась.
Не эта ли повесть (под названием «Тетюшанская гомоза») полтора десятилетия спустя будет с иронической усмешкой упомянута в «Театральном романе»? Во всяком случае, в авторе «тетюшанской» книги, Егоре Агапёнове, очень легко узнаётся «метельный» Борис Пильняк.
Не вызвали восторга у Булгакова и другие прочитанные им произведения. Как напишет он в «Записках покойника», один из таких романов…
«… два раза дочитывал до сорок пятой страницы и начинал читать с начала, потому что забывал, что было в начале. Это меня серьёзно испугало. Что‑то неладное творилось у меня в голове — я перестал или ещё не умел понимать серьёзные вещи».
Ничего «неладного» в голове у Булгакова, разумеется, не было. Причина «непонимания» заключалась в другом — то, о чём и как писали авторы прочитанных книг, его абсолютно не устраивало. Хотелось нащупать свою тропу, найти свою нишу в этом пугающе огромном мире литературы. И он принялся сочинять статьи‑фельетоны, наподобие тех, что писал для белогвардейских газет.
Одно из первых написанных им в Москве произведений было посвящено поэту Некрасову. Там привлекает внимание фраза:
«Муза его была — муза мести и печали».
Слова эти относились к Н.А.Некрасову. Но то же самое Булгаков вполне мог сказать и о своей собственной музе. Через семнадцать лет в его пьесе о Дон Кихоте слова «месть» и «печаль» прозвучат в том же контексте, но будут произнесены уже от первого лица. Вспомним это место:
«ДОН КИХОТ…. с этого мгновения я так и буду называть себя, и на щите моём я велю изобразить печальную фигуру… Ну что же, пусть я буду рыцарем Печального Образа, — я с гордостью принимаю это наименование… Идём же вперёд, Санчо… чтобы мстить за обиды, нанесённые свирепыми и сильными беспомощным и слабым…!»
Впрочем, очень скоро Булгакову стало ясно, что к осуществлению «мести» он ещё не готов. Да и «печаль», веявшая от окружавшей его действительности, очень донимала, настойчиво требуя что‑то предпринять. Ведь наркомпросовское «место», поначалу звучавшее так многообещающе, не только не обеспечивало безбедного существования, но и не давало никаких гарантий на будущее. Возможно, поэтому и письмо от 23 октября сестре Надежде (она временно проживала в Киеве) начиналось довольно весело, а заканчивалось грустно:
«Игривый тон моего письма объясняется желанием заглушить тот ужас, который я испытываю при мысли о наступающей зиме. Впрочем, Бог не выдаст. Может, помрём, а может, и нет. Работы у меня гибель. Толку от неё пока немного. Но, может, дальше будет лучше. Напрягаю всю энергию и, действительно, кой‑какие результатишки получаются».
Мать он пугать не хотел, поэтому в письме от 17 ноября обрисовывал ей своё положение с некоторым оптимизмом:
«… идёт бешеная борьба за существование и приспособление к новым условиям жизни…
Пишу всё это ещё и с той целью, чтобы показать, как в наших условиях мне приходится осуществлять свою idee fixe. А заключается она в том, чтобы в три года восстановить норму — квартиру, одежду и книги. Удастся ли — увидим».
Он не терял надежды. И потому наметил себе три своеобразных ориентира, три маяка, три точки опоры: квартира, одежда, книги. Именно ими хотел он обладать в самое ближайшее время. А для этого надо было выстоять. И победить! На меньшее он был не согласен и сообщал матери:
«В числе погибших быть не желаю».
Стремиться к скорейшему осуществлению своей «идеи фикс» Булгакова побуждало ещё одно обстоятельство, а точнее, некое чувство. Именно оно заставило его внести в заголовок второй части «Записок на манжетах» слово «ДЮВЛАМ». Вот что сказано об этом в повести:
«Серый забор. На нём афиша. Огромные яркие буквы. Слово. Батюшки! Что ж за слово‑то? Дювлам. Что ж значит‑то? Значит‑то что ж?
Двенадцатилетний юбилей Владимира Маяковского…
Никогда не видел его, но знаю… знаю. Он лет сорока…»
Конечно же, Булгаков лукавил. Не мог он не знать, что Маяковский моложе его. Моложе, а уже отмечает 12‑летие творческой деятельности! Не нюхал пороха, а уже 12 лет числит себя в рядах поэтов!..
А он, прошедший огни и воды Булгаков, всё ещё никто! Безвестный служащий Наркомпроса, никому неизвестный начинающий литератор. Конечно, было обидно.
Чего действительно не знал Булгаков, так это того, как на самом деле обстояли дела у гордого «юбилейщика». А Маяковский в ту пору особыми творческими достижениями тоже похвастать не мог — он всего лишь рисовал агитплакаты и сочинял подписи к ним (в «Окнах РОСТА»). Правда, трудился он под руководством Платона Михайловича Лебедева (партийная кличка — Керженцев), большевика с дореволюционным стажем. Через несколько лет глава «Окон РОСТА» займёт ответственный пост в Центральном Комитете партии, и тем, кто будет близко знаком с «самим Керженцевым», станут завидовать. Но это случится ещё не скоро, а в 1921‑ом скромному «рисовальщику плакатов» особо гордиться было нечем. Кроме как двенадцатилетним поэтическим стажем.
Но Булгаков, повторяем, этого не знал. И броская афиша на московском заборе своим задиристым словом «дювлам» невольно бередила старые раны в его обиженной душе, укрепляя желание догнать и перегнать ушедших вперёд. И он последовал тому же самому совету, который в его «Дон Кихоте» рыцарь Печального Образа даёт идущему на губернаторство Санчо Пансе:
«Положись во всём на волю провидения, Сапчо, а сам никогда не унижайся и не желай себе меньшего, чем ты стоишь».
И Булгаков, вверив свою судьбу небесам, стал не спеша «закреплять» своё положение в красной Москве. В том же письме матери, называя свою жизнь «каторжно‑рабочей», он не без гордости перечислял, чего удалось ему добиться за полтора месяца пребывания в негостеприимной столице:
«Место я имею. Правда, это далеко не самое главное. Нужно уметь получать и деньги. И второго я, представьте, добился. Правда, пока ещё в ничтожном масштабе. Но всё же в этом месяце мы с Таськой уже кое‑как едим, запаслись картошкой, она починила туфли, начинаем покупать дрова и т. д.
Работать приходится не просто, а с остервенением. С утра до вечера, и так каждый без перерыва день.
Идёт полное сворачивание… учреждений и сокращение штатов. Моё учреждение тоже попадает под него, и, по‑видимому, доживает последние дни. Так что я без места буду в скором времени. Но это пустяки. Мной уже предприняты меры, чтобы не опоздать и вовремя перейти на частную службу».
Приведём ещё один отрывок из письма Булгакова матери. В нём речь идёт о быте булгаковской семьи и том, что значила для Михаила Афанасьевича жена Татьяна.
«Таська ищет место продавщицы, что очень трудно, п[отому] ч[то] вся Москва ещё голая, разутая и торгует эфемерно, большей частью своими силами и средствами, своими немногими людьми. Бедной Таське приходится изощряться изо всех сил, чтоб молотить рожь на обухе и готовить из всякой ерунды обеды. Но она молодец! Одним словом, бьёмся мы оба как рыбы об лёд…
Таськина помощь для меня не поддаётся учёту: при огромных расстояниях, которые мне приходится ежедневно пробегать (буквально) по Москве, она спасает мне массу энергии и сил, кормя меня и оставляя мне лишь то, что уж сама не может сделать: колку дров по вечерам и таскание картошки по утрам.
Оба мы носимся по Москве в своих пальтишках… Мечтаю добыть Татьяне тёплую обувь. У неё ни черта нет, кроме туфель.
Но авось! Лишь бы комната и здоровы».
Так начинал свою жизнь в красной большевистской столице 30‑летний Михаил Булгаков.
Московская бездна
23 ноября 1921 года на первой странице газеты «Правда» было помещено сообщение, которое в наши дни назвали бы сенсационным. Но прежде чем процитировать его вспомним финал булгаковского «Бега», в котором бежавший в Турцию белогвардейский генерал Роман Хлудов неожиданно объявляет о своём решении вернуться на родину.
«ХЛУДОВ. Ночью пароход идёт с казаками. Может быть, и я поеду с ними… Генерал Чариота! Поедем со мной! А? Ты — человек смелый…
ЧАРНОТА. Постой, постой, постой!.. Куда это? Ах, туда! Здорово придумано!.. Или ответ едешь держать? А? Ну, так знай, Роман, что проживёшь ты ровно столько, сколько потребуется тебя с парохода снять и довести до ближайшей стенки! Да и то под строжайшим караулом, чтобы тебя не разорвали по дороге. Ты, брат, большую память о себе оставил!.. Нет, Роман, от смерти я не бегал, но за смертью специально к большевикам не поеду! Дружески говорю, брось! Всё кончено. Империю Российскую ты проиграл…!»
А теперь — о сенсационном сообщении «Правды». На её первой странице крупным шрифтом была набрана фраза, раскрывавшая суть происшедшего:
«Прибытие ген[ерала] Слащёва и др[угих] бывших врангелевск[их] офицеров в Советскую]Россию».
Затем шло развёрнутое «правительственное сообщение», которое начиналось так:
«На днях из Константинополя в Советскую Россию прибыли тайно от барона Врангеля и агентов Антанты: бывший командир Крымского корпуса (армии Врангеля) и начальник обороны Крыма (1919–1920) ген[ерал]‑лейт[енант] Слащёв…»
Далее перечислялись должности и фамилии четырёх спутников белого генерала (которого, кстати, многие считают прообразом булгаковского Хлудова).
Это было неслыханно! Ещё бы, на родину вернулись заклятые враги советской власти. И большевики не расстреляли их у ближайшей стенки. Напротив, они простили их. А впоследствии даже трудоустроили, найдя им подходящие «места» и должности в учреждениях пролетарской столицы.
Очередь за керосином. Москва, 1921 г.
А бывший белогвардеец Михаил Булгаков, никогда с оружием в руках против Красной армии не выступавший, в тот же самый день (23 ноября 1921 года) своего «места» в Главполитпросвете лишился. ЛИТО расформировали. Всем его работникам вручили пособие за две недели вперёд и с начала следующего месяца объявили уволенными.
Впрочем, к подобному повороту событий Михаил Афанасьевич был готов, и поэтому спокойно перешёл на заранее подготовленные позиции — заведовать отделом в частной газете. Уже 1 декабря он сообщал сестре Надежде:
«Я заведываю хроникой „Торгово‑промышленного вестника “ и, если сойду сума, то именно из‑за этого …. буквально до смерти устаю. Махнул рукой на всё. Ни о каком писании не думаю. Счастлив только тогда, когда Таська поит меня горячим чаем. Питаемся мы с ней неизмеримо лучше, чем в начале».
3 декабря Булгаков получил трудовую книжку. Важнее этого документа в ту пору были, пожалуй, только партбилет и паспорт. В графе «профессия» стояло слово «литератор», в графе «образование» — «среднее». Иными словами, игра в «прятки» с советской властью продолжалась. Но за Москву периферийный литератор с тщательно скрываемым дипломом медика всё‑таки, как тогда говорили, зацепился.
Произошло это в то самое время, когда всюду шёпотом пересказывали слова Горького:
«Ленин сказал, что нужно отложить коммунизм лет на двадцать пять».
Многих такой поворот событий радовал. Тем более что обещанный коммунизм большевики и в самом деле не только «отложили», но и торжественно провозгласили переход на рельсы новой экономической политики (НЭПа), которая давала некоторые послабления частному капиталу.
Однако эти нововведения не избавили рядовых советских граждан от многочисленных невзгод.
Невозмутимая советская печать упорно объясняла происхождение возникавших в стране трудностей коварными происками капиталистического окружения. Тон в этом шумном пропагандистском представлении задавали кремлёвские вожди, чьи многословные выступления центральная пресса тотчас делала достоянием масс. Так, 29 декабря 1921 года в «Правде» появилась статья под заголовком «Шуточки Троцкого»:
«На авансцене Большого театра тов[арищ] Троцкий. Словно конферансье на великом театре народов, он делает доклад, пересыпая свою речь сверкающими блёстками остроумия и отточенных выпадов в сторону врагов революции…
И, тряхнув своей седеющей, с налётом „соли и перца“, как говорят французы, головой, он обмакивает каждый кусочек своего доклада в эти аттические «перец и соль» и деликатно, двумя пальчиками выкладывает их в рты «господ, подбитых ветром и иными лёгкими материалами».
Это был весёлый доклад о страшных, в сущности, вещах».
Не этот ли «весёлый доклад» и не этот ли остроумный докладчик Троцкий, названный газетой «конферансье», лягут впоследствии в основу целого эпизода «Мастера и Маргариты»? Вспомним, как на сеансе чёрной магии в Варьете конферансье Бенгальский выступил с речью, которая так не понравилась публике:
«— Между прочим, этот — тут Фагот указал на Бенгальского, — мне надоел. Суётся всё время, куда его не спрашивают, ложными замечаниями портит сеанс! Что бы нам такое с ним сделать?
— Голову ему оторвать! — сказал кто‑то сурово на галёрке.
— Как вы говорите? Ась? — тотчас отозвался на это безобразное предложение Фагот. — Голову оторвать? Это идея! Бегемот! — закричал он коту. — Давай! Эйн, цвей, дрей!!»
И Бенгальскому (то есть Троцкому) голову как мы знаем, оторвали. Впрочем, эта судьбоносная (для партии большевиков) «экзекуция» произойдёт немного позднее.
В декабре того же 1921 года случилось событие, в масштабах страны незначительное, но для нашего повествования довольно любопытное: Замоскворецкий райком ВКП(б) «вычистил» из партии Надежду Аллилуеву — «как балласт, совершенно не интересующийся партийной жизнью». Исключённую из большевистских рядов женщину обыкновенной советской гражданкой назвать было нельзя. Ведь она работала секретарём самого Ленина и являлась женой Сталина. За несправедливо «вычищенного» товарища заступился лично Владимир Ильич, и райком отменил «исключение», переведя Аллилуеву из членов партии в кандидаты.
А Михаил Булгаков стал к этому времени «миллионером», о чём он и написал 15 декабря сестре Надежде:
«Я завален работой в „Вестнике“. Мы с Таськой питаемся теперь вполне прилично. Если „Вестник“ будет развиваться, надеюсь, дальше проживём. Получаю 3 миллиона в месяц. Скверно, что нет пайка».
Но пребывать в «миллионерах» пришлось недолго — в самом начале 1922 года служащие «Торгово‑промышленного вестника» неожиданно узнали о том, что их тоже собираются «вычистить», то бишь уволить с работы. Заступиться за работников небольшой частной газеты было некому, и 13 января Булгаков сообщил сестре Надежде:
«Редактор сообщил мне, что под тяжестью внешних условий „Вест(ник)“ горит… Ты поймёшь, что я должен чувствовать сегодня, вылетая вместе с „Вестником“ в трубу».
Через несколько дней газета‑кормилица и в самом деле прекратила своё существование. В Москве — жутчайшие морозы, а у Булгакова — ни тёплой одежды, ни работы. Об этом — в рассказе «Сорок сороков»:
«Белые дни и драповое пальто. Драп, драп. О, чёртова дерюга! Я не могу описать, насколько я мёрз. Мёрз и бегал. Бегал и мёрз».
Чуть позднее в фельетоне «Трактат о жилище» о той жуткой зиме будет рассказано ещё подробнее:
«Меня гоняло по всей необъятной и странной столице одно желание — найти себе пропитание. И я его находил — правда, скудное, невероятно зыбкое. Находил я его на самых фантастических и скоротечных, как чахотка, должностях, добывая его странными, утлыми способами, многие из которых теперь, когда мне полегчало, кажутся уже мне смешными. Я писал торгово‑промышленную хронику в газетах, а по ночам сочинял весёлые фельетоны, которые мне самому казались не смешнее зубной боли».
В одном из таких «весёлых фельетонов» («Четыре портрета») Михаил Афанасьевич представил и самого себя:
«Я бывший… впрочем, это не имеет значения, ныне я человек без определённых занятий».
В уже упоминавшейся нами автобиографии (в той, что будет написана в 1924 году) о периоде жизни, который начался с закрытия «Торгово‑промышленного вестника», сказано:
«… чтобы поддерживать существование, служил репортёром и фельетонистом в газетах и возненавидел эти звания, лишённые отличий».
Свои впечатления от всего того, что происходило вокруг, Булгаков аккуратно записывал в дневник. 25 января 1922 года он с горечью признавался:
«[Я] до сих пор без места. Питаемся [с] женой плохо. От этого и писать [не]хочется».
Чтобы выжить, приходилось соглашаться на любую работу. Запись от 26 января:
«Вошёл в бродячий коллектив актёров: буду играть на окраинах. Плата 125 за спектакль. Убийственно мало. Конечно, из‑за этих спектаклей писать будет некогда. Заколдованный круг. Питаемся с женой впроголодь».
2 февраля из Киева пришла телеграмма, сообщившая о смерти матери. И в тот же день распался «бродячий коллектив актёров».
А дневник продолжали заполнять фразы, полные пессимизма:
«9 февраля.
Идёт самый чёрный период моей жизни. Мы с женой голодаем… Оббегал всю Москву — нет места… Валенки рассыпались…
15 февраля.
Хожу в остатках подмёток. Валенки пришли в негодность. Живём впроголодь. Кругом должны».
Булгаков предпринимал отчаянные попытки вырваться из нужды. Любыми способами. Татьяна Николаевна свидетельствовала:
«Будит в час ночи:
— Идём в казино! У меня такое чувство, что я должен выиграть!
— Да куда идти, я спать хочу!
— Нет, пойдём, пойдём!
Всё проигрываем, разумеется. Наутро я всё собирала, что было в доме, — несла на Смоленский рынок!».
Но даже такие весьма экстравагантные попытки пополнить или опустошить семейный бюджет можно было предпринимать лишь тогда, когда в кошельке имелись хоть какие‑то деньги. Вскоре и их не стало. Татьяна Николаевна вспоминала:
«Хуже, чем где бы то ни было, было в первый год в Москве. Бывало, что по 3 дня ничего не ели, совсем ничего. Не было ни хлеба, ни картошки. И продавать было уже нечего. Я лежала и всё».
Борис Пильняк, ухитрявшийся в разгар жесточайшей разрухи не только сочинять книги, но и печатать их, с убийственной точностью описывал приметы того жуткого времени. В его повести «Иван да Марья» даже от названий глав веет надрывной угрюмостью: «Забор, торчащий в тоску», «Тропа в Революцию», «Волчья пустыня Российской Революции»… Содержание этих глав ещё печальнее:
«А на Лубянке в столовой, как во всех столовых, стоять в очередях… и смотреть, как между столов ходят старики в котелках и старухи в шляпках и подъедают объедки с тарелок, хватая их пальцами в гусиной коже и ссыпая объедки в бумажки, чтобы поесть вечером. Где они живут и как? — где и как?»
Писатель Евгений Замятин в книге «Я боюсь», вышедшей в том же 1921 году, приходил к такому невесёлому выводу:
«… чтобы жить так, как пять лет назад жил студент на сорок рублей, — Гоголю пришлось бы писать в месяц по четыре „Ревизора “, Тургеневу каждые два месяца — по трое „Отцов и детей “, Чехову — в месяц по сотне рассказов. Но даже не в этом главное: голодать русские писатели привыкли. Главное в том, что настоящая литература может быть только там, где её делают не исполнительные чиновники, а безумцы, отшельники, еретики, мечтатели, бунтари, скептики…»
Эти книги Булгаков не мог не читать. А если читал, то наверняка заметил, с какой едкой иронией высмеивали их авторы всё советское. Тот же Борис Пильняк вовсю подтрунивал над тем, что писалось тогда в центральных газетах:
«„Последнее слово науки! Величайшая в мире радиостанция!.. Ни одного неграмотного! Всероссийская сеть метеорологических станций! Всероссийская сеть здравниц и домов отдыха! В деревне Акатьево — электричество крестьянам! Победа на трудовом фронте — люберецкие рабочие нагрузили пять вагонов дров!“ — это пишу не я, автор. Это гудит „Гудок“ Цектрана».
В повести «Машины и волки» Пильняк дал той страшной поре ещё более точное определение:
«Самое омерзительное в наши дни — это то, что всё теперь измеряется куском картошки и хлеба, — впрочем, лучше всего сейчас обеспечены негодяи, у них права на жизнь больше, чем у всех иных»
Чуть позднее (в повести «Тайному другу») Булгаков поделится своим аналогичным наблюдением:
«Честность всегда приводит к неприятностям. Я давно уже знаю, что жулики живут, во‑первых, лучше честных, а во‑вторых, пользуются дружным уважением».
Затем эта мысль будет развита и дополнена (в «Жизни господина де Мольера»):
«Прескучно живут честные люди! Воры же во все времена устраиваются великолепно, и все любят воров, потому что возле них всегда сытно и весело».
У тех, кто к разряду «воров», «негодяев» и «жуликов» себя не относил, достойной жизни не получалось. Все попытки встать на ноги завершались провалом. И очень скоро отчаявшиеся «честные люди» начинали понимать, что выход у них только один. О нём — в булгаковском рассказе «Сорок сороков»:
«… и совершенно ясно и просто передо мной лёг лотерейный билет с надписью — смерть. Увидев его, я словно проснулся. Я развил энергию неслыханную, чудовищную. Я не погиб, несмотря на то, что удары сыпались на меня градом… Я перенял защитные приёмы… Тело моё стало худым и жилистым, сердце железным, глаза зоркими. Я закалён».
Активность и энергичность Булгакова той поры бросались в глаза многим. Б.М. Земской (брат мужа его сестры Надежды) писал в одном из своих писем:
«Миша меня поражает своей энергией, работоспособностью, предприимчивостью и бодростью духа… Можно с уверенностью сказать, что он поймает свою судьбу, — она от него не уйдёт».
Разумеется, никто из тех, кто окружал тогда Михаила Афанасьевича, даже не догадывался о том, что он, обречённый уйти из жизни в расцвете сил, просто не имел права расслабиться. И потому не мог дать сбить себя с ног мелким неурядицам, не мог позволить себе растерянно остановиться перед препятствиями.
И Булгаков поймал ускользавшую от него удачу! Поймал в крепкие сети своей неимоверной предприимчивости, трудолюбия и таланта.
1 марта 1922 года стала выходить новая всероссийская газета «Рабочий», и в первом же её номере — заметка, подписанная «Михаил Бул.».
С воскресенья 26 марта начала поступать в продажу газета «Накануне». Издавали её эмигранты и экс‑эмигранты, пытавшиеся наладить отношения с советской властью. В этой газете тоже стали регулярно печататься булгаковские фельетоны.
Будучи беспартийным и даже не являясь сочувствующим политическому курсу советской власти, Булгаков ухитрился стать сотрудником главной большевистской газеты «Правды». Сестре Надежде писал:
«Работой я буквально задавлен. Не имею времени писать и заниматься как следует франц[узским] язык [ом]».
В том же марте Булгакова приняли на должность старшего инженера в Научно‑технический комитет. Туда его устроил уже упоминавшийся нами Б.М. Земской.
Казалось бы, жизнь потихоньку устраивалась. Но что это была за жизнь? Молодой литератор Корней Иванович Чуковский, посетив финское представительство, почувствовал вдруг что‑то необъяснимо непонятное. И 20 марта 1922 года записал в дневник:
«Вначале я не мог понять, что чувствую, что‑то странное, а что — не понимаю. Но потом понял: новые обои! Комнаты, занимаемые финнами, оклеены новыми обоями! Двери выкрашены свежей краской!! Этого чуда я не видел пять лет. Никакого ремонта! Ни одного строящегося дома! Да что дома! Я не видел ни одной поправленной дверцы от печки, ни одной абсолютно новой подушки, ложки, тарелки».
Вот что принесла рядовым россиянам советская власть. Они на долгие годы оказались лишенными самого, казалось бы, элементарного. Но уже то, что люди начали обращать внимание на обои, а не на кусок хлеба, радовало. Да и жизнь, как река, нагулявшаяся за время буйного половодья, постепенно входила в своё русло. Страшная голодная зима была позади, от неё остались одни воспоминания. Попали они и в булгаковский рассказ «Сорок сороков»:
«Ах, это были трудные времена. За завтрашний день нельзя было поручиться. Но всё же я и подобные мне не ели уже крупы и сахарину. Было мясо на обед. Впервые за три года я не „получил „ботинки, а купил их, они были не вдвое больше моей ноги, а только номера на два…
Это был апрель 1922 года».
Михаилу Булгакову апрель 1922 года запомнился купленными ботинками. Владимир Маяковский в том же апреле впервые отправился за границу. Студент философского факультета Московского университета Илья Сельвинский безуспешно оббивал пороги издательств, пытаясь напечатать хоть что‑то из сочинённых им стихотворных строк. А Борис Пильняк выпустил очередную повесть «Третья столица», в которой делился с читателями своим неожиданным открытием:
«… я открыл словесный нонсенс, имеющий исторический смысл: власть советов — власть пожеланий».
А эта открытая Пильняком «власть пожеланий» (гордо именовавшая себя «советской властью») продолжала укреплять своё положение. 27 марта 1922 года в Москве открылся XI съезд партии, последний съезд, на котором присутствовал Ленин. На одном из заседаний на трибуну поднялся Михаил Томский (большевистский вождь, командовавший профсоюзами) и заявил:
«Нас упрекают за границей, что у нас режим одной партии. Это неверно. У нас много партий. Но в отличие от заграницы, у нас одна партия у власти, а остальные — в тюрьме».
Слова высокопоставленного оратора были встречены бурными аплодисментами всех присутствовавших.
Съезд завершился учреждением нового поста в руководстве партией — генерального секретаря ЦК. Им стал Иосиф Сталин.
И вновь потекли будни, заполненные суетой и текучкой. Но вдруг в конце мая…
Впрочем, о том майском происшествии поначалу знали очень немногие. Даже Троцкому сообщили о случившемся лишь неделю спустя.
А событие между тем произошло чрезвычайное: в последней декаде мая на Ленина обрушился инсульт.
Стране и остальному миру о болезни председателя Совнаркома стало известно только в середине июня, когда центральные газеты начали печатать бюллетени о состоянии здоровья вождя. Впрочем, правды в этих скупых сообщениях было мало. И потому так актуально зазвучали ёрнические строки Бориса Пильняка из его повести «Третья столица»:
«… ложь в России… ложь всюду: в труде, в общественной жизни, в семейных отношениях. Лгут все: и коммунисты, и буржуа, и рабочий, и даже враги революции, вся нация русская. Что это? — массовый психоз, болезнь, слепота?»
У Булгакова не было времени всерьёз задумываться над подобными вопросами: слишком много мелких житейских неурядиц ежеминутно напоминали о себе. Наиболее острой среди них была неурядица жилищная.
Квартирные хлопоты
Сестра Булгакова, Надежда Афанасьевна Земская, вспоминала:
«Приехав в Москву в сентябре 1921 года без денег, без вещей и без крова, Михаил Афанасьевич одно время жил в Тихомировском студенческом общежитии, куда его на время устроил студент‑медик, друг семьи Булгаковых, Николай Леонидович Гладыревский. Но оставаться там долго было нельзя…»
Продолжает Татьяна Николаевна:
«Ночь или две мы переночевали в этом общежитии и сразу поселились на Большой Садовой. Надя ему комнату уступила».
Сестра Надежда и её муж, Андрей Михайлович Земской, на какое‑то время уехали в Киев. Потому и «уступили» Булгаковым свою жилплощадь.
24 марта 1922 года Михаил Афанасьевич писал сестре Вере:
«Самый ужасный вопрос в Москве — квартирный».
Нехватку жилплощади в ту пору ощущали не только рядовые москвичи, но и всемогущие правители страны Советов. Л.Д.Троцкий вспоминал впоследствии:
«В Кремле, как и по всей Москве, шла непрерывная борьба из‑за квартир, которых не хватало».
В том же мартовском письме сестре Вере Булгаков сообщал:
«Живу в комнате, оставленной мне по отъезде Андреем Земским, Большая Садовая, 10, кв. 50. Комната скверная, соседство тоже, оседлым себя не чувствую, устроиться в ней стоило больших хлопот».
«Большие хлопоты» состояли в том, что требовалось «закрепить» за собой эту комнату на «законном» основании, то есть прописаться. Необходимость подобного шага Татьяна Николаевна обосновывала так:
«Жилищное товарищество на Большой Садовой, дом 10, хотело выписать нас и выселить. Им просто денег было нужно, а денег у нас не было. И вот только несколько месяцев прошло, Михаил стал работать в газете, где заведовала Крупская…»
Грех было не воспользоваться близостью к такому всемогущему лицу.
Машинистка Ирина Сергеевна Раабен, печатавшая в те годы многие булгаковские работы, впоследствии рассказывала:
«Он… решил написать письмо Надежде Константиновне Крупской. Мы с ним письмо это вместе долго сочиняли. Когда оно уже было напечатано, он мне вдруг сказал: „Знаете, пожалуй, я его лучше перепишу от руки “. И так и сделал».
Встреча с женой Ленина, описанная в рассказе «Воспоминание…», произошла в тот самый момент, когда Михаил Афанасьевич носил полушубок, о котором лишний раз даже говорить не решался…
«… чтобы не возбуждать в читателе чувство отвращения, которое и до сих пор терзает меня при воспоминании об этой лохматой дряни… Мой полушубок заменял мне пальто, одеяло, скатерть и постель».
В этом‑то одеянии Булгаков и предстал перед Крупской:
«В три часа дня я вошёл в кабинет… Надежда Константиновна в вытертой какой‑то меховой кацавейке вышла из‑за стола и посмотрела на мой полушубок.
— Вы что хотите? — спросила она…
— Я ничего не хочу на свете, кроме одного — совместного жительства. Меня хотят выгнать. У меня нет никаких надежд ни на кого, кроме Председателя Совета Народных Комиссаров. Убедительно прошу передать ему это заявление.
И я вручил ей свой лист.
Она прочитала его.
— Нет, — сказала она, — такую штуку подавать Председателю Совета Народных Комиссаров?
— Что же мне делать? — спросил я и уронил шапку.
Надежда Константиновна взяла мой лист и написала сбоку красными чернилами:
«Прошу дать ордер на совместное жительство».
И подписала:
Самое главное то, что я забыл её поблагодарить.
Криво надел шапку и вышел.
Вот оно неудобно как…
Благодарю вас, Надежда Константиновна».
И Булгаковых на Большой Садовой прописали. Сестра Надежда позднее рассказывала:
«Земских выписали, а Михаил Афанасьевич остался на правах постоянного жильца. С ним жила и была прописана его жена — Татьяна Николаевна».
Об этой с таким трудом завоёванной жилплощади Булгаков вспоминал потом часто. Это о ней устами своего героя восклицал он в «Мастере и Маргарите»:
«— Уу, проклятая дыра!»
Это на её описание в «Театральном романе» не пожалел он тусклых красок:
«Из кухни пахло жареной бараниной, в коридоре стоял вечный, хорошо известный мне туман, в нём тускло горела под потолком лампочка».
Именно в этой квартире, оставив её «родной» номер (50) и назвав «нехорошей», Булгаков поселит дьявольскую компанию во главе с Воландом.
Решив проблемы, касавшиеся вопроса «где жить?», Булгаков стал пытаться ответить и на другой не менее важный вопрос: «на что жить?». Он давно уже понял, что одними фельетонами, печатавшимися в разных газетах от случая к случаю, средств к достойному существованию не добудешь. Громкого имени подобные статьи‑однодневки тоже составить не могли.
Выход был один — опубликовать что‑то солидное.
Отчаянные попытки
Из «солидного» у Булгакова были только «Записки на манжетах». Но где бы он ни предлагал эту повесть, всюду её решительно отвергали. А однажды даже высказали мнение, от которого начинающему писателю стало немного не по себе (Повесть «Тайному другу»):
«… мне сказал редактор, что считает написанное мною контрреволюционным и настойчиво советует мне более в таком роде не писать. Тёмные предчувствия тогда одолели мной, но быстро прошли».
Уже не периферийный Владикавказ, а сама пролетарская столица впрямую говорила Булгакову, что в его творениях отчётливо слышны антисоветские контрреволюционные нотки. Ему, пытавшемуся спрятать своё истинное отношение к режиму большевиков под безобидной маской «литератора со средним образованием», в очередной раз «настойчиво советовали»: одумайтесь!
Впрочем, несуразность порядков страны Советов и никчёмность существования её обитателей критиковали и высмеивали тогда многие. Так, Корней Чуковский, занося в дневник (29 марта 1922 года) свои впечатления от всего того, что происходило вокруг, заметил:
«Нет никакой духовной жизни, — смерть. Процветают только кабак, балы, маскарады и скандалы».
Самое известное стихотворение Маяковского той поры — «О дряни».
Заунывно‑тусклой выглядела советская повседневность и в произведениях Пильняка. Приведём ещё один отрывок из его повести «Чёрный хлеб»:
«Где, в какой ещё стране, люди чувствуют так свою ненужность, как в России? — к двадцати годам каждый уже знает, что он никому не нужен, даже себе, — мир и человечество идут мимо него, он не нужен миру и человечеству, но ведь он частишь он составляет человечество!»
И студент философского факультета МГУ Илья Сельвинский писал о том же самом — о поколении «двадцатилетних»:
Стоит ли удивляться, что это стихотворение нигде не хотели печатать? Пробегали глазами первые строчки, и тут же возвращали автору Когда же Сельвинский прочёл его в двух‑трёх аудиториях, то встретил такую оторопь, выслушал столько возмущённых негодований и даже угроз, что был вынужден срочно вытравить всю крамолу из написанных строк. Только тогда его «Двадцатилетних» опубликовали.
В фельетонах Булгакова крамолы не было. Критиковать существовавшие в стране порядки он не спешил. Его «мщение» дальше лёгких уколов и невинных с виду подковырок не шло. «Припечатывались» лишь отдельные отрицательные личности и некоторые негативные явления вообще. Он всё ещё присматривался. Продолжая надеяться, что ему (умному, талантливому, прошедшему огни и воды литератору) обвести вокруг пальца малообразованных советских церберов особого труда не составит.
В своих надеждах Булгаков был не одинок. Обмануть советскую власть намеревались тогда многие. А молодой литератор Николай Альфредович Рабинович, сочинявший для эстрады смешные стихотворные скетчи, даже псевдоним себе взял — Адуев или Н. Адуев. Тем самым, собираясь как следует «надуть» большевиков.
Однако отважные ёрники заблуждались. На страже большевистского режима стояли не только бывшие подпольщики, простоватые и не шибко грамотные. Среди советских руководящих работников встречались люди высокообразованные и очень толковые. Например, такие, как эстонец Август Иванович Корк, окончивший в 1914 году Академию Генерального штаба, а с июня 1919‑го по октябрь 1920‑го командовавший 15‑ой армией Западного фронта.
В 1922 году в журнале «Революция и война» Корк опубликовал статью, само название которой («Критика и критиканство») имело самое непосредственное отношение ко всем «высмеивателям» советских порядков. В статье с большим неудовольствием говорилось о тех литераторах, которые…
«… вместо необходимой здоровой критики занимаются вредным критиканством».
И Август Иванович терпеливо и настойчиво призывал:
«… нам следует всемерно воздерживаться от беспочвенного, легкомысленного критиканства».
Впрочем, большинство советских литераторов малотиражную и узкоспециализированную «Революцию и войну» вряд ли читало. И призыв Августа Корка (отказаться от «критиканства») до самых главных «критиканов», конечно же, не дошёл. Что же касается Булгакова, то советы красного командарма к нему и вовсе не имели отношения, потому как критиковать существующий режим он не собирался. Он хотел ему мстить, чтобы расшатать, а затем и разрушить.
Вот только приступить к этому своему мщению Михаилу Афанасьевичу никак не удавалось — «Записки на манжетах» большевики‑редакторы по‑прежнему решительно отвергали. Это вызывало у него недоумение: что в этой повести неприемлемого? Да, есть несколько колких мест, но в остальном‑то всё абсолютно лояльно, никакой контрреволюции.
Интерес к булгаковским «Запискам…» проявили лишь бывшие белоэмигранты из «Накануне». И 18 июня 1922 года первая часть повести была опубликована в литературном приложении к этой газете.
При подготовке к публикации произошёл инцидент, который должен был основательно насторожить Булгакова. Дело в том, что до сих пор он имел дело лишь, так сказать, с передовыми частями защитников большевистского режима, которым в одной из своих статей дал такую оценку:
«Казнь египетская всех русских писателей — бесчисленные критики и рецензенты».
Теперь судьба столкнула его с главным стражем бастионов режима — с настоящей цензурой. В повести «Тайному другу» об этом сказано так:
«… я впервые здесь столкнулся с цензурой. У всех было всё благополучно, а у меня цензура вычеркнула несколько фраз. Когда эти фразы вывалились, произведение приобрело загадочный и бессмысленный характер и, вне всяких сомнений, более контрреволюционный».
Но Булгаков вновь не сделал для себя никаких выводов, продолжая писать в прежней своей манере, лёгкой, ироничной и слегка подкалывающей всё советское.
А власти тем временем решили обратить на «критиканствующих» литераторов самое пристальное внимание. Всё началось с того, что 10 августа 1922 года (Ленин находился ещё в Горках, где приходил в себя после инсульта) состоялось очередное заседание политбюро с участием Каменева, Троцкого, Зиновьева, Сталина и Молотова. Среди прочих животрепещущих и злободневных тем мировой и внутренней политики вождям предстояло обсудить и творчество Бориса Пильняка. Докладчиком (и, скорее всего, инициатором этого литературного обсуждения) был Лев Троцкий.
Вот выдержка из протокола:
5. О конфискации книги Пильняка „Смертельное манит“ (т. Троцкий).
Постановили:
а). Отложить до следующего заседания, не отменяя конфискации.
б). Обязать т.т. Рыкова, Калинина, Молотова и Каменева прочесть рассказ Пильняка „Иван да Марья“, а всех членов п/б — повесть „Метель“ в сборнике „Пересеет “».
Судя по всему, знакомясь с новинками литературы, Троцкий пришёл в ужас от антисоветского духа, которым были переполнены произведения Бориса Пильняка. Вот и предложил коллегам по политбюро применить в отношении писателя‑критикана самые строгие меры. В том числе и немедленную конфискацию самой крамольной его книги. Коллеги не возражали. Но так как почти никто из вождей упомянутых «вредных» произведений прочесть не удосужился, пришлось нерадивых коллег «обязать». Поставив им в пример вождей «правильных»: Троцкого, Зиновьева и Сталина, которые за выходившими из печати новинками следили внимательно.
Тем временем болезнь Ленина благополучно завершилась, в октябре Владимир Ильич вернулся из Горок в Кремль и приступил к работе.
И тотчас началась заранее спланированная и тщательно подготовленная акция, которую поручили провести чекистам. Ещё в июне в Москве и в других крупных городах страны были проведены повальные обыски и аресты. А осенью ОГПУ приступило к массовой высылке из страны цвета российской интеллигенции — всех тех, кто выражал несогласие с проводимой большевиками политикой.
Булгакова эти репрессии не коснулись — «литератор со средним образованием» был ещё мало кому известен, а потому и не вызывал опасений. А между тем он уже засел за сочинение романа, в котором выплёскивал на бумагу свою нескрываемую неприязнь к творцам октябрьского переворота:
«Большевиков ненавидели ненавистью трусливой, шипящей, из‑за угла, из темноты. Ненавидели все. Ненавидели днём и ночью…»
С нескрываемым удовлетворением упоминалось в романе и о том, что все только и ждали того момента…
«… когда большевиков повесят на фонарях на Театральной площади…»
30 декабря 1922 года у литературоведа Евдоксии Фёдоровны Никитиной проходил очередной «Никитинский субботник». Булгаков читал на нём главы из «Записок на манжетах». Затем Илья Сельвинский декламировал свою поэму «Рысь».
С этого момента жизненные пути Булгакова и Сельвинского станут пересекаться довольно часто. Но, странное дело, в своих записях ни один из них не оставил ни единого упоминания о встречах друг с другом.
В Центральном литературном архиве сохранилась рецензия на тот вариант «Рыси», что читал Сельвинский. Приговор, который вынес этому стихотворному «венку сонетов» рецензент П.Н. Зайцев (главным образом на основании того, что его форма якобы не соответствует содержанию), был довольно суров:
«В целом поэму следует считать неудавшейся… В настоящем виде поэму печатать нельзя».
«Рысь» образца начала 20‑х так никогда и не была напечатана.
А вот Булгаков имел в тот вечер все основания сказать слушателям, что читает им главы повести, принятой к публикации одним из советских издательств. Дело в том, что некоторое время тому назад он познакомился…
Знакомство с «Шулером»
Осенью 1922 года Булгаков познакомился с человеком, который в пролетарской стране, где всё вокруг было обобществлено, национализировано, редактировал частный журнал. Журнал назывался «Россия», и его редактором был Исай Григорьевич Лежнев. Он‑то и заключил с Михаилом Афанасьевичем договор на издание повести, что дало её автору повод поёрничать впоследствии в повести «Тайному другу»:
«… кому, кому, кроме интеллигентской размазни, вроде меня, придёт в голову заключить договор с человеком, фамилия которого…»
Дело в том, что Лежнев — это псевдоним. Настоящая фамилия редактора была Альтшулер, что в переводе с немецкого означает «старый жулик» или «старый шулер».
Ознакомившись с «Записками на манжетах», Альтшулер‑Лежнев сразу пообещал напечатать отрывок из них. И слово своё сдержал — в январе 1923‑его, когда вышел в свет пятый номер «России» («Тайному другу»):
«… Отрывок… очень скоро я увидел… напечатанным. Это доставило мне громадное удовольствие. Не меньшее — и то обстоятельство, что я был помещён на обложке в списке сотрудников журнала».
Публикация в «толстом» журнале вдохнула уверенность и надежду И 23 января Михаил Афанасьевич написал сестре Вере в Киев:
«Дорогая Вера…
Здесь в Москве, в условиях неизмеримо более трудных, чем у Вас, я всё же думаю пустить жизнь в нормальное русло…
Я очень много работаю и смертельно устаю…»
Слова «много работаю» свидетельствуют о том, что в это время Булгаков создавал роман «Белый крест», переименованный позднее в «Белую гвардию». Он стал писать его («Тайному другу»):
«… не зная ещё хорошо, что из этого выйдет. Помнится, мне очень хотелось передать, как хорошо, когда дома тепло, часы, бьющие башенным боем в столовой, сонную дрёму в постели, книги, и мороз, и… мои сны…
С этой ночи каждую ночь в час я садился к столу и писал часов до трёх, четырёх. Дело шло легко ночью».
Сообщая о лёгкости ночного писания, Булгаков, конечно же, лукавит. Совсем не так легко и просто давалась ему работа, о которой годы спустя Татьяна Николаевна рассказывала Мариэтте Чудаковой, автору «Жизнеописания Михаила Булгакова»:
«Писал ночами… „Белую гвардию“ и любил, чтобы я сидела около, шила. У него холодели руки, ноги, он говорил мне:
— Скорей, скорей горячей воды!
Я грела воду на керосинке, он опускал руки в таз с горячей водой.
— Что это было? Сердце?
— Нет, видимо, что‑то нервное. Он очень уставал».
«Очень уставал» Михаил Афанасьевич ещё и потому, что ночные писания не были единственным его занятием. В повести «Тайному другу» сказано:
«Для того, чтобы писать по ночам, нужно было иметь возможность существовать днём».
Кстати, то же самое имел в виду и писатель Евгений Замятин, когда писал в книге «Я боюсь»:
«Писатель, который не может быть юрким, должен ходить на службу с портфелем, если он хочет жить…»
В ту пору назвать себя писателем Булгаков ещё не мог. Но при всей своей неукротимой энергичности он не рвался ходить на службу в какое‑либо советское учреждение. И этим сильно отличался от многих своих современников, в том числе и от весьма высокопоставленных. Например, от Ленина. Ведь Владимир Ильич к работе стремился, работы жаждал. И строил грандиозные планы, в числе которых было провозглашение на съезде Советов нового государственного образования — Союза Советских Социалистических Республик… Но случившийся в декабре 1922‑го второй инсульт вновь уложил лидера большевиков на койку.
Широкие народные массы об этом очередном сбое в самочувствии Ильича долго ничего не знали. В Кремле по‑прежнему считали, что вожди, положившие столько сил и здоровья на завоевание власти, имеют полное право немного расслабиться, поболеть (иначе за что боролись?). И потому незачем сообщать населению о каждой хвори высокопоставленного лидера. У народа и так забот полон рот: ему надо светлое будущее строить — социализм, претворяя в жизнь мечты и чаяния партии большевиков.
Как ни старался Михаил Булгаков быть в стороне от этого массового «строительства», проводимого по планам «кремлёвских мечтателей», ему всё же пришлось принять в нём участие. Поиски средств, необходимых для того, чтобы «писать по ночам», привели его в редакцию железнодорожной газеты.
Сотрудник газеты
В газете советских железнодорожников — в том самом «Гудке» Цектрана (Центрального комитета профсоюза транспортников), который едко высмеял в одной из своих повестей Борис Пильняк, — Михаил Булгаков начал работать с февраля 1923 года. При оформлении он вновь утаил подлинные факты своей биографии, написав в анкете уже знакомые нам слова о том, что является «.литератором» и что образование у него «среднее». В повести «Тайному другу» поступок этот объясняется так:
«Ятогда почему‑то считал нужным скрывать своё образование. Мне было стыдно, что человек с таким образованием служит в газете… и у него нет картин на стенах».
Сначала Булгакова взяли обработчиком («Тайному ДРУГУ») —
«Так назывались в этой редакции люди, которые малограмотный материал превращали в грамотный и годный к печатанию».
Зато он наконец‑то стал иметь постоянный заработок. Но к «обработочному» своему труду относился с лютой ненавистью («Тайному другу»):
«… более отвратительной работы я не делал во всю свою жизнь… Это был поток безнадёжной серой скуки, непрерывной и неумолимой…
… каждую секунду я ждал, что меня вытурят, потому что… работник я был плохой, неряшливый, ленивый, относящийся к своему труду с отвращением.
Но мог ли иначе относиться к подобной нетворческой работе человек, уже написавший пять пьес, повесть и несколько десятков статей‑фельетонов? Человек, о котором журнал «Россия» сообщал с уважением:
«Михаил Булгаков заканчивает роман „Белая гвардия“, охватывающий эпоху борьбы с белыми на юге (1919–1920 гг.). Другая книга — „Записки на манжетах“, изображающая в форме гротеска приключения литератора в революционные годы, частью была напечатана в журнале „Россия“, частью будет печататься во 2‑м номере альманаха „Возрождение“».
А в «Гудке» приходилось обрабатывать чужие каракули. Было от чего возненавидеть свою работу.
Впрочем, мало кто был тогда удовлетворён своим существованием. Даже вроде бы вполне благополучный Борис Пильняк и тот написал 17 февраля (литератору Ю.В. Соболеву):
«У меня очень трудная, очень суматошная, очень нехорошая жизнь, я очень устал, — то, что мир положил мне на плечи, — не по плечам мне, мне это не нужно. Я с тоской вспоминаю о тех днях, когда я был никому не нужен…я часто чувствую себя затравленным — пока волком, хуже, если буду псом… Надо всё бросить, надо уйти в скит, писать не для построчных, писать подвижничая — писать только о прекрасном, — учиться, читать на всех европейских языках…»
Так что не один Булгаков мечтал уйти в монастырь, чтобы там, вдали от мирского шума, писать о прекрасном и изучать иностранные языки. Но, увы, жизнь не давала такой возможности — вся страна пребывала «в сплошной лихорадке буден».
К счастью, «серую скуку» повседневности время от времени скрашивали небольшие житейские радости. К примеру, обнаружилась «тасина браслетка» — та самая, что в 1919‑ом Булгаков взял у жены «на счастье», а потом заложил в Ростове‑на‑Дону (после бильярдного проигрыша). Двоюродный брат Константин своё обещание выполнил: выкупил залог.
Чтобы забрать браслетку, надо было съездить в Киев. Там Булгакова встречали как настоящего писателя. А по возвращении в Москву пришлось снова впрягаться в лямку «обработчикаг», безымянного правщика чужих безграмотных заметок («Тайному другу»):
«Я… лелеял одну мысль, как бы удрать из редакции домой, в комнату, которую я ненавидел всей душой, но где лежала груда листов».
А литературная жизнь Москвы бурлила и клокотала. Особенно много шума наделал состоявшийся первого апреля 1923 года поэтический турнир в Политехническом музее. В нём приняли участие около сорока стихотворцев, а среди них — известные поэты: Маяковский, Мариенгоф, Шершене‑вич… Жюри возглавил Валерий Брюсов.
Целый вечер состязались участники конкурса, читая свои стихи…
Кто знает, не находился ли в переполненном зале Политехнического и сотрудник «Гудка» Михаил Булгаков? Не аплодировал ли он вместе со всеми, когда было объявлено, что титул «короля поэтов» завоевал студент Московского университета Илья Сельвинский?
А спустя полмесяца собрались на свой XII съезд большевики. Ленин на нём не присутствовал — в марте с ним случился инсульт, уже третий по счёту. Вместо больного вождя съезд открыл Каменев, который сказал:
«Владимир Ильич учил нас (в 1905‑ом): „Врага классового, врага рабочего класса мало убить, надо, — говорил он, — его добить! И добить его может только железная власть, стальная воля — диктатура рабочего класса “».
Иными словами, спокойной жизни большевики не обещали.
Съезд был в самом разгаре, когда в дневнике К.И. Чуковского появилась (24 апреля) любопытная запись:
«… в эту субботу снова состоялись проводы Замятина. Меня это изумило: человек уезжает уже около года, и каждую субботу ему устраивают проводы. Да и никто его не высылает — оббил все пороги, наплакался всем коммунистам. И вот теперь разыгрывает из себя политического мученика».
Евгения Замятина и в самом деле собирались выслать из страны — ещё осенью 1922 года. Но друзья добились отмены этого решения. А писатель с завидным упорством почему‑то продолжал устраивать свои проводы… Почему? Ответить на этот вопрос трудно. Такое уж было время.
В тот год долго не приходило тепло. Уже пролетели июнь и почти половина июля, а Булгаков записывал в дневнике:
«11 июля (28 июня) Среда
Стоит отвратительное, холодное и дождливое лето».
Но ещё отвратительнее было каждый день ходить в «Гудок». Запись от 25 июля:
«Жизнь идёт по‑прежнему сумбурная, быстрая, кошмарная. К сожалению, я трачу много денег на выпивки. Сотрудники „Г[удка]“ пьют много…
Дела литературные вялы… пробиваюсь фельетонами в „Нак[ануне]“. Роман из‑за Г[удка]“, отнимающего лучшую часть дня, почти не продвигается».
1 августа вышел альманах «Возрождение» со второй частью «Записок на манжетах». Таким образом, повесть (пусть не целиком, а фрагментами) была‑таки опубликована.
27 августа Булгаков вновь изливал на страницы дневника свою глубокую печаль:
«„Гудок “ изводит, не даёт писать».
А вот Троцкий, по горло загруженный работой в Реввоенсовете и в наркомате по военным и морским делам, вынужденный постоянно заседать в политбюро, в Совнаркоме и в Совете Труда и Обороны, всё‑таки сумел найти время для эпистолярной деятельности.
Литературная жизнь
В конце лета 1923‑его, находясь в отпуске, Лев Давидович Троцкий написал книгу «Литература и революция». Тем самым грозный наркомвоенмор в очередной раз дал всем понять, что разбирается не только в военных вопросах. Тщательно проанализировав, как вели себя многие писатели в послеоктябрьские дни, Троцкий пришёл к выводу:
«Литература после Октября хотела притвориться, что ничего особенного не произошло и что это вообще её не касается. Но как‑то вышло так, что Октябрь принялся хозяйничать в литературе и тасовать её».
«Тасовать» принялся и Троцкий, но не литературу, а литераторов. Он разложил их в три «колоды», разделив на «своих», «чужих» и «колеблющихся». Последних с лёгкой руки наркомвоенмора стали называть «попутчиками».
«Кто такой “,попутчик „? „Попутчиком „мы называем в литературе, как и в политике, того, кто, ковыляя и шатаясь, идёт до известного пункта по тому же пути, по которому мы с вами идём гораздо дальше. Кто идёт против нас, тот не попутчик, тот враг, того мы при случае высылаем за границу…
Относительно попутчика всегда возникает вопрос: до какой станции?».
Троцкий дал оценку творчеству ведущих литераторов страны. Об Александре Блоке, в частности, сказал:
«Конечно, Блок не наш. Но он рванулся к нам. Рванувшись, надорвался…»
Был оценён и вклад в «революционную» литературу прозаика Пильняка и поэта Маяковского:
«Пильняк не художник революции, а только художественный попутчик её… это испуганный реалист, которому не хватает кругозора… Если город отдать на растерзание: экономическое — кулаку, художественное — Пильняку, то останется не революция, а бурный кровавый попятный процесс…
Маяковский атлетствует на арене слова…, но сплошь и рядом с героическим напряжением поднимает заведомо пустые гири… Маяковский слишком часто кричит там, где следовало бы говорить. Перекричать войну и революцию нельзя. А надорваться можно …»
О Михаиле Булгакове в «Литературе и революции» нет ни слова. И это понятно, опубликованная отрывками повесть «Записки на манжетах» ещё не делала его в глазах знатоков настоящим писателем, для них он был всего лишь «начинающим». О том, что у него уже почти написан роман «Белая гвардия», не знал практически никто.
Но этот мало кому известный литератор уже начал задавать весьма смелые и даже опасные вопросы. Татьяна Николаевна впоследствии вспоминала:
«Он меня всегда встречал одной и той же фразой: „Вы видите, какая бордель?“ или „Когда же кончится эта бордель?“. Я отвечала: „Никогда не кончится!“».
В самом деле, конца советской «бордели» видно не было. Как человек глубоко верующий, воспитанный в традициях православия, Булгаков мог дать только одно толкование происходившему — бесовщина. Иными словами, страну захватили дьяволы. Словечко же «бордель» Татьяна Николаевна употребила, скорее всего, для прикрытия, конспирации.
Как бы там ни было, но булгаковская терминология сложившуюся ситуацию как‑то проясняла, многое становилось на свои места. Было лишь очень жаль, что в атеистической стране он не мог говорить об этом во всеуслышанье… Впрочем, а почему, собственно, «не мог»? Ведь если те же самые мысли упаковать в изящную оболочку фантастической произведения…
И он принялся размышлять…
Вскоре уже вполне отчётливо наметился сюжет сатирической повести. Придумалось и название — «Дьяволиада».
31 августа Михаил Афанасьевич сообщал Юрию Слёзкину:
«„Дьяволиаду „я кончил, но вряд ли она где‑нибудь пройдёт. Лежнев отказался её взять.
Роман я кончил, но он ещё не переписан, лежит грудой, над которой я много думаю. Кой‑что поправляю».
Роман «Белая гвардия» заканчивался тем, что все его герои засыпают. Им снятся сны, добрые и светлые, страшные и жестокие. Даже крест в руке святого Владимира над Днепром и тот «превратился в угрожающий острый меч»…
Завершив написание романа, Булгаков поступил так, как ни в коем случае не рекомендовал поступать Александр Дюма, как‑то сказавший:
«Молодые авторы имеют страшное обыкновение, которое должна истреблять полиция, которое нужно истребить законом — это обычай читать свои сочинения другим».
Знал ли Булгаков об этой рекомендации классика, неизвестно, но в «Театральном романе» он впоследствии признавался:
«Однако мною овладел соблазн… Я созвал гостей…
В один вечер я прочитал примерно четверть моего романа…»
Приглашённые на прослушивание «журналисты и литераторы» принялись делиться первыми мнениями и впечатлениями:
«Суждения их были братски искренни, довольно суровы и, как теперь понимаю, справедливы».
Через несколько дней роман был дочитан до конца.
«И тут разразилась катастрофа. Все слушатели, как один, сказали, что роман мой напечатан быть не может по той причине, что его не пропустит цензура.
Я… тут только сообразил, что, сочиняя роман, ни разу не подумал о том, будет ли он пропущен или нет».
И на Булгакова вновь напала хандра. Вернувшись вечером 3 сентября с работы, он с горечью записал:
«Я каждый день ухожу на службу в этот свой „Гудок“ и убиваю в нём совершенно безнадёжно свой день».
А днём раньше, 2 сентября, на дневниковые страницы выплеснулись слова, полные отчаяния и печали:
«Среди моей хандры и тоски по прошлому, иногда, как сейчас, в этой нелепой обстановке временной тесноты, в гнусной комнате гнусного дома, у меня бывают взрывы уверенности и силы. И сейчас я слышу в себе, как взлетает моя мысль, и верю, что я неизмеримо сильнее как писатель всех, кого я знаю. Но в таких условиях, как сейчас, я, возможно, пропаду».
Но он не пропал. Напротив, получил повышение. То ли до гудковского начальства дошёл слух о написанных им повестях и романе, то ли оно обратило внимание на его фельетоны в «Накануне», но в один прекрасный день рядовому «обработчику» предложили пост штатного фельетониста. Отныне Булгаков должен был сочинять по восемь фельетонов в месяц, и получать за это 2000 рублей в месяц. Неплохие по тем временам деньги.
Фельетонист «Гудка»
Условие редакции (по количеству фельетонов) Булгаков выполнял легко, если не сказать, шутя. Он сам потом признавался в повести «Тайному другу»:
«… сочинение фельетона строк в семьдесят пять‑сто занимало у меня, включая сюда и курение и посвистывание, от 18 до 22 минут. Переписка его на машинке, включая сюда хихиканье с машинисткой, — 8 минут.
Словом, в полчаса всё заканчивалось».
Но, даже написав и сдав фельетон, он всё равно должен был отсиживать рабочий день до конца. Таковы были правила.
Зато новая должность давала гораздо больше возможностей для мщения — газета‑то была всесоюзная, читали её миллионы. А фельетонист — это штатный шутник, призванный критиковать недостатки. Стало быть, отныне Булгаков открыто мог выказывать своё отношение ко всему тому, что мешало людям нормально существовать, что корёжило их жизнь, выворачивало её наизнанку. Высказывать смело, никого не боясь — ведь теперь это было его прямой служебной обязанностью.
Главной виновницей всех тогдашних российских бед новоиспечённый фельетонист по‑прежнему считал советскую власть. Ведь это она, как о том вскоре скажет один из героев его пьесы «Зойкина квартира»…
«… создала такие условия жизни, при которых порядочному человеку существовать невозможно».
Вот эту‑то власть Михаил Афанасьевич и принялся высмеивать. Как в самих фельетонах, так и в подписях к ним («Тайному другу»):
«Я подписывал фельетон или каким‑нибудь глупым псевдонимом, или иногда зачем‑то своей фамилией…»
Впрочем, псевдонимы эти были не такими уж «глупыми». Так, 17 октября 1923 года фельетон «Беспокойная поездка (Монолог начальства)» завершался фразой: «Монолог записал Герасим Петрович Ухов». Под фельетонами, вышедшими 1 и 22 ноября, стояла та же подпись, но в сокращённом виде — Г.П.Ухов.
В редакции не сразу, но всполошились:
— Да ведь это же «ГПУ» и «УХОв»! Получается — «ухо ГПУ» Разве можно так шутить с всесильной Лубянкой?
Переполох гудковцев понять можно, ведь опасный прецедент уже был — незадолго до этого имажинисты выпустили совершенно безобидную книжицу, которую назвали «Мы Чем Каемся». Ничего крамольного в ней не было, но чекисты с Лубянки книжку конфисковали — из‑за якобы «издевательского» сочетания букв: ЧеКа.
Журналист Арон Эрлих, по чьей рекомендации Булгакова и взяли в «Гудок», впоследствии написал книгу воспоминаний «Нас учила жизнь». Про булгаковские остроты (те самые, из которых затем и складывались его фельетоны) в ней сказано:
«Он иногда заставлял настораживаться перед самим уклоном своих шуток».
Слово «уклон» в те годы означало, что шутки Булгакова содержали в себе не просто подковырку, а некий выпад, направленный против генеральной линии партии.
Но шутить мягче, шутить, никого не обижая, Михаил Афанасьевич просто не мог. Да и законы сатирического жанра не позволяли. Через девять лет в «Жизни господина де Мольера» он скажет:
«… навряд ли найдётся в мире хоть один человек, который бы предъявил властям образец сатиры дозволенной».
Примерно о том же самом говорил в 1919 году и Евгений Замятин (в книге «Завтра»):
«Мир жив только еретиками. Наш символ веры — ересь».
Но и эти одиночные критические выстрелы по мощным бастионам советской власти фельетониста из «Гудка» вскоре удовлетворять перестали. Он чувствовал, что способен на большее. И поэтому днём («Записки покойника»):
«Днём я старался об одном — как можно меньше истратить сил на свою подневольную работу. Я делал её механически, так, чтобы она не задевала головы. При всяком удобном случае я старался уйти со службы под предлогом болезни. Мне, конечно, не верили, и жизнь моя стала неприятной. Но я всё терпел и постепенно втянулся. Подобно тому, как нетерпеливый юноша ждёт часа свидания, я ждал часа ночи. Проклятая квартира успокаивалась в это время. Я садился к столу…»
Он придумал ещё один способ увиливания от постылой работы — стал недодавать продукцию или, по его же собственному выражению, «красть» фельетоны («Тайному ДРУГУ»):
«… я, спасая себя, украл к концу третьего месяца один фельетон, а к концу четвёртого — парочку».
То есть вместо положенных по договору восьми фельетонов, Булгаков написал сначала семь, потом шесть и так далее… В редакции подобное снижение производительности очень быстро заметили и перевели фельетониста на сдельную работу («Тайному другу»):
«Признаюсь, это меня очень расстроило. Мне очень хотелось бы, чтобы государство платило мне жалование, чтобы я ничего не делал, а лежал бы на полу у себя в комнате и сочинял бы роман. Но государство так не может делать, я это прекрасно понимал».
И ещё Булгакова очень «расстраивала» и страшила неизвестность грядущего. Удручала неустроенность быта. Выводила из себя «гнусная квартира», населённая пьяницами и дебоширами, бесила «омерзительная комната», в которой приходилось жить. 18 сентября он записал в дневник:
«Пока у меня нет квартиры — я не человек, а лишь полчеловека».
30 сентября — новая запись. Опять о том же. Обратим внимание, как скрупулёзно в ней обозначено, какому дню старого стиля соответствует та или иная новая дата, установленная большевиками:
«30‑го (17‑го ст. ст.) сентября 1923 года.
Если отбросить мои воображаемые и действительные страхи жизни, можно признаться, что в жизни моей теперь крупный дефект только один — отсутствие квартиры».
И всё же Булгаков ощущал, чувствовал, что стоит на пороге грандиозных перемен в своей жизни. И очень надеялся, что перемены эти будут связаны с низвержением ненавистной ему советской власти. Сладостно‑мечтательное сновидение на эту тему он даже описал в своём фельетоне «Похождения Чичикова»:
«Диковинный сон… Будто бы в царстве теней… шутник сатана открыл двери. Зашевелилось мёртвое царство, и потянулась из него бесконечная вереница…
И двинулась вся ватага на Советскую Русь, и произошли в ней тогда изумительные происшествия».
Увы, это были всего лишь мечты. Никаких судьбоносных событий, способных поколебать власть большевиков, в стране не происходило. Зато повсюду (так, во всяком случае, казалось Булгакову) кишмя кишели орды всевозможной нечисти, порождённой советским режимом. Особенно много дьявольщины налетело «в царство антихриста, в Москву», «в город дьявола» — именно так красная столица названа в «Белой гвардии».
Главы из этого романа в конце 1923 года Булгаков читал в кружке «Зелёная лампа» в доме Лидии Васильевны Кирьяковой на Большой Дмитровке. Михаил Афанасьевич пришёл на это заседание не один, а вместе с женой, так что Татьяна Николаевна могла лишний раз убедиться в том, какой он превосходный чтец.
Продолжали докучать Булгакову недомогания и хворобы. Самые разные и очень неприятные. То вдруг за ухом появлялась непонятная припухлость, то начинали болеть колени. В письме сестре Надежде он с тревогой сообщал:
«… доктора нашли, что у меня поражены оба коленных сустава,…. моя болезнь (ревматизм) очень угнетает меня…»
Это был тот самый ревматизм, которым герой рассказа «Морфий» пытался прикрыть от коллег‑сотрудников своё пристрастие к наркотику. Эту же болезнь Булгаков «подарит» и дьяволу, и тот начнёт рассказывать Маргарите, как и чем он лечит свой недуг:
«Мне посоветовали множество лекарств, но я по старинке придерживаюсь бабушкиных рецептов. Поразительные травы оставила в наследство поганая старушка, моя бабушка. Кстати, скажите, а вы не страдаете ли чем‑нибудь? Быть может, у вас есть какая‑нибудь печаль, отравляющая душу тоска?»
Маргарита, как известно, от снадобий чёртовой бабушки отказалась. А вот Булгаков наверняка бы взял у дьявола какой‑нибудь сатанинский «рецепт», чтобы подлечить колени. Ведь этот злосчастный ревматизм всплыл в тот самый момент, когда его «Дьяволиада», так откровенно и вызывающе дерзко высмеивавшая советские порядки, была готова принести автору долгожданные облегчение и радость.
Глава третья Начало мщения
Дьявольская сатира
Что же за «Дьяволиаду» такую сочинил Михаил Булгаков? О чём его сатирическая повесть?
Она во многом автобиографична, так как подробно описывает те круги советского чиновничьего «ада», по которым в своё время кружил и её автор, борясь за возможность существовать в жутчайших условиях хмурой «.московской бездны».
Учреждение, в котором разворачиваются события повести, называется Главцентрбазспимат. Словообразование труднопроизносимое. Но оно вполне соответствует модным в ту пору сокращениям. Полное название этого заведения — Главная Центральная База Спичечных Материалов.
Здесь царит беспрецедентная вакханалия безалаберщины и бестолковщины. Заработную плату сотрудникам выдают с постоянными задержками. К тому же не деньгами, а продуктами производства, то есть обыкновенными спичками. И ещё тут необъяснимо часто меняют руководство. По совершенно непонятным причинам.
Однажды (именно с этого «Дьяволиада» и начинается) на базу назначают нового заведующего. У него забавная фамилия — Кальсонер. Но руководитель он решительный и жёсткий — за незначительную оплошность тут же увольняет делопроизводителя Варфоломея Короткова. Тот, естественно, пытается оправдаться.
Но тут неожиданно выясняется, что Кальсонеров на базе двое: один бритый, другой бородатый. И оба совершенно неуловимы. Все попытки уволенного сотрудника поговорить со стремительно ускользающим завом оказываются тщетными. На пути Короткова встают нелепейшие, а порой и абсолютно непреодолимые порядки советской канцелярии. Они‑то и выбивают беднягу‑делопроизводителя из привычной колеи. В конце концов, мутный круговорот бюрократической чертовщины затягивает его в тартарары преисподней.
Таково содержание повести.
Всё, что в ней происходит, выглядит настолько нереальным и несуразным, что иначе как вмешательством нечистой силы объяснить ход совершающихся событий невозможно. Так что «дьявольское» название, которое дал своей фантасмагории автор, вполне ей соответствует.
9 сентября, побывав в гостях у писателя А.Н. Толстого, Михаил Афанасьевич записал в дневнике:
«Сегодня опять я ездил к Толстому на дачу и читал у него свой рассказ „Дьяволиада“. Он хвалил… Но меня‑то самого рассказ не удовлетворяет».
И всё же «не удовлетворявшее» Булгакова произведение было предложено им альманаху «Недра». Даже не предложено, а… Вот как это событие Михаил Афанасьевич описал в письме сестре Надежде:
«Дорогая Надя,
я продал в „Недра „рассказ „Дъяволиада“.
Издательство «Недра» возглавлял тогда старый большевик, побывавший в тюрьмах и на каторге, Николай Семёнович Клёстов, более известный как Ангарский (это была его партийная кличка). Высокий, худощавый, с острой мефистофельской бородкой, он весьма благожелательно относился к молодым литературным талантам. Булгаковская повесть произвела на него самое благоприятное впечатление.
19 октября Михаил Афанасьевич записал в дневнике:
«Жду ответа из „Недр“ насчёт „Дьяволиады“…»
А через несколько строк вкратце охарактеризовал свою тогдашнюю жизнь:
«В общем, хватает на еду и мелочи, а одеться не во что…
Итак, будем надеяться на Бога и жить. Это единственный и лучший способ».
Иными словами, Булгаков собирался жить, надеясь на Бога, а сражаться со всем, что этой жизни мешает, намеревался с помощью дьявола, то бишь «Дьяволиады». Любопытное признание.
26 октября — очередная запись:
«Сегодня… по дороге из „Г[удка]“ заходил в „Недра“ к П.Н. Зайцеву. Повесть моя „Дьяволиада „принята, но не дают больше, чем 50 руб. за лист. И денег не будет раньше следующей недели. Повесть дурацкая, ни к чёрту не годная. Но Вересаеву (он один из редакторов „Недр“) очень понравилась».
Чем же «не удовлетворяло» Булгакова его «дурацкое» (хотя и нравившееся многим) повествование о сатанинских порядках в одном из советских учреждений?
Давайте приглядимся к «Дьяволиаде» повнимательнее и попытаемся разобраться, что же представляет собой эта «ни к чёрту не годная» повесть?
Сначала попробуем почесть её кому‑нибудь вслух. Вряд ли наши слушатели начнут прерывать чтение гомерическим хохотом. А вот современники Булгакова в один голос заявляли, что когда «Дьяволиаду» читал автор, все вокруг смеялись много и от души.
Может быть, Михаил Афанасьевич как‑то по‑особому забавно произносил текст и этим веселил публику? Нет, читал он (опять же по высказываниям тех, кому довелось при этом присутствовать) очень выразительно, талантливо, превосходно, просто блестяще. Но при этом отнюдь не комиковал. И, тем не менее, чтение его вызывало смех. Значит, смешил тогдашних слушателей не чтец, смешило само произведение.
Если попытаться пересказать содержание «Дьяволиады», то наша попытка вряд ли увенчается успехом — из‑за невероятно запутанного клубка всевозможных несуразностей и нелогичных поворотов сюжета.
Что же получается? Публика 20‑х годов от души смеялась над маловразумительным произведением, которое и пересказать‑то толком нельзя?
Быть такого не может!
Про «Дьяволиаду» не скажешь, что это откровенная галиматья, абракадабра, типичное «чёрт‑те что». В своё время повесть производила на всех впечатление крепко сколоченного произведения с вполне определённым внутренним смыслом. Это в наши дни понять её истинный смысл удаётся, увы, не каждому.
Потому, что с годами многие булгаковские шутки устарели, а язвительные намёки потеряли остроту. Для того чтобы вернуть им утраченный блеск, нам придётся вспомнить (на этот раз чуть более основательно), как и чем на шестом году советской власти жила молодая республика Советов.
Жизнь страны
На протяжении почти всего 1923 года, то есть именно тогда, когда Булгаков задумывал и создавал «Дьяволиаду», советские газеты с ликованием трубили о том, что земной шар вот‑вот охватит грандиозный пожар мировой революции. Его собирался разжечь, не жалея на то ни времени, ни средств и ни сил, передовой отряд пролетариев планеты — ВКП(б) или Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков).
По планам Кремля революционный огонь сначала должен был заполыхать в самом центре Европы. Поэтому созданный Лениным ещё в 1919 году Коммунистический Интернационал (Коминтерн) наводнил своими агентами всю Германию. Они‑то и готовили немецкий пролетариат к вооружённому выходу на баррикады.
А к западным границам СССР были стянуты полки Красной армии, готовые по первому сигналу броситься на помощь германской революции.
В это время внутри самой республики Советов шёл ожесточённый (и, как многим казалось, последний) бой с недобитой контрреволюцией. Его вели люди из ведомства Феликса Дзержинского. Их по привычке продолжали называть чекистами, хотя они уже стали гепеушниками, поскольку ВЧК (Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем) совсем недавно была переименована в ГПУ (Главное Политическое Управление).
За событиями, происходившими в стране и за рубежом, советская общественность следила очень внимательно. Их обсуждали на собраниях, в магазинных очередях, в переполненных трамваях и на коммунальных кухнях. То, что мирная жизнь может в любую минуту прерваться, пугало всех. И потому с такой тревогой из уст в уста передавались слова Троцкого:
«Мы просто солдаты в походе. Мы расположились на отдых только на день».
Воинственному наркому вторил другой большевистский вождь — Пятаков:
«Установившийся мир — это опасная передышка между двумя битвами».
Новости, волновавшие всех и каждого, оставили след и в дневнике Михаила Булгакова. Вот запись от 18 сентября 1923 года:
«Компартия из кожи вон лезет, чтобы поднять в Германии революцию… Радек на больших партийных собраниях категорически заявляет, что революция в Германии уже началась».
25 сентября:
«Вчера узнал, что в Москве раскрыт заговор…, как мне сообщила одна к[оммунистка], заговор „левый“ (!) — против НЭПа».
18 октября:
«Теперь нет уже никаких сомнений в том, что мы накануне грандиозных и, по всей вероятности, тяжких событий. В воздухе висит слово „война“. Второй день, как по Москве расклеен приказ о призыве молодых годов (последний — 1898 г.). Речь идёт о так называемом „территориальном сборе “.
… в Петроградском округе призван весь командный состав 1890 года! В Твери и Клину расклеены приказы о территориальном обучении. Сегодня мне передавал <…>, что есть ещё более веские причины войны. Будто бы журн[ал] „Крок[одил]“ собирается на фронт».
22 октября:
«„Территориальные сборы“, похоже, смахивают на обыкновеннейшую мобилизацию… 1903‑й год пошёл в казармы на 1,5 года».
Особый драматизм сложившейся ситуации придавала затянувшаяся болезнь Ленина.
О состоянии здоровья высокопоставленного больного советская печать продолжала хранить глубокое молчание. В Кремле по‑прежнему считали, что поводов для волнения нет никаких, поскольку бразды правления первым в мире государством рабочих и крестьян находятся в надёжных руках: заболевшего вождя подменили его ближайшие сподвижники: Лев Каменев и Григорий Зиновьев.
Всё бы ничего, но октябрьский переворот, а затем и гражданская война выдвинули и поставили рядом с Лениным другого вождя (как бы под номером вторым) — Льва Троцкого. Именно он в 1918 году создал и возглавил Красную армию, так блистательно победившую белогвардейцев и Антанту. Именно он в начале 20‑х занимал два ключевых поста в кремлёвском руководстве: стоял во главе наркомата по военным и морским делам (наркомвоенмор) и был председателем Реввоенсовета Республики.
Каменев и Зиновьев тоже являлись вождями. Но соратники по партии относились к ним как к руководителям второго сорта. Слишком многие знали о том, что в самые драматичные для советской власти моменты Каменев и Зиновьев предпочитали отходить в сторону, в тень. Поэтому их стремительное восхождение на кремлёвский Олимп было воспринято как вызов. В первую очередь, конечно же, лично Троцкому и всем его многочисленным сторонникам.
Не удивительно, что между прославленным главой Красной армии и вырвавшимися вперёд «второсортными» лидерами разгорелась ожесточённая борьба за власть. Центральные советские газеты ежедневно публиковали материалы, переполненные взаимными упрёками и обвинениями. В одних статьях поддерживался (и прославлялся) Троцкий, в других — его оппоненты. Мало этого, стараясь завоевать большинство, противоборствующие стороны всюду расставляли своих сторонников, отчего все мало‑мальски значимые учреждения сотрясались от кадровой чехарды.
Каменеву и Зиновьеву удалось сделать несколько довольно сильных ходов. Например, провести решение о резком сокращении финансирования Красной армии — под благовидным предлогом реорганизации воинского контингента в виду победоносного завершения гражданской войны. Бойцам и командирам урезали жалование, начались задержки с его выдачей. Это был весьма болезненный щелчок по авторитету всесильного наркомвоенмора.
Троцкий и его сторонники выступили с громкими протестующими заявлениями. По стране прокатилась волна бурных партсобраний. Из уст в уста передавались самые невероятные слухи. И, конечно же, анекдоты — о Троцком, Каменеве, Зиновьеве и прочих большевистских вождях. Эти остроумные байки Булгаков заносил в свой дневник с особым удовольствием.
Вполне естественно, что и в сочинявшейся в тот момент сатирической повести писатель не мог не высказать своего отношения ко всему тому, что бушевало вокруг. Правда, впрямую называть вещи своими именами он не отважился и потому изложил всё в предельно завуалированной форме.
Но современникам Булгакова хватало и лёгкого намёка, чтобы понять, что именно хочет он им сказать.
Дьяволиадовский подтекст
Как и герои написанной во Владикавказе пьесы «Братья Турбины», все персонажи «Дьяволиады» наделены набором особых «масок». Неожиданных и очень «хитрых». Они позволяют действующим лицам исполнять сразу несколько «ролей».
Прежде всего, Булгаков облачил в «маску» место действия повести. В самом деле, вся сатанинская «каша» заваривается в конторе, на первый взгляд неприметной и малозначительной. Подумаешь — какая‑то там «база». Пусть даже Главная и Центральная. Выпускает‑то она (смешно сказать) всего лишь спички. Да и всё, что происходит в этой конторе, по‑лилипутски крошечно и несерьёзно. Маленькие штормики в стаканчике воды. Подумаешь, уволили делопроизводителя — мелочь, обыденность. Уволенный безуспешно пытается восстановиться — тоже не мировая трагедия.
Однако «микроскопичность» событий, происходящих в булгаковском Главспимате, кажущаяся. При более внимательном рассмотрении сквозь изящную авторскую «упаковку» неожиданно начинают проступать совсем иные «.маски», разыгрываются совсем уж неожиданные «сюжеты». И сразу возникают сомнения в том, так ли уж незначительно это дьяволиадовское учреждение.
Современникам Булгакова сразу должна была броситься в глаза одна небольшая подробность: спичечная база располагается в помещении бывшего ресторана «Альпийская роза». В ту пору все ещё хорошо помнили, что в предреволюционные годы лидеры большевиков были завсегдатаями маленьких ресторанчиков, расположенных в предгорьях швейцарских Альп. Стало быть, Главцентрбазспимат — это место постоянного пребывания большевистских вождей.
И возглавляют спичечное учреждение люди весьма интересные. До Кальсонера базой руководил некто Чекушин, чья фамилия явно сложена из слов «Чека» и «уши». Получается, что во главе этой конторы стояли «уши ЧК». Как тут не вспомнить один из булгаковских псевдонимов в «Гудке» — Г.П.Ухов, то есть «ухо ГПУ».
В финале повести на глазах обезумевшего от бюрократической чертовщины Короткова преследуемый им Кальсонер неожиданно превращается в чёрного кота. Ч ёрный к от. Всё та же зловещая аббревиатура: ЧК.
Вот так (аккуратно и неназойливо) Михаил Булгаков подсказывал читателям, что всеми делами на Главной Спичечной Базе заправляют не просто большевики, а ещё и чекисты.
Сегодня сыскное лубянское ведомство вставляют в то или иное произведение в качестве пикантного штришка для придания повествованию дополнительной остроты. А в начале 20‑х годов ГПУ боялись. У всех на устах была крылатая ленинская фраза о том, что настоящий коммунист не только должен, но и обязан быть примерным чекистом, регулярно доносящим начальству обо всём подозрительном.
И ещё одно обстоятельство не могло не привлечь внимания современников Булгакова: Главцентрбазспимат выпускал спички. В стране, которая готовилась разжечь мировой пожар, подобному учреждению надлежало быть одним из самых главных, наиважнейших.
Вот и новый руководитель этого ответственейшего стратегического Главка, хоть и служил он раньше в каком‑то печатном органе (то ли в газете, то ли в журнале), с боевыми «спичечными» делами был знаком не понаслышке. Даже от слов, произносимых Кальсонером, несло горелым. Про них в «Дьяволиаде» сообщается следующее:
«… Короткову показалось, что слова неизвестного пахнут спичками».
Внешность Кальсонера тоже довольно примечательна: небольшого роста, лысый, носит серый френч и фуражку.
Не правда ли, удивительно знакомые черты?
По ним в булгаковском герое просто невозможно было не узнать самого… главу советского правительства. Ведь все приметы — ленинские. Включая даже литературную «жилку»: Владимир Ильич в широко публиковавшихся тогда анкетах неизменно называл себя профессиональным литератором.
Добавим к этому и неожиданное прозвище, которым своего нового шефа награждает секретарша: «Подштанники лысые!». Как известно, подштанники носят пациенты больничных палат, где подобное одеяние считается нормой. А вот про того, кто рискнёт появиться в нижнем белье в учреждении, наверняка скажут, что у него что‑то не в порядке с головой. В 1923 году вся страна знала, у кого «не в порядке» с «лысой» головой: у больного главы советского правительства В.И.Ульянова‑Ленина.
И нерусскую фамилию (Кальсонер) Булгаков дал своему герою, надо полагать, тоже неслучайно, а для того, чтобы особо подчеркнуть не совсем славянское происхождение Владимира Ильича (девичья фамилия его матери была Бланк).
Эти незначительные «штрихи» и «штришки» призваны были наводить читателей и слушателей на мысль, что всеми делами на «спичечной базе» заправляет человек, прототипом которого является Владимир Ильич Ленин.
Ещё один нюанс к образу главы Главцентрбазспимата — Коротков с изумлением обнаруживает:
«Он с маленькой буквы пишет фамилию!»
Для современного читателя в этом нет ничего необычного: не всё ли равно, с какой буквы пишет свою фамилию чудак Кальсонер — с большой или маленькой? Но в 20‑е годы разница между «большим» и «маленьким» была огромная. Этой малоприметным штрихом Булгаков указывал на то, что там, где следует писать букву большую (то есть поступать по‑большевистски), его герой пишет маленькую (то есть является, в сущности, самым обыкновенным меньшевиком).
Подобные намёки в 20‑е годы расшифровывались мгновенно и вызывали у слушателей и читателей не просто смех, а гомерический хохот.
На этом забавные неожиданности «Дьяволиады» не заканчиваются. По ходу повествования автор незаметно меняет «маски» у своих героев. И вот уже Кальсонер предстаёт перед нами совсем в иной роли: он как бы раздваивается, появляясь перед подчинёнными то самолично, то вместе со своим двойником.
Различить обоих «кальсонеров» друг от друга можно лишь по растительности на лице, поскольку один из них бритый, другой бородатый. В этой «двойственности» тоже намёк, только теперь на соратников Ленина, сменивших его у властного руля: Зиновьева и Каменева. Первый, как известно, предпочитал бриться, второй носил бородку.
И подпись главы спичечной базы («Заведующий Кальсонер») своими заглавными буквами («3» и «К») повторяет начала фамилий З иновьева и К аменева.
А уж эпиграф, которым предваряется «Дьяволиада», и вовсе рассчитан на то, чтобы подсказать читателям, о ком и о чём пойдёт сейчас речь:
«Повесть о том, как близнецы
погубили дело производителя».
Действительно, «Дьяволиада» и повествует о том, как «близнецы» Кальсонеры (бритый и бородатый) выживают из учреждения, производящего спички, делопроизводителя Короткова. Разве это не намёк на те подковёрные внутрипартийные интриги, в ходе которых Зиновьев и Каменев пытались устранить с политической арены Троцкого? Человека, активно «делавшего» революцию и «на деле» защищавшего её во время гражданской воины, то есть как раз и являвшегося «производителем дела».
По ходу повести Короткова несколько раз называют Колобковым, что тоже намекает на ситуацию с Троцким, которого отовсюду выживали и который, как известно, очень скоро был вынужден, как сказочный колобок, выкатиться из партии и покатиться по стране и по миру.
Другие подковырки
В «Дьяволиаде» самой высшей инстанцией, куда в поисках справедливости обратился Варфоломей Коротков, является «бюро претензий» (сокращённо — БП). Эта структура очень похожа на реально существовавший властный орган, который распоряжался в те годы судьбами страны и её населения, — политбюро (сокращённо — ПБ). В булгаковском «бюро претензий» Коротков так и не смог добиться ни понимания, ни действенной помощи. Параллели напрашивались сами собой, выводы автор предоставлял делать самим читателям.
Высмеивает «Дьяволиада» и тщетные попытки большевиков создать исправно действующую экономику: продукция, которую выпускает спичечный Главк, никуда не годится: его спички не горят.
Из трёх коробков Короткову удалось зажечь всего 63 спички. Шестьдесят три — число не случайное. Булгаков взял его не с потолка, повторив его кроме «Дьяволиады» ещё и в «Белой гвардии». Там приехавший из Житомира Лариосик сообщает Турбиным, что его мама послала им телеграмму в 63 слова.
Итак, шестьдесят три. Это число вызывало у современников Булгакова вполне определённые ассоциации. В те годы партийцы, недовольные политикой, которую проводили новоявленные вожди, объединялись в разного рода группы и группировки. Друг от друга эти «объединения» отличались количеством входивших в них человек или же числом подписей, поставленных под письмами протеста. Было письмо 46‑ти, платформа 63‑х и так далее. И каждая подобная группировка, как правило, решительно протестовала против действии управлявшей страной «тройки», в которую, как известно, входили Зиновьев, Каменев и Сталин.
Итак, только 63 спички горели. Остальные давали пшик. Но и это «пшиканье» было весьма опасным: шипящие кусочки раскалённой серы разлетались во все стороны, норовя попасть в глаз чиркавшему. Бедняга Коротков чуть не ослеп. И не только он:
«Подбитые глаза на каждом шагу».
Вот почему продукцию своего Главка Коротков в сердцах называет «сволочными спичками». Секретарша базы Лидочка де Руни тоже считает так, говоря: «спички проклятые». А вот заведующий Кальсонер лично…
«… испытывал их и нашёл превосходными».
И этими «сволочными спичками» (аббревиатура — СС), страна Советов (те же начальные буквы — СС) расплачивалась с сотрудниками базы за их работу.
Вспомним, как в повести описан эпизод выдачи зарплаты:
«Чтобы не отвечать ни на какие вопросы …. кассир кнопкой пришпилил к стене ассигновку, на которой… имелась… подпись зелёными чернилами:
«Выдать продуктами производства.
За т. Богоявленского — Преображенский.
И я полагаю — Кшесинский».
Прелюбопытный подбор фамилий! И явно не случайный. Самая последняя (Кшесинский) призвана напомнить читателям о знаменитой петербургской балерине, фаворитке царя. В принадлежавшем ей особняке и размещалась в 1917 году штаб‑квартира большевиков.
Фамилия Богоявленский ассоциируется с «Богом явленным» императором, «за» (то есть вместо) которого и подписал ассигновку некий Преображенский. Какое именно «преображение» имел в виду Михаил Булгаков, в те годы было понятно каждому: ведь Россией (вместо расстрелянного царя) правил революционный преобразователь мира В.И. Ленин. Он (или кто‑то из его ближайших сподвижников) и решал, чем выплачивать заработную плату сотрудникам советских учреждений.
Есть в «Дьяволиаде» и другой «царский» намёк. В коммунальной квартире, где проживает Коротков, соседнюю с ним комнату занимает гражданка, которая служит в Губвинскладе. Зарплату ей тоже выдают «продуктами производства», и она принесла домой 46 бутылок красного церковного вина. Почему именно сорок шесть и почему красного?
Звали коротковскую соседку Александрой Фёдоровной, точно так же, как и последнюю российскую императрицу Чтобы окончательно развеять все сомнения относительно того, о ком именно идёт здесь речь, Булгаков и употребил эти «особые приметы»: сорок шесть бутылок, а в них — кроваво‑красное вино. В 20‑х годах все ещё хорошо помнили, что императрица Александра Фёдоровна пала сорока шести лет от роду в результате кровавой расправы, учинённой большевиками над царской семьёй. К тому же именно сорок шесть подписей стояло и под известным тогда всей стране письмом сторонников Троцкого. Так что к «царскому» следу в повести добавлен и «троцкистский» отпечаток.
И ещё. Последние месяцы своей жизни бывшая императрица провела под стражей. Поэтому фамилия у соседки Короткова (Пайкова) произведена из слова «пайка», почёрпнутого из тюремного лексикона.
А теперь попробуем применить особый метод исследования, названный нами (по аналогии с методом, предложенным поэтессой Ларисой Васильевой) «булгакочувствование». Если Булгаков в обыденной жизни любил играть со словами и даже с буквами, то этот стиль должен проявиться и в его произведениях. Памятуя об этом, присмотримся к тексту «Дьяволиады».
Пристально глядя
Наше внимание сразу же привлечёт любопытная деталь: в повести на удивление много слов, которые на чинаются с буквы «п»!
В самом деле, уже в эпиграфе буква эта повторяется трижды: «П о весть о том, как близнецы п огубили дело п роизводителя». В именах геро ев: П еструхины, П ай кова, Генриетта П отаповна П ерсимфанс, курьер П анте леймон — всё те же «П», «П» и «П». В названиях глав буква «п» тоже дово льно частая гостья: «Лысый п оявился», «П роисшест вие 20‑го числа», «П родукты п роизводства», «П араграф п ервый — Коротков вылетел» и так далее.
Казалось бы, что в этом необычного? В русском языке буква «П» — самая распространённая, и слов, начинающихся с неё, п росто п руд п руди. Однако вспомним, что произносит Варфоломей Коротков, вконец запутавшись в обволакивающей его дьявольщине! Он, как заклинание, начинает бормотать какой‑то несусветный вздор:
«И понедельник на пэ, и пятница на пэ, и воскресенье…».
Устами своего героя Михаил Булгаков как бы ненароком обращает наше внимание именно на эту букву — «пэ». Он словно хочет навести нас на какие‑то вполне определённые размышления, как будто пытается передать нам некую конфиденциальную информацию. Но какую?
Одна из глав повести названа как‑то чересчур длинно: «Параграф первый — Коротков вылетел». Это же целая фраза, составленная из двух предложений. Приглядимся к начальным буквам заголовка. Они образуют сочетание: ППКВ. Если прочесть наоборот, получим ВКПП. Очень созвучно аббревиатуре ВКП(б), не правда ли? Не означает ли это, что буквой «П» Булгаков зашифровал слово «партия»? Но если так, то тогда «несусветный вздор», который бормочет Коротков, тотчас превращается в искреннее возмущение по поводу того, что жизнь советских людей со всех сторон п ытаются оп утать п артийной п аутиной.
Впрочем, не будем спешить с выводами. Мы ещё не раз встретимся с этой слишком часто употреблявшейся Булгаковым буквой «П», и у нас будет возможность поломать голову над её толкованием. Для себя же отметим, что в многократной повторяемости этой буквы, вне всякого сомнения, кроется какой‑то намёк, спрятано какое‑то важное (адресованное нам, читателям) сообщение.
А теперь, после того, как повесть была нами подвергнута своеобразному анализу, перейдём к её синтезу, то есть попробуем сформулировать, что же на самом деле хотел сказать Булгаков своей «Дьяволиадой»?
Она о режиме большевиков, готовящихся разжечь мировой пожар с помощью спичек, которые не горят. Она о бездарных вождях этого режима, выведенных в окарикатуренном образе Кальсонера, которые либо прячутся от своего народа в больничных палатах, либо постоянно выясняют друг с другом отношения. Она о рабоче‑крестьянской державе, в которой жизнь людей превратилась в форменную дьяволиаду.
Какой же отчаянной смелостью надо было обладать, чтобы решиться опубликовать в те годы такое произведение?
Но почему Булгаков называл свою повесть «дурацкой», чем она «не удовлетворяла» его?
Не тем ли, что все намёки и колкости в адрес большевиков в «Дьяволиаде» слишком закамуфлированы?
Не тем ли, что сатира, призванная бичевать, утонула в дьявольской фантасмагории сюжета и превратилась в обычное зубоскальство?
Не тем ли, что дьявольщина, опутавшая страну, была беспощадно высмеяна, а сами дьяволы так и остались безнаказанными?
Кто знает, может быть, именно это и беспокоило писателя?
Болезненные симптомы
В 1923 году Булгакова был неудовлетворён не только своим творчеством. Его продолжало тревожить и состояние здоровья. Осенью жалобы на ухудшение самочувствия участились. Об этом можно прочесть в «Театральном романе»:
«… однажды ночью… я проснулся после грустного сна… Я чувствовал, что я умру сейчас за столом, жалкий страх смерти унизил меня до того, что я простонал, оглянулся тревожно, ища помощи и защиты от смерти…
— Это приступ неврастении. Она уже завелась во мне, будет развиваться и сгложет меня. Но пока ещё можно жить».
В «Театральном романе» прямо назван недуг Булгакова. Он…
«… страдал болезнью, носящей весьма странное название — меланхолия».
Как известно, меланхолия — это болезненное состояние, сопровождающееся унылым, тоскливым настроением, замедленностью в движениях, навязчивой мнительностью. По ходу повести булгаковский герой признаётся:
«Я вообще человек странный и людей немного боюсь».
А теперь сравним эти высказывания со строками булгаковского дневника. Запись от 18 октября:
«Сегодня был у доктора посоветоваться насчёт боли в ноге. Он меня очень опечалил, найдя меня в полном беспорядке. Придётся серьёзно лечиться. Чудовищнее всего то, что я боюсь слечь, потому что в милом органе, где я служу, под меня подкапываются и безжалостно могут меня выставить.
Вот, чёрт бы их взял».
Давно ли свою работу в «Гудке» Булгаков награждал сплошными ругательными эпитетами? А тут вдруг откуда‑то возникла эта ужасная мнительность, начали пугать сослуживцы, якобы «подкапывающиеся» под него и стремящиеся «безжалостно» выставить его со службы.
19 октября он вновь затронул эту тему:
«Сегодня вышел гнусный день, род моей болезни таков, что, по‑видимому, на будущей неделе мне придётся слечь. Я озабочен вопросом, как устроить так, чтобы в „Г[удке]“ меня не сдвинули за время болезни с места. Второй вопрос, как летнее пальто жены превратить в шубу…
Да, если бы не болезнь, я бы не страшился за будущее».
26 октября — вновь о том же:
«Я нездоров, и нездоровье моё неприятное, потому что оно может вынудить меня слечь. А это в данный момент может повредить мне в „Г[удке]“. Поэтому и расположение духа у меня довольно угнетённое…»
После этих не слишком весёлых фраз на страницах дневника появились и вовсе тоскливые раздумья:
«В минуты нездоровья и одиночества предаюсь печальным и завистливым мыслям. Горько раскаиваюсь, что бросил медицину и обрёк себя на неверное существование. Но, видит Бог, одна только любовь к литературе и была причиной этого.
Литература теперь трудное дело. Мне с моими взглядами, волей‑неволей выливающимися в произведениях, трудно печататься и жить.
Нездоровье же моё при таких условиях тоже в высшей степени не вовремя.
Но не будем унывать».
Как‑то возвращаясь со службы, Булгаков купил книгу Ф. Купера «Последний из могикан». Дома принялся её просматривать… Нахлынули юношеские воспоминания… Появились размышления о возвышенном, которые навели…
«… на мысль о Боге.
Может быть, сильным и смелым он не нужен, но таким, как я, жить с мыслью о нём легче. Нездоровье моё осложнённое, затяжное. Весь я разбит. Оно может помешать мне работать, вот почему я боюсь его, вот почему я надеюсь на Бога».
Да, Булгаков чувствовал себя очень дискомфортно. Не зная, куда выплеснуть переполнявшие его мрачные мысли, он как бы беседовал со своим дневником, доверяя ему самые сокровенные тайны. Создав «Дьяволиаду», Михаил Афанасьевич как бы взял себе в союзники самого дьявола, но при этом продолжал панически бояться божьей кары. Впрочем, надежды на то, что придут лучшие времена, он не терял и даже слегка хорохорился:
«Но мужества во мне теперь больше, о, гораздо больше, чем в 21‑м году. И если б не нездоровье, я бы твёрже смотрел в своё туманное чёрное будущее».
27 октября к тревожным ноткам прежней безысходности добавилась новая порция мнительности:
«В душе — сумбур. Был неприятно взволнован тем, что, как мне показалось, доктор принял меня сухо. Взволнован и тем, что доктор нашёл у меня улучшение процесса. Помоги мне, Господи».
Впрочем, жизненные неприятности не помешали Булгакову в тот же самый день произвести покупку, которая, вне всяких сомнений, должна была его порадовать:
«Сейчас смотрел у Сёмы гарнитур мебели, будуарный, за очень низкую цену — 6 червонцев. Решили с Тасей купить… Иду на риск — на следующей неделе в „Недрах“ должны заплатить за „Д[ьяволиад]у“».
Но уже через день в дневнике вновь появилась тревожная запись:
«29‑го октября. Понедельник. Ночь.
У меня в связи с болезнью тяжёлое нервное расстройство, и такие вещи меня выводят из себя».
Вскоре Булгакова посетил врач:
«6 ноября (24‑го октября) Вторник. Вечер.
Недавно ушёл от меня Коля Г. Он лечит меня».
Коля Г. — это Николай Леонидович Гладыревский, приятель ещё с киевских времён. Это он в первые дни пребывания Булгакова в Москве приютил его и его жену в студенческом общежитии.
В тот же день (6 ноября) дневнику было доверено ещё одно откровение, звучавшее как заклинание:
«… в литературе вся моя жизнь. Ни к какой медицине я больше не вернусь…
Сегодня, часов около пяти, я был у Лежнева, и он сообщил мне… что „Нак[ануне]“ всеми презираемо и ненавидимо. Это меня не страшит. Страшат меня мои 32 года и брошенные на медицину годы, болезни и слабость. У меня за ухом дурацкая опухоль… уже два раза оперировали. Из Киева писали начать рентгенотерапию. Теперь я боюсь злокачественного развития. Боюсь, что шалая, обидная, слепая болезнь прервёт мою работу…
Я буду учиться терпеть. Не может быть, чтобы голос, тревожащий меня сейчас, не был вещим. Не может быть. Ничем иным я быть не могу, я могу быть одним — писателем.
Посмотрим же, и будем учиться, будем молчать».
Между тем происходившие в стране события молчанию не способствовали. Мало того, что о болевшем Ленине практически ничего не сообщалось, в конце первой декады января 1924 года в печати появилось сообщение о внезапной и не менее загадочной болезни другого вождя — Троцкого. Булгаков записал в дневнике:
«Сегодня в газетах: бюллетень о состоянии здоровья Л.Д. Троцкого.
Начинается словами: „Л.Д. Троцкий 5‑го ноября прошлого года болел инфлуэнцей…“, кончается: „отпуск с полным освобождением от всяких обязанностей, на срок не менее 2‑х месяцев“. Комментарии к этому историческому бюллетеню излишни.
Итак, 8‑го января 1924 г. Троцкого выставили. Что будет с Россией, знает один Бог. Пусть он ей поможет».
Поражает точность диагноза, поставленного «лекарем с отличием» происходившим в стране событиям.
А между тем Булгакову уже собиралась улыбнуться удача. Об этом свидетельствует дневниковая запись от 25 февраля 1924 года:
«Сегодня вечером получил… свежий номер „Недра“. В нём моя повесть „Дьяволиада“».
Литературная общественность страны Советов встретила сатирический опус Михаила Булгакова спокойно. Повесть никого не потрясла и из равновесия не вывела. И специальных критических статей, посвящённых разбору «Дьяволиады» в печати не появилось. Лишь в мартовском номере журнала «Звезда» промелькнуло небольшое упоминание, в котором говорилось:
«И совсем устарелой по теме (сатира на советскую канцелярию) является „Дьяволиада“ М.Булгакова, повесть‑гротеск, правда, написанная живо и с большим юмором».
Ни коварных намёков, ни чересчур дерзких подтекстов рецензент не заметил. Впрочем, и писатель Евгений Замятин тоже не нашёл в «Дьяволиаде» ничего предосудительного (для советского строя, разумеется), написав:
«Абсолютная ценность этой вещи Булгакова — уж очень какой‑то бездумной — невелика, но от автора, по‑видимому, можно ждать хороших работ».
Насколько искренним и справедливым было это зачисление булгаковской повести в разряд «бездумных», сказать трудно. Может быть, Замятин просто осторожничал, боясь ненароком навлечь неприятности на коллегу по перу?
Вызывающие антибольшевистские интонации, которыми насквозь пронизана «Дьяволиада», литературные церберы, конечно же, распознали чуть позже. «Известия» вскоре опубликовали мнение влиятельнейшего общественного деятеля тех лет Леопольда Авербаха. Не все подковырки и колкости булгаковского «рассказа» удалось ему разгадать. Но даже то, что он всё‑таки понял и о чём написал в своей статье, звучит предостерегающе сурово:
«В рассказе „Дьяволиада“ Коротков — простой, обычный человек — сходит с ума и совершает ряд неистовств, так как не мог не вырасти путаный эпизод с двумя близнецами в трагическое событие на фоне большевистского ада, рисуемого Булгаковым».
Авербах сумел разглядеть в повести то, что автор так старательно прятал в тумане фантасмагории, — «большевистский ад», сводящий с ума простых людей! Но на крамолу эту обратят внимание лишь полтора года спустя (статья в «Известиях» появилась 20 сентября 1925 года). А тогда (то есть в самом начале 1924‑го) все, кто прочёл «Дьяволиаду», Булгакова поздравляли. О нём заговорили в писательских кругах советской столицы…
Долгожданное признание приятно закружило голову. И метущуюся писательскую душу принялись усиленно бередить всяческие соблазны.
Знакомства на стороне
Зима 1924 года была студёной и снежной. И запомнилась она всем кончиной большевистского вождя Ульянова‑Ленина.
Наступившая весна тоже не радовала погодой. 15 апреля Булгаков записал в дневнике:
«Весна трудная, холодная. До сих пор мало солнца».
И жизнь была какая‑то промозглая, пасмурная, тревожная, не сулившая ничего доброго. В той же дневниковой записи говорится:
«В Москве многочисленные аресты лиц с „хорошими“ фамилиями. Вновь высылки. Был сегодня Д.К[исельгоф]. Тот, по обыкновению, полон фантастическими слухами. Говорит, что по Москве ходит манифест Николая Николаевича. Чёрт бы взял всех Романовых! Их не хватало».
Запись эта интересна не только своим содержанием, но и тем, что в ней упомянут московский юрист Давид Александрович Кисельгоф. В тот момент он был просто хорошим знакомым Михаила Афанасьевича. А через два десятка лет именно за него выйдет замуж… Впрочем, не будем забегать вперёд, но фамилию запомним — Кисельгоф. О его женитьбе — речь впереди, в эпилоге…
Итак, на дворе — весна 1924‑го. Чета Булгаковых отметила 11‑летне совместной жизни. Срок солидный. За это время Татьяне Николаевне не раз приходилось вызволять супруга из всевозможных жизненных передряг, порою весьма драматичных. И всякий раз — стоило лишь Михаилу Афанасьевичу вырваться из цепких объятий невзгод и болезней — он тут же начинал с интересом посматривать на сторону.
А вот его жене ничего подобного делать не позволялось. В «Жизнеописание Михаила Булгакова» приводятся её воспоминания о той поре:
«Только он мог вести себя как угодно, а я должна была вести себя тихо».
Будучи мужчиной любвеобильным, Михаил Афанасьевич постоянно за кем‑то ухаживал. И в селе Никольском, и во Владикавказе, и уж тем более в Москве.
Но стоило Татьяне Николаевне завязать слишком (с его точки зрения) оживлённый разговор с каким‑нибудь мужчиной, как тотчас же следовало недовольное замечание:
«— Ты не умеешь себя вести!».
Однажды кто‑то из знакомых посоветовал Татьяне Булгаковой попробовать приобрести какую‑нибудь специальность:
«… подбил меня окончить шляпочную мастерскую, я получила диплом, хотела как‑то заработать. Один раз назначила кому‑то, а Михаил говорит:
— Как ты назначаешь — ведь мне надо работать.
— Хорошо, я отменю.
Так из моей работы ничего не вышло — себе только делала шляпки. Я с ним считалась…»
Татьяна Николаевна с мужем считалась. А Михаил Афанасьевич всегда поступал так, как сам находил нужным. На упрёки жены (по поводу очередного своего флирта) неизменно отвечал («Жизнеописание Михаила Булгакова»):
«— Тебе не о чем беспокоиться — я никогда от тебя не уйду.
Сам всегда ходил, а я дома сидела… Стирала, гладила».
Пока жена «сидела», «стирала» и «гладила», муж «ходил» по гостям, часто допоздна засиживаясь на вечеринках. Там (в неформальной обстановке дружеских застолий) завязывались нужные знакомства, налаживались полезные литературные контакты.
Именно об этих контактах Булгаков писал матери в конце 1921 года:
«Я рассчитываю на огромное количество моих знакомств… Знакомств масса и журнальных, и театральных, и деловых просто. Это много значит в теперешней Москве… Вне такой жизни жить нельзя, иначе погибнешь. В числе погибших быть не желаю».
Отлучался он из дома и из‑за рукописей, которые нуждались в перепечатке. Татьяна Николаевна пробовала научиться печатать на машинке, но это занятие вызывало у неё такие приступы головной боли, что от затеи пришлось отказаться. Тогда Булгаков нашёл машинистку на стороне — молодую вдову Ирину Сергеевну Раабен (нам уже встречалась эта фамилия). Она согласилась печатать в долг, то есть была готова ждать, когда перепечатанные произведения будут опубликованы и за них получен гонорар.
В своих воспоминаниях Ирина Сергеевна рассказала о том, каким запомнился ей тогдашний Булгаков:
«Он был голоден, я поила его чаем с сахарином и с чёрным хлебом».
А Михаил Афанасьевич очаровывал молодую хозяйку рассказами о своих мытарствах:
«Сказал без всякой аффектации, что, добираясь до Москвы, шёл около двухсот вёрст пешком — по шпалам: не было денег… Было видно, что ему жилось плохо, я не представляла, что у него были близкие. Он производил впечатление ужасно одинокого человека. Говорил, что живёт по подъездам».
Когда много лет спустя с этими строками ознакомили Татьяну Николаевну, она прокомментировала их следующим образом («Жизнеописание Михаила Булгакова»):
«„Двести вёрст по шпалам… „Он ей просто мозги запудривал. Он любил прибедняться. Но печатать он ходил. Только скрывал от меня. У него вообще баб было до чёрта!»
В начале 1924 года в Денежном переулке (в доме, где располагалось Бюро обслуживания иностранцев) был устроен литературный вечер. В качестве устроителей выступила группа возвратившихся на родину россиян‑эмигрантов, которые стали работать в журнале «Смена вех» и выпускать газету «Накануне». На вечер пригласили московских литераторов, в том числе и Булгакова.
Юрий Слёзкин в «Записках писателя» вспоминал:
«К тому времени вернулся из Берлина Василевский (He‑Буква) с женой своей (которой по счёту?) Любовью Евгеньевной …»
«Не‑Буква» — псевдоним известного в ту пору журналиста И.М. Василевского. Его жена и стала одной из хозяек вечеринки в Денежном переулке.
К тому времени супруги Василевские уже досыта намыкались в Константинополе, пробовали найти счастье в Париже, пытались закрепиться в Берлине. Но, увы, всё тщетно. И они (на одном пароходе с семейством писателя Алексея Толстого) вернулись на родину.
Любовь Евгеньевна впоследствии написала, каким в тот январский вечер предстал перед ней Михаил Булгаков:
«Передо мной стоял человек лет 30‑32‑х, волосы светлые, гладко причёсанные на косой пробор. Глаза голубые, черты лица неправильные, ноздри глубоко врезаны, когда говорит, морщит лоб».
Интересно сравнить этот словесный портрет с тем, что дан в книге драматурга А.М. Файко «Записки старого театральщика»:
«Булгаков был худощав, гибок, весь в острых углах, светлый блондин с прозрачными, почти водянистыми глазами. Он двигался быстро, легко, но не слишком свободно».
А Юрий Слёзкин (тоже, кстати, присутствовавший на той вечеринке) запечатлел в дневнике такой облик своего приятеля:
«Булгаков стал попивать красное винцо, купил будуарную мебель, заказал брюки почему‑то на шёлковой подкладке… Об этом он рассказывал всем не без гордости».
Л.Е. Василевская не могла без улыбки смотреть на молодого литератора, который был явно доволен своим щегольским видом:
«… он мне показался слегка комичным, так же, как и его лакированные ботинки с ярко‑жёлтым верхом, которые я сразу вслух окрестила „цыплячьими “ и посмеялась. Когда мы познакомились поближе, он сказал мне не без горечи:
— Если бы нарядная и надушенная дама знала, с каким трудом достались мне эти ботинки, она бы не смеялась.
Я поняла, что он обидчив и легко раним. Другой не обратил бы внимания. На этом же вечере он подсел к роялю и стал напевать какой‑то итальянский романс и наигрывать вальс из „Фауста“».
Знакомство, завязавшееся на вечеринке, получило неожиданное продолжение. Василевская вспоминала:
«Второй раз я встретилась с ним случайно, на улице, уже слегка пригревало солнце, но всё ещё морозило. Он шёл и улыбался. Заметив меня, остановился. Разговорились. Он попросил мой новый адрес и стал часто заходить к моим родственникам Тарновским, где я временно остановилась на житьё (как раз в это время я расходилась с моим первым мужем)».
Судя по всему, новая знакомая очаровала Булгакова. Может быть, ему даже показалось, что вместо обычной любви судьба наконец‑то послала ему любовь с большой буквы. Вероятно, и сама Любовь Евгеньевна давала понять Михаилу Афанасьевичу, что он ей весьма и весьма небезразличен.
Как известно, любовь слепа, влюблённые люди многого не замечают. Вот и Булгаков не обратил внимания на то, что сразу бросилось в глаза Юрию Слёзкину, который (в тех же «Записках писателя») так охарактеризовал Василевскую:
«… неглупая, практическая женщина, много испытавшая на своём веку, оставившая в Германии свою „любовь“, Василевская приглядывалась ко всем мужчинам, которые могли бы помочь ей строить своё будущее. С мужем она была не в ладах. Наклёвывался роман у неё с Потехиным Юрием Николаевичем, ранее вернувшимся из эмиграции, — не вышло, было и со мною сказано несколько тёплых слов… Булгаков подвернулся кстати».
Оставила свои вспоминания о новой знакомой мужа и Татьяна Булгакова:
«Он познакомил меня с Любовью Евгеньевной… Василевский её оставил, ей негде было жить…
… мы приглашали её к нам. Она учила меня танцевать фокстрот. Сказала мне один раз:
— Мне остаётся только отравиться…
Я, конечно, передала Булгакову… Ну, в смысле литературы она, конечно, была компетентна. Я‑то только продавала вещи на рынке, делала всё по хозяйству и так уставала, что мне было ни до чего…»
Когда отношения Михаила Афанасьевича с Любовью Евгеньевной зашли слишком далеко, встал вопрос о разводе с женой («Жизнеописание Михаила Булгакова»):
«В апреле, о 1924 году, говорит:
— Давай разведёмся, мне так удобнее будет, потому что по делам приходится с женщинами встречаться.
И всегда он это скрывал. Я ему раз высказала. Он говорит:
— Чтоб ты не ревновала.
Я не отрицаю — я ревнивая. Он говорит, что он писатель, и ему нужно вдохновение, а я должна на всё смотреть сквозь пальцы. Так что и скандалы получались, и по физиономии я ему раз свистнула. И мы развелись…
Он сказал:
— Знаешь, мне просто удобно — говорить, что я холост. А ты не беспокойся — всё останется по‑прежнему. Просто разведёмся формально.
— Значит, я снова буду Лаппа? — спросила я.
— Да, а я Булгаков».
Описывая тот же период своей жизни в «Театральном романе», Булгаков изобразил себя одиноким журналистом, чью холостяцкую жизнь скрашивала одна лишь кошка. А на самом деле разведённая чета Булгаковых продолжала жить, где и жила раньше — в той же комнате той же коммунальной квартиры в доме на Большой Садовой улице.
Несколько раз, проявляя широту души, Михаил Афанасьевич обращался к бывшей жене с предложением:
«Он мне говорил:
— Пусть Люба живёт с нами.
— Как же это? В одной комнате?
— Но ей же негде жить!»
Однако Татьяна Николаевна решительно воспротивилась. И с вселением бездомной дамы, которая после развода с мужем стала Любовью Евгеньевной Белозёрской, в комнату, где проживали разведённые супруги, так ничего и не получилось.
С.Топленинов, Н.Лямин, Л.Белозёрская, М.Булгаков
А тут вдруг очередной сюрприз подбросило здоровье. 31 мая Булгаков сообщил П.Н. Зайцеву секретарю издательства «Недра»:
«Дорогой Пётр Никанорович,
всё, как полагаю, приходит сразу: лежу с приступом аппендицита».
Однако просто отлежаться не удалось, пришлось оперироваться. Л.Е. Белозёрская впоследствии вспоминала:
«Мне разрешили пройти к М[ихаилу] А[фанасьевичу] сразу же после операции. Он был такой жалкий, такой взмокший цыплёнок».
Как удивительно точно совпали описания, сделанные в разное время разными людьми. Вспомним рассказ Татьяны Николаевны о том, как выглядел Булгаков в 1918 году:
«Когда нет морфия — глаза какие‑то белые, жалкий такой».
А теперь и Любовь Евгеньевна употребила те же слова: «жалкий такой». Не говорит ли это о том, что во время операции, наверняка проводившейся под наркозом, Михаилу Афанасьевичу вновь пришлось столкнуться с действием коварного морфия?
Как бы там ни было, но прооперированный очень быстро расстался со всеми «цыплячьими» признаками и 21 июля уже записывал в дневник:
«Вечером, по обыкновению, был у Любови Евгеньевны… Ушёл я под дождём грустный и как бы бездомный».
«… поздно, около 12, был у Л[юбови]Е[вгенъевны]».
Готовясь к окончательному разрыву с бывшей женой, Булгаков хотел оставить ей достойную жилплощадь. И в конце лета Михаил Афанасьевич и Татьяна Николаевна справили новоселье. В том же доме на Большой Садовой улице. Из квартиры под номером 50 они перебрались в квартиру под номером 34, в которой было намного тише и даже чуть респектабельней, чем в их прежней «проклятой квартире».
Недуги продолжали беспокоить Булгакова и на новом месте. 26 августа в дневнике появилась запись:
«Был на приёме у профессора] Мартынова по поводу моей гнусной опухоли за ухом. Он говорит, что злокачественности её не верит, и назначил рентген».
К счастью, нелады со здоровьем и бурные события на семейном фронте не приостановили творческого процесса. К осени 1924 года Булгаков закончил очередную сатирическую повесть. В сентябре отнёс её в «Недра». Через какое‑то время секретарь издательства П.Н.Зайцев сообщал Михаилу Афанасьевичу:
«… я передал рукопись В.В. Вересаеву (Ангарский по делам вылетел в Берлин). Вересаев пришёл в полный восторг от прочитанного».
С этого момента в жизни Булгакова, пожалуй, и начались те самые коренные изменения, что созревали так долго и так болезненно.
Перемены в жизни
В 1924 году жизнь в Республике Советов кипела и бурлила. В водовороте событий сверкали молнии партийных постановлений. С шумом и грохотом менялись служебные распорядки. Разворачивалась непримиримая борьба с неурядицами в быту.
Масла в огонь подливали и неожиданные заявления большевистских лидеров. Некоторые из их зажигательных фраз очень быстро становились крылатыми. Так, например, никогда не унывавший Николай Бухарин однажды заявил с улыбкой с одной из высоких трибун:
«В революции побеждает тот, кто другому череп проломит».
Высказывание страшное. И по своей сути и по той лёгкости, с которой было оно произнесено. Но это говорил вождь. К его словам прислушивались, их мотали на ус. И не просто так, а для того чтобы применить в будущем.
В «Гудке» от Булгакова тоже требовали оперативно «проламывать черепа» классовым врагам советской власти, безжалостно продёргивая их в смешных и хлёстких фельетонах. А фельетоны эти он сочинял со всё большей неохотой. 18 октября в его дневнике появилась запись, похожая на тягостногорестный вздох:
«Я по‑прежнему мучаюсь в „Гудке“.
29 декабря — новый стон:
«Был в этом проклятом Г[удке]“.
Газета не только «мучила», не только заставляла проклинать опостылевшую службу, она влияла и на ночное творчество. Позднее Михаил Афанасьевич признавался («Тайному ДРУГУ») —
«… фельетончики в газете дали себя знать… Вкус мой резко упал. Всё чаще стали проскакивать в писаниях моих шаблонные словечки, истёртые сравнения. В каждом фельетоне нужно было насмешить, и это приводило к грубостям… Волосы дыбом, дружок, могут встать от тех фельетончиков, которые я там насочинил».
И всё же именно в 1924‑ом Булгаков окончательно завершил свою «Белую гвардию». Роман заканчивался удивительной картиной: все герои крепко спят, им снятся удивительные сны… Им кажется, что…
«Всё пройдёт. Страдания, муки, кровь, голод и мор. Меч исчезнет, а вот звёзды останутся, когда и тени наших тел и дел не останется на земле. Нет ни одного человека, который бы этого нет знал. Так почему же мы не хотим обратить свой взгляд на них? Почему?»
На этот взволнованный вопрос булгаковского романа с невозмутимым спокойствием отвечала сама жизнь: люди не смотрят на звёзды, потому что их отвлекают от этого святого дела тысячи мелочей их грешной повседневности. На одну из них указывал и руководитель издательства «Недра» Ангарский, отправивший в ЦК ВКП(б) пространную записку, в которой говорилось о ситуации в литературном мире страны Советов. Упоминался и автор «Дьяволиады»:
«Талантливый беллетрист Булгаков не имеет денег для оплаты квартиры».
О том же самом — запись в булгаковском дневнике, сделанная ещё осенью (26 сентября):
«Только что вернулся из Большого театра с „Аиды“, где был с Л[юбовью] Е[вгеньевной]… Весь день в поисках денег для комнаты с Л[юбовью] Е[вгеньевной]».
Уже зарегистрировавшим свой брак Булгакову и Белозёрской негде было жить. Новобрачных вновь выручила сестра Надежда, приютив их в одном из помещений школы, где она преподавала. О том, как Михаил Афанасьевич «съезжал» с прежней своей квартиры, через много лет Татьяна Николаевна рассказала автору «Жизнеописания Михаила Булгакова»:
«Однажды в конце ноября… Миша утром попил чаю, сказал:
— Если достану подводу, сегодня от тебя уйду.
Потом через несколько часов возвращается:
— Я пришёл с подводой, хочу взять вещи.
— Ты уходишь?
— Да, я ухожу насовсем. Помоги мне сложить книжки.
Я помогла. Отдала ему всё, что он хотел взять. Да у нас тогда и не было почти ничего».
Юрий Слёзкин тоже записал в дневнике про то, как…
«… все узнали, что Миша бросил Татьяну Николаевну и сошёлся с Любовью Евгеньевной. С той поры — наша дружба пошла врозь. Нужно было и Мише и Л[юбови] Е[вгеньевне] начинать „новую жизнь“, а следовательно, понадобились новые друзья, не знавшие их прошлого… ему стало не до меня. Ударил в нос успех!».
Булгаков же, со своей стороны, считал, что Слёзкин завидует его литературной славе. И «припечатал» бывшего друга в «Театральном романе», сказав про него, что он «змея». Явно к Слёзкину относятся и эти слова:
«… пожилой, видавший виды человек, оказавшийся при близком знакомстве ужасной сволочью».
Ближайшие родственники Булгакова к его второму браку отнеслись неоднозначно. Даже гостеприимная Надежда сказала:
«Ты вечно будешь виноват перед Тасей».
Сегодня, когда ни участников, ни свидетелей тех давних событий уже нет в живых, разобраться в том, кто был тогда прав, а кто виноват, невозможно. Сам Михаил Афанасьевич считал, что поступил правильно. И даже назвал шестнадцатую (к сожалению, незавершённую) главу «Театрального романа» «Удачная женитьба». Но чуть позднее, разбираясь с историей, связанной со второй женитьбой Жана‑Батиста Мольера, в бессильном отчаянии воскликнул:
«Я отказываюсь вести следствие по делу о женитьбе Мольера, потому что чем глубже я проникал в дело, тем более каким‑то колдовским образом передо мною суживался и темнел коридор прошлого, и тщетно я шарил в углах с фонарём в руках. Ткань дела рвалась и рассыпалась в моих руках, я изнемог под бременем недостоверных фактов, косвенных улик, предположений, сомнительных данных…»
Не будем «вести следствие» и мы. Но — если уж называть вещи своими именами — следует признать, что вступление Булгакова в новую полосу жизни замешано на предательстве. Он предал свою любовь. Бросил на произвол судьбы человека, так много сделавшего для того, чтобы Михаил Афанасьевич вообще жил на этой земле. Эту невесёлую мысль можно облечь и в более возвышенную форму: литератор, которому начала улыбаться фортуна, поспешил «обменять» свою любовь на славу писателя, стать которым он мечтал ещё в юности.
Как бы там ни было, но с этого момента жизненные пути Татьяны Николаевны и Михаила Афанасьевича разошлись навсегда. Расставаясь, Булгаков оставил бывшей жене самое, пожалуй, дорогое, что сумел приобрести за три года жизни в Москве — жилплощадь. Какое‑то время помогал оставленной супруге материально. Но её тогдашнее положение всё равно было отчаянным («Жизнеописание Михаила Булгакова»):
«Татьяна Николаевна оставалась не просто одна, но без какой бы то ни было профессии и даже без профсоюзной книжки, что поставило её вскоре в тяжёлую материальную ситуацию — даже при эпизодической поддержке Булгакова».
Сама Татьяна Николаевна вспоминала:
«Я сначала устроилась на курсы машинисток, но у меня начались такие мигрени, что пришлось бросить. Потом… я на курсы кройки и шитья пошла, ещё с одной женщиной шила. Булгаков присылал мне деньги или сам приносил».
Комнату в доме на Большой Садовой у Татьяны Николаевны вскоре отобрали, пришлось переселяться в полуподвал. Более или менее сносное существование зависело в те годы от того, состоит ли человек в профсоюзе:
«Чтобы получить профсоюзный билет, пошла работать на стройку. Сначала кирпичи носила, потом инструмент выдавала».
Так складывалась жизнь брошенной супруги. А перед Булгаковым в этот момент открывались поистине блестящие перспективы. 27 декабря 1924 года издательство «Недра» заключило с ним договор на сборник рассказов. Это должна была быть первая в его жизни книга! Со дня на день ожидался выход журнала «Россия», где должны были начать печатать первый его роман. Было от чего впасть в эйфорию. И это сразу заметили окружающие.
В повести «Алмазный мой венец» Валентин Катаев оставил нам портрет тогдашнего Булгакова:
«Он любил поучать — в нём было заложено нечто менторское. Создавалось такое впечатление, что лишь одному ему открыты высшие истины не только искусства, но и вообще человеческой жизни. Он принадлежал к тому довольно распространённому типу людей, никогда ни в чём не сомневающихся, которые живут по незыблемым, раз навсегда установленным правилам. Его моральный кодекс как бы безоговорочно включал в себя все заповеди Ветхого и Нового Заветов. Впоследствии оказалось, что всё это было лишь защитной маской втайне очень честолюбивого, влюбчивого и легкоранимого художника, в душе которого бушевали незримые страсти».
Интересная подробность. Валентин Катаев тоже обратил внимание на «маску», защищавшую и лицо писателя и его душу, в которой «бушевали страсти», невидимые окружающим.
Они‑то и выплеснулись в ту самую сатирическую повесть, которая осенью 1924 года была отнесена в издательство «Недра», и от которой Вересаев пришёл в «полный восторг».
Яичная история
26 декабря 1924 года Михаил Булгаков записал в дневнике:
«Ангарский (он только на днях вернулся из‑за границы) в Берлине, а кажется, и в Париже всем, кому мог показать, показал гранки моей повести „Роковые яйца“. Говорят, что страшно понравилась и кто‑то в Берлине (в каком‑то издательстве) её будет переводить».
На следующий день (после посещения очередного «Никитинского субботника») Михаил Афанасьевич принялся размышлять:
«Вечером у Никитиной читал свою повесть „Роковые яйца“. Когда шёл туда, ребяческое желание отличиться и блеснуть, а оттуда — сложное чувство. Что это? Фельетон? Или дерзость? А может быть серьёзное? Тогда не выпеченное. Во всяком случае, там сидело человек 30, и ни один из них не только не писатель, но и вообще не понимает, что такое русская литература.
Боюсь, как бы не саданули меня за все эти подвиги „в места не столь отдалённые“».
Тревожные предчувствия одолевали Булгакова не случайно. Среди тридцати человек, «сидевших» на субботнике, вне всяких сомнений были и информаторы с Лубянки, которые тут же отправили по начальству подробные отчёты об услышанной повести подозрительно дерзкого содержания.
Какую же крамолу могли найти в «Роковых яйцах» доносчики из ГПУ?
Вспомним содержание повести.
В ней рассказывается о том, как далёкий от всякой политики профессор зоологии IV Государственного университета Владимир Ипатьевич Персиков с помощью открытого им красного луча разбередил и до предела взбудоражил доселе апатичный мир амёб и головастиков. С этими примитивными организмами, всю свою жизнь проводящими в размеренно‑спокойной полусонности, под воздействием багрово‑алого облучения происходило нечто невероятное: они вдруг начинали интенсивно размножаться, производя на свет особей, необыкновенно злых и агрессивных:
«Вновь рождённые яростно набрасывались друг на друга и рвали в клочья и глотали. Среди рождённых валялись трупы погибших в борьбе за существование. Побеждали лучшие и сильные. И эти лучшие были ужасны».
Открытие университетского профессора заинтересовало советскую общественность. Энергичный большевик Александр Семёнович Рокк тут же предложил использовать чудодейственные «лучи роста» для возрождения отечественного птицеводства, переживавшего не лучшие времена — по стране только что пронёсся жуткий «куриный мор».
Однако замечательный почин инициативного партийца натолкнулся на неожиданную преграду в виде дьявольской бестолковщины и чертовской безалаберности, которые царили в стране Советов. Они‑то и сыграли роковую роль во всей этой «яичной» истории.
Сбой произошёл уже на первом этапе птицеводческого эксперимента, когда ящики с закупленными за границей яйцами по дороге перепутали. Куриные, то есть те, что предназначались Рокку, доставили профессору Персикову, а не куриные, то есть те, что были заказаны университетской кафедрой, попали в совхоз «Красный луч». И под багрово‑алыми лучами совхозного инкубатора вместо кур невероятной яйценоскости стали появляться на свет злобно‑агрессивные змеи, крокодилы и прочие земноводные гады. Их несметные полчища, пожирая на своем пути все живое, устремились к Москве.
В столице вспыхнула паника. Толпа разъярённых обывателей, подогретая леденящими душу сообщениями печати, ворвалась в кабинет Персикова. Первооткрывателю красных лучей раскроили голову, а его лабораторию разнесли в клочья.
А мерзких пресмыкающихся, успевших полукольцом окружить столицу, погубил неслыханный 18‑градусный мороз, упавший на Подмосковье в августе и продержавшийся двое суток. От неожиданных холодов злобные земноводные и вымерли поголовно.
Таково содержание повести.
На первый взгляд, вполне безобидное. И к советской власти абсолютно лояльное. Более того, события, разворачивающиеся в «Роковых яйцах», происходят (как предупреждает читателей автор) в не очень далёком, но всё‑таки будущем (в 1928 году), и поэтому повесть (написанную в 1924‑ом) вполне можно было отнести к жанру обычной научной фантастики.
Но уже первые слушатели и читатели новой булгаковской сатиры тревожно забеспокоились — у них стали возникать сомнения относительно того, так ли беззубо и безобидно это «роковое яичное» творение.
Иносказательный подтекст
Одним из первых насторожился редактор «Недр» — сразу же, как ознакомился с повестью. Ещё 18 октября 1924 года (это было как раз накануне поездки Ангарского за рубеж) вернувшись из издательства, Булгаков записал в дневнике:
«Большие затруднения с моей повестью‑гротеском „Роковые яйца“. Ангарский подчеркнул мест 20, которые по цензурным соображениям нужно изменить. Пройдёт ли цензуру. В повести испорчен конец, п[отому] ч[то] писал я её наспех».
Судя по довольно спокойному тону записи, требования Ангарского Булгакова не очень опечалили. Переделки‑то касались незначительных частностей. Главных же подковырок редактор опять не заметил.
А крамольного в «наспех» написанной повести было хоть отбавляй.
Кое‑кто спрашивал у Булгакова, не на бухаринскую ли фразу о том, что в революции побеждает тот, кто другому череп проломит, намекает его повесть.
Но более всего всех настораживал профессорский красный луч, превращавший полусонных амёб и головастиков в злобных монстров. Ведь он воспринимался как прозрачный (хотя и старательно закамуфлированный) намёк на красную большевистскую идеологию, возбуждавшую в массах злобу и агрессивность. А «пожирание себе подобных» впрямую ассоциировалось с братоубийственной гражданской войной, стоившей России неисчислимых жертв.
При этом над вопросом, кого автор считает зачинщиком всероссийской бойни, ломать голову не приходилось. Злобные земноводные твари выползли на свет из совхозного инкубатора большевика РОККА, чья фамилия подозрительно явно напоминала РККА, то есть сокращённое название Рабоче‑крестьянской Красной армии. Из этого следовало, что кровожадными ползучими гадами, наводившими ужас на всю страну, Булгаков считает бойцов‑красноармейцев.
Но «красноармейская» подковырка просто бледнеет в сравнении с намёком, который касается главного героя повести.
Булгаковеды давно спорят, кого следует считать прообразом профессора Персикова. Л.Е.Белозёрская утверждала, что этот персонаж «списан» с её родственника, криминолога‑статистика профессора Евгения Никитича Тарновского.
Было и другое мнение, приверженцы которого считали, что прототипом Персикова является выдающийся российский зоолог А.Н. Северцов. С его дочерью Михаил Афанасьевич был хорошо знаком, да и самого отца, видимо, знал неплохо.
Зоологический музей, в котором работал Северцов, Булгаков и перенёс в свою повесть, дав всем его сотрудникам новые имена. Ученик и помощник Северцова, Борис Степанович Матвеев, стал Петром Степановичем Ивановым, ассистентом Персикова. Служитель Зоологического музея Феликс превратился в институтского сторожа Панкрата.
А внешностью и характером самого А.Н.Северцова наделён профессор В.И. Персиков: и тот и другой — 58 лет от роду, оба сутуловаты, выше среднего роста, оба чертыхаются по любому поводу.
Таким образом, вопрос с прототипом, казалось бы, закрыт окончательно.
Но сомнения всё равно остаются.
Не мог дерзкий фельетонист Булгаков, насмехаясь над большевистской идеологией, не подковырнуть самих её носителей. И он подковырнул их. Да ещё как…
Приглядимся к профессору Персикову повнимательнее. Он описан так, что в открывателе красного луча, способном превращать мирные существа в кровожадных монстров, легко угадываются не только зоолог Северцов и криминалист Тарновский, но и… великий пролетарский вождь, озаривший Россию багряно‑алым светом октябрьского переворота.
В самом деле, имя у булгаковского героя точно такое же, как и у лидера большевиков: Владимир. Инициалы у профессора тоже ленинские — В.И. И Персиковым он назван не случайно. Фамилия героя явно скроена на манер другой (тоже «фруктовой») фамилии: Абрикосов, которую носил известный в ту пору патологоанатом, производивший вскрытие тела умершего Ульянова‑Ленина.
Кстати, и сама смерть профессора Персикова («страшным ударом палки» ему раскроили голову) очень напоминает кончину великого пролетарского вождя, умершего, как известно, от кровоизлияния в мозг или, как говорили тогда, от удара (в голову).
Как известно, Ленин прожил 54 года. Персикову 58 лет. Если учесть, что действие повести разворачивается в 1928 году, то в 1924‑ом Персикову тоже было 54 года. Значит, булгаковский герой и Ленин — ровесники.
Пресловутый «красный луч» открыт профессором Персиковым в «апрельскую ночь», и поэтому сразу вызывает ассоциации со знаменитыми «апрельскими тезисами» Ленина, которые, как известно, представляли собой тщательно разработанный план захвата власти.
Кого же, как не Владимира Ильича, считать истинным прототипом профессора Персикова?
Но о чём тогда булгаковская повесть?
Она о том, как ленинская идея (озарить Россию алым лучом октябрьской революции), с энтузиазмом подхваченная инициативным большевиком Троцким, нашла своё воплощение в нашествии на страну несметных полчищ кровожадных монстров (Красной армии), что принесло России неисчислимые страдания и беды. «Роковые яйца» — это зубастый антисоветский фельетон, высмеивающий бредовые коммунистические идеи.
Уже одного этого вполне хватало для того, чтобы обвинить автора повести в глумлении над святым делом Октября, над памятью почившего вождя и упечь враждебного рабоче‑крестьянскому делу писателя «в места не столь отдалённые».
Но на этом выпады против большевистского режима не заканчиваются. Вспомним, с чего начинаются «Роковые яйца»?
«16 апреля 1928 года, вечером…
Начало ужасающей катастрофы нужно считать заложенным именно в этот злосчастный вечер, равно как первопричиною этой катастрофы следует считать именно профессора Владимира Ипатьевича Персикова».
Почему вечер 16 апреля следует считать «злосчастным»? Чем знаменательна для Советской России эта дата?
Во‑первых, 16 апреля 1917 года после многолетней эмиграции в Россию вернулся Владимир Ильич Ленин.
Вечер же 16 апреля 1924 года для многих в Москве был наполнен тревожными ожиданиями. Вспомним ещё раз, что записал в своём дневнике Булгаков 15 апреля 1924 года:
«В Москве многочисленные аресты лиц с «хорошими» фамилиями. Вновь высылки».
Власть явно к чему‑то готовилась. Но к чему?
Всё дело в том, что утром 17 апреля в столицу страны Советов должен был приехать Лев Троцкий. Целых два месяца (пока в срочном порядке перекраивались государственный и партийный аппараты) наркомвоенмора «лечили» на Кавказе. И вот теперь предстояло его возвращение.
Оно было поистине триумфальным. Так возвращался Наполеон с острова Эльбы — как законный претендент на государственный престол. На всём пути своего следования в пролетарскую столицу Троцкий собирал многотысячные толпы, восторженно приветствовавшие выздоровевшего вождя. Глава Реввоенсовета принимал военные парады, выступал с речами перед партактивистами в Тбилиси, в Баку, в Ростове‑на‑Дону, в Орле…
И только Москве было приказано затаиться. Она должна была сделать вид, что ничего особенного не происходит. Но многие москвичи (в том числе, конечно же, и Булгаков) чувствовали, что страна, едва пришедшая в себя после стольких лет и бед братоубийственной бойни, вновь стоит на пороге не менее «ужасающей катастрофы».
Вот что означал для тогдашних жителей пролетарской столицы «злосчастный вечер» 16 апреля 1924 года.
Как видим, историю партии большевиков Булгаков знал неплохо.
А теперь вновь применим метод «булгакочувствования », вспомнив булгаковскую любовь ко всяким словесным и буквенным сюрпризам.
Первая глава повести «Роковые яйца» названа «К уррикулюм В итэ П рофессора П ерсико ва». Словосочетание «куррикулюм витэ» переводится с латинского как «жизненный путь», а набор заглавных букв знаком нам по «Дьяволиаде»: те же «К», «В», «П», «П». Расставленные чуть иначе, они напоминают название большевистской партии — ВКП (б).
Булгаков в своей повести и описал то, что стало бы с «жизненным путём» этой партии (да и всей страны), если бы вернувшийся в Москву Троцкий попытался с помощью ленинского «красного луча» вернуть отнятую у него власть.
О том, чем на самом деле завершилось возвращение выздоровевшего вождя, говорится в финале повести. Там сказано, что злобных пресмыкающихся погубил неслыханный мороз, упавший «в ночь с 19‑го на 20‑е августа 1928 года».
А что происходило в Москве в ночь с 19 на 20 августа 1924 года?
Из истории партии большевиков известно, что 20 августа 1924 года завершал работу очередной пленум ЦК ВКП(б). На нём было принято решение прекратить великое противостояние вождей. Зиновьев и Каменев победили. Троцкий, видя, что оказался в меньшинстве, вынужден был признать своё поражение. Это означало, что всем тем, кто ещё совсем недавно «пресмыкался» перед наркомвоенмором, очень скоро прикажут «долго жить».
Между прочим, в повестке дня пленума стоял и доклад «О борьбе с последствиями неурожая и засухи», который, как сообщали газеты, был выслушан со вниманием и принят к сведению. Не этот ли доклад навеял Булгакову мысль изобразить в своей повести «куриный мор»?
Вот, оказывается, о чём рассказывает нам булгаковская повесть.
Обратим внимание ещё на одну её особенность. В «Роковых яйцах» (как и ранее в «Дьяволиаде») вновь присутствует явный перебор по части слов, начинающихся на букву «П».
В самом деле, П рофессор П ерсиков живёт на П речистенке в квартире из П яти комнат — сразу четыре «П»! Изучает он П ресмыкающихся. Институтского сторожа, помогающего П ерсикову, зовут П анкратом. Второсте пенные персонажи носят фамилии: П ортугалов, П таха‑П оросюк, П олайтис, П опадья Дроздова — опять всё те же «П», «П», «П»!
А уж заканчивается повесть и вовсе загадочной фразой:
«… покойный профессор Владимир Ипатьевич Персиков».
Взяв первые буквы слов, получим, казалось бы, полную бессмыслицу: п. п. В. И. П. Но приглядимся повнимательнее. Инициалы героя (а это ленин ские инициалы: В.И.) с обеих сторон обступают буквы, безумно похожие на пару столбов с перекладиной, а сказать проще, на виселицу: П. Но это — начальная буква слова «партия».
Не подсказывал ли Булгаков этой буквенной шарадой, как, по его мнению, следует поступить с создателями кроваво‑красных лучей, то есть с теми, кто принёс стране страдания и беды?
Сборник рассказов М.Булгакова «Дьяволиада», 1925 г.
Сам писатель эту свою подсказку считал, видимо, достаточно надёжно зашифрованной. И потому был абсолютно уверен в том, что её вряд ли кто сумеет разгадать. Иначе не закончил бы повесть самонадеянной фразой, больше смахивающей на снисходительное разъяснение того, почему никому и никогда не удастся подобрать ключ к его, булгаковскому, шифру:
«Очевидно, для этого нужно было что‑то особенное кроме знания, чем обладал в мире только один человек — покойный профессор Владимир Ипатъевич Персиков».
Повесть‑гротеск Булгакова была опубликована в шестой книжке альманаха «Недра» за 1925 год.
А.М. Горькому, который жил тогда на итальянском острове Капри, «Роковые яйца» понравились. Он даже сказал, что они «остроумно и ловко написаны». С восторгом встретил новую повесть и писатель С.Н. Сергеев‑Ценский, который заметил: «„Роковые яйца „— единственное произведение в наших „Недрах“, которое не скучно читать!»
Итак, произошло, казалось бы, невероятное: советское издательство выпустило в свет две булгаковские повести, полные ужаснейшей крамолы. Ею были пропитаны не только слагавшие эти повести слова, но и буквы. А все вокруг делали вид, что не замечают этого. Годы спустя литературный критик К.Л. Зелинский, вторя уже цитировавшемуся нами Леопольду Авербаху, скажет в одной из статей:
«Писал о революции и М.Булгаков, но он видел в ней лишь „идиотизмы“, хаос, чепуху, бюрократизм, гротеск („Дьяволиада“, „Роковые яйца“)».
Но подобные высказывания появятся не скоро. Пока же Булгаков мог торжествовать. Ещё бы, он водил за нос церберов могучей державы. Его тайный план мщения советской власти потихоньку осуществлялся. И от этого писательская голова начинала кружиться ещё больше.
Впрочем, кружилась она и по другой причине.
Здоровье и нездоровье
В дневнике Булгакова есть подробное описание ощущений, которые он испытал в конце 1924 года, когда однажды выступил в «Гудке» с речью:
«23 декабря. Вторник. (Ночь на 24‑е).
Я до сих пор не могу совладать с собой. Когда мне нужно говорить и сдержать болезненные арлекинские жесты. Во время речи хотел взмахивать обеими руками, но взмахивал одной правой, и вспомнил вагон в конце 20‑го года…»
Далее Булгаков описал своё (уже упоминавшееся нами) состояние, когда в январе 1920 года он заболевал возвратным тифом, и перед его глазами всё двоилось. Во время выступления в «Гудке» он смотрел в лицо своему собеседнику (некоему Р.О.), и точно так же, как в далёком 20‑ом году…
«… видел двойное видение. Ему говорил, а сам вспоминал… Нет, не двойное, а тройное. Значит, видел Р.О., одновременно — вагон, в котором я поехал не туда, куда нужно, и одновременно же — картину моей контузии под дубом и полковника, раненного в живот».
Навязчивые «видения», которые завершались возникновением отвратительного самочувствия, были явным следствием недавнего морфинизма. Болезненная зависимость от наркотического средства вроде бы прошла, а незаживающий шрам на психике продолжал беспокоить.
Портило настроение и постоянное безденежье:
«Денег сегодня нигде не достал, поэтому приехал кислый и хмурый домой… Дома впал в страшную ярость…»
Повышенная возбуждённость не покидала Михаила Афанасьевича и в следующие дни:
«В состоянии безнадёжной ярости обедал у Валентины…» Новая запись:
«Сегодня ещё в ярости, чтобы успокоить её, я перечитывал фельетон некоего фельетониста 70‑ых годов».
Лишь неимоверным усилием воли ему удавалось укрощать «яростные» вспышки. Запись от 24 декабря 1924 года:
«Сейчас я работаю совершенно здоровым, и это чудесное состояние, которое для других нормально, — увы — для меня сделалось роскошью, это потому, что я развинтился несколько. Но, в основном, главное, я выздоравливаю, и силы, хотя и медленно, возвращаются ко мне. С нового года займусь гимнастикой, как в 16‑ом и 17‑ом году, массажем, и к марту буду в форме».
Но негативные явления жизни (а с ними приходилось сталкиваться постоянно) продолжали терзать душу,
«26 декабря. (В ночь на 27‑ое).
Только что вернулся с вечера у Ангарского — редактора „Недр“. Было одно, что теперь всюду: разговоры о цензуре, нападки на неё, „разговоры о писательской правде“ и „лжи “…Я не удержался, чтобы несколько раз не встрять с речью о том, что в нынешнее время работать трудно, с нападками на цензуру и прочим, что вообще говорить не следует».
Возникавшие проблемы Булгаков обсуждал и с женой, что тоже имело негативные последствия — из‑за этих разговоров они не высыпались.
«(В ночь на 28 декабря).
В ночь пишу потому, что почти каждую ночь мы с женой не спим до трёх, четырёх часов утра. Такой уж дурацкий обиход сложился. Встаём очень поздно, в 12, иногда в 1 час, а иногда и в два дня. И сегодня встали поздно и вместо того, чтобы ехать в проклятый „Гудок“, я поехал к моей постоянной зубной врачихе, Зинушке».
Далее Булгаков с удовлетворением записывал, что на Кузнецком мосту обнаружил у газетчика 4‑ый номер журнала «Россия»:
«Там первая часть моей „Белой гвардии“, т[о]е[сть]не первая часть, а треть. Не удержался, и у второго газетчика, на углу Петровки и Кузнецкого, купил номер. Роман мне кажется то слабым, то очень сильным. Разобраться в своих ощущениях я уже больше не могу. Больше всего почему‑то привлекло моё внимание посвящение. Так свершилось. Вот и жена моя…»
Он не случайно заострил своё внимание на посвящении — ведь «Белая гвардия» была посвящена Л.Е. Белозёрской. Какое‑то непонятное предчувствие заставляло его особенно внимательно вглядываться в текст посвящения. Что‑то явно содержалось в нем такое, чему там не следовало быть. Но что? Об этом он узнает немного позднее.
А пока продолжалась прекрасная пора влюблённости в женщину по имени Любовь. Вместе с нею Михаил Афанасьевич принялся сочинять пьесу из французской жизни. Он даже позволял любимой супруге делать записи в свой дневник, давая этому факту такое пояснение:
«Записи под диктовку есть не самый высший, но всё же акт доверия».
И ещё Любовь Евгеньевна отвлекала от потока мрачных мыслей, что тоже отмечено в дневнике 28 декабря 1924 года:
«Очень помогает мне от этих мыслей моя жена. Я обратил внимание, когда она ходит, она покачивается. Это ужасно глупо при моих замыслах, но, кажется, я в неё влюблён. Одна мысль интересует меня. При всяком ли она приспособилась бы так же уютно, или это избирательно для меня?»
И всё равно поводов для того, чтобы в очередной раз впасть в уныние, хватало. Прежде всего, удручало, что никак не удавалось напечатать «Белую гвардию» отдельной книжкой. Издатель, с которым был заключён договор, по каким‑то своим причинам не очень торопился. Появилась, правда, возможность издать роман у Лежнева (Альтшулера). Но в этих переговорах Михаил Афанасьевич не участвовал, и записал в дневнике 29 декабря 1924 года:
«Лежнев ведёт переговоры с моей женой, чтобы роман „Белая гвардия“… передать ему. Люба отказала, баба бойкая и расторопная, и я свалил с своих плеч обузу на её плечи… В долгу сидим как в шелку».
Финансовое положение в тот момент и в самом деле было весьма плачевным:
«2 января, в ночь на 3‑тье.
Забавный случай: у меня не было денег на трамвай, а поэтому я решил из „Гудка “ пойти пешком».
А через три дня по дороге домой Михаил Афанасьевич купил несколько номеров антирелигиозного журнала:
«Когда я бегло проглядел у себя дома вечером номера „Безбожника “, — был потрясён. Соль не в кощунстве, хотя оно, конечно, безмерно, если говорить о внешней стороне. Соль в идее, её можно доказать документально: Иисуса Христа изображают в виде негодяя и мошенника, именно его. Нетрудно понять, чья это работа. Этому преступлению нет цены».
Просмотр журнала с агрессивной атеистической позицией оптимистическому настроению тоже, конечно же, не способствовал. И в дневнике снова появились невесёлые строки:
«Погода напоминает февраль. и в душах — февраль.
— Чем всё это кончится? — спросил меня сегодня один приятель…
— Да чем‑нибудь всё это кончится. Верую!»
Лично для Булгакова «всё это» кончилось написанием новой сатирической повести, рассказывающей о невероятном событии в жизни обыкновенного дворового пса.
«Собачья» история»
Начало 1925 года ознаменовалось очередным (и весьма своеобразным) объяснением в любви. 3 января Михаил Афанасьевич записал в дневнике:
«Ужасное состояние: всё больше влюбляюсь в свою жену.
Так обидно — 10 лет открещивался от своего… Бабы как бабы. А теперь унижаюсь даже до лёгкой ревности. Чем‑то мила и сладка.
И толстая».
На следующий день — новые размышления, но уже на другую тему:
«Сегодня вышла „Богема“ в „Красной ниве“ № 1. Это мой первый выход в специфически‑советской тонко‑журнальной клоаке».
Судя по тону записи, сам факт выхода в свет нового рассказа Булгакова радовал. А вот напечатавший его журнал с откровенной презрительностью назван «клоакой».
5 января с не меньшей прямотой Михаил Афанасьевич признавался:
«Сегодня в „Гудке „в первый раз с ужасом почувствовал, что я писать фельетонов больше не могу. Физически не могу. „Это надругательство надо мной и над физиологией “».
Понять Булгакова нетрудно — ведь он уже стал писателем, а приходилось тратить драгоценное время на пустую и, как ему казалось, совершенно никчёмную журналистику.
Сохранилась открытка от 14 февраля, присланная из «Недр» её сотрудником Б.Л. Леонтьевым. В ней — приглашение от редактора Ангарского прийти…
«… в воскресенье, 15 февраля, в 7 час[ов] вечера на литературное чтение. Просьба принести с собой рукопись „Собачье сердце“ и читать её. Н.С. ждёт Вас с женой».
Неизвестно, присутствовал ли на том «литературном чтении» Юрий Слёзкин, но его тогдашнее мнение о новой булгаковской сатире сохранилось:
«Рассказ хорош, но с большой примесью яда».
Эту ядовитую «примесь», видимо, почувствовали и в «Недрах», и через несколько дней тот же Леонтьев отправил Булгакову новое послание:
«Дорогой М.А. Торопитесь, спешите изо всех сил предоставить нам Вашу повесть „Собачье сердце“. Н.С. может уехать за границу недели через 2–3, и мы не успеем протащить вещь через Главлит. А без него дело едва ли пойдёт. Если не хотите сгубить до осени произведение — торопитесь, торопитесь».
Тем временем в пятом (февральском) номере «России» было напечатано продолжение романа «Белая гвардия». Даря экземпляры журнала друзьям и знакомым, Булгаков заглянул и к бывшей жене. Полистав «Россию», Татьяна Николаевна обнаружила, что роман предваряет фраза: «Посвящается Любови Евгеньевне Белозёрской» («Жизнеописание Михаила Булгакова»):
«— Я всё‑таки удивляюсь, — сказала я ему. — Кажется, всё это мы пережили вместе… Я всё время сидела около тебя, когда ты писал, грела тебе воду. Вечерами тебя ждала…
А он сказал:
— Она меня попросила. Я чужому человеку не могу отказать, а своему — могу.
— Ну и забирай свою книжку!»
И Татьяна Николаевна, возмущённая бестактностью бывшего супруга, швырнула журнал ему под ноги. Кто знает, может быть, не ожидавший такой реакции Булгаков именно тогда с особой горечью и произнёс фразу, которую и до этого часто говаривал жене:
«— Меня за тебя Бог накажет».
Возможно, именно после этого инцидента в булгаковском дневнике появилась тревожная запись, смысл которой не разгадан до сих пор:
«25 февраля. Среда. Ночь.
Передо мною неразрешимый вопрос.
Вот и всё».
В начале марта Михаил Афанасьевич вновь посетил очередной «Никитинский субботник» и прочёл там отрывок из «Собачьего сердца». До наших дней дошёл агентурный донос, отправленный тогда же по начальству лубянским соглядатаем:
«Был 73.‑25 г. на очередном литературном «субботнике» у Е.Ф. Никитиной. Читал Булгаков свою новую повесть…
… вся вещь написана во враждебных, дышащих бесконечным презрением к совстрою тонах… Всё это слушается под сопровождение злорадного смеха никитинской аудитории…
Если и подобные грубо замаскированные… выпады появятся на книжном рынке СССР, то белогвардейской загранице… останется только завидовать исключительнейшим условиям для контрреволюционных авторов у нас».
Ознакомившись с новой булгаковской повестью, мгновенно насторожились и цензоры. А Ангарский, написавший 8 апреля 1925 года письмо Максимилиану Волошину (восторгавшемуся «Белой гвардией»), заметил:
«„Белая гвардия “, по‑моему, вещь довольно рядовая, но юмористические его вещи — перлы, обещающие из него художника первого ранга. Но цензура режет его беспощадно. Недавно зарезала чудесную вещь „Собачье сердце“, и он совсем падает духом. Да и живёт почти нищенски…»
Что же заставило цензуру «зарезать» эту «чудесную вещь»?
Вспомним содержание повести.
В «Собачьем сердце» рассказывается о том, как профессор Филипп Филиппович Преображенский пересадил дворняжке по кличке Шарик гипофиз 25‑летнего Клима Чугункина, погибшего от удара ножа в пивной на Преображенской заставе. В результате уникальной операции произошло очеловечивание собаки, и Шарик превратился в Полиграфа Полиграфовича Шарикова.
Этот новый гражданин страны Советов сразу ощутил себя хозяином положения. А когда вошёл в контакт с председателем домового комитета Швондером, и вовсе повёл себя так, как вели себя тогда многие из тех, кто недавно был ничем, а стал вдруг всем. За многочисленные пакости, учинённые вчерашней дворнягой, доктор Борменталь (ассистент профессора Преображенского) охарактеризовал Шарикова как «исключительного прохвоста».
Своими грубыми беспардонными выходками, бесцеремонностью и прочим бескультурьем очеловеченный пёс вскоре и самого профессора убедил в том, что его научный эксперимент потерпел сокрушительное фиаско. Белозёрская писала в своих «Воспоминаниях»:
«… учёный ошибся: он не учёл законов наследственности и, пересаживая собаке гипофиз умершего человека, привил ей все пороки покойного: склонность ко лжи, к воровству, грубость, алкоголизм, потенциальную склонность к убийству. Из хорошего пса получился дрянной человек!»
И талантливому хирургу Преображенскому не оставалось ничего другого, как с помощью скальпеля вернуть Шарикову его прежний собачий облик.
Таково содержание повести.
Казалось бы, вновь обычная научная фантастика. На сугубо медицинские темы. И без всякой политики.
Но если вчитаться в «Собачье сердце» со вниманием, можно обнаружить «пассажи» весьма любопытные. В 20‑е годы они звучали просто вызывающие.
Настораживающая сатира
Современники Булгакова, прежде всего, должны были обратить внимание на чересчур смелые высказывания героев «Собачьего сердца». Так, водку советского производства доктор Борменталь с нескрываемым ехидством называет «новоблагословенной». А профессор Преображенский в ответ назидательно произносит фразу, ставшую впоследствии почти крылатой:
«— А водка должна быть в сорок градусов, а не в тридцать».
Чтобы современному читателю было понятно происхождение как «назидательности» профессора, так и «ехидства» его ассистента, обратимся к дневнику Булгакова. В ночь с 20 на 21 декабря 1924 года там было записано:
«В Москве событие — выпустили 30° водку, которую публика с полным основанием назвала „Тыковкой“. Отличается она от царской водки тем, что на десять градусов она слабее, хуже на вкус и в четыре раза дороже».
29 декабря — продолжение темы:
«Водку называют „Рыковка“ и „Полурыковка“. „Полурыковка“ потому, что она в 30°, а сам Рыков (горький пьяница) пьёт в 60°».
Таким образом, герои «Собачьего сердца» не просто рассуждают на отвлечённые «водочные» темы, а высказывают своё отношение к важнейшим хозяйственным мероприятиям советской власти. И при этом подтрунивают над алкогольными пристрастиями главы Совнаркома А.И.Рыкова.
В той же записи, что была сделана в ночь с 20 на 21 декабря, есть фразы, касающиеся и происходивших в стране событий:
«Самое главное из них конечно — раскол в партии, вызванный книгой Троцкого „Уроки Октября“, дружное нападение на него всех главарей партии во главе с Зиновьевым, ссылка Троцкого под предлогом болезни на юг и после этого — затишье… Троцкого съели, и больше ничего…
Мальчишки на улице торгуют книгой Троцкого „Уроки Октября “, которая шла очень хорошо. Блистательный трюк: в то время, как в газетах печатаются резолюции с преданием Троцкого анафеме, Госиздат великолепно продал весь тираж. О, бессмертные еврейские головы…
… публика, конечно, ни уха, ни рыла не понимает в этой книге и ей всё равно — Зиновьев ли, Троцкий ли, Иванов ли, Рабинович. Это «спор славян между собой».
О судьбах вождей, считавших себя вершителями человеческих судеб, Булгаков напишет в начале 30‑х («Жизнь господина де Мольера»):
«Несчастные сильные мира! Как часто свои крепости они строят на песке!.. К сожалению, вершители судеб могут распоряжаться всеми судьбами за исключением своей собственной…»
В те годы судьбами большевистских лидеров распоряжалась партия. В последней декаде января 1925 года Объединённый пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) снял Льва Троцкого с постов председателя Реввоенсовета и народного комиссара по военным и морским делам. Другой Лев (Каменев) был переведён из членов политбюро в кандидаты. Главой Красной армии назначили Михаила Фрунзе.
«Судьбоносные» решения пленума бурно обсуждались всюду. И они не могли не найти отражения в создававшейся в то же самое время булгаковской повести. Так что не зря насторожился на «Никитинском субботнике» некий «искусствовед в штатском». «Враждебные тона», которые он почуял в «Собачьем сердце», были для этой повести вполне естественны. Она ведь для того и писалась, чтобы громогласно заявить:
а) о тщетности большевистского эксперимента по построению бесклассового общества всеобщей справедливости,
б) о неспособности советской власти преодолеть даже самую обыкновенную разруху,
в) о бессмысленности её попыток решить экономические вопросы с помощью жесточайшего террора.
Беспартийный профессор Преображенский говорит:
«Террором ничего поделать нельзя с животным, на какой бы ступени развития оно ни стояло. Это я утверждал, утверждаю и буду утверждать. Они напрасно думают, что террор им поможет. Нет‑с, нет‑с, не поможет, какой бы он ни был: белый, красный или даже коричневый! Террор совершенно парализует нервную систему».
На всём протяжении повести профессор отпускает весьма нелестные замечания в адрес советских порядков, на наглядных жизненных примерах доказывая полную бессмысленность коммунистических затей:
«— Что такое эта ваша разруха?.. Это вот что: если я, вместо того чтобы оперировать, каждый вечер начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха! Если я, ходя в уборную, начну, извините меня за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной получится разруха! Следовательно, разруха сидит не в клозетах, а в головах!»
Свою взволнованную речь, обращённую к доктору Бор‑менталю, Преображенский завершает фразой, которая перечёркивает всё то, что с таким энтузиазмом воспевалось в «Интернационале» («Мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем!»):
«— Это никому не удастся, доктор, и тем более людям, которые вообще, отстав в развитии от европейцев лет на двести, до сих пор ещё не совсем уверенно застёгивают собственные штаны!»
Булгаков не просто смеялся, он издевался над большевистскими планами, во всеуслышанье заявляя, что они нереальны, а потому и несбыточны. Новый коммунистический мир советская власть не построит ни за что. Точно так же, как ни один хирург мира (пусть даже самый гениальный) никогда не превратит дворового пса в интеллигентного человека.
Для Булгакова это были истины, не требовавшие никаких доказательств. Но чтобы его не обвинили в контрреволюции и во враждебном отношении к идеям Октября, он вложил в уста профессора Преображенского такое высказывание:
«… никакой этой самой контрреволюционности в моих словах нет. В них лишь здравый смысл и жизненная опытность…»
И всё же главная крамола «Собачьего сердца» — не в высказываниях героев повести, а в их прототипах.
Крамольные прообразы
Сегодня считается окончательно установленным тот факт, что своего профессора Преображенского Булгаков «списал» с Николая Михайловича Покровского, родного брата матери, известного в ту пору врача‑гинеколога. Ассистентом у Покровского был доктор Блюменталь (или Блументаль, как иногда его называли).
Казалось бы, налицо предельная схожесть фамилий: Покровский — Преображенский, Блюменталь — Борменталь. Но…
Вновь возникает это назойливо‑навязчивое «но». И возникает совсем не случайно. Ведь персонажи «Собачьего сердца» изображены так и такими , что в профессоре, «преображающем» дворнягу ШАРИКА в человека, легко угадывается Ульянов‑Ленин, великий преобразователь одной шестой земного ШАРА.
Эту схожесть героя с его прототипом усиливают другие не менее выразительные детали. Всмотримся в фамилию человека, который ассистирует «преобразователю дворняжек»: Борменталь, в его профессию — хирург, и в то, чем он конкретно занимается? Ближайший сподвижник профессора Преображенского оперирует скальпелем, то есть режет, как говорятся, по живому, с кровью.
Попробуем перевести фамилию Борменталь на русский язык. «Бор» — это зубоврачебное сверло, которого все боятся, как огня, «менталь» — это «способ мышления». Стало быть, «борменталь» — это «образ мыслей зубодробительный».
А теперь ещё раз вспомним, что в первые годы советской власти правой рукой Ленина, то есть вторым лицом в большевистской иерархии, был человек, с детства носивший фамилию Бронштейн и под псевдонимом Троцкий возглавлявший Красную армию. На его совести — море крови, пролитой Россией в гражданскую войну. А его жёсткие (поистине «зубодробительные») планы преобразования страны в мирное время наводили на советских людей панический ужас.
Стоит ли после этого сомневаться в том, что в образе любимого ученика профессора Преображенского Булгаков вывел ближайшего сподвижника Ленина — Троцкого?
А стычки наглой и горластой команды Швондера с профессором Преображенским? Разве не напоминают они те, скажем так, «трения», что возникали в самом начале 20‑х годов между заболевшим Лениным и «тройкой» во главе с Зиновьевым? Сначала соратники Владимира Ильича «упекли» его в Горки, потом изолировали в кремлёвской квартире, а затем вновь отправили в подмосковный особняк — умирать. Разве не о том же самом мечтает «новое домоуправление дома» во главе со Швондером, когда всячески пытается «уплотнить» профессора?
Обратим внимание и на весьма примечательную личность, ставшую своеобразным «донором» для дворняги Шарика. Это 25‑летний трактирный балалаечник Клим Чугункин, убитый ножом в спину в закусочной «Стоп‑сигнал» на Преображенской заставе. Кого имел в виду Булгаков, с кого «списывал» своего героя?
Загадка несложная, потому как за всю историю страны Советов имя Клим среди вождей встречается только один раз и принадлежит оно К.Е. Ворошилову. Климент Ефремович был активным участником гражданской войны, во время обороны Царицына сблизился со Сталиным. В самом начале 1925 года прибыл в пролетарскую столицу с Северного Кавказа, чтобы возглавить Московский военный округ, сменив на этом посту верного сподвижника Троцкого Н.И. Муралова. Через полгода Ворошилова назначили наркомвоенмором, а через два десятка лет он стал первым маршалом Советского Союза.
Разобравшись с именем, попробуем отгадать, от кого трактирный балалаечник получил свою «чугунную» фамилию? Загадка тоже не из трудных, потому как среди тогдашних советских вождей только у одного в фамилии присутствовало «железо» — у Иосифа Сталина. Его‑то (вместе с Климом Ворошиловым) Булгаков и определил в «доноры» к дворовому псу, из которого профессор Преображенский «нечаянно» создал нового советского человека. Так что напрасно писала Белозёрская об ошибке учёного‑хирурга. Ошибся не он, ошибались большевистские лидеры. И ошибки их были трагическими, роковыми.
А теперь, вновь вспомнив о том, как Булгаков играл со словами и буквами, вглядимся в название повести, в его начальные буквы — С.С.! Эта аббревиатура уже встречалась нам в «Дьяволиаде», где фигурировали «с волочные с пички», те же — «С.С.». С тех же букв начинаются и весьма популярные в те годы словосочетания: «С трана С оветов» и «С оветский С оюз». Получается, что Булгаков отождествлял эти (священные для каждого пролетария) понятия с какими‑то «С волочными С пичками» и «С обачьим С ердцем»? Подобную выходку вполне можно было расценить как плевок в лицо первой в мире державе рабочих и крестьян.
И ещё. Как и в предыдущих булгаковских повестях, в «Собачьем сердце» вновь обращают на себя внимание слова, начинающиеся (а теперь ещё и заканчивающиеся) на букву «П»! П рофессор ФилиПП ФилиПП ович П реображенский живёт не где‑нибудь, а на П речистенке, п рохвост Шариков становится П олиграфом П олиграфовичем — снова всё те же загадочные «П», «П», «П»?
Странное пристрастие к буквам, напоминающим виселицы. Это не могло не броситься в глаза. А огромное количество подковырок и колкостей в булгаковской повести заставило крепко призадуматься тех, кому советская власть вменила в обязанность искать и искоренять крамолу.
Наступление власти
Осенью 1924 годы супруги Булгаковы сняли комнату в небольшом флигельке в одном из московских переулков. В ночь с 20 на 21 декабря Михаил Афанасьевич записал в дневнике:
«Около двух месяцев я уже живу в О духовом переулке в двух шагах от квартиры К., с которой у меня связаны такие важные, такие прекрасные воспоминания моей юности: и 16‑ый год и начало 17‑го. Живу я какой‑то совершенно неестественной хибаре, но, как это ни странно, сейчас я чувствую себя несколько более „определённо“. Объясняется это…»
К сожалению, на этом дневниковая запись обрывается — в ней не хватает страницы. Но неожиданное признание Михаила Афанасьевича в том, что некая «/С.» всколыхнула в нём романтические воспоминания, к счастью, сохранилось.
Обратим внимание на слова «я живу». Личное местоимение «я», которое употребил Булгаков, создаёт впечатление, что в своей «неестественной хибаре» он проживал в полном одиночестве. А вот Белозёрская, описывая тот же период жизни, использовала совсем другое местоимение — «мы»:
«Мы живём в покосившемся флигельке во дворе дома № 9 по Обухову, ныне Чистому переулку…
Дом свой мы зовём голубятней. Это наш первый совместный очаг…»
Именно здесь, на «голубятне», в январе 1925 года Булгаков начал писать первую пьесу московского периода. Здесь создавалось «Собачье сердце». И именно сюда в один прекрасный день заглянул редактор издательства «Недра». Любовь Евгеньевна вспоминала:
«Как‑то на голубятне появился Ангарский и рассказал, что он много хлопочет в высоких инстанциях о напечатании „Собачьего сердца“, но вот что‑то не получается».
2 мая 1925 года Булгаков получил из «Недр» записку, в которой говорилось:
«…рукопись цензура ещё не пропускает».
А 21 мая издательство вернуло ему экземпляры сразу двух повестей: «Записок на манжетах» и «Собачьего сердца» — цензоры поставили на них окончательный крест. Однако Ангарский сдаваться не собирался. Хорошо зная привычки и пристрастия советских вождей, он придумал нестандартный ход, о котором и сообщалось Булгакову в очередном послании Б. Леонтьева:
«Дорогой и уважаемый Михаил Афанасьевич, Николай Семёнович прислал мне письмо, в котором просит вас сделать следующее. Экземпляр, выправленный, „Собачьего сердца“ отправить немедленно Л.Б. Каменеву в Боржом. На отдыхе он прочтёт. Через 2 недели он будет в Москве и тогда не станет этим заниматься. Нужно при этом послать сопроводительное письмо — авторское, слёзное, с объяснением всех мытарств и пр. и пр.
Сделать это нужно через нас… И спешно!»
Мариэтта Чудакова, впервые опубликовавшая эту записку сопроводила её следующим комментарием:
«Письмо, видимо, сильно задело Булгакова — слово „авторский“ жирно подчёркнуто им двумя, а „слёзное“ — четырьмя цветными штрихами и сопровождено двумя восклицательными знаками. Булгаков явно недоумевал, почему письмо должно исходить от автора, а не от редакторов, поддерживающих повесть, и уж никак не мог помыслить себя автором письма „слёзного“.
Рукопись в Боржом он так и не послал…»
Рукопись не послал, а сам уехал отдыхать в Коктебель, куда его и Любовь Евгеньевну пригласил Максимилиан Волошин.
Тем временем популярность Булгакова стремительно росла. 30 июня 1925 года В.В. Вересаев в письме А.М. Горькому с особой теплотой упоминал автора «Собачьего сердца»:
«Обратили Вы внимание на Михаила Булгакова? Я от него жду очень многого, если не погибнет он от нищеты и невозможности печататься».
Но Булгаков «погибать» не собирался. Напротив, его дела в тот момент пошли в гору. В июле на книжных прилавках появился долгожданный сборник. Он назывался «Дьяволиада» и был составлен из одноимённой повести‑гротеска и нескольких сатирических рассказов. А 24 августа с «Недрами» был заключён договор на издание отдельной книгой повести «Роковые яйца».
И вдруг произошло событие, ошарашившее своей неожиданностью: весь тираж «Дьяволиады» был конфискован.
А тут ещё Б. Леонтьев 11 сентября прислал сообщение о «Собачьем сердце», которое Каменеву всё‑таки передали…
«Повесть Ваша „Собачье сердце“ возвращена нам Л.Б. Каменевым. По просьбе Ник[олая] Семеновича] он её прочёл и высказал своё мнение: „Это острый памфлет на современность, печатать ни в коем случае нельзя“».
Вроде бы ничего страшного не случилось: булгаковское произведение не понравилась всего лишь одному вождю, притом не самому главному, да к тому же находившемуся в опале. Но было всё равно неприятно.
Наступила осень. Все, кто зорко следил за происходившим вокруг, внезапно почувствовали, как изменилась ситуация в стране: потянуло холодом тревожных перемен, над головой стали мрачно сгущаться тучи.
20 сентября «Известия» опубликовали уже упоминавшуюся нами статью Леопольда Авербаха. В ней в адрес Булгакова высказывались те же самые оценки, что содержались в отзыве Льва Каменева:
«М. Булгакову нельзя отказать в бойком пере. Пишет он легко, свободно, подчас занимательно. Так что на вопрос: как? — можно ответить: ничего. Но что он пишет? Но что печатают „Недра“! Вопрос, пожалуй, даже интереснее. Булгаковы появляться будут неизбежно, ибо нэмпанству на потребу злая сатира на советскую страну, откровенное издевательство над ней, прямая враждебность. Но неужели булгаковы будут и дальше находить наши приветливые издательства и встречать благосклонность Главлита?».
Это были уже не просто какие‑то слова из какой‑то статьи. Все знали, что Авербах состоит в родстве с видным гепеушником Генрихом Ягодой и потому имеет доступ на самый верх властной советской пирамиды. А раз так, то авербаховская точка зрения не может не совпадать с мнением кремлёвского руководства. Далее в статье говорилось:
«Рассказы Булгакова цельны, выдержаны, единое в них настроение и единая тема. Тема эта — удручающая бессмыслица путаность и никчёмность советского быта, хаос, рождающийся из коммунистических попыток строить новое общество».
Каждый абзац статьи Авербаха звучал как суровый приговор всему творчеству писателя‑сатирика: прошлому, настоящему и будущему. Одним росчерком пера Булгаков зачислялся в ряды заклятых врагов большевистского режима.
Это сразу уловил Вересаев. В начале октября он послал Михаилу Афанасьевичу письмо, в котором (вероятно, впервые в отношении Булгакова) было употреблено очень часто звучавшее в ту пору слово «травля»:
«Ввиду той травли, которая сейчас ведётся против Вас, Вам приятно будет узнать, что Горький (я летом имел письмо от него) очень Вас заметил и ценит».
И ещё Вересаев выступил с неожиданным предложением, которое, как показали дальнейшие события, было провидческим:
«Михаил Афанасьевич! Когда Вам будет приходиться туго, обращайтесь ко мне. Я бы так хотел, чтобы Вы это делали так же просто, как я это предлагаю! Поймите, — я это делаю вовсе не лично для Вас, — а желая оберечь хоть немного крупную художественную силу, которой Вы являетесь носителем».
Булгаков воспользовался этим предложением и взял у Вересаева какую‑то сумму взаймы. Сохранилось его письмо Вересаеву от 18 ноября 1926 года:
«… посылаю первые 50 рублей в уплату моего долга Вам».
Но вернёмся в год 1925‑ый. Заканчивался октябрь, когда над страной нежданно прогремели грозовые раскаты. 31 октября после хирургической операции (по поводу хронической язвы желудка) от острой сердечной недостаточности скончался М.В. Фрунзе. Всего девять месяцев возглавлял он Красную армию.
Внезапная кончина наркомвоенмора ошеломила всех.
А в декабре состоялся XIV съезд ВКП(б), и вся страна, ахнув, узнала о расколе на властном Олимпе. Делегаты заслушали два отчётных доклада: один сделал Сталин, другой — Зиновьев. Новая оппозиция громогласно обвинила генерального секретаря в превышении власти. Заговорили о грубом характере Сталина и о тайном завещании Ленина, в котором якобы рекомендовалось подыскать другую кандидатуру на пост генсека.
Рядовые москвичи не могли понять, что происходит в партии. Ясно было одно: большевики продолжают изо всех сил тащить народ к светлому будущему 31 декабря 1925 года К.И. Чуковский записал в дневнике:
«… на мелкобуржуазную, мужицкую руку не так‑то легко надеть социалистическую перчатку …. но всё же её наденут гениальные упрямцы, замыслившие какой угодно ценой осчастливить во что бы то ни стало весь мир».
А тучи над страной продолжали сгущаться…
Закат России
Наступил год 1926‑ой. Количество десятков в нём — 26, а это — уже знакомые нам «два раза по «13». Жить Булгакову (а он продолжал скрупулёзно следить за приближением роковой даты) оставалось тоже 13 лет. Можно ли было ждать чего‑либо хорошего от этой двойной и даже тройной «чёртовой дюжины», вновь так настойчиво напомнившей о себе?
Словно подтверждая самые мрачные предзнаменования, 4 января 1926 года «Недра» известили Булгакова о том, что его повесть «Роковые яйца» отдельным изданием отпечатана быть не может — запретила цензура.
Зато 3 марта из тех же «Недр» вопреки всем «чёрным» предсказаниям пришло сообщение радостное: Главлит разрешил повторный выпуск конфискованного сборника «Дьяволиада». Булгаков тут же выступил с чтением своих остросатирических «Приключений Чичикова».
Однако торжествовать было явно преждевременно. Ведь в третьей булгаковской повести содержался сатирический заряд такой мощи, что власти уже не могли делать вид, будто ничего не замечают.
Подобная ситуация чуть позднее будет описана в «Жизни господина де Мольера». Рассказывая о том, как члены некоего парижского салона (они называли себя «драгоценными») были высмеяны великим французским драматургом, Булгаков не без иронии заметил:
«Во всяком случае, надо отдать справедливость „драгоценным“: на удар Мольера они ответили очень мощным ударом».
То же самое произошло и с самим Булгаковым. Он не знал, что ОГПУ, давно уже косо посматривавшее на подозрительно вольное существование «частного» журнала «Россия», получило приказ действовать. Кремль готовился к решительному сражению с оппозицией, и поэтому все источники, из которых могли проистекать ручейки «критики» и «критиканства», предстояло срочно лишить дара речи.
4 мая 1926 года члены политбюро (Ворошилов, Зиновьев, Молотов, Сталин и Томский) и двое кандидатов (Каменев и Рудзутак) собрались на очередное заседание. На него был приглашён и заместитель главы ОГПУ Генрих Ягода, который огласил докладную записку о деятельности журнала «Новая Россия» (так называлась теперь прежняя «Россия»).
Немного посовещавшись, вожди приняли решение: журнал закрыть, а его редактора, Лежнева, выслать за границу. ОГПУ было предложено в трёхдневный срок подготовить конкретные предложения по претворению в жизнь партийного вердикта.
Лубянка сработала оперативно, и к следующему заседанию политбюро подготовила необходимый документ:
«7 мая 1926 г.
Строго секретно
В ЦК ВКП(б) тов. МОЛОТОВУ
В развитие нашей докладной записки от 5 сего мая за № 3446 и во исполнение постановления Политбюро от 5 мая, считаем необходимым произвести следующие мероприятия:
… произвести обыски без арестов у нижепоименованных 8‑ми лиц, и по результатам обыска, о которых будет Вам доложено особо, возбудить следствие, в зависимости от результатов коего выслать, если понадобится, кроме ЛЕЖНЕВА, и ещё ряд лиц из следующего списка:
КЛЮЧНИКОВ Юрий Вениаминович, проф. 1 МГУ, научный сотрудник Коммунистической Академии.
ПОТЕХИН Юрий Николаевич, литератор, юрист‑консульт акционерного О‑ва „Тепло и Сила“…
7. БУЛГАКОВ Михаил Александрович, литератор…
Зампред ОГПУ Ягода»
Интересен постскриптум, завершающий чекистский документ:
«P.S. Нам чрезвычайно важно произвести обыски одновременно с закрытием „Новой России“, ввиду этого прошу, если те мероприятия будут одобрены Вами, провести голосование опросом!
Г. Ягода».
Опрошенные по телефону четыре члена политбюро (Ворошилов, Зиновьев, Молотов, Сталин) и три кандидата (Каменев, Рудзутак и Угланов) с представленными предложениями ОГПУ согласились и приняли по этому поводу именно то решение, о котором просил Ягода.
То, что отчество Михаила Булгакова в огепеушной записке названо неправильно, лубянских сыщиков со следа не сбило. И в тот же самый день, 7 мая…
Знакомство с ОГПУ
Вечером 7 мая 1926 года произошло событие, которое…
Впрочем, пусть о нём расскажет Л.Е. Белозёрская, подробно описавшая то майское происшествие в своих «Воспоминаниях»:
«… в один прекрасный вечер на голубятню постучали (звонка у нас не было), и на мой вопрос «кто там?» бодрый голос арендатора ответил: „Это я, гостей к вам привёл!“
На пороге стояли двое штатских: человек в пенсне и просто невысокого роста человек — следователь Славкин и его помощник — с обыском. Арендатор пришёл в качестве понятого…»
Фамилию следователя Любовь Евгеньевна назвала не совсем верно (если, впрочем, не сделала это вполне намеренно). На самом деле обыск проводил не Славкин, а уполномоченный пятого (секретного) отдела ОГПУ Врачёв. Во всём же остальном нарисованная картина вполне достоверна.
«Булгакова дома не было, и я забеспокоилась: как‑то примет он приход „гостей“, и попросила не приступать к обыску без хозяина, который вот‑вот должен прийти».
Наконец раздался стук в дверь — пришёл Михаил Афанасьевич.
«… он держался молодцом (дёргаться он начал значительно позже). Славкин занялся книжными полками. „Пенсне“ стало переворачивать кресла и колоть их длинной спицей».
Обыск, как и положено, продолжался всю ночь. Под утро был составлен протокол:
«На основании ордера Объединённого Государственного политического управления за № 2287 от 7 мая мес. 1926 г. произведён обыск у гр. Булгакова в д. № 9, кв. № 4 по у л. Кропоткина, пер. Чистый, сотрудником Врачёвым.
При обыске присутствовали обыскиваемый Булгаков М.А. и арендатор дома Градов В.В.
Взято для доставления в Объединённое Госполитуправление следующее:
1. Два экземпляра перепечатанных на машинке „Собачье сердце“.
2. Три дневника: за 1921‑23 и 25 годы…»
После нежданного визита Булгаков приходил в себя полторы недели. А 18 мая подал в ОГПУ заявление:
«При обыске, произведённом у меня представителями ОГПУ 7‑го мая 1926 г. (ордер № 2287, дело 45), у меня были взяты с соответствующим занесением в протокол — повесть моя „Собачье сердце „в 2‑х экземплярах на пишущей машинке и 3 тетради написанных мною от руки черновых мемуаров моих под заглавием „Мой дневник“.
Ввиду того, что „Сердце“ и „Дневники“ необходимы мне в срочном порядке для дальнейших моих литературных работ, а „Дневники“, кроме того, являются для меня очень ценным интимным материалом, прошу о возвращении мне их».
24 июня аналогичное письмо‑прошение было направлено и Председателю Совнаркома.
Никаких ответов на просьбы не последовало. Правда, сохранились свидетельства о том, что Сталин, Молотов и другие члены политбюро с интересом читали булгаковские дневники.
Лишь 22 сентября 1926 года писателя вызвали на Лубянку.
Допрашивал его следователь С.Г. Гендин. Семён Григорьевич был в приятельских отношениях с Яковом Аграновым, уже тогда занимавшим пост заместителя начальника секретного отдела ОГПУ. Вместе они посещали собрания лефовцев на квартире Маяковского.
В книге «ГРУ. Дела и люди» про этого следователя сказано:
«Гендин Семён Григорьевич
04.1902, г. Двинск
Еврей. В РККА с 1918. Член ком. Партии с 1918. Окончил Московские командные артиллерийские курсы (1920), Высшие военно‑химические курсы РККА (1921).
Участник Гражданской войны. Командир взвода, батареи, помощник начальника артиллерии Новороссийского укрепрайона.
С 1921 в органах ВЧК».
Протокол допроса Булгакова давно опубликован. Эти «Показания по существу дела» дают основания предположить, что допрашиваемый писатель решил не лукавить. И не таясь, заявил о том, что он сын статского советника, что окончил медицинский факультет университета, что литературной деятельностью начал заниматься, служа в Добровольческой армии.
«В своих произведениях я проявлял критическое и неприязненное отношение к Советской России… Мои симпатии были всецело на стороне белых, на отступление которых я смотрел с ужасом и недоумением».
Обе фразы подчеркнул следователь, тем самым особо их выделяя…
Чувствуя растущую настороженность со стороны Гендина, Булгаков сообщил, что с белыми давно уже не имеет никаких отношений, и что он «несколько месяцев» писал статьи для газеты «Правда». Кроме того…
«Связавшись слишком крепкими корнями со строящейся Советской Россией, не представляю себе, как бы я мог существовать в качестве писателя вне её. Советский строй считаю исключительно прочным. Вижу много недостатков в современном быту и благодаря складу моего ума отношусь к ним сатирически и так и изображаю их в своих произведениях».
На вопрос следователя, почему до сих пор не напечатана его новая повесть, допрашиваемый ответил:
«“ Повесть о собачьем сердце“ не напечатана по цензурным соображениям. Считаю, что произведение „Повесть о собачьем сердце „вышло гораздо более злостным, чем я предполагал, создавая его, и причины запрещения печатания мне понятны».
На вопрос, где и как часто повесть читалась, последовал ответ:
«Должен отметить, что неоднократно получал приглашения читать это произведение в различных местах и от них отказывался, т. к. понимал, что в своей сатире пересолил в смысле злостности и повесть возбуждает слишком пристальное внимание…»
Когда же следователь прямо спросил, есть ли в «Собачьем сердце» политическая подоплёка, Булгаков откровенно признался:
«Да, политические моменты есть, оппозиционные существующему строю. Но склад моего ума сатирический. Из‑под пера выходят вещи, которые, порою, по‑видимому, остро задевают общественно‑коммунистические круги.
Я всегда пишу по чистой совести и так, как вижу! Отрицательные явления жизни в Советской стране привлекают моё пристальное внимание, потому что в них я инстинктивно вижу большую пищу для себя (я — сатирик)».
Разумеется, о своём плане мщения советской власти Булгаков не сказал ни слова. Но полностью признал свою вину, состоявшую, по его словам, в том, что он находится в «оппозиции существующему строю» и «злостно» противодействует ему своими «сатирическими произведениями».
Дерзкого писателя, включённого под номером семь в список кандидатов на высылку из страны, на время оставили в покое. Но установили строжайший контроль над его творчеством. И это понятно — слишком дерзкими и вызывающими были написанные им книги. Слишком откровенно высмеивал Булгаков советскую власть.
В «Дьяволиаде» эта власть была представлена в образах обюрократившихся сотрудников спичечной базы. В «Роковых яйцах» революционные ленинские идеи воплощались в злобных земноводных монстрах, нагрянувших на Россию. В «Собачьем сердце» сама попытка преобразования мира и человечества приводила к созданию «исключительного прохвоста» Шарикова. Сатира каждой из трёх повестей била наотмашь, без всякой жалости и снисхождения выставляла большевистский режим на всеобщее посмешище.
Как известно, сильные мира сего очень не любят, когда над ними смеются. Такого они никому и никогда не прощают. Булгаков, к счастью для него, быстро разобрался в ситуации. И мгновенно сменил свою маску, так раздражавшую большевиков. Встречи с всесильным ОГПУ заставили Михаила Афанасьевича надолго прекратить сочинение опасной сатирической прозы и целиком переключиться на создание, как ему казалось, вполне безобидных драматургических произведений. Из пересмешника сатирика он переквалифицировался в драматурга. Героями его пьес стали самые обычные люди, каких на Земле миллионы. Их волновали не идеи, а простые жизненные ситуации, обычные мелочи быта. Довольно скоро Булгаков убедился в том, что сделал правильный выбор — судьба стремительно вознесла его на вершину литературного Олимпа.
Часть вторая На вершине Олимпа
Глава первая Наступление мастера
Поворот к драматургии
Итак, в самом начале 1925 года Булгаков вновь обратился к драматургии. В прежних его пьесах — в тех, что были написаны во Владикавказе, — местные критики без труда обнаружили явное презрение к толпе «разъярённых Митек и Ванек», почувствовали «подлую усмешку к «чумазым» и «черни»», и обратили внимание на то, что все герои носят весьма подозрительные «хитрые маски». Но при этом владикавказская цензура посчитала булгаковские пьесы достаточно лояльными, «розовыми», если не «красными», Иначе их просто не пропустили бы на сцену.
В 1923 году Михаилу Афанасьевичу вновь попали в руки его творения, и через год он написал в автобиографии:
«… перечитав их, торопливо уничтожил. Надеюсь, что нигде ни одного экземпляра их не осталось».
А 19 января 1925 года (эта дата начертана на титульном листе тетради рукою самого драматурга) начался процесс превращения романа «Белая гвардия» в пьесу. Труд был не из лёгких, потому как работать приходилось по‑прежнему по ночам. Рассказывая в «Жизни господина де Мольера» о том, как создавал свои шедевры великий французский драматург, Булгаков, надо полагать, намекал и на свой собственный опыт:
«Несмотря на каторжную дневную работу, Мольер начал по ночам сочинять вещи в драматургическом роде».
В апреле, когда работа была в самом разгаре, из Московского Художественного театра поступило неожиданное предложение. Там заинтересовались печатавшимся в журнале «Россия» романом и захотели инсценировать его. Инициатива исходила от мхатовского режиссёра Бориса Ильича Вершилова. 3 апреля он написал Булгакову письмо с просьбой о встрече. Режиссёр и драматург встретились. Сразу выяснилось, что намерения Булгакова и интересы театра совпадают. Работа над созданием пьесы пошла ещё стремительней.
Правда, какую‑то часть весны 1925 года пришлось потратить на написание «Собачьего сердца» — срочно потребовались деньги. «Гудок» тоже забирал львиную долю рабочего дня. Но пьеса всё равно оставалась главным делам. В «Театральном романе» о том времени сказано так:
«Я не помню, чем кончился май. Стёрся в памяти июнь, но помню июль. Настала необыкновенная жара. Я сидел голый, завернувшись в простыню, и сочинял пьесу.
Потом жара упала… Пошёл дождь, настал август…»
В августе пьеса «Белая гвардия» было написана.
Вспомним её содержание.
Время действия — конец 1918‑го и начало 1919 годов. Место действия — Киев. Украиной правит гетман, который опирается на штыки оккупировавших страну германских солдат.
В одном из городских кварталов в тихой и уютной квартире обитает семья Турбиных: два брата, военврач Алексей и гимназист Николай, а также их сестра Елена с мужем, полковником генерального штаба Тальбергом. В том же доме проживают председатель домового комитета Василий Лисович по прозвищу Василиса и его жена Ванда.
Полки украинских националистов во главе с Петлюрой готовятся к штурму Киева. Им противостоят вооружённые силы гетмана, в них входит и белогвардейская воинская часть, в которую собираются вступить братья Турбины и их друзья‑офицеры.
Город замер в тревожном ожидании.
А в квартире Турбиных, отгородившейся от ужасов гражданской войны кремовыми шторами, по‑прежнему уютно и тихо, а временами — оживлённо и весело. Белые офицеры пьют, едят, поют, галантно ухаживают за красивой женщиной Еленой и разглагольствуют о высоких материях. При этом без устали ругают всех и вся: гетмана, немцев, Петлюру, Антанту, большевиков и евреев.
Тем временем германские войска внезапно оставляют свои позиции и в массовом порядке отбывают на родину. Вместе с собой они прихватывают и гетмана — под видом раненого в голову немецкого офицера. Город, оказавшийся без защиты, занимает воинство Петлюры.
Бандиты‑петлюровцы грабят Василису.
А у Турбиных за кремовыми шторами — всё те же уют и оживлённое веселье. К ним из Житомира приезжает в гости дальний родственник — кузен Ларион Суржанский, поэт‑неудачник романтического склада, и присоединяется к веселящейся компании.
А к Киеву стремительно приближаются части Красной армии во главе с самим Троцким. Изгнание петлюровцев и большевизация Украины неминуемы. Шумное общество в квартире Турбиных, продолжающее есть, пить, петь, ухаживать и ругать всех и вся, оказывается на распутье.
Таково содержание пьесы.
Прочитав её, Константин Сергеевич Станиславский, как говорят, спросил с изумлением:
«— Зачем мы будем ставить эту агитку?».
Театр всё‑таки пьесу к постановке принял. Сразу отправив её экземпляры на отзыв — в Главрепертком (в орган, курировавший театральный репертуар) и в Наркомпрос (в Народный комиссариат по просвещению) — лично А.В. Луначарскому.
Свои замечания нарком прислал довольно быстро:
«Я внимательно перечитал пьесу „Белая гвардия“. Не нахожу в ней ничего недопустимого с точки зрения политической, но не могу не высказать Вам моего личного мнения. Я считаю Булгакова очень талантливым человеком, по эта его пьеса исключительно бездарна, за исключением более или менее живой сцены увоза гетмана. Всё остальное — либо военная суета, либо необыкновенно заурядные, туповатые, тусклые картины никому не нужной обывательщины…
… я с уверенностью говорю, что ни один средний театр не принял бы этой пьесы именно ввиду её тусклости, происходящей, вероятно от полной драматической немощи или крайней неопытности автора».
В вопросах драматургии Анатолий Васильевич Луначарский разбирался неплохо — он и сам пьесы сочинял. Поэтому его оценку «Белой гвардии», можно считать профессионально взвешенной. Тем более что сцен, состоящих из сплошных разговоров, в булгаковской пьесе и в самом деле было намного больше, чем эпизодов динамичных, со стремительно развивающимся действием. Тот, кто знаком с законами сцены, может, не задумываясь, сказать, что подобные пьесы очень трудны в постановке.
Работники Главреперткома принялись рассматривать «Белую гвардию» с политической точки зрения. И тотчас обнаружили в ней «апологию белого дела», попытку «воспеть белогвардейщину» и желание «поспекулировать на запретной теме». Мнение реперткомовцев очень скоро стало известно весьма влиятельному клану театральных критиков. И в газетах появились запальчивые статьи с решительным протестом против попыток протащить в репертуар советских театров пьесу с чуждой советскому строю тематикой.
Были ли основания для столь негативной реакции?
Текст и подтекст
Во втором томе Большой Советской энциклопедии, вышедшей в 1927 году под общей редакцией Бухарина, Куйбышева, Молотова, Кржижановского, Радека и других видных большевистских деятелей того времени, о «белой» пьесе Булгакова сказано, в частности, следующее:
«В „Белой гвардии“…, изображая белогвардейщину на Украине, лично пережитую автором, он пытается свалить „вину белогвардейства“ не генералитет и др[угих] руководителей движения, изображая рядовых белогвардейцев доблестными и политически честными».
Эти строки стали своеобразным итогом той яростной критической бури, что около двух лет бушевала над булгаковской пьесой. Уже не газетные статьи‑однодневки, а солидная энциклопедия объявляла драматурга защитником интересов белого движения (пусть даже и рядовых его участников). Обвинение очень серьёзное, поскольку защищать белогвардейцев (заклятых врагов советской власти) в те годы мог позволить себе только враг.
Попробуем и мы найти, где, в чём и как «Белая гвардия» защищает белое дело?
Вот тут‑то нас и поджидает конфуз. Ведь как ни вчитывайся в текст булгаковской пьесы, обнаружить апологию белого дела не удастся. Герои «Белой гвардии» — и это очень точно подметил ещё Луначарский — ведут себя как самые обыкновенные обыватели. Они растеряны и пассивны, бездеятельны и безвольны. Эти якобы «доблестные и политически честные» офицеры палец о палец не ударяют в защиту белых идеалов. Они только едят, пьют, поют и так далее.
Разве так изображают защитников милой сердцу былой белой России?
Конечно же, нет! Так обычно высмеивают. А смех, как мы знаем, и являлся основным оружием фельетониста Михаила Булгакова, которое было направлено против советской власти. По старым же временам и по ушедшим дореволюционным порядкам, он, как мы помним, напротив, тосковал и грустил.
О чём же тогда его пьеса?
Заглянем ещё раз в ту же энциклопедию. В ней сказано:
«Формально Б[улгаков] следует двум струям рус[ской] дворянской литературы: в разработке мотива умирания дворянства… он продолжает линию реалистического романа…»
Приведём фразу из написанного чуть позднее письма Булгакова правительству СССР, где он сообщает, что при сочинении пьесы «Белая гвардия» главным для него было…
«… изображение интеллигентско‑дворянской семьи, волею непреложной исторической судьбы брошенной в годы гражданской войны в лагерь белой гвардии».
Что ж, вполне возможно, что в момент написания пьесы подобная задача могла стоять перед Булгаковым. Могла стоять!..
А что на самом деле вышло из‑под пера?
Не лукавил ли драматург, заявляя о том, что изобразил в своей пьесе некую «дворянскую семью»?
Допустим. Но зачем? Затем, чтобы направить всех своих недоброжелателей по заведомо ложному следу.
Продолжим прерванную нами цитату из БСЭ. В ней сообщается о том, какой второй «струе» русской дворянской литературы следовал в своём творчестве Михаил Булгаков:
«… в изображении советской действительности… Б[улгаков] пользуется приёмами юмористической повести. В большинстве последних произведений Б[улгаков] использует теневые стороны советской действительности в целях её дискредитации и осмеяния».
Как видим, в булгаковском творчестве большевистские рецензенты разобрались неплохо. И многое увидели. И то, что лежало на поверхности, и то, что было ловко упрятано между строк, а именно: злые насмешки над советской властью и обидные подковырки пополам с ехидным ёрничаньем. Не случайно на автора‑пересмешника убийственной шрапнелью обрушились потоки нелицеприятных въедливых вопросов.
Они возникают и сегодня — эти недоумённые «зачем?» и «почему?».
Начнём с Троцкого, имя которого упоминалось в «Белой гвардии» настолько часто, что вызвало бурное негодование ортодоксальной критики. Как мы помним, Льва Троцкого отстранили от руководства Красной армией в январе 1925 года. Именно в это время Булгаков, внимательно следивший за ходом политических событий в стране, и сочинял свою пьесу.
Но зачем с такой настойчивостью вставлял он в неё имя опального военачальника? Для чего это было нужно?
Вот лишь несколько реплик из первого варианта пьесы:
«— Войска большевиков, по слухам, предводительствуемые самим Троцким..».
«— Троцкий, говорят, сам ведёт…»
«— … у Петлюры, вы говорили, сколько? Двести тысяч. Все эти двести тысяч салом пятки подмазали и дуют при одном слове „Троцкий“. Троцкий! И никого нету…»
Столь частое упоминание имени грозного наркома можно было бы хоть как‑то оправдать, если бы Троцкий действительно стоял во главе частей Красной армии, штурмовавших столицу Украины. Но Троцкий в киевской операции непосредственного участия не принимал. Войсками, наступавшими на город, командовал В.А. Антонов‑Овсеенко.
Почему Булгаков так подчёркнуто выпячивал заслуги красноармейского вождя, которых на самом деле не было? Зачем надо было прославлять военачальника, к тому времени с треском изгнанного из военного ведомства? Неужели Булгаков не понимал, как будет воспринят подобный «троцкистский» крен в его пьесе?
Можно предположить, что Троцкий вставлялся в «Белую гвардию» специально. Исключительно для того, чтобы лишний раз подразнить власти.
Допустим. Но…
«Дразнилка» в виде одной‑единственной «нехорошей» фамилии, которая к тому же легко из текста убиралась (что, кстати, вскоре и было проделано), как‑то не очень вяжется с мятежно‑ёрническим характером тогдашнего Булгакова. Не мог блестящий фельетонист, автор едких сатирических повестей ограничиться одной‑единственной подковыркой режиму. В его пьесе наверняка должны быть упрятаны и другие «шпильки».
Попробуем отыскать их.
Булгаковские «шпильки»
О том, что «Белая гвардия» во многом автобиографична, даже в Большой Советской Энциклопедии 1927 года сказано.
В самом деле, дом Турбиных на Алексеевском спуске — это родной дом драматурга на Андреевском спуске города Киева. Турбина — фамилия бабушки Михаила Афанасьевича со стороны матери. В докторе Алексее Турбине легко узнаётся военврач Михаил Булгаков, а в Николке — его младший брат Николай…
Перечень этот при желании можно продолжить.
Кроме «автобиографичности» есть в «Белой гвардии» ещё одна характерная особенность. Она уже встречалась нам в «Дьяволиаде», «Роковых яйцах» и «Собачьем сердце». Суть её состоит в том, что сквозь одно содержание, лежащее как бы на поверхности произведения, довольно чётко проступает совершенно другое, идущее из глубин подтекста. И в этом новом содержании прежние персонажи начинают вдруг играть совсем иные «роли» — те, что им, казалось бы, совсем не свойственны.
Вчитаемся в «Белую гвардию» со вниманием. Пассажи обнаружатся поразительные. К примеру, можно с удивлением заметить, что эпизоды пьесы, изображающие реалии киевской жизни, с невероятной точностью воспроизводят вполне реальные события, происходившие в то же самое время, но совершенно в другом месте.
Что же это за жизнь так отчётливо проступающая сквозь ткань булгаковской пьесы?
Ответить на поставленный вопрос поможет приём «булгакочувствования », а также сопоставление. Давайте попробуем — всё время «оглядываясь» на Булгакова — сравнить (сопоставить) содержание «Белой гвардии» с тем, что происходило в стране и в её столице с конца 1918‑го по начало 1919 годов?
В ту пору в городе Москве (у Булгакова — в городе Киеве) в многокомнатных апартаментах «дома» на Васильевском спуске, то есть в Кремле (у Булгакова спуск назван Алексеевским), обосновалось советское правительство — Совнарком (у Булгакова — семья Турбиных).
Этот Совнарком, созданный, как известно, в октябре 1917 года Владимиром Ильичом Лениным, включал в себя несколько мужчин и одну женщину (в булгаковской пьесе точно такой же подбор действующих лиц). Дамой, входившей в Совет Народных Комиссаров, была Александра Михайловна Коллонтай, состоявшая в гражданском браке с предводителем революционных матросов Павлом Дыбенко.
Корень фамилии красавца‑моряка («дыб») происходит от слов «дыба», «вздыбленный», то есть от некоего возвышенного места или горы. Гора по‑немецки — «берг». Поэтому немцы, которые имя Павел произносят как Пауль, вполне могли бы называть его Пауль Берг. В булгаковской пьесе муж её единственной героини происходит из прибалтийских немцев и носит фамилию Тальберг.
Пауль Берг и Тальберг!
«Есть сходство между этими фамилиями? Ах, мой Бог, я не знаю! Пусть в этом разбираются учёиые!»
Именно так несколько лет спустя воскликнет сам Михаил Булгаков в романе «Жизнь господина де Мольера», правда, совсем по другому поводу. Но в данном случае и без «учёных» ясно, что сходство между Паулем Бергом и Тальбергом есть.
Продолжим сопоставления.
Один из членов обосновавшегося в Кремле Совнаркома, Луначарский, был известен своей публицистической деятельностью и сочинением пьес. В «Белой гвардии» тоже есть свой литератор — Лариосик Суржанский. Луначарский — Л.Суржанский… Если не сходство, то некоторое подобие тоже налицо.
А кто управлял в 1918‑ом Москвой и прилегающими к ней территориями? Г лава С овнаркома Ленин, утвердившийся в этой должности не без помощи немецких денег. В булгаковской пьесе городом правит Г етман С коропадский, власть которого держится на немецких штыках. Обратим внимание на совпадение начальных букв — «Г» и «С».
На каком‑то расстоянии от Москвы, где‑то на Урале, жил со своей семьёй (до лета 1918 года) свергнутый, ограбленный и отправленный в ссылку бывший российский царь. Слово «царь» в переводе с греческого — «василиск», что очень напоминает булгаковского Василису, ограбленного петлюровцами.
В Москве тревожно и голодно. Но обитатели «дома» у Васильевского спуска надёжно укрыты от тревог и голода уютными кремлёвскими шторами. В «Белой гвардии» их называют кремовыми. Не правда ли, очень похожие слова, чуть ли не однокоренные — «крем овые» и «крем лёвские»?
Жили члены большевистского Совнаркома припеваючи. Но Павла Дыбенко (Пауля Берга) под суд всё же отдали — за кутежи купеческого толка в самый разгар немецкого наступления на Петроград. Булгаковский Тальберг (персонаж тоже явно отрицательный) отдан автором на суд зрителей.
В Москве на жизнь главы С овнаркома было совершено покушение, он получил огнестрельные ранения, и его отправили на время выздоровления в Гор ки. Г етмана С коропадского под видом раненого немецкого майора вывозят в Германию. Снова совпадения? Касающиеся как самого факта ранения, так и слогов — «Гор» и «Гер» в географических названиях.
В 1918 году вокруг красной столицы стягивалась петля белогвардейских войск. Слова «петля» и «Петлюра» — одного корня.
Но Москву окружали недолго: белых разбила Красная армия, которую возглавлял народный комиссар по военным и морским делам Троцкий.
Кремлёвское руководство видело во всесильном нарком‑военморе опасного конкурента в борьбе за власть. Но вожди против него пока ничего не предпринимали. Пребывая в тревожном ожидании, они ели, пили, разглагольствовали о высоких марксистских материях и на чем свет стоит ругали мировой империализм и Антанту.
Вот такое обнаруживается сходство между булгаковской пьесой и реальной жизнью. Его можно было бы назвать случайным. Или надуманным. Однако не будем торопиться с выводами. Лучше задумаемся над теми невероятным совпадениям, что обнаружены нами в булгаковской пьесе.
Неужели все они случайные?
Неужели всё то, что происходило в стране Советов в 1918‑19 годах, само собой переместилось в «Белую гвардию»?
Скорее наоборот, создаётся впечатление, что это некий опытный «обработчик» перенёс московские события на берег Днепра? И в результате получился складный фельетон , даже некая басня, в которой под видом гетманов, Турбиных, тальбергов и других персонажей выведены вполне реальные большевистские вожди. И название «Белая гвардия», так коробившее многих, на самом деле не столько отражает содержание самой пьесы, сколько служит для её прикрытия. Чтобы не лезла в глаза фельетонная суть антисоветского толка.
Какая уж тут апология белого движения?
Но о чём же тогда булгаковская пьеса? О чём хотел поведать Михаил Булгаков своей «Белой гвардией»?
Он написал пьесу о режиме большевиков. Очень завуалировано в ней говорится о дряблой немощи кремлёвских властителей, безумно боящихся Троцкого. Это они безынициативны, бездеятельны. Это они покорились судьбе. Это они, заварив всю эту революционную «кашу», не очень‑то рвутся её расхлёбывать.
К счастью для Булгакова, никто этого антибольшевистского подтекста в «Белой гвардии» не заметил. Даже Луначарский не нашёл в ней «ничего недопустимого с точки зрения политической». Копья ломались вокруг самого намерения протащить на советскую сцену «белую» тематику.
Тем временем неожиданные события в жизни республики Советов на время отвлекли внимание общественности от театральных дел.
Драматургия жизни
Наступила осень 1925 года. В «Театральном романе» Булгаков скажет о ней:
«А потом пошли осенние дожди, у меня опять заболели плечо и левая нога в коленке».
Болезни донимали не только рядовых драматургов, но и членов кремлёвского руководства. Один из вождей, Михаил Фрунзе, страдавший от язвы желудка, лёг в конце октября (мы уже говорили об этом) на операцию. И 31 числа скончался. После октябрьских торжеств газеты объявили имя нового наркомвоенмора — им стал Клим Ворошилов.
А по Москве поползли слухи о том, что смерть Фрунзе насильственная, что на роковую операцию его заставили согласиться, и что распоряжение это якобы отдал генеральный секретарь большевистской партии.
А.К. Воронский, редактор журнала «Красная новь», член ВЦИКа и давний друг Фрунзе, ознакомил с обстоятельствами загадочной смерти наркомвоенмора Бориса Пильняка, только что вернувшегося из‑за границы. Много лет спустя (4 апреля 1937 года), выступая на общемосковском собрании писателей, Пильняк сообщит следующие подробности той давней истории:
«В 1925 году умер Фрунзе. Воронений рассказал мне о его смерти. Сказал: вот, мол, тема о коллизии индивидуума и коллектива, напишите. Я написал рассказ и посвятил его Вороненому».
Эта была «Повесть непогашенной луны». В ней туманные недомолвки и неуверенные толки, тихим шёпотом передававшиеся из уст в уста, обросли конкретными подробностями и превратились в неопровержимые факты, обвинявшие генсека в убийстве соратника по партии.
У Пильняка очень убедительно написан эпизод, в котором приказ отправиться под нож прославленному командарму Гаврилову (такую фамилию носит главный герой повести) отдаёт шегорбящийся человек в доме номер первый», главное лицо «ш тройки, которая вершила». Угадать в этом персонаже Сталина было совсем нетрудно.
9 января 1926 года печальное повествование о командарме Гаврилове было закончено. Отдав его в «Новый мир», Пильняк вновь отправился за границу.
Повесть его вскоре опубликовали — в пятом номере журнала. И тотчас разразился громкий литературный скандал.
Цензоры, проворонившие явную крамолу, схватились за голову. Воронский публично отрёкся от посвящения, которым «наградил» его автор. Весь тираж журнала был изъят из распространения и уничтожен. Пятый номер «Нового мира» отпечатали заново.
Специальным решением политбюро от 13 мая 1926 года Пильняк был исключён из списков сотрудников журналов «Красная Новь», «Новый мир» и «Звезда».
Началась шумная антипильняковская компания, мгновенно отодвинувшая на задний план все прочие литературные события. Страсти, кипевшие вокруг булгаковской «Белой гвардии», слегка приутихли. Однако разрешения на постановку Главрепертком по‑прежнему не давал.
Вновь встал вопрос об исправлениях. Ещё 15 октября 1925 года Булгаков направил письмо В.В. Лужскому, актёру и режиссёру МХАТа, члену её репертуарно‑художественной коллегии. В своём послании драматург соглашался внести в пьесу изменения, но категорически возражал против «коренной ломки стержня пьесы». Заканчивалось письмо ультимативным требованием:
«В случае если эти условия неприемлемы для Театра, я позволю себе попросить разрешения считать отрицательный ответ на знак, что пьеса „Белая гвардия „— свободна».
Как видим, Булгаков был настроен весьма решительно. Однако под напором многочисленных критиков ему пришлось пойти на уступки. И тогда драматург решил («Жизнь господина де Мольера»):
«… прибегнуть ещё к одному способу, для того чтобы вернуть пьесу к жизни.
Способ этот издавна известен драматургам и заключается в том, что автор, под давлением силы, прибегает к искалечению своего произведения. Крайний способ! Так поступают ящерицы, которые, будучи схвачены за хвост, отламывают его и удирают. Потому что всякой ящерице понятно, что лучше жить без хвоста, чем вовсе лишиться жизни».
Прежде всего «искалечению» подверглось название пьесы. Слишком оно было вызывающе дразнящим. Даже далёкий от политики Станиславский на заседании репертуарно‑художественной коллегии театра, состоявшейся 29 апреля 1926 года, сказал:
«Слова „белый“ я бы избегал. Его примут только в каком‑нибудь соединении, например, „конец белых“. Но такое название недопустимо».
И коллегия принялась думать над названием. Было предложено четыре варианта.
Предметом обсуждения стала также петлюровская сцена, которую Главрепертком требовал исключить.
4 июня 1926 года Булгаков написал очередное письмо‑ультиматум:
«В СОВЕТ И ДИРЕКЦИЮ
МОСКОВСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕАТРА
Сим имею честь известить о том, что я не согласен на удаление Петлюровской сцены из пьесы моей „Белая гвардия“.
Также не согласен я на то, чтобы при перемене заглавия пьеса была названа „Перед концом“.
Также не согласен я на превращение 4‑х актной пьесы в 3‑х актную.
Согласен совместно с Советом Театра обсудить иное заглавие для пьесы „Белая гвардия“.
В случае если Театр с изложенным в этом письме не согласится, прошу пьесу „Белая гвардия“ снять в срочном порядке».
В конце концов, остановились на наиболее нейтральном названии — «Дни Турбиных». Все с облегчением вздохнули, работа над спектаклем была продолжена.
А 9 мая, как мы помним, в дом № 9 в Чистом переулке, где проживал Булгаков, нагрянуло ОГПУ. Был учинён обыск. На Лубянку увезли булгаковские дневники и его сатирическую повесть.
Таким поворотом дел Михаил Афанасьевич был, конечно же, озадачен и возможно даже напуган. Но быстро сориентировался. Власти не желают печатать его беллетристику? Они арестовывают её? Не беда! Мы ещё посмотрим, кто кого перехитрит… Не зря ведь за два месяца до обыска был заключён договор с Художественным театром на написание пьесы по мотивам «Собачьего сердца».
3 августа 1926 года в «Гудке» был опубликован последний булгаковский фельетон. С газетной работой было покончено. Булгаков старался выбросить из памяти всё, что связывало его с хождением в «Гудок». В «Театральном романе» (там «Гудок» назван «Вестником пароходства») есть такие строчки:
«Если бы меня спросили, — что вы помните о времени работы в „Пароходстве“, я с чистой совестью ответил бы — ничего.
Калоши грязные у вешалки, чья‑то мокрая шапка с длиннейшими ушами на вешалке — и это всё».
Последний фельетон Михаила Булгакова был подписан скромно («Михаил»), имел пророческое название («Колесо судьбы») и начинался весьма оптимистически («Был солнечный день, когда повернулось колесо судьбы»).
Светило ли 3 августа 1926 года над Москвою солнце, нам неизвестно. Но это не столь уж и важно. Существенней другое — то, что именно в тот августовский день окончательно завершился «фельетонный» отрезок булгаковской жизни, и колесо его судьбы уверенно покатилось по драматургической дорожке. В «Театральном романе» Булгаков вообще заявил, что этот последний его фельетон был написан исключительно из финансовых соображений:
«Получив деньги и заткнув страшную брешь, я вернулся в театр, без которого не мог жить уже, как морфинист без морфия».
Тем временем наступила осень 1926 года, и все те, кто был недоволен творческим союзом МХАТа и Булгакова, вновь оживились.
Михаил Булгаков, 1926 г.
Между тем репетиционный период завершился. Это знаменательное событие Михаил Булгаков отметил весьма экстравагантно: 13 сентября он неожиданно для всех приобрёл… монокль. Мало этого, он («Жизнеописание Михаила Булгакова»):
«… сфотографировался с моноклем в глазу и стал дарить фото друзьям и знакомым».
В те годы даже самые обычные очки, шляпа или галстук считались атрибутами нежелательной интеллигентности. А тут буржуазный монокль! Да ещё в глазу чуждого большевикам драматурга. Воспринималось это как вызывающе дерзкий вызов, как оглушительная пощёчина пролетарскому вкусу.
В книге «Алмазный мой венец» Валентин Катаев вспоминает, какое впечатление на окружающих произвёл тот экстравагантный поступок (Катаев называл Булгакова «синеглазым»):
«… синеглазый… надел галстук бабочкой, цветной жилет, ботинки на пуговицах с прюнелевым верхом и даже, что показалось совершенно невероятным, в один прекрасный день вставил в глаз монокль».
Но вернёмся к делам театральным.
23 сентября во МХАТе состоялась генеральная репетиция с публикой. Даже вечерний спектакль пришлось отменить. В коридорах театра шёпотом объясняли причину столь неожиданной отмены: «Придёт власть»!
Любовь Белозёрская впоследствии вспоминала:
«На генеральной репетиции „Дней Турбиных“ — всё ЦК и правительство во главе с Рыковым. Сталин, Рыков, Ворошилов и другие — большинство — „за“, оппозиция — „против“. Пьесу хотели снять, но Станиславский пригрозил, что тогда он закроет театр и распустит труппу. Власти разрешили постановку только в МХТ».
Воспоминания свои Л.Е.Белозёрская создавала в 60‑х годах, то есть 40 лет спустя после описываемых событий. В памяти уже основательно стёрлись подробности давным‑давно прошедшего. И Любовь Евгеньевна обратилась к прессе тех лет. В частности, к рижской газете «Сегодня». В номере от 18 ноября 1926 года была помещена заметка под названием «Иностранцы на премьере «Турбиных». Вот что в ней говорилось:
«На генеральной репетиции присутствовал весь цвет коммунистического Олимпа во главе с Рыковым. В то время как члены партийного большинства допускали возможность постановки, оппозиция выступила решительным её противником…
Слухи… Утверждают, что Станиславский пригрозил закрытием театра, если ему запретят постановку «Турбиных».
Из сопоставления приведённых отрывков видно, что Белозёрская выдала информацию рижской газеты за свои собственные впечатления. Не будем корить её за это. Но заметим, что автор газетной публикации явно не принадлежал к числу людей, близких к театральным кругам Москвы, и «факты» для своей заметки спокойно черпал из слухов.
Поэтому обратимся к источнику более достоверному, а именно к О.С. Бокшанской, которая служила во МХАТе, являясь секретарём В.И. Немировича‑Данченко. Сам Владимир Иванович находился в то время за рубежом, и его секретарь в письмах подробно информировала шефа о том, что происходило в театре. О событиях того сентябрьского вечера она написала так:
«После спектакля предполагалось объединённое заседание Коллегии Наркомпроса и Ренерткома для выяснения окончательно вопроса о постановке. Но оно не состоялось. Все спешили разъехаться за поздним временем, за усталостью. Нам же не приходилось настаивать, т. к. нарком очень уж категорически высказался за пьесу…»
На следующий день газеты объявили, что спектаклю по пьесе Булгакова дано «добро». Хотя на самом деле «Дни Турбиных» никакого официального разрешения ещё не получали.
Только 30 сентября политбюро в составе Бухарина, Ворошилова, Калинина, Молотова, Рудзутака, Рыкова, Томского, Микояна и Угланова (Сталин уехал отдыхать на юг) принялось размышлять, как поступить с булгаковской пьесой. Вопрос оказался острым и трудноразрешимым, так что докладывать о нём пришлось не только наркому по просвещению Луначарскому, но и заместителю главы ОГПУ Менжинскому и видному большевику (недавно переведённому в Москву с Украины) Кнорингу.
Приведём выдержку из стенограммы того заседания.
12. О пьесе (тт. Луначарский, Менжинский, Кноринг).
Постановили:
12. а) Не отменять постановление коллегии Наркомпроса о пьесе Булгакова.
б) Поручить т. Луначарскому установить лиц, виновных в опубликовании сообщения о постановке этой пьесы в Художественном театре и подвергнуть их взысканию».
Данных о том, удалось ли Луначарскому выявить «виновных» и «взыскать» с них, в нашем распоряжении нет. Зато доподлинно известно, что 2 октября в Коммунистической академии состоялся диспут «Театральная политика советской власти». С большой речью выступил Луначарский. Он высказал своё мнение и о мхатовском спектакле, по привычке называя его прежним «белым» именем:
«„Белая гвардия “ — идеологически не выдержанная, местами политически вредная пьеса. Однако к постановке она разрешена, ибо советская публика оценит её по достоинству…
… наш желудок настолько окреп, что может переварить и острую пищу…
Появление этой пьесы на сцене МХАТ, конечно, колючий факт…но на неё затрачены материальные средства и творческие силы и, таким образом, сняв её со сцены, мы в корне подорвём положение театра».
Луначарский был вынужден признать, что пьеса, которую он сам ещё совсем недавно называл «исключительно бездарной», зрителей, тем не менее, равнодушными не оставляет. Но происходит это, по его словам, не потому, что «Дни Турбиных» наделены какими‑то необыкновенными достоинствами, просто…
«Автор пьесы Булгаков приятно щекочет обывателя за правую пятку».
Спектакль Художественного театра на диспуте в Коммунистической академии обсуждался чрезвычайно бурно. Реплики выступавших были очень резкими и нелицеприятными. Так, театральный критик Александр Орлинский сказал:
«Товарищ Луначарский, касаясь булгаковской пьесы „Дни Турбиных“, несколько раз употребил довольно чёткое, резкое слово, называя политическими идиотами, — я с ним в этом совершенно согласен, — ряд героев, которых вывели Булгаков и МХАТ в этом злосчастном спектакле».
Владимир Маяковский, назвав пьесу «нарывом» («вылезшая, нарвавшая „Белая гвардия“»), заявил менторским тоном:
«Мы случайно дали возможность под руку буржуазии Булгакову пискнуть, и пискнул. А дальше мы не дадим!»
Впрочем, несмотря на резкость высказываний, той словесной перепалкой дело и ограничилось.
Через три дня (5 октября 1926 года) состоялась премьера. То, что случилось в тот день в Москве, сегодня мы назвали бы мощнейшим информационным взрывом. Ф.Н. Михальский, администратор Художественного театра, впоследствии вспоминал:
«Пришёл день первого представления. Пришла слава и громадный успех. Турбинцы, как и Москвин после первого спектакля „Царя Фёдора“, проснулись на другой день «известными актёрами» — так заговорили о них в Москве».
Машинистка И.С. Раабен, которую Михаил Афанасьевич пригласил на одно из первых представлений, позднее делилась своими впечатлениями:
«Спектакль был потрясающий, потому что всё было живо в памяти у людей. Были истерики, обмороки, семь человек увезла скорая помощь, потому что среди зрителей были люди, пережившие Петлюру и киевские эти ужасы, и вообще трудности гражданской войны».
Свидетельство Л.Е. Белозёрской:
«… билета на эту пьесу не достать… «около» Художественного театра теперь стоит целая стена барышников, предлагающая билеты на „Дни Турбиных“ по тройной цепе».
А Татьяна Николаевна (ещё недавно Булгакова, а теперь вновь Лаппа) с горечью сетовала:
«… мне билет ни разу не предложил. Ну, хоть бы раз! Ведь знал, что билеты не достанешь…»
Сталину мхатовский спектакль понравился. Кто знает, может быть, генсек почувствовал какое‑то неуловимое сходство между тем, что разыгрывалось на сцене, и тем, что происходило в Кремле в том (ещё не таком уж и далёком) 1918 году? А в усатом белогвардейском офицере Алексее Турбине и вовсе уловил какие‑то черты, присущие ему самому? Во всяком случае, актёру Николаю Хмелёву хорошо запомнились слова вождя, сказанные годы спустя при их встрече:
«— Хорошо играете Алексея. Мне даже снятся ваши чёрные усики, турбинские. Забыть не могу».
Но всё это отзывы тех, у кого «Дни Турбиных» вызвали положительные отклики. Спектакль же МХАТа понравился, увы, далеко не всем. Поток резко отрицательных отзывов оказался столь значительным, что через несколько дней относительного затишья в Москве грянул ещё один информационный взрыв. На это раз со знаком «минус».
В качестве «застрельщика» выступил один из тогдашних руководителей Главреперткома А.Р. Орлинский, опубликовавший 9 октября в «Правде» статью «Гражданская война на сцене МХАТ». В ней содержался призыв «дать отпор булгаковщине».
Клич был брошен.
И началось!..
В книге «Михаил Булгаков. Дневники и письма» её составитель В.И. Лосев приводит несколько наиболее характерных заголовков «критических статей» той поры: «Дни, которые потрясли театральную общественность», «Суд над „Днями Турбиных“», «Против булгаковщины. Белая гвардия сквозь розовые очки», «Фальшивый вексель гр. Булгакова», «Неудачная инсценировка», «Досадный пустяк», «Долой „Белую гвардию “»…
В одной из статей было даже сказано, что «Дни Турбиных» — это «политическая демонстрация, в которой Булгаков перемигивается с остатками белогвардейщины».
14 октября «Комсомольская правда» напечатала «Открытое письмо Московскому Художественному академическому театру» Александра Безыменского. Напомним сегодняшнему читателю об этом довольно известном в своё время поэте. Незадолго до рассматриваемых нами событий он обратился к Троцкому с просьбой написать послесловие к книге его стихов «Как пахнет жизнь». Лев Давидович согласился и, в частности, отметил:
«Безыменский — поэт, и притом свой, октябрьский, до последнего фибра».
В Большой Советской энциклопедии, изданной в 1927 году, сказано:
«Безыменский Александр Ильич, современный пролетарский поэт. Род[ился] 1898 в Житомире. Большевик с 1917. Имеет революционный стаж (работал в подполье)… Основная идейная окраска стихов Б[езыменского] — восприятие любого явления мира в аспекте совершившейся пролетарской революции…»
Сразу бросается в глаза место рождения — Житомир. Не узнал ли поэт Безыменский себя в неудачливом житомирском стихотворце Лариосике Суржанском? Узнал и обиделся?
Нет, нет! У Безыменского была другая, более веская причина для лютой ненависти — в гражданскую войну от рук белогвардейцев погиб его родной брат. А в мхатовском спектакле эти белогвардейцы воспевались. И, мстя за брата, поэт‑большевик написал в «Комсомолке», что людей, подобных Турбиным…
«… благородных и негодяев, мы… расстреливали. Мы расстреливали их и на фронтах и здесь могучей рукой, именуемой ВЧК и руководимой нашим замечательным Феликсом».
Что же касается самого Булгакова, то он, по мнению Безыменского…
«… чем был, тем и остался: новобуржуазным отродьем, брюзжащим отравленной, но бессильной слюной на рабочий класс и его коммунистические идеалы».
Против мхатовской постановки выступили Мейерхольд и Таиров. Многие писатели и журналисты нападали на спектакль с каким‑то особым ожесточением. Чуть позднее Михаил Афанасьевич высказался по поводу их негативной реакции так («Жизнь господина де Мольера»):
«Почему так озверели литераторы, точно не известно. Некоторые утверждают, что до исступления их довело чувство зависти».
Молва и слава
Итак, пьеса Булгакова никого не оставила равнодушным. Завлит МХАТа П.А. Марков впоследствии писал:
«Спектакль „Дни Турбиных“ вызвал необыкновенно шумный отклик. Многочисленные жаркие дискуссии, выступления в печати, сопровождавшие „Дни Турбиных“, доказывают взрывчатую силу пьесы».
Но чересчур «антитурбинские» заметки в газетах сильно задевали мхатовцев. «Сколько огорчений, волнений и тревог принесли они и автору и театру!», — сетовал Ф.Н. Михальский.
11 ноября 1926 года при огромном стечении народа в московском Доме печати прошёл «Суд над «Белой гвардией». Видные деятели культуры, а также критики из солидных газет и журналов выдвинули резкие обвинения в адрес булгаковской пьесы.
Неделю спустя по Москве пополз слух, что, дескать, сразу после литературного «суда» за Булгакова всерьёз взялась Лубянка. В наши дни стало известно содержание «оперативной сводки» некоего лубянского агента. В ней есть любопытное свидетельство:
«В нескольких местах пришлось слышать, будто бы Булгаков несколько раз вызывался (и даже привозился) в ГПУ, где по 4 и 6 часов допрашивался. Многие гадают, что с ним теперь сделают: посадят в Бутырки, вышлют в Нарым или за границу».
Основания для подобных высказываний были: 18 ноября писателя вновь вызвали в ОГПУ. На этот раз с ним беседовал сам начальник 5‑го Секретного отдела Рутковский.
Через десять с небольшим лет Булгаков вспомнит о Лубянских кабинетах, написав («Мастер и Маргарита»):
«От этого места… осталось в воспоминаниях мало чего. Помнился только письменный стол, шкаф и диван».
Во время допроса речь вновь пошла о дневниках и повести, конфискованных во время майского обыска. Булгаков решительно требовал их возвращения. Экземпляры «Собачьего сердца» ему, вроде бы, вернули. Но предупредили, что если он не перестанет писать в подобном роде, его вышлют из Москвы. Дневники возвращать отказались.
7 февраля 1927 года было устроено очередное публичное обсуждение «Дней Турбиных». На этот раз в театре Мейерхольда.
Булгаков становился популярной личностью, к нему пришла настоящая слава. Правда, оказалась она совсем не такой, какой представлялась ранее. В «Жизни господина де Мольера» Михаил Афанасьевич написал, что…
«… слава выглядит совсем не так, как некоторые её представляют, а выражается преимущественно в безудержной ругани на всех перекрёстках».
Шумное зрительское внимание способствовало и невиданному кассовому успеху спектакля. В уже цитировавшейся нами агентурной сводке прямо указывалось на то, что…
«… сам Булгаков получает теперь с каждого представления 180 рублей (проценты)».
Пришедшее к драматургу материальное благополучие особенно бесило его недругов. В каких только грехах ни обвиняли Булгакова! При этом с неизменным злорадством указывали на булгаковскую страсть высмеивать и дискредитировать всё советское. Не случайно заметка в БСЭ заканчивалась фразой:
«Такой характер устремлений ставит Булгакова]на крайний правый фланг современной русской литературы, делая его художественным выразителем правобуржуазных слоёв нашего общества».
Критическая буря, разразившаяся в печати, не на шутку раззадорила писателя. Он даже завёл специальную папку, озаглавив её «Список врагов Булгакова по Турбиным». И стал заносить туда фамилии всех, кто высказывался против его пьесы. В другую папку, названную «Авторы ругательных статей», складывались вырезки соответствующего содержания из газет и журналов.
Но в глубинах писательской души, конечно же, было неспокойно. Ярлыки, обидные эпитеты и клички, которыми награждали его повсюду, всё чаще выводили из себя. Хотя, как известно, к самим прозвищам Михаил Афанасьевич относился спокойно. Сам любил с лукавой улыбкой награждать шутливыми именами себя и окружающих. Л.Е. Белозёрская свидетельствовала:
«Мы любили прозвища. Как‑то М.А. вспомнил детское стихотворение, в котором говорилось, что у хитрой злой орангутанихи было три сына: Мика, Мака и Микуха. И добавил: Мака — это я. Удивительнее всего, что это прозвище — с его же лёгкой руки — очень быстро привилось. Уже никто из друзей не называл его иначе… Сам М.А. часто подписывался Мак или Мака».
Да, повеселиться, пошутить, покуражиться (в том числе и над самим собой) Булгаков любил. Но только в домашней обстановке. В публичных же дискуссиях старался участия не принимать. А если и приходил на какой‑нибудь очередной «суд» над своей пьесой, то чаще всего отмалчивался. В открытые пререкания предпочитая не вступать. Даже с теми, кто злобно набрасывался на его творчество.
Впрочем, в трескучей шумихе вокруг «Дней Турбиных» были и свои положительные моменты. Ведь весь этот злобный пропагандистский вой можно было рассматривать как своеобразную ответную реакцию советской власти на его (булгаковское) «мщение». Значит, он угадал, куда следует наносить удар. Значит, он на правильном пути. Иными словами, знай наших!
Вспоминая впоследствии о тех временах, Любовь Белозёрская писала:
«Мы часто опаздывали и всегда торопились. Иногда бежали за транспортом. Но Михаил Афанасьевич неизменно приговаривал: „Главное — не терять достоинства!“»
Страстное стремление во что бы то ни стало сохранить собственное достоинство помогало Булгакову воспринимать критическую бурю, разразившуюся вокруг него и его произведений, с олимпийским спокойствием. Ожесточённые нападки официальной критики лишь подливали масла в огонь, распаляя азарт и желание ответить всем своим гонителям адекватно и хлёстко.
Судьбе было угодно, чтобы исполнение этих желаний долго ждать себя не заставило. Ровно через двадцать три дня после мхатовской премьеры (28 октября 1926 года) был показан спектакль по другой булгаковской пьесе, действие которой разворачивалось в уютной московской квартире.
«Зойкина квартира»
Булгаковеды давно установили, что поводом к написанию пьесы послужил неожиданный визит к Михаилу Булгакову двух театральных работников. Случилось это где‑то в середине 1925 года, куда мы на время и перенесёмся. Гостей было двое, и оба оказались из…
Но пусть лучше об этом расскажет Л.Е. Белозёрская. Правда, она, как всегда, не очень точна в деталях. Например, театр, который представляли гости, таковым в ту пору ещё не был и назывался Вахтанговской студией. Но на суть излагаемой истории это обстоятельство не влияет, поэтому и обратимся к воспоминаниям Любови Евгеньевны.
Итак, на «голубятню», что располагалась в Чистом переулке, нагрянули неожиданные гости.
«Оба оказались из Вахтанговского театра. Помоложе — актёр Василий Васильевич Куза…постарше — режиссёр Алексей Дмитриевич Попов. Они предложили Михаилу Афанасьевичу написать комедию для театра.
Позже, просматривая отдел происшествий в вечерней „Красной газете“ (тогда существовал таковой), Михаил Афанасьевич натолкнулся на заметку о том, как милиция раскрыла карточный притоп, действовавший под видом пошивочной мастерской в квартире некой Зои Буяльской. Так возникла идея комедии „Зойкина квартира“».
Есть и другие версии зарождения замысла этой пьесы, по которым хозяйка «квартиры» списана не с Зои Буяльской, а с…
Впрочем, не в этом главное. Важнее то, что к концу 1925 года пьеса была завершена, 1 января 1926 года с театром был заключён договор, 11 января Булгаков читал свой драматургический опус вахтанговцам, а 4 марта «Известия» сообщили:
«Начались работы по постановке новой пьесы М. Булгакова „Зойкина квартира“».
На генеральную репетицию 26 апреля была приглашена публика, состоявшая в основном из представителей курирующих органов. После просмотра спектакля кураторы заявили, что на такую постановку они не могут дать разрешения. И потребовали серьёзных переделок в тексте пьесы.
26 июля Михаил Афанасьевич писал режиссёру А.Д. Попову:
«Я сейчас, испытывая головные боли, очень больной, задёрганный и затравленный, сижу над переделкой. Зачем?
Я переделываю, потому что, к сожалению, я „Зойкину“ очень люблю и хочу, чтоб она шла хорошо.
И готовлю ряд сюрпризов».
Ох, лукавил Булгаков! Заявляя (на полном серьёзе) о вещах, которые вряд ли имели место на самом деле.
Голова у него, вполне возможно, действительно изредка побаливала — с кем, как говорится, не бывает. Но были ли основания писать о «затравленности», изображая себя «задёрганным» и «очень больным»? Ведь на дворе стояло лето, время отпусков. И «травить» Булгакова пока ещё никто не собирался — до премьеры «Дней Турбиных» было ещё три месяца, и всё внимание критикующей советской общественности было направлено в тот момент на стирание в порошок «лунной» повести Бориса Пильняка.
Но Михаил Афанасьевич продолжал упорно жаловаться на здоровье. 19 августа он написал Вересаеву:
«Мотаясь между Москвой и подмосковной дачей (теннис в те редкие промежутки, когда нет дождя), добился стойкого и заметного ухудшения здоровья».
Опять «ухудшение»? К тому же «стойкое» и «заметное». Какое‑то маниакальное стремление объявлять себя нездоровым.
Впрочем, не следует забывать, что многое из того, о чём говорил или о чём писал тогда Булгаков, не всегда, скажем так, надо принимать за чистую монету Слишком обожал он разного рода розыгрыши и мистификации. Слишком любил напускать туман в глаза и наводить тень на плетень. А истинное положение вещей старался скрыть самым тщательнейшим образом.
Л.Е. Белозёрская в своих воспоминаниях так прямо и заявила:
«М[ихаил] А[фанасьевич] — наискрытнейший человек… он знаменитый притворяшка».
Лето 1926 года супруги Булгаковы проводили на даче в подмосковном Крюкове. Любовь Евгеньевна подробно описала, как играли они в теннис, как придумывали и разгадывали шарады, как устраивали спиритические сеансы. Но ни единым словечком не упомянула о том, что Михаил Афанасьевич «испытывает головные боли», или что он «очень больной, задёрганный и затравленный».
Она же рассказала об эпизоде, случившемся немного позднее, когда Булгаковы жили уже в доме на Пироговской улице. Там «знаменитый притворяшка» весьма наглядно продемонстрировал свою, как бы сегодня сказали, «прикольную» сущность:
«Как‑то в моё отсутствие вечером Маке стало скучно. Тогда он позвонил другой нашей приятельнице, Зинаиде Николаевне Дорофеевой, и угасающим голосом сказал ей, что ему плохо, что он умирает. Зика (её домашнее имя) и её подруга заканчивали перманент. Не уложив волос, завязав мокрые волосы полотенцами, они обе в тревоге бросились к нам на Пироговскую, где их ждал весёленький хозяин и ужин с вином».
Но вернёмся к «Зойкиной квартире». К осени её переделки (они шли параллельно с исправлениями «Дней Турбиных») были завершены, студия представленный вариант одобрила и возобновила репетиции.
21 октября разрешение на постановку пьесы дал и Главрепертком. Правда, с двумя оговорками: спектакль дозволялось ставить только в Вахтанговской студии, и лишь до следующей осени, а точнее, до 7 ноября 1927 года. Вахтанговцы с условиями согласились, и 28 октября состоялась долгожданная премьера.
Вспомним содержание пьесы.
В одном из московских домов, который находится под неусыпным надзором председателя домового комитета Анисима Зотиковича Аллилуи, проживает некая Зоя Денисовна Пельц, женщина деловая и энергичная. Чтобы избежать в принадлежащей ей квартире «уплотнения» (то есть не допустить вселения в неё посторонних — по широко распространённой практике тех лет), Зоя создаёт в своих апартаментах «показательную» пошивочную мастерскую «для шитья прозодежды для жён рабочих и служащих».
Но мастерская — это всего лишь ширма! По завершению рабочего дня «пошивочная» превращается в ночной салон, где узкий круг состоятельных советских граждан может потратить свои шальные деньги на всевозможные развлечения в духе загнивающей Европы: потанцевать запрещённый фокстрот с общительными «девочками», поиграть в карты, покурить опиум и так далее.
На даче у Попсовых в Крюкове: Л.Белозерская, Н.Лямин, М.Булгаков, Н.Никитинский, С.Топленинов
Организовать подпольное «дело» Зое Денисовне активно помогают её любовник Обольянинов и кузен Фиолетов. Их заветная мечта — уехать из страны Советов в свободную от большевиков Европу, в Париж. Но для этого нужны деньги.
Их‑то предприимчивая троица и пытается заработать в своём подпольном заведении.
В ночное «ателье» попадают лишь состоятельные клиенты. Самого заметного среди них (коммерческого директора треста тугоплавких металлов Бориса Семёновича Гуся‑Ремонтного) находчивые «дельцы» завлекают с помощью некоей Аллы Вадимовны. Эта 25‑летняя женщина неопределённых занятий и весьма свободных взглядов на жизнь тоже страстно мечтает уехать за рубеж. Ради этого она и соглашается заняться демонстрацией модных парижских туалетов.
Однако Гусь, увидев новую манекенщицу, устраивает скандал. Ещё бы, ведь он давно влюблён в Аллу. У них роман. А она, как оказывается, «работает» в ночном заведении весьма сомнительного пошиба.
В квартире — замешательство. Его ловко использует китаец по кличке Херувим, гладильщик платьев, а заодно и поставщик опиума наркоману Обольянинову. Херувим убивает Гуся, забирает у него деньги и вместе с Манюшкой, домработницей Зои Пельц, исчезает.
В этот‑то момент зойкину квартиру и «накрывают» давно присматривавшиеся к ней муровцы. Зойкино «заведение» ликвидируют, хозяев и гостей арестовывают.
Таков сюжет булгаковской комедии.
Попробуем выяснить, откуда могли взяться её персонажи?
Один из них сразу обращает на себя внимание. Он носит фамилию Обольянинов, которую (в поисках её подлинного смысла) так и тянет разбить на составляющие: «О, боль! Я не нов!». Обольянинов наркоман. Он прекрасно играет на фортепиано, неплохо поёт и мечтает уехать в Париж… Иными словами, обладает характерными чертами, присущими самому… автору пьесы.
В пьесе можно обнаружить и другие автобиографические «моменты».
Первая жена Булгакова, Татьяна Николаевна, собиралась, как мы помним, открыть на дому шляпную мастерскую. Вторая жена, Любовь Евгеньевна, объездила всю Европу и вновь мечтала туда попасть. Ну а муровцы — те, что не спускают глаз с зойкиного «заведения», очень напоминают огепеушников, внимательно следивших за творчеством драматурга, что проживал во флигеле‑голубятне.
А теперь приглядимся к главной сюжетной пружине «Зойкиной квартиры». В ней рассказывается о том, как в некоем Доме, принадлежащем экстравагантной Даме, двое энергичных мужчин затевают некое Дело, неугодное властям. Когда же это Дело становится на широкую ногу, один из тех, кто был допущен обслуживать «заведение», вонзает нож в главного идеолога затеянного предприятия. И власти неугодное им Дело прикрывают.
Разве в этом сюжете не прочитывается судьба постановки «Дней Турбиных»? Ведь это «дело» было затеяно в доме, где царила экстравагантная Дама (Мельпомена), и которым руководили двое энергичных мужчин (Станиславский и Немирович‑Данченко.). Разве не вонзалось критическое жало газетных статей в сердца драматурга и актёров? Разве власти не запрещали неугодные им «Дни…»?
Все эти совпадения говорят о том, что в «Зойкиной квартире» Булгаков пересказал часть своей собственной творческой биографии. Прикрыв лица персонажей пьесы искусно придуманными масками.
Кстати, и сам драматург в интервью журналу «Новый зритель» (№ 40 за 1926 год) высказался по поводу вахтанговского спектакля так:
«Это трагическая буффонада, в которой в форме масок показан ряд дельцов нэпманского пошиба в наши дни в Москве».
Булгаков сам заговорил о «масках», в которых щеголяют его герои. Впрочем, на это его высказывание тогда не обратили внимания. Или не увидели в нём ничего необычного. Даже сверхбдительные реперткомовцы отнеслись к вахтанговскому спектаклю (после внесения в пьесу соответствующих исправлений) вполне благосклонно. Актёр В.В. Куза сообщал драматургу вскоре после премьеры:
«Главрепертком приветствовал спектакль, назвал его интересным и общественно‑ценным».
Придирки и требования запретить «Зойкину квартиру» возникли значительно позднее. Даже Л.Е. Белозёрская с неподдельным недоумением писала о судьбе этой пьесы:
«Положив руку на сердце, не могу понять, в чём её криминал, почему её запретили».
А не стали ли причиной гонения на «Зойкину квартиру» те подозрительные «маски», что носили её герои? Что если кто‑то из влиятельных критиков приподнял одну из этих «масок» и увидел под нею совсем иное лицо?
О том, кого и как прикрывают «маски» в булгаковских повестях, мы уже знаем. Теперь же они — по словам самого драматурга — стали прикрывать лица «дельцов нэпманского пошиба».
Что же это за «дельцы»?
У одного из них «пошиб» явно не нэпманский, а политический. Речь идёт о Гусе‑Ремонтном.
Дальневосточный «гусь»
Современники Булгакова двух персонажей «Зойкиной квартиры» — Гуся‑Ремонтного и его пассию Аллу Вадимовну — должны были узнать сразу. Ещё бы, сама власть настойчиво рекомендовала подвергнуть осмеянию колоритную парочку, наделавшую тогда много шума. За давностью лет история эта основательно подзабыта, поэтому поговорим о ней поподробнее.
Всё началось с того, что в 1921 году Ленин, искавший себе верных сподвижников, пригласил в Москву А.М. Краснощёкова, главу правительства и министра иностранных дел Дальневосточной Республики. Точнее, бывшего главу и бывшего министра, поскольку к тому времени Александр Михайлович всех своих высоких постов успел уже лишиться.
Краснощёков (он же Фроим‑Юдка Мовшев Краснощёк, он же Абрам Моисеевич Тобинсон) родился и вырос в украинском городе Чернобыле. К подпольной антиправительственной деятельности энергичного паренька привлёк его земляк Моисей Урицкий, будущий глава ВЧК Петрограда. В 1902 году юный социал‑демократ эмигрировал из России и осел за океаном. Окончив чикагский университет, долгое время работал в американских профсоюзах. После Октябрьской революции вернулся в Россию и занялся активной политической деятельностью.
Своей образованностью и солидным международным опытом Краснощёков выгодно отличался от многих других соратников Ильича. Вот Ленин и назначил его заместителем народного комиссара финансов и поставил во главе одного из советских банков.
Столь стремительный взлёт «чужака» с Дальнего Востока не на шутку встревожил большевистскую партийно‑государственную элиту. В опытном и деятельном политике старая кремлёвская гвардия почувствовала конкурента, притом весьма опасного. Встревоженные вожди затаились и принялись ждать, когда ленинский выдвиженец сделает неверный шаг.
Ожидание было недолгим, потому как вскоре Александр Михайлович влюбился. В одну из самых коварных и авантюрных женщин тогдашней Москвы — в небезызвестную Лилю Брик, законную супругу Осипа Брика и возлюбленную его приятеля Владимира Маяковского.
Заместитель наркома ухаживал шикарно — на западный манер. Он дарил своей даме дорогие подарки, водил её по театрам и ресторанам. Об этом Булгаков даже фельетон написал, подробно изобразив в нём, как ублажал свою даму влюблённый замнаркома:
«Из главного зала перешли в половину второго в кабинеты. Цыгане пели… 50 червонцев шваркнул за зеркало!..
Две гитары за стеной…
Яша сказал, что ты, говорит, её должен как королеву одевать. Постыдился бы мне, марксисту, такие слова… Ей, говорит, кольцо… Сам ездил на Кузнецкий, купил… 3 карата. Все оглядываются. Ну, не знаю, что будет».
О том, «что будет», стало известно очень скоро: в сентябре 1923 года Краснощёкова арестовали.
Приведём ещё раз (в более полном виде) уже цитировавшийся нами отрывок из дневника Булгакова. 25 сентября 1923 года он записал:
«Вчера узнал, что в Москве раскрыт заговор. Взяты: в числе прочих Богданов, председатель] ВСНХ! И Краснощёков, предс[едатель] Промбанка! И коммунисты!.. Чего хочет вся эта братия — неизвестно, но, как мне сообщила одна к[оммунистка], заговор „левый “ (!) — против НЭПа!»
Больше года велось следствие. Затем состоялся суд. Краснощёкова приговорили к шести годам тюремного заключения.
Впрочем, вскоре он вышел на свободу, но в большую политику вернуться уже не смог — мешала подмоченная репутация.
Краснощёковский загул описан Булгаковым в фельетоне «Белобрысова книжка», напечатанном 26 марта 1924 года в газете «Накануне». В нём рассказывается о том, как назначенный директором банка член партии Семён Яковлевич Белобрысов привлёк к коммерческим делам своего брата‑одессита по имени Яша, как семейный бизнес потерпел фиаско, и как братьев арестовали. Приведём ещё один отрывок:
«13 числа.
Взяли ночью…
Принимая во внимание моё происхождение, могут меня так шандарахнуть…
Гори, моя звезда… И ночь… Луна… И на штыке у часового горит полночная луна».
В булгаковском фельетоне никого не обличался и не осуждался. В нём просто описывалось, как двое граждан захотели пожить красиво, и что из этого получилось.
Зато молодой драматург Борис Ромашов (явно по заказу свыше) на ту же тему оперативно сочинил пьесу «Воздушный пирог». В ней не только высмеивался бурный роман высокопоставленного советского чиновника и девицы широких взглядов и потребностей, но эти герои ещё безжалостно обличались, осуждались и предавались анафеме. Следствие по делу Краснощёкова только разворачивалось, а пьеса уже была готова. Премьеру (в московском театре Революции) приурочили к началу суда. Столичная публика валом валила на спектакль, чтобы посмотреть, как разделывают под орех оскандалившуюся парочку.
Отголоски той шумной истории попали и в «Зойкину квартиру», став канвой лирической линии пьесы. Александр Краснощёков и Лиля Брик предстали в ней под масками Гуся‑Ремонтного и Аллы Вадимовны.
Но стал бы Булгаков так незатейливо использовать сюжет, сполна отработанный кем‑то другим? Конечно же, нет! Захватывающий любовный детектив понадобился ему для того, чтобы краснощёковская «маска» отвлекла на себя внимание. Чтобы дотошные церберы‑кураторы не заметили в его пьесе нечто такого, что могло бы вызвать у них хоть какие‑то подозрения.
Кого же на этот раз так тщательно пытался скрыть драматург?
Замаскированный граф
Вновь приглядимся к персонажам «Зойкиной квартиры».
Если, как мы предположили, Гусь‑Ремонтный — это Александр Михайлович Краснощёков, то скандал, устроенный им в зойкиных апартаментах, можно с полным правом назвать происшествием во властных структурах. Склочная ссора вспыхнула не в обычной коммуналке, а в весьма высокопоставленной квартире очень большого дома.
По «Дням Турбиных» мы уже знаем, какую именно квартиру имеет в виду Булгаков. На этот раз он дал её обитателям новые имена. И надел на них новые маски.
Присмотримся к ним.
Граф Обольянинов. Единственный дворянин среди персонажей пьесы. У него роман с дамой, носящей нерусскую фамилию. Обольянинов — застарелый наркоман. Без укола, без впрыскивания морфия не чувствует себя человеком. В первой редакции пьесы есть сцена, в которой оперативники МУРа ищут сведения на подозреваемых ими граждан. Картотека выдаёт на Обольянинова такие данные:
«Обольянинов Павел Фёдорович… Бывший граф. Живёт с Зоей Денисовной Пельц… Человек мёртвый».
В Москве у Обольянинова есть квартира. Точнее, была…
«ОБОЛЬЯНИНОВ. Только у меня её отобрали. Какие‑то с рыжими бородами выкинули меня».
Когда — уже в 30‑х годах — «Зойкину квартиру» собрались ставить в Париже, Булгаков отослал (переводчице пьесы М. Рейнгардт) подробные характеристики действующих лиц. Про Обольянинова там сказано:
«… бывший граф… Морфинист, … одержим одним желанием — уехать за границу…
Внешне: одет у хорошего портного по моде 1924 года, скромно и дорого…»
Кого имел в виду Булгаков, создавая этот образ? Кого скрывал под такой шикарной «маской»?
Конечно же, его, постоянного героя многих предыдущих своих произведений, В.И. Ульянова‑Ленина.
В самом деле, Владимир Ильич единственный дворянин среди ближайших своих сподвижников. По слухам, ходившим по Москве, у него был давний роман с гражданкой, носившей нерусскую фамилию (с Инессой Арманд). И из кремлёвской квартиры его тоже «выкидывали», отправляя долечиваться в Горки.
Само существование Ленина в последние полтора года жизни поддерживалось ежедневными уколами. Без этих постоянных впрыскиваний он был не человек. Про него ещё при жизни говорили, что он «человек мёртвый». И намёк на костюм героя, сшитого «у хорошего портного по моде 1924 года», тоже говорит о многом. Ведь у советских людей год 1924‑ый был накрепко связан со смертью Владимира Ильича.
И фамилию своему персонажу Булгаков тоже подбирал весьма тщательно. Ведь как похожа на…
Впрочем, сравните сами:
ОбОЛЬЯН инов и УЛЬЯН ов, ОбоЛЬЯНИН ов и ЛЕНИН.
Если учесть, что «графо» в переводе с греческого означает «пишу», то словосочетание «граф Обольянинов» можно рассматривать как очередную булгаковскую подсказку: дескать, «пишу об Ольянове», то есть «пишу об Ульянове».
Чтобы окончательно развеять все сомнения относительно того, чья именно семья вывежена в его пьесе, Булгаков вводит в «Зойкину квартиру» горничную по имени Мария. В пьесе все зовут её Манюшкой.
Исследователям булгаковского творчества известен хороший знакомый Булгакова — адвокат Владимир Евгеньевич Коморский, у которого в разное время служили две домработницы, и каждую звали Манюшкой. Считается, что этим именем и наделена домработница Зои Пельц.
Версия вполне правдоподобная, но…
Почему‑то опять вспоминается другая семья — ленинская. В неё, как известно, входила и Мария Ильинична Ульянова, родная сестра вождя. Поскольку держать прислугу в кремлёвских семьях тогда было ещё не принято, ей приходилось выполнять и работу горничной. Ухаживала она и за больным братом. С самого детства ленинскую сестру родные звали Маняшей.
Манюшка — Маняшка, Манюша — Маняша. Очень созвучные имена.
Может возникнуть вопрос: откуда и от кого Булгакову были известны подробности личной жизни советских вождей, засекреченной в те годы самым строжайшим образом? Ответом мы, к сожалению, не располагаем. Но в том, что Булгаков располагал такими сведениями, сомневаться нет оснований. Располагал! И использовал их в своих произведениях по мере надобности. Правда, до вполне определённого времени.
В письме от 31 июля 1934 года Михаил Афанасьевич настоятельно просил жившего во Франции брата Николая:
«По списку действующих лиц я прошу сделать следующие исправления:
Вместо «Обольянинов» — «Абольянинов…»
Зачем понадобилось изменять заглавную букву фамилии? Скорее всего, для того, чтобы ещё больше замаскировать «ленинский» намёк. Ведь про фамилию «Абольянинов» всегда можно сказать, что происходит она от латинского корня «abol», что означает «отмену», «упразднение». С латинских же слов взятки, как говорится, гладки.
Разобравшись с Обольяниновым, рассмотрим «происхождение» остальных действующих лиц.
Другие маски
Присмотримся к Фиолетову, двоюродному брату Зои Пельц. Он прибыл в Москву с Кавказа, и сестра с удивлением спрашивает у него:
«ЗОЯ. Тебя же расстреляли в Баку, я читала!
ФИОЛЕТОВ. Так что из этого? Если меня расстреляли в Баку, я, значит уж, и в Москву не могу приехать? Хорошенькое дело. Меня по ошибке расстреляли, совершенно невинно!»
Зоя Пельц «спутала» кузена с Бакинским комиссаром А. Фиолетовым. Путаница эта в те годы выглядела забавно и была явно рассчитана на смех зрительного зала.
Но по требованию цензуры (чтобы не тревожить память расстрелянного большевика) зойкин брат был переименован в Аметистова. Однако в основу новой фамилии положен тот же цвет. Ведь «аметист» — это полудрагоценный камень, прозрачная фиолетовая разновидность кварца. Зачем понадобилось Булгакову именно так «расцвечивать» фамилию своего персонажа?
В картотеке МУРа про зойкиного кузена сказано:
«Фиолетов Александр Тарасович… В тысяча девятьсот семнадцатом году прибыл из Петербурга в Москву. Организовал карточную квартиру на Тверской …. выдавая себя за бывшего гвардейца. Был взят партнёрами в момент извлечения пятого валета из‑под стола. Лечился в Солдатенковской больнице…
С двадцать пятого мая сего года проживает… в квартире Зои Денисовны Пельц…»
Кто же был прототипом Фиолетова‑Аметистова? На кого намекал Булгаков, пряча своего героя под фиолетовой «маской»?
Обитал на кремлёвском Олимпе вождь, родившийся на Кавказе (в Тифлисе) и с детства носивший «цветную» фамилию Розенфельд, что в переводе с немецкого означает «Розовое поле». «Розовое», «фиолетовое» — близкие по тону цвета. Позднее, уже в Москве, юноша с Кавказа примкнул к революционным социал‑демократам и сменил свою фамильную «розовость» на более твёрдую партийную кличку — Каменев.
Весной 1917 года приехавшего из‑за рубежа Ленина наш твердокаменный большевик встретил, что называется, в штыки, открыто выступив против его апрельских тезисов. Осенью «партнёры» по подпольной борьбе уличили Каменева в давнем сотрудничестве с жандармским управлением, и многие петроградские газеты впрямую обвиняли его в провокаторстве.
Вскоре после октябрьского переворота Каменев вновь не поладил с вождём революции, в результате был вынужден покинуть престижнейший пост главы ВЦИКа.
Но опальный большевистский вождь без устали напоминал всем о том, что он один из немногих, кому выпало счастье ещё до революции входить в руководящий штаб ленинской гвардии. Этот ли факт возымел действие или были на то какие‑то другие не менее веские причины, но после переезда советского правительства в Москву, Каменев получил престижный пост главы Моссовета, и официальной его резиденцией стал дом на Тверской улице.
В январе 1925‑ом наш «гвардеец» был вновь уличён «партнёрами» (на этот раз по кремлёвскому руководству) в непартийном поведении и переведён из членов политбюро в кандидаты. Слегка подлечившись в Солдатенковской (ныне Боткинской) больнице, Каменев вновь получил высокий правительственный пост, став наркомом внешней торговли.
Вот сколько возникает неожиданных совпадений, если сравнивать биографию героя булгаковской пьесы с жизненным путём известного большевистского вождя. Именно Розенфельд‑Каменев стал прототипом проходимца Фиолетова‑Аметистова.
Теперь обратим внимание на главную героиню пьесы, хозяйку «Зойкиной квартиры», на энергичную деловую женщину, сумевшую под носом у пролетарской власти завести процветающее буржуазное «дело». В экстремальные моменты жизни (когда, например, её любовнику Обольянинову срочно требовался наркотик) она обращалась к китайцам. А одного из них, по кличке Херувим, даже пригласила работать в своей мастерской.
У председателя домового комитета Аллилуи Зоя Пельц на подозрении:
«АЛЛИЛУЯ. Вы, Зоя Денисовна, с нечистой силой знаетесь!»
Алла Вадимовна высказывается ещё категоричнее:
«АЛЛА. Знаете, Зойка, кто вы? Вы чёрт!»
Кого имел в виду Михаил Булгаков, создавая этот образ, являющийся симбиозом дельца и дьявольского оборотня?
Был среди советских руководителей вождь, который одно время вполне реально претендовал на роль «хозяина» самой главной в стране кремлёвской «квартиры». Речь идёт о Григории Евсеевиче Зиновьеве. Не поладив с Лениным накануне Октябрьского переворота, он, тем не менее, уже в декабре стал диктатором Петрограда. А в 1919‑ом возглавил Коминтерн, где постоянно общался с представителями разных стран и народов, в том числе и с китайцами. Во время болезни Ленина и некоторое время после его смерти Зиновьев читал отчётные доклады на съездах партии. И он постоянно заявлял о себе как о полноправном преемнике Владимира Ильича.
Чтобы одолеть своего главного соперника и конкурента, Троцкого, Зиновьев скооперировался с Каменевым. Их блок казался несокрушим, а его лидеров воспринимали как единого вождя: Зиновьев‑Каменев. Не отсюда ли и аббревиатура названия булгаковской пьесы: «З.К.»?
Но зойкино «дело» терпит крах, хозяйка квартиры вместе со своими компаньонами отправляется за решётку. Этим сюжетным ходом Булгаков прозорливо предсказал судьбы Зиновьева, Каменева и их многочисленных сторонников.
Таким образом, в том, что «маску» своей оборотистой героини Булгаков «срисовывал» именно с Григория Зиновьева, вряд ли стоит сомневаться.
А теперь вернёмся к Гусю‑Ремонтному. Его прототипом, как мы предположили, вполне мог быть А.М. Краснощёков. Но возникает вопрос: а что, если Краснощёков — тоже «маска»? Попробуем приподнять её. Не находится ли под нею ещё какой‑нибудь неожиданный лик?
В списке действующих лиц «Зойкиной квартиры» Борис Семёнович Гусь‑Ремонтный представлен как коммерческий директор треста тугоплавких металлов. Вот откуда его богатство, вот откуда те деньги, которыми он сорит направо и налево. Даже бежать в Париж главные герои пьесы собираются исключительно с помощью Гуся. Но при этом он у всех как бельмо на глазу — в лицо ему льстят, а между собой говорят о нём разные пакости.
С каким большевистским вождём той поры имеет сходство нарисованный портрет? Кого, кроме Краснощёкова, напоминает Гусь‑Ремонтный?
Конечно же, Троцкого! Это его «обитатели» кремлёвской «квартиры» терпеть не могли. Это его с треском выставили из Красной армии и направили возглавлять электротехническую компанию. Лишение всех властных постов было равносильно политической смерти вождя большевиков, считавшегося вторым после Ленина лидером партии. Разве не похожа судьба Троцкого на судьбу булгаковского Гуся?
Но если это так, то получается, что в своей пьесе Булгаков собрал всё руководство страны Советов. Всё. За исключением…
Впрочем, почему «за исключением»? Одной из наиболее ярких «изюминок» пьесы «Зойкина квартира» является председатель домового комитета.
Загадочный аллилуя
Домовый комитет в «Зойкиной квартире» возглавляет персонаж, которого Булгаков назвал Анисимом Зотиковичем Аллилуей.
Аллилуя — герой малосимпатичный. Он взяточник и доносчик. Зато постоянно твердит о том, насколько важен и ответственен занимаемый им пост:
«АЛЛИЛУЯ. В домкоме всё как на ладони. Домком — око недрёманное… Мы одним глазом спим, а другим видим. На то и поставлены».
Аллилуя денно и нощно следит за каждым обитателем вверенного ему дома, с гордостью заявляя:
«АЛЛИЛУЯ. У меня ключи от всех квартир».
Когда же над ним нависает угроза ареста, он без всякого смущения начинает козырять своим пролетарским происхождением:
«АЛЛИЛУЯ. Товарищи, принимая во внимание моё происхождение, темноту и невежество, как наследие царского режима…»
А вот какие данные выдаёт на председателя домкома картотека МУРа:
«Аллилуя Анисим Зотикович, сорока двух лет. Председатель с девятьсот двадцать второго года. Женат. Изменяет. Банковских счетов нету. Выпивает. Шатен…»
Хранится в муровском архиве и фотоснимок, о котором сказано:
«Фотография двадцать второго года — Аллилуя говорит речь в домкоме о международном положении».
Кто из тогдашнего советского руководства послужил прототипом для этого героя? Чью «маску» носит домкомовский председатель?
Был в кремлёвском «домкоме» человек, получивший свою ответственную должность в том же году, что и Аллилуя — Иосиф Сталин. Генеральным секретарём партии он стал именно в 1922‑ом. И именно сорока двух лет от роду. И речей о международном положении в ту пору им было произнесено немало.
Фамилия жены генсека была Аллилуева. В 20‑х годах мало кто знал об этом. Булгакову этот факт биографии вождя был хорошо известен. И писатель не преминул им воспользоваться.
Впрочем, очень скоро обстоятельства резко изменились. Оказалось, что автор «Зойкиной квартиры», выражаясь его же собственными словами («Жизнь господина де Мольера»):
«… вторгся в такую область, в которую вторгаться не полагалось».
Вот почему, переделывая в 30‑х годах «Зойкину квартиру» для парижской сцены, Михаил Афанасьевич потребовал в письме брату Николаю:
«Первое, что следует сделать, и это важно, — заменить фамилию Аллилуя фамилией Портупея».
Был и вовсе нейтральный вариант — Перпетуя, что лишний раз свидетельствует о том, как усиленно драматург «заметал следы», поскольку понял: настали времена, когда упоминание всуе имени генерального секретаря грозит большими неприятностями.
От переводчицы «Зойкиной квартиры» М.Рейнгардт Булгаков настойчиво потребовал (в письме от 31 июля 1934 года):
«Слова „Сталин“ у меня нигде нет, и я прошу вычеркнуть его…»
В середине 20‑х годов до «опасных времён» было ещё далеко. И поэтому в финале пьесы арестом всех её героев Булгаков как бы давал совет, как следует поступить и со всеми их прототипами. Это была невероятнейшая дерзость, отважиться на которую мог далеко не каждый.
Один из первых вариантов «Зойкиной квартиры» (Аллилуя называл её «змеиная квартира») заканчивался репликой её главной героини:
«ЗОЯ. Прощай, прощай, жоя квартира!»
Фраза из четырёх слов, и половина из них начинается с буквы «п», так похожей на виселицу. Типично булгаковский финал.
К величайшему счастью для Булгакова, его дерзких намёков, переходивших все и всяческие границы дозволенного, литературные церберы тех лет не заметили. И всё то время, пока «Зойкина квартира» была в репертуаре вахтанговцев, спектакль шёл с неизменным аншлагом, публика валила на него валом.
Тем временем год 1926‑ой подходил к концу. Несмотря на мрачные пророчества, он оказался для Булгакова весьма плодотворным. Дважды повторенное «роковое» число «13» принесло ему беспрецедентную удачу, если не сказать, грандиозный успех. Как будет сказано в «Жизни господина де Мольера»:
«Солнце бродячего комедианта явно поднималось. Впереди начинала мерещиться громаднейшая карьера…»
И пусть большевистская инквизиция рьяно раздувала огонь в своих ни на минуту не угасавших кострах! Неугомонный драматург, в глазах которого то и дело вспыхивала лукавая усмешка, вновь подлил масла в огонь, сочинив новую пьесу про белую гвардию.
Глава вторая Новое наступление
Опять белогвардейщина
К написанию второй своей «белой» пьесы Михаил Булгаков приступил в 1926 году Весной 1927 года заключил с Московским Художественным театром договор на её постановку В этом документе было условие, что в случае запрета пьесы полученный аванс должен быть возвращён в театральную кассу Первый вариант (сначала носивший название «Изгои», затем — «Рыцарь Серафимы», потом — «Исход», и, наконец, получивший окончательное имя — «Бег») был летом представлен театру.
Вспомним содержание пьесы.
Завершаются сражения за Крым. Полуостров стал последним местом в России, где сохранилась власть белых. Сюда бегут все, кто хочет спастись от большевиков. Среди беженцев — и Серафима Корзухина, жена товарища (помощника) министра врангелевского правительства. Она разыскивает мужа. В этих поисках ей помогает случайный попутчик, 29‑летний петербургский приват‑доцент Сергей Голубков.
Красная армия уже близка к победе, но белогвардейцы отчаянно защищаются. Врангелевский генерал Роман Валерьянович Хлудов свирепствует. По его приказам контрразведка во главе со своим начальником по фамилии Тихий вершит кровавые дела, вешая непокорных и несогласных.
Другой белый генерал, бесшабашный потомок запорожских казаков Григорий Лукьянович Чарнота, с одинаковым азартом успевает и с будённовцами повоевать и с сослуживцами в карты сразиться.
После полного поражения в битве за Крым белые бегут в Турцию и оказываются в Константинополе. Здесь генералов Хлудова и Чарноту постигает разжалование в рядовые. Первого — за несдержанные речи, второго — за дерзкие поступки.
Хлудов нездоров, у него — помутнение рассудка, он заговаривается. Бывшего генерала всюду преследуют видения, принимающие образы убитых по его приказу людей. А Чарнота, напротив, с былой бесшабашностью продолжает ловить за хвост ускользающую птицу счастья, гоняясь за ней то на тараканьих бегах в балагане Артура Артуровича, то в карточной игре с богачом Корзухиным.
И каждый из героев в финале пьесы задумывается над тем, возвращаться ли на родину или навсегда остаться на чужбине.
Таково содержание «Бега», пьесы о белогвардейцами, ставшими эмигрантами.
В сентябре 1933 года драматург Афиногенов в присутствии мхатовского режиссёра Судакова высказывал Булгакову своё мнение о пьесе:
«Афиногенов:
— Читал ваш „Бег “ мне очень нравится…
— Вы слушайте его!! Он партийный!
Афиногенов:
— Ведь эмигранты не такие…
М[ихаил] А[фанасьевич]:
— Это вовсе пьеса не об эмигрантах, и вы совсем не об этой пьесе говорите. Я эмигрантов не знаю…»
Как же так? Пьеса, все герои которой являются белоэмигрантами, и вдруг — не об эмигрантах?! О ком же она тогда?
Присмотримся к «Бегу» со вниманием.
Прежде всего, бросается в глаза, что в пьесе повторяется маршрут Любови Белозёрской в её хождениях по мукам: Крым, Константинополь, Париж… И до Франции она с мужем добиралась так же, как и Голубков с Чарнотой, — предварительно договорившись с капитаном судна. И неожиданный выигрыш в карты — это тоже эпизод из её парижской жизни.
«Одиссея» Любови Евгеньевны — это эмиграция. Все её спутники, вольные и невольные, — белоэмигранты. Почему же так запротестовал драматург, когда персонажей «Бега» зачислили в их компанию?
А что если перед нами вновь очередная булгаковская басня, все персонажи которой участвуют в некоей фантасмагории? Не случайно же, когда речь заходила о жанре этой пьесы, многие говорили, что это «фантастический реализм».
Попробуем разгадать тайный смысл этой загадочной «фантастики».
Что в первую очередь коробило советских ортодоксов в предыдущей пьесе Булгакова — в «Белой гвардии»? Её название. Оно настолько не соответствовало новым временам, густо окрашенным в красный цвет, что пришлось срочно заменять его нейтральными (бесцветными) «Днями Турбиных».
Название новой «белогвардейской» пьесы наводит на размышления, а не старый ли перед нами знакомец? Не восстановил ли драматург отвергнутое название — в сокращённом виде? Взял из «БЕлой Гвардии» первые буквы слов и сложил из них: «БЕГ»?
Если так, то тогда совсем иначе воспринимается и эпиграф, с которого начинается пьеса и который явно предназначен для того, чтобы развеять какие бы то ни было подозрения по части происхождения названия:
В самом деле, пусть, прочитав эти строки, кто‑то попробует доказать, что не у поэта XIX века позаимствовал драматург заголовок для своей пьесы.
Но возникает вопрос: почему или, точнее, зачем Булгаков оборвал четверостишье Жуковского? Ведь последние две строки звучат у поэта так:
Объяснить именно такой выбор драматурга трудно. Но попробуем.
Если бы эпиграф состоял из четырёх строк, то тогда надо было бы признать, что булгаковская пьеса рассказывает о неких «странниках», чьё смиренное «терпение» рассчитано на сочувствие. Но ведь именно сочувствие к белогвардейцам в «Днях Турбиных» вызвало ураган негодований и возмущений. Стоило ли вторично наступать на те же грабли?
И последняя строка была исключена из эпиграфа. Этим как бы заявлялось о том, что пьеса посвящена тем, кто свой бег завершил, закончил. То есть людям, вынужденным бежать за рубеж под ударами доблестной Красной армии.
Беглецы в русской литературе никогда в героях не ходили. И положительными персонажами не являлись. А то, какими в «Беге» изображены белогвардейцы, как подано само бегство белого воинства из России, вызывает, по меньшей мере, недоумение. Неужели всё это написал человек, который (по его же собственным словам) белому движению искренне симпатизировал?
Приведём несколько примеров. Белый генерал говорит о беженцах, ищущих у него защиты от большевиков:
«ХЛУДОВ. Смотрю и думаю, куда бегут? Как тараканы, в ведро. С кухонного стола — бух!».
Другой персонаж пьесы вообще сомневается в том, имеет ли смысл искать защиты у генералов, подобных Хлудову. Ведь все они поголовно сошли с ума.
«КОРЗУХИН. Одному бесноватому жаловаться на другого?»
Чуть позднее (уже в Париже) тот же персонаж высказывается ещё более определённо:
«КОРЗУХИН. Действительно, я некоторое время проживал в Крыму, как раз тогда, когда там бушевали эти полоумные генералы».
Хорош лексикон, не правда ли? «Как тараканы», «бесноватые», «полоумные»… Разве таких слов заслуживал цвет нации, попавший в безжалостную мясорубку гражданской войны? Разве такими эпитетами следовало награждать спасителей Отечества — военных, ставших последней надеждой для далеко не худшей части многострадальных россиян? Неужели не нашлось у драматурга более добрых слов для соотечественников, которые вовсе не по собственной воле оказались на чужбине, в эмиграции?
Что можно тут ответить?
Первая мысль, которая приходит в голову: Булгаков просто не мог написать иначе. Поучительный опыт пьесы «Белая гвардия» красноречиво продемонстрировал, что в красной стране белых следует выставлять исключительно в чёрном свете. Не случайно многие белоэмигранты считали автора «Дней Турбиных» типично советским писателем, поставившим своё перо в услужение большевистскому режиму.
Объяснение вполне убедительное.
Но возможен и другой вариант ответа: а не рассчитывал ли Булгаков на тех, кто хорошо помнил стихотворение Жуковского и последнюю его строку? Не ожидал ли драматург, что именно эти зрители и должны понять, что его «Бег» — не о бегущих, а о терпящих?
Есть у пьесы ещё один загадочный аспект: она написана так, будто все её бегущие герои автору просто приснились.
Сонное царство
Булгаков и не скрывал, что его «Бег» — это всего лишь сон. Точнее, восемь снов. Он и пьесу разбил не на акты, не на действия, не на явления, а на сны. Все герои и все события «Бега» нам как бы снятся.
А разве то, что происходит во сне, может быть реальным? Конечно же, нет! Ведь сны — это наши грёзы, наши мечты и надежды. В сновидения приходит то, что тревожит, беспокоит каждого из нас в реальной жизни. Потому‑то сны и являются к нам, принимая немыслимо причудливые формы, в которых фантастика и реальность переплетаются.
В восьми булгаковских снах тоже всё перемешано: далёкое и близкое, реальное и нереальное, красное и белое… Отдельные персонажи «Бега» совсем не похожи на тех, на кого следовало бы им походить, а их характеры и поступки представляют собой и вовсе нечто несусветное. Но в этом нет ничего из ряда вон выходящего — ведь это же сны. Приятные и страшные, узнаваемые и непредсказуемые. Сны, так похожие на реальную жизнь и на выдуманную сказку.
Поэтому стоит ли удивляться, что в сказочных снах, сочинённых Булгаковым, все его герои вдруг оказались… белыми.
А на самом деле, какого они цвета? Синего, фиолетового, зелёного? А может быть красного ?
Что? Такого быть не может?
Приглядимся к действующим лицам «Бега». На них нетрудно обнаружить знакомые нам «маски». Они‑то и окрашивают булгаковских героев в белый цвет. Но даже в «замаскированных» персонажах «Бега» нетрудно заметить черты характера и элементы внешности, свойственные прототипам совсем другого цветового оттенка.
Возьмём, к примеру, генерала Хлудова, пролившего море невинной крови и при этом постоянно цитирующего на память отрывки из Библии. В списке действующих лиц (в отличие от других персонажей пьесы) он представлен только именем, отчеством и фамилией. Ни звания, ни должности — сами, мол, догадайтесь, кто перед вами? Зато в авторской ремарке, предваряющей «Сон второй», Хлудов охарактеризован весьма обстоятельно:
«… съёжившись на высоком табурете, сидит Роман Валерьянович Хлудов. Человек этот… кажется моложе всех окружающих, но глаза у него старые. На нём солдатская шинель, подпоясан он ремнём по пей… Фуражка защитная, грязная… На Хлудове нет никакого оружия.
Он болен чем‑то, этот человек, весь болен с ног до головы. Он морщится, дёргается, любит менять интонации. Задаёт самому себе вопросы и любит сам же на них отвечать. Когда хочет изобразить улыбку, скалится. Он возбуждает страх. Он болен…»
Все, кто окружает Хлудова, тоже говорят о его болезни. А когда в Константинополе генерала начинают преследовать кошмарные видения, ему настоятельно рекомендуют поехать подлечиться.
Кого своим обликом напоминает этот белый генерал? В том виде, в каком описал его Булгаков. Кто из красных обитателей Кремля мог бы стать его прототипом?
Попробуем отгадать. Для этого зададимся вопросами.
Кто из советских вождей ходил в шинели, фуражке и без оружия?
Кто любил задавать себе вопросы и сам же любил отвечать на них?
Кто своими непредсказуемыми поступками производил впечатление нездорового человека?
Кто возбуждал страх у окружающих?
Кто при этом считался знатоком Библии?
Ответ на все эти вопросы может быть только один: Иосиф Сталин. Это он учился в духовной семинарии, а потому лучше прочих своих соратников знал Священное Писание. Это он ходил в шинели и фуражке. Это он, выступая с высоких трибун, любил задавать себе вопросы и сам же отвечал на них. Это он вызывал страх у окружающих. И именно Сталину в декабре 1927 года знаменитый психиатр академик Бехтерев (об этом долго ходили по Москве будоражившие народ слухи) поставил однозначный диагноз: паранойя.
«Лекарь с отличием» Михаил Булгаков определил характер заболевания вождя на год раньше академика.
В ленинском Совнаркоме Сталин, как известно, занимал два ответственных поста: был наркомом по делам национальностей и возглавлял РКИ (Рабоче‑крестьянскую инспекцию). В критический момент гражданской войны партия направила его в Царицын. Руководя обороной города, он обращался с людьми очень жёстко, если не сказать, жестоко. По его приказам было пролито немало невинной крови.
Когда война победоносно завершилась, Сталин своих постов в правительстве лишился (был как бы разжалован наподобие Хлудова), получив взамен незначительную (как многим тогда казалось) хозяйственно‑организанизационную должность генерального секретаря.
Булгаков полагал, что Сталина должны преследовать жуткие кошмары за те злые деяния, что он совершил в Царицыне. Глядя на покидавший Россию цвет нации, Сталин (с точки зрения драматурга) вполне мог с леденящим душу спокойствием сравнивать этих людей с бегущими тараканами, которые падают с кухонного стола.
Мало этого. Булгаков явно не случайно разбил свою пьесу не на действия, акты или явления, а на сны. Сделал он это для того, чтобы напомнить всем библейскую историю. О сыне Иакова‑Израиля, которого братья продали проходившим мимо купцам. Паренёк оказался вдали от родины — на невольничьем рынке египетской столицы. И стал сын Иакова рабом, а потом попал в тюрьму. Но когда фараону приснились невероятно загадочные сны, которые не могли растолковать жрецы и волхвы Египта, лишь узник темницы дал царским сновидениям логичные объяснения. Обрадованный фараон назначил сына Иакова визирем, первым министром, то есть правителем державы.
История эта любопытна тем, что её героя зовут Иосиф. И его судьба поразительным образом напоминает судьбу Иосифа Сталина, который тоже оказался вдали от родины, тоже сидел в тюрьме и тоже стал правителем державы.
Вот почему библейский толкователь снов (он же — вождь большевиков Иосиф Сталин) «приснился» драматургу Булгакову в образе генерала‑белогвардейца Романа Хлудова.
А теперь приглядимся к другим участникам сновидений.
Другие герои
Есть в «Беге» очень колоритный персонаж — прожжённый игрок Григорий Чарнота, откровенно белый генерал с подозрительно «чёрной» фамилией. Ею Булгаков как бы говорит нам: смотрите — чёрный, а сражается за белое дело.
Был ли в руководстве ВКП(б) такой большевик, которого сами большевики за большевика не считали? Но который при этом отчаянно сражался бы за святые большевистские идеалы?
Разумеется, был! Это Лев Давидович Троцкий, ставший большевиком лишь в августе 1917 года. До той поры он являлся непримиримым антагонистом Ленина. Даже в своём знаменитом «завещании» Владимир Ильич особо просил соратников ни в коем случае не ставить в вину Троцкому его дореволюционный «неболыневизм».
Вряд ли Булгакову было известно содержание конфиденциальных ленинских «Писем к съезду». Но кое‑какими сведениями по этому вопросу он, безусловно, располагал. И воспользовался ими, когда потребовалось охарактеризовать Троцкого. Кстати, прожжённого игрока по натуре.
В списке действующих лиц «Бега» Чарнота представлен как «запорожец по происхождению». И это не что иное, как намёк на «происхождение» Льва Троцкого, который, как известно, на самом деле звался Лейблом Бронштейном.
Со спокойно‑презрительным равнодушием встретил Троцкий своё отстранение от Красной армии. Так же стоически перенёс своё разжалование в рядовые генерал Чарнота. В самом деле, стоит ли волноваться по таким пустякам, когда давно известно, что жизнь — это игра? На любом её повороте можно делать ставки и выигрывать. И в какие бы переделки ни бросала судьба Григория Чарноту, он (точно так же, как и Лев Троцкий) продолжает играть. Сначала в карты (в Крыму, между стычками с будёновцами), потом на тараканьих бегах (в Константинополе), затем снова в карты с Корзухиным (в Париже) и, наконец, вновь на тараканьем тотализаторе (в Константинополе).
Да, он такой — Григорий Чарнота, точная копия своего прототипа Льва Троцкого.
А кого напоминает Парамон Корзухин, ухитряющийся при всех властях и режимах удерживаться на плаву? Вне всяких сомнений — Льва Каменева, про которого говорили, что он обладал уникальной способностью в любых обстоятельствах пристраиваться поближе к властной кормушке.
Лишившись престижного поста «товарища министра», Корзухин не тонет в коварных омутах жизни, а преспокойно выныривает в Париже в образе процветающего дельца. Каменев, потеряв свои престижные должности в политбюро и в правительстве, тоже не унывает. Сначала он становится наркомом внешней торговли, а затем уезжает в прекрасную страну Италию в качестве полномочного представителя страны Советов.
Есть у этого персонажа ещё один любопытный штришок: Корзухин собирается жениться на Люське, «походной жене генерала Чарноты». Каменев, как известно, был женат на Ольге Давидовне Бронштейн, родной сестре наркомвоенмора Троцкого. Как видим, даже в таких мелочах — совпадения.
А 29‑летний приват‑доцент Сергей Голубков, которого судьба свела и накрепко связала с Хлудовым, кого напоминает он? Конечно же, Николая Бухарина, самого молодого из тогдашних большевистских вождей. В середине 20‑х Николай Иванович в тесном союзе с Иосифом Виссарионовичем громил троцкистско‑зиновьевский блок.
Фамилия Тихий, которую носит глава хлудовской контрразведки, тоже не просто так «приснилась» Булгакову. Это прямой намёк на громкие дела аналогичного ведомства страны Советов, которое возглавлял небезызвестный «железный» Феликс.
А теперь обратим внимание на «венгерца» Артура Артуровича, ярого противника антисемитизма. «Тараканий царь» Артур владеет балаганом, в котором устраивается «русская азартная игра с дозволения полиции» — тараканьи бега. Артурово «заведение», как магнит, притягивает к себе разношёрстную интернациональную публику. Вот как описана она в «Беге»:
«Вламывается группа итальянских военных моряков, за ними — английские матросы, с ними — проститутка‑красавица. Полезли жулики разного типа, мелькнул негр. Марш гремит… Артур, во фраке и в цилиндре, взвился над каруселью. Марш смолк».
Разве не напоминает это многоязыкое столпотворение трескучие конгрессы Третьего Интернационала, на которые съезжались делегаты чуть ли не со всего мира, и где витийствовал «коминтерновский царь» Григорий Зиновьев (несомненный прообраз Артура Артуровича)?
Кассой тараканьего тотализатора у Булгакова заведует некое «личико», названное Марией Константиновной. В те годы эти имя и отчество сразу же будили вполне определённые ассоциации, так как были явно позаимствованы у двух реально существовавших лиц — у Марии Ильиничны Ульяновой и у Надежды Константиновны Крупской. В середине 20‑х годов (и это ни для кого не было секретом) родная сестра Ленина и его вдова активно поддерживали Зиновьева.
А тараканий тотализатор — это что такое? Что за «русская азартная игра с дозволения полиции»?
Да ведь это же революция!
Словами «с дозволения полиции» Булгаков весьма недвусмысленно намекал на то, что революцию в России совершили «революционеры», состоявшие на содержании у царской охранки.
Вот в эту‑то азартную «игру» и играют герои «Бега».
Как тянет к ней Чарноту! Лишённый генеральского звания, без гроша в кармане, он рвётся «в кредит поставить на Янычара». Когда же «в кредите» ему отказывают, продаёт последние газыри, лишь бы ещё раз поучаствовать в этой революционной «игре».
Булгаков не случайно назвал таракана‑фаворита Янычаром. Ведь слово «янычары» в буквальном переводе с турецкого означает «новые войска». В переносном значении оно употребляется для обозначения «свирепых карателей, палачей, душителей свободы народа». Как тут не вспомнить злобных земноводных монстров, выползших из инкубатора Рокка и готовых сожрать всё живое в стране? Напомним, что прообразом Рокка был всё тот же Троцкий.
Разжившись деньжатами у Корзухина, Чарнота вновь устремляется к «новым войскам» артурова заведения:
«ЧАРНОТА. Вот она, заработала вертушка! Здравствуй вновь, тараканий царь Артур! Ахнешь сейчас, когда явится перед тобой во всей славе своей рядовой‑генерал Чарнота!»
Разве не точно такие же слова вполне мог произносить лишённый всех своих властных постов Троцкий, появляясь в качестве главы «новой оппозиции» перед главой Коминтерна Зиновьевым?
Вот такие удивительные превращения происходят с персонажами восьми булгаковских снов, в которых все участники якобы белого движения на поверку оказываются красными большевиками. У них только «маски» окрашены в белый цвет.
Эти цветные метаморфозы и отвечают на вопрос, о чём же на самом деле повествует пьеса «Бег». Она — о «русской азартной игре с дозволения полиции», иными словами, о российской революции, обернувшейся кровавым разбойничьим бунтом.
Революционный «шаг», который призывали «держать» воспевавшие Октябрь поэты, Булгаков превратил в революционный «бег». «Двенадцати апостолам» Александра Блока он противопоставил «двенадцать разбойников». Не случайно «соя восьмой и последний» предваряется эпиграфом: «… Жили двенадцать разбойников …», а своеобразным музыкальным лейтмотивом восьмого сна стала старинная разбойничья песня: «Жили двенадцать разбойников и Кудеяр‑атаман» Этот гимн артурова балагана явно намекал на «Интернационал», который был гимном зиновьевского Коминтерна.
В первых «снах» пьесы её герои «бегут» по полям сражений Крыма. Затем этот «бег», потеряв свою «революционность», становится «тараканьим».
Булгаковский «Бег» — это рассказ об ужасах гражданской войны. И о судьбах главных её зачинщиков. Автор пьесы утверждает, что в море пролитой крови красные виноваты не в меньшей степени, чем белые.
На «красном» Сталине не меньше грехов, чем на «белом» Хлудове. И если Хлудов трогается рассудком, если его преследуют кошмарные видения, то и Сталина должны мучить те же недуги.
Если изгнание из армии мало трогает бело гвардейца Чар‑ноту, то и отстранение от военных дел красно армейца Троцкого никак его не изменит.
Если бело эмигрант Корзухин как был на плаву, так на плаву и остаётся, то и красный Каменев тоже не утонет.
Если белый «тараканий царь» Артур процветает, то и красный коминтерновский вождь Зиновьев тоже на коне.
Да, гражданская война давно закончена. Но белые и красные продолжают свой бесконечный бег. Первые — на чужбине, вторые — у себя на родине. Белые Булгакова интересуют мало, он эмигрантов не знает. Его тревожат другие вопросы: куда бегут красные большевистские «тараканы», что представляет собой красное «тараканье» царство, и насколько прочно их призрачное «тараканье» счастье?
Отсюда и один из вариантов финала «Бега», состоящий из трёх восклицаний:
«ХЛУДОВ. Поганое царство! Паскудное царство! Тараканьи бега!»
Вот оно — ещё одно толкование загадочного смысла любимой Булгаковым буквы «П»: «погань», «паскудство». Словами, начинающимися на эту букву, писатель вновь одарил ненавистный ему большевистский режим. Это его называет он поганым царством, это его уличает в паскудстве.
Булгакову и на этот раз казалось, что его иносказательных намёков малообразованные советские чиновники не поймут, едких насмешек не заметят. Однако он вновь заблуждался. Пусть не всё, но кое‑что многие из первых читателей «Бега» поняли, заметили, почувствовали. И ответный удар ждать себя не заставил.
Начало преследования
Во второй половине 20‑х годов XX века в культурной жизни страны Советов бушевало множество самых разных пропагандистских кампаний. Одна из них, наиболее шумная и злобная, вошла в историю советской литературы под названием актибулгаковской. Это искусно раздувавшееся погромное мероприятие было организовано в ответ на творческую деятельность писателя, чьё дерзкое «подкалывание» режима большевиков становилось всё более вызывающим. Вот и пришлось властям предпринять ответные шаги.
На Булгакова всей своей мощью обрушился аппарат партийной пропаганды. Его имя принялись склонять (почти не выбирая выражений) чуть ли не со всех трибун. Каких только ярлыков на него ни навешивали. В каких только грехах ни обвиняли. Его «чуждые пролетариату» творения предавали повсеместной анафеме. Само слово «булгаковщина» стало нарицательным, превратившись в синоним махровой антисоветчины.
Весной 1927 года в отделе агитации и пропаганды ЦК состоялось совещание по вопросам театра. От присутствовавшего на нём наркома Луначарского потребовали объяснений по поводу того, как мог он пропустить на советскую сцену откровенно крамольную пьесу Булгакова. Наркому пришлось оправдываться:
«… о „Днях Турбиных“ я написал письмо Художественному театру, где я сказал, что считаю пьесу пошлой и советовал её не ставить».
Даже Владимир Иванович Немирович‑Данченко, во всех инстанциях горячо отстаивавший «Турбиных», и тот объяснял успех спектакля не столько талантом драматурга, сколько своеобразной пикантностью темы («белогвардейщииа») и «великолепной молодой игрой» нового поколения мхатовцев.
И вот наступил день, когда все, кто требовал безусловного и незамедлительного запрета булгаковской пьесы, могли торжествовать — в сентябре 1927 года спектакль «Дни Турбиных» был снят с репертуара.
О том, как эта неожиданная акция подействовала на Булгакова, рассказано в «Жизни господина де Мольера»:
«Описывать его состояние не стоит. Тот, у кого не снимали пьес после первого успешного представления, никогда всё равно это не поймёт, а тот, у кого их снимали, в описаниях не нуждается».
Однако запрет полюбившегося публике спектакля вызвал столь шумное возмущение в обществе, что «театральный» вопрос пришлось рассматривать членам политбюро. Вот выписка из стенограммы заседания высшего партийного ареопага:
«Протокол № 129 от 13 октября 1927 года
Строго секретно
Опросом от 10.Х.27.
22. О пьесах.
Постановили:
22. Отменить немедля запрет на постановку „Дней Турбиных „в Художественном театре».
Следующим пунктом повестки дня того же заседания политбюро значился вопрос, тоже относившийся к делам литературным:
23. О т. Воронском.
Постановили:
23. Освободить т. Воронского от обязанностей главы редакционной коллегии „Красной нови“.
А.К. Воронского наказали за историю с «Повестью непогашенной луны» и за его троцкистские взгляды. То есть за крупные политические проколы. На фоне подобных «грехов» любые театральные «грешки» и связанные с ними неурядицы выглядели обычной кухонной склокой, которую очень легко погасить, цыкнув построже на её участников. Так что «Дням Турбиных», можно считать, ещё повезло. И 20 октября 1927 года МХАТ открыл этим спектаклем свой очередной сезон.
Но гонители булгаковского творчества сдаваться не собирались. Они взялись за «Зойкину квартиру». К этому времени годичный срок, в течение которого действовало данное Главреперткомом разрешение на показ вахтанговского спектакля, уже истёк. Воспользовавшись этим, его и сняли с репертуара.
Вновь пришлось вмешиваться членам политбюро:
«Протокол № 11 от 23 февраля 1928 года
Строго секретно
Опросом от 20.2.28.
19. О „Зойкиной квартире“.
Постановили:
19. В виду того, что „Зойкина квартира“ является основным источником существования для театра Вахтангова, разрешить временно снять запрет на её постановку».
Спектакль, разумеется, тотчас возобновили…
Может сложиться впечатление, что Булгакова преследовала в основном малообразованная прослойка рядовых чиновников. Это они, считая писателя лютым врагом советской власти, с улюлюканьем требовали повсеместного искоренения «булгаковщины». Но стоило кому‑то из вождей подать свой мудрый и рассудительный голос, как попранная справедливость тотчас торжествовала.
На самом деле всё, конечно же, обстояло иначе. В ту пору Кремлю просто было не до писателей. До них пока руки не доходили. Время поэтов и драматургов ещё не пришло. Вожди никак не могли между собой разобраться.
Вот почему жаркие споры, ссоры и свары, царившие в литературных кругах, руководителей пролетарской державы вполне устраивали. А чтобы творческие интеллигенты в своих словесных перепалках не выходили за рамки дозволенного, за ними зорко наблюдал специальный надсмотрщик — отдел агитации и пропаганды ЦК ВКП(б). Он же являлся главным «науськивателем», натравливавшим одних писателей на других, а также мировым судьёй, время от времени разводившим дерущихся.
Булгаков в этих подковёрных «играх» участия не принимал, к мышиной возне цековского агитпропа относился с полнейшим равнодушием. Его в тот момент интересовали совсем другие вещи. К примеру, английский язык, уроки которого он стал брать.
Было ещё одно обстоятельство, доставлявшее Булгакову немало весьма неприятных переживаний. Дело в том, что до него стали доходить слухи о том, что в Европе начали печатать его произведения. Без ведома автора и без выплаты ему гонорара.
28 ноября 1927 года Михаил Афанасьевич обратился в БОКС (Всесоюзное общество культурной связи с заграницей) с письмом, которое просил «перевести на соответствующие… иностранные языки и напечатать в заграничных газетах в Риге, Ревеле, Берлине, Париже и Вене». В письме, в частности, говорилось:
«Мною получены срочные сведения, что за границей появился гр. Каганский и другие лица, фамилии коих мне ещё неизвестны, которые, ссылаясь на якобы имеющуюся у них мою доверенность, приступили к эксплуатации моего романа „Белая гвардия“ и пьесы „Дни Турбиных“.
Настоящим извещаю, что никакой от меня доверенности у гр. Каганского и у других лиц, оперирующих сомнительными устными ссылками, нет и быть не может.
Сообщаю, что ни Каганскому, ни другим лицам, утверждающим это устно, я экземпляров моих пьес „Дни Турбиных“ и „Зойкина квартира „не передавал. Если у них такие экземпляры имеются, то это сомнительные или приобретённые без ведома автора и без ведома же автора отправленные за границу экземпляры».
Напомним, что «гр. Каганский», о котором упоминается в письме, это тот самый Захар Леонтьевич Каганский, владелец издательства «Россия», подписавший с Булгаковым договор на публикацию романа «Белая гвардия» и тотчас покинувший СССР.
Через несколько дней Михаил Афанасьевич направил в ВОКС ещё одно письмо, в котором просил купить за его счёт и переслать ему изданные за рубежом книги:
«В Риге мой роман „Белая гвардия“ и повесть „Роковые яйца“, выпущенные в издательстве „Литература“, в Берлине пьеса „Дни Турбиных“, в Париже роман „Белая гвардия“, издательство „Конкорд“».
Однако очень скоро Булгаков понял, что все его попытки защитить свои авторские права тщетны, поскольку Советский Союз не присоединился к соответствующей международной конвенции. У писателя оставался последний способ восстановить справедливость — лично отыскать своих обидчиков и привлечь их к ответу.
И Булгаков подал в соответствующие инстанции заявление с просьбой отпустить его за границу В Европу В частности, в Берлин и в Париж.
Власти, разумеется, изумились. И потребовали разъяснений. С чёткими обоснованиями необходимости предполагаемой поездки. 21 февраля 1928 года Михаил Афанасьевич представил требуемую от него бумагу. В ней, в частности, говорилось:
«Цель поездки за границу
Еду, чтобы привлечь к ответственности Захара Леонтьевича Каганского, объявившего за границей, что он якобы приобрёл у меня права на „Дни Турбиных “, и на этом основании выпустившего пьесу на немецком языке, закрепившего за собой „права“ на Америку и т. д.
Прошу отпустить со мной жену, которая будет при мне переводчиком. Без неё мне будет крайне трудно выяснить все мои дела (не говорю по‑немецки).
В Париже намерен изучать город, обдумывать план постановки пьесы «Бег», принятой ныне в Московском Художественном театре (действие IV „Бега“ в Париже происходит).
Поездка не должна занять ни в коем случае более 2‑х месяцев, после которых мне необходимо быть в Москве (постановка „Бега“).
Надеюсь, что мне не будет отказано в разрешении съездить по этим важным и добросовестно изложенным здесь делам».
Тон, в котором написано объяснение, снисходителен и слегка высокомерен. Булгаков как бы давал понять, что вынужден растолковывать азбучные истины, которые те, к кому он обращается, почему‑то не понимают.
В таком же снобистском духе этот документ и заканчивался:
«P.S. Отказ в разрешении на поездку поставит меня в тяжелейшие условия для дальнейшей драматургической работы».
Драматург, окружённый восторженной молвой и скандальной славой, видимо несколько переоценил свою значимость и недооценил силы большевиков‑ортодоксов. Потому и позволил себе, как говорится, чуть‑чуть закусить удила.
Однако Булгакову тотчас напомнили, кто в доме хозяин. 8 марта ему была направлена официальная бумага, которая и расставила всё по своим местам:
«РСФСР НКВД…
Справка № 8664
Гр[аждани]ну Булгакову МЛ.
Настоящим Административный отдел Моссовета объявляет, что в выдаче разрешения на право выезда за границу Вам отказано.
Гербовый сбор взыскан».
Обратим внимание на тон официальной «справки» — он сухой, деловой и немногословный. То есть именно такой, какой и требуется для того, чтобы мгновенно сбить спесь с любого, кто хотя бы на секунду возомнит себя слишком значимым и чересчур великим.
Горькую пилюлю пришлось проглотить…
Что и говорить, удар был неожиданный и сильный. Но не смертельный. Ведь во всём остальном известному драматургу жилось совсем неплохо. Средства к весьма безбедному существованию были. Из тесной комнатки во флигеле‑«голубятне» Булгаковы переехали в отдельную квартиру на Большой Пироговской улице. Потянулся к модному драматургу и прекрасный пол, о чём впоследствии поведала Л.Е. Белозёрская:
«По мере того, как росла популярность М[ихаила] Афанасьевича] как писателя, возрастало внимание к нему со стороны женщин…»
Ревнивые подозрения жены Михаил Афанасьевич пытался развеять дорогими подарками. Любовь Евгеньевна свидетельствует:
«Из дорогих вещей М[ихаил] А[фанасьевич] подарил мне хорошие жемчужные серьги».
А ещё Булгаков преподнёс супруге меховую шубу из хорька и золотой портсигар. Были и другие ценные подарки…
Всё бы ничего, если бы не головные боли, которые стали вдруг мучительно донимать драматурга. Он жаловался на них всюду и всем. Окружавшие, кто как мог, старались помочь — дельным советом или лекарством. Сохранилась записка, которой 1 апреля 1928 года жена писателя‑ленинградца Евгения Замятина сопроводила пакет, отправленный гостившему в городе на Неве Булгакову:
«Посылаю Вам порошки, Михаил Афанасьевич. Должны излечиться моментально от своей головной боли».
Лекарство, видимо, помогло. Но не надолго. Вернувшись домой, Булгаков тут же написал Замятину:
«Москва встретила меня кисло, и прежде всего я захворал».
В это время в Москве (с 6 по 11 апреля) проходил Объединённый пленум ЦК и ЦКК ВКП(б). Страну оповестили о предстоявшем событии огромной чрезвычайности — сенсационном «Шахтинском деле». Газеты писали:
«Раскрыта контрреволюционная вредительская организация в Донбассе… Обнаруженный заговор вскрывает притупление коммунистической бдительности и революционного чутья наших работников в отношении классовых врагов… Будем беспощадно карать злостных саботажников и вредителей!»
С инженерно‑технической прослойкой тогдашнего советского общества Булгаков в ту пору почти не общался, поэтому «шахтинская» история его не заинтересовала. Всё его внимание было обращено тогда на состояние собственного здоровья. Чтобы немного подлечиться и хотя бы на время покинуть «линию огня», находившуюся под постоянным обстрелом недремлющих антибулгаковских «снайперов», он решил отправиться на юг.
Люди, располагающие свободным временем и достаточными средствами, в разного рода оздоровительные вояжи отправляются, как правило, регулярно. Обеспеченные граждане могут позволить себе позагорать на пляже и поплескаться в солёных морских волнах. Эти желания вполне естественны, в них нет ничего из ряда вон выходящего.
И в намерениях Булгакова съездить отдохнуть тоже не было бы ничего необычного, если бы не конечный пункт намеченного им маршрута. Он‑то и заставляет насторожиться. Слишком однозначные ассоциации возникают при упоминании этого города. Они‑то и дают основания предположить, что кроме обычных «лечебных» планов, кроме желания просто отдохнуть, у Булгакова были и другие намерения.
Снова Батум
В двадцатых числах апреля 1928 года с Курского вокзала столицы отошёл поезд, следовавший на Кавказ. В одном из спальных вагонов отдельное купе занимали супруги Булгаковы.
22 апреля, выйдя во время стояки на станции Гудермес, Михаил Афанасьевич бросил в почтовый ящик открытку — в Ленинград, Замятину. В ней была фраза:
«Совершенно больной еду в Тифлис».
Ту же поездку впоследствии описала в своих «Воспоминаниях» и Любовь Евгеньевна:
«1928 год. Апрель… И вдруг Михаилу Афанасьевичу загорелось ехать на юг, сначала в Тифлис, а потом через Батум в Зелёный Мыс. Мы выехали 21 апреля днём в международном вагоне, где, по словам Маки, он особенно хорошо отдыхает».
Любовь Евгеньевна назвала точную дату отъезда. Запомнилось ей, и что поезд отправился «днём». Не забыла она указать, что вагон был «международный». А вот о самочувствии мужа не упомянула ни единым словечком.
Скорее всего, потому, что упоминать было не о чем: Михаил Афанасьевич чувствовал себя абсолютно нормально.
Кстати, и всю минувшую зиму Булгаков на здоровье не жаловался — ходил на лыжах, катался на коньках, много и увлечённо играл в карты. И настроение у него было отличное.
А в открытке, отправленной из Гудермеса, говорится, что едет он не просто больной, а «совершенно больной».
Для чего понадобилась эта явная дезинформация?
Не для того ли, чтобы лишний раз напомнить широкой общественности о том, как отразился на прославленном драматурге незаслуженный отказ ему в зарубежной визе? Не для того ли, чтобы заранее предупредить о том, что все дальнейшие шаги, которые будут им предприняты, станут совершаться в «совершенно больном» состоянии?
Иными словами, обиженный Булгаков как бы предупреждал советскую власть, что на юг ему «загорелось ехать» совсем не случайно.
Между тем поезд, на котором драматург покинул Москву, шёл по тому же самому маршруту (через Тифлис в Батум), по которому в 1921 году Михаил Афанасьевич бежал из Владикавказа. Тогда, как мы помним, Булгаков намеревался перебраться в Турцию. Не планировал ли он и в этот раз покинуть страну?
В 1921‑ом он был никому неизвестным литератором. К тому же и деньги тогда у него кончились, так что нанять перевозчика‑контрабандиста было просто не на что. А теперь он стал знаменит. Его узнали в Европе. И в средствах он не нуждался. Почему же не позволить себе…?
Никакими документальными подтверждениями выдвинутой нами версии мы не располагаем. В нашем распоряжении лишь косвенные свидетельства. Но именно они упрямо наводят на мысль, что вариант с бегством Булгакова через Батум за границу в 1928 году не так уж и фантастичен.
Но вернёмся к самому путешествию.
В Грузии супругов Булгаковых встречали исключительно тепло и гостеприимно. В тот момент в Тифлисе гастролировал Малый театр, и Михаил Афанасьевич с Любовью Евгеньевной пошли на «Ревизора». Перед началом спектакля гостям из Москвы показали местную достопримечательность: в ложе восседала скромно одетая старушка. Это была мать Сталина.
Потом Булгаковы отправились в Батум…
Однако бегство за рубеж не состоялось.
Во‑первых, потому, что советская власть искоренила контрабандистов. Во‑вторых, в Грузию дошли слухи об очередном антибулгаковском решении Главреперткома, что потребовало срочного личного участия драматурга в рассматривавшемся деле.
К сожалению, достоверных свидетельств, которые однозначно объяснили бы мотивы поведения Михаила Афанасьевича, в нашем распоряжении, повторяем, нет. Доподлинно известно лишь то, что из Батума по Военно‑Грузинской дороге супруги Булгаковы добрались до Владикавказа, а оттуда отправились в Москву.
Правда, существует небольшое косвенное подтверждение версии «бегства».
Что должен чувствовать человек, всерьёз вознамерившийся покинуть родину, но по каким‑то причинам не сумевший осуществить свою мечту? Досаду. Огромную досаду! Было ли у Булгакова это чувство?
Сохранилось свидетельство Татьяны Николаевны, которая рассказала, что по возвращении с Кавказа её навестил бывший супруг. И принялся вдруг укорять её за то, что она не увезла его из Владикавказа вместе с отступавшей белой армией. И вновь стал назвать бывшую жену «несильной женщиной» («Жизнеописание Михаила Булгакова»):
«Если бы ты была сильной, ты бы сумела вывезти меня больного!»
Уже четыре года были они в разводе. Семь лет прошло с тех пор, как покинули Кавказ. Что же побудило Михаила Афанасьевича вспоминать столь давний эпизод и предъявлять претензии бывшей супруге?
Горькая досада!
Досада из‑за того, что сорвались планы, на осуществление которых он так надеялся. Вот и пришлось выпускать накопившийся «пар», срывая раздражение на ни в чём не повинном человеке.
Таким образом, воспоминания Татьяны Николаевны — единственное косвенное подтверждение того, что в 1928 году Булгаков и в самом деле собирался нелегально покинуть родину.
Возобновление нападок
9 мая 1928 года центральные газеты сообщили, что Главрепертком в очередной раз запретил «Бег».
18 мая вернувшийся с Кавказа Булгаков вновь обратился в ОГПУ с требованием вернуть дневники, изъятые у него при обыске.
А 9 июня «Вечерняя Москва» с нескрываемой радостью проинформировала читателей о том, что принято решение снять с репертуара «Зойкину квартиру». Спектакль ещё шёл, но «смертный» приговор ему уже был вынесен. С «Днями Турбиных», как сообщала газета, решили тоже не церемониться: спектакль оставлялся лишь до момента постановки «первой новой пьесы».
30 июня «Известия» довели до всеобщего сведения, что объявленный ранее запрет «Бега» утверждён коллегией Наркомпроса. Критик А. Селивановский в одной из статей тут же объяснил, что иначе и быть не могло, поскольку «Бег» — «самая реакционная пьеса наших дней».
Положение казалось безнадёжным.
И тут на защиту Булгакова встал сам глава советского правительства А.И. Рыков, направивший сердитое письмо тогдашним руководителям Наркомпроса и Главискусства:
2 июля 1928 года
товарищам Луначарскому и Свидерскому
“ Зойкину квартиру“ опять сняли с репертуара театра Вахтангова, несмотря на неоднократные возражения высших органов. Предлагаем отменить это решение.
Председатель Совета Народных Комиссаров А.И. Рыков
Заместитель председателя Совнаркома РСФСР А.П. Смирнов».
В одной из «агентурно‑осведомительных сводок», преданной в наши дни гласности, содержится любопытная информация, предназначавшаяся высшему руководству ОГПУ:
«Один из артистов театра Вахтангова, О. Леонидов, говорил:
— Сталин раза два был на „Зойкиной квартире“. Говорил с акцентом: «Хорошая пьеса. Не понимаю, совсем не понимаю, за что её то разрешают, то запрещают. Хорошая пьеса, ничего дурного не вижу».
Так, благодаря «сигналу» лубянского информатора, нам теперь известно, что среди тех, кто был на стороне «Зойкиной квартиры», находился и И.В. Сталин. Однако это не защитило Булгакова от яростных нападок. Центральные газеты продолжали дружно клеймить «булгаковщину». В известинской статье «За чёткую классовую линию на фронте культуры» прямо говорилось:
«Булгаковщина — нарицательное выражение буржуазного демократизма, смеховеховщина в театральном творчестве, — составляет ту классовую атмосферу, в которой предпочитает жить и дышать буржуазный интеллигент в советском театре».
Под прицельным обстрелом ортодоксальной критики оказался не один Михаил Булгаков. Илья Сельвинский, ставший к тому времени профессиональным поэтом, летом 1928‑го опубликовал роман в стихах «Пушторг». Автора поэмы тут же обвинили в попытке столкнуть, поссорить беспартийных интеллигентов с членами партии. И в критических статьях, нещадно искоренявших чуждую пролетариату «булгаковщину», с той же ожесточённостью принялись преследовать и не менее вредную «сельвинщину».
Между тем сторонники «Бега» тоже не дремали. Один из них, руководитель Главискусства Алексей Свидерский, направил письмо в ЦК партии. Оно было адресовано уже знакомому нам защитнику «Зойкиной квартиры» Александру Петровичу Смирнову (партийная кличка «Фома»), которого к тому времени перевели из Совнаркома РСФСР в аппарат Центрального комитета:
«Совершенно секретно
секретарю ЦК В КП (б) товарищу Смирнову А.П.
На театральном фронте происходят явления, на которых нельзя не остановиться. К этим явлениям надо отнести репертуарный кризис, который усугубляется действиями Главреперткома.
Если пьеса имеет революционную тему, если белые и буржуазия показаны в отрицательном освещении, а красные — в положительном, и если пьеса имеет благоприятный в социалистическом смысле конец, то такая пьеса признаётся „советской“.
Если пьеса не написана на непосредственно революционную тему, если белые и буржуазия обнаруживают кое‑какие положительные свойства (не насилуют женщин, не крадут, рассуждают о благе общества, и т. п.), если красные показаны в сероватых тонах, и если пьеса не оканчивается „хорошим „концом, то такая пьеса рискует быть объявленной „несоветской“.
Ярким примером такого роды оценок может служить судьба пьесы „Бег“. Этой пьесе ставятся в вину следующие преступления:
1. Имя автора — Булгаков. Так и говорят: это тот, который сочинил „Дни Турбиных“ и „Зойкину квартиру“. Нам „булгаковщины“ не надо!..»
Перечислив ещё пять преступлений, найденных в «Беге» реперткомовцами, Свидерский подводил итог:
«На заседаниях Художественного совета Главреперткома делаются заявления, что мы „так выросли“, что можем обойтись продукцией „своих“ драматургов, и нам не надо продукции драматургов „не наших“. Чудовищность такого рода заявления очевидна».
9 октября 1928 года в Московском Художественном театре состоялась очередная читка «Бега». На ней присутствовали А.М. Горький и А.И. Свидерский. Во время обсуждения Алексей Максимович активно поддержал Булгакова, в частности, сказав:
«Когда автор здесь читал, слушатели — и слушатели искушённые! — смеялись. Это доказывает, что пьеса очень ловко сделана…
„Бег“ — великолепная вещь, которая будет иметь анафемский успех, уверяю вас».
Выступил в защиту «Бега» и Свидерский, который заявил:
«Если пьеса художественна, то мы, как марксисты, должны считать её советской. Термин „советская“ и „антисоветская “ пьеса надо отставить».
Даже партаппаратчик Платон Керженцев дрогнул, заявив:
«Если „Бег“ разрешат, то надо отнять его у МХТа и передать театру Вахтангова, который сумеет поставить его пореволюционному».
Впрочем, к этому предложению не прислушались. Немирович‑Данченко, завершая обсуждение, высказался так:
«Когда Главрепертком увидит пьесу на сцене, возражать против её постановки едва ли будет».
Через несколько дней начал свою работу пленум ЦК Всерабис (Всесоюзного объединения работников искусств). Выступивший на нём Алексей Свидерский повторил ещё раз:
«Из всех прочитанных мною пьес лучшая пьеса — „Бег “, которая содержит в себе элементы художественности. Если она будет поставлена, она произведёт сильнейшее впечатление».
Заступничество столь уважаемых людей произвело впечатление на цензоров, и запрет с пьесы был снят. 10 октября 1928 года театр приступил к репетициям. На следующий день «Правда» сообщила:
«МХАТ принял к постановке „Бег“ Булгакова».
Обрадованный Булгаков тотчас заключил договор на «Бег» с Ленинградским Большим драматическим театром и отправился по делам в Тифлис. С дороги (где‑то после Харькова) послал жене открытку:
«Дорогой Любая,
я проснулся от предчувствия под Белгородом. И точно: в Белгороде мой международный вагон выкинули к чёрту, т. к. треснул в нём болт. И я еду в другом не международном вагоне. Всю ночь испортили…»
Несмотря на явное пессимистическое содержание открытки, чувствуется, что настроение у Булгакова приподнятое, всё происходящее с ним он воспринимает с юмором. Разрешение «Бега» повлияло на писателя благотворно.
О том, как признание второй «белой» булгаковской пьесы встретила общественность, хорошо видно из агентурной сводки, присланной из Ленинграда:
«… газетная заметка о том, что пьеса „Бег“ была зачитана в Художественном театре и произвела положительное впечатление и на Горького, и на Свидерского, вызвала в Ленинграде своего рода сенсацию.
В лит[ературных] и театр[альных] кругах только и разговоров, что об этой пьесе. Резюмируя отдельные взгляды на разговоры, можно с несомненностью утверждать, что независимо от процента антисоветской дозы пьесы „Бег“ её постановку можно рассматривать как торжество и своеобразную победу антисоветски настроенных кругов.
Кроме того, пришлось слышать, что в Москве к „Бегу „не все относятся положительно, что у пьесы есть серьёзные противники…
В самый последний момент распространился слух, что пьеса „Бег“ будет разрешена только в Москве и ни в коем случае в провинции».
О «серьёзных противниках» булгаковской пьесы агент‑осведомитель сообщал правду — Главрепертком не желал признавать своё поражение. И как только 13 октября Горький (по настоянию врачей) покинул Москву, чтобы вернуться в Италию, «противники» начали действовать. 15 октября в ЦК партии был направлен донос:
«Совершенно секретно
ЦК В КП (б)
отдел агитации и пропаганды
Доводим до Вашего сведения, что руководитель Главискусства Свидерский дал следующую оценку реакционной эмигрантской пьесе Булгакова „Бег“: Это, сказал он, лучшая из всех прочитанных мною пьес. Постановка её будет иметь большое значение…
На заседании коллегии, в присутствии беспартийной части аппарата Главискусства, представителей МХАТ‑1 и газетных корреспондентов тов. Свидерский заявил, что Главрепертком «душит творчество авторов» и «своими бюрократическими методами регулирования обостряет репертуарный кризис».
Председатель Главреперткома Фёдор Раскольников».
В.И. Лосев, составитель книги «Михаил Булгаков. Дневник. Письма», так рассказывал о дальнейших событиях:
«22 октября Главрепертком подтвердил своё майское решение о запрещении пьесы. Мнение Свидерского не было принято во внимание, хотя он заявил, что „Бег „окажется лучшим спектаклем в сезоне».
Даже сообщение мхатовского режиссёра Ильи Судакова (он должен был ставить «Бег») о том, что он читал пьесу «в очень высокой аудитории, где пьеса нашла другую оценку», не повлияло на позиции цензоров. Атмосфера на заседании была «совершенно кровожадной».
Вновь обратимся к комментариям В.И. Лосева:
«Лидеры РАППа — Л. Авербах, В. Киршон, П. Новицкий,
А. Орлинский и другие — задавали тон на обсуждении и определили ход заседания. Отрицательное решение Главреперткома по пьесе послужило сигналом прессе к массированной атаке на её автора и на МХАТ…».
И, как по команде, антибулгаковская кампания стала вновь набирать обороты.
23 октября «Комсомольская правда» опубликовала статью под заголовком «Бег назад должен быть остановлен». От «Комсомолки» не отставали другие газеты, в которых булгаковский «Бег» громили Л. Авербах, В. Киршон, О. Литовский, Р. Пикель, Г. Рыклин, Ф. Раскольников и многие, многие другие.
Агенты‑осведомители доносили по начальству о настроениях среди литераторов и артистов. Так, в одной из агентурных сводок, написанных 31 октября 1928 года, говорилось:
«… замечается брожение в литературных кругах по поводу «травли» пьесы Булгакова „Бег“, иронизируют, что пьесу „топят“ драматурги‑конкуренты, а дают о ней отзывы рабочие, которые ничего в театре не понимают и судить о художественных достоинствах пьесы не могут».
Другой доносчик, явно следивший за каждым шагом и за каждым словом писателя, сообщал 31 октября о высказываниях своего «подопечного» относительно руководителей ОГПУ и заправил Федерации советских писателей:
«О „Никитинских субботниках“ Булгаков высказывал уверенность, что они — агентура ГПУ.
Об Агранове Булгаков говорил, что он друг Пильняка, что он держит в руках „судьбы русских литераторов“, что писатели, близкие к Пильняку и верхушкам Федерации, всецело в поле зрения Агранова, причём ему даже не надо видеть писателя, чтобы знать его мысли».
15 ноября газета «Рабочая Москва» вышла с призывом: «Ударим по булгаковщине!». Вслед за этой хлёсткой фразой следовали два подзаголовка: «Бесхребетная политика Главискусства» и «Разоружим классового врага в театре, кино и литературе». Именно так газета подавала отчёт о совещании в Московском Комитете партии, на котором столкнулись две точки зрения. Одна принадлежала заместителю заведующего отделом агитации и пропаганды ЦК ВКП(б) Платону Керженцеву, другая — его оппоненту Алексею Свидерскому:
«Собравшиеся 13 ноября в Красном зале МК партийцы, работающие в области искусства, обсуждали ближайшие задачи партии в вопросах искусства и литературы.
— Возьмите литературу, — сказал тов. Керженцев в своём вступительном слове, — поскребите значительную часть произведений т[ак] называемых] попутчиков, и под красной обложкой вы увидите лицо злобствующего мещанина. Сельвин‑ский в „Пушторге „пытается сеять рознь между компартией и интеллигенцией…»
Затем Керженцев ударил и по Булгакову, пытающемуся «протолкнуть на советскую сцену» белогвардейскую пьесу «Бег». «Рабочая Москва» с откровенной усмешкой сообщила читателям о том, какие «жалкие попытки» предпринял руководитель Главискусства в своё оправдание:
«Тщетно пытался тов. Свидерский сложить с себя вину за постановку „Бега“. Тщетно апеллировал он к решениям высших инстанций — они, мол, разрешили. Собрание осталось при своём мнении, которое ещё больше укрепилось, когда тов. Свидерский, припёртый к стенке, заявил:
— Я лично стою за постановку „Бега“, пусть в этой пьесе есть много нам чуждого — тем лучше, можно будет дискуссировать».
«Припёртыми к стенке» на том совещании оказались не только Свидерский, Сельвинский и Булгаков. Керженцев впрямую заявил, что репертуар театров переполняет «чуждая нам идеология», что в кино царит «духэсеровщины и детектива», что в изобразительном искусстве «нет ничего, что можно назвать массовым, сюжеты чужды политике, мещанские, мелкобуржуазные», что в литературе проявляется «буржуазное и мелкобуржуазное влияние». Одним словом, куда ни глянь, всюду — «враждебная идеология»!
Таким образом, «чуждыми» и «враждебными» объявлялись все, чьё творчество претило вкусам руководящих работников О тдела А гитации и П ропаганды Ц ентрального К омитета партии. Запомним эти сочетания букв: ОАП ЦК. Они нам ещё встретятся.
В тот же день в «Комсомольской правде» Фёдор Раскольников снова потребовал: Шире развернуть кампанию против «Бега»]
В «Мастере и Маргарите» есть эпизод, из которого можно представить, что должен был чувствовать Михаил Булгаков, когда газеты публиковали одну ругательную статью за другой. Главный герой романа, мастер, вспоминая о разразившейся над ним буре убийственной критики, сказал, что она…
«… как бы вынула у меня часть души… Именно, нашла на меня тоска, и появились какие‑то предчувствия. Статьи… не прекращались. Над первыми из них я смеялся. Но чем больше их появлялось, тем более менялось моё отношение к ним. Второй стадией была стадия удивления. Что‑то на редкость фальшивое и неуверенное чувствовалось буквально в каждой строчке этих статей, несмотря на их грозный и уверенный тон… А затем, представьте, наступила третья стадия…»
О «третьей стадии» — чуть позднее. А сейчас — о том совершенно невероятном событии, которое произошло в самый разгар антибулгаковского вакханалии.
В это трудно было поверить.
Это казалось результатом какого‑то сказочного колдовства.
Но это случилось.
Тот самый Главрепертком, что так нещадно преследовал Булгакова, вдруг дал разрешение на его новое творение.
Неожиданный реванш
К написанию пьесы, предназначавшейся для Камерного театра, которым руководил выдающийся режиссёр А.Я. Таиров, Михаил Булгаков приступил ещё в начале 1926 года. Во всяком случае, 30 января он заключил договор, в соответствии с которым должен был инсценировать свой юмористический рассказ «Багровый остров» (или же повесть «Роковые яйца»).
Весной 1927 года пьеса была написана, и театр готовился приступить к репетициям. Ждали лишь разрешения от Главреперткома. Однако ожидание затянулось…
Прошло около полутора лет, и вдруг 26 сентября 1928 года «Известия» напечатали небольшое сообщение:
«Главреперткомом разрешена к постановке в Камерном театре новая пьеса М.Булгакова „Багровый остров“».
Уже на следующий день в письме в Ленинград (Замятину) Михаил Афанасьевич так прокомментировал нежданную новость:
«Что касается этого разрешения, то не знаю, чего сказать. Написал „Бег“. Представлен.
А разрешён „Багровый остров “.
Кто? Что? Почему? Зачем?
Густейший туман окутывает мозги».
Но, чем бы ни руководствовались грозные реперткомовцы, разрешение они всё‑таки дали. И через два месяца с небольшим (И декабря 1928 года) состоялась премьера спектакля.
Булгаковский «Багровый остров» вполне можно назвать автобиографией наоборот, так как драматург применил в ней метод «от противного». Он как бы предлагал посмотреть, что бы произошло, если бы он (насмешник‑фельетонист Булгаков) предложил советскому театру не «Белую гвардию», а «до мозга костей идеологическую» пьесу, рассказывавшую о революционной борьбе красных туземцев с белыми арапами в далёкой экзотической стране под названием Багровый остров…
Подобное «неожиданное» содержание требовало для своего воплощения и не менее неожиданной формы. И драматург нашёл её, создав искромётную пародию на псевдореволюционные поделки, которые наводняли в ту пору сцены театров страны Советов. Булгаковская пьеса высмеивала ходульные режиссёрские приёмы, от души потешалась над набившими оскомину актёрскими штампами, имевшими хождение в тогдашней театральной среде.
Вспомним содержание пьесы.
Булгаков предлагал заглянуть в один из советских театров, где проходит сдача спектакля высокому начальственному лицу — Савве Лукичу. Весь театральный коллектив во главе со своим директором Геннадием Панфиловичем, что называется, ложится костьми, чтобы заполучить желанное «разрешеньице», сулящее солидные кассовые сборы…
Но начальственному лицу не до театральных забот — оно собирается в отпуск и потому прибывает в театр лишь к финалу разыгрываемого ради него действа. Когда же представление заканчивается, грозный Савва Лукич объявляет пьесу контрреволюционной.
Автор пьесы в панике, директор театра в недоумении. И Ради желанного «разрешеньица» (из начальственных уст) Геннадий Панфилович готов идти на любые купюры и исправления. И добивается‑таки своего!
Однако битва за благосклонность начальства — это лишь канва представления. Стержнем его является пьеса, которую (под псевдонимом Жюль Верн) написал некий Василий Артурович Дымогацкий. В ней в наишаржированном виде изображены события, в которых без труда узнаются революция и гражданская война, ещё совсем недавно потрясавшие Россию.
Даже то, как рекламировался спектакль на театральных афишах, вызывало оторопь у многочисленных ортодоксов:
«„БАГРОВЫЙ ОСТРОВ“. Генеральная репетиция пьесы гражданина Жюль Верна в театре Геннадия Панфиловича с музыкой, извержением вулкана и английскими матросами».
Иными словами, это был весёлый фарс, остроумно пародировавший Октябрьскую революцию, гражданскую войну и последовавшую вслед за ними советскую эпоху. В белом арапе Сизи‑Бузи 2‑ом легко узнавался царь Николай Второй, в проходимце Кири‑Куки — Керенский, а в двух «положительных туземцах» Кай‑Куме и Фарра‑Тете — вожди Октября Ленин и Троцкий. Зрители смеялись от души, увидев на сцене новейшую историю страны, преподнесённую им в неожиданном юмористическом ракурсе. С хохотом наблюдали они и за публичной поркой, устраиваемой «саввам лукичам» и им подобным.
Слегка перефразировав самого Булгакова, можно сказать, что вместе с Камерным театром он…
«… в лоск укладывал московскую публику».
Стоит ли удивляться тому, что официальная критика встретила «Багровый остров» в штыки. Спектакль тотчас же назвали «издевательством над святыми чувствами простых советских тружеников». В посыпавшихся в О ГПУ доносах творчеству Михаила Булгакова давались ещё более жёсткие оценки:
«Советские люди смотрят на него как на враждебную соввласти единицу, использующую максимум легальных возможностей для борьбы с советской идеологией. Критически и враждебно относящиеся к соввластям буквально „молятся „на Булгакова, как на человека, который, будучи явно антисоветским литератором, умудряется тонко и ловко пропагандировать свои идеи».
Через два года в своём письме правительству СССР Булгаков напомнит о той критической атаке, которой подвергся «Багровый остров»:
«Вся критика СССР, без исключений, встретила эту пьесу заявлением, что она „бездарна, беззуба, убога „и что она представляет „пасквиль на революцию“.
Единодушие было полным, но нарушено оно было внезапно и совершенно удивительно.
В № 22 “ Реперт[уарного] Бюл[летеня] „(1928 г.) появилась рецензия П. Новицкого, в которой было сообщено, что „Багровый остров“ — „интересная и остроумная пародия“, в которой „встаёт зловещая тень Великого Инквизитора, подавляющего художественное творчество, культивирующего рабские подхалимски‑нелепые драматургические штампы, стирающего личность актёра и писателя“, что в „Багровом острове „идёт речь о „зловещей мрачной силе, воспитывающей илотов, подхалимов и панегиристов… “ Сказано было, что „если такая мрачная сила существует, негодование и злое остроумие прославленного буржуазией драматурга оправдано“…
Я не берусь судить, насколько моя пьеса остроумна, но я сознаюсь в том, что в пьесе действительно встаёт зловещая тень и эта тень Главного Репертуарного Комитета. Это он воспитывает илотов, панегиристов и запуганных „услужающих». Это он убивает творческую мысль. Он губит советскую драматургию и погубит её…
Борьба с цензурой, какая бы она ни была и при какой бы власти она ни существовала, — мой писательский долг, так же, как и призывы к свободе печати. Я горячий сторонник этой свободы и полагаю, что если кто‑нибудь из писателей задумал бы доказывать, что она не нужна, он уподобился бы рыбе, публично уверяющей, что ей не нужна вода».
Но эти слова Булгаков выскажет через два года. А в 1928‑ом…
Л.Е. Белозёрская писала:
«Вспоминаю, как постепенно распухал альбом вырезок с разносными отзывами, и как постепенно истощалось стоическое к ним отношение со стороны М.А. и попутно истощалась и нервная система писателя: он становился раздражительней, подозрительней, стал плохо спать, начал дёргать плечом и головой (нервный тик)».
Тем временем кампания по травле писателя достигла апогея. Для того чтобы поставить на Булгакове и на его творчестве окончательный крест, оставалось лишь подыскать подходящий повод.
Приостановка «Бега»
То, что в Камерном театре весело играли «Багровый остров», можно считать маленькой, но всё же победой Михаила Булгакова. Ведь на трёх московских сценах с успехом шли его пьесы: драма, комедия и фарс.
Этот непродолжительный период в жизни драматурга можно назвать порой благополучия. Семья Булгаковых давно уже ни в чём не нуждалась, и Любовь Евгеньевна с лёгким сердцем могла позволить себе заняться чем‑нибудь необязательным, но престижным. Сначала она стала пропадать в манеже, где брала уроки верховой езды. Затем ей захотелось ещё чего‑то «несбыточно‑сказочного», и появились другое экстравагантное увлечение, о котором она поведала в своих «Воспоминаниях»:
«Пока длится благополучие, меня не покидает одна мечта. Ни драгоценности, ни туалеты меня не волнуют. Мне хочется иметь маленький автомобиль…
Я… поступила на 1‑е государственные курсы шофёров при Краснопресненском райсовете, не переставая ходить в манеж на верховую езду…
На шофёрских курсах… я была единственная женщина. (Тогда автомобиль представлялся чем‑то несбыточно сказочным.)».
Однако идиллическое состояние безоблачного счастья то и дело омрачалось громовыми раскатами, исходившими с той стороны «фронта», где окопались булгаковские недруги, жаждавшие полного искоренения «булгаковщины».
Вот фрагмент статьи И. Бачелиса в «Комсомольской правде»:
«Булгаков назвал „Бег“ пьесой „в восьми снах“. Он хочет, чтобы мы восприняли её, как сон; он хочет убедить нас в том, что следы истории уже заметены снегом; он хочет примирить нас с белогвардейщиной.
И, усыпляя этими снами, он потихоньку протаскивает идею чистоты белогвардейского знамени, он пытается заставить нас признать благородство белой идеи и поклониться в ноги этим милым, хорошим, честным, доблестным и измученным людям в генеральских погонах.
И хуже всего то, что нашлись такие советские люди, которые поклонились в ножки тараканьим „янычарам“! Они пытались и пытаются протащить булгаковскую апологию белогвардейщины в советский театр, на советскую сцену, показать эту написанную посредственным богомазом икону белогвардейских великомучеников советскому зрителю.
Этим попыткам должен быть дан самый категорический отпор».
В декабре 1928 года один из тогдашних заправил Российской Ассоциации пролетарских писателей (РАППа), Александр Фадеев, заявил в журнале «На литературном посту»:
«… Булгаковых рождают социальные тенденции, заложенные в нашем обществе. Замазывать и замалчивать правую опасность в литературе нельзя. С ней надо бороться».
И эта борьбы была в разгаре. Борьба бескомпромиссная, жестокая. Не на жизнь, а на смерть.
Наступил год 1929‑ый. Советским людям он принёс новые нелёгкие испытания. К весне на биржах труда было зарегистрировано 9,8 миллионов безработных. Занять такую армию неработавших людей могли лишь крупномасштабные стройки. И большевики начали строить гигантские заводы, прокладывать грандиозные каналы.
Через год Борис Пильняк напишет роман «Волга впадает в Каспийское море». В нём будут такие слова:
«В тысяча девятьсот двадцать девятом году в России мало смеялись, строительству я».
Самой главной стройкой той поры был Днепрогэс, на него советское правительство делало особую ставку. Но Горький, ненадолго заглянувший из Италии на родину, сказал поэту Самуилу Маршаку:
«Наше правительство? Лодыри! В подкидного дурака играют!.. Днепрострой — сумасшедшая затея!»
В литературном мире страны Советов тоже было неспокойно, со всех трибун неслись воинственные возгласы — это громили «пильняковщину», «замятинщину», «булгаковщину», «сельвинщину».
Отдел агитации и пропаганды ЦК ВКП(б) подготовил специальную справку, названную «Пьеса «Бег» Булгакова». Этот документ завершался весьма категоричной рекомендацией:
«Постановка „Бега “ в театре, где идут „Дни Турбиных“ (и одновременно с однотипным „Багровым островом“), означает укрепление в Художественном театре той группы, которая борется против революционного репертуара… Для всей театральной политики это было бы шагом назад и поводом к отрыву одного из сильных наших театров от рабочего зрителя…
Необходимо воспретить пьесу „Бег“ к постановке и предложить театру прекратить всякую предварительную работу над ней (беседы, читка, изучение ролей и пр.)»
Агитпроповскую справку подписал П.М. Керженцев. Её направили в политбюро, членам которого и предстояло решить судьбу булгаковской пьесы. «Бег» рассматривали на нескольких заседаниях. Вот выдержки из протоколов:
«Протокол № 59 от 10 января 1929 года.
Строго секретно
3. О пьесе М. Булгакова „Бег“.
Постановили:
3. Отложить».
Члены политбюро стали раздумывать…
И вдруг 11 января убивают бывшего белого генерала Я. А. Слащёва, которые многие считали прототипом булгаковского Хлудова.
Дело с «Бегом» приобретало новый, довольно неожиданный оттенок. Поэтому, когда через шесть дней политбюро собралось на очередное заседание, вожди приняли решение:
«Протокол № 60 от 17 января 1929 года.
Строго секретно
Опросом от 14.1.29.
21. О пьесе М. Булгакова „Бег“.
Постановили:
21. Передать на окончательное решение т.т. Ворошилова, Кагановича и Смирнова А.П.».
В течение трёх дней члены образованной «тройки» пытались «решить» порученный им «вопрос». Но так и не смогли прийти к единому мнению. И тогда Ворошилов попросил у коллег по политбюро дать «тройке» ещё кого‑нибудь на подмогу:
«Протокол № 60 от 17 января 1929 года.
Строго секретно
Опросом от 17.1.29.
41. О пьесе М. Булгакова „Бег“.
Постановили:
41. Ввести в состав комиссии по просмотру пьесы т. Томского».
Теперь судьбу восьми булгаковских «снов» решала уже не какая‑то «тройка», а солидная «комиссия», составленная из трёх членов политбюро (Ворошилова, Кагановича, Томского) и секретаря Центрального Комитета партии (Смирнова).
Тем временем 25 января во МХАТе состоялась очередная репетиция «Бега». Ей суждено было стать последней, потому что высокая партийная «комиссия» пришла, наконец, к окончательному решению. О нём Клим Ворошилов доложил:
«По вопросу о пьесе Булгакова „Бег“ сообщаю, что члены комиссии ознакомились с её содержанием и признали политически нецелесообразным постановку этой пьесы в театре».
Членов политбюро персонально опросили. Кто‑то из них (скорее всего, Сталин) предложил слово «политически» в окончательную формулировку не вставлять. И вскоре решение партийного ареопага было занесено на бумагу:
«Протокол № 62 от 31 января 1929 года.
Строго секретно
Опросом от 26.1.
23. О пьесе Булгакова „Бег“.
Постановили:
23. Принять предложение комиссии ПБ о нецелесообразности постановки пьесы в театре».
«Бег» не запрещался, нет. Но его постановка в театрах страны признавалась «нецелесообразной».
Не трудно себе представить, как встретил сообщение о судьбе своей пьесы Михаил Булгаков. Белозёрская вспоминала:
«… ужасен был удар, когда её запретили. Как будто в доме объявился покойник».
Но кого интересовало тогда самочувствие поверженного драматурга? Те, от кого зависела его творческая судьба, больше заботились о том, как бы поскорее добить дерзкого пересмешника. Для этого не хватало самой малости последнего веского слова высшей власти. И оно ждать себя не заставило.
Завершающий удар
Осенью 1928 года Булгаков узнал, что все издательства, печатавшие его произведения за рубежом, так или иначе связаны с Каганским. И весь гонорар, причитающийся за опубликованные произведения и за поставленные в европейских театрах пьесы, получает тоже он — Захар Леонтьевич Каганский, называвший себя полномочным представителем Булгакова за рубежом.
Для Михаила Афанасьевича это была очередная неприятность.
А в стране в это время развернулась другая трескучая кампания — антимейерхольдовская.
Всё началось с того, что Всеволод Мейерхольд неожиданно для всех выехал за рубеж. Якобы на отдых. Незадолго до этого с той же целью отправился за границу актёр и режиссёр Михаил Чехов. Да там и остался. Поэтому мало кого удивил поползший по Москве слух, что и Мейерхольд возвращаться на родину не собирается.
И тотчас (как по мановению волшебной палочки) прославленный режиссёр и его театр были подвергнуты беспрецедентной травле. Газеты требовали лишить коварного невозвращенца звания народного артиста, а театр имени Мейерхольда немедленно распустить.
Общество раскололось на тех, кто был «за» режиссёра, и на тех, кто был решительно «против». Первые считали, что каждый «творец» имеет право отдохнуть от трудов праведных, вторые были против зарубежных поездок творческих личностей вообще и Мейерхольда, в частности.
В октябре на очередном пленуме РАППа (Российской ассоциации пролетарских писателей) страсти раскалились до предела. Руководители этой организации (Леопольд Авербах, Владимир Киршон и другие) взяли Мейерхольда и его театр «под безоговорочную защиту», подвергнув резкой критике противников не возвращавшегося на родину режиссёра. Особенно досталось драматургу Билль‑Белоцерковскому, которому, как говорили тогда, выдали на всю катушку…
«… окрестив его „деклассированным люмпеном “ „врагом пролетарской литературы“, „неучем, страдающим бездной чванливого бескультурья“».
(Из письма в ЦК ВКП(б) группы драматургов‑коммунистов)
Напомним современным читателям об «ошельмованном» «классовом враге» Билль‑Белоцерковском. В шестом томе Большой Советской энциклопедии (1927 года издания) о нём сказано следующее:
«Билль‑Белоцерковский Владимир Наумович (р. 1884) рус‑[ский] драматург. Окончил трёхклассное городское училище. Матрос торгового флота, рабочий на американским] заводе, окномой „небоскрёбов“, полотёр, кочегар, землекоп на плантациях и т. д. Побывал во всех частях света. В 1917 прибыл в Москву и вступил в РСДРП(б)… принял активное участие в Октябрьской Революции и был ранен… Из пьес Б[илль]‑Б[елоцерковского] наиболее интересен „Шторм“ — суровое и острое изображение гражданской войны».
Раскритикованные «антимейерхольдовцы» кровно обиделись и покинули ряды РАППа. А 19 января 1929 года ещё и написали коллективную жалобу, направив её в отдел агитации и пропаганды ЦК ВКП(б). Копия письма была послана лично товарищу Сталину Обиженные писатели жаловались на руководителей РАППа и его печатного органа, журнал «На литературном посту»:
«… руководство „На лит. посту“ (персонально т. Авербах и особенно Киршон) не останавливаются перед дискредитацией не только ставшего неугодного им Билль‑Белоцерковского (прежде восхваляемого „как драматурга рабочего класса!“), но и его новой пьесы.
Мы просим Вас положить конец подобным методам литературной борьбы.
К нашему пожеланию — ПРИЗВАТЬ „ВОЖДЕЙ“ РАППа к ПОРЯДКУ — присоединяется ряд коллективов, резолюции которых против травли Билль‑Белоцерковского мы прилагаем».
Вслед за этим письмом группа протестующих литераторов сочинила второе:
«Генеральному секретарю ЦК В КП (б)
Дорогой товарищ Сталин!
Вследствие безответственной деятельности верхушки Российской Ассоциации Пролетарских Писателей на литературном фронте создалось крайне нетерпимое положение…
… продолжается ожесточённая травля и шельмование как „классовых врагов“ таких т.т. как Билль‑Белоцерковский, Ф. Гладков и других.
Не чувствуя над собою достаточно твёрдого партийного контроля (т. Керженцев сам идёт у них на поводу), РАППовцы не стесняются в средствах и обливают грязью всех, кто протестует против их беспринципного вредного политиканства.
Перечисляя эти факты и прилагая материалы…. мы обращаемся к Вам, тов. Сталин, исчерпав все средства в борьбе за единство пролетарской литературы и за правильное идеологическое руководство».
Далее писатели‑коммунисты скрупулёзно перечислили просчёты, допущенные властью в борьбе с «правой» опасностью. А также назвали имена тех, от кого, по их мнению, на самом деле исходит угроза советским литературе и искусству Ими оказались драматург Булгаков и дирижёр Большого театра Голованов. Руководитель Главискусства Свидерский был зачислен в «потворствующие».
По поводу того, как в это письмо‑жалобу попал Булгаков, существуют разные мнения. Сам Михаил Афанасьевич предполагал, что Билль‑Белоцерковский был очень крепко задет «Багровым островом». Ведь в нём — «какутверждают люди из ряда тех, которых интересуют чужие дела» — откровенно пародировались многие эпизоды из шедшей в то время в филиале Малого театра пьесы Билля‑Белоцерков‑ского «Лево руля». Поэтому друзья возмущённого драма‑турга‑партийца и решили, как бы походя, лягнуть беспартийного обидчика.
Как бы там ни было, но 2 февраля 1929 года Сталин ответил на письмо писателей, высказав своё мнение о Свидерском, Голованове и Булгакове. Оказалось, что вождь не только хорошо знаком с пьесами Булгакова, но и имел о них своё собственное мнение. Так, бросив мимоходом камешек в адрес знаменитого мхатовского спектакля («На безрыбье даже „Дни Турбиных“ — рыба»), генсек написал:
«Что касается собственно пьесы „Дни Турбиных“, то она не так уж плоха, ибо она даёт больше пользы, чем вреда…
“ Дни Турбиных“ есть демонстрация всепобеждающей силы большевизма.
Конечно, автор ни в коей мере „не виновен“ в этой демонстрации, но какое нам до этого дело?».
Коснулся Сталин и «Бега», заявив, что пьесу эту…
«… нельзя считать проявлением ни „левой“, ни „правой“ опасности. „Бег“ есть проявление попытки вызвать жалость, если не симпатию, к некоторым слоям антисоветской эмигрантщины, — стало быть, попытка оправдать или полуоправдать белогвардейское дело. „Бег“ в том виде, в каком он есть, представляет антисоветское явление».
Эти слова означали, что в восьми булгаковских «снах» Сталин не нашёл ни одного намёка (или сделал вид, что не нашёл), что ни себя, ни своих сподвижников в персонажах «Бега» не узнал (или сделал вид, что не узнал).
Зато, давая принципиальную партийную оценку деятельности органов, курировавших литературу и искусство (Главискусству и Главрепеткому), генсек ещё раз больно ударил по Булгакову:
«Верно, что т. Свидерский сплошь и рядом допускает самые невероятные ошибки и искривления, но верно также и то, что репертком в своей работе допускает не меньше ошибок, хотя и в другую сторону. Вспомните „Багровый остров“, „Заговор равных“ и тому подобную макулатуру, почему‑то охотно пропускаемую для действительно буржуазного Камерного театра».
Поставив, таким образом, окончательный крест на таировском спектакле, Сталин всё же дал строптивому драматургу некий шанс для «исправления»:
«Впрочем, я бы не имел ничего против постановки „Бега“, если бы Булгаков прибавил к своим восьми снам ещё один или два сна, где бы он изобразил внутренние социальные пружины гражданской войны в СССР, чтобы зритель мог понять, что все эти, по‑своему „честные“ Серафимы и всякие приват‑доценты, оказались вышибленными из России не по капризу большевиков, а потому, что они сидели на шее у народа (несмотря на свою „честность“), что большевики, изгоняя вон этих „честных“ сторонников эксплуатации, осуществляли волю рабочих и крестьян и поступали поэтому совершенно правильно».
Сталин критиковал Булгакова. Но делал это очень мягко, можно даже сказать, весьма щадяще. Вождь как бы подавал пример всем остальным критикам, разъясняя им, казалось бы, простые вещи:
«Почему так часто ставят на сцене пьесы Булгакова? Потому, должно быть, что своих пьес, годных для постановки, не хватает… Конечно, очень легко „критиковать“ и требовать запрета в отношении непролетарской литературы. Но самое лёгкое нельзя считать самым хорошим. Дело не в запрете, а в том, чтобы шаг за шагом выживать со сцены старую и новую непролетарскую литературу в порядке соревнования… А соревнование — дело большое и серьёзное, ибо только в обстановке соревнования можно будет добиться сформирования и кристаллизации нашей пролетарской художественной литературы».
Через три недели (28 февраля) Сталин написал ещё одно письмо — «Ответ писателям‑коммунистам из РАППа». В нём, вновь взяв под защиту Билль‑Белоцерковского, вождь пообещал:
«Я и впредь буду отвечать (если будет время) любому товарищу, имеющему прямое или косвенное отношение к нашей революционной литературе. Это нужно. Это полезно. Это, наконец, мой долг…
С коммунистическим приветом И. Сталин».
Стоит ли удивляться, что уже на следующий день, 29 февраля, газета «Комсомольская правда» опубликовала стихотворение Маяковского «Лицо классового врага», в котором были и такие строчки:
Поэт революции весьма оперативно подключился к травле пришедшегося не ко двору драматурга.
И всё‑таки ситуация складывалась весьма необычная. С одной стороны, на тех, кто приносился в жертву беспощадной критике, тотчас всей своей мощью наваливался партийно‑пропагандистский аппарат. А с другой стороны, у самих руководящих чиновников возникали колебания и сомнения в отношении отдельно взятых критикуемых. Даже сам генеральный секретарь ЦК допускал совершенно непонятный либерализм, давая возможность такому «чуждому пролетарскому строю» писателю как Булгаков «исправить» допущенные ошибки.
Иными словами, на самом «верху», в самом дьявольском месте страны Советов (в Кремле) происходили вещи, в строгие рамки здравого смысла не укладывавшиеся и больше смахивавшие на проделки забавляющегося от нечего делать… дьявола.
Булгаков, обожавший забавные несуразности и остроумные розыгрыши, не мог остаться безучастным к подобному парадоксальному повороту событий. С полным основанием он мог повторить фразу, появившуюся в его дневнике в декабре 1924 года (совсем, правда, по другому поводу):
«Или у меня нет чутья, и тогда я кончусь на своём покатом полу, или это интродукция к совершенно невероятной опере».
Булгаков не стал дожидаться окончания затянувшейся «интродукции», он сел за письменный стол. Сел, чтобы выплеснуть накопившиеся эмоции на бумагу, дав своё, булгаковское, толкование всему тому, что происходило вокруг него самого и написанных им произведений.
Глава третья Крушение надежд
Поголовная ломка
Год 1929‑ый, который его современники называли годом грандиозного строительства, вошёл в историю страны Советов и как год великого перелома. Он сопровождался трагическим процессом всеобщей и поголовной «ломки» и «перемалывания», когда корёжились судьбы людей и народов, рушились семьи, разбивались мечты. Зато торжествовала стальная воля непогрешимой партии и её несгибаемых вождей.
Для истории советского театра 1929 год тоже по‑своему знаменателен — ряды драматургов пополнилась именами Маяковского и Сельвинского. В Государственном театре имени Мейерхольда (ГосТИMe) появились спектакли по пьесе Владимира Маяковского «Клоп» и Ильи Сельвинского — «Командарм‑2». Обе постановки осуществил сам Всеволод Эмильевич, преспокойно вернувшийся на родину после своего туманно‑загадочного вояжа за рубеж.
Очевидцы утверждали, что когда 26 декабря 1928 года Маяковский прочёл ближайшим друзьям только что законченного «Клопа», Мейерхольд картинно упал перед ним на колени и закричал:
«— Гений! Мольер! Какая драматургия!»
Через полтора месяца (13 февраля 1929 года) в ГосТИМе состоялась премьера этой феерической комедии.
На одном из первых представлений «Клопа» побывал и Булгаков. В начале шестой картины — там, где действие переносится на 50 лет вперёд (в год 1979‑ый), зрители, сидевшие рядом с Михаилом Афанасьевичем, наверняка разом обернулись на него. Ещё бы, профессор из далёкого коммунистического будущего раскрывал «Словарь умерших слов» и перечислял понятия, давным‑давно вышедшие из употребления:
«Буза… Бюрократизм, богоискательство, бублики, богема, Булгаков…»
Услышав свою фамилию, Михаил Афанасьевич не мог не поёжиться, не вздрогнуть. Ведь его как бы хоронили заживо.
Не менее интересно было бы узнать, заметил ли Булгаков сходство между главным героем «Клопа» Присыпкиным и Шариковым из «Собачьего сердца»?
К сожалению, документальных свидетельств на этот счёт встречать не приходилось. Зато широко известно о тесной дружбе Маяковского с высокопоставленным огепеушником Аграновым. Дошли до наших дней и сведения о том, с каким интересом члены политбюро читали изъятые у Булгакова дневники. А что мешало Агранову познакомить своего друга Маяковского с конфискованной «собачьей» повестью?
Если подобное «ознакомление» имело место, то тогда Присыпкина вполне можно рассматривать как Шарикова, который каким‑то образом избежал возвращения в собачий облик и остался человеком.
Такое вот напрашивается предположение…
Итак, «Клопа» Булгаков просмотрел. И у него сразу возникло желание написать свою комедию, герои которой тоже отправлялись бы в будущее.
26 февраля 1929 года в Московском Художественном театре состоялась премьера спектакля по пьесе Всеволода Иванова «Блокада». Это и был тот самый «первый новый спектакль», после которого «Дни Турбиных» подлежали снятию с репертуара. И «Турбиных» сняли.
Чтобы хоть как‑то подсластить эту горькую для коллектива МХАТа пилюлю, театру было сообщено (видимо, с ведома самого Сталина), что согласиться на запрет своего любимого спектакля вождь был…
«… вынужден под натиском сверхактивных ультракоммунистов и комсомольцев».
Дескать, натиск оказался настолько мощным, что бедному генсеку просто ничего не оставалось, как согласиться на запрет.
Явно находясь под впечатлением этого сталинского признания, Булгаков вложит в уста Понтия Пилата горестные восклицания:
«Объём моей власти ограничен, ограничен, ограничен, как всё на свете! Ограничен!».
А через год в пьесе «Кабала святош» появятся такие строки о всемогущем монархе, короле Людовике:
«МОЛЬЕР. Он думает, что он всесилен, он думает, что он вечен! Какое заблуждение! Чёрная кабала за его спиной точит его подножие, душит и режет людей, и он никого не может защитить».
Тем временем травля неугодных литераторов продолжалась. Журнал «Книга и революция» поместил портреты Булгакова и Замятина в качестве иллюстраций к статье, которая называлась «Маски классового врага». Подобные «публикации» были отнюдь не безобидны, поскольку им отводилась роль своеобразных «чёрных меток». Именно по ним очень скоро начнут определять тех, кого следует отправить в страшные жернова ненасытной «машины ломки». А она уже была запущена. И потихоньку перемалывала (и переламывала) первые жертвы.
В начале 1929‑го из страны за рубеж был выслан Троцкий. От его сторонников в партийных рядах тоже принялись решительно избавиться. Заодно перешли в наступление против активизировавшихся «правых». Было объявлено о начале грандиозной чистки. 6 апреля «Правда» вкратце изложила суть предстоящего мероприятия:
«Выросшая и окрепшая партия внимательно проверит свои ряды».
«Вычистим из Госаппарата чуждых!»
«Партия приступает к генеральной чистке своих рядов».
Булгакова, в членах партии никогда не состоявшего, чистка, разумеется, не касалась. Мысли писателя давно уже были заняты совсем другой темой — «дьявольской». Её он и положил в основу романа‑памфлета, который должен был стать его ответом на злобные происки всех и всяческих недоброжелателей.
Мщение «Фурибундой»
В 1929‑ом в газетах много писали о «Шахтинском деле». Досье на «инженеров‑вредителей» стремительно распухали, материалы следствия вот‑вот должны были передать в суд. В пику готовившемуся наступлению на техническую интеллигенцию свой новый роман Булгаков назвал вызывающе дерзко: «Копыто инженера».
Роман начинался с того, что в час июньского заката «на крайней скамейке на Патриарших прудах» появлялись редактор журнала «Богоборец» Владимир Миронович Берлиоз и художник‑карикатурист Антон Степанович Безродный (имя последнего вскоре было заменено Иванушкой).
«Богоборец»… Что‑то знакомое, не правда ли? Ну, конечно! Это же журнал «Безбожник», несколько номеров которого Михаил Булгаков купил в январе 1925 года и, полистав их, «был потрясён» тем, что…
«Иисуса Христа изображают в виде негодяя и мошенника».
И вот теперь те, кто так непотребно «изобразили» Всевышнего, были вставлены в булгаковский роман. Берлиоз и Безродный, вели оживлённый разговор о подписи, которую надлежало поставить под очередной карикатурой на Иисуса и буржуя. Иванушка успел даже нарисовать прутиком на песке…
«… безнадёжный, скорбный лик Христа… Рядом с ним появилась разбойничья морда капиталиста…
В это время из Ермолаевского переулка и вышел гражданин…».
Да, это был первый вариант того самого романа, который четыре десятилетия спустя станет известен всему миру как «Мастер и Маргарита». Впрочем, ни мастера, ни Маргариты в нём тогда ещё не было. Но некий «гражданин» уже появился «из Ермолаевского переулка».
Берлиоз с Безродным поначалу подумали, что перед ними — иностранный специалист. Инженер. Скорее всего, немец. Однако незнакомец назвал себя знатоком белой магии и жонглёром, добавив, что он…
«Приехал в Москву, чтобы выступить в мюзик‑холле».
И предъявил документ, из которого следовало, что зовут загадочного «знатока» Велиар Вельярович Воланд.
Далее всё развивалось по уже знакомому нам «мастер‑и‑маргаритовскому» сюжету. «Инженер» Воланд предсказывал Берлиозу смерть, и его пророчество вскоре сбывалось: поскользнувшись на масле, которое пролила некая Пелагеюшка, Владимир Миронович погибал под колёсами трамвая. Безродный, ошеломлённый случившимся, пытался догнать странного предсказателя, но тщетно. Раздосадованный художник оказывался в ресторане, который носил…
«… дикое название Шалаш Грибоедова».
Там вконец обезумевший Иванушка потребовал, чтобы от его имени срочно обратились к председателю Совнаркома А.И.Рыкову:
«Скажите, что я, мол, сказал, чтоб Алексей Иваныч распорядился, чтоб послал стрельцов на мотоциклетке инженера ловить».
Разумеется, бедолагу Иванушку тут же скрутили и отправили в психиатрическую клинику, но он и там продолжал выдвигать свои странные просьбы:
«— Слушай, — обратился он к врачу, — звони и скажи: появился инженер и убивает людей на Патриарших».
А загадочный «инженер» преспокойно устраивал себе выступление в мюзик‑холле, где во время сеанса белой магии собственноручно откручивал голову конферансье Петру Алексеевичу Благовесту.
Дальнейшие события раскручивались ещё более невероятным образом. При содействии Воланда Иванушка совершал побег из психушки, затем, попав на похороны Берлиоза, завладевал катафалком и угонял его. Но тут началась гроза, Иванушка не справился с управлением, колесница и гроб попадали в реку И вскоре от них…
«… не осталось ничего, — даже пузырей — с ними покончил весенний дождь».
А Ивана Безродного отлавливали и вновь водворяли в психиатрическую лечебницу.
Вот такая написалась у Булгакова беллетристика.
Это была как бы его новая «дьяволиада», в которой почти открыто заявлялось, что насаждавшийся в стране большевистский «порядок» есть ни что иное, как самый обыкновенный сатанинский шабаш. И что всеми и всем в СССР управляет сатана, дьявол.
Мало этого. В романе был выведен ещё один персонаж — учёный, специалист по демонологии с весьма странными именем, отчеством и фамилией: Трувер Рерюкович Феся. Откуда взял их Булгаков? Что они означают?
Не иначе как намёк? Но какой?
Специалист по демонологии…
В средние века главными «знатоками», разбиравшимися во всех дьявольских «ересях», были высокопоставленные церковные иерархи. В советское время борьбу с антибольшевистской «ересью» возглавляли кремлёвские вожди. А главным «специалистом» по антисоветской «демонологии» в СССР был генеральный секретарь ЦК ВКП(б).
Этой же точки зрения придерживался в своём романе и Михаил Булгаков.
Так ли это? Попробуем разобраться.
Зовут булгаковского «специалиста» Трувер. Это довольно распространённое на западе имя. Труверами во времена французского средневековья называли певцов‑поэтов, менестрелей. Сталин, как известно, в молодости писал стихи. Некоторые из них были даже напечатаны. Ещё до революции.
Отчество Рерюкович произведено от имени Рерюк. Но такого имени, вроде бы, не существует. Есть другое, похожее — Рюрик. Так звали варяга, человека иного племени, приглашённого на Русь для княжения. Сталин, как известно, тоже был своеобразным варягом (человеком иного племени), возглавившим страну.
И, наконец, фамилия — Феся? Что означает она?
Феся… ФЕС + Я…
Это уж явный булгаковский прикол, рассчитанный на то, что советский читатель французского языка не знает, а уж французские названия отдельных частей человеческого тела ему и подавно неведомы. Между тем слово «feese» (фэс) на русский язык переводится как «ягодица».
Видимо, писатель решил, что терять ему уже нечего и решил просто немного похулиганить. И ещё своеобразно отомстить генсеку за его письмо антибулгаковского толка.
Стоит ли после этого удивляться, что 28 февраля 1929 года один из агентов ОГПУ доносил по начальству:
«… Булгаков написал роман, который читал в некотором обществе, там ему говорили, что в таком виде не пропустят, так как он крайне резок с выводами, тогда он его переделал и думает опубликовать, а в первоначальной редакции пустить в качестве рукописи в общество, и это одновременно вместе с опубликованием в урезанном цензурой виде».
Агент‑гепеушник не ошибся. Булгаков и в самом деле вскоре отнёс отрывок из романа в издательство «Недра». Сохранилась тетрадь, на ней — надпись рукою Михаила Афанасьевича: «Мания фурибунда. Глава из романа „Копыто инженера“». Дошла до наших дней и расписка сотрудника «Недр» Б.Л. Леонтьева, датированная 8 мая 1929 года:
«Мною получена для сборников «Недра» рукопись „Фурибунда“ от автора её М.А. Булгакова под псевдонимом К. Тугай».
Отлично понимая, что его фамилия вызывает у работников цензуры оторопь, Булгаков решил выступить под псевдонимом Тугай (так зовут героя его рассказа «Ханский огонь»).
Тугай человек состоятельный, из страны после революции сразу же эмигрировал. Имение «сбежавшего помещика» большевики реквизировали и превратили в музей. Вернувшись инкогнито в Советскую Россию, Тугай едет в родные места и тёмной ночью сжигает своё родовое гнездо.
Если под таким псевдонимом Булгаков решил предстать перед читателями, то нетрудно догадаться, какое страстное было у него желание ударить своим «Копытом…» по всем тем, кто не давал ему писать то, что он думает, и так, как он хочет.
О жажде мести говорит и название главы, которую спешил опубликовать писатель. Оно сродни крылатой фразе киевского князя Святослава, предупреждавшего врагов: «Иду на вы!». Только у Булгакова возглас был немного другой: «Фурибунда!».
Широкой публике слово это ни о чём не говорило. Да и не всякий человек с образованием способен был сходу растолковать его значение. Всё явно было рассчитано на то, что заинтригованные читатели бросятся к словарям. И, открыв страницу на букву «ф», прочтут, что, во‑первых, «фурибундо» — это музыкальный термин, требующий исполнения чрезвычайно горячего и сильного, а во‑вторых, «фурии» — это древнегреческие богини мщения и род очень ядовитых змей. Если к этому добавить, что слово «бунд» переводится как «союз», то название предназначавшейся для печати главы начинает звучать весьма воинственно: «Союз ядовитого мщения», «Союз змеиной мести» или что‑то в этом роде.
Атакуемый большевистской системой писатель сдаваться не собирался. Он был готов вступить в решающее сражение.
Помочь одержать победу в этой тяжелейшей битве и был призван остроумно придуманный ход, своеобразное «раздвоение романа»: усечённый цензурой вариант отдаётся в печать, а не урезанная версия пускается по рукам. Пусть читатели во всём разбирутся сами.
Расправа с «булгаковщиной»
Печатать «фурибундную» главу из «Копыта инженера» издательству «Недра», конечно же, не позволили. Возможно, и автору романа сказали при этом несколько сердитых слов. Как бы там ни было, но работу над романом пришлось приостановить.
А пресса страны Советов продолжала массированный «обстрел» позиций строптивого писателя, ни за что не желавшего сдаваться. С каким нескрываемым ликованием 3 июня 1929 года в «Вечерней Москве» Фёдор Раскольников перечислял «победы», одержанные в борьбе с «булгаковщиной»:
«Огромным событием минувшего сезона является сильный удар, нанесённый по необуржуазной драматургии запрещением „Бега“ и снятием театром Вахтангова „Зойкиной квартиры“».
Участь мхатовского и вахтанговского спектаклей вскоре разделил и «Багровый остров», который (после того, как Сталин назвал пьесу «макулатурой») был тотчас снят с репертуара.
Это был полный крах!
Как будто чьё‑то невероятно злое колдовство разметало всё по ветру и привело к провалу всех чаяний и надежд. В «Жизни господина де Мольера» про подобную ситуацию сказано:
«Провал сопровождается тем, чем сопровождается всякий провал драматурга, — дикою радостью недругов, плаксивым сочувствием друзей, которое во много раз хуже вражеской радости, хохотом за спиной, траурными сообщениями о том, что автор исписался и ироническими самодельными стишками».
Приятели Михаила Афанасьевича, активно сотрудничавшие с цирком и эстрадой, пытались успокоить его, говоря, что ничего особо страшного пока не произошло. Поэтому, мол, не стоит отчаиваться. Надо воспользоваться своим недюжинным талантом юмориста и взяться за сочинение смешных скетчей. Булгаков подумал и согласился. Даже заявку написал. И о получении аванса начал было уже договариваться… Но в самый последний момент от затеи этой решительно отказался, воскликнув: «Не могу»!
И сел сочинять письма.
Первое послание он адресовал людям, обладавшим реальной властью (или имевшим реальную возможность влиять на властные структуры), и лично вручил это письмо Свидерскому. Вот выдержки из него:
«Генеральному секретарю партии И.В. Сталину
Председателю Центрального Исполнительного комитета
М.И. Калинину
Начальнику Главискусства А.И. Свидерскому
Алексею Максимовичу Горькому
В настоящее время я узнал о запрещении к представлению „Дней Турбиных“ и „Багрового острова“. „Зойкина квартира “ была снята после 200‑го представления в прошлом сезоне по распоряжению властей…
Таким образом, к настоящему театральному сезону все мои пьесы оказываются запрещёнными, в том числе и выдержавшие около 300 представлений „Дни Турбиных“…
… представителями О ГПУ… отобраны были у меня „Мой дневник“ в 3‑х тетрадях и единственный экземпляр сатирической повести моей „Собачье сердце“.
Ранее этого подвергалась запрещению повесть моя „Записки на манжетах“. Запрещён к переизданию сборник сатирических рассказов „Дьяволиада“, запрещён к изданию сборник фельетонов, запрещены в публичном выступлении „Похождения Чичикова“…
Веемой произведения получили чудовищные, неблагоприятные отзывы, моё имя было ошельмовано не только в периодической печати, но в таких изданиях, как Б[ольшая] Советская] Энциклопедия и Литературная] Энциклопедия.
Бессильный защищаться, я подавал прошение о разрешении хотя бы на короткий срок отправиться за границу. Я получил отказ…
… силы мои надломились, не будучи в силах более существовать, затравленный, зная, что ни печататься и ставиться более в пределах СССР мне нельзя, доведённый до нервного расстройства, я обращаюсь к Вам и прошу Вашего ходатайства перед правительством СССР ОБ ИЗГНАНИИ МЕНЯ ЗА ПРЕДЕЛЫ СССР ВМЕСТЕ С ЖЕНОЮ МОЕЙ Л.Е. БУЛГАКОВОЙ, которая к прошению этому присоединяется.
… июля 1929 года М. Булгаков».
Михаил Афанасьевич сообщал руководителям страны и тем, кто стоял во главе её литературы, о своём нездоровье. Отныне «болезненная» тема станет одной из основных в его многолетней переписке с властными структурами.
Впрочем, на смиренную просьбу больного, «доведённого до нервного расстройства», булгаковское послание совсем не похоже. Оно, скорее, напоминает требование. Требование человека, не сомневающегося в своей правоте. Оно звучит как дерзкий ультиматум. Как пощёчина уверенному в своей силе и безнаказанности большевистскому режиму.
Разумеется, ни в какую заграницу Булгакова и в этот раз не пустили.
30 июля было написано и вручено адресату новое письмо:
«Начальнику Главискусства А.И. Свидерскому
…я просил о разрешении моей жене одной отправиться за границу — получил отказ.
Я просил о возвращении взятых у меня при обыске моих дневников — получил отказ…
И вот я со всею убедительностью прошу Вас направить Правительству СССР моё заявление:
Я прошу Правительство СССР обратить внимание на моё невыносимое положение и разрешить мне выехать вместе с моей женой Любовью Евгеньевной Булгаковой за границу на тот срок, который будет найден нужным».
А на следующий день, 1 августа, в «Правде» был опубликован отрывок из пьесы А.Безыменского «Выстрел». Булгакову не могли броситься в глаза следующие строки:
Братья! Будьте с ним знакомы.
Истязал он денщиков,
Бил рабочих в спину ломом
И устраивал погромы,
Воплощая мир врагов.
Забывать его не смейте!
иль в бою,
Если встретите — убейте!
И по полю прах развейте!
Правду вырвавши свою…
Руками задушу своими!
Кто был тот сукин сын?
Скажи нам имя!
Полковник…
Каково было читать всё это Булгакову? И он с ещё большим нетерпением принялся ждать ответа от Свидерского.
Свидерский переправил булгаковскую просьбу в ЦК партии (на имя секретаря ЦК А.П. Смирнова), сопроводив её такими соображениями:
«Я имел продолжительную беседу с Булгаковым. Он производит впечатление человека затравленного и обречённого. Я даже не уверен, что он нервно здоров. Положение его действительно безысходное. Он, судя по общему впечатлению, хочет работать с нами, но ему не дают и не помогают в этом. При таких условиях удовлетворение его просьбы является справедливым».
Смирнов, в свою очередь, переадресовал все бумаги члену политбюро Молотову, добавив к ним собственные комментарии:
«Посылая Вам копии заявления литератора Булгакова и письма Свидерского — прошу разослать их всем членам и кандидатам Политбюро.
Со своей стороны, считаю, что в отношении Булгакова наша пресса заняла неправильную позицию. Вместо линии на привлечение его и исправление — практиковалась только травля, а перетянуть его на нашу сторону, судя по письму т. Свидерского, можно.
Что же касается просьбы Булгакова о разрешении ему выезда за границу, то я думаю, что её надо отклонить. Выпускать его за границу с таким настроением — значит увеличить число врагов. Лучше будет оставить его здесь, дав указание… о необходимости поработать над привлечением его на нашу сторону, а литератор он талантливый и стоит того, чтобы с ним повозиться.
Нельзя пройти мимо неправильных действий О ГПУ по части отобрания у Булгакова его дневников. Надо предложить ОГПУ дневники вернуть».
Молотов принялся раздумывать.
Видя, что за рубеж его ни за что не отпустят, Булгаков обратился к властям с новой просьбой — отпустить за границу Л.Белозёрскую (для урегулирования там его авторских прав). И вновь потянулись дни томительного ожидания.
10 августа Булгаков написал письмо брату Николаю во Францию. Послано оно было с кем‑то из знакомых, уезжавших за границу, то есть с «нарочным», как называл этот способ пересылки сам Михаил Афанасьевич. Письмо было сугубо конфиденциальным, сведения, содержавшиеся в нём, не подлежали разглашению. К тому времени кое‑какие авторские права удалось отстоять. И Булгаков просил брата‑парижанина взять у своего доверенного лица (В.Л. Бинштока) причитавшиеся ему 1100 франков. Деньги по тем временам немалые.
28 августа в Париж полетело новое послание. На этот раз конверт был брошен в ближайший почтовый ящик — с явным расчётом, что письмо будет вскрыто, прочитано, а его содержание доведено до сведения руководства страны. На этот раз ни о каких франках речи уже не шло, тон послания был совсем иной:
«Теперь сообщаю тебе, мой брат: положение моё неблагополучное.
Все мои пьесы запрещены к представлению в СССР и беллетристической ни одной строки моей не печатают. В 1929 году совершилось моё писательское уничтожение. Я сделал последнее усилие и подал Правительству СССР заявление, в котором прошу меня с женой моей выпустить за границу на любой срок.
В сердце моём нет надежды. Был один зловещий признак — Любовь Евгеньевну не выпустили одну, несмотря на то, что я оставался. (Это было несколько месяцев тому назад!)
Вокруг меня уже ползает змейкой тёмный слух, что я обречён во всех смыслах.
В случае, если моё заявление будет отклонено, игру можно считать оконченной, колоду складывать, свечи тушить…
Мне придётся сидеть в Москве и не писать, потому что не только писаний моих, но даже фамилии моей равнодушно видеть не могут.
Без всякого малодушия сообщаю тебе, мой брат, что вопрос моей гибели — это лишь вопрос срока, если, конечно, не произойдёт чуда. Но чудеса случаются редко.
Очень прошу написать мне, понятно ли тебе это письмо, но ни в коем случае не писать мне никаких слов утешения и сочувствия, чтобы не волновать мою жену…
Нехорошо то, что этой весной я почувствовал усталость, разлилось равнодушие. Ведь бывает же предел».
Упомянутое в письме нежелание «волновать» жену нуждается в пояснении. Дело в том, что с некоторых пор Булгаков старался не допускать супругу в мир своего творчества. А в 1929 году у него появилась тайна от жены совсем иного рода.
Случайная встреча
Ровно через три недели после того, как Сталин написал письмо, окончательно решившее судьбу «Бега», супруги Булгаковы отправились на вечеринку. В гости Михаила Афанасьевича и Любовь Евгеньевну, вероятнее всего, пригласила (свидетельства на сей счёт весьма разноречивы) семья Уборевичей.
Видный советский военачальник Иероним Петрович Уборевич командовал в то время Московским военным округом. Его жена, Нина Владимировна, в прошлом актриса, часто устраивала в своей квартире вечера, на которых приглашала артистов, музыкантов, писателей. Она дружила с секретарём Немировича‑Данченко Ольгой Сергеевной Бокшанской, которая и познакомила Уборевичей с мхатовцами и драматургом Булгаковым.
Семья командующего совсем недавно справила новоселье, въехав в квартиру на третьем этаже только что отремонтированного четырёхэтажного особняка в Большом Ржевском переулке. В этот дом вселились и многие сослуживцы Уборевича. Большую четырёхкомнатную квартиру на первом этаже занял начальник штаба МВО Евгений Александрович Шиловский и его многочисленная семья, в которую входили жена, двое сыновей, их воспитательница‑немка, домработница и сестра жены Ольга Бокшанская с мужем. Та самая О.С. Бокшанская, что служила во МХАТе.
В этот‑то особняк в феврале 1929 года и были среди прочих гостей приглашены супруги Булгаковы.
Л.Е.Белозёрской впоследствии вспоминала:
«… мы с М[ихаилом] А[фанасьевичем] поехали как‑то в гости… За столом сидела хорошо причёсанная интересная дама — Елена Сергеевна Нюренберг, по мужу Шиловская. Она вскоре стала моей приятельницей и начала запросто и часто бывать у нас в доме.
Так на нашей семейной орбите появилась эта женщина…»
О том же февральском вечере много лет спустя Елена Сергеевна Шиловская‑Нюрнберг (так она сама иногда писала свою фамилию: не Нюренберг, а Нюрнберг) подробно рассказала в письме своему брату Александру Письмо писалось в 1961 году когда упоминать о репрессированном Уборевиче было ещё не принято:
«Это было на масляной, у одних общих знакомых… они позвонили и, уговаривая меня придти, сказали, что у них будет знаменитый Булгаков, — я мгновенно решила пойти. Уж очень мне нравился он, как писатель…»
Добавим к написанному что для того чтобы попасть к этим «общим знакомым», Елене Сергеевне надо было всего лишь подняться с первого этажа на третий.
«Сидели мы рядом (Евгений Александрович был в командировке, и я была одна), у меня развязались какие‑то завязочки на рукаве…я сказала, чтобы он завязал мне. И он потом уверял всегда, что тут и было колдовство, тут‑то я его и привязала на всю жизнь».
Михаил Булгаков чуть позднее (в «Мастере и Маргарите») тоже опишет свои впечатления от встречи с той «интересной дамой»:
«… меня поразила не столько её красота, сколько необыкновенное, никем невиданное одиночество в глазах».
Вновь слово — Елене Сергеевне:
«На самом деле, ему, конечно, больше всего понравилось, что я, вроде чеховского дьякона в „Дуэли“, смотрела ему в рот и ждала, что он ещё скажет смешного».
Михаил Булгаков («Мастер и Маргарита»):
«Она поглядела на меня удивлённо, а я вдруг, и совершенно неожиданно, понял, что я всю жизнь любил эту женщину».
Елена Сергеевна:
«Почувствовав такого благодарного слушателя, он развернулся вовсю и такое выдал, что все просто стонали. Выскакивал из‑за стола, на рояле играл, пел, танцевал, словом, куражился вовсю. Глаза у него были ярко‑голубые, но когда он расходился так, они сверкали, как бриллианты».
Вот, оказывается, как мог преобразиться человек, силы которого якобы «надломились», а в доме царила обстановка, «как будто объявился покойник». Вот, оказывается, каким мог стать «затравленный», доведённый «до нервного расстройства» писатель.
Булгаков, избалованный вниманием столичных дам, знал, как вести себя с женщинами. И пока его законная жена, Любовь Евгеньевна, пропадала в манеже и на шофёрских курсах, у него начались тайные встречи с новой знакомой.
Внезапное увлечение
Елена Сергеевна родилась в 1893 году в Риге в семье учителя Сергея Марковича Нюренберга и его жены Александры Александровны. Через два года (после рождения ещё одной дочери) у супругов Нюренбергов было уже четверо детей: дочери Елена, Ольга (младшие) и сыновья Александр с Константином (старшие).
В 1908 году С.М. Нюренберг сменил профессию, переквалифицировавшись из учителя в податного инспектора. Когда началась мировая война семья Нюренбергов переехала из Риги в Москву. Елена Сергеевна впоследствии вспоминала, что в 1915‑ом, когда ей исполнилось 22 года, она…
«… научилась печатать на машинке и стала помогать отцу в его домашней канцелярии, стала печатать его труды по налоговым вопросам».
Прекрасно печатала на машинке и её сестра Ольга.
Наступил год 1918‑ый…
Однажды по Поварской улице разнёсся гулкий перезвон колоколов — в церкви Симеона Столыпина проходило венчание. Юрий Неёлов, сын знаменитого актёра Мамонта Дальского, вступал в законный брак с 25‑летней Еленой Нюренберг. В тот морозный декабрьский день она стала гражданкой Неёловой.
Её молодой супруг служил в 16‑ой армии РККА, сформированной в ноябре 1918‑го. Возглавить её большевики доверили бывшему царскому генералу А.Е. Снесареву. Адъютантом командующего и был назначен Юрий Мамонтович Неёлов.
Молодые отправились к месту службы супруга — на Западный фронт. Там шла война с белополяками.
За время боевых действий в 16‑ой армии сменилось пять командующих. Владевшего 14 языками Снесарева вскоре сменил казачий атаман Ф.К. Миронов. Он уступил свой пост А.В. Новикову, который, в свою очередь, сдал армию Н.В. Соллогубу. Затем командармом стал А.И. Кук.
И при всех командующих уверенно шёл вверх по служебной лестнице бывший капитан царской армии, выпускник Академии Генерального штаба Евгений Александрович Шиловский. Свою службу у большевиков он начал с должности начальника оперативного управления 16 армии, потом стал начальником штаба. А в апреле 1921 года 31‑летнего Евгения Шиловского назначили командующим армией, шестым по счёту.
Впрочем, уже через месяц, в мае месяце, 16 армия РККА была расформирована. Евгений Александрович получил повышение — стал начальником штаба Западного фронта. Всё это время он активно сотрудничал (в качестве корреспондента) во фронтовом журнале «Революция и война». Так что наверняка мог читать напечатанную в одном из его номеров статью («Захват Ковеля поляками»), которая начиналась словами:
«„Человек боится“ — это краткое изречение Ардан дю‑Пика военачальникам, будь они лично львиной храбрости, никогда не следует забывать. Зарождение самой первобытной военной техники — взятие в руки дубины, бросок камнем — обязано чувству страха одного человека, слабейшего, перед другим, сильнейшим».
Евгений Шиловский, которого поставили во главе одной из армий, победивших в гражданской войне, не мог чувствовать себя «слабейшим». И хотя война с Польшей была бесславно проиграна, сражение на любовном фронте статный красавец‑командарм выиграл: отбил‑таки жену у адъютанта Юрия Неёлова.
Впрочем, в делах амурных трудно определить, кто кого очаровал, а кто пал жертвой очарования. Поэтому очень трудно сказать, Елена ли Неёлова обворожила командующего или Евгений Шиловский завоевал её сердце. Ясно одно: весной 1921 года в полку влюблённых прибыло. И очень скоро встал вопрос о том, как эту блистательную амурную победу документально зафиксировать.
Наступило лето 1921 года. О том, что тогда произошло — в рассказе самой Елены Сергеевны:
«Это было в 1921 году в июне (или в июле). Мы с Евгением Александровичем пришли к патриарху, чтобы просить разрешения на брак. Дело в том, что я с Юрием Мамонтовичем Неёловым… была повенчана, по не разведена. Мы в загсе оформили развод. Ну, и надо было поэтому достать разрешение на второй церковный брак у патриарха».
Ситуация, согласитесь, довольно редкостная, если не сказать уникальная? Красный командарм (пусть даже и беспартийный) в атеистической большевистской Москве обращается к самому патриарху! К тому самому патриарху Тихону, которому очень скоро советская власть объявит непримиримую войну, отстранит от управления церковью, подвергнет заточению в Донском монастыре, затем выпустит и…
Но, во‑первых, антитихоновской кампании предстояло начаться только через год. Во‑вторых, Евгений Шиловский принадлежал к стану победителей, которые никого тогда не боялись. И он смело повёл свою возлюбленную к главному православному иерарху.
Когда молодые люди вошли в патриарший дом, его хозяин был занят — прощался с А.М. Горьким, который покидал опостылевшую ему Советскую Россию. Прославленный писатель уехал за границу в июле 1921 года, значит, именно в июне экс‑командарм и нанёс визит главе православной церкви.
Непосредственно к патриарху влюблённые обращались потому, что торопились и не могли ждать, пока их вопрос решат обычным путём: Елена Сергеевна была беременна.
И что же патриарх? По воспоминаниям Елены Сергеевны он…
«… когда Евгений Александрович высказал свою просьбу, — улыбнулся и рассказал какой‑то остроумный анекдот не то о двоежёнстве, не то о двоемужестве, — не помню, к сожалению.
И дал, конечно, разрешение».
7 декабря 1921 года в семье красного военспеца Шкловского (он в тот момент уже преподавал в Военной академии и одновременно был помощником её начальника) отмечали знаменательное событие: Елена Сергеевна родила сына, которого в честь отца назвали Евгением.
Своих героических защитников (даже в голодный 1921 год) советская власть обеспечивала щедро. Поэтому семья Шиловских жила безбедно — с продуктами питания проблем не было. Новорожденному младенцу тут же взяли няню. Все домашние дела выполняла домработница. Конечно, до шика, который могли позволить себе удачливые нэпманы, Шиловским было далеко. Но десятки, если не сотни тысяч москвичей в один голос сказали бы тогда, что семья военспеца живёт припеваючи.
Но очень скоро Елена Шиловская заскучала. Окружённая со всех сторон вниманием и заботой, она страдала от вынужденного безделья. И потому стала звать сестру Ольгу поселиться в её квартире — чтобы было с кем разгонять невыносимую тоску. К тому времени Ольга носила уже фамилию Бокшанская, работала в Московском Художественном театре и находилась в гастрольной поездке за рубежом, во Франции. Елена Сергеевна писала ей:
«„Приди в наш дом и живи в нём “…я надеюсь к тому времени иметь возможность предоставить тебе отдельную комнату, обставленную с чисто советской роскошью. Что же касается нашего стола — о! я думаю, что даже после парижской кухни он тебе покажется донельзя изысканным».
Через какое‑то время Елена Шиловская отправила сестре ещё одно письмо. Ольга Бокшанская была уже за океаном — в стране, которую тогда называли САСШ, Северо‑Американские Соединённые Штаты. Елена Сергеевна снова жаловалась на не покидавший её сплин:
«Мне иногда кажется, что мне ещё чего‑то надо… тихая, семейная жизнь не совсем по мне. Или вернее так, иногда на меня находит такое настроение, что я не знаю, что со мной делается. Ничего меня дома не интересует, мне хочется жизни, я не знаю, куда мне бежать, но хочется очень. При этом ты не думай, что это является следствием каких‑нибудь неладов дома. Нет, у нас их не было за всё время нашей жизни…».
Иными словами, ни отсутствие «неладов дома», ни любовь и забота со стороны мужа Елену Шиловскую не радовали. Пресытившись достатком и благополучием, она жаждала каких‑то захватывающих перемен в жизни. В ноябре 1923 года за океан полетело новое письмо:
«… я не знаю, что со мной делается (последнее время я это чувствую особенно остро). Мне чего‑то недостаёт, мне хочется больше жизни, света, движения. Я думаю, что просто мне надо заняться чем‑нибудь… Ты знаешь, я страшно люблю Женю большого, он удивительный человек, таких нет, малыш самое дорогое существо на свете, — мне хорошо, спокойно, уютно. Но Женя занят почти целый день, малыш с няней всё время на воздухе, и я остаюсь одна со своими мыслями, выдумками, фантазиями, неистраченными силами. И я или (в плохом настроении) сажусь на диван и думаю, думаю без конца, или — когда солнце светит на улице и в моей душе — брожу одна по улицам».
В октябре 1926 года в семье Шиловских отметили рождение второго сына. В честь рижского деда (со стороны матери) его назвали Сергеем.
Елена Сергеевна Нюренберг‑Шиловская
Супруга красного военспеца по‑прежнему жила жизнью, обеспеченной до мелочей. Точно такой, какой жила главная героиня «Мастера и Маргариты». Как и Маргарита, Елена Сергеевна «не нуждалась в деньгах», «могла купить всё, что ей нравилось», «никогда не прикасалась к примусу» и «не знала ужасов житья» в коммунальной квартире. Приведём ещё одну цитату из романа: «с уверенностью можно сказать, что многие женщины всё, что угодно отдали бы за то, чтобы променять свою жизнь на жизнь», которую вели придуманная писателем Маргарита и вполне реальная Елена Шиловская.
Однако Елена Сергеевна счастливой себя не чувствовала. И очень завидовала сестре Ольге, вращавшейся в загадочном и казавшимся таким необыкновенно‑очаровательным театральном мире. В том самом, где шли «Дни Турбиных», спектакль, на который супруги Шиловские смогли попасть благодаря билетам, устроенным им всё той же Ольгой Бокшанской.
В «Театральном романе» Булгаков описал одно из посещений Независимого театра некоей дамой, появившейся в сопровождении сына в матросской шапочке и его няни, говорившей с немецким акцентом. Вспомним этот эпизод. В контору заведующего внутренним распорядком театра Филиппа Филипповича Тулумбасова…
«… входила очень хорошенькая дама в великолепно сшитом пальто и с черно‑бурой лисой на плечах… Дама радостно смеялась… журчащим смехом».
Дама эта (в ней очень легко узнать Елену Шиловскую) заказывала билет на спектакль для своей портнихи, приглашала Тулумбасова, которого запросто звала «Филей» и «Филькой», вместе с актёром Аргуниным к себе на ужин, а затем звонила мужу:
«— А к нам я сегодня Филю позвала пирожки есть. Ну, ничего. Ты поспи часок. Да, ещё Аргунин напросился… Ну, неудобно же мне… Ну, прощай, золотко. А что у тебя голос какой‑то расстроенный? Ну, целую».
Благодаря сестре, Елена Шиловская была в курсе всех театральных новостей. Знала она и о том шуме, который вызвали в Москве спектакли по пьесам Михаила Булгакова. И ещё у неё, так же, как и у Маргариты…
«… была страсть к людям, которые делают что‑либо первоклассно».
И вот, наконец, они встретились. На вечере у Уборевичей. Модный драматург, сочинявший первоклассные пьесы, и скучавшая от отсутствия серьёзных занятий замужняя дама. Встретились и сразу же договорились («Жизнеописание Михаила Булгакова»):
«… идти на следующий день на лыжах. И пошло. После лыж — генеральная „Блокады“, после этого — актёрский клуб, где он играл с Маяковским на биллиарде, и я ненавидела Маяковского и настолько явно хотела, чтобы он проиграл Мише, что Маяковский уверял, что у него кий в руках не держится…»
Приведём ещё несколько воспоминаний Елены Сергеевны из той же книги. О посещении Большого театра:
«… когда мы только что познакомились с Мишей, он сказал мне: „Пойдёмте на «Аиду»“. Встретились под первой колонной слева. А в театре… он сказал во время увертюры: „В особенно любимых местах я пожму вам пальцы“.
Ещё через какое‑то время Булгаков позвонил посреди ночи:
«Ночью (было около трёх, как оказалось потом) Оленька, которая всего этого не одобряла, конечно, разбудила меня: иди, тебя твой Булгаков зовёт к телефону. (Страшно раздражённо сказала.) Я подошла. „Оденьтесь и выйдете на крыльцо“, — загадочно сказал Миша, и, не объясняя ничего, только повторял эти слова…
Под Оленькино ворчание я оделась (командировка‑то ещё не кончилась!) и вышла на крылечко. Луна светит страшно ярко, Миша, белый в её свете, стоит у крыльца. Взял под руку и на все мои вопросы и смех — прикладывает палец ко рту и молчит, как пень. Ведёт через улицу, приводит на Патриаршие пруды, доводит до одного дерева и говорит, показывая на скамейку: здесь они увидели его в первый раз. И опять — палец у рта, опять молчание. Потом также под руку ведёт в какой‑то дом у Патриарших, поднимаемся на третий этаж, он звонит. Открывает какой‑то старик, роскошный старик, высоченного роста, красивый с бородищей, в белой поддёвке, в высоких сапогах… Идём все в столовую. Горит камин, на столе — уха, икра, закуски, вино. Чудесно ужинаем, весело, интересно…»
Что и говорить, ухаживать Булгаков умел блестяще. Да и Елена Сергеевна, надо полагать, партнёршей была достойной, в чём много лет спустя сама признавалась в письме брату:
«… я понял, — говорил всегда Миша, вспоминая с удовольствием этот вечер, вернее, ночь, — что ты ведьма! Присушила меня!»
А вот как описал свои тогдашние ощущения Михаил Булгаков («Мастер и Маргарита»):
«Любовь выскочила перед нами, как из‑под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих. Так поражает молния, так поражает финский нож! Она‑то, впрочем, утверждала впоследствии, что это не так, что любили мы, конечно, друг друга давным‑давно, не зная друг друга, никогда не видя…
… если бы этого не произошло, она отравилась бы, потому что жизнь её пуста».
Их романтичные встречи происходили всё чаще, и очень скоро…
«И скоро, скоро стала эта женщина моею тайною женой».
Мало этого, они…
«… уже в первые дни своей связи пришли к заключению, что столкнула их… сама судьба и что созданы они друг для друга навек».
Впрочем, «тайные» отношения Елены Сергеевны и Михаила Афанасьевича не помешали Булгаковым и Шиловским продолжать дружить семьями, часто ходить друг к другу в гости. Ведь Евгений Александрович был человеком с широким кругозором, много писал по своей специальности. В 1928 году у него даже вышла книжка — «На Березине», в которой описывались действия 16‑ой армии против белополяков. Так что бывшему командарму и знаменитому драматургу было о чём поговорить.
Тайная повесть
Осенью 1929 года Елена Сергеевна поехала на курорт. В своих воспоминаниях она писала:
«… я уехала лечиться в Ессентуки. Михаил Афанасьевич писал мне туда прекрасные письма, посылал лепестки красных роз, но я должна была уничтожить их перед возвращением — я была замужем, я не могла их хранить. В одном из писем было сказано: «Я приготовил Вам подарок, достойный Вас…» Когда я вернулась в Москву, он протянул мне эту тетрадку…»
В письме к брату, написанном 13 февраля 1961 года, Елена Сергеевна рассказала о том же подарке, но с несколько иными подробностями:
«… я поехала в Ессентуки на месяц. Получала письма от Миши, в одном была засохшая роза и вместо фотографии — только глаза его, вырезанные из карточки. И писал, что приготовил для меня достойный подарок, чтобы я ехала скорей домой. А подарок был — что он посвящает мне роман, показал черновик, тетрадь (она хранится у меня), на первой странице написано: „Тайному другу “».
Этим «посвящённым романом» или «черновиком» была неоконченная автобиографическая повесть, которая начиналась словами:
«Бесценный друг мой! Итак, Вы настаиваете на том, чтобы я сообщил Вам в год катастрофы, каким образом я сделался драматургом. Скажите только одно — зачем Вам это? И ещё: дайте слово, что Вы не отдадите в печать эту тетрадь даже и после моей смерти».
Есть в этой повести любопытный эпизод, полностью отражающий тогдашние мечты Булгакова о его ближайшем будущем:
«Через некоторое время в ваши руки попадёт измызганный номер французского или немецкого иллюстрированного журнала, и вы увидите избранника судьбы. Он в белых брюках и синем пиджаке. Волосы его растрёпаны, потому что с моря дует ветер. Рядом с ним, в короткой юбке и шляпе, некрасивая женщина с чудесными зубами. На руках у неё лохматая собачонка с острыми ушами. Видна бортовая сетка парохода и кусок шезлонга, за сеткой ломаные волны. Подпись показывает, что счастлив избранник, он уезжает в Америку с женой и собачкой».
Итак, у Булгакова появилась «тайная жена», которой он посвятил свой автобиографический роман. Ситуация, вроде бы, вполне жизненная, встречающаяся нередко. Однако вопрос всё равно возникает.
Кто же он всё‑таки такой — тот «тайный друг», которого Михаил Афанасьевич решил посвятить в подробности своей частной жизни?
Вопрос не праздный.
Ведь Елена Сергеевна, всегда утверждала, что этим «другом» была именно она, тайная возлюбленная писателя. И кому, как не ей, могли быть адресованы частые обращения по ходу повествования: «мой нежный друг», «дружок» и так далее? Но всё‑таки…
О «тайной» булгаковской повести Елена Сергеевна рассказывала неоднократно. И в одном из таких рассказов история эта неожиданно оказалась изложенной чуть‑чуть по‑другому:
«… когда я отдыхала на Кавказе, Михаил Афанасьевич написал мне, что он „готовит к приезду подарок, достойный… „(У него была манера обрывать фразу на самом интересном месте)».
Здесь уже не совсем ясно, о каком подарке идёт речь, кому он предназначен и кого именно достоин. Да, Булгаков вполне мог приготовить Елене Сергеевне какой‑то сюрприз, который и вручил ей при встрече. И сочинявшуюся в тот момент повесть (или роман) вполне мог посвятить своей тайной возлюбленной…
Но только ли для неё писалось это произведение? Была ли она единственным «другом», который попал в заголовок повести?
Наши сомнения возникли потому, что в повести существует место, в котором у этого загадочного «тайного друга» неожиданно обнаруживается определение. И оно мужского рода:
«Отравленный [выделено мною, Э.Ф.] завистью, скрипнув зубами, швыряете вы журнал на стол, закуриваете, нестерпимый смрад поднимается от годами не чищеной пепельницы. Пахнет в редакции сапогами и почему‑то карболкой. На вешалке висят мокрые пальто сотрудников. Осень…»
Что это — описка Булгакова или опечатка в публикации?
Но даже если б не было этого неожиданного мужского рода, всё равно трудно себе представить, чтобы писатель мог так говорить о своей тогдашней возлюбленной. В самом деле, в приведённом нами отрывке «тайный друг» наделён чертами, довольно непривлекательными. Он «отравлен завистью», «скрипит зубами», «швыряет журнал», гасит свои папиросы в «годами не чищеной пепельнице», от которой к тому же поднимается «нестерпимый смрад».
И ещё. «Швыряние журнала» совершается явно в какой‑то редакции, в которой этот «тайный друг» служит. А Елена Сергеевна, как мы знаем, была гражданкой вполне обеспеченной и нигде не работала.
Сомнительно также, чтобы всегда безукоризненно корректный Михаил Афанасьевич сообщал бы своей любимой «тайной» подруге, что он, «счастливый избранник», уезжает в Америку «с женой и собачкой», и при этом называл бы собственную супругу «некрасивой женщиной». Согласитесь, это совсем не в стиле Булгакова.
Повесть начинается с обещания, которое автор даёт своему «бесценному другу»: правдиво рассказать о том, «каким образом» он «сделался драматургом». Однако биография героя повести изображена так, что можно сделать вывод довольно неожиданный: писательским трудом он занялся совершенно случайно — из‑за тоскливой безысходности, которую порождали до тошноты неинтересные служебные обязанности. И печататься стал не по своей воле, а под энергичным нажимом редактора по фамилии Рудольфи.
Зачем сообщать любимой женщине заведомую неправду?
Всё встанет на свои места, если предположить, что «тайная» повесть являлась как бы вариантом, черновиком некоей оправдательной записки. Она‑то и адресовалась «тайному другу», который, видимо, предупредил Булгакова о грозившей ему опасности.
Но что за опасность нависла в ту пору над писателем?
В чём ему надо было оправдываться?
Всё дело в том, что летом 1929 года разгорелся очередной литературный скандал. В центре его вновь оказался Борис Пильняк, опубликовавший свою только что написанную повесть «Красное дерево» в зарубежном издательстве. В зарубежном!
2 сентября «Литературная газета» напечатала покаянное письмо оскандалившегося писателя. А в редакционной статье грозно напоминалось:
«Писательская продукция, как и всякая иная творческая продукция, принадлежит Советскому Союзу прежде всего».
И делался вывод, что тот, кто печатается за рубежом, является предателем интересов страны Советов и самым настоящим вредителем.
В кругах московской творческой интеллигенции эта статья наделала много шума.
У Булгакова в это время в Париже вышла вторая (финальная) часть «Белой гвардии».
25 апреля 1929 года парижские «Последние новости» откликнулись на это событие критической статьёй писателя М. Осоргина. В ней, в частности, говорилось:
«Только что вышел второй том романа Михаила Булгакова „Дни Турбиных“. Судьба этого романа довольно необычайна…
Булгакову удалось доказать силу настоящей художественной правдивости: его роман, хотя бы только первый том и переделанная из романа пьеса, всё же терпятся в стране социального литературного заказа и обязательной марксистской тенденциозности; об него обломились копья официальной критики. Автора старались выставить идеологом белого движения; но роман его каждой строчкой доказал, что автор лишь идеолог человеческой чести; стрелы критики ударились в художественную броню, и ложь не пристала.
Роман, конечно, останется в литературе. Вероятно, он займёт в ней скромное место — искусной и правдивой хроники. Сейчас, в момент исключительный и в условиях необычных, он кажется выше подлинного своего значения и представляется почти подвигом художника».
Сам Булгаков вряд ли читал эту рецензию. Но какие‑то слухи об успехе «Белой гвардии» в далёкой Франции до него, видимо, дошли. Он понимал, что если обо всём этом узнает литературное начальство страны Советов, скандала (похлеще пильняковского) не избежать. И тогда уже никакая «художественная бронь» не спасёт.
И, не дожидаясь зачисления в литературные вредители, Михаил Афанасьевич срочно принялся писать оправдательный документ — нечто вроде покаянного письма автора «Красного дерева».
Так, скорее всего, и возникла необходимость написания рукописи, получившей название «Тайному другу». Когда же стало ясно, что за парижское издание никакого нагоняя не предвидится, Булгаков на полуслове прекратил сочинительство и подарил рукопись Елене Сергеевне.
А сам принялся за сочинение посланий влиятельным лицам.
Новые письма
Свои ощущения в тот момент Булгаков впоследствии описал в романе «Жизнь господина де Мольера», где сказано:
«… наш герой чувствовал себя как одинокий волк, ощущающий за собой дыхание резвых собак на волчьей садке.
И на волка навалились дружно…»
Поскольку этот «волк» на своё июльское обращение к «верхам» никакого ответа так и не получил, он решил вновь напомнить о себе. Всерьёз озабоченный теми ужасными последствиями, которые могли учинить ему власти, узнав о парижском издании. И 3 сентября 1929 года на свет появляется очередное послание, в котором излагается всё та же настоятельная просьба.
На этот раз письмо было адресовано вождю рангом пониже, однако занимавшему достаточно высокий властный пост:
«Секретарю ЦИК Союза ССР
АВЕЛЮ САФРОНОВИЧУ ЕНУКИДЗЕ
… Ввиду того, что абсолютная неприемлемость моих произведений для советской общественности очевидна, ввиду того, что завершившееся полное запрещение моих произведений в СССР обрекает меня на гибель… при безмерном утомлении, бесплодности всяких попыток, обращаюсь в верховный орган Союза — Центральный исполнительный комитет СССР и прошу разрешить мне вместе с женою моею Любовию Евгеньевной Булгаковой выехать за границу на тот срок, который Правительство Союза найдёт нужным назначить мне».
Этого письма Булгакову показалось мало, и в тот же день, 3 сентября, он направил письмо Горькому, в то время ненадолго вернувшемуся на родину и находившемуся в поездке по стране. В этом послании обращают на себя внимание полные отчаяния слова:
«Всё запрещено, я разорён, затравлен, в полном одиночестве». Любопытный пассаж, встречающийся нам уже не впервые: будучи женатым человеком и имея тайную возлюбленную, Михаил Афанасьевич жалуется на «полное одиночество».
Прося Горького поддержать его ходатайство о получении выездной визы, он сообщал:
«Я хотел в подробном письме изложить Вам всё, что произошло со мной, но моё утомление, безнадёжность безмерны. Не могу ничего писать».
Как же так? О «безмерности» своего «утомления» и полной «безнадёжности» заявлял человек, который в это же самое время, очаровавшись замужней женщиной, вовсю крутил с нею роман, засыпал её письмами, полными шуток и остроумных экспромтов? Иными словами, о полной невозможности «ничего писать», сообщал человек, который в это же самое время преспокойно сочинял повесть (или даже роман) под названием «Тайному другу».
Чему верить?
Где настоящая правда?
Выходит, права была Л.Е. Белозёрская, давая мужу прозвище «притворяшка»?
Да, ситуация прелюбопытнейшая.
В самом деле, представим себе, что некий человек вознамерился посмеяться над властью. Любая власть, как известно, не любит, когда её начинают вышучивать. Стоит ли удивляться, что лихого пересмешника одним ударом сбили с ног и крепко зажали рот. Да ещё и сказали при этом, что ведёт он себя плохо, что властям его поведение весьма и весьма не нравится.
Как в подобной ситуации следует поступить поверженному шутнику? Наверное, извиниться, признать своё поражение. И смириться. Либо затаиться, спрятав кукиш в кармане.
А Михаил Булгаков принялся рассылать письма, адресованные той самой власти, над которой он столько куражился. Жалуясь на то, что он повержен, разорён, затравлен и находится в полном одиночестве…
Что можно сказать по этому поводу?
Да, Булгакову режим большевиков не нравился, и он объявил ему войну. Но большевики перешли в наступление и обложили писателя со всех сторон.
Как должен был отреагировать на это поверженный литератор?
Наверное, ему прежде всего следовало признать, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят, и признать своё поражение. На войне, как на войне! Проигрывать тоже надо уметь с достоинством.
Тем временем судьбой писателя Булгакова заинтересовались члены политбюро.
«Протокол № 96 от 5 сентября 1929 года
Строго секретно
17. О Булгакове.
Постановили:
17. Отложить».
Отчего вожди не приняли никакого решения по обсуждавшемуся вопросу, неизвестно.
На следующий день Булгаков отправил письмо в Париж, брату Николаю:
«Милый Коля,
от тебя нет ответа на то письмо моё, в котором я сообщал тебе о моём положении. Начинаю думать, что ты его не получил. После него мною тебе отправлено письмо, где я просил проверить слух о том, что на французском языке появилась якобы моя запрещённая повесть „Собачье сердце “. Жду известий от тебя».
Булгаков явно боялся, как бы публикация за рубежом его запрещённой повести не обернулась бы бедой, из которой уже не выкарабкаться.
Через несколько дней вожди вновь обсуждали судьбу писателя.
«Протокол № 97 от 12 сентября 1929 года
Строго секретно
26. О Булгакове.
Постановили:
26. Снять вопрос».
В чём была суть вопроса, стоявшего под номером 26 (знакомые нам «два раза по 13»), и почему постановили его «снять», неизвестно. Может быть, высшая партийная инстанция не решилась рассматривать булгаковское дело в отсутствии отдыхавшего на юге Сталина? А может, понадеялась на старое бюрократическое правило: стоит дело отложить — оно и разрешится само собой?
Вот «вопрос» и сняли.
Однако дневники — те, что были отобраны при обыске, через какое‑то время Булгакову всё же вернули.
А 15 сентября «Известия» с явным удовлетворением подводили итог антибулгаковской кампании:
«В этом сезоне зритель не у видит булгаковских пьес. Закрылась «Зойкина квартира», кончились «Дни Турбиных», исчез «Багровый остров»… Такой Булгаков не нужен советскому театру… Справедливость требует сказать, что сами театры не включили этих пьес в текущий репертуар».
Драматургу как бы лишний раз напоминали, что запретные санкции против него осуществляет не власть, а сами театры наконец‑то прозрели и сами отказываются от ненужных советскому зрителю пьес.
28 сентября Булгаков пишет письмо Горькому:
«Многоуважаемый Алексей Максимович!
Евгений Иванович Замятин сообщил мне, что Вы моё письмо получили, но что Вам желательно иметь копию с него…
Я хотел написать Вам подробно о том, что со мною происходит, но безмерная моя усталость уже не даёт мне работать.
Одно могу сказать: зачем задерживают в СССР писателя, произведения которого существовать в СССР не могут? Чтобы обречь его на гибель?
Прошу о гуманной резолюции — отпустить меня. Вас убедительно прошу ходатайствовать за меня…
К этому письму теперь мне хотелось бы добавить следующее: Все мои пьесы запрещены, нигде ни одной строки моей не напечатают, никакой готовой работы у меня нет, ни копейки авторского гонорара ниоткуда не поступает.
Ни одно учреждение, ни одно лицо на мои заявления не отвечает, словом — всё, что написано мной за 10 лет работы в СССР; уничтожено. Остаётся уничтожить последнее, что осталось — меня самого. Прошу вынести гуманное решение отпустит/) меня!
Уважающий Вас
М. Булгаков».
В этом послании хочется выделить и такие слова:
«… всё, что написано мной за 10 лет работы в СССР, уничтожено. Остаётся уничтожить последнее, что осталось — меня самого. Прошу вынести гуманное решение — отпустить меня!»
В октябре дирекция МХАТа известила драматурга о том, что в связи с запрещением «Бега» ему (в соответствии с условиями договора) надлежит вернуть театру аванс в размере 1000 рублей. Таких денег у Булгакова не было.
В этот‑то момент его и навестил приехавший в Москву Евгений Замятин. На следующий день он послал жене письмо, в котором проинформировал её о том, что был…
«… у Михаила Афанасьевича. У него какие‑то сердечные припадки, пил валерьянку, лежал в постели».
На самом ли деле Булгаков чувствовал себя в тот день плохо? Вопрос возник не случайно. Потому как есть подозрения, что «сердечные припадки» вполне могли быть очередным булгаковским притворством, небольшим домашним спектаклем, который давался заезжему гостю, чтобы тот рассказал всем о том, как ужасно чувствует себя затравленный писатель. Именно на такое толкование наводит всё то же письмо Замятина, в котором сказано, что на следующий день супруги Булгаковы приглашены в гости к актёру театра имени Вахтангова Рубену Симонову. Вот и выходит, что дела со здоровьем у Михаила Афанасьевича были не так уж и плохи, раз наносил он дружеские визиты?
А над близкими знакомыми Булгакова (Б.В. Шапошниковым, Ф.А. Петровским и С.С. Топленниковым) в те же самые дни действительно нависли чёрные тучи. В конце октября все трое были арестованы и высланы из Москвы в провинцию. Жена последнего, М.Г.Нестеренко, впоследствии вспоминала («Жизнеописание Михаила Булгакова»):
«Когда Серёжу выслали, Лямины и Булгаков приходили ко мне — вчетвером играть в винт. Они уходили вместе, а он потом возвращался».
Как видим, здоровья у «разорённого», «затравленного» и очень «одинокого» Булгакова с лихвой хватало не только на то, чтобы часами играть в карты, но чтобы ещё и «возвращаться» после завершения игры (явно не по карточным делам) к весёлой и привлекательной хозяйке.
А вот с финансами было действительно туго. Запрещённые пьесы дохода больше не приносили, а налоги приходилось платить в прежнем размере. Нужно было срочно каким‑то образом выправлять ситуацию. И Булгаков нашёл способ одним ударом убить двух зайцев: заработать на жизнь и отомстить властям.
Пьеса с подковыркой
Через два дня после получения мхатовского требования возвратить аванс (16 октября 1929 года) Михаил Булгаков принялся сочинять пьесу.
К этому времени Сельвинский и Маяковский свои очередные драматургические произведения уже создали. Первый написал «Теорию юриста Лютце», второй — «Баню». Пьесу Сельвинского намеревались ставить вахтанговцы, пьесу Маяковского — в театре Мейерхольда.
«Теория…» и «Баня» едко критиковали советскую бюрократическую систему. При этом оба автора, не сговариваясь, высмеивали некий «ПУП». У Сельвинского это была «Партия Угнетённого Плебса». А в пьесе Маяковского главный герой занимал пост главного начальника по управлению согласованием, то есть был главначПУПсом. В этом забавном словечке прочитывался намёк на Главное Политическое Управление, то есть на ГПУ, которое тогдашние шутники иначе как «ПУПом» и не называли. Не случайно «Теорию юриста Лютце» сразу же начал «шерстить» Главрепертком.
У «Бани» тоже возникли неприятности. Хотя, когда Маяковский впервые прочёл друзьям свою новую пьесу, её приняли восторженно. Мейерхольд, по свидетельству очевидцев, вновь упал перед автором на колени, крича:
«— Мольер! Шекспир! Гоголь!»
Газеты тотчас осыпали Маяковского восторженными статьями. В некоторых из них его драматургический талант сравнивался с мольеровским.
Мариэтта Чудакова в книге «Жизнеописание Михаила Булгакова» выдвинула предположение, что подобное сравнение должно было вызвать у Михаила Афанасьевича весьма ревнивую реакцию:
«Мольер?.. Я покажу вам, каков был действительно Мольер и кто сегодня может сравниться с ним по справедливости!».
И Булгаков решил сочинить пьесу о французском драматурге.
К Мольеру у Булгакова с юных лет было особое отношение. Хотя бы потому, что умер великий французский драматург от той же коварной болезни, что и его отец Афанасий Иванович. Да и пьесу свою Михаил Афанасьевич начал писать намного раньше, чем появились первые отклики на «Баню». И в пьесе своей он хотел сказать не столько о величии Мольера, сколько о тех печалях и невзгодах, что на каждом шагу подстерегали короля французской сцены.
О том, как начиналась эта работа, впоследствии рассказала Елена Сергеевна:
«Как‑то осенью 29 года Михаил Афанасьевич очень уж настойчиво звал по телефону — придти к нему на Пироговскую. Пришла. Он запер тщательно все двери — входную, из передней в столовую, из столовой в кабинет. Загнал меня в угол около чёрной круглой печки, и, всё время оглядываясь, шёпотом сказал — что есть важнейшее известие, сейчас скажет. Я привыкла к его розыгрышам, выдумкам, фокусам, но тут и я не смогла догадаться — шутит он или всерьёз говорит.
Потребовал тысячу клятв в молчании, наконец, сообщил, что надумал написать пьесу.
— Ну! Современную?..
— Подожди! — опять стал проверять двери, шептать заклинания, оглядываться…
— … пьеса о Мольере!.. Но смотри, ни‑ко‑му ни слова!».
Посвятив свою тайную подругу в очередной тайный проект, Булгаков привлёк её и к делу написания самой пьесы. В письме к брату (от 13 февраля 1961 года) Елена Сергеевна рассказывала:
«С осени 1929 года… мы стали ходить с ним в Ленинскую библиотеку… надо было выписывать из французов всё, что было нужно ему».
А «нужно» Булгакову было всё, что имело отношение к временам французского абсолютизма, когда жил и творил великий драматург.
У задуманной пьесы было несколько вариантов названия: «Заговор ханжей», «Заговор святош», «Кабала святош»… В конце концов, Михаил Афанасьевич остановился на последнем.
И вновь слово — Елене Сергеевне:
«Пьесу писал больше всего по утрам, вставал рано, часов в шесть, зажигал свечи — канделябр, поставив его на печку… Сам в халате, надев наушники и слушая утреннюю музыку, садился к этой печке и писал».
В основу сюжета «Кабалы святош» легла судьба мольеровского «Тартюфа»: как пьесу запрещали, как Мольер просил у короля защиты, как она возвращалась на сцену, и как вновь сгущались над нею тучи. Но удивительное дело, эта история под пером Булгакова неожиданно стала очень современной. Рассказ о событиях, случившихся в давние времена и в дальнем зарубежье, напомнил вдруг о том, что совсем недавно произошло с драматургом советским в стране победившего пролетариата.
Открывает «Кабалу святош» двустишье на французском языке. Тут же в сноске даётся его перевод:
«Нет ничего, чего бы недоставало для его славы,
Его недоставало для нашей славы».
О ком эти слова? Разумеется, о Мольере. Но ведь в равной степени их можно отнести и к любому другому писателю, который, создав немало «славных» произведений, вынужден под давлением злобных сил замолчать.
Иными словами, получается, что Булгаков имел в виду самого себя?
Этот вопрос сразу возникал у каждого, кто прочитывал или выслушивал «Кабалу святош».
От эпиграфа перейдём к пьесе. Она начинается с того, что в театре Мольера появляется король, и великий драматург обращается к монарху с льстивой речью:
«МОЛЬЕР. Ваше Величество. Светлейший государь… Актёры труппы Господина, всевернейшие и всеподданнейшие слуги ваши, поручили мне благодарить вас за ту неслыханную честь, которую вы оказали нам, посетив наш театр…
Вы несёте для нас королевское бремя.
Я — комедиант, — ничтожная роль.
Но я славен уж тем, что играл в твоё время,
Людовик!..
Великий!!.. (повышает голос)
Французский!!., (кричит)
Король!!., (бросает шляпу в воздух)»
Мольер угодничает, но делает это не без умысла. Роль шута ему необходима для того чтобы иметь возможность работать — писать пьесы и ставить их в театре. Ведь желающих лишить его этой возможности предостаточно. Если они победят, великий драматург будет опозорен, и его жизнь закончится:
«МОЛЬЕР…. у меня уже появились морщины, я начинаю седеть. Я окружён врагами, и позор убьёт меня».
Кто же они — враги Мольера? Вот один из них, отец Варфоломей, пришедший к королю с жалобой на крамольного драматурга:
«… появляется отец Варфоломей. Во‑первых, он босой, во‑вторых, лохмат, подпоясан верёвкой, глаза безумные.
ВАРФОЛОМЕЙ (приплясывая, поёт). Мы полоумны во Христе!.. Славнейший царь мира. Я пришёл к тебе, чтобы сообщить, что у тебя в государстве появился антихрист.
У придворных на лицах отупение.
Безбожник, ядовитый червь, грызущий подножие твоего трона, носит имя Жан‑Батист Мольер. Сожги его, вместе с его богомерзким творением „Тартюф“, на площади. Весь мир верных сыновей церкви требует этого».
Вроде бы вполне невинный эпизод, воспроизводящий нравы, царившие во времена абсолютизма. Но стоит заменить «церковь» на «партию», «Христа» на «Маркса», «Тартюфа» на «Дни Турбиных», «Мольера» на «Булгакова», а «славнейшего царя» на «генерального секретаря», как XVII век мгновенно превратится в век ХХ‑ый. А преследование французского комедиографа религиозными святошами — в травлю советского драматурга Булгакова партийными ортодоксами.
Впрочем, и без этих «замен» намёки на современность видны в пьесе невооружённым глазом.
Так, действие второе начинается с того, что маркиз де Лессак играет в карты с королём Людовиком. Казалось бы, что тут особенного? Обычная житейская сцена. Но в 1929 году она воспринималась как намёк, поскольку у всех в памяти свежи были слова Горького (уже приводившиеся нами):
«Наше правительство? Лодыри! В подкидного дурака играют!»
Во время этой игры:
«Сидит один Людовик, все остальные стоят… за креслом стоит Одноглазый, ведёт игру короля».
Кто он — этот «одноглазый» персонаж? В списке действующих лиц пьесы он представлен так:
«Маркиз д’Орсиньи, дуэлянт, но кличке „Одноглазый “ „Помолись!“.
Слово «кличка» в этом представлении явно призвано было напомнить современникам Булгакова о кличках партийных. Но почему у маркиза они такие странные?
В древнегреческих мифах существо с одним глазом зовётся цикло пом. Вглядимся в слова: «Ц иК лоп», «О дноглазый», «П омолись»! Не правда ли, знакомое сочетание букв: Ц, К, О и П! Они встречались нам, когда речь заходила о Керженцеве, ответственном работнике О т дела А гитации и П ропаганды ЦК (ОАП ЦК). Кстати, не его ли запечатлел драматург в образе одноглазого дуэлянта?
Подобное «копание» в буквах кому‑то может показаться занятием абсолютно никчёмным. А уж поиски в них какого‑то тайного смысла могут и вовсе вызвать подозрения, что у самого «искателя» фантазия разыгралась настолько сильно, что начала слегка «зашкаливать».
«Диагноз» этот был бы абсолютно справедливым, если бы через два года Илья Сельвинский не написал пьесу «Пао‑Пао», главным героем которой была обезьяна по кличке Пао. А ПАО — это (в перевёрнутом виде) всё та же аббревиатура О тдела А гитации и П ропаганды ЦК ВКП(б). Неужели это тоже случайность? Не слишком ли много «случайных» совпадений, обнаруживаемых вокруг партийного органа, досаждавшего тогда очень многим?
Но вернёмся к «Кабале святош». Аббревиатура названия пьесы — «К.С.» — идентична инициалам вождя. Ведь это в 30‑х годах Сталин стал для всех Иосифом Виссарионовичем. В 20‑е же годы его ещё продолжали называть кличкой, сохранившейся со времён подполья — К оба С талин. Те же К.С., что и в названии пьесы. Да и сами слова «Коба» и «Кабала» очень созвучны.
Один из персонажей пьесы (королевский шут) назван Справедливым сапожником. Монарх то и дело обращается к нему за советами. И шут их даёт, дурачась и веселя Людовика.
Почему драматург сделал своего «справедливого» героя именно «сапожником»? Почему не «садовником», не «пекарем» или не «лекарем»? Да потому, что сапожником был отец Сталина. И современникам Булгакова это было хорошо известно.
Прозвище шута (Справедливый Сапожник) по‑французски звучит как «Juste Cordonnier» или «Жу ст Ко рдоньер». Так и тянет предположить, что слогом «ко» Булгаков отсылает нас к Ко бе, а слогом «жу» — к фамилии Джу гашвили.
Пригласив Мольера в королевский дворец, король внезапно предлагает ему:
«ЛЮДОВИК. Сегодня вы будете стелить мне постель».
И Мольер идёт исполнять королевскую волю. Идёт с гордостью!.. В этом эпизоде автор, видимо, надеялся на зрителей, которые должны помнить поговорку о том, что постелить можно мягко, да спать будет жёстко.
По ходу пьесы король вслух размышляет о Мольере. Однако трудно отделаться от ощущения, что аналогичные слова, но уже в свой адрес, хотел услышать сам Булгаков:
«ЛЮДОВИК. Дерзкий актёр талантлив… я попробую исправить его, он может служить к славе царствования. Но если он совершит ещё одну дерзость, я накажу».
Но вот король обращается к Мольеру с вопросом:
«ЛЮДОВИК. Скажите, чем подарит короля в ближайшее время ваше талантливое перо?
МОЛЬЕР. Государь… то, что может… послужить… (Волнуется.)
ЛЮДОВИК. Остро пишете. Но следует знать, что есть темы, которых надо касаться с осторожностью. А в вашем „Тартюфе“ вы были, согласитесь, неосторожны. Духовных лиц надлежит уважать. Я надеюсь, что мой писатель не может быть безбожником?
МОЛЬЕР (испуганно). Помилуйте… ваше величество…
ЛЮДОВИК. Твёрдо веря в то, что в дальнейшем ваше творчество пойдёт по правильному пути, я вам разрешаю играть в Пале‑Рояле вашу пьесу „Тартюф“.
МОЛЬЕР (приходит в странное состояние). Люблю тебя, король!..»
Разве не хотелось Булгакову, чтобы с теми же словами к нему обратился большевистский «король»? Разве не мечтал опальный драматург о том, чтобы его «Дни Турбиных» вновь пошли на сцене. И если для этого потребовалось бы… Да он бы отдал всё, что угодно.
Неужели всё?
Нет, конечно. Булгаков прекрасно понимал, какую цену пришлось бы ему заплатить за право видеть свои пьесы на театральных подмостках страны Советов. Знал, что, какие бы уступки ни делал большевистскому режиму, он всё равно останется в проигрыше. Потому и вложил в уста Мольера полные печали слова:
«МОЛЬЕР. Всю жизнь я ему лизал шпоры и думал только одно: не раздави. И вот всё‑таки — раздавил! Тиран!.. я, может быть, вам мало льстил? Я, может быть, мало ползал? Ваше величество, где же вы найдёте такого другого блюдолиза, как Мольер?..
Что ещё я должен сделать, чтобы доказать, что я червь? Но, ваше величество, я писатель, я мыслю, знаете ли, и протестую».
Пьеса завершается словами актёра Лагранжа, летописца мольеровского театра. Только что (прямо на сцене) скончался великий драматург, и Лагранж пытается понять, почему это произошло:
«ЛАГРАНЖ. Что же явилось причиной этого? Что? Как записать? Причиной этого явилась ли немилость короля или чёрная Кабала?.. (Думает) Причиной этого явилась судьба. Так я и запишу. (Пишет и угасает во тьме)».
Вот такая пьеса вышла из‑под пера Михаила Булгакова.
Великий перелом
Пока Булгаков сочинял пьесу о Мольере, страна Советов переживала очередной «переломный» момент. 10 ноября 1929 года пленум ЦК ВКП(б) постановил:
«1. Т. Бухарина, как застрельщика и руководителя правых уклонистов, вывести из состава Политбюро.
2. Т.т. Рыкова, Томского и Угарова строго предупредить». Это означало, что борьба с «правым уклоном» вошла в решающую стадию. «Уклонистов» искали теперь всюду, даже среди литераторов. А опасная — и потому обидная вдвойне — кличка «правый» давно уже прочно закрепилась за Булгаковым.
А он 16 ноября как ни в чём не бывало пришёл на юбилейный «Никитинский субботник», отмечавший в тот день своё 15‑летие. К торжественному событию было приурочено важное мероприятие: Фёдор Раскольников должен был читать только что написанную им пьесу «Робеспьер».
Чтение состоялось. Булгаков в пух и прах раскритиковал услышанное. И, как ни странно, очень многие его поддержали. Когда обсуждение завершилось, Михаил Афанасьевич…
«… поднялся и направился к выходу. Почувствовав на спине холодок, обернулся и увидел ненавидящие глаза Раскольникова. Рука его тянулась к карману…»
«… повернулся к двери. „Выстрелит в спину? “»
Никакого выстрела, разумеется, не последовало. Но нанесённую обиду Раскольников запомнил надолго. Тогда его только что «перебросили» из Главреперткома в кресло редактора журнала «Красная новь» (вместо сосланного в Липецк троцкиста Воронского). И Раскольников тотчас заявил в интервью «Вечерней Москве»:
«Во всех своих отделах „Красная новь „будет вести непримиримую борьбу с обострившейся правой опасностью… В одном из очередных номеров журнала будет напечатана критическая статья, вскрывающая реакционный творческий путь такого типичного необуржуазного писателя, как Михаил Булгаков».
Это означало, что на драматурга, ставшего отныне «правым», объявлялась очередная охота. И происходило это в те же самые дни, когда специальным декретом ЦИКа (от 29 декабря) строго настрого была запрещена «неуважительная» критика Горького.
Между этими двумя событиями (началом «охоты» и выходом запретительного декрета) неожиданно наступило затишье. Все политические сражения были преданы забвению. Всеобщее внимание было направлено на более важное мероприятие. Как напишет чуть позднее Михаил Булгаков («Жизнь господина де Мольера»)…
«… в воздухе вдруг наступила зловещая тишина, которая обычно бывает перед большим шумом».
Шум действительно предстоял огромный — ведь страна готовилась торжественно отметить знаменательную дату: 21 декабря 1929 года Иосифу Виссарионовичу Сталину исполнялось 50 лет.
Булгаков оказался в числе тех немногих, кому было не до празднований. Он жил своей жизнью. 6 декабря был закончен первый вариант «Кабалы святош». И Михаил Афанасьевич тотчас позвонил Елене Сергеевне:
«… попросил, чтобы я перевезла на Пироговскую свой ундер‑вуд. Начал диктовать…»
7 декабря пришла долгожданная справка из Драмсоюза. В ней Михаилу Афанасьевичу сообщалось, что присланный документ составлен…
«… для представления Фининспекции в том, что его пьесы:
1. „Дни Турбиных“,
2. „Зойкина квартира“,
3. „Багровый остров“,
запрещены к публичному исполнению».
Отныне прежних (ставших просто непосильными) налогов платить было не нужно. Но Булгакова это уже не волновало, его заботила лишь судьба только что написанной пьесы. Ожидая решения своей (и её) участи, он читал «Кабалу святош» друзьям и знакомым. Их реакция была восторженной. Но сомнений и опасений высказывалось тоже немало.
И вновь драматурга охватывали нехорошие предчувствия. 28 декабря он написал брату Николаю:
«Положение моё тягостно».
Наступил год 1930‑ый, второй год первой советской пятилетки. Её ещё не называли сталинской, но отдельные приметы «новой эпохи» люди уже начали примечать. К примеру, литератор Григорий Осипович Гаузнер (ещё не так давно входивший в возглавлявшийся Ильёй Сельвинским Литературный центр конструктивистов) записывал в дневнике:
«В Москве очереди у магазинов. И уличные драки из‑за такси, которых катастрофически не хватает…»
Но мелкие жизненные неурядицы Булгакова не волновали, он почти не выходил из дома — шла перепечатка пьесы. 16 января она была отдана во МХАТ, и Михаил Афанасьевич написал брату в Париж:
«… Сообщаю о себе:
все мои литературные произведения погибли, а также и замыслы. Я обречён на молчание и, очень возможно, на полную голодовку. В неимоверно трудных условиях во второй половине 1929 г. я написал пьесу о Мольере. Лучшими специалистами в Москве она была признана самой сильной из моих пяти пьес… Мучения с ней уже продолжаются полтора месяца, несмотря на то, что это Мольер, 17‑ый век, несмотря на то, что современности в ней я никак не затронул.
Если погибнет эта пьеса, средств спасения у меня нет. Совершенно трезво сознаю: корабль мой тонет, вода идёт ко мне на мостик. Нужно мужественно тонуть…
Если есть какая‑нибудь возможность прислать мой гонорар (банк? чек? Я не знаю, как), прошу прислать: у меня нет ни одной копейки. Я надеюсь, конечно, эта присылка будет официальной, чтобы не вызвать каких‑нибудь неприятностей для нас».
И вновь лукавил драматург, сообщая о том, что в его новой пьесе нет никакой «современности». Даже читая 19 января «Кабалу святош» во МХАТе, он уверял слушавших в том, что всего лишь…
«… хотел написать пьесу о светлом, ярком гении Мольера, задавленном чёрной кабалой святош при полном попустительстве абсолютной, удушающей силы короля».
Но сразу же после читки все в один голос заявили, что в Мольере легко угадываются черты самого Михаила Булгакова. Об этом же чуть позднее напишет и Горький. О том, чьи черты «легко угадывались» в образе короля Людовика, вслух говорить не решались.
Впрочем, что это были за «ценители», видно из агентурной сводки, посланной по начальству очередным осведомителем:
«Булгаков… говорил о своей новой пьесе из жизни Мольера: пьеса принята (кажется, МХАТ‑1), но пока лежит в Главреперткоме и её судьба „темна и загадочна“. Когда он читал пьесу в театре, то актёров не было (назначили читку нарочно тогда, когда все заняты), но зато худполитсовет (рабочий) был в полном составе. Члены совета проявили глубокое невежество, один называл Мольера Миллером, другой, услышав слово „maitre“ (учитель, обычное старофранцузское обращение), принял его за „метр“ и упрекнул Булгакова в незнании того, что во времена Мольера „метрической системы не было“».
4 февраля в очередном письме брату Николаю прозвучала та же тоскливая тема:
«Положение моё трудно и страшно».
11 февраля Булгаков читал «Кабалу святош» в Драмсоюзе. Об этой «читке» тоже сохранился донос агента‑осведомителя:
«Обычно оживлённые вторники в Драмсоюзе ни разу не проходили в столь напряжённом и приподнятом настроении большого дня, обещающего интереснейшую дискуссию, как в отчётный вторник, центром которого была не только новая пьеса Булгакова, но и, главным образом, он сам — опальный автор, как бы возглавляющий (по праву давности) всю опальную плеяду Пильняка, Замятина, Клычкова и К. Собрались драматурги с жёнами и, видимо, кое‑кто из посторонней публики, привлечённой лучами будущей запрещённой пьесы (в том, что она будет обязательно запрещена — почему‑то никто не сомневается даже после прочтения пьесы), в цензурном смысле внешне невинной».
Агент‑доносчик как в воду смотрел. Ровно через неделю, 18‑го февраля, Булгаков получил официальное уведомление, в котором говорилось, что его пьеса к постановке в советских театрах не рекомендуется.
21 февраля он написал в Париж:
«Судьба моя была запутанна и страшна. Теперь она приводит меня к молчанию, а для писателя это равносильно смерти…
Я свою писательскую задачу в условиях неимоверной трудности пытался выполнить как должно. Ныне моя работа остановлена… По ночам я мучительно напрягаю голову, выдумывая средства к спасению. Но ничего не видно. Кому бы, думаю, ещё написать заявление?..
15 марта наступит первый платёж фининспекции (подоходный налог за прошлый год). Полагаю, что, если какого‑нибудь чуда не случится, в квартирке моей маленькой и сырой вдребезги (кстати, я несколько лет болею ревматизмом) не останется ни одного предмета. Барахло меня трогает мало. Ну, стулья, чашки, чёрт с ними. Боюсь за книги! Библиотека у меня плохая, но всё же без книг мне гроб! Когда я работаю, я работаю очень серьёзно — надо много читать.
Всё, что начинается со слов “ 15 марта“, не имеет делового характера — это не значит, что я жалуюсь или взываю о помощи в этом вопросе, сообщаю так, для собственного развлечения».
А агентурные сводки в это время сообщали о Булгакове, что «он проедает часы, и остаётся ещё цепочка».
Именно тогда писатель сжёг большую часть своих рукописей и всерьёз раздумывал о том, чтобы покончить жизнь самоубийством.
Так в жизни Михаила Булгакова завершилась полоса, которую с полным правом можно назвать «На вершине Олимпа». Большевики сбросили его со священной горы. Оставшуюся жизнь он вынужден был провести у её подножья.
Часть третья У подножья Олимпа
Глава первая Смена профессии
Полная безнадежность
Год 1930‑ый продолжал удивлять литератора Григория Гаузнера своими неожиданностями, и в его дневнике появились новые приметы времени:
«Трамвай… Двое или трое стоя читают, ухватившись за петли…
Чиновники в учреждениях носят как вицмундир русскую рубашку и сапоги. А дома с облегчением переодеваются в европейский костюм. Сродни петровским временам, когда было наоборот…
Ломают церкви. Все проходят мимо. Церкви ломают повсюду…
Вокруг бестолковые и преданные люди. Странное соединение энтузиазма и равнодушия».
На эти приметы тогдашнего советского быта Булгаков вряд ли обращал внимание — ведь вот уже пять лет он нигде не служил. И заработной платы не получал. А после запрещения «Кабалы святош» положение опального драматурга стало просто отчаянным. Последние надежды на возможность хоть какого‑то заработка рухнули окончательно. Татьяна Николаевна вспоминала, что Михаил Афанасьевич, изредка заходивший к ней, появился и тогда, когда…
«… у него самого дела пошли не очень. Говорил:
— Никто не хочет меня, не берут мои вещи. В общем, ненужный человек».
В письме брату Николаю в Париж (от 21 февраля) есть такие строки:
«По ночам я мучительно напрягаю голову, выдумывая средство к спасению. Но ничего не видно. Кому бы, думаю, ещё написать заявление?..
Я, правда, не мастер писать письма: бьёшься, бьёшься, слова не лезут с пера, мысли своей как следует выразить не могу…»
В агентурной сводке, составленной в ОГПУ по донесениям осведомителей, говорилось, что Булгаков…
«… снова пытается писать фельетоны… в какой‑то медицинской газете или журнале его фельетон отклонили, потребовав политического и „стопроцентного“. Булгаков же считает, что теперь он не может себе позволить писать „стопроцентно“: „неприлично“».
Михаил Булгаков
О той же поре в жизни Булгакова рассказывала впоследствии и Елена Сергеевна Шиловская:
«Ни одной строчки его не печатали, на работу не брали не только репортёром, но даже типографским рабочим. Во МХАТе отказали, когда он об этом поставил вопрос.
Словом, выход один — кончать жизнь».
Попавшего в опалу драматурга власти просто не замечали. Но при этом имя его с газетных полос не исчезло: в статьях то и дело вспоминали «правобуржуазного» писателя, проникшего в пролетарскую литературу, разнося в пух и прах его пьесы, повести и даже неопубликованный роман. Иными словами, огонь по «булгаковщине» продолжали вести прицельный и очень интенсивный. Вот тогда‑то и наступила та самая «третья» стадия, о которой в «Мастере и Маргарите» сказано:
«… наступила третья стадия — страха. Нет, не страха этих статей…, а страха перед другими, совершенно не относящимися к ним или к роману вещами. Так, например, я стал бояться темноты. Словом, наступила стадия психического заболевания. Мне казалось, в особенности когда я засыпал, что какой‑то очень гибкий и холодный спрут своими щупальцами подбирается непосредственно и прямо к моему сердцу. И спать мне пришлось с огнём».
И ещё у Булгакова стало дёргаться плечо. Время от времени накатывался страх одиночества, появилась боязнь многолюдных сборищ. По его же собственным словам, в тот момент ему…
«… по картам выходило одно — поставить точку, выстрелив в себя».
Аналогичная ситуация, как мы помним, у него уже возникала — в самом начале 1921‑го. Вспомним, что написано о ней в рассказе «Сорок сороков»:
«… и совершенно ясно и просто передо мною лёг лотерейный билет с подписью — смерть».
Именно в этот момент в квартире Булгакова и появился спаситель. Это был писатель В.В. Вересаев, между прочим, тоже врач по профессии. Сохранилось свидетельство о том, как проходила та встреча собратьев по лекарскому диплому и по перу:
«— Я знаю, Михаил Афанасьевич, что вам сейчас трудно, — сказал Вересаев своим глухим голосом, вынимая из портфеля завёрнутый в газету свёрток. — Вот, возьмите. Здесь пять тысяч. Отдадите, когда разбогатеете.
И ушёл, даже не выслушав слов благодарности».
На какое‑то время финансовый вопрос был, как говорили в те годы, снят с повестки дня. Немного успокоившийся Булгаков принялся составлять послание на самый «верх». Оно стало для него своеобразным подведением итогов творчества и состояло из одиннадцати небольших главок.
Вот некоторые фрагменты:
«ПРАВИТЕЛЬСТВУ СССР
Михаила Афанасьевича Булгакова
(Москва, Пироговская, 35 а, кв. 6)
Я обращаюсь к Правительству СССР со следующим письмом:
После того, как все мои произведения были запрещены, среди многих граждан, которым я известен как писатель, стали раздаваться голоса, подающие мне один и тот же совет: сочинить „коммунистическую пьесу “ (в кавычках я привожу цитаты), а кроме того, обратиться к Правительству СССР с покаянным письмом, содержащем в себе отказ от прежних моих взглядов, уверения в том, что отныне я буду работать как преданный идее коммунизма писатель‑попутчик.
Цель: спастись от гонений, нищеты и неизбежной гибели в финале.
Этого совета я не послушался… Попыток же сочинить коммунистическую пьесу я даже не производил, зная заведомо, что такая пьеса у меня не выйдет.
Произведя анализ своих альбомных вырезок, я обнаружил в прессе СССР за десять лет моей литературной работы 301 отзыв обо мне. Из них: похвальных — было 3, враждебно‑ругательных — 298…
Я доказываю с документами в руках, что вся пресса СССР, а с нею вместе и все учреждения, которым поручен контроль репертуара, единодушно и С НЕОБЫКНОВЕННОЙ ЯРОСТЬЮ доказывали, что произведения Михаила Булгакова в СССР не могут существовать.
И я заявляю, что пресса СССР СОВЕРШЕННО ПРАВА».
Далее Булгаков заявлял о том, что главной своей задачей как писателя считал и считает «борьбу с цензурой». Отсюда, дескать, и все его постоянные призывы к «свободе печати»: «Я не шёпотом в углу выражал эти мысли».
Затем следовала четвёртая главка:
«Вот одна из черт моего творчества и её одной совершенно достаточно, чтобы мои произведения не существовали в СССР. Но с первой чертой в связи все остальные, выступающие в моих сатирических повестях: чёрные и мистические краски (я — МИСТИЧЕСКИЙ ПИСАТЕЛЬ), в которых изображены бесчисленные уродства нашего быта, яд, которым пропитан мой язык, глубокий скептицизм в отношении революционного процесса, происходящего в моей отсталой стране, и противопоставление ему излюбленной и Великой Эволюции, а самое главное — изображение страшных черт моего народа, тех черт, которые задолго до революции вызывали глубочайшие страдания моего учителя М.Е. Салтыкова‑Щедрина.
Нечего и говорить, что пресса СССР и не подумала серьёзно отметить всё это, занятая малоубедительными сообщениями о том, что в сатире М.Булгакова — „КЛЕВЕТА“…
Мыслим ли я в СССР?»
Приведя несколько характерных примеров своей (неугодной стране Советов) крамолы, Булгаков завершал собственный «литературный портрет»:
Ныне я уничтожен.
Уничтожение это было встречено советской общественностью с полною радостью и названо „ДОСТИЖЕНИЕМ“…
18 марта 1930 года я получил из Главреперткома бумагу, лаконически сообщающую, что не прошлая, а новая моя пьеса „Кабала святош“ („Мольер“) К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ НЕ РАЗРЕШЕНА.
Скажу коротко: под двумя строчками казённой бумаги погребены — работа в книгохранилищах, моя фантазия, пьеса, получившая от квалифицированных театральных специалистов бесчисленные отзывы — блестящая пьеса…
Погибли не только мои прошлые произведения, по и настоящие, и все будущие. И лично я, своими руками, бросил в печку черновик романа о дьяволе, черновик комедии и начало второго романа „Театр“.
Все мои вещи безнадёжны.
…Я прошу принять во внимание, что невозможность писать для меня равносильно погребению заживо.
Я ПРОШУ ПРАВИТЕЛЬСТВО СССР РАЗРЕШИТЬ МНЕ В СРОЧНОМ ПОРЯДКЕ ПОКИНУТЬ ПРЕДЕЛЫ СССР В СОПРОВОЖДЕНИИ МОЕЙ ЖЕНЫ ЛЮБОВИ ЕВГЕНЬЕВНЫ БУЛГАКОВОЙ.
Я обращаюсь к гуманности советской власти и прошу меня, писателя, который не может быть полезен у себя в отечестве, великодушно отпустить на свободу».
И, наконец, следовала заключительная часть письма. В ней Булгаков выносил свой приговор ситуации, предлагая свой вариант её решения:
«Если же и то, что я написал, неубедительно, и меня обрекут на пожизненное молчание в СССР, я прошу Советское Правительство дать мне работу но специальности и командировать меня в театр на работу в качестве штатного режиссёра.
Я именно и точно и подчёркнуто прошу О КАТЕГОРИЧЕСКОМ ПРИКАЗЕ, О КОМАНДИРОВАНИИ, потому что все мои попытки найти работу в той единственной области, где я могу быть полезен СССР как исключительно квалифицированный специалист, потерпели полное фиаско…
Я предлагаю СССР совершенно честного, без всякой тени вредительства, специалиста режиссёра и автора, который берётся добросовестно ставить любую пьесу сегодняшнего дня.
Я прошу о назначении меня лаборантом‑режиссёром в 1‑ый Художественный Театр — в лучшую школу, возглавляемую мастерами К.С. Станиславским и В.И. Немировичем‑Данченко.
Если меня не назначат режиссёром, я прошусь на штатную должность статиста. Если и статистом нельзя — я прошусь на должность рабочего сцены.
Если же и это невозможно, я прошу Советское Правительство поступить со мной, как оно найдёт нужным, но как‑нибудь поступить, потому что у меня, драматурга, написавшего 5 пьес, известного в СССР и за границей, налицо, В ДАННЫЙ МОМЕНТ, — нищета, улица и гибель.
Москва 28 марта 1930 года».
Послание отчаявшегося писателя было изготовлено в нескольких экземплярах. Елена Сергеевна Шиловская впоследствии вспоминала:
«Сколько помню, разносили мы их (и печатала ему эти письма я, несмотря на жестокое противодействие Шиловского) по семи адресам. Кажется, адресатами были: Сталин, Молотов, Каганович, Калинин, Ягода, Бубнов (нарком тогда просвещения) и Ф.Кон. Письмо в окончательной форме было написано 28 марта, а разносили мы его 31‑го и 1 апреля (1930 года)».
В архиве Булгакова сохранилось коротенькое письмо, написанное 2 апреля 1930 года:
«В Коллегию Объединённого Государственного Политического Управления
Прошу не отказать направить на рассмотрение Правительства СССР моё письмо от 28.III.1930 г., прилагаемое при этом.
М.Булгаков».
Сравнение посланий
Ни одному (даже самому затейливому) выдумщику не пришёл бы в голову такой необыкновенный драматургический поворот, который придумала и осуществила выдумщица‑жизнь. Всего через две недели после того, как Булгаков написал своё письмо, точно такое же сочинил и Маяковский. Оба послания составлены в критические моменты жизни каждого. И предназначались одному и тому же адресату — правителям страны.
Литературоведы давно уже сравнили оба письма и сделали весьма любопытные выводы.
Вспомним ту часть предсмертной записки поэта, где он обращается на самый «верх»:
«Товарищ правительство, моя семья — это Лиля Брик, мама, сёстры и Вероника Полонская.
Если ты устроишь им сносную жизнь — спасибо.
Начатые стихи отдайте Брикам, они разберутся.
Как говорят —
инцидент исперчен, любовная лодка
разбилась о быт.
Я с жизнью в расчёте
и не к чему перечень
взаимных болей,
Счастливо оставаться.
Владимир Маяковский.
12/IV‑30 г».
Как непохожи они друг на друга — лаконичная предсмертная записка поэта, ничего не требовавшего для себя, и пространное послание драматурга, с длинным «перечнем» своих заслуг, нанесённых ему обид, к которым ещё добавлен целый ворох упрёков и претензий. Мало этого, завершается булгаковское письмо «категорической» просьбой о трудоустройстве в лучший театр страны — во МХАТ.
И ещё. Булгаков запальчиво сообщал о том, что, доведённый до отчаяния, он‑де уничтожил свои произведения, собственноручно бросив «в печку» некоторые черновики.
Факт «уничтожения» подтверждала и Елена Сергеевна (в письме от 17 октября 1960 года, адресованном в Париж Николаю Афанасьевичу Булгакову):
«Вообще до нашей с ним встречи он уничтожал все свои рукописи, оставляя только машинопись».
Ничего особо страшного, значит, не произошло — были уничтожены всего лишь рукописные записи, то есть бумаги, казавшиеся самому Булгакову ненужными. А к черновикам (рукописям) своих произведений он относился без всякого пиетета, считая их совершеннейшим хламом. Машинописные экземпляры — другое дело! Вот почему все бумаги, с его точки зрения важные, были им сохранены. А ненужные уничтожены. Притом задолго (более чем за год) до написания письма правительству — «до нашей с ним встречи», как писала Елена Шиловская. А встретились они, как известно, в конце февраля 1929 года.
Ещё один нюанс. Не все черновики были уничтожены. Один, по крайней мере, уцелел — та самая тетрадь, что была передана Елене Сергеевне Шиловской. Ведь неоконченная повесть «Тайному другу» это и есть «начало второго романа „Театр“».
Может возникнуть и другой вопрос. Булгаков подробно перечислил должности, на которых ему хотелось бы работать, и где он мог «быть полезен СССР». Но почему при этом ни словом не упомянул свою основную профессию — медик? Разве в качестве «лекаря с отличием» он не был бы «полезен» стране и её народу?
В этом случае долго искать ответ не придётся. Потому как медицина (как, впрочем, и любая другая профессия) давно уже была вычеркнута из жизни Булгакова. Чуть позднее (в «Жизни господина де Мольера») он напишет:
«Этот человек не мог сделаться ни адвокатом, ни нотариусом, ни торговцем мебелью».
Булгаков на себе самом испытал, прочувствовал, сколь притягательной силой обладает самый мощный из известных миру наркотиков, именуемый творчеством. Он вкусил литературной славы. Вот почему никем другим в этой жизни он быть уже не мог. Только писателем.
Но вернёмся к письму и записке.
Лаконичность предсмертного послания Маяковского можно объяснить ещё и тем, что поэт обращался к своим соратникам, с которыми много лет шёл в одном строю, делал общее дело. Строители светлого социалистического будущего понимали друг друга с полуслова, им ничего не надо было разъяснять.
Письмо же Булгакова было адресовано недругам, преследователям, тем, кто считал его непримиримым классовым врагом. Он говорил с ними на разных языках. К тому же его и слушать не хотели.
В записке Маяковского объявляется о его выходе из «игры».
Булгаков же открыто заявлял о том, что он как сатирик «посягает на советский строй». И ни о каком прекращении подобных «посягательств» в письме не говорилось ни слова. Он не складывал оружия, он заявлял о своём поражении («Ныне я уничтожен»). И предлагал своим противникам разойтись миром, то есть изгнать его (писателя‑сатирика, писателя‑антисо‑ветчика) за пределы страны Советов.
Прав он был или не прав, не нам судить.
Чуть позже (в «Жизни господина де Мольера») Булгаков сам обратится к грядущим поколениям с просьбой о снисхождении:
«Потомки! Не спешите бросать камнями в великого сатирика! О, как труден путь певца под неусыпным наблюдением грозной власти!»
Реакция на письмо
Поначалу власти отреагировали на послание Булгакова резко отрицательно. В одной из агентурных сводок говорилось, что старый большевик Феликс Яковлевич Кон (незадолго до этого назначенный заведующим сектором искусства Наркомпроса РСФСР), ознакомившись с письмом драматурга, наложил на него единственно возможную, с его точки зрения, резолюцию:
«Ввиду недопустимого тона, оставить без рассмотрения».
12 апреля рано утром в квартире Булгаковых зазвонил телефон. Михаил Афанасьевич снял трубку и услышал голос с кавказским акцентом:
«— Товарищ Булгаков? Это говорит Сталин».
Всё разъяснилось очень быстро. Оказалось, что это писатель Юрий Олеша решил такой первоапрельской шуткой отметить начало месяца (12 число по старому стилю как раз и соответствовало 1 апреля).
Посмеялись…
Булгаков, конечно же, не знал, что именно в эти дни его судьба обсуждалась на самом верху. И что первый заместитель главы ОГПУ Генрих Ягода получил конкретное указание, которое и было зафиксировано на гепеушном экземпляре булгаковского письма:
«Надо дать возможность работать, где он хочет.
Г.Я. 12 апреля».
Обратим внимание на дату — 12 апреля. Именно в этот день написал свою предсмертную записку и Маяковский. Его самоубийство, как известно, произошло двумя днями позже. Стало быть, реакция властей на письмо Булгакова никак не была связана со смертью поэта.
17 числа Москва прощалась с Маяковским. В этом траурном мероприятии принял участие и Михаил Булгаков.
А 18 апреля…
Далее предоставим слово Елене Сергеевне Шиловской, которая подробно (со слов Булгакова) описала события того памятного дня:
«А 18‑го апреля часов в 6–7 вечера он прибежал, взволнованный, в нашу квартиру (с Шиловским) на Большом Ржевском и рассказал следующее.
Он лёг после обеда, как всегда спать, но тут же раздался телефонный звонок, и Люба его подозвала…»
Далее — слово непосредственному участнику события, Л.Е. Белозёрской:
«Звонил из Центрального Комитета партии секретарь Сталина Товстуха. К телефону подошла я и позвала М[ихаила] А[фанасьевича], а сама занялась домашними делами. М[ихаил] А[фанасьевич] взял трубку и вскоре так громко и нервно крикнул „!ЛюбашаГ, что я опрометью бросилась к телефону (у нас были отведены от аппарата наушники)».
К тому, что с ним говорят из Кремля, Булгаков спросонок отнёсся с подозрением. Продолжает Елена Сергеевна:
«М[ихаил] А[фанасьевич] не поверил, решил, что это розыгрыш (тогда это часто проделывалось) и, взъерошенный, раздражённый, взялся за трубку и услышал:
— Михаил Афанасьевич Булгаков?
— Сейчас с вами товарищ Сталин будет говорить.
— Что? Сталин? Сталин?
И тут же услышал голос с явным грузинским акцентом:
— Да, с вами Сталин говорит. Здравствуйте, товарищ Булгаков (или — Михаил Афанасьевич — не помню точно)».
Разговор с генсеком (сразу же после его окончания) Булгаковы записали со всей возможной точностью:
«СТАЛИН. Мы ваше письмо получили. Читали с товарищами. Вы будете по нему благоприятный ответ иметь. А может быть, правда, пустить вас за границу? Что, мы вам очень надоели?»
По словам Елены Сергеевны, этот вопрос Сталина застал Булгакова врасплох:
«М[ихаил] А[фанасьевич] сказал, что настолько не ожидал подобного вопроса — да он и звонка вообще не ожидал, — что растерялся и не сразу ответил».
Но вопрос был задан, и на него надо было отвечать.
«БУЛГАКОВ. Я очень много думал в последнее время, может ли русский писатель жить вне родины, и мне кажется, что не может.
СТАЛИН. Вы правы. Я тоже так думаю. Вы где хотите работать? В Художественном театре?
БУЛГАКОВ. Да, я хотел бы. Но я говорил об этом — мне отказ али.
СТАЛИН. А вы подайте заявление туда. Мне кажется, что они согласятся».
Самое большее впечатление на Булгакова произвёл финал беседы:
«СТАЛИН. Нам бы нужно встретиться, поговорить с Вами.
БУЛГАКОВ. Да, да! Иосиф Виссарионович, мне очень нужно с Вами поговорить!
СТАЛИН. Да, нужно найти время и встретиться, обязательно. А теперь желаю Вам всего хорошего!»
И вождь повесил трубку Сна как не бывало! Но появились сомнения, а на самом ли деле звонивший был генеральным секретарём… В уже цитированной нами агентурноосведомительной сводке об этом сказано так:
«БУЛГАКОВ по окончании разговора сейчас же позвонил в Кремль, сказав, что ему сейчас только что звонил кто‑то из Кремля, который назвал себя СТАЛИНЫМ.
БУЛГАКОВУ сказали, что это был действительно СТАЛИН. Булгаков был страшно потрясён».
И он тотчас помчался к жившим неподалёку друзьям и знакомым — делиться впечатлениями от нежданного разговора.
Заглянул и к бывшей жене, Татьяне Николаевне:
«… как‑то приходит:
— Знаешь, я со Сталиным разговаривал!
— Как? Как же это ты?
— Да вот, звонил мне по телефону. Теперь мои дела пойдут лучше».
Телефонный звонок из Кремля мгновенно изменил обстановку вокруг опального писателя. Те из знакомых, что ещё вчера избегали его, старались не узнавать при встрече, торопливо переходя на другую сторону улицы, теперь с радостной улыбкой и чуть ли не с распростёртыми объятиями бросались ему навстречу.
Но мало кто знал тогда, что одним разговором по телефону дело не ограничилось. Вопрос о трудоустройстве Булгакова обсуждался на самом высоком уровне — на заседании политбюро. Суть ситуации докладывал лично генеральный секретарь:
«Протокол № 124 от 25 апреля 1930 года
Строго секретно
61. О г. Булгакове (т. Сталин).
Постановили:
61. Поручить т. Молотову дать указания т. Кону Ф.».
И Феликс Кон взял вопрос о трудоустройстве Булгакова под личный контроль. Вот что об этом сказано в агентурной сводке:
«БУЛГАКОВ получил приглашение от т. КОНА пожаловать в Главискусство. Ф.КОН встретил Булгакова с чрезвычайной предусмотрительностью, предложив стул и т. п.
— Что такое? Что вы задумали, М.А., как же всё это так может быть, что вы хотите?
— Я бы хотел, чтобы вы меня отпустили за границу.
— Что вы, wzo вы, Михаил Афанасьевич, об этом и речи быть не может, мы вас ценим и т. п.
— Ну, тогда дайте мне хоть возможность работать, служить, вообще что‑нибудь делать.
— Ну, а что вы хотите, что вы можете делать?
— Да всё, что угодно. Могу быть конторщиком, писцом, могу быть режиссёром, могу…
— А в каком театре вы хотели быть режиссёром?
— По правде говоря, лучшим и близким мне театром я считаю Художественный. Вот там я бы с удовольствием.
— Хорошо, мы об этом подумаем.
На этом разговор с Ф. Коном был закончен».
Вскоре произошло событие, о котором Елена Шиловская воспоминала так:
«…когда я была… у М[ихаила] А[фанасьевича] на Пироговской, туда пришли Ф. Кнорре и П. Соколов — (первый, кажется, завлит ТРАМа, а второй — директор) с уговорами, чтобы М[ихаил] А[фанасьевич] поступил режиссёром в ТРАМ. Я сидела в спаленке, а М[ихаил] А[фанасьевич] их принимал у себя в кабинете. Но ежеминутно прибегал за советом. В конце концов я вышла, и мы составили договор, который я и записала, о поступлении М[ихаила] А[фанасьевича] в ТРАМ».
Так Булгаков стал штатным консультантом Московского Театра рабочей молодёжи (сокращённо — ТРАМа).
Конечно, он мечтал о другом театре, о театре, который всегда писал с большой буквы. Но… пришлось согласиться на ТРАМ. Ведь это была реальная «синица» в руках вынужденного безработного — хоть какие‑то, но деньги. Что же касается более желанного «журавля», то он пока курлыкал где‑то на недосягаемой высоте.
Телефонный разговор вождя и писателя не только вселил надежду в последнего. Резко возрос и (как сказали бы сегодня) рейтинг самого генсека. В агентурной сводке «докладывалось» о том, как и что говорят о Сталине в интеллигентских кругах:
«Он ведёт правильную линию, но кругом него сволочь. Эта сволочь и затравила БУЛГАКОВА, одного из талантливых советских писателей. На травле БУЛГАКОВА делали карьеру разные литературные негодяи, и теперь СТАЛИН дал им щелчок по носу.
Нужно сказать, что популярность СТАЛИНА приняла просто необычайную форму. О нём говорят тепло и любовно, пересказывая на разные лады легендарную историю с письмом БУЛГАКОВА».
Как бы там ни было, но для Михаила Булгакова вновь наступила пора активной трудовой деятельности. Кроме того, он очень надеялся на встречу, обещанную ему вождём. Надеялся и ждал её…
Но в Кремль писателя почему‑то не приглашали…
И тогда он сам написал Сталину:
«Многоуважаемый Иосиф Виссарионович!
Я не позволил бы себе беспокоить Вас письмом, если бы меня не заставила сделать это бедность.
Я прошу Вас, если это возможно, принять меня в первой половине мая.
Средств к спасению у меня не имеется.
Уважающий Вас
Михаил Булгаков.
5. V.1930».
Ответа по‑прежнему не было. Но не прошло и пяти дней со дня отправки письма, как Булгакова пригласили в Московский Художественный театр. Вспоминает Елена Шиловская:
«… М[ихаил] А[фанасьевич] пошёл во МХАТ, и там его встретили с распростёртыми объятиями. Он что‑то пробормотал, что подаст заявление…
— Да Боже ты мой! Да пожалуйста!.. Да вот хоть на этом… (и тут же схватили какой‑то лоскут бумаги, на котором М[ихаил] А[фанасьевич] написал заявление)».
Вот оно — то самое заявление, написанное 10 мая 1930 года:
«В Дирекцию
Московского Государственного
Художественного Театра
Михаила Афанасьевича Булгакова
Прошу Дирекцию М.Г.Х.Т. принять меня и зачислить в штат Театра на должность режиссёра».
Заявление М.Булгакова о зачислении во МХАТ, 10 мая 1930 г.
Казалось, что ожесточённые сражения с большевистской властью прекратились, и жизнь вот‑вот потечёт по счастливому мирному руслу. Но какой тяжкий груз оставила ему эта «война»?.. Чуть позднее (в «Жизни господина де Мольера») Булгаков с горечью напишет:
«Мой герой вынес из неё болезнь…, усталость и странное состояние духа, причём только в дальнейшем догадались, что это состояние носит в медицине очень внушительное название — ипохондрия».
Ипохондрия — это угнетённое состояние, болезненная мнительность. Иными словами, штука весьма и весьма прескверная.
Но вовсе никакая не мнительность, а вполне реальное жизненное происшествие в один прекрасный день весьма наглядно продемонстрировало Булгакову, что все его надежды на встречу с генеральным секретарём эфемерны и призрачны. В конце мая 1930 года была проведена «операция», о которой Михаил Афанасьевич с грустью сообщал Вересаеву (в письме от 1 июня):
«Дорогой Викентий Викентьевич, у меня сняли телефон и отрезали таким образом от мира.
Ваш М.Булгаков
(бывший драматург, а ныне режиссёр МХТ)».
Лето надежд
С конца июня по начало июля 1930 года в Москве проходил очередной XVI съезд ВКП(б). На нём громили «правый уклон»: Бухарина, Рыкова, Томского и их сторонников. Съезд был тщательно подготовлен. С его делегатами основательно поработали, подробно разъяснив им, во время выступления какого оратора нужно возмущённо шуметь, выкрикивая каверзные вопросы, а кому, напротив, устраивать восторженные овации.
За всем, что происходило в Кремле, Булгаков внимательно следил по газетам. 3 июля он прочёл, что накануне к съезду обратился драматург‑партиец Владимир Киршон, предъявив делегатам образчик «правой» опасности в литературе. Речь шла о писателе Борисе Пильняке, недавно нашумевшем своею «Непогашенной луной». Теперь он написал новую повесть антисоветского содержания — «Красное дерево». И не только написал, но и напечатал за границей.
Борис Пильняк
На следующий день поэт‑коммунист Александр Безыменский обратился к съезду со стихотворной речью, в которой были строки, касавшиеся неугодных стране Советов литераторов:
Такого ещё не бывало. С самых разных трибун громили «чуждых пролетариату» писателей и поэтов, но чтобы с трибуны съезда партии… И в присутствии вождей…
Перед автором «Красного дерева» мгновенно захлопнулись все двери. Он сразу же стал никому не нужен. В нём перестали нуждаться. А это означало, что Пильняка тотчас же перестали печатать и расхотели посылать за границу. А ведь ещё совсем недавно года не проходило, чтобы он ни отправлялся в очередной зарубежный вояж. Одним словом, с ним поступили точно так же, как поступали в ту пору со всеми, кого зачисляли в ряды врагов.
Выход оставался один — обратиться с письмом к вождю. И Пильняк написал Сталину (черновик письма сохранился в архиве писателя):
«Глубокоуважаемый товарищ Сталин, я обращаюсь к Вам с просьбой о помощи… В разрешении выехать за границу мне отказано. Почему? — я не знаю. Неужели мне надо предположить, что обо мне думают, что я убегу, что ли? — но ведь это же чепуха! — ведь не могу же я убежать от самого себя, потому что свою судьбу и судьбы революции я не отделяю одну от другой, — куда я побегу от родины, от языка, от жены, от детей?..
Иосиф Виссарионович, даю Вам честное слово всей моей писательской судьбы, что если Вы мне поможете сейчас поехать за границу и работать, я сторицей отработаю Ваше доверие… Я напишу нужную вещь… Верьте мне — и я прошу Вас мне помочь».
Сталин Пильняку поверил. И писателя выпустили за границу! Он привёз оттуда повесть «О’кей», громившую загнивающий капитализм. «Доверие» вождя (а стало быть, и партии) было «сторицей отработано».
А Булгаков летом 1930‑го приступил к работе во МХА‑Те. Она началась с того, что «бывшего драматурга», жаждавшего настоящего живого дела, бросили на «Мёртвые души». Два года спустя в письме своему доброму другу‑филологу П.С.Попову Михаил Афанасьевич напишет:
«Как только меня назначили в МХАТ, я был введён в качестве режиссёра‑ассистента в „М[ёртвые] д[уши]“… Одного взгляда моего в тетрадку с инсценировкой, написанной приглашённым инсценировщиком, достаточно было, чтобы у меня позеленело в глазах. Я понял, что на пороге ещё Театра попал в беду — назначили в несуществующую пьесу… Кратко говоря, писать пришлось мне».
К инсценировке гоголевской поэмы Булгаков приступил, прекрасно понимая, что взялся за невыполнимое дело. В том же письме П.С.Попову есть строчки:
«„Мёртвые души“ инсценировать нельзя. Примите это за аксиому от человека, который хорошо знает произведение».
Кроме инсценировки поэмы Гоголя Булгакову пришлось принять участие ещё в одной работе. Вот как о том писала Л.Е. Белозёрская:
«По вечерам к нам приезжала писательница Наталия Алексеевна Венкстерн… Московский Художественный театр заказал писательнице инсценировку Пиквикского клуба Диккенса.
По Москве тогда пошли слухи, что пьесу написал Булгаков. Это неправда: Москва любит посплетничать. Наташа приносила готовые куски, в которых она добросовестно старалась сохранить длинные диккеновские диалоги, а М.А. молниеносно переделывал их в короткие сценические диалоги. Было очень интересно наблюдать за этим колдовским превращением. Но Наталия Венкстерн была женщина умная и способная: она очень скоро уловила, чего добивался Булгаков».
В то время существовало одно очень «неудобное» обстоятельство — Булгаков не мог целиком посвящать себя мхатовским заботам: ТРАМ тоже требовал времени. Поэтому общение с Н. Венкстерн и с «Мёртвыми душами» продолжалось лишь до середины лета. О том, что произошло потом, — в воспоминаниях Л.Е.Белозёрской:
«… у нас на Пироговской появились двое молодых людей: один высокомерный — Фёдор Кнорре, другой держался лучше — Николай Крючков… Трамовцы уезжали в Крым и пригласили Булгакова с собой. Он поехал».
Взрывная жизнерадостность коллектива молодёжного театра передавалась всем пассажирам вагона поезда. Заразила она и «консультанта» Булгакова, настроение которого сразу стало самым что ни на есть приподнятым. К тому же и кое‑какие деньги у него в тот момент, видимо, появились. Об этом можно судить по письмам, которые Булгаков отсылал оставленной в Москве супруге:
«15 июля 1930 г. Утро. Под Курском.
Ну, Любаня, можешь радоваться. Я уехал! Ты скучаешь без меня, конечно? Кстати: из Ленинграда должна быть телеграмма из театра. Телеграфируй мне коротко, что предлагает мне театр…
Бурная энергия трамовцев гоняла их по поезду, и они принесли известие, что в мягком вагоне есть место. В Серпухове я доплатил и перешёл…
С отвращением любуюсь пейзажами…»
Как видим, в жёстком вагоне (как все остальные трамовцы) консультант Булгаков ехать не пожелал. Предпочитая с «отвращением любоваться» видами из окна вагона мягкого. На следующий день в Москву полетело новое письмо:
«16 июля 1930 г. Под Симферополем. Утро.
Дорогая Любаня! Здесь яркое солнце. Крым такой же противный, как и был. Трамовцы бодры, как огурчики…
Пожалуйста, ангел, сходи, к Бычкову‑портному, чтобы поберёг костюм мой. Буду мерить по приезде. Если будет телеграмма из театра в Ленинграде — телеграфируй. М.».
Опять же получается, что, как все прочие граждане «консультант» ТРАМа ходить не желал, предпочитая носить пиджаки и брюки только от портного Бычкова. И ещё Булгаков не терял надежды на заказ ленинградского театра.
17 июля (уже из пансионата «Магнолия» в Мисхоре) Михаил Афанасьевич снова написал жене:
«… устроился хорошо… Жаль, что не было возможности мне взять тебя (совесть грызёт, что я один под солнцем). Сейчас я еду в Ялту на катере, хочу посмотреть, что там».
Видимо, для того, чтобы поскорее избавиться от «угрызений совести», Булгаков на следующий же день телеграфировал в Москву Елене Шиловской, приглашая её приехать к нему в мисхоровский пансионат.
Елена Сергеевна с ответом, надо полагать, задержалась, и 23 июля Булгаков послал телеграмму жене:
«Почему Люссеты нет писем. Наверно больна».
Но «Люссета» была здорова, и вскоре Булгаков получил от неё телеграмму:
«Здравствуйте, друг мой, Мишенька. Очень вас вспоминаю и очень вы милы моему сердцу. Поправляйтесь, отдыхайте. Хочется вас увидеть весёлым, бодрым, жутким симпатягой. Ваша Мадлена Трусикова‑Ненадёжная».
Булгакову как бы давалось понять, что Елена Шкловская приехать в Крым не решается и ждёт «друга Мишеньку» в Москве.
Как видим, лето проходило легкомысленно и весело. Впрочем, сам Михаил Афанасьевич старательно уверял всех, что в Крыму он не отдыхает, а лечится. Вот, к примеру, письмо, написанное 6 августа и адресованное находившемуся на лечении за рубежом Станиславскому:
«Многоуважаемый Константин Сергеевич.
Вернувшись из Крыма, где я лечил мои больные нервы после очень трудных для меня последних двух лет, пишу Вам простые неофициальные строки…
После тяжёлой грусти о погибших моих пьесах, мне стало легче, когда я — после долгой паузы — и уже в новом качестве переступил порог театра, созданного Вами для славы страны.
Примите, Константин Сергеевич, с ясной душой нового режиссёра. Поверьте, он любит Ваш Художественный Театр».
А в письмах брату Николаю в Париж преобладали рассуждения совсем на другую тему — финансовую:
«Деньги нужны остро. И вот почему: в МХТ жалования получаю 150 руб. в месяц, но и их не получаю, т[ак] к[ак] они мною отданы на погашение последней 1/4 подоходного налога за истекший год. Остаётся несколько рублей в месяц. Помимо них 300 рублей в месяц я получаю в театре, носящем название ТРАМ (Театр рабочей молодёжи)…
Но денежные раны, нанесённые мне за прошлый год, так тяжки, так непоправимы, что и 300 трамовских рублей как в пасть валятся на затыкание долгов (паутина).
Пишу это я не с тем, чтобы наскучить тебе или жаловаться. Даже в Москве какие‑то сукины сыны распространили слух, что будто бы я получаю по 500 рублей в месяц в каждом театре. Вот уж насколько лет как в Москве и за границей вокруг моей фамилии сплетают вымыслы…
Итак, если у тебя имеются мои деньги и если хоть какая‑нибудь возможность перевести в СССР есть, ни минуты не медля. переведи».
Тревожное время
4 сентября с ответным письмом к Булгакову обратился Константин Сергеевич Станиславский (он находился на немецком курорте Баденвейлере, где приходил в себя после инфаркта):
«Вы не представляете себе, до какой степени я рад Вашему вступлению в наш театр.
Мне пришлось поработать с Вами лишь на нескольких репетициях „Турбиных“, и я тогда почувствовал в Вас — режиссёра (а может быть, и артиста?!)
Мольер и многие другие совмещали эти профессии с литературой».
Желая поддержать Булгакова в трудный для него период, Станиславский рассуждал на темы, приятные для драматурга. Да и сам Михаил Афанасьевич искренне надеялся, что многое из того, о чём писал ему великий театральный режиссёр, вот‑вот осуществится.
В самом деле, к нему вдруг обратились с просьбой, с которой давно уже не обращались. Город на Неве, откуда писатель ждал вестей всё лето, заказал ему пьесу. Это было похоже на чудо. Ленинградский Красный театр даже направил в Москву для переговоров своего завлита, Е.М. Шереметьеву. Позже Екатерина Михайловна воспоминала:
«Михаил Афанасьевич был всё время оживлён, весел, словом, — в хорошем настроении…
Когда мы вышли из квартиры Булгакова, дворник усиленно заработал метлой, поднимая перед нами облако пыли. Лицо Михаила Афанасьевича еле заметно напряглось, он поторопился открыть калитку. На улице сказал очень раздражённо:
— Прежде он униженно шапку ломал, а теперь пылит в лицо.
Я хотела было ответить, что не стоит обращать внимания, а он с тем же раздражением и, пожалуй, болью сказал:
— Как жило холуйство, так и живёт. Не умирает».
К этому Шереметьева добавила:
«… Михаил Афанасьевич очень остро воспринимал отсутствие человеческого достоинства во всех его проявлениях: себя ли не уважал человек или — других».
Развернув 5 ноября свежий номер «Литературной газеты», Булгаков мог увидеть портрет Ильи Сельвинского и его поэму «Декларация прав поэта». Это был ответ бывшего вожака недавно самораспустившегося «Литературного центра конструктивистов» Маяковскому на многократно читанное Владимиром Владимировичем вступление к поэме «Во весь голос».
В те годы подобные публикации были в порядке вещей, стихи с портретами авторов печатали многие советские газеты. Об этом даже в романе «Мастер и Маргарита» упомянуто. Помните, поэт Иван Бездомный спрашивает у загадочного «иностранца», появившегося на Чистых прудах:
«— Откуда вы знаете, как меня зовут?
— Помилуйте, Иван Николаевич, кто же вас не знает? — здесь иностранец вытащил из кармана вчерашний номер „Литературной газеты“, и Иван Николаевич увидел на первой странице своё изображение, а под ним свои собственные стихи».
В отличие от «изображения» Бездомного портрет Сельвинского и его поэма были напечатаны на второй странице газеты. А на первой был помещён большой портрет Иосифа Сталина, под ним — лозунг, набранный жирным шрифтом:
«Мы требуем от художественной литературы
не деклараций, а дел
показа РАБского прошлого
воспроизведение социалистического будущего
художественное отражение борьбы за промфинплан
рассказа о новых формах труда и новых людях».
Этот категорический призыв не просто перечёркивал помещённую на второй странице поэтическую «Декларацию…». Он звучал как приказ, чётко и внятно разъяснявший каждому писателю, что и как он должен отныне писать.
Разумеется, за свою не ко времени опубликованную поэму Сельвинский получил сполна. Фамилию стихотворца тотчас принялись склонять в печати и на всевозможных собраниях. Вот и пришлось проштрафившемуся поэту принимать участие в массовых политических мероприятиях. Чтобы хоть этим как‑то реабилитировать себя в глазах властей.
19 ноября 1930 года «Вечерняя Москва» сообщила о том, что состоялся…
«… митинг протеста писателей против вредителей „пром“ партии».
Давно ли в «Командарме‑2» Сельвинский провозглашал устами своего героя? Вспомним:
«ЧУБ. Товарищи! Этот летучий митинг
Устроен для наших неграмотных Митек
С тем, чтобы им ясней разъяснить,
Как протекает красная нить
Классовой борьбы у нас и в Европе…»
А теперь уже сам поэт разъяснял «неграмотным Митькам», кто является их непримиримым классовым врагом. «Вечёрка» об этом сообщала так:
«— Шахтинцы, чаяновцы, кондратьевщина — это пунктир одной и той же линии, — говорит поэт Сельвинский».
Отчёт о митинге дала и «Правда», оповестившая читателей, что писатели Гроссман, Пильняк, В.Иванов, Сельвинс‑кий и Шкловский предложили вынести единодушный приговор подсудимым: «Вредителям — расстрел!». Заметка заканчивалась словами:
«Митинг в своей резолюции требует для контрреволюционеров высшей меры наказания и ходатайствует перед правительством о награждении ОГПУ орденом Ленина».
Вот так!.. А ведь год на дворе стоял всего лишь 1930‑ый. До массовых репрессий было ещё ох как далеко. И идти на митинги пока что никто никого не принуждал. Но…
Одни зарабатывали себе прощение, другие пытались убедить режим в своей лояльности, и все вместе дружно требовали казнить «контрреволюционеров», которых даже в глаза никогда не видели. И при этом не уставали повторять, что они писатели, совесть нации.
Булгаков, как мы помним, с детства сторонился массовых мероприятий. А в 1930 году ему и вовсе было не до митингов: в конце ноября он закончил инсценировать «Мёртвые души». Театр пьесу принял, 2 декабря начались репетиции.
По причине жуткого безденежья Михаил Афанасьевич обратился в мхатовскую дирекцию с просьбой выдать ему внеочередной аванс. Но режиссёру‑ассистенту вежливо разъяснили, что сначала надо с прежними долгами рассчитаться.
В канун Нового года (28 декабря) настроение у Булгакова было прескверное. Видимо из‑за этого он и принялся сочинять… стихотворение под названием «Funerailles» — «Похороны». В нём Михаил Афанасьевич описывал свою собственную смерть и всё то, что за нею последует:
Далее рассказывается, какие вопросы зададут на небесах явившемуся туда писателю:
О какой лодке идёт здесь речь? Не о той ли (разбившейся о быт), о которой писал в своей предсмертной записке Маяковский?
Близкая приятельница Булгаковых, Марика Артемьевна Чимишкиян, впоследствии рассказала, что, зайдя сразу после смерти Владимира Маяковского в квартиру на Пироговской улице, она застала Михаила Афанасьевича с газетой в руках. Он прочёл ей строчки: «Любовная лодка разбилась о быт» и спросил:
«— Скажи, неужели вот это? Из‑за этого?.. Не может быть! Здесь должно быть что‑то другое!»
Тем временем год 1930‑ый подошёл к концу. Поднимая новогодний бокал, Булгаков наверняка надеялся, что какие‑то его заветные мечты всё же сбудутся. Потому и провожал уходивший год хоть и печальными, но всё же стихами.
Однако наступивший 1931‑ый принёс с собою события весьма и весьма прозаические.
Проза жизни
Шёл третий год пятилетки. Всё громче звучали голоса в поддержку «непрерывки», и литератор Григорий Гаузнер записал в дневнике:
«Предлагают уничтожить астрономические сутки, чтобы существовали только часы в рамках месяца (я отслужил с 427 до 433 ч.). Чередование дня и ночи уничтожается. Работа идёт всегда».
Отметил Гаузнер и вхождение в повседневный обиход канцеляризмов:
«Входит канцелярский жаргон: принимать пищу, урегулировать естественные отправления, общественная полезность».
Упомянуты в дневнике и плакаты, которыми была завешана вся Москва, и даже приведена фраза из речи вождя, чаще всего встречавшаяся на этих плакатах:
«Мы отстали от передовых стран Европы на 100 лет. Если мы не догоним их в 10 лет, нас сомнут. И. Сталин».
Михаил Булгаков в начале 1931‑го был по‑прежнему далёк от суетных подробностей тогдашней жизни. Ему было просто не до них.
Во‑первых, потому, что ещё в декабре месяце Елена Шкловская уехала отдыхать в подмосковный санаторий. Михаил Афанасьевич несколько раз навещал её. Видимо, эти визиты кому‑то показались подозрительными. Весьма возможно, что некие доброхоты сообщили о них мужу, Евгению Шкловскому, и тот обратился к жене за разъяснениями…
Как бы там ни было, но сохранилась записка Булгакова, написанная 3 января и адресованная Елене Сергеевне:
«Мой друг! Извини, что я так часто приезжал. Но сегодня я…»
На этом записка обрывается.
А 25 февраля случилось то, что, выражаясь языком тех лет, «поставило вопрос ребром».
Этот день можно смело назвать очередным чёрным днём булгаковской жизни. Потому что совершенно неожиданно тайное стало явным.
Здесь предоставим слово Марике Чимишкиян, которая случайно оказалась в эпицентре разыгравшихся событий:
«… прихожу к Елене Сергеевне на Ржевский. Она ведь дружила с Любовью Евгеньевной, и мы с ней были хорошо знакомы… Прихожу — мне открывает дверь Шиловский, круто поворачивается и уходит к себе, почти не здороваясь. Я иду в комнату к Елене Сергеевне, у неё маникюрщица, она тоже как‑то странно со мной разговаривает. Ничего не понимаю, прощаюсь, иду к Булгаковым на Пироговскую, говорю:
— Не знаете, что там происходит?..
Они на меня как напустятся:
— Зачем ты к ним пошла? Они подумают, что это мы тебя послали!
Люба говорит:
— Ты разве не знаешь?
— Нет, ничего не знаю.
— Тут такое было! Шиловский прибегал, грозил пистолетом…
Ну, тут они мне рассказали, что Шиловский как‑то открыл отношения Булгакова с Еленой Сергеевной. Люба тогда против их романа, по‑моему, ничего не имела. У неё тоже были какие‑то свои планы…»
Да, скандал разгорелся нешуточный. Михаил Булгаков (ещё вчера блестящий кавалер и галантный ухажёр) как‑то мгновенно сник. Даже его глаза‑бриллианты, так в своё время очаровавшие Елену Сергеевну, разом перестали сверкать.
Что произошло?
Ничего особенного. Он просто‑напросто трезво взглянул на ситуацию. И, размышляя здраво, вспомнил, в каком неустойчивом положении находится: работает в двух местах, весь в долгах, зарабатывает катастрофически мало. Но самое главное, жить ему, по его же собственным расчётам, оставалось всего восемь лет. Вот почему сделать рыцарский шаг и взять под защиту свою возлюбленную, попавшую в отчаянно‑щекотливое положение, Михаил Афанасьевич не решился.
Инициатива полностью перешла в руки Евгения Шкловского. В тот момент у него тоже не всё ладилось — возникли осложнения на службе. Отсюда, видимо, и несдержанность в разговоре с Булгаковым (хватался за пистолет). Понять Евгения Александровича можно — на работе передряги, а тут дома такие фортели.
Служебные неприятности у Евгения Шиловского происходили из‑за того, что власти принялись реформировать армию, очищая командный состав от уклонистов, «левых» и «правых». Шиловский политикой не занимался, но он был беспартийным. А во главе штаба Московского военного округа, по мнению Кремля, должен был стоять большевик‑сталинец.
И Евгению Александровичу пришлось оставить свой престижный пост и перейти на преподавательскую работу — в Военно‑воздушную академию имени Жуковского. Он не знал тогда, что этот переход спасёт ему жизнь. Ведь через несколько лет, когда начнутся аресты среди комсостава Красной армии, его… Впрочем, о годах репрессий речь впереди.
А пока заканчивался февраль 1931‑го, который принёс Шиловскому неожиданную новость: у его жены — любовник.
После продолжительных и весьма бурных объяснений всё завершилось мирным соглашением. Михаил Афанасьевич и Елена Сергеевна дали обещание свои «отношения» прекратить, нигде не встречаться и даже не перезваниваться по телефону. «Тайный» двоежёнец Булгаков вновь превратился в однолюба и в примерного семьянина, продолжающего совместную жизнь с той, чьё имя было — ЛЮБОВЬ с большой буквы.
Через какое‑то время в его глазах вновь засверкают бриллианты, но, как он сам вскоре напишет, это будут уже не те глаза («Жизнь господина де Мольера»):
«… в глазах этих… на самом дне их — затаённый недуг».
14 марта, находясь ещё под впечатлением недавнего адюльтерного скандала, Михаил Афанасьевич подал заявление в ТРАМ с просьбой об увольнении, о чём 18 числа сообщил Станиславскому:
«Дорогой и многоуважаемый Константин Сергеевич!
Я ушёл из ТРАМа, так как никак не могу справиться с трамовской работой.
Я обращаюсь к Вам с просьбой включить меня помимо режиссёрства и в актёры Художественного театра…
Булгаков».
Желание «преданного» драматурга полностью сосредоточиться на работе в Художественном театре Станиславский поддержал не сразу — прежде чем наложить на булгаковскую записку окончательную резолюцию, раздумывал целый месяц. И не только раздумывал, но и советовался с вышестоящими инстанциями, а точнее, с тогдашним главой Наркомпроса А.С. Бубновым. Лишь 19 апреля Константин Сергеевич начертал на булгаковском заявлении:
«Одобряю, согласен. Говорил по этому поводу с Алекс[андром] Серг[еевичем] Бубновым. Он ничего не имеет против».
Такой вот «независимостью» обладал великий советский режиссёр, руководитель лучшего в стране театра. Того самого театра, который (в «Театральном романе») Булгаков явно в насмешку назовёт Независимым.
В дни, когда писались заявление в ТРАМ и записка Станиславскому, Михаил Афанасьевич раздумывал над ещё одним важным посланием.
Главное письмо
Письмам, как и пьесам, эпиграфы не положены. Нарушив эту традицию в своих драматургических произведениях, Булгаков точно так же поступал и в эпистолярном жанре. И своё послание в Кремль, Сталину он начал с цитаты:
«Генеральному Секретарю ВКП(б)
И.В. Сталину
Многоуважаемый Иосиф Виссарионович!
Около полутора лет прошло с тех пор, как я замолк. Теперь, когда я чувствую себя очень тяжело больным, мне хочется просить Вас стать моим первым читателем…»
На этом месте письмо обрывается. В виде черновика оно и дошло до наших дней.
30 мая появился новый вариант послания к вождю. На этот раз оно начиналось сразу с обращения к адресату, и лишь затем следовал эпиграф… Нет, даже не эпиграф, а большой отрывок из «Авторской исповеди» Гоголя.
Трудно придумать для письма руководителю страны более изощрённую, более мистическую форму. В самом деле, представим себе Сталина, разворачивающего это послание. Что он увидел? Вот начало булгаковского письма:
«ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК ВКП(б) ИОСИФУ ВИССАРИАНОВИЧУ СТАЛИНУ
Многоуважаемый
Иосиф Виссарионович!
’’Чем далее, тем более усиливалось во мне желание быть писателем современным. Но я видел в то же время, что, изображая современность, нельзя находиться в том высоко настроенном и спокойном состоянии, какое необходимо для произведения большого и стройного труда.
Настоящее слишком живо, слишком шевелит, слишком раздражает, перо писателя нечувствительно переходит в сатиру…
…мне всегда казалось, что в жизни моей мне предстоит какое‑то большое самопожертвование, и что именно для службы моей отчизне я должен буду воспитываться где‑то вдали от неё…
…я знал только то, что еду вовсе не затем, чтобы наслаждаться чужими краями, но скорей, чтобы натерпеться, точно как бы предчувствовал, что узнаю цену России только вне России и добуду любовь к ней вдали от неё.
Н.Гоголь “.
Можно понять недоумение Сталина, прочитавшего эти строки.
От кого это письмо? — мог подумать он. — От писателя, умершего в прошлом веке? Получается, что к вождю обращается покойник? Что за чушь? Что за мистика? Что за чертовщина?..
Однако никакой мистики в послании Булгакова не было. Этими страстными гоголевскими фразами он просто «подготавливал» вождя к восприятию своей главной просьбы. Она заключалась в следующем:
«Я горячо прошу Вас ходатайствовать за меня перед Правительством СССР о направлении меня в заграничный отпуск на время с 1 июля по 1 октября 1931 года.
Сообщаю, что после полутора лет моего молчания с неудержимой силой во мне загорелись новые творческие замыслы, что замыслы эти широки и сильны, и я прошу Правительство дать мне возможность их выполнить.
С конца 1930 года я хвораю тяжёлой формой нейрастении с припадками страха и предсердечной тоски, и в настоящее время я прикончен.
Во мне есть замыслы, но физических сил нет, условий, нужных для выполнения работы, нет никаких».
Может сложиться впечатление, что каждая строчка булгаковского письма переполнена тоской и надеждой.
Стоит лишь внимательно перечитать его, как тотчас возникают сомнения относительно искренности писавшего. Сразу вспоминается лето 1930‑ого, весёлая поездка в Крым и не менее весёлое пребывание там, которое в письмах к одним именовалось отдыхом, а к другим — лечением. Не повторялось ли всё снова?
В самом деле, писатель вновь жаловался на состояние здоровья: «тяжёлая нейрастения», «припадки», «тоска», а в заключение и вовсе — «я прикончен». Неужели он не понимал, что из Кремля очень легко позвонить в театр и справиться о его самочувствии «товарища Булгакова»? Любой мхатовец, отвечая на подобный звонок, сказал бы, что Михаил Афанасьевич — человек совсем не приконченный, а, напротив, остроумный и жизнерадостный, подвижный, много работает. И даже успевает заводить романы на стороне.
Такие звонки, вне всяких сомнений, были…
Но Булгаков, не подумав об этом, продолжал твердить о своих тяжёлых заболеваниях:
«Причина болезни моей мне отчётливо известна:
На широком поле словесности российской в СССР я был один‑единственный литературный волк. Мне советовали выкрасить шубу. Нелепый совет. Крашеный ли волк, стриженый ли волк, он всё равно не похож на пуделя.
Со мной и поступили как с волком. И несколько лет гнали меня по правилам литературной садки в огороженном дворе.
Злобы я не имею, но я очень устал…»
На примере затравленного людьми лютого зверя, Булгаков пытался объяснить Сталину причины своего болезненного состояния:
«Зверь заявил, что он более не волк, не литератор. Отказывается от своей профессии. Умолкает. Это, скажем прямо, малодушие.
Нет такого писателя, чтобы он замолчал. Если замолчал, значит, был не настоящий.
А если настоящий замолчал — погибнет.
Причина моей болезни — многолетняя затравленностъ, а затем молчание».
Для того чтобы генеральный секретарь знал, как трудится «затравленный» писатель, в письмо был включён отчёт о проделанной работе:
«За последний год я сделал следующее: несмотря на очень большие трудности, превратил поэму Н.Гоголя „Мёртвые Души“ в пьесу
работал в качестве режиссёра МХТ на репетициях этой пьесы работал в качестве актёра, играл за заболевших актёров в этих же репетициях
был назначен в МХТ режиссёром во все кампании и революционные праздники этого года
служил в ТРАМе — Московском, переключаясь с дневной работы МХТовской на вечернюю ТРАМовскую
ушёл из ТРАМа 15.Ш.31 года, когда почувствовал, что мозг отказывается служить, и что пользы ТРАМу не приношу
взялся за постановку в театре Санпросвета (и закончу её к июлю). А по ночам стал писать.
Но надорвался».
Подробно перечислив свои трудовые достижения, Булгаков добавил к своему творческому портрету кое‑какие физиологические подробности:
«Я переутомлён.
Сейчас все впечатления мои однообразны, замыслы повиты чёрным, я отравлен тоской и привычной иронией».
И это всё потому, что ему, писателю Булгакову, не разрешают съездить за границу:
«… у меня отнята высшая писательская школа, я лишён возможности решить для себя громадные вопросы. Привита психология заключённого.
Как воспою мою страну — СССР?»
Написав о своём желании «увидеть другие страны», Булгаков тотчас принялся уверять Сталина в том, что бежать из страны он не помышляет ни в коем случае. Более того, в письме говорилось:
«… я очень серьёзно предупреждён большими деятелями искусства, ездившими за границу, что там мне оставаться невозможно.
Меня предупредили о том, что в случае, если Правительство откроет мне дверь, я должен быть сугубо осторожен, чтобы как‑нибудь нечаянно не захлопнуть за собой эту дверь и не отрезать путь назад, не получить бы беды похуже запрещения моих пьес».
В качестве доказательства того, что это не пустые слова, Михаил Афанасьевич привёл такой аргумент:
«„Такой Булгаков не нужен советскому театру“, — написал нравоучительно один из критиков, когда меня запретили.
Не знаю, нужен ли я советскому театру, но мне советский театр нужен как воздух».
После этих доказательств последовала главная просьба:
«Прошу Правительство СССР отпустить меня до осени и разрешить моей жене Любови Евгеньевне Булгаковой сопровождать меня. О последнем прошу потому, что серьёзно болен. Меня нужно сопровождать близкому человеку. Я страдаю припадками страха и одиночества».
Если сравнить эти смиренно‑просительные строки с гневными требованиями из письма правительству образца 1930 года, то разница в тональности сразу бросится в глаза.
Возникает даже ощущение, что это послание генсеку написано не советским драматургом, ещё совсем недавно «шерстившим» большевистский режим своими ёрническими подначками. Что вовсе не советский писатель обращается с просьбой к вождю, а хитроумный комедиант и царедворец Жан‑Батист Мольер с затаённой насмешкой склоняет непокорную голову перед королём Людовиком и подаёт ему своё верноподданническое прошение.
И завершается письмо Сталину в том же лукавом духе:
«Заканчивая письмо, хочу сказать Вам, Иосиф Виссарионович, что писательское моё мечтание заключается в том, чтобы быть вызванным лично к Вам.
Поверьте, не потому только, что вижу в этом самую выгодную возможность, а потому, что Ваш разговор со мной по телефону в апреле 1930 года оставил резкую черту в моей памяти.
Вы сказали: „Может быть, Вам, действительно, нужно ехать за границу?..
Я не избалован разговорами. Тронутый этой фразой, я год работал не за страх режиссёром в театрах СССР».
Отправив послание в Кремль, Булгаков принялся терпеливо ждать. 23 июня 1931 года центральные советские газеты опубликовали текст выступления вождя на совещании хозяйственников. Сталин, в частности, сказал:
«Года два назад дело обстояло таким образом, что наиболее квалифицированная часть старой технической интеллигенции была заражена болезнью вредительства. Одни вредили, другие покрывали вредителей…
Это не значит, что у нас нет больше вредителей. Нет, не значит. Вредители есть и будут, пока есть у нас классы, пока имеется капиталистическое окружение».
И Булгаков понял, что Сталину просто не до него. И что вождь в его, булгаковскую, «перековку» из волка в пуделя не верит.
Глава вторая Проблеск надежды
Размышляя о ситуации
В начале июля 1931 года, так и не дождавшись ни разрешения на зарубежный вояж, ни вызова в Кремль, Булгаков вместе с женой отправился в городок Зубцов, что лежит при впадении речки Вазузы в Волгу Причина поездки была простая: хотелось немного отдохнуть. И заодно поработать над заказом, который свалился на него как самое настоящее чудо. Именно этим словом (в письме Вересаеву от 29.VI.31 г.) Михаил Афанасьевич назвал то предложение, что так неожиданно поступило к нему:
«… болен я стал, Викентий Викентьевич. Симптомов перечислять не буду, скажу лишь, что на письма деловые перестал отвечать. И бывает часто ядовитая мысль — уж не свершил ли я, в самом деле, свой круг? По‑учёному это называется нейрастения, если не ошибаюсь.
А тут чудо из Ленинграда, один театр мне пьесу заказал.
Делаю последние усилия встать на ноги и показать, что фантазия не иссякла. Но какая тема дана, Викентий Викентьевич! Хочется безумно Вам рассказать!»
Заказ поступил от Ленинградского Красного театра, с которым 5 июля 1931 года Булгаков заключил договор «на пьесу о будущей войне». При этом драматургу была предоставлена полная свобода в разработке заданной темы, его не стесняли «никакими рамками».
Темой заинтересовался и театр имени Вахтангова, который 8 июля тоже заключил с Булгаковым «договор, не меняя ни одной буквы из пьесы».
Дышать сразу стало легче. Но горестный вздох (по поводу «последних усилий встать на ноги») в письмо к Вересаеву был всё‑таки вставлен. В «Жизни господина де Мольера» Булгаков признается:
«Вообще, я того мнения, что хорошо было бы, если бы драматургам не приходилось ни от кого принимать заказы».
Есть, правда, несколько иное мнение на этот счёт. Любовь Белозёрская в своих воспоминаниях написала:
«Булгаков говорил: “ Совершенно неважно, заказная ли работа или возникшая по собственному желанию. «Аида» — заказная опера, а получилась замечательно“».
Как бы там ни было, но неожиданный заказ на написание пьесы сразу придал смысл жизненной суете. Дни наполнились пусть не слишком глубоким, но всё же достаточно значительным содержанием.
На Волгу супруги Булгаковы поехали по приглашению писательницы Натальи Алексеевны Венкстерн. Там, в Зубцове, Михаил Афанасьевич и приступил к работе.
Вернувшись 22 августа в Москву, он тут же отправил письмо мхатовскому завлиту П.А. Маркову:
«Сейчас я пишу последний акт…
В Москве дикая жара, но работа идёт быстро. Я нашёл ключ к пьесе, который меня интересует. Вне пьесы чувствую себя угнетённым.
Ездил на 12 дней в г. Зубцов, купался и писал. Не умею я отдыхать в провинции. Ах, и тусклая же скука там, прости господи!»
В тот же день Булгаков начал писать письмо Вересаеву, в котором попытался обрисовать, как выглядит его жизнь:
«Она складывается из темнейшего беспокойства, размена на пустяки, которыми я вовсе не должен был бы заниматься, полной безнадёжности, нейрастенических страхов, бессильных попыток. У меня перебито крыло».
Письмо писалось трудно, с перерывами в несколько дней. Булгаков откровенно признавался в этом:
«… я пяти строчек не могу сочинить письма. Я боюсь писать! Я жгу начало писем в печке».
Он как бы размышлял с самим собой, вновь и вновь вспоминая беды последних лет:
«26. VII. Викентий Викентьевич! Прочтите внимательно дальнейшее. Дайте совет.
Есть у меня мучительное несчастье. Это то, что не состоялся разговор с генсеком. Это ужас и чёрный гроб. Я исступленно хочу видеть хоть на краткий срок иные страны. Я встаю с этой мыслью и с нею засыпаю.
Год я ломал голову, стараясь сообразить, что случилось? Ведь не галлюцинировал же я, когда слышал его слова? Ведь он же произнёс фразу: „.Быть может, Вам, действительно, нужно уехать за границу?..“
Он произнёс её! Что произошло? Ведь он же хотел принять меня?..»
Булгаков мучительно пытался разобраться в том, что произошло с ним, что происходит и что может произойти.
«27. VII. Продолжаю: один человек с очень известной литературной фамилией и большими связями, говоря со мной по поводу другого моего литературного дела, сказал мне тоном полууверенности:
— У Вас есть враг…
Я стал напрягать память…
И вдруг меня осенило! Я вспомнил фамилии! Это — А. Турбин, Кальсонер, Рокк и Хлудов (из „Бега“). Вот они, мои враги! Недаром во время бессонниц приходят они ко мне и говорят со мной: „Ты нас породил, а мы тебе все пути преградим. Лежи, фантаст, с заграждёнными устами“».
Теперь выходит, что мой главный враг — я сам».
Пытаясь найти выход из создавшегося тупика, Булгаков предлагал свои варианты объяснения ситуации::
«Имеется в Москве две теории. По первой (у неё многочисленные сторонники) я нахожусь под непрерывным и внимательнейшим наблюдением, при коем учитывается всякая моя строчка, мысль, фраза, шаг. Теория лестная, но, увы, имеющая крупнейший недостаток.
Так, на мой вопрос: „А зачем же, ежели всё это так важно и интересно, мне писать не дают?“ от обывателей московских вышла такая резолюция: „.Вот тут‑то самое и есть. Пишете Вы Бог знает что и поэтому должны перегореть в горниле лишений и неприятностей, а когда окончательно перегорите, тут‑то и выйдет из‑под Вашего пера хвала “.
… никак даже физически нельзя себе представить, чтобы человек, бытие которого составлялось из лишений и неприятное — тей, вдруг грянул хвалу. Поэтому я против этой теории».
И Булгаков предлагал ещё один вариант объяснения ситуации — вторую «теорию»:
«У неё сторонников почти нет, но зато в числе их я.
По этой теории — ничего нет: ни врагов, ни горнила, ни наблюдения, ни желания хвалы, ни призрака Кальсонера, ни Турбина, словом — ничего. Никому ничего это не интересно, не нужно, и об чём разговор? У гражданина шли пьесы, ну, сняли их, и в чём дело? Почему этот гражданин, Сидор, Пётр или Иван, будет писать и во В ЦИК, и в Наркомпрос и всюду всякие заявления, прошения, да ещё об загранице?! А что ему за это будет? Ничего не будет. Ни плохого, ни хорошего. Ответа просто не будет. И правильно и резонно! Ибо если начать отвечать всем Сидорам, то получится форменное вавилонское столпотворение».
И вновь шло возвращение к телефонному разговору со Сталиным:
«… мне позвонил генеральный секретарь год с лишним назад. Поверьте моему вкусу: он вёл разговор сильно, ясно, государственно и элегантно. В сердце писателя затаилась надежда: оставался только один шаг — увидеть его и узнать судьбу».
Вот, оказывается, для чего нужна была ему встреча со Сталиным — «узнать судьбу». Вождь был нужен Булгакову как оракул. Как маг‑волшебник, способный мгновенно преобразить его жизнь, превратив мечты в реальность. Вот для этого он и написал генсеку письмо.
«Составлять его было мучительно трудно. В отношении к генсекретарю возможно только одно — правда, и серьёзная. Но попробуйте всё уложить в письмо…
Я представил себе потоки солнца над Парижем! Я написал письмо. Я цитировал Гоголя, я старался передать, чем пронизан.
Но поток потух. Ответа не было. Сейчас чувство мрачное. Одни человек утешал: „Не дошло “. Не может быть. Другой ум практический, без потоков и фантазий, подверг письмо экспертизе. И совершенно остался недоволен. „Кто поверит, что ты настолько болен, что тебя должна сопровождать жена? Кто поверит, что ты вернёшься? Кто поверит? “…
Я с детства ненавижу эти слова: „кто поверит?“ Там, где это „кто поверит?“ — я не живу, меня нет…
Викентий Викентьевич, я стал беспокоен, пуглив, жду всё время каких‑то бед, стал суеверен…»
В своём ответном письме Вересаев осторожно пытался вернуть Булгакова из мира «исступлённых» фантазий в социалистическую реальность:
«… продолжаю думать, что надежда на заграничный] отпуск — надежда совершенно безумная. Да, вот именно, — „кто поверит? “… думаю, рассуждение там такое: „писал, что погибает в нужде, что готов быть даже театральным плотником, — ну вот, устроился, получает чуть не партмаксимум. Ну, а насчёт всего остального — извините! “»
Впрочем, Булгакову и самому всё было предельно ясно. Он понимал, что раздражает большевистский режим. Понимал, что за рубеж его не пускают, так как боятся получить там в его лице опаснейшего врага. Он даже пришёл к выводу, что подобная позиция властей не лишена мудрости.
Ему было горестно и обидно, что его сражение с большевиками завершилось так бесславно. И теперь к навязчивым печальным раздумьям о том, что его жизни суждено оборваться в 1939‑ом, прибавилось ещё и тревожное беспокойство по поводу того, что ему так никогда и не дадут увидеть «иные страны».
А повседневная действительность продолжала изумлять своими удивительными парадоксами. Так, например, Евгений Замятин («бывший писатель», как он сам назвал себя в письме Булгакову, «а ныне доцент Ленинградского кораблестроительного института») почти всё лето 1931 года провёл в Москве. Он продолжал добиваться (на этот раз уже через Горького) разрешения на выезд из страны, написав Сталину:
«Приговорённый к высшей мере наказания — автор настоящего письма — обращается к Вам с просьбой о замене этой меры другою… Для меня, как писателя, именно смертным приговором является лишение возможности писать, а обстоятельства сложились так, что продолжать свою работу я не могу, потому что никакое творчество немыслимо, если приходится работать в атмосфере систематической, год от году увеличивающейся травли».
И Замятин добился‑таки своего. Его отпустили.
Надо ли говорить, как ошеломила Булгакова эта внезапная новость?
Новая пьеса
Тем временем закончилось лето. Литератор Григорий Гаузнер записывал в дневнике:
«Осень. Повсюду сажают зелёные деревья. Мы во всём идём наперекор природе. Воля».
Булгаков тоже продемонстрировал волю, показав, что продолжает идти своим путём, без устали поддевая большевистский режим своим непокорным ершистым творчеством. На этот раз он сочинил произведение, над которым с таким воодушевлением трудился всё лето 1931 года.
Внешне всё выглядело как обычно — пьеса как пьеса. Но если вчитаться в неё повнимательней, то сразу чувствуется, что перед нами — драматургическая басня. С древним, как мир, названием — «Адам и Ева».
Пьеса начинается с эпиграфа.
Их даже два.
И оба с подтекстом.
Первый эпиграф явно взят из противогазовой инструкции, напоминавшей о том, что газ — штука очень опасная, и что шутки с ним плохи. Но поскольку фраза исходила от Булгакова, она воспринималась как признание смельчака‑драматурга, пытавшегося бороться с советской властью, в бессмысленности этой борьбы, так как любого борца ожидает неминуемое поражение:
«Участь смельчаков, считавших, что газа бояться нечего, всегда была одинакова — смерть!»
Следующий эпиграф звучит так:
«… и не буду больше поражать всего живущего, как Я сделал: впредь во все дни Земли сеяние и жатва не прекратятся.
Из неизвестной книги,
найденной Маркизовым»
Захар Маркизов — один из персонажей пьесы. По ходу действия он читает книгу, найденную в подвале. В ней и рассказывается об Адаме и Еве, которые «были оба наги… и не стыдились», и о змее, который «был хитрее всех зверей полевых»…
Что за книгу читал Маркизов, догадаться нетрудно — книгу Бытие Ветхого Завета. В стране, в которой восторжествовал атеизм, книга эта была не в чести. Вот и пришлось называть её «неизвестной» и «найденной». Для маскировки.
Но для чего вообще потребовалось начинать пьесу цитатой из религиозной книги?
Вопрос нетрудный. Знатоком Библии в стране Советов был, как известно, бывший семинарист Иосиф Джугашвили, ставший с некоторых пор товарищем Сталиным. Ему — человеку, которого Булгаков захотел иметь главным своим читателем, не надо было объяснять, из какой «неизвестной книги» взят эпиграф. А ведь это Всевышний сразу после Потопа давал обещание Ною «не поражать» никого и ничего из «всего живого». Явно уподобляя вождя Господу, лукавый драматург как бы неназойливо намекал, что и Сталину неплохо было бы дать аналогичное обещание.
Как видим, обстоятельное знакомство с жизнью господина де Мольера не прошло для Булгакова бесследно. И вне всяких сомнений сказалось на тактике общения с большевистскими «святошами», давая драматургу новые (ещё более лукавые) ходы и приёмы.
Сдержал ли драматург данное им слово?
За эпиграфами следует собственно пьеса. В ней разворачивается трагический, но вполне допустимый в ту пору сюжет: начинается мировая война, и Ленинград подвергается газовой атаке. Бомбы с ядовитыми газами сбрасывают на жилые кварталы самолёты врага, прилетевшие из «мира насилья», то есть с капиталистического запада.
Булгаков, конечно же, прекрасно знал, кто именно толкает человечество к развязыванию мировой бойни. Ведь вот уже 14 лет слышал он призывы большевиков смело пойти «в бой за власть Советов», за грядущий социалистический рай. При этом без устали повторялось, что «Красная армия всех сильней», и что «весь мир насилья мы разрушим до основанья».
Но в «Адаме и Еве» всё происходит не так, как планировали большевики. Не сталинские соколы летят уничтожать загнивающий Запад, а вражеская эскадрилья преспокойно долетает до Ленинграда. В результате бомбардировки всё живое в городе в городе на Неве мгновенно погибает.
Вот авторская ремарка, предваряющая «Акт второй»:
«Большой универсальный магазин в Ленинграде… Гигантские стёкла внизу выбиты, и в магазине стоит трамвай, вошедший в магазин. Мёртвая вагоновожатая. На лестнице у полки — мёртвый продавец с сорочкой в руках. Мёртвая женщина, склонившаяся на прилавок, мёртвый у входа (умер стоя)…
Весь пол усеян раздавленными покупками.
В гигантских окнах универмага ад и рай. Рай освещён ранним солнцем вверху, а внизу ад — дальним густым заревом. Между ними висит дым, и в нём призрачная квадрига над развалинами и пожарищами.
Стоит настоящая мёртвая тишина».
На весь город — всего несколько выживших «счастливчиков». Но испытывают они не счастье, а ужас.
С лица земли стёрт не просто какой‑то островок человеческой цивилизации. Уничтожен Ленинград, город Ленина, колыбель Октябрьской революции.
Написать такое в те годы вряд ли кто‑либо осмелился.
А Булгаков написал.
Размышляя над этой (выдуманной им) ситуацией, он подводил читателей и зрителей к мысли о том, что коммунистическая идеология (равно как и любая иная) не вечна, и что настанет час, когда ей придёт неминуемый конец. Равно как и планы кремлёвских вождей, мечтающих о мировом господстве, приведут страну к полному краху.
Обо всём этом в пьесе говорилось открытым текстом. В уста одного из персонажей (литератору Пончику‑Непобеде) Булгаков вложил невероятные по своей смелости слова.
«ПОНЧИК. Это коммунистическое упрямство… Тупейшая уверенность в том, что СССР победит…
Вот к чему привёл коммунизм! Мы раздражили весь мир, то есть не мы, конечно, интеллигенция, а они. Вот она, наша пропаганда, вот оно, уничтожение всех ценностей, которыми держалась цивилизация… Терпела Европа… Терпела‑терпела, да потом вдруг как ахнула!.. Погибайте, скифы!»
Чуть позднее размышления над этой крамольной темой будут продолжены:
«ПОНЧИК. Был СССР и перестал быть. Мёртвое пространство загорожено и написано: „Чума. Вход воспрещается“. Вот к чему привело столкновение с культурой. Ты думаешь, я хоть одну минуту верю тому, что что‑нибудь случилось с Европой? Там электричество горит, и по асфальту летают автомобили. А мы здесь, как собаки, у костра грызём кости… Будь он проклят, коммунизм /»
Захар Маркизов (тот, что нашёл в подвале Библию) впрямую спрашивает товарища по несчастью:
«МАРКИЗОВ. Так за кого ж теперь — за коммунизм или против?
ПОНЧИК. Погиб он, слава тебе Господи, твой коммунизм!».
Устами своих героев Булгаков рассуждает не только на острейшие политические темы. Он затрагивает и экономические проблемы. Например, размышляет о перспективах платёжеспособности советского рубля. Весьма пророчески, надо сказать, размышляет.
«ПОНЧИК. Советский рубль — я тебе скажу по секрету — ни черта не будет стоить… А доллары будут стоить до скончания живота. Видишь, какой старец напечатан на бумажке? Это вечный старец!.. На свете существуют только две силы: доллары и литература».
Впрочем, в финале пьесы, когда вдруг выяснится, что мир капитала повержен, а СССР победил, Пончик‑Непобеда заявит торжествующим победителям, что всему, о чём он говорил ранее, значения придавать не следует.
«ПОНЧИК. У меня был минутный приступ слабости! Малодушия! Я опьянён, я окрылён свиданием с людьми!»
Да, Пончик раскаивается, но слова‑то его (крамольные слова) всё‑таки были произнесены. И невероятная по смелости фраза о «главном человеке» тоже прозвучала.
«ПОНЧИК. Когда главный человек начинает безумствовать, я имею право поднять вопрос о том, чтобы его не слушать!»
И это говорилось в ту пору, когда самым главным человеком в стране был товарищ Сталин, а слова академика Бехтерева о безумии большевистского вождя передавались шёпотом и только своим.
Вот, стало быть, о каком «ключе к пьесе» Булгаков с такой гордостью сообщал в письме завлиту МХАТа Маркову. Этот «ключ» открывал нечто совершенно невероятное, давая драматургу возможность высказывать свои самые сокровенные мысли. Поверженный, но непобеждённый Булгаков как бы заново осознавал своё истинное предназначение в этой жизни. И — устами литератора Пончика‑Непоседы — заявлял об этом.
«ПОНЧИК. Кто знает, может быть, судьба избрала меня для того, чтобы сохранить в памяти и записать для грядущих поколений историю гибели».
В «Адаме и Еве» поднимались и другие запретные темы. Так, например, главный герой пьесы, учёный‑химик Ефросимов изобрёл чудодейственный луч, способный нейтрализовывать действие отравляющих газов. И считает, что он вправе распоряжаться своим изобретением по своему усмотрению. И даже передать его всему человечеству. Если будет такое желание.
Иными словами, Ефросимов ставит вопрос о праве изобретателя на созданное им устройство. О праве автора на его интеллектуальную собственность.
Но авиатор Дараган с подобной позицией категорически не согласен, считая, что у Ефросимова не просто изобретение, а «военное величайшей важности открытие».
«ДАРАГАН. Ваш аппарат принадлежит СССР!»
Дараган тотчас посылает за представителями власти. И они очень скоро появляются — в образе «двоюродных братьев» Туллеров, гепеушников.
Почему представители карательных органов носят именно такую фамилию? Да потому что слово «tool» переводится с английского как «рабочий инструмент», «орудие». Неисправимый ёрник Булгаков и тут остался верным себе, назвав сотрудников ОГПУ «орудием», «рабочим инструментом» советской власти. При этом Михаил Афанасьевич явно рассчитывал на то, что большевики английским языком не владеют и никаких вопросов в связи со «странной» фамилией у них не возникнет.
В «Адаме и Еве», как и в предыдущих булгаковских произведениях, сквозь хитросплетение событий, фантастических и реальных, можно разглядеть и некоторые события из биографии самого драматурга.
Пьеса начинается с того, что в комнате из громкоговорителя «течёт звучно и мягко „Фауст“ из Мариинского театра». Инженер Адам Красовский, только что расписавшийся с красавицей Евой, целует молодую жену и говорит:
АДАМ. Сегодня „Фауст“, а завтра вечером мы едем на Зелёный Мыс!»
«Фауст», как мы помним, — любимая опера самого Булгакова. А находившийся неподалёку от Батуми Зелёный Мыс был тем местом, которое неизменно оказывалось на пути Михаила Афанасьевича в самые критические моменты его жизни.
Лирическая канва «Адама и Евы» тоже имеет к драматургу самое непосредственное отношение. Впоследствии Елена Сергеевна напишет:
«В ней наш треугольник — М[ихаил] А[фанасьевич], Евгений] Александрович], я».
Но в этой «треугольной» ситуации главный лирический герой пьесы (в отличие от Михаила Булгакова) побеждает своего соперника. И в жизни добивается многого из того, чего никак не удавалось достичь драматургу.
Этот удачливый персонаж — сорокаоднолетний академик Александр Ипполитович Ефросимов (и Булгакову шёл тогда сорок первый год). Он (в отличие от Булгакова) побывал за рубежом и… Впрочем, предоставим автору пьесы самому охарактеризовать своего героя:
«Ефросимов худ, брит, в глазах туман, а в тумане свечки. Одет в великолепнейший костюм, так что сразу видно, что он недавно был в заграничной командировке…»
Любопытная деталь — «в глазах туман, а в тумане свечки». Звучит как «кукиш в кармане», который у Булгакова всегда был наготове. По ходу пьесы академик несколько раз решительно заявляет, что имеет право жить там, где ему нравится, ездить туда, куда хочет.
«ЕФРОСИМОВ. Я могу хотеть всё, что я хочу».
Поступки Ефросимова тоже неожиданны. Так, своим чудодейственным лучом он нейтрализует смертоносный газ, который находится в бонбоньерках, выданных лётчику Дарагану (он должен сбросить их на врага, когда будет отдан приказ Реввоенсовета). Поступок академика ошеломляет окружающих.
«АДАМ…. изменник, анархист, неграмотный политический мечтатель предательски уничтожает оружие защиты, которому нет цены. Да этому нет меры! Нет меры! Нет! Это — высшая мера!
ДАРАГАН. Нет, нет, Адам! Он не анархист и не мечтатель! Он — враг‑фашист! Ты думаешь, это лицо? Нет, посмотри внимательно, это картон: я вижу отчётливо под маской фашистские знаки!»
Дараган считает, что Ефросимов носит маску, скрывающую от окружающих его истинное лицо. В том же самом, как мы помним, многочисленные недоброжелатели постоянно упрекали и самого Булгакова.
Любопытно, что наличие маски на своём лице академик не отрицает. Он лишь заявляет уклончиво:
«ЕФРОСИМОВ. Я в равной степени равнодушен и к коммунизму и к фашизму».
А теперь обратимся к любовному «треугольнику» булгаковской пьесы. Главная её героиня, 23‑летняя Ева Войкевич, так объясняет своё отношение к попавшему в опалу химику Ефросимову:
«ЕВА. Человек ослепляет меня свечками, которые у него в глазах. Оказывается, мы совершенно одинаковы, у нас одна душа, разрезанная пополам… (Плачет, хватает Ефросимова за руки.) Милый, любимый, великий, чудный человек, сиреневый, глазки расцеловать, глазки расцеловать! (Гладит голову Ефросимова, целует.) Какой умный!»
Реальный соперник Михаила Булгакова, командарм Евгений Шиловский, послужил прототипом для двух персонажей пьесы: 28‑летнего инженера Адама Красовского и авиатора Андрея Дарагана, влюблённого в Еву Военный лётчик угрожает Ефросимову пистолетом и даже стреляет в него.
«ЕВА. Я заявляю: Дараган‑истребитель решил… убить Ефросимова с целью уничтожить соперника. Да».
И Ева берёт инициативу в свои руки. Она уходит от Адама к Ефросимову, но при этом говорит ему:
«ЕВА. Ты гений, но ты тупой гений! Я не люблю Адама. Зачем я вышла за него замуж? Зарежьте, я не понимаю. Впрочем, тогда он мне нравился… И вдруг катастрофа, и я вижу, что мой муж с каменными челюстями, воинствующий и организующий. Я слышу — война, газ, человечество, построим здесь города… Мы найдём человеческий материал! А я не хочу никакого человеческого материала, я хочу просто людей, а больше всего — одного человека. А затем — домик в Швейцарии, и — будь прокляты идеи, войны, классы, стачки… Я люблю тебя и обожаю химию!»
В словах Евы слышны отголоски грёз и мечтаний самого Михаила Булгакова: уехать куда‑нибудь подальше от этой дьявольской социалистической страны и увезти с собой «одного человека». И поглядеть на мир, где живут «просто люди», головы которых не обезумели от «проклятых» классовых идей. Уехать и там, вдали, наконец‑то обрести покой.
Но, увы, это были всего лишь мечты, которые вряд ли могли осуществиться.
А теперь попробуем отыскать ту роль, которая отведена в «Адаме и Еве» Любови Евгеньевне Белозёрской, законной жене драматурга.
Появление Ефросимова в первом акте предваряет авторская ремарка:
«… безукоризненное бельё Ефросимова показывает, что он холост и сам никогда не одевается, а какая‑то старуха, уверенная, что Ефросимов полубог, а не человек, утюжит, гладит, напоминает, утром подаёт».
А ещё у академика есть Жак.
«АДАМ. Кто такой Жак?
ЕФРОСИМОВ. Ах, если бы не Жак, я был бы совершенно одинок на этом свете, потому что нельзя же считать мою тётку, которая гладит сорочки… Жак освещает мою жизнь…»
После этих слов Ефросимов задумывается, делает паузу А потом говорит:
«ЕФРОСИМОВ. Жак — это моя собака».
Далее следует рассказ о том, как в жизни академика появилась собака. История эта безумно напоминает другую — знакомство Михаила Афанасьевича с Любовью Евгеньевной. Вспомним, как это произошло. Булгаков встретил одинокую женщину, у которой в Москве не было угла, и которая подумывала о том, не наложить ли на себя руки. А теперь — слово Ефросимову.
«ЕФРОСИМОВ. Вижу, идут четверо, несут щенка и смеются. Оказывается — вешать. И я им заплатил двенадцать рублей, чтобы они не вешали его. Теперь он взрослый, и я никогда не расстаюсь с ним. В неядовитые дни он сидит у меня в лаборатории и смотрит, как я работаю. За что вешать собаку?»
Любовь Белозёрская, как мы помним, очень быстро потеряла интерес к темам и интересам, которые волновали её мужа. У неё появились свои увлечения, далёкие от литературных пристрастий Булгакова. И Михаил Афанасьевич перестал испытывать к ней прежние чувства. Это смущало его.
Ефросимов тоже испытывает смущение. Правда, совсем по другой причине — не облучил своим «аппаратом» ни Жака, ни тётку. Они прогибают. Этот факт и терзает академика.
«ЕФРОСИМОВ. Душа моя, Ева, смята… Но хуже всего… это потеря Жака.
ЕВА. Милый Саша! Возможно ли это, естественно ли — так привязаться к собаке! Ведь это же обидно! Ну, издохла собака, ну что же поделаешь. А тут в сумрачном лесу женщина, и какая женщина, — возможно, что и единственная во всём мире, вместо того, чтобы спать, приходит к его окну и смотрит в глаза, а он не находит ничего лучше, как вспоминать дохлого пса! О, горе мне, горе с этим человеком!.. Разве я хуже Жака?.. О нет, это величайшая несправедливость — предпочесть мне бессловесного Жака!»
Л.Е. Белозёрская, видимо, так и не поняла, что выведена в образе любимой собаки главного героя. А если и поняла, то сделала вид, что ни о чём не догадывается. Во всяком случае, в её «Воспоминаниях» об этом не сказано ни слова. И только когда Булгаков во второй раз выведет её в образе «любимого пса», последуют комментарии. Но об этом речь впереди.
А мы вновь обратимся к ефросимовским лучам, которые обезвреживают смертоносные газы. Что это за «газы», убивающие всё живое? И что это за «лучи», нейтрализующие их смертоносное действие?
Булгаков явно рассчитывал на тех, кто хорошо помнил содержание «Багрового острова». А там Геннадий Панфилыч тоже обращал внимание на очень странных «красных туземцев», населяющих экзотическую страну. И задавал автору пьесы Дымогацкому вопрос.
«ГЕННАДИЙ. Позвольте, это что же за туземцы такие?
ДЫМОГАЦКИЙ. Аллегория это, Геннадий Панфилыч. Тут надо тонко понимать».
В «Адаме и Еве» понятие «газ» тоже весьма аллегорично. Но о чём идёт речь, догадаться совсем нетрудно. Вспомним первый эпиграф, предваряющий пьесу:
«Участь смельчаков, считавших, что газа бояться нечего, всегда была одинакова — смерть!»
Разве не читается в этой фразе объяснение причин недавнего поражения Булгакова в его столкновении с режимом страны Советов? Стоит лишь странное слово «газ» заменить «большевиками», и всем сразу станет ясно, что воевать с ними — безумие.
Но Ефросимов воюет. Воюет с «газами», то есть с большевистскими идеями, отравляющими сознание народа. А ефросимовский «аппарат» — это, по мнению Булгакова, та литература, которая, как глоток свежего воздуха, даёт возможность всем, кто к ней приобщился, остаться в живых, выжить.
Конечно, с могучей советской властью спорить бессмысленно, и мудрая Ева говорит Ефросимову:
«ЕВА. Саша! Умоляю, не спорь… с победителем! (Дарагану) Какой ты счёт с ним сводишь? Зачем нам преградили путь? Мы — мирные люди, не причиняем никому зла. Отпустите нас на волю..»
Но Дараган продолжает агитировать Ефросимова. Он убеждает академика остаться на родине, рисуя увлекательную перспективу светлого завтрашнего дня, когда весь мир станет коммунистическим раем:
«ДАРАГАН (Ефросимову). Ты жаждешь покоя? Ну что же, ты его получишь! Но потрудись в последний раз… а потом… живи, где хочешь. Весь земной шар открыт, и визы тебе не надо.
ЕФРОСИМОВ. Мне надо одно — чтобы перестали бросать бомбы, и я уеду в Швейцарию.
ДАРАГАН. Эх, профессор, профессор!.. Ты никогда не поймёшь тех, кто организует человечество. Ну что ж… Пусть по крайней мере твой гений послужит нам! Иди, тебя хочет видеть генеральный секретарь».
Этими словами, в которых тоже «позванивает» очередной булгаковский «ключик», пьеса и заканчивается. Её заключительными словами Булгаков ещё раз напомнил всем о том, что Сталин «хочет» его видеть. И заодно попенял самому вождю за то, что их встреча до сих пор не состоялась.
«Пристраивание» написанного
Каждому, кто хоть раз попытался создать художественное произведение, хорошо известно, что написать его — это лишь полдела. Гораздо сложнее написанное опубликовать. Всё новое входит в этот мир с трудом. Ещё больше труда требуется для покорения этого мира.
Покорить социалистический мир «Адаму и Еве» было очень непросто. Ведь булгаковская пьеса поднимала на щит бунтарство главного героя, не желавшего обменивать свою любовь к свободе ни на какие коврижки.
Впрочем, на этот раз драматург вроде бы мстить никому не собирался. Гораздо важнее для него было, чтобы его пьесу прочла Елена Шиловская. Прочла бы и поняла всё то, что сам Булгаков не мог высказать ей в драматический момент расставания.
Обещание, которое дали они при разлуке, строго соблюдалось: они не встречались, не переписывались и не перезванивались. Но на сестру Елены Сергеевны ограничения не распространялись. С Ольгой Бокшанской Булгаков продолжал видеться в театре, где и мог дать ей экземпляр новой своей пьесы. А Ольга, как мы знаем, жила с Еленой в одной квартире, поэтому передать сестре экземпляр «Адама и Еву» было очень просто.
22 августа Булгаков представил пьесу Ленинградскому Красному театру. Её директор В.Е. Вольф был инициатором заказа «пьесы о войне». Он же выступил и в роли «отказчика» — пьесу не приняли. Слишком смелые иносказания, ощущавшиеся чуть ли не в каждой реплике, вероятно, здорово испугали «красного» директора.
Вернувшись в Москву, Михаил Афанасьевич написал Станиславскому (30 августа):
«Я очень жалел, что пьеса не пошла в Художественном театре. Этому был ряд причин… Но кроме того — в договорах МХАТ существует твёрдо принятый вообще тяжёлый, а для меня ужасный пункт о том, что в случае запрещения пьесы автор обязан вернуть аванс (я так уже возвращаю тысячу рублей за „Бег“).
Я вечно под угрозой запрещения. Немыслимый пункт!..
Вот почему пьеса срочно ушла в Театр Вахтангова».
Но и там «Адама и Еву» встретили настороженно.
Сохранилась фотография: группа вахтанговцев и четыре драматурга. В первом ряду (прямо на полу) двое актёров с небольшим плакатиком, на котором написано от руки:
«Сегодня нам читают: Л. Леонов, К. Федин, М. Булгаков, И. Сельвинский».
Драматурги сидят во втором ряду, справа — Булгаков, в центре — Леонов и Федин, слева — Сельвинский. В тот день Сельвинский знакомил театр с очередным вариантом своей комедии, которая теперь — после многочисленных правок — стала называться «Теорией вузовки Лютце». Булгаков читал «Адама и Еву». Белозёрская вспоминала:
«Вахтанговцы, большие дипломаты, пригласили на чтение Я.И. Алксниса, начальника Военно‑воздушных Сил Союза… Он сказал, что ставить эту пьесу нельзя, так как по ходу действия погибает Ленинград».
Мудрым оказался авиационный начальник. Сразу разглядел что к чему.
«Адам и Ева» так и не увидела света рампы. Но Булгаков с помощью одного из своих «ключиков» сумел всё же открыть некую заветную дверцу и сообщить всем то, что хотел. Во‑первых, что режим большевиков (а точнее, тот самый социалистический рай, который они мечтают построить) рано или поздно неумолимо рухнет. Во‑вторых, что уже не Булгаков жаждет встречи с вождём, а «тот, кто организует человечество», то есть именно генеральный секретарь большевистской партии, «хочет видеть» своего писателя.
Улыбки Фортуны
В конце августа, находясь в городе на Неве, Булгаков посетил ещё один театр. Вот как об этом событии сообщалось в письме Станиславскому:
«Недавно, во время моих переговоров с Большим Драматическим Театром в Ленинграде, я, связанный с ним давними отношениями, согласился, опять‑таки срочно, написать для них пьесу по роману Л. Толстого „Война и мир“.
Сообщаю Вам об этом, Константин Сергеевич. Если только у Вас есть желание включить „Войну и мир“ в план работ Художественного театра, я был бы бесконечно рад предоставить её Вам».
В конце сентября 1931 годы МХАТ заключил с Булгаковым такой договор.
А 25 сентября состоялось очередное заседание Главного Репертуарного Комитета (ГРК). Вот фрагмент протокола:
«1. Слушали: Заявление драматурга Булгакова о пересмотре постановления ГРК о запрещении пьесы „Кабала святош“.
1. Постановили: Пьесу „Кабала святош „разрешить при условии переделок».
И 30 сентября 1931 года обрадованный Булгаков пишет гостившему в Советском Союзе Горькому:
«Многоуважаемый Алексей Максимович!
При этом письме посылаю Вам экземпляр моей пьесы „Мольер“ с теми поправками, которые мною сделаны по предложению Главного Репертуарного Комитета.
В частности, предложно заменить название „Кабала святош „другим. Уважающий Вас М. Булгаков».
Драматург, которого не жаловала власть, вновь обращался к «великому пролетарскому писателю» с просьбой замолвить о нём словечко. Горький замолвил. И 6 октября Главрепертком собрался вновь. Вот некоторые из вопросов, которые предстояло в тот день рассмотреть цензорам:
«…2. О пьесе „Турбина“ Вагранова (МХТ‑2).
3. О пьесе „Теория вузовки Лютце“ Сельвинского (театр им. Вахтангова)…
5. О пьесе Булгакова „Мольер“.
Можно себе представить, каково было Булгакову обнаружить в этом перечне название «Турбина» во МХТ‑2. Ведь в его душе продолжала ныть незаживающая рана, возникшая в результате запрещения «Дней Турбиных» во МХТ‑1.
«Теорию вузовки Лютце» Главрепертком запретил. Да ещё с таким «треском», что перепуганный Сельвинский тут же сжёг все имевшиеся у него экземпляры пьесы и до конца дней своих старался не вспоминать о ней.
С «Мольером» реперткомовцы поступили помягче:
«5. Слушали: о литеровке пьесы Булгакова „Мольер“.
5. Постановили: Поручить т. Бляхину ознакомиться с пьесой „Мольер“.
В конце концов, Булгакову предложили сделать новые поправки. И как только пьеса была окончательно «выправлена», её, наконец‑то, разрешили к представлению.
Вновь ощутив себя востребованным, драматург тут же предложил «Мольера» Ленинградскому Большому драматическому театру. Подписав 12 октября 2931 года — договор на её постановку, он стал оповещать всех своих друзей об одержанной победе. Евгению Замятину, который готовился покинуть страну, Булгаков не без гордости написал:
«„Мольер“ мой разрешён. Сперва Москва и Ленинград только, а затем и повсеместно (литера „Б“)».
Полетела весточка и к П.С. Попову:
«„Мольер „мой получил литеру Б (разрешение на повсеместное исполнение)».
В ответе Замятина, полученном через несколько дней, есть такие строки:
«Итак, ура трём Эм — Михаилу, Максиму и Мольеру!.. Стало быть, Вы поступаете в драматурги, а я в Агасферы».
Да, себя Замятин уже ощущал Агасфером, вечным странником. Булгаков намёк понял и написал уезжавшему счастливчику:
«Дорогой Агасфер!..
Из трёх эмов в Москве осталось, увы, только два — Михаил и Мольер».
Третий «Эм» (Горький) уже отбыл в Сорренто. 25 декабря Булгаков отправил ему письмо:
«Зная, какое значение для разрешения пьесы имел Ваш отзыв о ней, я от души хочу поблагодарить Вас. Я получил разрешение отправить пьесу в Берлин и отправил её в Фишерферлаг, с которым обычно я заключаю договоры по охране и представлению моих пьес за границей».
А год 1931‑ый подходил к концу. Он принёс Булгакову немало светлого и даже радостного. Ещё бы, во МХАТе продолжались репетиции инсценированных им «Мёртвых душ», Ленинград принял к постановке «Мольера», а в Баку намеревались ставить «Адама и Еву». Полным ходом шло сочинение пьесы «Война и мир»…
Всё вроде бы складывалось удачно. И в душе начинала теплиться надежда, что наступающий год принесёт с собой немало приятного…
Ждать пришлось не особенно долго.
Неожиданные сюрпризы
В середине января 1932 года в квартире, где проживали супруги Булгаковы, был подан «воистину колдовской знак». Вот как описал это загадочное происшествие сам Михаил Афанасьевич в письме к П.С. Попову (от 25.1.1932 г.):
«У нас новая домработница, девица лет 20‑ти, похожая на глобус. С первых же дней обнаружилось, что она прочно по‑крестьянски скупа и расчётлива, обладает дефектом речи и богатыми способностями по счётной части, считает излишним существование на свете домашних животных — собак и котов („кормить их ещё, чертей“) и страдает при мысли, что она может опоздать с выходом замуж. Но кроме всего этого в девице заключается какой‑то секрет, и секрет мучительный. Наконец он открылся: сперва жена моя, а затем я с опозданием догадались — девица трагически глупа. Глупость выяснилась не простая, а, так сказать, экспортная, приводящая весёлых знакомых в восторг».
Но при этом расчётливость новой булгаковской домработницы становилась весьма конкретной, когда речь заходила о драматургической деятельности её хозяина:
«… сколько метров ситца можно было бы закупить и включить в состав девицыного приданого, в случае ежели бы пьесы щедрого драматурга пошли на сцене».
С этой‑то домработницей в середине января 1932 года… Впрочем, пусть об этом расскажет сам Булгаков (воспользуемся всё тем же его письмом к Павлу Попову):
«Итак: 15‑го около полудня девица вошла в мою комнату и, без какой бы то ни было связи с предыдущим или последующим, изрекла твёрдо и пророчески:
— Трубная пьеса ваша пойдёшь. Заработаете тыщу.
И скрылась из дому.
А через несколько минут — телефон.
С уверенностью могу сказать, что из Театра не звонили девице, да и телефонов в кухнях нет. Что же этакое? Полагаю — волшебное происшествие».
Чтобы хоть как‑то разгадать (или хотя бы прояснить) это необыкновенное волшебство, обратимся к другим свидетелям того странного происшествия. Все они в один голос утверждали, что да, мол, неожиданность была, и мы при этом лично присутствовали.
Вот тут‑то нас и поджидает новая «закавыка». Проистекает она из‑за давным‑давно выясненного обстоятельства, заключающегося в том, что самыми ненадёжными свидетелями как раз и являются те, кто «присутствовал лично». То есть очевидцы.
В самом деле, в Московском Художественно театре действительно произошёл некий необычный инцидент. Однако одни его участники впоследствии говорили, что случилось он 24 декабря 1931 года на премьере спектакля по пьесе Афиногенова «Страх». Другие, напротив, чуть ли не клялись, что всё случилось 14 января 1932 года — сразу после спектакля «Горячее сердце» по пьесе Островского.
Рассказы и тех и других очевидцев опубликованы. И эти публикации сбивают с толку всех желающих знать истинную правду.
А правда эта — в документах. Хотя бы в том же письме Булгакова Попову, где чётко зафиксировано, что событие чрезвычайной важности произошло именно 14 января 1932 года. И состояло оно в том, что в театр приехал Иосиф Сталин.
В разговоре с руководителями МХАТа вождь спросил, почему давно не видит на сцене своего любимого спектакля — «Дни Турбиных».
Вопрос генсека многих озадачил, ошеломил, а кое‑кого даже обескуражил.
Смущённый В.И. Немирович‑Данченко, стараясь никого ненароком не подставить, стал осторожно разъяснять ситуацию, рассказав о шквале негативной критики, из‑за которой в 1929‑ом театр был вынужден снять спектакль с репертуара. Как вспоминали потом всё те же очевидцы, Сталин сделал вид, что впервые об этом слышит. И выразил неудовольствие в связи с тем, что Художественный театр больше «Турбиных» не играет.
На том инцидент и завершился.
Однако на следующий день в кабинете К.С. Станиславского во МХАТе раздался телефонный звонок. Звонил из Кремля секретарь ВЦИКа А.С. Енукидзе. Как воспоминал потом ответственный сотрудник театральной дирекции Ф.Н. Михальский, Авеля Сафроновича интересовал вопрос:
«— … сможет ли театр в течение месяца восстановить „Турбиных“?
— Да, да, конечно!
Созваны дирекция, Режиссёрская коллегия, Постановочная часть и — тотчас же за работу по возобновлению спектакля.
Я немедленно позвонил Михаилу Афанасьевичу домой. И в ответ после секундного молчания слышу упавший, потрясённый голос: „Фёдор Николаевич, не можете ли Вы сейчас же приехать ко мне? “»
А вот как сам Михаил Булгаков рассказал о неожиданном повороте событий (в письме П.С.Попову):
«15 января днём мне позвонили из Театра и сообщили, что „Дни Турбиных“ срочно возобновляются. Мне неприятно признаться: сообщение меня раздавило. Мне стало физически нехорошо. Хлынула радость, но сейчас же и моя тоска. Сердце, сердце!»
Далее — снова слово Михальскому:
«Вот я на Пироговской, вхожу в первую комнату. На диване лежит Михаил Афанасьевич, ноги в горячей воде, на голове и на сердце — холодные компрессы. „Ну, рассказывайте, рассказывайте!“ Я несколько раз повторяю рассказ о звонке А.С. Енукидзе и о праздничном настроении в театре. Пересилив себя, Михаил Афанасьевич поднимается. Ведь что‑то надо делать. „Едем, едем!“ И мы отправляемся в Союз писателей, в Управление авторских прав и, наконец, в Художественный театр. Здесь его встречают поздравлениями, дружескими объятиями и радостными словами».
Вскоре известие о возобновляемой мхатовской постановке разлетелось по Москве, обрастая по пути самыми невероятными подробностями. Ещё бы, спектакль, прославляющий белогвардейщину и с таким треском закрытый три года назад, почему‑то вдруг возвращают на сцену Почему?! Об этом Булгаков тоже сообщил Попову:
«30.1. Было три несчастья. Первое вылилось в форточку: „Поздравляю. Теперь Вы разбогатеете!“ Раз — ничего. Два — ничего. Но на сотом человеке стало тяжко. А всё‑таки некультурны мы! Что за способ такой поздравлять!..
Номер второй: „Я смертельно обижусь, если не получу билета на премьеру“. Это казнь египетская.
Третье хуже всего: московскому обывателю оказалось до зарезу нужно было у знать: „Что это значит?!“ И этим вопросом они стали истязать меня. Нашли источник! Затем жители города решили сами объяснить, что это значит, видя, что ни автор пьесы, ни кто‑либо другой не желает или не может этого объяснить. И они наобъясняли Павел Сергеевич, такого, что свет померк в глазах».
Докапываться до истинных причин возобновления своей пьесы Булгаков не имел никакого желания. Однако в том же письме Попову написал:
«Ну а всё‑таки, Павел Сергеевич, что же это значит? Я‑то знаю?
В половине января 1932 года, в силу причин, которые мне неизвестны, и в рассмотрение которых я входить не могу, Правительство СССР отдало по МХТ замечательное распоряжение: пьесу „Дни Турбиных“ возобновить.
Для автора этой пьесы это значит, что ему — автору — возвращена часть его жизни. Вот и всё».
Чуть позднее Булгаков напишет Павлу Попову:
«… на этой пьесе, как на нити, подвешена теперь вся моя жизнь, и еженощно я воссылаю моления судьбе, чтобы никакой меч эту нить не перерезал».
Вспоминаются и другие строчки — из «Мастера и Маргариты». В них тоже речь идёт о жизни, которая «подвешена на волоске». Иешуа убеждённо заявляет Пилату:
«… согласись, что перерезать волосок уж наверно может лишь тот, кто подвесил…»
Этим Булгаков как бы хотел сказать, что если Всевышний дал кому‑то талант, чтобы создать какой‑то шедевр, никакие силы на земле уже не смогут воспрепятствовать тому, чтобы с этим творением ознакомились миллионы. Так было и так будет всегда. Но неисповедимы пути Господни. И как трудно порою понять, почему столько преград встаёт на пути истины. Видимо, поэтому через год в «Жизни господина де Мольера» появились такие строки: «Кто осветит извилистые пути комедиантской жизни? Кто объяснит мне, почему пьесу, которую нельзя было играть в 1664 и 1667 годах, стало возможным играть в 1669‑м?
В начале этого года король сказал, призвав к себе Мольера: — Я разрешаю вам играть „Тартюфа“.
Мольер взялся за сердце, но справился с собой, поклонился королю почтительно и вышел».
С таких вот неожиданных сюрпризов начался год 1932‑ой.
Новые сюрпризы
Как ни радостна была весть о возобновлении «Дней Турбиных», Булгаков продолжал пребывать в тревожной печали. Через два месяца, вспоминая об этих февральских днях, он с грустью напишет Павлу Попову:
«Печка давно уже сделалась моей излюбленной редакцией. Мне нравится она за то, что она, ничего не бракуя, одинаково охотно поглощает и квитанции из прачечной, и начала писем, и даже, о позор, позор, стихи! С детства я терпеть не мог стихи (не о Пушкине говорю, Пушкин — не стихи!), и если сочинял, то исключительно сатирические, вызывая отвращение тётки и горе мамы, которая мечтала об одном, чтобы её сыновья стали инженерами путей сообщения… И временами, когда в горьких снах я вижу абажур, клавиши, Фауста и её (а вижу я её во сне в последние ночи вот уж третий раз. Зачем меня она тревожит?), мне хочется сказать — поедемте со мною в Художественный Театр. Покажу Вам пьесу. И это всё, что могу предъявить. Мир, мама?»
Тем временем наступил день возобновления. 11 февраля 1932 года состоялся первый прогон, а 18‑го… Об этом — в том же письме П.С. Попову:
«Пьеса эта была показана 18‑го февраля. От Тверской до Театра стояли мужские фигуры и бормотали механически: „Нет ли лишнего билетика?“ То же самое было и со стороны Дмитровки.
В зале я не был. Я был за кулисами, и актёры волновались так, что заразили меня. Я стал перемещаться с места на место, опустели руки и ноги…
Когда возбуждённые до предела петлюровцы погнали Пиколку, помощник выстрелил у моего уха из револьвера, и этим мгновенно привёл в себя».
Драматурга, возомнившего было на мгновение, что возвратились добрые старые времена, и чуть ли не приготовившегося воспарить к небесам от внезапно нахлынувшего счастья, суровая повседневность (устами мудрейшего «Ка‑Эс», Константина Сергеевича Станиславского) быстро вернула на бренную землю:
«Тут появился гонец в виде прекрасной женщины. У меня в последнее время отточилась до последней степени способность, с которой очень тяжело жить. Способность заранее знать, что хочет от меня человек, подходящий ко мне. По‑видимому, чехлы на нервах уже совершенно истрепались, а общение с моей собакой научило меня быть всегда настороже.
Словом, я знаю, что мне скажут, и плохо то, что я знаю, что мне ничего нового не скажут. Ничего неожиданного не будет, всё — известно. Я только глянул на напряжённо улыбающийся рот и уже знал — будут просить не выходить…
Гонец сказал, что Ка‑Эс звонил и спрашивает, где я и как я себя чувствую?..
Я просил благодарить — чувствую себя хорошо, а нахожусь я за кулисами и на выходы не пойду.
О, как сиял гонец! И сказал, что Ка‑Эс полагает, что это мудрое решение.
Особенной мудрости в этом решении нет. Это очень простое решение. Мне не хочется ни поклонов, ни вызовов, мне вообще ничего не хочется, кроме того, чтобы меня Христа ради оставили в покое…
Вообще мне ничего решительно не хочется.
Занавес давали 20 раз. Потом актёры и знакомые истязали меня вопросами — зачем не вышел? Что за демонстрация? Выходит так: выйдешь — демонстрация, не выйдешь — тоже демонстрация. Не знаю, не знаю, как быть».
Брату в Париж 1 марта полетело письмо:
«Дорогой Никол!
Пишу спешно и кратко…
В МХТ возобновлены „Дни Турбиных“.
Я спешу, жена моя припишет дальше».
Далее следовала приписка Любови Евгеньевны:
«Дорогой Коля…
Привет прекраснейшему городу от скромной его поклонницы.
Сейчас у вас сезон мимоз и начинают носить соломенные шляпы. У нас снег, снег и снег. Мы ещё добрых полтора месяца будем ходить на лыжах и носить шубы».
И всё же, несмотря на российские снега и морозы, на душе было по‑весеннему приподнято — ведь событие, что посетило семью Булгаковых было из разряда радостных. Но…
Но Булгаков давно уже понял, что в этом мире всё уравновешено. Потому через несколько лет и написал в «Дон Кихоте»:
«Недаром говорится, что если перед кем‑нибудь судьба закрывает дверь, то немедленно открывается какая‑нибудь другая».
Иными словами, если на тебя вдруг обрушились дьявольские невзгоды, жди, что вот‑вот объявятся божественная благодать. И наоборот. Булгаков, верил в то, что именно так всё и происходит.
И предчувствие его не обмануло — радость очень быстро сменилось печалью. 14 марта он получил из Ленинграда сообщение… О его содержании Булгаков на следующий же день сообщил в письме к Вересаеву:
«Вчера получил известие о том, что „Мольер“ мой в Ленинграде в гробу. Большой Драматический Театр прислал мне письмо, в котором сообщает, что худполитсовет отклонил постановку и что Театр освобождает меня от обязательств по договору.
Мои ощущения?
Первым желанием было ухватить кого‑то за горло, вступить в какой‑то бой. Потом наступило просветление. Понял, что хватать некого и неизвестно за что и почему. Бои с ветряными мельницами происходили в Испании, как Вам известно, задолго до нашего времени.
Это нелепое занятие.
Я — стар».
В тот момент ровно через месяц Булгакову должен был исполниться всего лишь 41 год. А он называл себя старым. И от этого — немощным:
«… мысль, что кто‑нибудь со стороны посмотрит холодными и сильными глазами, засмеётся и скажет: „Ну‑ну, побарахтайся, побарахтайся“… Нет, нет немыслимо!
Сознание своего полного, ослепительного бессилия нужно хранить про себя.
Живу после извещения в некоем щедринском тумане».
Через четыре дня этот «туман» немного рассеялся, и Булгаков стал делиться своими ощущениями с Павлом Поповым:
«А.) На пьесе литера „Б“ Главреперткома, разрешающая постановку безусловно.
Б) За право постановки Театр автору заплатил деньги.
В) Пьеса уже шла в работу.
Что же это такое?
Прежде всего это такой удар для меня, что описывать его не буду. Тяжело и долго.
На апрельскую (примерно) премьеру на Фонтанке поставил всё. Карту убили. Дымом улетело лето… ну, словом, что тут говорить!
О том, что это настоящий удар, сообщаю Вам одному…
Приятным долгом считаю заявить, что на этот раз никаких претензий к государственным органам иметь не могу. Виза — вот она…
Кто же снял? Театр? Помилуйте! За что же он 1200 рублей заплатил и гонял члена дирекции в Москву писать со мной договор?..
Что же это такое?
Это вот что: на Фонтанке, среди бела дня, меня ударили сзади финским ножом при молчаливо стоящей публике. Театр, впрочем, божился, что он кричал «караул», но никто не прибежал на помощь…
Просьба, Павел Сергеевич: может быть, Вы видели в ленинградских газетах след этого дела. Примета: какая‑то карикатура, возможно, заметка. Сообщите!
Зачем? Не знаю сам. Вероятно, просто горькое удовольствие ещё раз глянуть в лицо подколовшему».
Вскоре выяснилось, что новую антибулгаковскую волну в городе на Неве действительно начала нагонять некая статья, появившаяся в одной из ленинградских газет ещё в ноябре 1931 года. Называлась она «Кто же вы?» и была подписана мало кому известной тогда фамилией Вишневский. Статья сурово критиковала Большой драматический театр за попытку протащить на сцену пьесу о замшелых временах французского абсолютизма. Автор статьи грозно вопрошал:
«… хочется спросить ГБДТ сегодня, узнав о некоторых новых фактах: кто же вы идейно‑творчески? Куда же вы в конце концов идёте?
Театр… принял к постановке пьесы „Мольер“ Булгакова и „Завтра“ Равича… Может быть, в „Мольере“ Булгаков сделал шаг в сторону перестройки? Нет, эта пьеса о трагической судьбе французского придворного драматурга (1622–1673). Актуально для 1932‑го!.. зачем тратить силы, время на драму о Мольере, когда к вашим услугам подлинный Мольер?
Или Булгаков перерос Мольера и дал новые качества? По‑марксистски вскрыл „сплетения давних времён“?
Ответьте, товарищи из ГБДТ!»
Вскоре в Большом драматическом театре появился и сам автор заметки. Михаил Афанасьевич сообщил Попову его приметы: «Лицо это по профессии драматург. Оно явилось в Театр и так напугало его, что он выронил пьесу…
Внешне: открытое лицо, работа „под братишку“, в настоящее время крейсирует в Москве…»
Кто же он такой — этот «братишка», что так решительно встал на пути булгаковской пьесы?
В Большую Советскую энциклопедию образца 1927 года Всеволод Вишневский не попал. Более поздние издания БСЭ сообщали, что родился Всеволод Витальевич в 1900‑ом. Участвовал в Октябрьском вооружённом восстании. В гражданскую войну сражался с белыми на кораблях Волжской флотилии, которой командовал Фёдор Раскольников. Был пулемётчиком бронепоезда, бойцом 1‑ой Конной армии, затем служил на Балтике и на Чёрном море (отсюда и его примета — «работа «под братишку»). Сам про себя (в дневнике, хранящемся сейчас в Литературном архиве) он написал довольно откровенно: «… порядочно я порасстрелял людей».
Свою первую пьесу («Первая Конная») Вишневский создал в 1929‑ом, через два года появилась вторая («Последний решительный»), в 1933‑ем — третья («Оптимистическая трагедия»).
Вот этот‑то человек и встал на пути невезучего «Мольера». И дирекция БДТ дрогнула. Сомнительная и, как им стало казаться, «вредная» для пролетарского зрителя «булгаковщина» была решительно отвергнута и заменена устраивавшей всех «вишневщиной». К ней критики претензий не имели.
Возвращение к дьяволу
Как ни был закалён Булгаков прежними гонениями, запретами и отказами, нежданное известие из Ленинграда выбило его из колеи. 30 апреля 1932 года он вновь написал Павлу Попову о своём обидчике:
«Этот Вс. Вишневский и есть то лицо, которое сияло „Мольера „в Ленинграде, лишив меня, по‑видимому, возможности купить этим летом квартиру…
… в последний год на поле отечественной драматургии вырос в виде Вишневского такой цветочек, которого даже такой ботаник, как я, ещё не видел…
А, да мне всё равно, впрочем. Довольно о нём. В Лету! К чёртовой матери!».
Но именно в этот тревожно‑печальный период жизни ему внезапно показалось, что он наконец‑то понял нечто очень значительное. И тотчас появилось непреодолимое желание выплеснуть на бумагу пришедшие в голову мысли.
Так возобновилась прерванная несколько лет назад работа над романом о дьяволе.
Прежде всего «инженер» по фамилии Воланд был переделан в «консультанта». Но «копыто» пока осталось, и поэтому роман стал называться «Консультант с копытом».
Впрочем, и «копыто» просуществовало недолго. Булгаков убрал его из опасения, что оно будет восприниматься как очередной намёк на вождя. Дело в том, что на ноге у Сталина (об этом тоже ходили по Москве слухи) было два сросшихся пальца, а подобную «дьявольскую отметину» в народе издавна называли «копытом».
В черновых набросках появились персонажи, которых раньше не было: Маргарита и её спутник, называвший себя «поэтом»…
Работа над возобновлённым романом находилась на самой начальной стадии, когда советских литераторов власти решили построить по‑новому ранжиру. 23 апреля 1932 года ЦК ВКП(б) принял постановление «О перестройке литературно‑художественных организаций». В нём, в частности, говорилось, что в «особых пролетарских организациях в области литературы и искусства» появилась…
«… опасность превращения этих организаций… в средство культивирования кружковой замкнутости…
Исходя из этого ЦК В КП (б) постановляет:
1. Ликвидировать ассоциацию пролетарских писателей (ВОАПП, РАПП).
2. Объединить всех писателей, поддерживающих платформу Советской власти и стремящихся участвовать в социалистическом строительстве, в единый союз советских писателей с коммунистической фракцией в нём…».
Никаких «платформ» Булгаков никогда не поддерживал и ни в каком строительстве участвовать не собирался. Но он понимал, что постановление ЦК касается и его. В связи с этим возникла масса вопросов. Вот только обсудить их было не с кем.
Любовь Евгеньевну литературные дела мужа давно не интересовали. Даже возобновление романа о дьяволе не вызвало в ней никаких эмоций. Она давно уже жила своей жизнью, имела свои интересы. Перед нею тоже вставали вопросы, которые требовали срочного обсуждения.
Телефон в булгаковской квартире висел над письменным столом Михаила Афанасьевича. Любовь Евгеньевна постоянно звонила по нему подругам. И однажды Булгаков не выдержал («Жизнеописание Михаила Булгакова»):
«… он сказал ей: — Люба, так невозможно, ведь я работаю! — И она ответила беспечно: — Ничего, ты не Достоевский! — Он побледнел… Он никогда не мог простить этого Любе».
Все напоминания мужа о том, что стремительно приближается 1939‑ый, год его кончины, жена всерьёз не воспринимала. Но однажды (после очередного напоминания) всё же напророчила мужу такое, о чём он поспешил сообщить П.С. Попову (в том же апрельском письме):
«Совсем недавно один близкий мне человек утешил меня предсказанием, что, когда я вскоре буду умирать и позову, то никто не придёт ко мне, кроме Чёрного монаха… страшновато как‑то всё‑таки, если уж никто не придёт. Но, что же поделаешь, сложилась жизнь моя так.
Теперь уже всякую ночь я смотрю не вперёд, а назад, потому что в будущем я для себя ничего не вижу. В прошлом же я совершил пять роковых ошибок. Не будь их, не было бы разговоров о Монахе, и самое солнце светило бы мне по‑иному, и сочинял бы я, не шевеля беззвучно губами на рассвете, а как следует быть за письменным столом.
Но теперь уж делать нечего, ничего не вернёшь. Проклинаю я только те два припадка нежданной, налетевшей как обморок робости, из‑за которой я совершил две ошибки из пяти. Оправдание у меня есть: эта робость была случайной — плод утомления. Я устал за годы моей литературной работы. Оправдание есть, но утешения нет».
Что же это за «пять роковых ошибок», которые так искорёжили жизнь Михаила Булгакова? В его фельетоне «Богема» есть такое признание:
«Я бегло… припомнил все свои преступления. Оказалось — три.
1) В 1907 году, получив 1 руб. 50 коп. на покупку физики Крае вина, истратил их на кинематограф.
2) В 1913 г. женился, вопреки воле матери.
3) В 1921 г. написал этот знаменитый фельетон».
Все эти признания — «фельетонные», стало быть, шуточные. Да и упомянутые «преступления» больше смахивают на мелкие шалости. Теперь же Булгаков говорил об ошибках, которые всерьёз исковеркали ему жизнь.
Две из них (самые последние) булгаковеды «вычислили». Первая «робость» случилась в разговоре со Сталиным, когда надо было решительно проситься за границу. Вторая — в семейном «торге» с Шиловским, когда не следовало «отдавать» Елену Сергеевну. Три первые ошибки состояли, видимо, в следующем:
1) не надо было тратить драгоценного времени на получение медицинского образования,
2) не надо было в 1921 году оставаться в Советской России, а стараться всеми силами выехать за рубеж,
3) не надо было жениться на Л.Е. Белозёрской.
Судьбоносная встреча
Художественный театр тем временем приступил к репетициям «Мольера». Но Булгакова это событие даже не взволновало. Его мысли были заняты другим. Во‑первых, делами финансового толка. Он написал брату в Париж:
«… некий г. Greanin получил 3000 франков за меня!..
Что со мною вообще делают за границей?!..
Помоги мне прекратить эти атаки на мой гонорар…»
Размышлял Булгаков и над более существенными делами. Его, к примеру, очень печалило стремительно проносившееся время. И ещё то, что он вынужден заниматься делом, к которому не лежала душа (инсценировать Н.Гоголя, Л.Толстого и так далее). 7 мая он с горечью писал Павлу Попову:
«Через девять дней мне исполнится 41 год. Это — чудовищно! Но тем не менее это так.
И вот, к концу моей писательской работы, я был вынужден сочинять инсценировки. Какой блистательный финал, не правда ли? Я смотрю на полки с ужасом: кого, кого ещё мне придётся инсценировать завтра? Тургенева, Лескова, Брокгауза‑Ефрона? Островского? Но последний, к счастью, сам себя инсценировал, очевидно, предвидя то, что случится со мною в 1929–1931 гг. Словом…
1) „Мёртвые души“ инсценировать нельзя…
2) А как же я‑то взялся за это?
Я не брался, Павел Сергеевич. Я ни за что не берусь уже давно, так как не распоряжаюсь ни одним моим шагом, а Судьба берёт меня за горло…»
Но когда наступило лето, неожиданно выяснилось, что в жизни по‑прежнему царит закон равновесия, согласно которому каждая неприятность непременно компенсируется каким‑то приятным событием. Стало быть, не так уж всё плохо, и нет никакой необходимости сетовать на берущую за «горло» судьбу, поскольку она не всегда бывает «злодейкой».
А произошло летом 1932 года следующее: в самый разгар горестных размышлений о жизненных неурядицах Булгакову предложили написать биографию Мольера — для готовившейся к печати серии «Жизнь замечательных людей». Михаил Афанасьевич с воодушевлением согласился. В июле заключил договор и с головой окунулся в работу, о которой в одном из писем заявил с радостным отчаянием:
«Биография — 10 листов — да ещё в жару — да ещё в Москве!»
В один из этих знойных дней газеты (видимо, для того чтобы советский народ не особенно расслаблялся и не забывал, что законы, управляющие миром, должны быть строгими) сообщили о принятии нового законодательного акта. Он назывался «О неприкосновенности священной социалистической собственности» и предусматривал 10 лет тюрьмы (а точнее, лагерей) за 10 яблок, сорванных в колхозном саду, за 1 килограмм манной крупы, похищенный в колхозной лавке.
Булгаков вряд ли обратил внимание на это известие, свидетельствовавшее о том, что власть продолжает методично закручивать гайки. Ему, целиком поглощённому Мольером, было не до политики.
А уж когда через какое‑то время произошёл ещё один «инцидент», то он и вовсе заслонил собою всё остальное. Событие это и в самом деле было нежданным и просто невероятным: Михаил Афанасьевич вновь встретился с Еленой Сергеевной.
Честно выполняя заключённое соглашение, они не виделись 18 месяцев. Но… Хоть и дала Елена Сергеевна слово, что не примет от Булгакова ни одного письма, ни одной записки, ни разу не подойдёт к телефону и не выйдет на улицу одна (а только в сопровождении кого‑то)…
О том, что случилось, когда однажды ей всё же пришлось покинуть дом без сопровождающих, Елена Сергеевна впоследствии рассказала так:
«Очевидно, всё‑таки это была судьба. Потому что, когда я первый раз вышла на улицу, я встретила его, и первой фразой, которую он сказал, было: „Я не могу без тебя жить“. И я ответила: „И я тоже“»!
Их прежние чувства вспыхнули с новой силой. Уехав вместе с детьми на отдых в Подмосковье, Елена Сергеевна написала мужу письмо с просьбой:
«— Отпусти меня!»
Впрочем, существует и другая версия, согласно которой Елена Сергеевна сама разыскала Булгакова, после того, как прочла в одной из газет очередную неприятную для него статью. Основания именно для такого варианта событий даёт письмо, которое Михаил Афанасьевич вскоре отправил Евгению Шиловскому:
«Дорогой Евгений Александрович, я виделся с Еленой Сергеевной по её вызову, и мы объяснились с нею. Мы любим друг друга так же, как любили раньше…»
Далее Булгаков извещал супруга своей возлюбленной, что они с Еленой Сергеевной решили пожениться, и просил:
«… пройдите мимо пашей любви».
Шиловский ответил резким письмом, в котором предлагал объясниться с глазу на глаз. Булгаков согласился.
Мариэтта Чудакова в книге «Жизнеописание Михаила Булгакова» приводит рассказ Елены Сергеевны о том бурном судьбоносном разговоре:
«Онарассказывала нам осенью 1969 года, что пряталась на противоположной стороне переулка, за воротами церкви („Ворота и сейчас там стоят, Вы можете их у видеть“, — поясняла она), видела, как понурый и бледный прошёл он в дом. Во время разговора Шиловский, не сдержавшись, выхватил пистолет. Булгаков, побледнев, сказал (Елена Сергеевна передавала его тихую, сдержанную интонацию): „Не будете же Вы стрелять в безоружного?.. Дуэль — пожалуйста! “»
К счастью, до дуэли дело не дошло — удалось договориться миром. Шиловский «отпустил» Елену Сергеевну. Старшего сына, десятилетнего Евгения, оставил у себя, младшего Сергея, которому шёл шестой год, «уступил» уходившей супруге.
Булгакову, в свою очередь, пришлось объясняться с Белозёрской, которой он объявил, что их совместная жизнь не сложилась, и им надо расстаться.
Любовь Евгеньевна и сама давно уже поняла, что всё идёт к такому финалу. Как относилась она тогда к Михаилу Афанасьевичу? Вопрос непростой. Спустя десятилетия в книге её воспоминаний появится фраза:
«Как сейчас вижу некрасивое талантливое лицо Михаила Афанасьевича».
Любящий человек так никогда бы не сказал. Если, конечно, эта фраза не является ответом на аналогичный булгаковский выпад в повести «Тайному другу». Ведь написал же он в ней о своей супруге: «некрасивая женщина с чудесными зубами»?
Любовь Евгеньева, может быть, была задета ещё и тем, что в «Адаме и Еве» она выведена в образах собаки Жака и тётки, которая «гладит сорочки» академику Ефросимову.
В той же книге воспоминаний приведено несколько имён и прозвищ, которыми Булгаков «одаривал» свою жену: Любинька, Любаня, Любан, Любанга, Томсон… Рассказано и о шутливых карикатурах на внутрисемейные темы:
«Нарисунке М[ихаил] А[фанасьевич], он несёт мне, Любанге, или сокращённо Бате, кольцо с бриллиантом в 5 каратов…
… имя Бата перешло в роман „Мастер и Маргарита“. Так зовут любимую собаку Пилата…»
Белозёрская писала об этом с гордостью, хотя гордиться здесь, в сущности, нечем: именем любимой женщины собаку (пусть даже тоже очень любимую) не называют. Впрочем, тут на защиту бывшей супруги встаёт сам Михаил Булгаков. Вспомним рассказ Иешуа о его первой встрече с Левием Матвеем:
«Первоначально он… даже оскорблял меня, то есть думал, что оскорбляет, называя меня собакой. Я лично не вижу ничего дурного в этом звере, чтобы обижаться на это слово…»
Как видим, даже навсегда расставшись со своей второй женой, Булгаков продолжал вести с ней недосказанные диалоги, что‑то пытаясь доказать, в чём‑то переубедить.
А может, всё это нам только кажется? И ничего подобного в отношениях Михаила Афанасьевича и Любови Евгеньевны даже в помине не было? Писал же Булгаков в «Жизни господина де Мольера»:
«Я не знаю, было ли это, да и неприятно рыться в чужой личной жизни, но…»
Мы тоже не собираемся «рыться в чужой личной жизни». Нас интересует лишь то, как творчество писателя и драматурга связано с перипетиями его жизни. Но!..
Дело в том, что у любого литератора так называемые «творческие моменты» почти всегда тесно связаны с сугубо личными фактами его биографии. И любимые женщины великих писателей (да и невеликих тоже) очень сильно влияют на творческие процессы, помогая или препятствуя создавать те или иные произведения. Это веками выверенное правило не могло не коснуться и Михаила Булгакова.
Его первая жена, Татьяна Николаевна, была спутницей верной, доброй, надёжной, проверенной в многочисленных тяготах и невзгодах. Но преодоление бытовых трудностей настолько поглотило её, что на творческие дела мужа ни сил, ни времени у неё уже не оставалось. А уж в суматошном богемном мире тогдашней Москвы она и вовсе слегка растерялась.
Вторая жена, Любовь Евгеньевна, много повидала в своей жизни. Побывала в Европе. Общество актёров и литераторов было её стихией. Пока длилась пора благополучия, всё было великолепно. Когда же над головою супруга сгустились чёрные тучи, Любовь Евгеньевна, постоянно искавшая удачливой новизны и стабильной надёжности, тотчас сникла. Вникать в литературные проблемы мужа ей уже не хотелось. Собственные дела и увлечения волновали её гораздо больше.
Елену Сергеевну Шиловскую всегда тянуло к необыкновенным приключениям. Жизнь с первым мужем, адъютантом командующего, наскучила ей очень быстро. Обеспеченное существование со вторым супругом, красным командармом, тоже казалась серым, малопривлекательным. Встретившийся на её пути Булгаков златых гор не обещал, но она твёрдо знала, что с ним не соскучишься.
3 октября 1932 года Михаил Афанасьевич развёлся с Любовью Евгеньевной, а на следующий день…
Во время репетиции во МХАТе Булгаков написал записку режиссёру В.Г Сахновскому:
«Секретно. Срочно.
В 3 3/4 дня я венчаюсь в Заксе. Отпустите меня через 10 минут».
И без четверти четыре его брак с Еленой Шиловской был зарегистрирован. С этого момента его новая жена стала зваться Еленой Сергеевной Булгаковой.
Спустя много лет (27 октября 1968 года) она опишет брату Александру, как оно свершилось — это третье её замужество:
«… я порвала всю эту налаженную, внешне такую беспечную, счастливую жизнь, и ушла к Михаилу Афанасьевичу на бедность, на риск, на неизвестность».
Конечно же, Елена Сергеевна немного лукавила — «бедностью» её новое существование можно было назвать лишь с очень большой натяжкой. Даже уйдя от Шиловского, она продолжала — ставшую для неё такой привычной — жизнь советской «барыни». В самом деле, за её сыном присматривала няня‑воспитательница, все хозяйственные дела выполняла домработница, полы в доме натирал специально приглашавшийся полотёр, для мытья окон звали мойщиц и так далее и тому подобное. Даже в парикмахерскую она не ходила — маникюрша и парикмахер приходили к ней на квартиру.
В том же письме (от 27 октября 1968 года) рассказывается и о том, как на неожиданное замужество матери отреагировали её дети. Как‑то Елену Сергеевну навестил старший сын Евгений. Сидели, пили кофе. И вдруг Михаил Афанасьевич «без тени скучного нравоучения» сказал мальчикам:
«„Дети, в жизни надо уметь рисковать… Вот смотрите на маму вашу, она жила очень хорошо с вашим папой, но рискнула, пошла компе, бедняку, и вот поглядите, как сейчас намхорошо… „И вдруг Сергей, малый, помешивая ложечкой кофе, задумчиво сказал: „Подожди, Потап, мама ведь может „искнуть ещё „аз “.
Потап выскочил из‑за стола, красный, не зная, что ответить ему, мальчишке восьми лет».
Поясним, что Серёжа Шиловский картавил, а Потапом он называл Булгакова.
Глава третья Возрождение надежды
Семейные истории
Своей первой жене, Татьяне Николаевне, Булгаков часто повторял: «Я должен жениться три раза!». И объяснял, что это, дескать, ему на роду написано.
Своей третьей супруге, Елене Сергеевне, Михаил Афанасьевич говорил, что третью женитьбу ему ещё в Киеве предсказала гадалка, поэтому и произойти она должна было неминуемо. Даже невзирая на то, что сам он давно уже перестал быть тем лихим жизнерадостным кавалером, что когда‑то с лёгкостью кружил головы влюбчивым красоткам («Жизнь господина де Мольера»):
«Три тяжких года, долги… и унижения резко его изменили. В углах губ у него залегли язвительные складки опыта, но стоило только всмотреться в его лицо, чтобы понять, что никакие несчастья его не остановят».
Да, этими словами описан Мольер. Но великого французского драматурга Булгаков во многом «срисовывал» с самого себя, поэтому слова «никакие несчастья его не остановят» вполне можно считать его собственным жизненным правилом. Михаил Афанасьевич был убеждённый фаталист. Если чувствовал, что что‑то должно случиться, то без всяких рассуждений верил, что это непременно произойдёт. И прямиком шёл к этому загадочному «что‑то», не обращая внимания ни на какие препятствия.
Очень похожим характером обладала и Елена Сергеевна. Казалось, они созданы друг для друга. Не случайно в пьесе «Адам и Ева» в уста главной героини вложены слова, обращённые к академику Ефросимову:
«Оказывается, мы совершенно одинаковы, у нас одна душа, разрезанная пополам».
И всё же (прежде чем предложить своей третьей избраннице руку и сердце) Булгаков посчитал необходимым предупредить её о своей скорой и неизбежной кончине:
«Когда мы с Мишей поняли, что не можем жить друг без друга (он именно так сказал), — он очень серьёзно вдруг прибавил:
— Имей в виду, я буду очень тяжело умирать, дай мне клятву, что ты не отдашь меня в больницу, а я умру у тебя на руках.
Я нечаянно улыбнулась — это был 1932 год, Мише было 40 лет с небольшим, он был здоров, совсем молодой… Он очень серьёзно повторил:
— Поклянись!
И потом в течение нашей жизни несколько раз напоминал мне об этом».
14 января 1933 года Булгаков написал брату Николаю в Париж:
«Сообщаю тебе, что в моей личной жизни произошла громадная и важная перемена. Я развёлся с Любой и женился на Елене Сергеевне Шиловской. Её сын, шестилетний Сергей, живёт с нами…
Силы мои стощились…
Елена Сергеевна носится с мыслью поправить меня в течение полугода. Я в это ни в коей мере не верю, но за компанию готов смотреть розово на грядущее».
Волновал Булгакова и вопрос, куда поселить оставленную супругу. Жилищная проблема в Москве продолжала быть одной из острейших, и Белозёрская вновь оказывалась без крыши над головой. И тогда Михаил Афанасьевич предложил Елене Сергеевне:
«— Пусть Люба живёт с нами».
Елена Сергеевна не возражала. И даже написала родителям в Ригу:
«… с Любашей у меня тоже самые тесные и любовные отношения. Она будет жить вместе с нами, пока её жизнь не устроится самостоятельно…»
На этот раз от «совместного проживания» отказалась сама Любовь Евгеньевна. Тогда ей сняли небольшую квартирку в том же доме, и проблема была решена.
Тем временем в литературном мире жизнь тоже на месте не стояла. Самое важное событие там тоже произошло осенью 1932 года: с писателями встретился Сталин. Эти встречи проходили в доме Горького у Никитских ворот. 19 октября вождь общался с писателями‑партийцами, 26‑го — с беспартийными. Видимо, именно тогда Иосиф Виссарионович произнёс фразу, ставшую крылатой — он назвал писателей «инженерами человеческих душ».
Ещё после тех ночных застолий в литературных кругах самым тишайшим шёпотом и под величайшим секретом стали передавать рассказ Сталина о последней просьбе Ленина. Эту историю вождь поведал только писателям‑коммунистам, беспартийным литераторам повторить её отказался. До наших дней она дошла в изложении литературного критика К.Л. Зелинского, который побывал в доме Горького вместе со второй группой избранных. В своих записях Корнелий Люцианович пересказал эту историю так, как услышал её от писателя‑коммуниста Александра Фадеева.
Сталин предал гласности некоторые подробности того, как умирал Владимир Ильич:
«Ленин понимал, что умирает, и попросил меня однажды, когда мы были наедине, принести ему цианистого калия.
— Вы самый жестокий человек в партии, — сказал Ленин, — вы можете это сделать.
Я ему сначала обещал, но потом не решился. Как это я могу дать Ильичу яд? Жалко человека. А потом разве можно было знать, как пойдёт болезнь?
Так я ему и не дал яда. И вот раз приехали мы к Ильичу, а он говорит, показывая на меня:
— Обманул меня, шатается он!
Никто тогда этой фразы не понял. Все удивились. Только я знал, на что он намекает. А ведь о просьбе Ленина я тогда же на политбюро доложил. Ну, конечно, все отвергли его просьбу».
История эта (при всей её бесспорной достоверности) казалась невероятной. Но рассказал‑то её не кто‑нибудь, а сам товарищ Сталин.
Никто и не подозревал тогда, что на самого Иосифа Виссарионовича неумолимо надвигалась жизненная трагедия. Прошло всего две недели со дня его последней встречи с писателями, и в ночь с 7 на 8 ноября застрелилась Надежда Аллилуева, жена вождя.
Все эти судьбоносные и драматичные события, происходившие в мире советских литераторов, прошли мимо Булгакова почти незамеченными. Его жизнь была на подъёме. В середине октября 1932 года Михаил и Елена Булгаковы отправились в свадебное путешествие — в город на Неве. Там предстояли переговоры с театрами о предполагавшейся постановке «Бега», а Елену Сергеевну ждало боевое крещение на звание деловой женщины. Отныне все финансовые и организационные вопросы, которыми когда‑то занималась Белозёрская, Михаил Афанасьевич передоверил новой своей супруге. Иными словами, сделал её своим полноправным и полномочным представителем.
Экзамен Елена Сергеевна выдержала блестяще. И Михаил Афанасьевич чуть позднее написал брату Николаю:
«Я счастлив, что Елена взяла на себя всю деловую сторону по поводу моих пьес и этим разгрузила меня».
По возвращении Москву Булгаков принялся заканчивать очередную пьесу.
Полоумный Жу…
Ещё в июле 1932 года театр‑студия Юрия Завадского заключила с Булгаковым договор на перевод мольеровского «Мещанина во дворянстве». В ноябре пьеса, получившая название «Полоумный Журден», была готова. Вот какую оценку дал ей сам Михаил Афанасьевич («Жизнь господина де Мольера»):
«В этой пьесе был выведен буржуа Журден, помешавшийся на сладкой мысли стать аристократом и органически выйти в высший свет».
«Стать аристократом», «выйти в высший свет» — разве у кого‑либо в советской стране могли быть подобные желания? Нет, конечно же. Как говорится, Боже упаси!
Зачем же надо было браться за это замшелое произведение, рассказывающее о вещах, давным‑давно отживших свой век? Что интересного, нового, современного и острого можно было извлечь из пьесы трёхсотлетней давности? И что вообще общего между строящими социализм советскими людьми и французским мещанином, мечтающим выбиться в аристократы?
Вопросы, вопросы… Но…
Если за дело брался Михаил Булгаков, то под его пером (и мы неоднократно имели возможность убедиться в этом) любая несовременная тема мгновенно приобретала актуальность, становилась значительной и злободневной. И, добавим, невероятно крамольной. Так получилось и на этот раз.
Перечитаем «Полоумного Журдена». Попробуем почувствовать в нём булгаковский стиль, булгаковскую манеру.
Пьеса начинается с того, что на сцену «из разреза занавеса» выходит актёр Луи Бежар и обращается к зрителям:
«БЕЖАВ. Закончен день, и, признаюсь вам, господа, я устал. И что‑то ноет моя хромая нога. А что помогает моей ноге? Мускатное винцо. Где же взять это винцо? Оно имеется в кабачке на улице Старой Голубятни. Идёмте же в „Старую Голубятню “.
Да, актёр Луи Бежар с детства хромал. Но имеет ли его хромота какое‑нибудь отношение к содержанию пьесы? Ровным счётом никакого.
А «мускатное винцо» сыграет в дальнейшем какую‑то роль? Нет, не сыграет.
А на «Старой голубятне» произойдут какие‑нибудь события? Не произойдут. До голубятни Бежар просто не успеет добраться, потому что ему принесут распоряжение провести репетицию. Он соберёт актёров и обратится к ним со словами:
«БЕЖАР. Господин Мольер заболел, и я буду играть главную роль — Журдена. Соль в том, что я сошёл с ума… я, то есть Журден, парижский мещанин, богатый человек, помешался на том, что он — знатный дворянин».
Актёр Юбер, исполняющий роль жены Журдена, по ходу действия бросит в лицо мужу ещё более откровенные выражения:
«ЮБЕР. Ты окончательно спятил, с тех пор как вообразил, что ты знатный дворянин… соседей стыдно! Почтенный человек! Совершенно ополоумел! Вместо того, чтобы заниматься своей лавкой, куролесит!»
Казалось бы, абсолютно невинное начало. Полностью соответствующее как содержанию пьесы Мольера, так и характеру описываемой эпохи. Но уже в нём чувствуется нечто такое, чего не спутаешь ни с чем, а именно нечто булгаковское.
Вместо того, чтобы просто перевести «Мещанина во дворянстве» с французского языка на русский, Булгаков переиначил пьесу по‑своему. Уже в перечне действующих лиц мы не встретим знакомых мольеровских персонажей: парижского мещанина Журдена, его жены и дочери Люсиль, нет там влюблённого в Люсиль Клеонта, нет маркиза Доранта с маркизой Дорименой и так далее. Вместо них в списке героев пьесы перечислены актёры мольеровского театра: Луи Бежар, Юбер, Лагранж, Дюкруази и другие. Этим Булгаков как бы говорил: я предлагаю вам не пьесу Жана‑Батиста Мольера, а одну из её трактовок, То есть то, как можно толковать забавную историю Журдена, которую разыгрывает для нас группа артистов под руководством Луи Бежара.
После введения этого драматургического приёма «Полоумный Журден» сразу начинает напоминать «Багровый остров», в котором актёры театра Геннадия Панфиловича разыгрывают некий идеологический опус перед грозным цензором Саввой Лукичом. В «Журдене» цензора нет, его роль достаётся зрителям (или читателям). Именно они и призваны решить, есть в пьесе крамола или нет.
Попробуем и мы приглядеться к «Полоумному Журдену» глазами Саввы Лукича и поломать голову над булгаковской интерпретацией мольеровской комедии.
Как в «Багровом острове» актёры на глазах зрителей превращались (с помощью грима и костюмов) в героев опуса Василия Артуровича Дымогацкого, так и в «Полоумном Жур‑дене» артисты превращаются в персонажей пьесы Мольера.
Но почему — почему? — Булгаков доверил главную роль актёру, у которого нелады с одной из конечностей?
Для чего нужно нам знать, что этого актёра тянет к вину?
Зачем понадобилось вводить в пьесу какую‑то «Старую голубятню» — это, образно выражаясь, «ружьё», которое так ни разу и не выстрелит?
И, наконец, чем не устраивало драматурга старое название пьесы — «Мещанин во дворянстве»? Для чего в её заголовок вынесено помешательство главного героя?
Ответы на эти вопросы появятся сами собой, если у героев булгаковской пьесы слега приподнять «.маски». Под ними тотчас обнаружатся реально существовавшие люди (и вновь высокопоставленные), у которых — те же причуды и приметы, что и у персонажей мольеровской комедии.
Начнём с хромоты актёра Бежара. Были ли у кого‑нибудь из деятелей тогдашнего советского руководства нелады с конечностями? Были! Мы уже говорили о том, что на ноге у Сталина было два сросшихся пальца. К тому же вождь с детства страдал сухорукостью. «Копыто» на ноге, «сухая» рука… Есть с чем сравнить физический недостаток Бежара? Есть.
Пойдём дальше. Кто из тогдашних советских вождей любил вино? Опять же Сталин, родившийся и выросший на Кавказе.
А нестреляющее «ружьё» — кабачок «Старая голубятня»? Оно тоже при внимательном рассмотрении оказывается не таким уж «нестреляющим». Ведь «Старая голубятня» — это название парижского театра, где шли пьесы Булгакова, запрещённые в Советском Союзе. Вот, оказывается, куда стремится попасть любитель вина с аномалией в конечностях. Ведь только там он может увидеть пьесу, которую в его собственной стране играть на сцене не разрешалось.
Кстати, начальные буквы названия зарубежного театра («С» и «Г») абсолютно те же, что и у названия поста, который занимал Сталин: генеральный секретарь, секретарь генеральный. Те же «С» и «Г». Вполне возможно, что это опять‑таки простое совпадение. Вот только случайное ли?
На первый слог сталинской фамилии (ДЖУ — от Джугашвили) Булгаков уже намекал — кличкой одного из героев «Кабалы святош», «Справедливого Сапожника» («Juste Cordonnier», а по‑русски — «Жу ст Кордоньер», если произнести эти слова по‑русски). В новой пьесе этот слог «ЖУ» обнаруживается уже в заголовке пьесы — «Полоумный Жу рден».
Да и в самой «полоумности» мольеровского персонажа тоже просматривается намёк на Сталина. Ведь убийственный диагноз академика Бехтерева породил слухи о том, что свихнувшегося генсека вот‑вот сменит здравомыслящий Молотов. А если так, то полоумный мещанин ЖУ рден, возомнивший себя знатным дворянином, должен был тотчас напомнить всем полоумного большевика ДЖУ гашвили, возомнившего себя вождём всех времён и народов.
Но если так, то и реплики персонажей пьесы должны восприниматься по иному. Особенно если вспомнить, что именно с конца 20‑х годов с лёгкой руки Бухарина Сталина стали за глаза называть «хозяином»:
«УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ. С тех пор, как почтенный хозяин спятил, слишком много народу увивается вокруг него».
А кто назойливее других «увивается» вокруг «.хозяина»? Человек, вооружённый шпагой. Об этом — диалог танцора с музыкантом:
«УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ. Мне, например, не нравится этот длинный подлиза со шпагой.
УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ. Учитель фехтования?
УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ. Да. Его необходимо выжить из дому».
И учителя затевают драку, в которой фехтовальщику крепко достаётся. Тот начинает жаловаться (дескать, его побили) «хозяину». Но жалобщика останавливает актёр Дюкруази, исполняющий роль учителя философии:
«ДЮКРУАЗИ. Спокойствие. Прежде всего, сударь, измените вашу манеру выражаться. Вы должны были сказать: мне кажется, что меня побили…
Сударь, философия учит нас, *шо не должно быть вполне решительных суждений. Вам может казаться, а факт на самом деле может и не существовать».
Зрителям и читателям 30‑х годов эта забавная сценка должна была тотчас напомнить тогдашнюю ситуацию в Кремле. Ведь и драка учителей и «философское» её толкование были словно скопированы с тех бесконечных внутрипартийных дрязг и постоянных кремлёвских разборок, которые изумляли всю страну и весь мир.
В самом деле, разве не похожи учителя музыки и танцев, выживавшие из дома учителя фехтования, на Каменева и Зиновьева, выживавших с кремлёвского Олимпа своего конкурента, главу Красной армии Троцкого?
А официальные объяснения причин высылки Троцкого, Каменева и Зиновьева из Москвы, а затем и всемилости‑вейшее «прощение» как Каменева («танцора»), так и Зиновьева («музыканта»)? Разве не сродни они примиряющим разглагольствованиям учителя философии?
Политическая трескотня, сопровождавшая борьбу Иосифа Сталина с антипартийными «уклонами», и увязывание этой борьбы с марксистско‑ленинской теорией, были у всех на слуху. Поэтому «философские» рассуждения актёра Бежара, исполнителя роли «полоумного ЖУ», призваны были напомнить мудрые высказывания «полоумного ДЖУ» и вызвать громкий смех в зрительном зале:
«БЕЖАВ…. философия — великая вещь… А в самом деле, может быть, никакого скандала… и не было, и мне только показалось… надо будет себе это внушить! Не было скандала, и шабаш. Не было скандала. Не было скандала… Нет, был скандал. Не веселит меня философия».
Вот так Михаил Булгаков «осовременил» Жана‑Батиста Мольера, представив под видом невинного перевода с французского на русский очередную ёрническую басню, в которой под масками мольеровских героев вновь выступали деятели большевистского руководства. Не зря актёр Бежар зазывал зрителей в кабачок «Старая голубятня». Он приглашал их на очередной булгаковский спектакль — со всеми присущими ему подковырками и намёками.
Стоит ли удивляться тому, что «Полоумный Журден» так до зрителя и не дошёл?
А как сложилась судьба биографии великого французского драматурга, работать над которой Михаил Афанасьевич начал жарким летом 1932 года?
Вернёмся в осень того же года.
Жизнеописание Мольера
29 ноября 1932 года в дневнике литератора Григория Гаузнера появилась запись:
«Москва. Чище. Притихла классовая борьба. Длинные продовольственные очереди. Рост хулиганства и бандитизма».
А для Булгакова конец ноября ознаменовался премьерой во МХАТе (28 числа) «Мёртвых душ». Его инсценировка гоголевской поэмы была столь искусно «выправлена» и «приглажена», что от булгаковского там мало что осталось. Даже на афише драматург был представлен всего лишь как «составитель текста инсценировки».
Весь конец года и начало следующего заполнила почти каждодневная работа над многостраничным произведением «Жизнь господина де Мольера». 14 января 1933 года Булгаков сообщал брату в Париж:
«Сейчас я заканчиваю большую работу — биографию Мольера.
Ты меня очень обязал бы, если бы выбрал свободную минуту для того, чтобы, хотя бы бегло, — глянуть на памятник Мольеру (фонтан Мольера), улица Ришелье.
Мне нужно краткое, но точное описание этого памятника в настоящем его виде но следующей примерно схеме:
Материал, цвет статуи Мольера.
Материал, цвет женщин у подножья.
Течёт ли вода в этом фонтане (львиные головы внизу).
Название места (улиц, перекрёстка в наше время, куда лицом обращён Мольер, на какое здание он смотрит)».
1 февраля работа должна была быть завершена. Но, увы… Об этом — в письме брату от 8 марта:
«У меня в доме целый месяц был лазарет. Грипп залез в семейство. Отчего я и не известил тебя сразу по получении твоего очень нужного для меня письма с описанием Фонтана…
Работу над Мольером я, к великому моему счастью, наконец, закончил и пятого числа сдал рукопись. Изнурила она меня чрезвычайно и выпила из меня все соки».
Это была не просто работа. Судьба в который уже раз дарила ему шанс, давала возможность достойно выйти из сложившихся жизненных трудностей. Ему стоило лишь, с благодарностью приняв этот подарок фортуны, написать о давным‑давно ушедших людях и о далёкой старине по‑философски спокойно, без подковырок и колкостей.
Но поручить Булгакову (особенно после «Кабалы святош») написание книги о Мольере было всё равно, что доверить волку создание трактата о вегетарианском питании. Хищник‑волк всегда найдёт повод вставить в своё сочинение хвалу мясной пище.
Вот и Булгаков поступил по‑булгаковски.
Новый его роман начинался с эпиграфа, который по тем временам звучал вызывающе смело:
«Что помешает мне, смеясь, говорить правду?
Вновь, как киевский князь Святослав, Булгаков взялся за свой мстительный меч, восклицая: «Иду на вы!».
На этот раз писатель выступил в образе неунывающего Справедливого Сапожника, с улыбкой швыряющего в лицо Людовику слова горькой правды. Сделав вид, будто ему ничего не известно о том, что время королевских Шутов давно кануло в Лету, он вынимал из ножен своё грозное оружие и…
Впрочем, нет, Булгаков ничего не забыл. В девятой главе мольеровской биографии прямо сказано:
«Взявший меч, как известно, должен быть готов ко всему…»
И писатель приготовился. От намеченного плана действий, о котором заявил в эпиграфе, он не отступил, поэтому всем, кто знакомился с его биографическим романом, ни на секунду не позволял забыть о том, что жизненный путь французского драматурга излагает не кто иной, как Михаил Булгаков. Каждый эпизод трёхсотлетней давности в книге преподносился так, словно автор «лично присутствовал при всём этом». Мало этого, Булгаков весьма заинтересованно комментировал происходящее, давая собственные оценки людям и их поступкам.
Вслед за эпиграфом в «Жизни господина де Мольера» идёт пролог, озаглавленный фразой, которая начинается с личного местоимения: «Я разговариваю с акушеркой». «Я» — это некий рассказчик, от чьего имени ведётся всё повествование. И вот как обращается он к акушерке, только что принявшей «у милейшей госпожи Поклен… недоношенного младенца мужеского пола»
«Этот младенец станет более известен, чем ныне здравствующий король ваш — Людовик XIII, он станет более знаменит, чем следующий король, а этого короля, сударыня, назовут Людовик Великий или Король‑солнце!..
Слова ребёнка переведут на немецкий язык. Переведут на английский, на итальянский, на испанский, на голландский. На датский, португальский, польский, турецкий, русский… На греческий! На новый греческий, я хочу сказать. Но и на греческий древний. На венгерский, румынский, чешский, шведский, армянский, арабский…
Ах, госпожа моя! Что вы толкуете мне о каких‑то знатных младенцах, которых вы держали когда‑то в руках! Поймите, что этот ребёнок, которого вы приняли сейчас в покленовском доме, есть не кто иной, как господин де Мольер!»
Ничего не скажешь, написано блестяще. С той изящной лёгкостью и с тем весёлым задором, которые увлекают и заставляют читать дальше, не отрываясь. И позиция автора‑рассказчика корректна, безукоризненна. В ней, вроде бы, и придраться не к чему. Булгаков, словно Мольер, въезжал в Париж трёхсотлетней давности, чтобы одержать в нём победу. Но при этом…
«… он вёл себя мудро, как настоящий лукавый комедиант. Он явился в столицу с шляпой на отлёте и с подобострастной улыбкой на пухлых губах».
Однако иронические одежды, в которые, казалось, наглухо задрапирована «Жизнь господина де Мольера», всё же не могли скрыть её ёрнической сути. Ведь чуть ли не каждой своей репликой Булгаков давал понять, что не о Мольере и Людовиках ведёт он речь, а о себе самом и о большевистских вождях. И о том месте, которое им предстоит занять в истории.
«Вот он — лукавый и обольстительный галл, королевский комедиант и драматург!.. Вот он — король французской драматургии!»
В этих восторженных восклицаниях, обращённых к Мольеру, прочитывается убеждённость Булгакова в том, что истинным королём любого поколения является человек пишущий. Вот почему великий французский драматург (спустя триста лет после своей смерти) намного дороже, ближе и понятнее людям, чем какой‑то Людовик, даже отождествлявший себя с солнцем.
Эту булгаковскую мысль так и тянет продолжить: пройдут века, и не всемирно известных правителей величайшей в мире социалистической державы будут с благодарностью вспоминать потомки, а его, затравленного и лишённого почти всех прав беспартийного писателя и драматурга.
«Жизнь господина де Мольера» заканчивается фразой, которая содержит в себе всё то же личное местоимение «я»:
«И я, которому никогда не суждено его увидеть, посылаю ему свой прощальный привет!».
У сотрудников ЖЗЛ, ознакомившихся с жизнеописанием Мольера, сразу же должны были возникнуть вопросы: да кто он такой этот Булгаков, чтобы вот так запросто, запанибратски посылать приветы драматургу с мировым именем? К лицу ли советскому писателю это нескромное «ячество»?
Кто‑то из наиболее дотошных редакторов вполне мог обратить внимание и на типично булгаковский финал. Мог, вчитываясь в слова: «… посылаю ему свой прощальный привет]», попытаться понять загадочный смысл букв «П», обступающих «Е» и «С»: П.Е.С.П.П.
Как бы там ни было, но «Жизнь господина де Мольера» заказчики встретили в штыки. В письме П.С. Попову Булгаков перечислил основные претензии, которые были предъявлены его роману:
«Рассказчик мой, который ведёт биографию, назван развязным молодым человеком, который верит в колдовство и чертовщину, обладает оккультными способностями, любит альковные истории, пользуется сомнительными источниками, и, что хуже всего, склонен к роялизму».
Но это ещё полбеды. А.Н. Тихонов, возглавлявший тогда редакцию ЖЗЛ, впрямую заявил Булгакову, что все его ёрнические подковырки сразу бросаются в глаза, а в исторических коллизиях…
«… довольно прозрачно проступают намёки на нашу советскую действительность».
Одним словом, как ни старался «одинокий литературный волк» Булгаков выкрасить свою «шкуру» в такой же, как и у всех, красный цвет, в новом его произведении современники сравнительно легко обнаружили «белую» антисоветчину.
Спорить с редакцией писатель не стал. Или, выражаясь его же собственными словами…
«… счёл за благо боя не принимать».
А в ответ на все критические замечания написал письмо, в котором весьма миролюбиво обращался к Тихонову:
«Вы сами понимаете, что, написав свою книгу налицо, я уж никак не могу переписать её наизнанку. Помилуйте!»
И спокойно предлагал решить судьбу книги полюбовно:
«… не надо её печатать. Похороним и забудем».
Даже постоянный защитник Булгакова, Горький (он всё ещё жил в Италии), и тот, ознакомившись с «Жизнью господина де Мольера», встал на сторону А.Н. Тихонова, которому сообщил:
«… с Вашей вполне обоснованной оценкой работы М.А. Булгакова совершенно согласен. Нужно не только дополнить её историческим материалом и придать её социальную значимость — нужно изменить её „игривый“ стиль. В данном виде это — не серьёзная работа и Вы совершенно правильно указываете — она будет резко осуждена».
Со своей стороны обратим внимание на ещё один загадочный штрих булгаковской книги. Автор выступает в ней как достаточно квалифицированный медик: оценивает профессионализм врачей той эпохи, указывает на неправильные диагнозы и на неверные способы лечения. Но при этом почему‑то умалчивает, отчего умер его герой. Хотя знал (не мог не знать), что Мольера свела в могилу та же самая болезнь почек, от которой скончался и его отец, Афанасий Иванович.
Почему об этом — ни слова? Не хотелось затрагивать слишком болезненную тему?
Ответа мы, к сожалению, не знаем…
Итак, судьбе было угодно, чтобы ещё одно булгаковское произведение было положено на полку. Месяцы долгого упорного труда пошли прахом.
Но Мольер от себя не отпускал. 7 апреля 1933 года Булгаков писал в берлинское издательство «С. Фишер‑Ферлаг»:
«… мне было бы очень интересно знать, верно ли известие в Пражской газете, что МОЛЬЕР идёт в Цюрихе?..
Будьте добры сообщить мне, поступает ли аккуратно гонорар из Риги, где в театре Русской Драмы МОЛЬЕР идёт под названием КОМЕДИАНТЫ ГО СПОДИНЫ».
А 10 апреля было отправлено письмо в Париж — Замятиным:
«Я написал инсценировку „Войны и мира“. Без содрогания не могу проходить теперь мимо полки, где стоит Толстой. Будь прокляты инсценировки отныне и вовеки!»
Но жизнь продолжала демонстрировать свою страстную приверженность к равновесию. И, как бы в утешение за провал биографии Мольера, Московский Художественный театр неожиданно вспомнил о «Беге», предложив Булгакову заключить новый договор — при условии внесения в пьесу некоторых изменений.
Надежды на улучшение
Да, жизнь, вроде бы, решила вновь повернуться к Булгакову самой светлой своей стороной: «Дни Турбиных» возвратили на сцену, пошли «Мёртвые души», собрались ставить «Бег», появились заказы на сочинение новых пьес. Ещё совсем недавно о подобном чуде мечтать было нельзя. И Михаил Афанасьевич, взволнованный таким удачным поворотом своих дел, написал И.Я. Судакову, постановщику «Дней Турбиных»:
«Время повернулось, мы живы, и пьеса дива, и даже более того: вот уж и „Бег“ Вы собираетесь репетировать. Ну что ж, ну что ж!».
Радостная весть прилетела и из далёкого Ашхабада: 17 марта 1933 года там состоялась премьера «Дней Турбиных». А в начале лета порадовал Ташкент — известием о том, что в столице Узбекистана «Дни Турбиных» идут «е большим художественным успехом».
10 апреля Булгаков написал в Париж — Замятиным:
«Вы спрашиваете, когда я собираюсь на Запад? Представьте, в последние три месяца этот вопрос мне задают многие…»
Во Франции у Булгакова тоже объявилось дело — в парижском театре «Старая голубятня» захотели поставить «Зойкину квартиру».
И материальное положение тоже (наконец‑то) стабилизировалось. Это позволило летом 1933‑его поделиться с Вересаевым заветной мечтой:
«… я мечтаю только об одном счастливом дне, когда… я верну Вам мой остающийся долг, и ещё раз Вам скажу, что Вы сделали для меня, дорогой Викентий Викентьевич!
Ох, буду я помнить годы 1929–1931!
Я встал бы на ноги, если бы не необходимость покинуть чёртову яму на Пироговской. Ведь до сих пор не готова квартира в Нащокинском».
«Чёртова яма» — это тогдашняя квартира Булгакова на Пироговской улице. Она давно уже раздражала его, но дом в Нащокинском переулке всё никак не могли достроить.
В дневнике Гаузнера август 1933 года отмечен записью:
«Поездка на Беломорстрой. Печальный Горький: меня уже кормят всякими лекарствами. В том числе и тибетскими. И от каждого хуже».
Недуги беспокоили и Булгакова. В одном из писем П.С. Попову он перечислил их «поимённо»:
«В моей яме живёт скверная компания: бронхит, рейматизм и чёрненькая дамочка — Нейрастения. Их выселить нельзя. Дудки! От них нужно уехать самому.
Куда, Павел Сергеевич?».
Елена Сергеевна чуть позже вспоминала:
«Для М[ихаила] А[фанасьевича] квартира — магическое слово… Это какой‑то пунктик у него… „Ничему на свете не завидую — только хорошей квартире“».
Но именно в этой неуютной «чёртовой яме» летом 1933 года Булгаковым вновь овладело непреодолимое желание творить. В том же августовском письме к Вересаеву есть строчки:
«В меня же вселился бес. Уже в Ленинграде и теперь здесь, задыхаясь в моих комнатёнках, я стал мазать страницу за страницей наново тот свой уничтоженный три года назад роман. Зачем? Не знаю. Я тешу сам себя! Пусть улетит в Лету! Впрочем, я, наверно, скоро брошу это».
Под словом «это» подразумевался всё тот же роман о дьяволе. Но Булгаков его не бросил. Как ни отвлекали мелочи жизни, он не оставлял пера… Писал до самого Нового года.
К тому времени передовой отряд советских литераторов во главе с Горьким возвратился из поездки на Беломорстрой. Главная цель, которую ставили перед собой писатели, была достигнута: они внимательно понаблюдали за тем, как доблестное ОГПУ «перековывает» десятки тысяч непримиримых «врагов народа» (уголовников и контрреволюционеров) в его истинных «друзей» (строителей Беломорканала). Теперь, чтобы подтвердить справедливость крылатой сталинской фразы о том, что «печать — самое сильное, самое острое оружие нашей партии», оставалось лишь опубликовать путевые впечатления.
Книгу написали очень быстро, напечатали огромным тиражом. Выход шикарно изданного фолианта приурочили к открытию (намеченного на весну следующего года) XVII съезда партии.
А Елена Сергеевна осенью 1933‑го (по настоятельной рекомендации мужа) стала вести дневник. Вот первая запись от 1‑го сентября:
«Миша настаивает, чтобы я вела этот дневник. Сам он, после того, как у него в 1926 году взяли при обыске его дневники, — дал себе слово никогда не вести дневника. Для него ужасна и непостижима мысль, что писательский дневник может быть отобран».
Люди с Лубянки словно заглядывали через плечо Елены Сергеевны. И не успели высохнуть чернила в словах об обыске семилетней давности, как чекисты напомнили о себе. 12 октября позвонила сестра Ольга, и от сообщённой ею новости повеяло тревожным холодом:
«Утром звонок Оли: арестованы Николай Эрдман и Масс. Говорят, за какие‑то басни. Миша нахмурился…
Ночью М[ихаил] А[фанасьевич] сжёг часть своего романа».
Вскоре выяснилось, что писателей‑сатириков Н.Р. Эрдмана и В.З. Масса арестовали сразу же после того, как мхатовский актёр Качалов (с самыми лучшими намерениями) прочёл перед некоей обличённой властью аудиторией их остросатирические басни. Чересчур смелых баснописцев тут же сослали на три года в Сибирь.
Кто знает, не по дороге ли в далёкий Енисейск Николай Робертович Эрдман написал строки:
«Земля, земля! Весёлая гостиница для проезжающих в далёкие края»?
Годы спустя А.Н.Тихонов расскажет Елене Сергеевне историю о том, как Горький и он ездили к Сталину хлопотать за пьесу Николая Эрдмана «Самоубийца»:
«Сталин сказал Горькому:
— Да что! Я ничего против не имею. Вот Станиславский тут пишет, что пьеса нравится театру. Пожалуйста, пусть ставят, если хотят. Мне лично пьеса не нравится. Эрдман мелко берёт, поверхностно берёт. Вот Булгаков!.. Тот здорово берёт! Против шерсти берёт! (Он рукой показал — и интонационно.) Это мне нравится!»
Но именно за эту свою «поверхностность» Эрдман и получил три года сибирской ссылки. Нетрудно представить, что при случае получил бы тот, кто брал «здорово» да ещё и «против шерсти».
17 октября Булгаков писал Вересаеву:
«Давно уже я не был так тревожен, как теперь. Бессонница. На рассвете начинаю глядеть в потолок и таращу глаза до тех пор, пока за окном не установится жизнь — кепка, платок, платок, кепка. Фу, какая скука!»
А литератор Григорий Гаузнер продолжал заносить в дневник свои впечатления от изменений в облике Москвы:
«Каганович увлечён перестройкой Москвы. Ездит ночью с архитекторами в автомобиле, планирует, затем устраивает летучие заседания. „Москва будет интернациональной столицей!“
На улицах всё больше вышек метрополитена, напоминающих казачьи крепости XVII века».
В это время поэт Илья Сельвинский в качестве корреспондента «Правды» плыл на мало кому известном ледоколе, которому предстояло преодолеть Северный морской путь. Изредка присылал корреспонденции в газету Друзья‑литераторы ехидно перемигивались: «Докатился поэт! Журналистом‑газетчиком стал! А какие надежды подавал!..»
Булгакову осень 1933‑его принесла ещё одно тревожное беспокойство: неожиданно напомнили о себе почки — тот самый орган, малейшего сбоя в работе которого он так боялся. По свидетельству Сергея Ермолинского (мужа Марики Чимишкиян) о заболевании почек Михаил Афанасьевич имел собственное и вполне определённое мнение, не раз говоря о том, что это самая «подлая» из всех болезней:
«Она подкрадывается как вор. Исподтишка, не подавая никаких болевых сигналов. Именно так чаще всего. Поэтому, если бы я был начальником всех милиций, я бы заменил паспорта предъявлением анализа мочи, лишь на основании коего и ставил бы штамп о прописке».
20 октября Елена Сергеевна записала:
«День под знаком докторов. М[ихаил] А[фанасьевич] ходил к Блументалю и в рентгеновский — насчёт почек — болели некоторое время. Но говорят — всё в порядке».
Булгаков успокоился. Да и начинаться роковой болезни было вроде бы рановато — ему шёл всего лишь 42‑ой год. Впереди по всем расчётам было ещё целых шесть лет жизни. И волнения по поводу здоровья прекратились.
Будничные события
Осенью 1933 года Булгакову сообщили об одной новости, которая заставила насторожиться: «Жизнью господина де Мольера» неожиданно заинтересовался Л.Б. Каменев. Да, да, тот самый Каменев, который восемь лет назад не допустил к печати «Собачье сердце».
Лев Борисович уже успел побывать в советских ссылках, затем был милостиво прощён и назначен на чиновничью должность средней руки. Ему оставалось всего около трёх лет жизни. Из них всего лишь год с небольшим предстояло провести на свободе. Осенью 1933 года во время отпуска (чуть ли не самого последнего в жизни) Каменев и прочёл «Жизнь господина де Мольера».
Елена Сергеевна записала в дневнике:
«… Каменеву биография Мольера очень понравилась, он никак не согласен с оценкой Тихонова».
Бывший большевистский вождь находился в немилости, но авторитетом продолжал пользоваться огромным. Поэтому мнение Каменева произвело на редакцию ЖЗЛ большое впечатление.
Булгаков запоздалую похвалу в свой адрес встретил с равнодушным спокойствием. Он давно уже утратил веру в чудодейственность каких бы то ни было сюрпризов, исходивших от советской власти. И был по‑своему прав: восторги Каменева ситуацию не изменили. «Жизнь господина де Мольера» при жизни Булгакова так и не была напечатана.
В начале ноября произошло событие, которое потрясло всех. Вот что о нём записала в дневнике Елена Сергеевна:
«Ну и ночь была. М[ихаилу] А[фанасьевичу] нездоровилось. Он, лёжа, диктовал мне главу из романа — пожар в Берлиозовой квартире. Диктовка закончилась во втором часу ночи. Я пошла на кухню — насчёт ужина, Маша стирала. Была злая и очень рванула таз с керосинки, та полетела со стола, в угол, где стоял бидон и четверть с керосином — незакрытые. Вспыхнул огонь. А я закричала — Миша!! Он, как был, в одной рубахе, босой, примчался и застал уже кухню в огне. Эта идиотка Маша не хотела выходить из кухни, т. к. у неё в подушке были зашиты деньги!..
Я разбудила Серёжку, одела его и вывела во двор, вернее — выставила окно и выпрыгнула, и взяла его. Потом вернулась домой. М[ихаил] А[фанасьевич], стоя по щиколотке в воде, с обожжёнными руками и волосами, бросал на огонь всё, что мог: одеяла, подушки и всё выстиранное бельё. В конце концов он остановил пожар…
Пожарные приехали, когда дело было копчено. С ними — милиция. Составили протокол…
Легли в семь часов утра, а в десять надо было вставать, чтобы идти М[ихаилу] А[фанасьевичу] в Театр».
Но не только подобные «будничные» события приносили волнения и переживания. Сильно расстраивала затяжка со строительством дома в Нащокинском переулке. Ещё очень печалила неясность в судьбе пьес, которые МХАТ принял к постановке: репетиции «Мольера» невообразимым образом затянулись, а к вроде бы реабилитированному «Бегу» вообще даже не притрагивались.
А Григорий Гаузнер продолжал записывать в дневник свои впечатления от окружавшей его действительности. Вот запись от 4 ноября:
«Встреча с Ягодой в доме Горького. Мягкий, женственный, лукавый человек. Говорит тихо, спокойно, медленно, просто — и вместе с тем одержимый, со страшной силой воли. Сед, утомлён…»
Во время обеда Генрих Ягода (он был тогда, напомним, первым заместителем главы ОГПУ) неожиданно завёл речь о своём ведомстве:
«— Мы самое мягкосердечное учреждение. Суд связан параграфами, а мы поступаем в связи с обстановкой, часто просто отпускаем людей, если они не опасны. Мы не мстим».
О том высказывании всесильного временщика Булгакову вряд ли стало известно. А если бы он и услышал о нём, оно наверняка осталось бы без комментариев. Время такое было. Да и здоровье вновь стало беспокоить. На смену почечным коликам пришли внезапно возобновившиеся головные боли. Елена Сергеевна записывала:
«8 ноября.
М[ихаил] А[фанасьевич] почти целый день проспал — было много бессонных ночей. Потом работал над романом (полёт Маргариты). Жалуется на головную боль».
14 ноября к Булгаковым зашёл муж Ольги Бокшанской, Евгений Калужский, актёр и член режиссёрской коллегии МХАТа. Между хозяином и гостем неожиданно возник разговор, к содержанию которого Елена Сергеевна отнеслась весьма неодобрительно:
«М[ихаил] А[фанасьевич] говорил с Калужским о своём желании войти в актёрский цех. Просил дать роль судьи в „Пиквикском клубе“ и гетмана в „Турбиных“. Калужский относится положительно. Я в отчаянии. Булгаков — актёр…»
А головные боли продолжали терзать и мучить. И тут ещё:
«4 декабря.
У Миши внезапная боль в груди. Горячая ножная ванна».
7 декабря вызвали врача:
«Нашёл у М[ихаила] Афанасьевича] сильное переутомление».
Но никакие недомогания не помешали Булгакову осуществить свою заветную мечту: сыграть какую‑нибудь роль на прославленной сцене Московского Художественного театра. Это случилось 9 декабря на просмотре «Записок Пиквикского клуба», где Михаил Афанасьевич, как и планировал, исполнил роль судьи. Елена Сергеевна записала в дневнике:
«Имел успех. Первым поздравил его Топорков. Немирович сказал:
— Да, вот новый актёр открылся».
Михаил Булгаков в роли судьи в спектакле МХАТа «Записки Пиквикского клуба», 1935 г.
Театральный успех тотчас же отразился на состоянии здоровья: несколько дней держалось хорошее самочувствие. 12 декабря супруги Булгаковы даже отправились на лыжную прогулку:
«Прошли поперёк пруда у Ново‑Девичьего и вернулись — дикий ледяной ветер».
А у бывшего супруга Елены Сергеевны, Е.А. Шиловского, шла своя жизнь. Он познакомился с двадцатидвухлетней графиней по имени Марианна. Её отцом был известный советский писатель Алексей Толстой.
Сильно уязвлённый внезапным уходом жены, Евгений Шиловский как бы получал шанс для достойного ответа: если бывшая жена связала свою судьбу с одиозным писателем, постоянно конфликтующим с властью, то он завяжет романтические отношения с дочерью писателя‑аристократа, лояльного к режиму большевиков.
Вне всяких сомнений Шиловский должен был пребывать на вершине блаженства.
Пришло «блаженство» и в семью Булгаковых — Елена Сергеевна начала под диктовку мужа печатать его новую пьесу. По странному стечению обстоятельств она тоже называлась «Блаженство».
Загадочное окружение
Начался год 1934‑ый. Из своего многомесячного вояжа по Северному морскому пути вернулся Илья Сельвинский. Он привёз с собой готовую пьесу «Рождение класса». А также наброски большой поэмы, рассказывающей об этом путешествии. Начались его выступления с рассказами о плаванье меж полярных льдов. На вопросы, почему он покинул ледокол, не дожидаясь его прибытия в порт назначения, поэт отвечал, что покинул Арктику, потому что большая часть пути была уже пройдена, и впереди не предвиделось ничего интересного.
И вдруг — как гром с ясного неба — сообщение: ледокол попал в ледовый плен, со всех сторон его сжимают арктические льдины. Имя попавшего в беду судна тотчас облетело весь мир — «Челюскин!»… «Челюскин!»… «Челюскин!»
Вскоре пришла трагическая весть: ледокол раздавлен льдами и затонул, команда и пассажиры высадились на полярную льдину. Весь мир сопереживал челюскинцам, многие страны предлагали свою помощь для их спасения.
За спиной Сельвинского тотчас зашушукались, и по Москве пополз слушок, что поэт, мол, «дезертировал» с ледокола, сбежал, оставив товарищей в беде.
А вокруг Булгакова продолжали суетиться какие‑то странные личности. Внешне они ничем не отличались от прочих советских граждан. Разве что чересчур независимо вели себя по отношению к окружающим и не жалели комплиментов в адрес Михаила Афанасьевича.
Откуда взялись эти люди?
Что собой представляли?
Чего добивались от драматурга?
Это были тайные соглядатаи. Чуть позднее их назовут стукачами.
Подобные граждане наверняка окружали Булгакова и раньше, регулярно докладывая куда следует о каждом шаге своего подопечного. Их имена за давностью лет забылись, бесследно стёрлись в памяти. Зато те, кто втирался в доверие к опальному писателю во второй половине 30‑х, известны нам поимённо. Благодаря дневниковым записям Елены Сергеевны.
Одна из подобных «загадочных» личностей впервые упомянута в них 3 января 1934 года. Доносчик пришёл к Булгаковым в гости. Точнее, его привели:
«Вечером американский журналист Лайонс со своим астрономическим спутником — Жуховицким. Им очень хочется, чтобы М[ихаил] А[фанасьевич] порвал свои деловые отношения с издательством Фишера (которое действительно маринует пьесы М[ихайла] А[фанасьевича]) и передал права на „Турбиных“ Лайонсу. М[ихаил] А[фанасьевич] не любит таких разговоров, нервничал».
А неистовый напор энергичного гостя не ослабевал:
«Жуховицкий за ужином:
— Не то вы делаете, Михаил Афанасьевич, не то! Вам бы надо с бригадой на какой‑нибудь завод или на Беломорский канал. Взяли бы с собой таких молодцов, которые всё равно писать не могут, зато они ваши чемоданы бы таскали…
— Я не то что на Беломорский канал — в Малаховку не поеду…»
Когда через несколько дней, порывшись в бумагах, Булгаковы выяснили, что срок, на который был заключён договор с фирмой Фишера, истёк, то…
«… М[ихаил] А[фанасьевич], при бешеном ликовании Жуховицкого подписал соглашение на „Турбиных“ с Лайонсом.
— Вот поедете за границу, — возбуждённо стал говорить Жуховицкий, — только без Елены Сергеевны!..
— Вот крест! (тут Миша истово перекрестился — почему‑то католическим крестом), что без Елены Сергеевны не поеду! Даже если в руки паспорт вложат.
— Но почему?!
— Потому что привык по заграницам с Еленой Сергеевной ездить. А кроме того, принципиально не хочу быть в положении человека, которому нужно оставлять заложников за себя.
— Вы — несовременный человек, Михаил Афанасьевич!»
«Бешеная» активность нового знакомца была отмечена и в последующие дни. Он постоянно звонил, часто приходил в гости. А 15 января…
«… у нас ужинали: Лайонс с женой и Жуховицкий. Этот пытался уговорить М[ихаила] А[фанасьевича] подписать договор на „Мольера“, но М[ихаил] А[фанасьевич] отказался — есть с Фишером».
Назойливые визиты «странного» знакомого продолжались:
«9 февраля.
Жуховицкий — с договором на „Белую гвардию“ — на английском языке за границей. М[ихаил] А[фанасьевич] подписал».
Между тем 18 февраля Булгаковы наконец‑то справили новоселье, переехав из дома на Большой Пироговской в новую квартиру в Нащокинском переулке. Долгожданной радостью Михаил Афанасьевич поделился с Вересаевым:
«Замечательный дом, клянусь! Писатели живут и сверху, и снизу, и сзади, и спереди, и сбоку.
Молю Бога о том, чтобы дом стоял нерушимо. Я счастлив, что убрался из сырой Пироговской ямы. А какое блаженство не ездить в трамвае!..»
Но даже такое знаменательное событие не в силах было прогнать печаль, что лежала на душе. 7 марта 1934 года Булгаков писал Павлу Попову:
«Зима эта воистину нескончаема. Глядишь в окно, и плюнуть хочется. И лежит, и лежит на крышах серый снег. Надоела зима!
Квартира помаленьку устраивается. Но столяры осточертели не хуже зимы. Приходят, уходят, стучат».
Такая грусть — в строчках, рассказывающих о делах творческих:
«„Мольер ну, что ж, ну, репетируем. Но редко, медленно. И, скажу по секрету, смотрю на это мрачно. Люся без раздражения не может говорить о том, что проделывает Театр с этой пьесой. А для меня этот период волнений давно прошёл. И если бы не мысль о том, что нужна новая пьеса на сцене, чтобы дальше жить, я бы и перестал о ней думать. Пойдёт — хорошо, не пойдёт — не надо. Но работаю на этих редких репетициях много и азартно. Ничего не поделаешь со сценической кровью!
Но больше приходится работать над чужим. „Пиквикский клуб“ репетируем на сцене. Но когда он пойдёт и мне представится возможность дать тебе полюбоваться красной судейской мантией — не знаю. По‑видимому, и эта пьеса застрянет… Я, кроме всего, занимаюсь с вокалистами мхатовскими к концерту и время от времени мажу, сценка за сценкой, комедию. Кого я этим тешу? Зачем? Никто мне этого не объяснит …»
О том, какое состояние здоровья было у него, Булгаков позднее (11 июля) напишет Вересаеву:
«X началу весны я совершенно расхворался: начались бессонница, слабость и, наконец, самое паскудное, что я когда‑либо испытывал в жизни, страх одиночества, то есть точнее говоря, боязнь остаться одному. Такая гадость, что я предпочёл бы, чтобы мне отрезали ногу!
Ну, конечно, врачи, бромистый натр и тому подобное. Улиц боюсь, писать не могу, люди утомляют или пугают, газет видеть не могу, хожу с Еленой Сергеевной под ручку или с Серёжкой — одному — смерть!»
И вдруг — случилось это 27 марта — в новую квартиру прилетела весточка из МХАТа:
«… несколько дней назад в театре был Сталин, спрашивал, между прочим, о Булгакове, работает ли в театре?».
Интерес вождя к его персоне взбудоражил воображение. Вспыхнула надежда, а не осуществится ли на этот раз заветное желание? И через две недели Елена Сергеевна записывала в дневник:
«Решили подать заявление о заграничных паспортах на август — сентябрь».
26 апреля Булгаков сообщал Вересаеву:
«Дорогой Викентий Викентьевич!
На машинке потому, что не совсем здоров, лежу и диктую…
Никуда я не могу попасть, потому что совсем одолела работа. Все дни, за редким исключением, репетирую, а по вечерам и ночам, диктуя, закончил, наконец, пьесу, которую задумал давным‑давно. Мечтал — допишу, сдам в театр Сатиры, с которым у меня договор, в ту же минуту о ней забуду и начну писать киносценарий по «Мёртвым душам». Но не вышло так, как я думал…
Таким образом, вместо того, чтобы забыть, лежу с невралгией и думаю о том, какой я, к лешему, драматург! В голове совершеннейший салат оливье: тут уже Чичиков лезет, а тут эта комедия».
«Мёртвые души» упомянуты в связи с тем, что ещё 31 марта Булгаков заключил договор на написание сценария по гоголевской поэме. По нему собирался снимать кинофильм режиссёр И.А. Пырьев.
Вслед за тоскливым упоминанием «невралгии» Булгаков переходит к более радостным («блестящим») вещам, хотя звучат они в его письме не очень весело:
«Но дальше идёт блестящая часть. Решил подать прошение о двухмесячной заграничной поездке: август — сентябрь. Несколько дней лежал, думал, ломал голову, пытался советоваться кое с кем. «На болезнь не ссылайтесь». Хорошо, не буду. Ссылаться можно, должно только на одно: я должен и я имею право видеть — хотя бы кратко — свет. Проверяю себя, спрашиваю жену: имею ли я это право. Отвечает — имеешь. Так что ж, ссылаться, что ли, на это?
Вопрос осложнён безумно тем, что нужно ехать непременно с Еленой Сергеевной. Я чувствую себя плохо. Неврастения, страх одиночества превратили бы поездку в тоскливую пытку. Вот интересно, на что тут можно сослаться?.. Мне не нужны ни доктора, ни дома отдыха, ни санатории, ни прочее в этом роде. Я знаю, что мне надо. На два месяца — иной город, иное солнце, иное море, иной отель, и я верю, что осенью я в состоянии буду репетировать в проезде Художественного театра, а может быть, и писать».
Возникает вопрос, только ли Вересаеву сообщал Булгаков подробности своей жизни? А, может быть, ещё и тем, кто пристально следил за его перепиской и передавал её содержание на самый «верх»?
Как бы там ни было, но писатель явно надеялся, что на этот‑то раз его из страны выпустят, и поэтому как бы вскользь напоминал властям о предстоящей большой работе «в проезде Художественного театра», для чего ему просто необходимо «увидеть свет».
Ну, а комедия под названием «Блаженство»? Пора поговорить и о ней.
Блаженная страна
Пьеса «Блаженство» писалась для Московского театра сатиры.
О чём она?
Литературоведы предполагают (мы говорили уже об этом), что желание написать комедию возникло у Булгакова ещё в 1929 году — сразу после просмотра спектакля по пьесе Маяковского «Клоп». Там в финале главный герой попадает в коммунистическое будущее. Затем в «Бане» того же Маяковского изобретатель Чудаков создаёт «машину времени», с помощью которой устанавливает контакты с грядущим.
Сама идея проникновения в иные времена Михаилу Афанасьевичу очень понравилась, и он начал сочинять свою версию полёта в грядущие времена, ещё более весёлую и фантастичную. Но превратности судьбы вынудили работу остановить. А затем, как сообщал сам Булгаков в письме советскому правительству, он «бросил в печку… черновик комедии».
Прошло четыре года, и заказ театра Сатиры заставил драматурга вспомнить содержание сожжённой рукописи. Реанимированный замысел получил название «Блаженство» с подзаголовком «Сон инженера Рейна».
Вообще‑то к снам у Булгакова отношение было особое. Любовь Белозёрская вспоминала, что как‑то (изучая английский язык) Михаил Афанасьевич натолкнулся на слово spoon (ложка). И очень обрадовался, сказав, что слово это — его, булгаковское: «я люблю спать, поэтому я «спун»!
Сюда же можно отнести и сталинский совет Булгакову, чтобы он в «Беге» добавил…
«… к своим восьми снам ещё один или два сна…».
Вот в «Блаженстве» Булгаков и добавил. Правда, пока всего один сон.
События пьесы разворачиваются в одной из квартир московского дома, за жизнью которого неусыпно следит некий Бунша‑Корецкий. В перечне действующих лиц он представлен как «князь и секретарь домоуправления». И один из персонажей тоже рекомендует его как…
«… бывшего князя и секретаря…»
Сам Бунша говорит о себе, что он…
«… секретарь домкома десятого жакта в Банном переулке».
«БУНША. Я — лицо, занимающее официальный пост, и обязан наблюдать».
Не правда ли, знакомые слова? И должность тоже знакомая. Да ведь это же коллега Аллилуи из пьесы «Зойкина квартира».
Но ведь прообразом Аллилуи — мы в своё время это установили — был Иосиф Сталин. Если Бунша поразительно похож на Аллилую, значит, его прототипом тоже следует считать генерального секретаря?
Да, перед нами вновь окарикатуренный образ вождя всех времён и народов.
Начнём с мелочей. Булгаковский герой носит двойную фамилию: Бунша‑Корецкий. У большевистского генсека их тоже две: Сталин и Джугашвили. Если фамилии секретаря домкома поменять местами (Корецкий‑Бунша) и взять их начальные слоги, то в результате и вовсе получим Кобу!
Должность у Бунши, как и у Сталина, секретарская. И происхождение секретаря домоуправления так же туманно и загадочно, как и у секретаря генерального. Ведь ходили же по Москве слухи, что Сталин внебрачный сын какого‑то грузинского князя, а вовсе не сапожника Виссариона Джугашвили. Любому, кто называет его князем, Бунша‑Корецкий спешит предъявить соответствующие бумаги:
«БУНША. Нет, я не князь… Вот документы, удостоверяющие, что моя мама изменяла папе, и я сын кучера Пантелея. Я и похож на Пантелея. Потрудитесь прочесть».
И ещё про Буншу в пьесе говорят, что у него не в порядке психика. А по ходу действия специально приглашённый профессор и вовсе ставит ему диагноз — слабоумие. Как тут не вспомнить визит к Сталину академика Бехтерева, нашедшего у вождя психическое заболевание?
Образ Бунши получился настолько ярким и запоминающимся, что вся пьеса превратилась в искромётный памфлет антисталинского толка, правда, упакованный в изящную форму весёлой сатирической комедии.
Дом, которым «управляет» Бунша, населён весьма странными жильцами, о которых секретарь домкома говорит:
«БУНША. Я по двору прохожу и содрогаюсь. Все окна раскрыты, все на подоконниках лежат и рассказывают такие вещи, которые рассказывать запрещено».
В ответ на эти слова один из жильцов дома, инженер Рейн, брезгливо заявляет Бунше:
«РЕЙН. Вы — старый зуда, шляетесь по всему дому, подглядываете, а потом ябедничаете, да, главное, врёте!»
Евгений Рейн — главный герой пьесы. Сверхбдительные реперткомовцы прочтут его имя и фамилию, как ЕВ гений РЕЙ н, и на этом основании обвинят Булгакова в антисемитизме.
Рейн инженер.
Это что же — булгаковский намёк?
Да, небольшой. Поскольку Сталин уже назвал однажды писателей «инженерами человеческих душ», стало быть, прообразом Рейна вполне мог стать писатель М.А. Булгаков.
Рейн гениальный изобретатель. Он сконструировал и построил машину времени, способную совершать полёты как в прошлое, так и в будущее. Этим он осуществил заветную мечту самого Булгакова. Пусть советская власть не выпускает из страны слишком докучающего ей писателя, он с гордостью демонстрирует всем, что может улететь куда захочет, оседлав свою творческую фантазию.
Подобный оборот событий тревожит даже недалёкого, но чрезвычайно бдительного Буншу, который сразу обращает внимание на подозрительный механизм, построенный Рейном.
«БУНША. Я обращаюсь к вам с мольбой, Евгений Николаевич. Вы насчёт своей машины заявите в милицию. Её зарегистрировать надо, а то в четырнадцатой квартире говорили, что вы такой аппарат строите, чтоб на нём из‑под советской власти улететь. А это, знаете, и вы погибните, и я с вами за компанию».
Талантливый инженер пытается успокоить Буншу
«РЕЙН… это совершенно безобидно, невредно, ничего не взорвётся, и вообще никого не касается».
Но секретарь домкома всё равно остаётся настороже.
Ещё одно действующее лицо пьесы — Юрий Милославский. Откуда взялась эта фамилия? Ведь Милославские — древний боярский род, один из потомков которого оказался в стране рабочих и крестьян. Казалось бы, объяснение вполне логичное, и придраться тут не к чему.
Милославский из пьесы «Блаженство» — вор‑домушник. Он грабит квартиру «гражданина Михельсона», соседа Рейна. Увидев на Милославском подозрительно знакомые и явно не его часы, проницательный Бунша спрашивает, почему на них выгравирована чужая фамилия:
«МИЛОСЛАВСКИЙ. Это я выцарапал „Михельсон“.
БУНЕНА. Зачем же чужую фамилию выцарапывать?
МИЛОСЛАВСКИЙ. Потому что мне понравилось. Это красивая фамилия».
Нужна была отчаянная смелость, чтобы написать такое в те времена. Ведь вся страна ещё прекрасно помнила, что покушение на Ленина в 1918 году было совершено на заводе Михельсона. Говорить о том, что эта фамилия «красивая» и что она «нравится», было равносильно тому, чтобы радоваться покушению на вождя.
А кого скрыл Булгаков под «маской» этого криминального героя?
Если «Михельсон» — это намёк на В.И. Ленина, то Милославский тоже должен иметь какое‑то отношение к почившему вождю.
Был ли среди тогдашних руководителей страны кто‑то, кто бы «покушался» на ленинское наследство?
Молотов, занявший в 1930 году ленинский пост председателя Совета народных комиссаров и делавший с тех пор всё то, что делал когда‑то Владимир Ильич.
Для тех, кого это сопоставление не убеждало, Булгаков оставил дополнительный намёк — фамилию героя: Милославский.
Молотов — это не фамилия вождя, а его партийная кличка. Настоящей фамилией главы советского правительства была Скрябин. И звали его Вячеслав Михайлович.
Напишем эти четыре слова в несколько ином порядке и выделим по одному слогу! МИ ихайлович, МоЛОтов, ВячеСЛАВ, СК рябин. Из выделенных слогов и складывается фамилия — МИ+ЛО +СЛАВ +СК+ ИЙ.
С помощью машины времени герои пьесы «заглядывают» во времена Ивана Грозного. Но тамошние порядки приходятся им не по душе, и машина времени переносит их в далёкое будущее — в 2229 год, то есть в светлое коммунистическое завтра. В авторской ремарке Булгаков точно обозначает место, в котором оказывается аппарат инженера Рейна:
«Та часть Москвы Великой, которая называется Блаженство…»
Где это? Сразу вспоминается Храм Василия Блаженного. И ещё Кремль, где на полном обеспечении блаженствовала большевистская элита. Булгаков даёт дополнительное уточнение: Рейн, Милославский и Бунша оказываются где‑то рядом с апартаментами Народного Комиссара Изобретений Радаманова. Иными словами, в самом Кремле.
Пришельцев встречают настороженно.
«САВВИЧ. Бойтесь этих трёх, которые прилетели сюда!
РАДAMАНОВ. Что вы хотите, мой дорогой? Скажите понятнее.
САВВИЧ. Я хочу, чтобы они улетели отсюда в преисподнюю».
Невольно складывается ощущение, что Булгаков хотел написать: «в свою преисподнюю». Но тогда получилось бы, что драматург называет советский режим «адом». И слишком откровенное слово — «свою» — было вычеркнуто.
Впрочем, упоминание об аде в пьесе всё равно присутствует — в фамилии «Радаманов». В книге, содержащей перечень всех российских фамилий, такое написание не встречается. Его придумал Булгаков.
Почему он дал своему герою именно такую фамилию?
Не потому ли, что слово «Радаманов» начинается со слога «РАД»? Что это — радость? А может быть, «Р + АД», то есть Р оссийский АД?
Можно толковать и несколько иначе: «Р + АДАМАН»? То есть (зная, что «ман» в переводе с немецкого означает «человек») «человек ада», российского ада ?
Ещё одна любопытная деталь. Р адаманов возглавляет К омиссариат И зобретений. Получается Р + КИ. А Сталин, как мы помним, в своё время был наркомом РКИ. Как тут не улыбнуться очередному «случайному» совпадению?
Попав в страну коммунизма, герои‑путешественники, казалось бы, должны пребывать на вершинах счастья.
«РЕЙН. Миллионы людей мечтают, чтобы их перенесли в такую жизнь. Неужели вам здесь не нравится?
МИЛОСЛАВСКИЙ. Миллиону правится, а мне не нравится».
Ладно бы ещё вору Милославскому не нравился коммунизм. Но и сроднившемуся с социалистическими порядками Бунше весёлая бесконфликтная жизнь обитателей страны Блаженство тоже не по душе.
«БУНША. Социализм совсем не для того, чтоб веселиться. А они бал устроили».
Кроме того, Бунша боится, что придётся отвечать за несанкционированную отлучку из страны:
«БУНША. Ведь я без разрешения отлучился. Я — эмигрант».
Инженеру Рейну за его машину времени обитатели страны Блаженство сулят золотые горы.
«РАДАМАНОВ… вас, автора этого изобретения, решено поставить в исключительные условия. Все ваши потребности и все ваши желания будут удовлетворяться полностью, независимо от того, чего бы вы ни пожелали».
Радаманов обещает Рейну именно то, о чём когда‑то страстно мечтал сам Михаил Булгаков. Вспомним строки из повести «Тайному другу»:
«Мне очень хотелось бы, чтобы государство платило мне жалованье, чтобы я ничего не делал, а лежал бы на полу у себя в комнате и сочинял бы…»
И, тем не менее, Рейн осторожно спрашивает у коммунистического наркома:
«РЕЙН. Скажите, если я восстановлю свою машину…, мне дадут возможность совершать на ней полёты самостоятельно?
РАДАМАНОВ. С нами, с нами, о гениальный…»
Но гордый инженер продолжает отстаивать право творца на независимость:
«РЕЙН. Народный Комиссар Изобретений!.. Прошу вас, вот мой механизм, возьмите его, но предупреждаю вас, что я лягу на диван и шагу не сделаю к нему, пока возле него будет хотя бы один контролёр».
Рейн не верит радамановским обещаниям, его неудержимо тянет покинуть «блаженную» коммунистическую страну. Точно так же, как тянуло самого Булгакова покинуть «блаженный» социалистический рай. Не случайно диалог инженера и наркома так напоминает телефонный разговор Иосифа Сталина с рвавшимся за границу писателем:
«РЕЙН. Я человек иной эпохи. Я прошу отпустить меня, я ваш случайный гость.
РАДАМАНОВ. Дорогой мой! Я безумцем назвал бы того, кто бы это сделал! И никакая эпоха не отпустила бы вас, и не отпустит, поверьте мне!..
РЕЙН. Я понял. Я пленник, вы не отпустите меня. Но мне интересно, как вы осуществите контроль надо мной? Ведь не милиционера вы приставите ко мне?
РАДАМАНОВ. Откажитесь от своего века, станьте нашим гражданином. А государство приглашает вас с нами совершить все полёты, которые мы совершим».
Радаманов старается убедить Рейна в том же, в чём авиатор Дараган (из пьесы «Адам и Ева») тщетно пытался убедить академика Ефросимова.
Но инженера Рейна (равно как и Ефросимова, да и самого Булгакова) никак не устраивает, что кто‑то будет пытаться наложить руку на его интеллектуальную собственность. И герои пьесы обманным путём угоняют свой «аппарат» из коммунистического будущего и возвращаются в родные времена, в Москву 30‑х годов.
Главным булгаковским персонажам не приглянулось тёмное «царское» прошлое, из светлого «коммунистического» будущего они просто сбегают. Что же касается «социалистического» настоящего, куда они наконец‑то вернулись, то в нём гражданами, путешествующими во времени, тотчас заинтересовывается московская милиция. Арестом вернувшихся странников пьеса и завершается.
Не правда ли, знакомый финал? Как у персонажей «Зойкиной квартиры», пытавшихся сбежать в капиталистический Париж, так и у героев «Блаженства», совершающих полёт в коммунизм, конец один — тюремное заключение.
Итак, о чём же булгаковское «Блаженство»?
Оно о том, как один инженер (человеческих душ) на крыльях своей фантазии отправляется в прошлое и в грядущее с двумя другими «душами»: Буншей (Сталиным) и Милославский (Молотов). Оказавшись в прошлом, герои с удивлением обнаруживают, что Бунша (Сталин) как две капли воды похож на кровавого самодержца древней Руси Ивана Грозного. А светлое будущее при ближайшем рассмотрении оказывается самым настоящим полицейским государством, в котором свободой граждан даже не пахнет. И лишь благодаря криминальным ухваткам Милославского (Молотова), который крадёт ключ, помогающий героям пьесы проникнуть в строго охраняемую машину времени, вся троица благополучно возвращается в советскую страну.
Вот такой сюжет придумал Михаил Булгаков.
Писатель вновь откровенно издевался над советской властью и над порядками, которые установили большевики. А их лидера, их великого вождя он просто превратил в посмешище.
Жажда света
28 апреля 1934 года в письме П.С. Попову Булгаков писал:
«25‑го числа читал труппе Сатиры пьесу. Очень поправился всем первый акт и последний, но сцепы в Блаженстве не приняли никак. Все единодушно вцепились и влюбились в Ивана Грозного. Очевидно, я что‑то не то сочинил».
Булгаков, конечно же, немного лукавил. Он сочинил именно то, что хотел. Но как ни гримировал, как ни камуфлировал свои подковырки и колкости, их заметили сразу. О том, что смеяться над жизнью советских людей небезопасно, понимали все. Выставлять же в шутливом виде коммунистическое завтра было опасно вдвойне.
Чтобы как‑то поправить положение, группа актёров и режиссёров театр Сатиры нагрянула к Булгакову в гости. Елена Сергеевна записала:
«Встретил их М[ихаил] А[фанасьевич] лёжа в постели, у него была дикая головная боль. Но потом он ожил и встал к ужину… Все они насели на М[ихаила] А[фанасьевича] с просьбой переделок, согласны на длительный срок, скажем, 4 месяца. Им грезится какая‑то смешная пьеса с Иваном Грозным, с усечением будущего».
Но Булгаков «грезил» уже не столько о переделках пьесы, сколько о предстоящей поездке за рубеж. Заявление с просьбой о разрешении зарубежной поездки было уже передано секретарю ВЦИКа А.С. Енукидзе. На всякий случай 1 мая Булгаков написал письмо и Горькому:
«Многоуважаемый Алексей Максимович!..
Хорошо помня очень ценные для меня Ваши одобрительные отзывы о пьесах „Бег “ и „Мольер“, я позволяю себе беспокоить Вас просьбой поддержать меня в деле, которое имеет для меня действительно жизненный и писательский смысл…
Я в такой мере переутомлён, что боюсь путешествовать один, почему и прошу о разрешении моей жене сопровождать меня.
Я знаю твёрдо, что это путешествие вернуло бы мне работоспособность и дало бы мне возможность, наряду с моей театральной работой, написать книгу путевых очерков, мысль о которых манит меня.
За границей я никогда не был.
Вы меня крайне обязали бы ответом
Уважающий Вас М.Булгаков».
И в новой квартире в Нащокинском переулке стали ждать от Алексея Максимовича ответного письма…
4 мая произошло событие, о котором Елена Сергеевна записала:
«Вчера Жуховицкий привёз американскую афишу „Турбиных“…
А сегодня М[ихаил] А[фанасьевич] узнал…, что Енукидзе наложил резолюцию на заявление М[ихаила] А[фанасьевича]: „Направить в ЦК“».
То, что визит Жуховицкого предшествовал последовавшему на следующий день сообщению о судьбе булгаковского прошения, вполне могло быть простым совпадением. Но у Булгаковых сложилось ощущение, что Жуховицкий подсылался к ним на разведку, что американская афиша была всего лишь предлогом.
Самое удивительное в этой истории, пожалуй, то, что подобная «засылка» не была воспринята, как из ряда вон выходящая. Она даже не вызывала удивления. Такие уж настали времена.
А вот отсутствие вестей от Горького беспокоило. 13 мая Елена Сергеевна записала:
«Письмо М[ихаила] А[фанасьевича] Горькому было послано второго. Как М[ихаил] А[фанасьевич] и предсказывал, ответа нет».
А новости, которые приносили газеты, становились всё тревожнее. В одной из передовиц «Правды», целиком посвящённой бдительности, говорилось о том, что доверчивость — это свойство обывателя, а не коммуниста. И сразу несколько статей пугали читателей той бедой, которая грозит стране, если всюду на смену беспечности не придёт всеобщая бдительность.
В один из майских дней 1934 года страна узнала о кончине председателя ОГПУ В.Р. Менжинского. По Москве давно ходили слухи о том, что Вячеслав Рудольфович тяжело и безнадёжно болен, что на работе он либо всё время сидит в кресле, либо полулежит на диване. Потому и смерть его восприняли спокойно. В последний путь главного чекиста страны провожало всё кремлёвское руководство.
Карательное ведомство возглавил Генрих Ягода. И почти сразу же последовала другая (внезапная и оттого загадочная вдвойне) смерть Максима Пешкова, сына Горького, человека молодого и здорового. Эта кончина тревожно изумила многих…
Большое горе обрушилось на великого пролетарского писателя. Все дела и заботы, ещё вчера казавшиеся срочными и чрезвычайно важными, разом отошли на задний план. До хлопот ли было Горькому по поводу чьей‑то зарубежной поездки?..
Прекрасно понимая, в каком состоянии находится Алексей Максимович, Булгаков всё равно нервничал и недоумевал, почему Горький не отвечает на его письмо. Михаил Афанасьевич категорически отказался последовать совету своего друга Павла Попова, который…
«Он уговаривал — безуспешно — М[ихаила] А[фанасьевича], чтобы он послал Горькому соболезнование.
Нельзя же, правда, — ведь на то письмо ответа не было».
Булгаков встал в позу обиженного: дескать, пока не получу ответа на своё (давным‑давно отправленное) письмо, никаких соболезнований посылать не буду. Позиция странная и не очень понятная.
А тут пришла новая ошеломившая всех весть: в ночь с 13 на 14 мая арестовали Осипа Мандельштама. Чуть позднее стало известно, что поэта «взяли» за антисталинские стихи:
Дневниковая запись от 15 мая тоже полна тревоги:
«… утром провожала М[ихаила] А[фанасьевича]в театр — он очень плохо себя чувствовал, тяжело волновался».
«Сегодня М[ихаил] А[фанасьевич] лежит целый день — дурно себя чувствует».
Зато 17 мая настроение мгновенно улучшилось — после звонка по телефону:
«— Михаил Афанасьевич? Вы подавали заявление о заграничном паспорте? Придите в Иностранный отдел Исполкома, заполните анкеты — Вы и Ваша жена. Обратитесь к тов[арищу] Бориспольцу. Не забудьте фотографии».
И Булгаковы помчались в Исполком:
«На столе лежали два красных паспорта… Борисполец сказал, что паспорта будут бесплатные. „Они выдаются по особому распоряжению, — сказал он с уважением. — Заполните анкеты внизу“.
И мы понеслись вниз. Когда мы писали, М[ихаил] А[фанасьевич] меня страшно смешил, выдумывая разные ответы и вопросы. Мы много хихикали, не обращая внимания на то, что из соседних дверей вышли сначала мужчина, а потом дама, которые сели за стол и что‑то писали».
Когда анкеты были заполнены, Булгаковым объявили, что уже поздно — паспортистка ушла. Посоветовали прийти 19‑го.
«На обратном пути М[ихаил] А[фанасьевич] сказал:
— Слушай, а это не эти типы подвели?! Может быть, подслушивали? Решили, что мы радуемся, что уедем и не вернёмся?.. Да нет, не может быть. Давай лучше мечтать, что мы поедем в Париж!
Н всё повторял ликующе:
— Значит, я не узник! Значит, увижу свет!
Шли пешком, возбуждённые… М[ихаил]А[фанасьевич] прижимает к себе мою руку, смеётся, выдумывает первую главу книги, которую привезёт из путешествия.
— Неужели не арестант?!
Это — вечная ночная тема: Я — арестант… Меня искусственно ослепили…
Дома продиктовал мне первую главу будущей книги».
Запись в дневнике от 19 мая гласит, что ответ о паспортах «переложили на завтра».
«Ответ переложили на 25‑е».
«Опять нет паспортов. Решили больше не ходить. М[ихаил] А[фанасьевич] чувствует себя отвратительно».
В эти же дни (в двадцатых числах мая) неожиданно позвонили Борису Пастернаку. Из Кремля. У телефона был Сталин. Поприветствовав поэта, и поговорив на разные «творческие» темы, вождь стал спрашивать об Осипе Мандельштаме. Дескать, как относятся к нему его коллеги по перу, считают ли настоящим поэтом. А в конце разговора вопрос и вовсе был поставлен ребром:
«— Но ведь он же мастер, мастер?».
Пастернак ушёл от прямого ответа. И до конца дней своих уверял всех, будто он просто не понял, что именно хотел услышать от него вождь…
А ведь Борис Леонидович был хорошо знаком с творчеством Данте Алигьери. И не мог не знать, что великий поэт эпохи Возрождения предложил (в XXIII эпистоле) четыре уровня рассмотрения стихотворного текста: буквальный, аллегорический, моральный и анагогический. Но Пастернаку и голову не приходило, что всё это могло иметь отношение к Мандельштаму.
Пастернак многого тогда не знал.
К примеру, ему ничего не было известно о том, что в мае 1934‑го Н.И. Бухарин уже написал доклад о поэзии к предстоящему съезду советских писателей. Написал и представил свой труд на утверждение Сталину. Генсек одобрил написанное.
У Бухарина нет ссылок на Данте. В его докладе использованы более древние источники:
«Уже в старинной индийской поэзии имелось развитое учение Анандавардханы (X век до нашей эры) о двойном, „тайном „смысле поэтической речи. По этому учению — не может быть названа поэтической речь, слова которой употреблены только и исключительно в прямом, обычном смысле. Что бы ни изображала такая речь, она будет прозаической. Лишь тогда, когда она, через ряд ассоциаций, вызывает другие „картины, образы, чувства», когда «поэтические мысли сквозят, как бы просвечивают через слова поэта, а не высказываются им прямо“, — мы имеем истинную поэзию. Таково учение о „дхвани “, поэтическом намёке, скрытом смысле поэтической речи».
Все сведения о древнем учении «дхвани» Бухарин почерпнул (он прямо сказал об этом) из «Журнала министерства народного просвещения» (май 1902 г. Санкт‑Петербург), где была напечатана статья академика Ф. Щербатского «Теория поэзии в Индии». Труд этот послужил основой для выявления истинных (с бухаринской, точки зрения) мастеров советской поэзии:
«Таков Борис Пастернак, один из замечательнейших мастеров стиха в наше время…
Сельвинский — несомненно революционный, очень большой, настоящий и притом культурный мастер стиха».
Осипа Мандельштама в этом списке не было. Скорее всего, потому, что в руки вождей уже попало написанное им стихотворение.
Вот Сталин и спрашивал у «одного из замечательнейших мастеров стиха», является ли поэт, попавший в казематы Лубянки, «мастером». Иными словами, вождь хотел узнать, есть ли в манделыитамовских строчках какой‑то иной (не антисталинский, не антисоветский) смысл? Или в них — только то, что лежит на поверхности? (Об этом, видимо, говорил на допросах огепеушникам сам Осип Эмильевич).
Пастернак от прямого ответа уклонился. И тем самым невольно «сдал» Мандельштама безжалостной власти. Автора стихов о кремлёвском горце приговорили к высылке в Воронеж.
1 июня в дневнике Елены Сергеевны появилась очередная запись:
«Была у нас Ахматова. Приехала хлопотать об Осипе Мандельштаме — он в ссылке».
«Хлопоты» Анны Андреевны Ахматовой были денежные. Впоследствии она напишет в «Листках из дневника», что жене Мандельштама позвонили и сказали: если она хочет сопровождать мужа в ссылку, пусть приходит на Казанский вокзал тогда‑то и туда‑то. Вот две женщины и пошли…
«… пошли собирать деньги на отъезд. Давали много. Елена Сергеевна Булгакова заплакала и сунула мне в руку всё содержимое сумочки».
В той же дневниковой записи (от 1 июня) Елена Сергеевна вновь тревожилась о здоровье мужа:
«М[ихаил] А[фанасьевич] чувствует себя ужасно — страх смерти, одиночества. Всё время, когда можно, лежит».
Вызвали врача:
«Нашёл у него сильное переутомление. Сердце в порядке».
С этого момента Булгаков перестал выходить из дома один — ему было страшно.
Что же касается заграничных паспортов, то в них в конце концов отказали. И с этим тоже пришлось смириться.
Жизнь продолжается
2 июня 1934 года в дневнике Елены Сергеевны появилась не совсем обычная запись. В тот день вечером Булгаковы пришли в гости к Павлу Сергеевичу Попову (они его называли Патей). Ещё накануне Михаил Афанасьевич жутко страдал от «переутомления», а тут вдруг все хворобы как рукой сняло:
«М[ихаил] А[фанасьевич] и Патя выдумали игру: при здоровании или прощании успеть поцеловать другому руку — неожиданно. Сегодня успел Патя. Веселятся при этом, как маленькие».
Тем временем театральные друзья предприняли ещё одну попытку добыть Булгаковым заграничные паспорта, включив супругов в список выезжавших за рубеж мхатовских актёров. Паспорта обещали выдать 7 июня.
Елена Сергеевна записывала в дневник:
«Седьмого июня мы ждали в МХАТе вместе с другими Ивана Сергеевича, который поехал за паспортами. Он вернулся с целой грудой их…»
Далее — отрывок из письма Булгакова Вересаеву (от 11 июля 1934 года), в нём тоже рассказывается об Иване Сергеевиче, которого с таким нетерпением все ожидали:
«Физиономия мне его сразу настолько не понравилась, что не успел он ещё рта раскрыть, как я уже взялся за сердце.
Словом, он привёз паспорта всем, а мне беленькую бумажку — М.А. Булгакову отказано.
Об Елене Сергеевне даже и бумажки никакой не было. Очевидно, баба, Елизавет Воробей! О ней нечего и разговаривать!»
И снова — строки из дневника Елены Сергеевны:
«Мы вышли. На улице М[ихаилу] А[фанасьевичу] вскоре стало плохо, я с трудом довела его до аптеки. Ему дали капель, уложили на кушетку. Я вышла на улицу — нет ли такси? Не было, и только рядом с аптекой стояла машина и около неё Безыменский. Ни за что! Пошла обратно и вызвала машину по телефону.
У М[ихаила] А[фанасьевича] очень плохое состояние — опять страх смерти, одиночества, пространства».
10 июня, когда Булгаков немного пришёл в себя, он написал письмо Сталину Подробно пересказав всю историю с паспортами, в финале письма сообщил:
«… я попал в тягостное, смешное, не по возрасту положение. Обида, нанесённая мне в ИНО Мособлисполкома, тем серьёзна, что моя четырёхлетняя служба в МХАТ для неё никаких оснований не даёт, почему я и прошу Вас о заступничестве». Послание вождю Елена Сергеевна…
«… отнесла в ЦК. Ответа, конечно, не было».
К этому Булгаков тоже уже привык. Так и не дождавшись известий из Кремля, он вместе с женой уехал в Ленинград. По мхатовским делам. Оттуда сообщал (26 июня) Попову:
«После всего происшедшего не только я, но и хозяйка моя, к великому моему ужасу, расхворалась. Начались дьявольские мигрени, потом боль поползла дальше, бессонница и прочее. Обоим нам пришлось лечиться аккуратно и всерьёз. Каждый день нам делают электризацию. И вот мы начинаем становиться на ноги».
В Ленинграде состоялся 500 спектакль «Дней Турбиных». Булгаков с горечью сообщал Попову:
«Немирович прислал поздравление Театру. Повертев его в руках, я убедился, что там нет ни одной буквы, которая бы относилась к автору. Полагаю, что хороший топ требует того, чтобы автора не упоминать. Раньше этого не знал, но я, очевидно, недостаточно светский человек.
Одно досадно, что, не спрашивая меня, Театр послал ему благодарность, в том числе и от автора. Дорого бы дал, чтобы выдрать оттуда слово — автор».
20 июня Москва встречала героев челюскинцев, вызволенных из ледового плена. Всюду гремели торжественные марши, а во всех домах танцевали румбу, которая входила тогда в моду.
В числе героев мог быть и поэт Сельвинский. Мог, но, увы, не стал им. И он не находил себе места, коря себя за то, что прежде времени покинул ледокол. А тут ещё его пьесу «Рождение класса» сняли с всесоюзного конкурса. Из‑за того, что нашли в ней «колкие» подробности: главный герой, грузин по национальности, партийный работник, курит трубку, жена ласково называет его «вождик»…
А Булгаков в городе на Неве сочинял киносценарий. Об этом — в том же письме Попову:
«Я пишу „Мёртвые души“ для экрана и привезу с собой готовую вещь. Потом начнётся возня с „Блаженством“. Ох, много у меня работы! Но в голове бродит моя Маргарита и кот и полёты… Но я слаб и разбит ещё. Правда, с каждым днём я крепну.
Всё, что можно будет собрать в смысле силы за это лето, я соберу».
«Маргарита и кот» — это, как нетрудно догадаться, персонажи романа о дьяволе.
Свою комедию о полётах в «блаженное» коммунистическое будущее Булгаков попытался пристроить в Ленинграде. О том, что из этого вышло, — в письме Попову от 10 июля:
«С „Блаженством „здесь произошёл случай, выпадающий за грани реального.
Номер Астории. Я читаю. Директор театра, он же и постановщик, слушает, выражает полное и, по‑видимому, яе‑поддельиое восхищение, собирается ставить, сулит деньги и говорит, что через 40 минут придёт ужинать вместе со мной. Приходит через 40 минут, ужинает, о пьесе не говорит ни одного слова, а затем проваливается сквозь землю и более его пет!
Есть предположение, что он ушёл в четвёртое измерение.
Вот какие чудеса происходят на свете!»
Директором, о котором писал Булгаков, был В.Е. Вольф, руководивший Ленинградским Красным театром. Это он три года назад заказывал Михаилу Афанасьевичу пьесу «Адам и Ева».
На этот раз Вольф, конечно же, никуда не пропал, его просто арестовали. Сообщать об этом открытым текстом было, разумеется, нельзя, потому и «новость» передавалась в зашифрованном виде: дескать, человек «провалился сквозь землю», «ушёл в четвёртое измерение». Булгаков надеялся, что Павел Попов всё поймёт с полуслова.
Так что в своём «предположении» Булгаков оказался не совсем точным — Вольфа не арестовали. Арест произойдёт несколько позднее. Об этом речь впереди.
Итак, пристроить «Блаженство» в Ленинграде не удалось. Киносценарий по «Мёртвым душам» (это было уже после возвращения в Москву) тоже забраковали.
1 августа 1934 года Булгаков продиктовал Елене Сергеевне письмо — брату Николаю в Париж:
«Милый Никол!
Я нездоров, у меня нервное переутомление. Завтра я должен, примерно на неделю, уехать на дачу под Москвой, иначе не в состоянии буду дальше работать…
С чего ты взял, что я езжу отдыхать? Я уже забыл, когда я уезжал отдыхать! Вот уж несколько лет, что я провожу в Москве, и если уезжаю, то по делам (и прошлое лето, и это — в Ленинград, где шли «Турбины»). Я никогда не отдыхаю…»
В тот момент в парижском театре «Старая голубятня» начинали репетировать «Зойкину квартиру». И в письме брату Булгаков давал указания, как следует ставить ту или иную сцену:
«Если б я был в Париже, я показал бы сам все мизансцены… Но, увы! — судьба моя сложна …»
А в финале письма добавлял:
«Я не могу помногу писать, потому что начинаются головные боли».
15 августа Елена Сергеевна записывала в дневнике:
«Из Парижа прислали перевод „Зойкиной“. У М[ихаила] А[фанасьевича] волосы стали дыбом. Перевод‑то вообще недурной, но в монологи Аметистова переводчики самовольно вставили имена Ленина и Сталина в неподходящем контексте. М[ихаил] А[фанасьевич] послал тут же письмо с требованием вычеркнуть имена».
Вскоре произошло событие, которое литераторы страны Советов (до сих пор разобщённые друг от друга) ждали с большим нетерпением.
Сплочение разобщенных
1934‑ый стал годом объединения советских писателей в единый и монолитный Союз. Всё лето шла подготовка к проведению его первого съезда. О том, будет ли допущен Булгаков в эту когорту избранных, долгое время достоверных сведений не было. Елена Сергеевна записывала:
«Кстати, до сих пор неизвестно, принят ли М[ихаил]Афанасьевич] в Союз или нет.
Повестки изредка присылают. Стороной слышали, что сначала его не приняли, равно как и ещё кое‑кого. Но потом — приняли».
Съезд советских писателей торжественно открылся вечером 17 августа в Колонном зале Дома Союзов. Для участия в нём из‑за границы приехал Алексей Максимович Горький.
Фамилии Булгакова среди делегатов съезда не было. На заседания он тоже не ходил, узнавая все новости из газет.
С большим вниманием всеми был встречен доклад Бухарина, который назывался «Поэзия, поэтика и задачи поэтического творчества в СССР». Особенно привлекло в нём неожиданное толкование понятия «мастер».
О том, что происходило на съезде, охотно рассказывал и «старый» знакомец, вновь (как непременное приложение ко всем значительным событиям) объявившийся в августе. Елена Сергеевна тотчас отметила:
«Часов в десять вечера — Жуховицкий и Вельс — американский режиссёр, ставивший в Нью‑Хевене в Йельском университетском театре „Дни Турбиных“ в марте этого года».
А Булгаков по‑прежнему чувствовал себя неважно. 25 августа Елена Сергеевна записала:
«М[ихаил] А[фанасьевич] всё ещё боится ходить один. Проводила его до театра, потом — зашла за ним».
В те дни Художественный театр готовился к важному событию — к встрече с долго отсутствовавшим Станиславским. Среди приглашённых на это торжественное мероприятие был и драматург Афиногенов:
«Разговор с Афиногеновым.
— Мих[аил]Аф[аиасьевич], почему вы на съезде не бываете?
— Я толпы боюсь.
— А как вообще себя чувствуете?
М[ихаил] А[фанасьевич] рассказал о случае с паспортами.
Афиногенов:
— Как бы вас заполучить ко мне?
— Нет, уж лучше вы ко мне. Я постоянно лежу».
Утром 27 августа на 16‑ом заседании писательского съезда началось обсуждение вопросов драматургии. Основной доклад сделал В.Я. Кирпотин, содоклады — Н.Ф. Погодин, В.М. Киршон и А.Н. Толстой. В прениях выступили Таиров, Билль‑Белоцерковский, Ромашов, Афиногенов, Лавренёв, Тренёв, Корнейчук. Было сказано много слов о драматургии и драматургах. Но ещё больше говорилось о Сталине. Так, Афиногенов заявил:
«Вождь нашей партии товарищ Сталин назвал писателей „инженерами человеческих душ “. Это название — не только лозунг, не только декларация».
В числе драматургов, создавших произведения неудачные, был назван Илья Сельвинский. В кирпотинском докладе о нем говорилось следующее:
«Отвечающий всем требованиям затейливой техники западного искусства „Пао‑Пао“ Сельвинского не дошёл до читателя. Читатель не принял его, как не принял и театр. При этом простота оказалась много труднее, чем замысловатая сложность, основанная на формалистическом приёме, на так называемом „отстранении “».
В 1934‑ом эти слова воспринимались как обычное критическое замечание в адрес пьесы, которая не удалась. Но нам, знающим, как развивались события дальше, понятно, что в своём докладе генерал от литературы Кирпотин произвёл как бы один из первых пробных выстрелов по «формализму». Массированный «отстрел» писателей‑формалистов был уже не за горами.
Булгаков на съезде не упоминался вообще. Лишь Николай Погодин, доложив делегатам, какие замечательные сюжеты дают писателям перековывающиеся строители Беломорканала и герои челюскинцы, вдруг спросил:
«Почему до сих нор не нашей сцене не показали настоящего классового врага в образе белогвардейских офицеров, белой армии, и остаются только „Дни Турбиных“?»
И это всё! Писательский съезд старательно делал вид, что в стране Советов такого драматурга как Михаил Булгаков не существует.
Но такой драматург существовал. И его продолжали одолевать новые творческие идеи. Елена Сергеевна записывала:
«У М[ихаила] А[фанасьевича] возник план пьесы о Пушкине. Только он считает необходимым пригласить Вересаева для разработки материала. М[ихаил] А[фанасьевич] испытывает к нему благодарность за то, что тот в тяжёлое время сам приехал к М[ихаилу] А[фанасьевичу] и предложил в долг денег. М[ихаил] А[фанасьевич] хочет этим как бы отблагодарить его, а я чувствую, что ничего хорошего не получится. Нет ничего хуже, когда двое работают».
Возникновение «Мастера»
В самом конце лета 1934 года Булгаковых пригласил в гости американский режиссёр Вельс, к которому приехали некоторые его соотечественники, участвовавшие в заокеанской версии «Дней Турбиных». В дневнике Елены Сергеевны появилась запись:
«Жуховицкий — он, конечно, присутствовал — истязал М[ихайла] А[фанасьевича], чтобы он написал декларативное заявление, что он принимает большевизм…
Ох, Жуховицкий!»
2 сентября во МХАТе давали «Дни Турбиных». На спектакль пришли представители американского посольства во главе с послом Буллитом:
«Во втором ряду — Буллит с дочкой… В партере же — Жуховицкий…
Буллит подошёл к нам. Он сказал, что смотрит пьесу в пятый раз, всячески хвалил её…
После спектакля — настойчивое приглашение Жуховицкого ужинать у него».
Через несколько дней по дороге в театр Булгаков встретил на улице мхатовского режиссёра И.Я. Судакова. Поговорили на ходу. Дома Михаил Афанасьевич рассказал об этой встрече жене, и та занесла в дневник поразившие обоих странно‑непонятные слова Ильи Яковлевича:
«Вы знаете, М[ихаил] А[фанасьевич], положение с „Бегом “ очень и очень неплохое. Говорят — ставьте. Очень одобряют и Иосиф Виссарионович и Авель Сафронович. Вот только бы Бубнов не стал мешать (?!)».
Вопросительный и восклицательный знаки, поставленные Еленой Сергеевной в конце высказывания Судакова, свидетельствуют об охватившем Булгаковых недоумении: если постановку одобряют Сталин и Енукидзе, как может ей помешать Бубнов, являвшийся всего лишь наркомом просвещения?
Вечером 9 сентября у Булгаковых собрались гости:
«… московские Турбины, американские Турбины, Жуховицкий, конечно…»
12 сентября:
«Вечером Жуховицкий — просит какие‑то сведения о М[ихаиле] А[фанасьевиче] для Вельса. Вельс хочет писать статью о Булгакове — в Америке».
А через три дня произошло событие, которое с полным правом можно назвать вехой в булгаковском творчестве: в романе о дьяволе был переименован герой.
Судя по всему, Михаил Афанасьевич много размышлял над бухаринским докладом о поэзии. Ведь главный герой его романа тоже именовался «поэтом». И вот 15 сентября 1934 года этот безымянный герой потерял свой поэтический статус. К нему впервые обратились как к «мастеру». А это (согласно древнеиндийскому учению о «дхвапи») означало, что отныне всё, что напишет булгаковский «мастер», будет заключать в себе двойной, тайный смысл.
Как и в докладе Бухарина, мастер в романе о дьяволе писался с маленькой буквы.
А самочувствие и настроение у Булгакова всё никак не улучшались. И 16 сентября…
«… до семи часов утра разговор — всё на одну и ту же тему — положение М[ихаила] А[фанасьевича]».
А тут ещё осложнились отношения Е.А. Шиловского с молодой графиней Марианной. В дневнике Елены Сергеевны появилась запись:
«20 сентября.
Днём долго гуляли с Марианной Толстой. Она мне рассказывала все свои беды, про свою несчастную любовь к Е[вгению] А[лександровичу]. Просила совета».
13 октября помощь потребовалась уже Михаилу Булгакову — обострились прежние недуги:
«У М[ихаила] А[фанасьевича]плохо с нервами. Боязнь пространства, одиночества. Думает — не обратиться ли к гипнозу».
15 октября:
«Нервы у М[ихаила] А[фанасьевича] расстроены, но когда мы идём вместе, он спасается тем, что рассказывает что‑нибудь смешное».
18 октября:
«Днём были у В.В.Вересаева. М[ихаил] А[фанасьевич] пошёл туда с предложением писать вместе с В[икентием] В [икентьевичем] пьесу о Пушкине, то есть чтобы В[икентий] В[икентьевич] подбирал материал, и М[ихаил] А[фанасьевич] писал…
Старик был очень тронут…обнял М[ихаила] Афанасьевича].
Сначала В[икентий] В[икентьевич] был ошеломлён — что М[ихаил] А[фанасьевич] решил пьесу писать без Пушкина (иначе будет вульгарной) — но, подумав, согласился».
20 октября 1935 года Булгаковы купили рояль. А в тетради, специально заведённой для внесения дополнений к роману о дьяволе, появилась фраза, похожая на клятву:
«Дописать прежде, чем умереть».
После гипнотических сеансов, проведённых доктором С.М. Бергом, стали заметны первые результаты лечения:
«После гипноза у М[ихаил] А[фанасьевич] начинают исчезать припадки страха, настроение ровное, бодрое и хорошая работоспособность. Теперь если бы он мог ещё ходить один».
Запись от 21 ноября:
«„Бег“ не разрешили. М[ихаил] А[фанасьевич] принял это с полнейшим спокойствием».
В тот же вечер во время очередного сеанса гипноза доктор Берг…
«… внушал М[ихаилу] Афанасьевичу], что завтра он пойдёт один к Леонтьевым».
26 ноября позвонил Жуховицкий и бесцеремонно спросил: «Что вам пишут из Парижа?»
Зато на следующий день…
«В десять вечера М[ихаил] А[фанасьевич] поднялся, оделся и пошёл один к Леонтьевым. Полгода он не ходил один».
29 ноября все центральные газеты сообщили об отмене хлебных карточек.
А Елена Сергеевна записывала в дневнике:
«… вчера на „Турбиных“ были генеральный секретарь, Киров и Жданов… Яншин говорил, что играли хорошо, и что генеральный секретарь аплодировал много в конце спектакля».
Для Кирова это был последний в жизни театральный спектакль. Как известно, через два дня, 1 декабря, Сергей Миронович был застрелен в Смольном.
И сразу всколыхнулась вся страна. Повсеместно проходившие митинги с требованиями найти и наказать виновных, подхлёстывались статьями писателей и поэтов, которые требовали расстрела всех, причастных к убийству.
4 декабря на второй странице многотиражки «Красный вагончик» (московского вагоноремонтного завода имени Войтовича) были напечатаны стихи под названием «На чеку»:
С призывом прикрыть своими телами вождей к ремонтникам вагонов обращался поэт Илья Сельвинский.
Однако в дневнике Елены Булгаковой те тревожные декабрьские события следов почти не оставили. Зато 9 числа появилась радостная запись о том, что наконец‑то свалилась тяжкая ноша:
«Днём — к Вересаеву, отнесли ему, с великим облегчением, последнюю тысячу долга».
31 декабря на страницы дневника легли итоговые фразы уходившего года:
«Кончается год.
Господи, только бы и дальше было так!»
В окружении «знакомцев»
В начале наступившего 1935 года Булгаков приступил к сочинению пьесы об Александре Пушкине. Лечение гипнозом продолжалось, самочувствие становилось лучше, и 12 февраля Елена Сергеевна записала:
«Днём ходили с М[ихаилом] А[фанасьевичем] на лыжах, по Москве‑реке».
А через три дня вновь объявился знакомец, чья загадочная «странность» давно уже не удивляла Булгаковых:
«Вечером был Жуховицкий. Вечный острый разговор на одну и ту же тему — о судьбе М[ихаила] А[фанасьевича].
— Вы должны высказаться… Должны показать своё отношение к современности…
— Сыграем вничью. Высказываться не буду. Пусть меня оставят в покое».
23 февраля доктор Берг написал своему пациенту:
«Бесконечно рад, что Вы вполне здоровы, иначе и быть, впрочем, не могло — у Вас такие фонды, такие данные для абсолютного и прочного здоровья!»
Оптимистично настроенный врач, конечно же, не знал, что жить его пациенту осталось совсем немного — всего четыре года. И что никакой гипноз не в силах отодвинуть страшную роковую дату А Михаил Булгаков не забывал об этом никогда и потому всё чаще впадал в уныние.
Но когда в начале марта неожиданно прислал письмо друг детства и юности Александр Петрович Гдешинский, связь с которым была утеряна, Булгаков тотчас откликнулся, не без юмора сообщив о себе:
«Жену мою зовут Елена Сергеевна. И живём мы втроём: она, я и 8‑летний Сергей, мой пасынок, — личность высоко интересная. Бандит с оловянным пистолетом и учится на рояле».
Но наступившая весна не радовала. 14 марта Булгаков признавался в письме Павлу Попову:
«А за окном, увы, весна. То косо налетит снежок, то нет его, и солнце на обеденном столе. Что принесёт весна?
Слышу, слышу голос в себе — ничего!»
Для подобного пессимизма были все основания. Дело в том, что репетировавшегося «Мольера» показали Станиславскому. Вот записи из дневника Елена Сергеевны. 5 марта:
«Тяжёлая репетиция у Миши… Пришёл разбитый и взбешённый. Станиславский, вместо того чтобы разбирать игру актёров, стал при актёрах разбирать пьесу».
В том же письме Попову (от 14 марта):
«В присутствии актёров (на пятом году!) он стал мне рассказывать о том, что Мольер гений и как этого гения надо описывать в пьесе.
Актёры хищно обрадовались и стали просить увеличивать им роли.
Мною овладела ярость. Опьянило желание бросить тетрадь, сказать всем: пишите вы сами про гениев и про негениев, а меня не учите, я всё равно не сумею. Я буду лучше играть за вас. Но нельзя, нельзя это сделать! Задавил в себе это, стал защищаться…
Ох, до чего плохо некоторые играют. И в особенности из дам К. И ничего с ней поделать нельзя».
Это письмо дополняет запись из дневника Елены Сергеевны:
«М[ихаил] А[фанасьевич] приходит с репетиций у К. С. измученный. К.С. занимается с актёрами педагогическими этюдами. М[ихаил] А[фанасьевич] взбешён — никакой системы нет и не может быть. Нельзя заставить плохого актёра играть хорошо.
Потом развлекает себя и меня показом, как играет Коренева Мадлену. Надевает мою ночную рубашку, становится на колени и бьёт лбом о пол (сцена в соборе)».
Да, с Булгаковым соскучиться было трудно. Даже «измученный» и «взбешённый», он устраивал дома такие представления, которых ни на одной сцене не увидишь.
А 29 марта пришла неожиданная весть:
«… принесли пакет из американского посольства. Приглашает нас посол на 23 апреля. Приписка внизу золотообрезного картона: фрак или чёрный пиджак.
Надо будет заказать М[ихаилу] А[фанасьевичу] чёрный костюм, у него нет. Какой уж фрак».
11 апреля — очередное явление старого знакомца:
«Утром позвонил Жуховицкий. Когда мы можем назначить день — Боолену (секретарю посла) очень хочется пригласить нас обедать. М[ихаил] А[фанасьевич] вместо ответа пригласил Боолена, Тейера (тоже секретарь) и Жуховицкого к нам сегодня вечером…»
Приглашённые пришли:
«М[ихаил[А[фанасьевич] показал свои фотографии и сказал, что подаёт прошение о заграничных паспортах. Жуховицкий подавился…
Боолен хочет вместе с Жуховицким переводить на английский язык „Зойкину квартиру“».
19 апреля — новая встреча с американцами:
«Обедали у Боолена. Были ещё какие‑то американцы из посольства, Жуховицкий…
На прощание пригласили американцев к себе».
Тем временем к Булгаковым зачастил ещё один «странный» посетитель — молодой актёр Григорий Конский. Во МХАТе у него была общая с Михаилом Афанасьевичем гримёрная. Узнав о намерении драматурга и его жены посетить американское посольство, Конский очень оживился. 9 апреля Елена Сергеевна записала:
«Гриша сказал, что он непременно придёт отправлять нас на посольский вечер, хочет видеть, как всё это будет. Очень заинтересован, почему пригласили».
14 апреля Булгаков сообщал брату в Париж:
«На днях я подаю прошение о разрешении мне заграничной поездки, стараюсь приноровить её к началу осени (август‑сентябрь, октябрь, примерно)».
Один из упомянутых осенних месяцев был отмечен и в небольшой статье, опубликованной в газетах 20 апреля. Её подписали А.М. Горький и ответственный секретарь правления Союза писателей СССР А.С. Щербаков. Литераторы страны Советов призывались к созданию произведений, посвящённых приближавшемуся 20‑летию Октябрьской революции.
Наступил день приёма в американском посольстве, куда была приглашена вся интеллектуальная и политическая элита Москвы:
«Бал у американского посла. М[ихаил] А[фанасьевич] в чёрном костюме… Все во фраках, было только несколько смокингов и пиджаков.
Афиногенов в пиджаке, почему‑то с палкой. Берсенев с Гиацинтовой. Мейерхольд и Райх… Таиров с Коонен. Будённый, Тухачевский, Бухарин в старомодном сюртуке под руку с женой, тоже старомодной. Радек в каком‑то туристском костюме. Бубнов в защитной форме…
Хотели уехать часа в три, американцы не пустили… Около шести мы сели в их посольский кадиллак и поехали домой. Привезла домой громадный букет тюльпанов от Боолена».
Секретарь американского посла Чарльз Боолен (кстати, неплохо говоривший по‑русски) попросил экземпляр «Зойкиной квартиры» для перевода на английский язык. Он стал часто захаживать в гости к Булгаковым, приглашал их в посольство на просмотры фильмов:
«29 апреля.
У нас вечером — жена советника Уайли, Боолен, Тейер, Дюброу и ещё один американец, приятель Боолена, из Риги. Боолен просил разрешения привезти его. И, конечно, Жуховицкий…
Боолен ещё раз попросил дать им „Зойкину“ для перевода на английский. М[ихаил] А[фанасьевич] дал первый акт пока и взял с Жуховицкого расписку в том, что Жуховицкий берёт на себя хлопоты для получения разрешения в соответствующих органах СССР на отправку их за границу».
1 мая — ответный визит: Боолен повёз Михаила Афанасьевича и Елену Сергеевну на вечер к Уайли, советнику посла:
«У Уайли было человек тридцать. Среди них — весёлый турецкий посол, какой‑то французский писатель, только что прилетевший в Союз, и, конечно, барон Штейгер — непременная принадлежность таких вечеров, «наше домашнее ГПУ», как зовёт его, говорят, жена Бубнова.
Были и все наши знакомые секретари Буллита. Шампанское, виски, коньяк… Писатель, оказавшийся кроме того и лётчиком, рассказывал о своих полётах. А потом показывал и очень ловко — карточные фокусы».
«Какой‑то французский писатель» звался Антуаном и носил аристократическую фамилию, которая тогдашним советским людям ровным счётом ничего не говорила: де Сент Экзюпери. Целый вечер два великих писателя провели вместе, и разошлись, так и не поняв, кто есть кто. Только и остались в памяти у Булгаковых рассказы о полётах да ловкие карточные фокусы. Днём 2 мая опять объявился Жуховицкий:
«… принёс перевод договора с Фишером насчёт Англии и Америки на „Дни Турбиных“. Он, конечно, советует Америку исключить. Плохо отзывался о Штейгере».
На следующий день «странный» знакомый позвонил по телефону с не менее странным вопросом:
«— Не знаете, где Боолен?»
13 мая Булгаков написал брату Николаю в Париж:
«Сообщаю тебе, что, с моего разрешения, переводчик, Эммануил Львович Жуховицкий (Москва) совместно с Чарльзом Боолен, Charles Bohlen, секретарём Посольства Соединённых Штатов в Москве, обратившийся ко мне с просьбой перевести „Зойкину квартиру“ на английский язык, эту пьесу на английский язык перевели…
Заявление своё о заграничной моей поездке ещё не подавал, но оно будет подано».
18 мая 1935 года во время демонстрационного полёта, столкнувшись с истребителем сопровождения, потерпел катастрофу многомоторный самолёт «Максим Горький». В дневнике драматурга Афиногенова появилась запись:
«Горький пережил смерть сына и самолёта своего имени. Длинной жизни старик».
23 мая газета «Известия» опубликовали статью, в которой, в частности, говорилось:
«Преступное молодечество послужило причиной гибели отличных людей, чья трудовая энергия могла бы дать родине ещё много ценного…
Долой фокусников дела и слова!
… бессмысленному молодечеству — позор!
М. Горький»
А Булгаков продолжал интенсивно работать над пьесой о Пушкине. 29 мая первый «вариант» её был завершён, что и было зафиксировано в дневнике Елены Сергеевны:
«Пишу — вариант, так как М[ихаил] А[фанасьевич] сам находит, что не совсем готово.
Пришёл Вересаев и взял экземпляр с тем, чтобы завтра вечером придти обсуждать».
На следующий день состоялось чтение написанной пьесы, на котором присутствовала оба сына Елены Сергеевны, её сестра, а также…
«… Дмитриев, Жуховицкий, Ермолинские, Конский, Яншин…»
Упомянутый Еленой Сергеевной Дмитриев — это ещё один «знакомец». Он работал во МХАТе художником, а по совместительству… принялся регулярно навещать Булгаковых.
Кстати, Михаил Афанасьевич дружил со многими мхатовцами, с тем же Борисом Ливановым, например. Но почему‑то никто из этих настоящих друзей не попал на страницы дневника Елены Сергеевны. Зато невероятная назойливость странных «знакомцев» оказалась увековеченной.
4 июня было наконец‑то подано прошение о заграничной визе. И сразу же (по каким‑то необъяснимым причинам) в дневнике Елены Сергеевны надолго исчезают какие бы то ни было упоминания о Жуховицком.
Зато уже через три недели Булгаков сообщал Вересаеву: «Я пребываю то на даче, то в городе…
В заграничной поездке мне отказали (Вы, конечно, всплеснёте руками от изумления!), и я очутился вместо Сены на Клязьме. Ну что же, это тоже река…»
Невезучие пьесы
Летом 1935 года литераторы страны Советов принялись дружно выполнять социальный заказ, который Горький и Щербаков дали им ещё в апреле: создать нетленные произведения, посвящённые 20‑летию Октября.
28 июня поэт Илья Сельвинский записал на листке домашнего календаря:
«Я знаю себе цену! Я единственный в стране поэт, который разрешает себе всё. За это меня и бьют. Пусть бьют! Мы ещё посмотрим, чья возьмёт!».
И он сел за переделку своей пьесы «Рождение класса», которую сняли с Всесоюзного конкурса. Поскольку в пьесе рассказывалось о том, как отсталый северный народ (чукчи) приобщается к социализму, она вполне могла считаться произведением, посвящённым XX Октября. Новый (исправленный) вариант получил название «Умка — Белый Медведь» и был передан для постановки в московский театр Революции.
Роман, посвящённый славному октябрьскому юбилею и получивший название «Созревание плодов», написал и Борис Пильняк. Впрочем, и в этой книге автор продолжал шокировать читателей неожиданными сюрпризами. Так, он вдруг (явно с затаённой улыбкой) начинал делиться с читателями неожиданной (и весьма смелой по тем временам) мыслью:
«Я, например, считаю, что ГПУ существует мне на пользу, чтобы мне удобнее жить. Если мне надо узнать человека, я начинаю безразличный разговор, так, мол, и так, было ГПУ, а теперь уничтожено, теперь НКВД, я раньше было ВЧК. Если человек боится ГПУ! — значит — человек липовый. Я примечал: кто боится, тот садится».
И тут же рядом — уже не ёрничанье, а признание, явно идущее из глубины души:
«… как они мне все надоели — большевики — весь этот сивый бред, всё это скудоумие! Как меня тошнит от них!».
Разумеется, эти слова произносил персонаж отрицательный. Но слова‑то всё равно произнесены. И напечатаны.
Среди написанных в том году произведений было по крайней мере одно, которое к октябрьским событиям не имело никакого отношения. 5 сентября 1935 года «Вечерняя Москва» сообщала:
«Драматург М.А. Булгаков закончил новую пьесу о Пушкине. Пьеса предназначается к постановке в театре им. Вахтангова».
Булгаковская пьеса тоже посвящалось приближавшемуся юбилею. Но не 20‑летнему, а 100‑летнему. Все события в ней разворачиваются в морозные январские дни, омрачённые дуэлью и смертью великого поэта.
Вскоре Главреперткомом дал разрешение на постановку.
Что же на этот раз вышло из‑под пера драматурга?
Ортодоксальные пушкиноведы осторожно называли эту пьесу сочинением «довольно поверхностным», тиражирующим расхожие домыслы и сплетни о поэте. А кое‑кто высказывал даже мнение, что речь в ней идёт вовсе не о Пушкине, а… о самом Булгакове.
Попробуем разобраться.
Есть в «Александре Пушкине» персонаж, который мгновенно приковывает к себе внимание. Он появляется в каждом действии. С него пьеса начинается, им и заканчивается. Это агент третьего отделения Степан Ильич Битков. Ему поручена слежка за Пушкиным. Вот одна из его реплик:
«БИТКОВ (выпивает, пьянеет). Да, стихи сочиняет… И из‑за тех стихов никому покоя, ни ему, ни начальству, ни мне… не было фортуны ему… как ни напишет, мимо попал, не туда, не те, не такие…»
Но разве была в жизни Пушкина такая чёрная полоса, когда про всё, написанное им, говорили: «мимо» и «не туда»! Не было такого. Напротив, Пушкиным постоянно восторгались, а стихи его печатали с неизменной радостью. Даже в годы ссылок, южной и михайловской.
Подвыпивший соглядатай явно имеет в виду не Александра Сергеевича. Зато его слова вполне подходят к Михаилу Афанасьевичу. Ведь если в монологе сыщика «стихи» заменить «пьесами», то получится фрагмент обычной антибулгаковской заметки — из числа тех, что драматург хранил в особой папке.
И вряд ли за Пушкиным следили так, как это описано у Булгакова. В те далёкие времена весь санкт‑петербургский свет состоял всего из сотни‑другой персон. Все были на виду — как на ладони. И не было никакой нужды агенту Виткову…
«БИТКОВ. А я за ним всюду, даже на извозчиках гонял. Он на извозчика, а я на другого — прыг! А он и не подозревает, потеха!»
Зато так вполне могли следить за самим Михаилом Булгаковым. Во всяком случае, именно так это ему и представлялось. Писал же он Вересаеву в уже цитировавшемся нами письме от 22 июля 1931 года:
«… я нахожусь под непрерывным и внимательнейшим наблюдением, при коем учитывается всякая моя строчка, мысль, фраза, шаг»
Иными словами, всё, что позволяла себе советская власть по отношению к Булгакову, было перенесено во времена пушкинские…
Женские образы тоже явно заимствованы не их пушкинских времён. Наталья Николаевна скорее напоминает Л.Е. Белозёрскую — у жены Пушкина и характер Любови Евгеньевны, и её запросы, и её лексикон. А Александра Гончарова, тайно влюблённая в прославленного поэта, очень похожа на Елену Сергеевну…
Вересаев, знавший пушкинскую эпоху достаточно хорошо, разумеется, не мог согласиться с булгаковской трактовкой отдельных личностей и событий XIX века. Он стал протестовать, спорить, пытаясь доказать, что нарисованные в пьесе картины не точны, а выведенные образы не соответствуют действительности… Но Булгаков твёрдо стоял на своём. И Викентий Викентьевич, махнул рукой. И соавтором «Александра Пушкина» считать себя отказался. Даже потребовал снять свою фамилию с титульного листа пьесы. Но споры от этого не утихли…
26 сентября 1935 года газеты сообщили об очередной победе социалистической системы: на восемнадцатом году советской власти отменялась карточная система.
А у Булгакова подоспел срок предоставления театру Сатиры нового варианта пьесы — «Блаженство». Она называлась теперь «Иваном Васильевичем». Весь театральный коллектив ждал её с большим нетерпением. Елена Сергеевна записывала в дневник:
«Миша волнуется, как её примет театр».
И вот актёры и режиссёры — в гостях у Булгакова:
«Радостный вечер. М[ихаил] А[фанасьевич] читал „Ивана Васильевича“ с бешеным успехом у нас в квартире. Хохотали все… Все радовались…»
17 октября — новая запись:
«Звонок из Реперткома в Сатиру…: пять человек в Реперткоме читали пьесу, всё искали, пет ли в ней чего подозрительного? Ничего не нашли. Замечательная фраза: „А нельзя ли, чтобы Иван Грозный сказал, что теперь лучше, чем тогда? “»
Через три дня Булгакова вновь посетили представители театра. Вместе с ними пришёл ответственный работник Главреперткома В.М.Млечин:
«Последний никак не может решиться — разрешить „Ивана Васильевича“. Сперва искал в пьесе вредную идею. Не найдя, расстроился от мысли, что в ней никакой идеи нет. Сказал: „Вот если бы такую комедию написал, скажем, Афиногенов, мы бы подняли на щит… Но Булгаков!“»
Что же смущало в пьесе бдительных реперткомовцев? Ведь, переделывая «блаженный» вариант, так испугавший многих, Булгаков многое изменил, старательно сгладил острые углы?
«Иван Васильевич»
Главный герой «Блаженства» инженер Евгений Рейн в «Иване Васильевиче» стал изобретателем Николаем Тимофеевым. Секретарь домоуправления Бунша‑Корецкий превратился в управдома. Зато криминальное прошлое вора‑домушника Юрия Милославского (автор переименовал его в Жоржа) получило политическую окраску. Вот что, к примеру, говорит он, увидев машину времени:
«МИЛОСЛАВСКИЙ. На двух каналах был, видел чудеса техники, но такого никогда!».
По этим словам современники Булгакова сразу понимали, что Жорж — из числа тех заключённых, которые строили Беломоро‑Балтийский канал и канал Москва‑Волга.
Контроль Бунши над «управляемым» им домом усилился. В каждой квартире управдомом установлены теперь радиорупоры, которые с раннего утра до позднего вечера транслируют пропагандистские передачи. Он негодует, когда жильцы отключают радиоточки:
«БУНША. Неимоверные усилия я затрачиваю на то, чтобы вносить культуру в наш дом. Я его радиофицировал, но они упорно не пользуются радио».
Этой управдомовской репликой Булгаков хлёстко высмеивал очередное «мероприятие» советской власти, пытавшейся (с помощью всесоюзной радиофикации) внедрять в сознание широких масс трескучую большевистскую идеологию.
Сохранился в «Иване Васильевиче» и намёк на загадочно «благородное» происхождение управдома:
«БУНША. Николай Иванович, вы не называйте меня князем, я уж доказал путём предоставления документов, что за год до моего рождения мой папа уехал за границу, и, таким образом, очевидно, что я сын нашего кучера Пантелея. Я и похож на Пантелея…»
«Княжеские» корни управдома по ходу пьесы всплывают ещё раз, когда в ответ на вопрос Ивана Грозного, не князь ли он, инженер Тимофеев заявляет:
«ТИМОФЕЕВ. Какой там князь! У нас один князь на всю Москву, и тот утверждает, что он сын кучера».
Сохранились свидетельства, что в те годы почти теми же словами (произнося их очень тихим шёпотом) говорили и про Сталина: «У нас в стране один князь, и тот утверждает, что он сын сапожника». Не из булгаковской ли пьесы полетела по стране эта фраза?
В третий раз речь о происхождении Бунши заходит тогда, когда он попадает во времена Ивана Грозного. Приняв рюмку — другую, управдом обращается к царскому дьяку.
«БУНША. Ты думаешь, уж не сын ли я какого‑нибудь кучера или кого‑нибудь в этом роде? Сознавайся!.. Какой там сын кучера? Это была хитрость с моей стороны. (Царице) Это я, уважаемая Марфа Васильевна, их разыгрывал. Что? Молчать!»
Ещё один штрих. Если в «Блаженстве» Буншу звали Святославом Владимировичем, то теперь он стал Иваном Васильевичем, и его инициалы — И.В. — стали поразительно точно совпадать (неужели тоже случайность?) со сталинскими: И.В.БУНША и И.В.ДЖУГАШвили.
Нельзя не заметить и другую булгаковскую подковырку. В «Блаженстве» супругу Бунши‑Корецкого зовут Лидией Васильевной, а в «Иване Васильевиче» — Ульяной Андреевной. Казалось бы, что тут особенного? Самое обычное женское имя — Ульяна. И какой криминал в том, что в пьесе несколько раз повторяют, будто Бунша находится под каблуком жены? Но вспомним, что в ту пору официальная пропаганда постоянно твердила, что Сталин — это Ленин (он же УЛЬЯНОВ) сегодня. Кто же, получается, находился под каблуком? И у кого?
Психическая неполноценность Бунши в «Иване Васильевиче» стала ещё заметнее:
«ТИМОФЕЕВ. Когда вы говорите, Иван Васильевич, такое впечатление, что вы бредите…
МИЛОСЛАВСКИЙ. Ой, дурак! Такие даже среди управдомов редко попадаются».
И всё это произносилось в 1935 году, в тот самый момент, когда подготовка знаменитых судебных процессов над «врагами народа» была уже в самом разгаре.
Литературоведам известна ещё одна редакция булгаковской комедии под названием «Сон инженера Матвеева». В ней, как нетрудно догадаться, главный герой носит фамилию Матвеев. В экземпляре пьесы, хранящемся в Центральном литературном архиве, есть аккуратные пометки красным карандашом. Это предложения театра, отметившего «сомнительные» места. Дескать, лучше самим изъять смущающие абзацы, чем ждать, когда того же самого потребуют курирующие органы.
Что же за «места» отметил театр? Вот некоторые из них:
«МАТВЕЕВ. Хотите, проникнем в будущее?
МИЛОСЛАВСКИЙ. Что‑то не хочется, гражданин учёный. Тамошний климат не по моему здоровью. Я начинаю кашлять от одного намёка на будущее. Нельзя ли лучше податься назад?».
В другом «сомнительном» эпизоде говорится о том, в чьих руках в стране Советов на самом деле находятся бразды правления:
«ИОАНН. О, боже мой, господи вседержитель.
МАТВЕЕВ. Оставьте в покое вседержителя. Здесь любой дворник имеет больше власти, чем он… Тише, тише!».
Даже лёгкая усмешка в адрес не очень богатых товарами тогдашних советских магазинов показалась театру чересчур крамольной:
«ИОАНН. Водку ключница делала?
МАТВЕЕВ. У нас тут на всех одна ключница… по прозвищу Гастроном.
ИОАНН. Немка что ли?
МАТВЕЕВ. Как вы отстали, Иван Васильевич! Разве теперь у немцев есть что‑нибудь похожее на «Гастроном»?».
А в реплике вора Милославского о порядках во времена Иоанна Грозного театр и вовсе усмотрел опасный намёк, вызывающий ненужные ассоциации:
«МИЛОСЛАВСКИЙ. Мне по душе здешнее общество. Надеюсь установить общую точку зрения по текущему вопросу. Правда, секиры эти. Манера у них сейчас — крушить, рубить. Ничего оригинального. Слепое подражание немецким фашистам».
Но вернёмся к «Ивану Васильевичу». Пьеса (как и её «блаженный» вариант) заканчивается арестом всех главных персонажей. Обратим внимание на самую последнюю реплику пьесы. Произносит её Жорж Милославский, укравший в палатах Иоанна Грозного драгоценную иконку с груди патриарха. Вор оправдывается:
«МИЛОСЛАВСКИЙ. А насчёт панагии, товарищи, вы не верьте — это мне патриарх подарил».
Буквы «п» в начале слов выделены нами. Буквы эти на сей раз обступают слова: «товарищи, вы не верьте — это мне патриарх…» Патриарх в переводе с греческого — праотец, то есть самый главный отец. В 30‑е годы самым главным отцом в стране Советов был вождь всех времён и народов. Вот, стало быть, кого Булгаков окружил буквами, так похожими на виселицы.
И, наконец, ещё одна булгаковская «шалость». Драматург отважился сравнивать Иосифа Сталина с кровавым властителем средневековой Руси Иваном Грозным. Подобную смелость (граничившую с невероятнейшей дерзостью) мог в ту пору позволить себе лишь тот, кому терять было уже нечего.
Но ведь Булгакову было что терять. И он на собственном горьком опыте давно уже убедился в том, что любое сопротивление большевикам бесполезно. И сам (в эпиграфе к «Адаму и Еве») предупреждал безрассудных «смельчаков», пытавшихся поднять руку на эту власть, что их ждёт неминуемая «смерть».
И всё же он не мог отказать себе в небольшом удовольствии — от души потешиться над большевистским тираном, всласть поиздеваться над ненавистным ему режимом. Иными словами, Булгаков продолжал мстить.
А был ли знаком с этой пьесой сам Иосиф Виссарионович? Документальных свидетельств на этот счёт вроде бы нет. И всё же трудно поверить в то, что «Ивана Васильевича» Сталин не читал. И, судя по всему, сравнение с грозным царём вождю понравилось…
Кто знает, не эта ли булгаковская пьеса, крепко запав в голову грозного генсека, натолкнула его через несколько лет на мысль предложить Сергею Эйзенштейну поставить исторический фильм о том далёком кровавом царствовании? Первая серия кинокартины «Иван Грозный» с помпой прошла по экранам страны, вторую серию запретили, третью даже не дали закончить. Слишком буквально понял кинорежиссёр ссылку вождя на «похожесть» времён и царствований. И чересчур скрупулёзно принялся «украшать» свой фильм эпизодами злодеяний самодержца.
Впрочем, в те времена «запрет» был не самым страшным наказанием.
Глава четвёртая Новые препятствия
Время запретов
В день восемнадцатой годовщины Великого Октября Булгаков вместе с мхатовцами ходил на демонстрацию. Елена Сергеевна отметила в дневнике:
«Видел на трибуне Сталина — в серой шинели, в фуражке».
А за неделю до этого (ночью 29 октября 1935 года) на квартире Михаила Афанасьевича раздался телефонный звонок. Звонили из театра Сатиры с радостным сообщением:
«— Иван Васильевич» разрешён! С небольшими поправками».
Сразу после ноябрьских торжеств состоялась первая репетиция.
А Булгаков в очередной раз вынужден был с горечью убедиться в том, что в поездках за рубеж отказывают только ему. Всем же остальным литераторам визиты за кордон не возбранялись. В самом деле, пока он сидел над переделками своей невезучей комедии, четверо советских поэтов (Сельвинский, Безыменский, Луговской и Кирсанов) отправилась за границу. Новый 1936 год счастливчики‑стихотворцы встречали в Париже.
Утешало одно — возможность повторения успеха сезона 1928‑29 годов, когда сразу в трёх театрах Москвы шли булгаковские пьесы. На этот раз зрителям предстояло увидеть «Мольера», «Александра Пушкина» и «Ивана Васильевича».
Вот почему, когда 28 января 1936 года в «Правде» появилась статья «Сумбур вместо музыки», Булгаков не воспринял её как грозную предвестницу надвигающейся бури. Он увидел в ней всего лишь обычный критический разбор, выражавший личное мнение отдельно взятого газетного рецензента, которому не понравилась опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Невезучего композитора пожалели, и Елена Сергеевна отметила в дневнике:
«Бедный Шостакович — каково ему теперь будет».
6 февраля в Политехническом музее состоялся вечер воспоминаний. Вернувшиеся из зарубежного вояжа поэты Безыменский, Кирсанов и Сельвинский делились впечатлениями.
А во МХАТе в тот же день начались официальные сдачи «Мольера». О них Елена Сергеевна записала (упомянув фамилии директора Художественного театра М.П. Аркадьева и театрального критика О.С. Литовского):
«Вчера, после многолетних мучений, была первая генеральная „Мольера“. Повышенное оживление на генералке, которое я очень люблю. У меня в памяти остался вестибюль, заполненный народом оживлённым, ждущим. Были: секретарь ЦИКа Акулов, Литовский и вновь назначенный директор театра Аркадьев… Аплодировали после каждой картины. Шумный успех по окончании пьесы. Миша ушёл, чтобы не выходить, но его извлекли из вестибюля и вывели на сцену… У многих мхатчиков, которые смотрели спектакль, мрачные физиономии. Явная зависть».
В тот же день «Правда» вышла с очередной разгромной статьёй — «Балетная фальшь». Речь снова шла о Шостаковиче и о его балете «Светлый ручей». И это событие Булгаковы восприняли как досадный прокол в работе отдельно взятого невезучего композитора. Елена Сергеевна сочувственно записала:
«Жаль Шостаковича…»
А 7 февраля в дневнике появилась и вовсе неожиданная запись:
«Миша окончательно решил писать пьесу о Сталине».
А что? Может, в самом деле, хватит занимать круговую оборону? Не пора ли встать во весь рост и пойти навстречу всем своим недругам, держа в руках, как оружие… нет, как щит, пьесу о вожде? У кого поднимется рука бросить камень в человека, создавшего такое произведение?..
Впрочем, это были всего лишь планы, мечты, намерения… От критиков Булгакова они не спасли. 11 февраля была опубликована статья Литовского (видимо, не зря Елена Сергеевна называла его «мерзавцем»). В дневнике появилась запись: «Сегодня в „Советском искусстве“ статья Литовского о „Мольере“. Злобой дышит».
Своё мнение (в письме Павлу Попову) высказал и Булгаков: «Сегодня в „Советском искусстве“ первая ласточка — рецензия Литовского. О пьесе отзывается неодобрительно, с большой, но по возможности сдерживаемой злобой…
Ивана Васильевича репетируют, но я давно не бывал в Сатире.
Об Александре Сергеевиче стараюсь не думать, и так велика нагрузка. Кажется, вахтанговцы начинают работать над ним. В МХТ он явно не пойдёт».
Предполагал ли тогда Булгаков, что «первая ласточка» в «Советском искусстве» предвещает шторм невероятной силы, и что очень скоро все газеты начнут дружно стирать в порошок и его самого и все его творения? Вряд ли. Для такого поворота событий, казалось, не было никаких оснований. Не случайно в тот же день, 11 февраля, Елена Сергеевна записала:
«Сегодня смотрел „Мольера“ секретарь Сталина Поскрёбышев… ему очень понравился спектакль…он говорил: „Надо непременно, чтобы И[осиф] В[иссарионович] посмотрел“».
Вскоре всюду со ссылкой на Всеволода Вишневского стали как высочайшую похвалу передавать слова вождя:
«Наша сила в том, что мы и Булгакова научили на нас работать».
То, что Сталин не забывал о нём, конечно же, радовало. Но в глубине души всё равно кошки скребли. Нехорошие предчувствия, одолевавшие Михаила Афанасьевича, попали и в уже приводившееся нами письмо П.С.Попову:
«Мне нездоровится, устал до того, что сейчас ничего делать не могу: сижу, курю и мечтаю о валенках. Но рассиживаться не приходится — вечером еду на спектакль (первый, закрытый)».
16 февраля Елена Сергеевна записала в дневнике:
«Итак, премьера „Мольера“ прошла. Сколько лет мы её ждали!..
Успех громадный. Занавес давали, по счёту за кулисами, двадцать три раза. Очень вызывали автора».
На следующий день супруги Булгаковы отправились к американцам — на официальный раут:
«Сегодня в 4.30 были по приглашению из посольства у американского посла…
Буллит, как всегда, очень любезен, расспрашивал о „Мольере “, просил его позвать на спектакль».
А газеты «Вечерняя Москва» и «За индустриализацию» напечатали о мхатовском спектакле резко отрицательные отзывы.
В ответ ли на эту критику или просто для того, чтобы оповестить всех, но 18 февраля в разговоре с директором МХАТа Булгаков внезапно заявил…
«… что единственная тема, которая его интересует для пьесы, это тема о Сталине».
Вне всяких сомнений содержание этого разговора тотчас стало известно всем, кому следует. И, прежде всего, конечно же, самому герою будущей пьесы.
21 февраля МХАТ посетил американский посол. Елена Сергеевна с радостью записала:
«Общественный просмотр „Мольера“. Был Буллит… необычайно хвалебно говорил о пьесе, о М[ихаиле] А[фанасьевиче] вообще, называл его мастером».
А в квартире Булгаковых (как первый признак одержанной победы) стал беспрестанно звонить телефон: знакомые, близкие и дальние, просили денег взаймы. 24 февраля Елена Сергеевна с горечью отмечала в дневнике:
«Теперь пойдут такие просьбы. А у нас долгу семнадцать тысяч и ни копейки на текущем счету — жили на авансы».
Напомнил о себе и МХАТ, потребовавший немедленно возвратить три тысячи рублей, потраченные на так и не поставленный «Бег». Елена Сергеевна не растерялась и заявила: «Покажите запрещение»! К счастью для Булгаковых нужной бумаги не нашли.
А ситуация в стране становилась всё тревожнее. 29 февраля «Правда» опубликовала статью «О мнимых заслугах и чрезмерных претензиях» (о МХАТе‑II). 1 марта — новая заметка: «О художниках‑пачкунах».
Елена Сергеевна с тревогой записывала 2 марта:
«В „Правде “ одна статья за другой, один за другим летят вверх тормашками».
Ровно через неделю грянул гром и над головой Булгакова.
Конец «Мольера»
Лишь много лет спустя стало известно, что инициатором очередного антибулгаковского выступления был Платон Керженцев, возглавлявший в ту пору Всесоюзный Комитет по делам искусств. Он‑то и подал в политбюро специально подготовленную справку, названную «О Мольере»:
«В чём был политический замысел автора?.. Он хотел в своей новой пьесе показать судьбу писателя, идеология которого идёт вразрез с политическим строем, пьесы которого запрещают.
В таком плане и трактуется Булгаковым эта «историческая» пьеса из жизни Мольера…
Несмотря на всю затушёванность намёков, политический смысл, который Булгаков вкладывает в своё произведение, достаточно ясен, хотя, может быть, большинство зрителей этих намёков и не заметит.
Он хочет вызвать у зрителя аналогию между положением писателя при диктатуре пролетариата и при „бессудной тирании „Людовика XIV».
Следует признать, что Керженцев во многом был прав. Ведь всё то, на что указывалось в его справке, автор «Мольера» и хотел сказать. И Платон Михайлович внёс предложение:
«Мои предложения. Побудить филиал МХАТа снять этот спектакль не путём формального его запрещения, а через сознательный отказ театра от этого спектакля, как ошибочного, уводящего их с линии социалистического реализма. Для этого поместить в „Правде“ резкую редакционную статью о „Мольере“ в духе этих моих замечаний и разобрать спектакль в других органах печати».
Иосифу Виссарионовичу идея понравилась, и он написал на справке:
«Молотову. По‑моему, т. Керженцев прав. Я за его предложение. И. Сталин».
9 марта газета «Правда» вышла с редакционной статьёй «Внешний блеск и фальшивое содержание». Под этим хлёстким названием стоял подзаголовок: «О пьесе М.Булгакова в филиале МХАТ». Читатели как бы сразу предупреждались, что речь пойдёт не о театральном спектакле, а о пьесе.
Дневниковая запись гласит:
«Когда прочитали, М[ихаил] А[фанасьевич] сказал: „Конец «Мольеру», конец «Ивану Васильевичу» “…
Днём пошли во МХАТ — „Мольера „сняли, завтра не пойдёт…
Вечером звонок…: „Надо Мише оправдываться письмом“. В чём?..
Не будет М[ихаил] А[фанасьевич] оправдываться. Не в чем ему оправдываться».
Удар по Булгакову был нанесён сокрушительный. Это и в самом деле означало конец, конец всему: планам, мечтам, надеждам.
Первым отреагировал на пришедшую беду телефон — он тотчас замолк. Автору отвергнутой властями пьесы звонить опасались.
10 марта к антибулгаковской кампании подключилась «Литературная газета», опубликовав статью «Реакционные домыслы М. Булгакова». На следующий день свой «камень» в «Мольера» бросило другое издание. Елена Сергеевна записала:
«В „Советском искусстве „сегодня „Мольер „назван убогой и лживой пьесой.
Как жить? Как дальше работать М[ихаилу] Афанасьевичу]?»
12 марта Булгаков сообщил Вересаеву:
«Удар очень серьёзен. По вчерашним моим сведениям, кроме „Мольера“, у меня снимут совсем готовую к выпуску в театре Сатиры комедию „Иван Васильевич“.
Дальнейшее мне неясно».
13 марта — новая запись в дневнике:
«Вечером Жуховицкий. На меня он произвёл окончательно мерзкое впечатление. Лжёт на каждом шагу, приезжает выспрашивать, и чувствую, что он причиняет вред. Его роль не оставляет сомнений».
И вдруг 15 марта телефон, молчавший в течение нескольких дней, внезапно зазвонил. Михаила Афанасьевича разыскивал Керженцев. Он пожелал непременно встретиться с драматургом. Булгаковы поехали:
«В новом здании в Охотном ряду, по пропускам, поднялись вверх. После некоторого ожидания М[ихаила] А[фанасьевича] пригласили в кабинет. Говорили они там часа полтора.
Керженцев критиковал „Мольера“ и „Пушкина“. Тут М[ихаил] А[фанасьевич] понял, что и „Пушкина“ снимут с репетиций…
Керженцев задал вопрос о будущих планах. М[ихаил] Афанасьевич] сказал о пьесе о Сталине…
Бессмысленная встреча».
Однако у этой «бессмыслицы» было весьма осмысленное продолжение — на следующий день в «Советском искусстве» появилась «скверная по тону заметка» о пьесе «Александр Пушкин».
Борьба с «измами»
В те дни нападкам подвергался не только Михаил Булгаков. Критический шквал обрушился на всех деятелей литературы и искусства. По творческим организациям и учреждениям страны весной 1936 года прокатилась волна шумных собраний. Позднее эту кампанию назовут борьбой с «формализмом» и «натурализмом».
Явка на те собрания была строго обязательной. И практически каждого, кто приходил на них, заставляли публично заявлять о своём отношении к чуждым социалистической идеологии «измам», так вовремя разоблачённым главной партийной газетой страны. Тех, кто был уличён в приверженности к «формализму» или «натурализму», заставляли каяться и решительно отрекаться от заблуждений.
Как известно, творческие люди обладают актёрскими способностями и ораторским мастерством. Поэтому участвовать в подобных витийствах, замешанных на громогласных саморазоблачениях, им было совсем не трудно. Прожив 19 лет при советской власти, люди давно уже поняли, чего от них хотят, и научились говорить то, что от них требовали. И когда в числе прочих заставили подняться на трибуну руководителя Камерного театра Александра Таирова (случилось это на дискуссии, организованной 22 марта ЦК профсоюзов работников искусств), прославленный режиссёр не растерялся.
«ТАИРОВ. Статьи „Правды“ для меня — это замечательно мощный призыв к движению вперёд нашего государства».
Вряд ли можно придумать фразу более точную и более обтекаемую, чем эта.
Булгаков на подобные собрания не ходил. Он посещал совсем иные мероприятия. Дневниковая запись от 28 марта:
«Были в 4.30 у Буллита. Американцы — и он тоже в том числе — были ещё милее, чем всегда.
Дочка норвежского посла говорила, что „Турбиных“ готовят в Норвегии и что они шли в Лондоне.
Другая — её сестра — говорила, что смотрела „Турбиных“ в Москве двадцать два раза».
А мрачная повседневность продолжала вселять в душу писателя чёрную тревогу. В начале апреля арестовали одного из близких друзей Булгакова Николая Лямина. Дали три года лагерей. С запретом (после отбывания срока) проживания в Москве. В 1941 его арестуют вновь. Так что в квартире Булгаковых Лямину будет суждено появиться лишь однажды.
А репетиции «Ивана Васильевича» в театре Сатиры тем временем продолжались. От Булгакова требовали всё новых и новых исправлений. И 5 апреля Елена Сергеевна записала в дневник свои сетования на режиссёра‑перестраховщика Горчакова:
«Несколько дней назад Театр сатиры пригласил для переговоров. Они хотят выпускать пьесу, по боятся неизвестно чего. Просили о поправках. Горчаков придумал бог знает что: ввести в комедию пионерку, положительную. М[ихаил] А[фанасьевич] наотрез отказался. Идти по этой дешёвой линии!
Заключили договор на аванс. Без этого нельзя было работать, в доме нет ни копейки. Всероскомдрам, конечно, немедленно отказался от выдачи денег.
А МХАТ замучил требованиями возврата денег по „Бегу“».
13 мая состоялась генеральная репетиция. Елена Сергеевна отметила:
«Генеральная без публики «Ивана Васильевича» (Иэто бывает — конечно, не у всех драматургов!)…
Немедленно после спектакля пьеса была запрещена».
Вновь запрещался не спектакль, а именно пьеса. Со сцены изгонялась не театральная трактовка, а драматургия, «булгаковщина». Вот почему, когда театр имени Вахтангова попросил слегка подправить «Александра Пушкина», драматург ответил решительным отказом.
А в НКВД полетела очередная агентурная сводка:
«Булгаков сейчас находится в очень подавленном состоянии (у него вновь усилилась его боязнь ходить по улице одному), хотя внешне он старается её скрыть… В разговорах о причинах снятия пьесы он всё время спрашивает: „Неужели это действительно плохая пьеса? “… Когда моя жена сказала ему, что, на его счастье, рецензенты обходят молчанием политический смысл его пьесы, он с притворной наивностью (намеренно) спросил: „А разве в «Мольере» есть политический смысл?“— и дальше этой темы не развивал».
Хотя имя автора этой агентурной сводки не разглашается, нетрудно догадаться, что это наш давний знакомец Э. Жуховицкий. Особенно выдают его следующие фразы письма по начальству:
«Также замалчивает Булгаков мои попытки уговорить его написать пьесу с безоговорочной советской позиции, хотя по моим наблюдениям вопрос этот для него самого уже не раз вставал, но ему не хватает какой‑то решимости или толчка. В театре ему предлагали написать декларативное письмо, но это он сделать боится, видимо, считая, что это „уронит“ его как независимого писателя и поставит на одну плоскость с «кающимися» и «подхалимствующими». Возможно, что тактичный разговор в Ц.К. партии мог бы побудить его сейчас отказаться от его постоянной темы — противопоставления свободного творчества писателя и насилия со стороны власти, темы, которой он в большей мере обязан своему провинциализму и оторванности от большого русла текущей жизни».
Наступил май, и Булгаков заключил со МХАТом договор на перевод пьесы Шекспира «Виндзорские проказницы». Мхатовцы просили, чтобы в пьесу были включены кое‑какие сюжетные линии из другой шекспировской пьесы — «Генрих IV».
Поступили предложения и от Большого театра — поработать для оперной сцены и даже перейти в штат ГАБТа. Булгаков задумался.
Тем временем МХАТ отправился на гастроли в Киев. По возвращении в Москву 14 июня 1936 года Булгаков написал Сергею Ермолинскому:
«Киев настолько ослепителен, что у меня родилось желание покинуть Москву, переселиться, чтобы дожить жизнь над Днепром.
Надо полагать, что это временная вспышка, порождённая сознанием безвыходности положения, сознанием, истерзавшем и Люсю и меня.
Интереснейшая реакция получилась, когда я сказал о своём проекте кое‑кому из МХАТа. У всех одинаково: взор диковатый, встревоженный; и полное неодобрение. Как будто я сказал что‑то даже неприличное. С большим интересом я наблюдал собеседников!
О гастролях писать не хочется, устал от театра. „Турбиных“ привезли и играют без петлюровской картины.
Марков сказал Люсе, что в прессе о „Турбиных“ решено не писать».
Елена Сергеевна уже в Москве запишет в дневнике:
«Когда сели в Киеве в поезд — я купила „Театр и драматургию“, где в передовой „Мольера“ называют „низкопробной фальшивкой “, и ещё несколько мерзостей, в том числе подлая выходка Мейерхольда по адресу М[ихаила] А[фанасьевича]».
В журнале «Театр и драматургия» приводились слова Мейерхольда о том, что МХАТ в «Мольере» «ухитрился протащить мейерхольдовщину… на идейно порочном материале», и что в театр Сатиры «пролез Булгаков».
16 июня к Булгакову вновь обратились с предложением о сотрудничестве с Большим театром. На этот раз речь шла о написании либретто оперы «Минин и Пожарский». Музыку должен был сочинять ленинградский композитор Борис Асафьев. Познакомившись с ним, Михаил Афанасьевич согласился. Запись Елены Сергеевны от 26 июля 1936 года:
«Завтра мы уезжаем из Москвы в Синоп под Сухуми. „Минин „закончен. Михаил Афанасьевич написал его ровно в месяц в дикую жару. Асафьеву либретто чрезвычайно понравилось. Он обещает немедленно начать писать музыку».
Вот что написал Булгакову сам композитор в июле 1936‑го: «Я искренне взволнован и всколыхнут Вашим либретто… Умоляю, не терзайте себя. Если б я знал, как Вас успокоить! Уверяю Вас, в моей жизни бывали «состояния», которые дают мне право сопереживать и сочувствовать Вам: ведь я тоже одиночка. Композиторы меня не признают… Музыковеды в большинстве случаев тоже. Но я знаю, что если бы только здоровья, — всё остальное я вырву из жизни. Поэтому, прежде всего, берегите себя и отдыхайте».
Однако отдыхать было некогда — время наступило такое.
Время расправ
Ещё в самом начале июня (4 числа) поэт Илья Сельвинский записал на листке настольного календаря:
О каких врагах шла речь в этом четверостишье, знал тогда каждый — в Москве вот‑вот должен был начаться судебный процесс по делу очередных подозреваемых в организации убийства Кирова. На этот раз на скамью подсудимых предстояло сесть Каменеву, Зиновьеву и их сподвижникам.
30 июля в календаре Сельвинского появилась новая заметка на память:
«Враги сами организуют в литературе разрушающую атмосферу, а потом сами подмётывают письма с воззваниями о том, что литература задыхается.
Сообщить на общемосковском совещании писателей».
«Совещания» московских писателей проходили в тот год особенно часто. Причём литераторы не столько «советовались» друг с другом, сколько давали компетентные рекомендации своим читателям, то есть всему населению страны. В этих рекомендациях речь шла о всё тех же «врагах народа». О них говорилось и в статье «Правды» от 21 августа. Статья называлась «Стереть с лица земли!». Её подписали Федин, Вишневский, Киршон, Пастернак, Леонов.
На состоявшемся в тот же день очередном общемосковском собрании писателей драматург Владимир Киршон призвал:
«Нам нужно врагов наших разоблачать и беспощадно уничтожать!»
Поэту Сельвинскому поручили сочинить резолюцию. Он сочинил её и сам же зачитал. В ней предлагалось наказать не только «левых», но и «правых»:
«Мы просим привлечь к суду бывших вождей правых. Никакой пощады провокаторам, бандитам и убийцам! Раздавить гадину!»
Завершая своё шумное мероприятие, писатели направили приветственное послание Генеральному комиссару государственной безопасности народному комиссару внутренних дел Генриху Ягоде:
«Советские писатели шлют НКВД — грозному мечу пролетарской диктатуры пламенный привет! Мы гордимся Вами, вашей верной и самоотверженной работой, без промаха разящей врага.
Мы обращаемся с требованием к суду во имя блага человечества применить к врагам народа высшую меру социальной защиты.
Федин, Павленко, Вишневский, Киршон, Пастернак, Сейфуллина».
25 августа московские литераторы провели ещё одно аналогичное собрание, на котором вновь требовали для подсудимых расстрела. А драматург Киршон даже пожалел о том, что…
«… не мы, а ГПУ арестовало писателя Эрдмана».
Многие «инженеры человеческих душ» предлагали использовать себя в качестве палачей расстрельщиков. Драматург Афиногенов заявил с трибуны:
«Этот факт физического уничтожения есть факт величайшего человеческого гуманизма. Расстрелять мерзавцев — это честь».
С Афиногеновым не согласились лишь очень немногие. К примеру, поэт Луговской:
«Я бы не хотел иметь эту честь. Но давайте ловить, а расстрелять уж сумеют!»
Заканчивая своё единодушно негодовавшее собрание, писатели приняли резолюцию, которая заканчивалась словами:
«Да здравствует Сталин! Смерть всем, кто посягнёт на его жизнь!»
5 сентября «Литературная газета» поместила стихотворение Александра Безыменского, в котором были полные гордости строки:
«Каждая пуля в Чека — моя,
каждую жертву и я убил!»
Вернувшись домой с одного их таких писательских собраний, драматург Афиногенов записал в дневнике услышанную в кулуарах историю, которая очень его поразила:
«Сын Всеволода] Иванова, 5 лет: „Если люди — от обезьяны, то первый человек от обезьяны — Ленин “».
Вся страна была в тот год взбудоражена. Все искали замаскировавшихся врагов. Всем хотелось прослыть героями.
Режиссёр Н.М. Горчаков (он ставил во МХАТе «Мольера», а в Сатире — «Ивана Васильевича») тоже не хотел оставаться в стороне. Ему казалось, что он‑то знает, что надо делать в данный момент.
Из дневника Елены Сергеевны:
«Конец пребывания в Синопе был испорчен Горчаковым. М[ихаил] А[фанасьевич] отказался переделывать „Мольера “… Затем произошёл разговор о „Виндзорских“, который переполнил чашу. Горчаков сказал, что М.А. Булгаков будет делать перевод впустую, если он, Горчаков, не будет давать указания, как перевести… М[ихаил] А[фанасьевич] бросил работу. С этим мы приехали в Москву».
В Москве к Булгакову вновь зачастили представители Большого театра.
9 сентября:
«Вечером — композитор Потоцкий и режиссёр из Большого Театра Шарашидзе… стали просить о новом либретто».
14 сентября:
«Поздно приехали Самосуд, Потоцкий и Шарашидзе… Самосуд говорит: „Ну, когда приедете писать договор, — завтра, послезавтра?“…М[ихаил] А[фанасьевич] говорит, что не знает, что делать, не придётся ли бросить МХАТ… Самосуд сказал: „Мы Вас возьмём на любую должность“».
На следующий день Булгаков написал заявление о своём отказе служить во МХАТе. Елена Сергеевна вспоминала впоследствии:
«М[ихаил] А[фанасьевич] говорил мне, что это письмо в МХАТ он написал с каким‑то даже сладострастием».
Булгаковы поехали в театр и «оставили письмо курьерше». Вересаеву Булгаков сообщил 2 октября:
«Из Художественного театра я ушёл. Мне тяжело работать там, где погубили „Мольера “. Договор на перевод „Виндзорских“ я выполнять отказался.
Тесно мне стало в проезде Художественного театра, довольно фокусничали со мной!»
Оперный театр
В конце сентября 1936 года Илья Сельвинский закончил самую объёмную свою поэму — «Челюскиниану», посвящённую рейду ставшего всемирно известным ледокола по Северному морскому пути. Особой своей удачей поэт считал строки о Сталине, которому была посвящена заключительная треть поэмы.
Для Булгакова начавшаяся осень была юбилейной: 5 октября исполнялось ровно десять лет со дня первого представления «Дней Турбиных».
А из МХАТа — ни звука. Словно там напрочь забыли об этом знаменательном событии. Юбилей «Турбиных» так и прошёл никем не отмеченный, ни один человек из Художественного театра не позвонил, не поздравил, не вспомнил. Елена Сергеевна записывала:
«М[ихаил] А[фанасьевич] настроен тяжело… Мучительные мысли у М[ихаила] А[фанасьевича] — ему нельзя работать».
Не радовали даже приятные новости из‑за рубежа:
«Звонил Уманский из Литературного агентства: „Мёртвые души“ куплены во все англоговорящие страны. «Турбины» проданы в Норвегию. Кроме того, „Турбины „пойдут в этом сезоне в Лондоне, — последнее он прочитал в заметке в одной английской газете».
Впрочем, очень скоро у Булгакова начался отсчёт «нового» этапа жизни: с октября он стал работать в Большом театре. Оперным либреттистом.
Все дела со МХАТом, казалось, были порваны окончательно. Но прошлое изредка всё же напоминало о себе. Так, позвонила сестра жены, Ольга Бокшанская, которая сообщила, что в мхатовской дирекции ведутся разговоры о возможном возобновлении «Мольера». В связи с этим 19 ноября Елена Сергеевна записала:
«Между прочим, я вспомнила, что вскоре после снятия „Мольера “… будто Сталин сказал: „Что это опять у Булгакова пьесу сняли? Жаль — талантливый автор “».
Весьма вероятно. Иначе трудно объяснить все эти разговоры и предложения возобновления».
17 октября пришла телеграмма из Ленинграда от Бориса Асафьева:
«Вчера шестнадцатого кончил нашу оперу».
Через месяц, 15 ноября, Елена Сергеевна записала:
«Были на „Бахчисарайском фонтане“. После спектакля М[ихаил] А[фанасьевич] остался на торжественный вечер. Самосуд предложил ему рассказать Керженцеву содержание „Минина“, и до половины третьего ночи в кабинете при ложе дирекции М[ихаил] А[фанасьевич] рассказывал Керженцеву не только „Минина“, но и „Чёрноеморе“».
Между тем театральная общественность опального драматурга не забывала, его вспоминали по любому поводу В частности, Булгаковым рассказали, что когда 16 ноября в Камерном театре громили спектакль по пьесе Демьяна Бедного «Богатыри», Керженцев, также принимавший участие в том «погроме», вспомнил и о Булгакове, заявив:
«„Багровый остров“ — это пасквиль на диктатуру пролетариата».
21 ноября коллектив Камерного театра продолжил дискуссию. О том, какие страсти кипели на том собрании, можно судить по дошедшей до наших дней стенограмме:
«ЧАПЛЫГИН. В 1927 году контрреволюционная троцкистско‑зиновьевская банда открыто выступила против партии. В это время Камерный театр ставит „Заговор равных“. В 1928 году — „Багровый остров“, где в очень нехорошей форме даётся наша советская действительность, где попугай кричит в клетке: „Пролетарии всех стран, соединяйтесь! “»…
ТЕНИН. Все театры страдают природой одних и тех же недостатков. Все эти „Мольеры“ в Художественном театре…»
Булгаковские произведения поминали всюду И везде — недобрым словом.
А двери американского посольства для Булгаковых были по‑прежнему распахнуты настежь, и супругов продолжали гостеприимно приглашать на приёмы и вечера.
И, конечно же, Михаил Афанасьевич и Елена Сергеевна стали завсегдатаями Большого театра — на оперы и балеты они ходили теперь постоянно.
Было ещё одно занятие, к которому относились со вниманием:
«Массируемся ежедневно, это помогает нашим нервам».
Кроме того:
«Разговариваем о своей страшной жизни, читаем газеты…»
В это время Евгений Шиловский, отыграв свадьбу, начинал новую жизнь с молодой женой Марианной. Единственное неудобство для новобрачных состояло в том, что жить приходилось как бы в коммуналке. Ведь когда Елена Сергеевна ушла к Булгакову, в шикарной квартире на Ржевском осталась её сестра Ольга Бокшанская. Да не одна, а вместе с мужем, актёром МХАТа Евгением Калужским. Марианна Толстая, привыкшая к просторным апартаментам отца, с подобной ситуацией мириться не захотела. И обстановка в квартире, где проживали две супружеские пары, начала обостряться.
28 ноября вместе с дирижёром А.Ш. Мелик‑Пашаевым Булгаков поехал в Ленинград — в свою первую командировку от Большого театра. Предстояло прослушать музыку, которую написал Асафьев.
Через три дня Елена Сергеевна записала:
«1/XII. Приехал. Ленинград произвёл на него самое удручающее впечатление… Единственным светлым моментом было слушание оперы. Асафьев, по словам М[ихаила] А[фанасьевича], играет необычайно сильно, выразительно… М[ихаилу] А[фанасьевичу] страшно понравилась и музыка и то, как Асафьев её исполнял».
Из города на Неве в Москву были доставлены и сюрпризы:
«М[ихаил] А[фанасьевич] привёз из Ленинграда в подарок Сергею смешные маски, и теперь сам их надевает».
Маски! Те самые маски, которыми раньше Булгаков наделял персонажей своих произведений, теперь вошли и в его дом. Они были привезены в подарок пасынку, но Михаил Афанасьевич с охотой примерял их на себя, шутил, дурачился. Это отвлекало от мрачных мыслей…
А когда приходили друзья, Булгаков и вовсе преображался. Много лет спустя в письме брату Александру Елена Сергеевна напишет:
«Он никогда не рассказывал анекдотов…, а всё смешное, что у него выскакивало, было с пылу, с жару, горяченькое! Только что в голову пришло! Или бывало, что какая‑нибудь удачная фраза, меткое прозвище так здорово входили в жизнь, что становились ходячими. По Москве ходят и до сих пор ходячие слова его…»
«Ходил» по Москве и очень смешной булгаковский рассказ, которым Михаил Афанасьевич любил веселить своих гостей, разыгрывая в лицах, как и почему появилась в «Правде» печальной памяти статья «Сумбур вместо музыки».
Начиналась эта анекдотичная история с заявления, что Сталин, оказывается, жить не мог без Булгакова. А тот однажды взял да уехал по делам в Киев. И вождь затосковал (его слова Михаил Афанасьевич произносил с грузинским акцентом): «— Эх, Михо, Михо!.. Уехал. Нет моего Михо! Что же мне делать, такая скука, просто ужас!.. В театр, что ли, сходить?.. Вот Жданов всё кричит — советская музыка, советская музыка!.. Надо будет в оперу сходить.
Начинает всех созывать по телефону.
— Ворошилов, ты? Что делаешь? Работаешь? Всё равно от твоей работы толку никакого нет. Ну, ну, не падай там! Приходи, в оперу поедем. Будённого захвати!
— Молотов, приходи сейчас, в оперу поедем!.. Микояна бери тоже!
— Каганович, бросай свои жидовские штучки, приходи, в оперу поедем…»
Прослушав оперу, Сталин собирал соратников в аванложе:
«— Так вот, товарищи, надо устроить коллегиальное совещание. (Все садятся.) Я не люблю давить на чужие мнения, я не буду говорить, что, по‑моему, это какофония, сумбур в музыке, а попрошу товарищей высказать совершенно самостоятельно свои мнения…»
Соратники, конечно же, единогласно поддерживали вождя. А на следующее утро в «Правде» и появлялась та страшная статья…
Сталин в этом рассказе добродушен и мил. Зато его соратники беспомощны и смешны. Булгаков от души потешался над ними. И эта весёлая история об очень печальном событии рассказывалась гостям, среди которых были и стукачи «битковы».
А в это время Осип Мандельштам писал руководству Союза писателей (из Воронежа, где отбывал срок ссылки):
«Нет имени тому, что происходит со мной. Я буквально физически погибаю. Становлюсь инвалидом. Очень ослабел. Избавьте меня от бродяжничества, избавьте от неприкрытого нищенства!»
В судьбу опального поэта писательские «генералы» вмешаться не рискнули. Времена наступили слишком опасные. Ведь даже Илья Сельвинский, без устали выступавший со стихами, которые славили советскую власть и ее вождей, получил в декабре 1936 года от Главреперткома уведомление об окончательном запрещении к постановке и публикации своей пьесы «Пао‑Пао». Где уж тут хлопотать о Мандельштаме, авторе жуткого антисталинского памфлета?
С Булгакова тоже глаз не спускали. В Центральном литературном архиве сохранилась записка, датированная 25 декабря 1936 года:
«Товарищу Вишневскому
Всеволод, уезжая в отпуск, напоминаю тебе, что за тобой есть невыполненное поручение партгруппы: прочитать пьесы Булгакова „Пушкин“, „Иван Васильевич“, „Мольер“. Это поручение ты получил в половине Октября. Оно остро в связи с разговорами самого Булгакова, что, если он не нужен Советской власти, — и т. д. и т. п.
Это поручение должно быть выполнено безусловно в течение января 1937 года.
Секретарь партгруппы Правления ССП Вл. Ставский»
В который уже раз судьбу драматурга Булгакова предстояло решать Всеволоду Вишневскому.
А судьбу оперного либреттиста Булгакова решали другие ответственные лица. Запись в дневнике Е.С.Булгаковой от 27 декабря:
«Пианист Большого Театра Васильев играл „Минина“. Слушали: Керженцев, Самосуд, Боярский, Ангаров, Мутных, Городецкий, М[ихаил] А[фанасьевич] и Мелик. После — высказывания, носившие сумбурный характер.
Ангаров: А онеры нет! Городецкий: Музыка никуда не годится! Керженцев: Почему герой участвует только в начале и в конце? Почему его нет в середине онеры?.. Мне очень понравилось, что М[ихаил] А[фанасьевич] пришёл оттуда в три часа ночи в очень благодушном настроении, всё время повторял: Нет, знаешь, они мне все очень понравились… Я спрашиваю, а что же теперь будет?
По чести говорю, не знаю. По‑видимому, не пойдёт».
Запись от 29 декабря:
«В „Советском искусстве „заметка, что „Минин „принят к постановке в этом сезоне. Ничего не понимаю!»
Тем временем год 1936‑ой, который принёс с собой столько неприятностей, подходил к концу. Елена Сергеевна записывала:
«Новый год встречали дома. Пришёл Женечка. Зажгли ёлку. Были подарки, сюрпризы, большие воздушные шары, игра с масками.
Ребята и М[ихаил] А[фанасьевич] с треском били чашки с надписью „1936‑й год“, — специально для этого приобретённые и надписанные…
Дай Бог, чтобы 1937‑й год был счастливей прошедшего!»
Готовясь к встрече Нового года, Илья Сельвинский сочинил рифмованный тост:
А драматург Афиногенов записал в дневнике:
«1937 год будет замечательным годом: 20‑летие Октябрьской революции, конец канала Москва‑Волга, вторая очередь метро, сто лет со дня смерти Пушкина».
Часть четвёртая На пороге бессмертия
Глава первая Приближаясь к финалу
Год 1937‑ой
Год начался с болезни — пасынок Булгакова Сергей слёг со скарлатиной.
Пришло сообщение из Парижа о том, что уже в январе в театре «Старая Голубятня» начнут играть «Зойкину квартиру». Но эту радостную новость испортила небольшая подробность: вновь активизировались все те, кто претендовал на деньги, причитавшиеся Булгакову.
В первых рядах этих алчных «соискателей» был Каганский. Тот самый Захар Леонтьевич Каганский, что в 20‑х годах издавал частный журнал «Россия», где печаталась «Белая гвардия». Тот самый Каганский, что, выехав за границу, стал выдавать себя там за полномочного представителя Булгакова за рубежом и на этом основании забирать себе все его гонорары. Тот самый Каганский, разобраться с которым ещё в 1927 году так жаждал Михаил Афанасьевич (для этого и просился за границу). Тот самый Каганский, который в дневнике Елены Сергеевны упоминался лишь в сочетании со словами «этот негодяй».
Булгаков с горечью писал брату Николаю:
«… мне не хотелось бы, чтобы разные личности растащили мой литературный гонорар».
Однако оградить себя от этих гангстерских нападок никак не получалось.
9 января было написано письмо в Ленинград — Асафьеву:
«Сейчас сижу и ввожу в „Минина“ новую картину и поправки».
Именно тогда в уста патриарха Гермогена Булгаков вложил слова:
«Мне цепи не дают писать, но мыслить не мешают».
Самому Булгакову «писать» мешали не только символические «цепи», но и вполне конкретный Большой театр, которому нужен был либреттист, а не сочинитель каких‑то там романов.
И Булгаков приходилось сочинять то, что от него ждали. Сначала было создано либретто оперы о Минине и Пожарском, потом — о сражениях за Перекоп (опера «Чёрное море» композитора С.И. Потоцкого). Предлагали написать либретто оперы об Александре Пушкине — год‑то наступил юбилейный.
Да, год 1937‑ой сразу стали называть пушкинским…
Тем временем пролетарскую столицу посетил всемирно известный писатель Лион Фейхтвангер. Чуть позже он напишет книгу «Москва, 1937 год», в которой расскажет о том, что увидел в стране Советов. В этом произведении очень многое подмечено очень верно — ведь писатель старался не обходить острые углы, не игнорировать трудности, которыми была переполнена жизнь советских людей:
«… тяжелее всего ощущается жилищная нужда. Значительная часть населения живёт скученно, в крохотных убогих комнатушках, трудно проветриваемых зимой. Приходится становиться в очередь в уборную и к водопроводу. Видные политические деятели, писатели, учёные с высокими окладами живут примитивнее, чем некоторые буржуа на Западе. Несмотря на это, они довольны…»
Поводов к тому, чтобы быть «довольными», в 1937 году хватало. Самая главная «радость» заключалась в том, что наконец‑то нашлись виновники многих жизненных неурядиц и даже бед Советского Союза. Эти коварные «злодеи» были пойманы и отданы под суд. Его открытые заседания начались в январе. Видные партийцы, ещё совсем недавно занимавшие ответственейшие государственные посты, были объявлены «врагами народа» и обвинены в тягчайших преступлениях. На скамье подсудимых оказались Пятаков, Радек, Сокольников и их товарищи.
24 января «Правда» вышла с передовой статьёй, которая называлась «Подлейшие из подлых». О процессе Пятакова‑Радека».
На следующий день передовица той же газеты была озаглавлена: «Торговцы родиной». Название шедшей вслед за ней статьи поэта Александра Безыменского тоже било наповал — «Изменники».
Руководители Союза советских писателей в срочном порядке собрали пленум, на котором 25 января единогласно приняли резолюцию. На следующий день этот документ читала вся страна. Суд ещё только начался, а «инженеры человеческих душ» с прокурорской суровостью восклицали:
«Писатели единодушно требуют поголовного расстрела участников этой банды»
26 января «Литературная газета» опубликовала письмо:
«Прошу присоединить мою подпись к подписи товарищей под резолюцией Президиума Союза Советских Писателей от 25 января 1937 года. Я отсутствовал по болезни, к словам же резолюции нечего и прибавить.
Борис Пастернак».
А «Правда» продолжала печатать возмущённые возгласы негодующих литераторов. 26 января появилась статья Всеволода Вишневского с коротким, как выстрел, названием: «К стенке!». Ей вторил поэт Алексей Сурков: «Смерть подлецам»! 28 января подал голос поэт Владимир Луговской: «К стенке подлецов»! На следующий день к негодующим коллегам присоединился поэт Александр Прокофьев: «Кровью ответите, господа»!
Лиону Фейхтвангеру в эти же дни показали только что снятую кинокартину. В ней воспевался подвиг подростка, донёсшего на своего отца. Прообразом главного героя фильма был Павлик Морозов, поднятый на щит официальной пропагандой. Свои впечатления от просмотра Фейхтвангер впоследствии тоже включил в свою книгу о Москве:
«… великолепный, подлинно поэтический фильм Эйзенштейна „Бежин луг “ — шедевр, насыщенный настоящим внутренним советским патриотизмом».
Откуда было знать Фейхтвангеру, что очень скоро этот самый «шедевр» будет объявлен фильмом, порочащим советскую действительность, а затем безжалостно отправлен на смыв, то есть уничтожен.
А Булгаков всё не мог забыть спектакль, снятый с мхатовского репертуара, и сообщал 29 января в письме Павлу Попову:
«У нас тихо, грустно и безысходно после смерти „Мольера “».
Но, несмотря на грусть и безысходность, Булгаков всё же взялся за перо.
Театральный роман
7 февраля 1937 года Елена Сергеевна с радостью записала в дневнике:
«… самое важное — это роман. М[ихаил] А[фанасьевич] начал писать роман из театральной жизни. Написано уже довольно много… пишет с увлечением…»
Это был «Театральный роман», у которого вскоре появилось второе название — «Записки покойника». Елена Сергеевна впоследствии вспоминала:
«Приходил со службы в Большом театре, проходил в свою комнату и, пока я накрывала на стол, присаживался за бюро и писал несколько страниц. Потом выходил и, потирая руки, говорил: „После обеда я прочту тебе, что у меня получилось! “ Роман этот он писал сразу набело, без черновиков».
Черновик у романа, как мы помним, всё же существовал. Назывался он «Театр». Это его Булгаков якобы сжёг в конце 20‑х годов, а какую‑то часть (в виде тетрадки, озаглавленной «Тайному другу») подарил в 1929‑ом Елене Сергеевне.
В «Театральном романе» (как и в повести «Тайному другу») рассказ ведётся от первого лица. Но теперь это лицо имело вполне конкретные имя, отчество и фамилию — Сергей Леонтьевич Максудов. Роман предваряется предисловием, в котором сообщается, что его автор, С.Л. Максудов, жизнь свою покончил самоубийством, но незадолго до смерти написал Булгакову письмо «удивительного содержания»:
«Сергей Леонтьевич заявлял, что, уходя из жизни, он дарит мне свои записки с тем, чтобы я, единственный его друг, подписал их своим именем и выпустил в свет».
Далее в предисловии говорится, что…
«… самоубийца никакого отношения ни к драматургии, ни к театрам никогда в жизни не имел…»
Читатели также предупреждались, что участие самого Булгакова в этих записках состоит лишь в том, что он…
«… озаглавил их, затем уничтожил эпиграф, показавшийся мне претенциозным, ненужным и неприятным.
Этот эпиграф был:
«Коемуждо по делам его…»
Михаил Афанасьевич обращался к читателям с просьбой отнестись к сочинению Сергея Максудова со снисхождением, поскольку…
«… что же требовать с человека, который через два дня после того, как поставил точку в конце записок, кинулся с Цепного моста вниз головой».
Таким образом, Булгаков как бы торжественно отрекался от своего авторства, объявляя себя лишь издателем и корректором, внёсшим в роман незначительные поправки. Подобный поступок был не нов — точно так же поступил в своё время и Пушкин, публикуя свои «Повести Белкина».
«Театральный роман» — произведение автобиографическое. В нём рассказывается о том, как одинокий молодой журналист, работающий в газете, по ночам сочинял роман «Чёрный снег». После того как книга закончена и частично опубликована, автор на её основе создавал пьесу, которую брался поставить один из московских театров, названный в романе Независимым. Иными словами, перед нами — история написания романа «Белая гвардия» и постановки пьесы того же названия в Художественном театре.
«Театральный роман», пожалуй, единственное булгаковское произведение, где нет ни слова о большой политике. Кто властвует в стране, кого преследуют, кого привечают — все эти «мелочи» Максудова совершенно не интересуют. Но…
Обратим внимание на фамилию главного героя — Максудов. Вроде бы ничего необычного, фамилия как фамилия. Но тот, кто научился улавливать тонкости булгаковского стиля, чувствовать манеру писателя, сразу начнёт внимательно всматриваться в это слово — Максудов. Чтобы понять тот смысл, который вкладывал в фамилию своего героя Булгаков.
Итак, Максудов. Максудов. Так это же…
Да, фамилия составлена из давнего булгаковского прозвища (Мака), к которому добавлено слово «суд». Такой фамилией Булгаков как бы говорил всем, кто смог уловить её смысл («МАК» и «СУДов», то есть «сг/Э Маки»), что это его, булгаковский, суд над МХАТом, суд над советским театром вообще. А ведь это, согласитесь, уже политика?
«Театральный роман» остроумен и по‑булгаковски мудр. И наполнен удивительно лёгкой весёлостью. Трудно поверить, что создавался он человеком, которому только что был нанесён второй в его литературной жизни сокрушительный удар, и который писал Борису Асафьеву (в том же письме от 9 января 1937 года):
«Мне трудно, я дурно чувствую себя. Неотвязная мысль о погубленной литературной жизни, о безнадёжном будущем порождает другие чёрные мысли…
Я ценю Вашу работу и желаю Вам от души того, что во мне самом истощается, — силы».
Каждую новую главу «Театрального романа» Булгаков читал близким и знакомым. Об этом — в дневнике Елены Сергеевны:
«… читал Калужскому и Ольге. Ольга очень волновалась, Калужский слушал напряжённо. Оба высказались весьма комплиментарно, и Ольга на следующий после чтения день специально звонила благодарить за доставленное наслаждение… В диком восторге — я! Я ловлю каждую новую строчку.
Очень, очень нравится Вильямсу и Шебалину, которые слышали много отрывков. Они массу рассказывали о романе Любови Орловой и Григорию Александрову, и те просят теперь их позвать.
На Григория Конского роман произвёл колоссальное впечатление, не думаю, чтобы он притворялся. Во‑первых, действительно написана вещь изумительно, да и содержание уж очень интересно, для актёра же МХАТ особенно».
Продолжалась и работа над оперой «Минин и Пожарский». Булгаков (по рекомендации Керженцева) дописал две картины, теперь все ждали, когда будет готова музыка. Елена Сергеевна записала:
«Теперь от Асафьева зависит судьба оперы, т. е., конечно, не судьба, а возможность начала работы над ней».
Пушкинский юбилей
Закончился январь. Приближался день столетия со дня смерти Пушкина, дни Пушкинского юбилея, как их тогда называли. В дневнике появилась запись:
«Как я ждала их когда‑то! Ведь должен был пойти „Пушкин “. А теперь „Пушкин“ — зарезан, и мы — у разбитого корыта».
Впрочем, оказавшегося «г/ разбитого корыта» драматурга литературная общественность не забывала. На каждом мало‑мальски значимом мероприятии непременно упомянули его фамилию. Вот и на Всесоюзном репертуарном совещании Платон Керженцев в очередной раз подробно изложил собравшимся причины снятия «Мольера» и запрещения «Ивана Васильевича». Для Булгакова это означало, что отныне путь к читателям и зрителям ему перекрыт окончательно, а на мечтах о поездке за границу можно и вовсе навсегда поставить крест.
12 февраля Елена Сергеевна с грустью записывала:
«Больное место М[ихаила] А[фанасьевича]: „Яузник… меня никогда не выпустят отсюда… Я никогда не увижу света“».
В романе о дьяволе, рассказывая поэту Бездомному о себе, мастер коснётся и этого вопроса:
«Я вот, например, хотел объехать весь земной шар. Ну, штю ж, оказывается, это не суждено. Я вижу только незначительный кусок этого шара. Думаю, что это не самое лучшее место, что есть на нём, но, повторяю, это не так уж худо».
14 февраля 1937 года «Правда» вышла со стихотворением Безыменского, в котором поэт торжествующе восклицал:
«Да здравствует Ленин, да здравствует Сталин!
Да здравствует солнце, да скроется тьма!»
А через два дня Булгакова вызвал директор Большого театра В.И. Мутных и предложил выступить постановщиком оперы «Минин и Пожарский». Тотчас встал вопрос о художнике. Булгаков предложил Дмитриева. И работа закипела.
17 февраля в Ленинград полетела телеграмма:
«Начинаю постановку Минина заканчивайте музыку кратчайший срок немедленно ознакомьте Дмитриева оперой Булгаков».
Вечером 18 февраля в гости к Булгаковым пришла знаменитая советская киноактриса Любовь Орлова (жена не менее знаменитого кинорежиссёра Григория Александрова). Пришла, чтобы послушать главы из «Театрального романа».
«Поздно ночью, когда кончали ужинать, известие от Александрова по телефону, что Орджоникидзе умер от разрыва сердца. Это всех потрясло».
На следующий день всё семейство Булгаковых отправилось к Дому Союзов — проститься с почившим вождём. Вечером Елена Сергеевна записывала:
«Днём с Сергеем и Мишей пошли в город, думали попасть в Колонный зал, но это оказалось неисполнимым, очень долго пришлось бы идти в колонне, которая поднималась вверх по Тверской, уходила куда‑то очень далеко и возвращалась назад по Дмитровке».
Проститься с товарищем Серго удалось лишь одному Булгакову — на следующий день:
«Рассказывал, что народ идёт густой плотной колонной (группу их из Большого театра присоединили к этой льющейся колонне внизу у Дмитровки). Говорит, что мало что рассмотрел, потому что колонна проходит быстро… Смутно видел лицо покойного».
А все центральные газеты публиковали фотографии Сталина у гроба почившего наркома промышленности.
Для тех, кто хоть немного разбирался в сути происходивших событий, внезапная смерть Серго Орджоникидзе давала пищу для многих тревожных размышлений. Но жившему вдали от больших политических интриг Булгакову было просто по‑человечески жаль ушедшего из жизни государственного деятеля, которого он помнил ещё по Владикавказу.
Не случайно в той же записи Елены Сергеевны есть фраза:
«У М[ихаила] А[фанасьевича]дурное настроение духа».
По окончании траурных дней, писатели страны Советов собрались на пленум, посвящённый 100‑летию со дня смерти Александра Сергеевича Пушкина. Это торжественное мероприятие предполагали открыть 19 февраля, но из‑за нежданной кончины Г. К. Орджоникидзе оно было перенесено на более поздний срок.
Мемориальный пушкинский форум открыл В.П. Ставский, возглавлявший тогда писательский союз. Минут десять он говорил о почившем Серго и о Сталинской конституции, а затем сказал:
«Стальной стеной встали миллионы вокруг партии, вокруг великого, родного Сталина. Пусть неумолчно звенят в сердцах наших детей проникновенные слова поэта:
Берегите вождей, коммунары!
Берегите вождей!
Спасибо товарищу Сталину за нашу счастливую жизнь!»
Лишь после этих (обязательных в ту пору) слов Ставский заговорил о Пушкине. И практически сразу же обрушил поток критики в адрес поэтов, которые были «обласканы» Бухариным на съезде писателей в 1934 году. «Двойной» смысл, якобы заключённый в произведениях истинных «мастеров» поэтического цеха, был объявлен вздорной и весьма подозрительной «двусмысленностью».
И сразу (как по команде) началось всеобщее улюлюканье, которое мгновенно подхватили все центральные газеты. Так, 26 февраля «Правда» опубликовала статью «О политической поэзии»:
«Почин здесь принадлежит Н. Бухарину, превознёсшему в своём докладе поэтов, чуждых советской действительности…
Образцы двусмысленной поэзии: Пастернак и Сельвинский — этот знаменитый сумбур поэзии формалистических вывертов. Да в одном стихотворении Пушкина больше ума и подлинной философии, чем во всех тарабарских стихах Пастернака!».
Как ни славили Пастернак и Сельвинский советскую власть и её вождей, как ни ставили свои подписи под резолюциями и письмами, требовавшими смерти ««врагам народа», это не спасло их от критического урагана. И уже 5 марта «Литературная газета», подхватив эстафету от «Правды», выступила с призывом:
«Выжечь до конца косноязычную поэзию Пастернака и идеологически порочную поэзию Сельвинского»!
Вот так отмечали пушкинский юбилей советские писатели.
Булгаков на пленум не ходил, все новости как всегда узнавал из газет.
Вслед за открытым всему миру писательским форумом последовало мероприятие закрытое — пленум ЦК ВКП(б). Знакомя читателей с его решениями, «Правда» 6 марта 1937 года сообщила, что пленум…
«… рассмотрел также вопрос об антипартийной деятельности Бухарина и Рыкова и постановил исключить их из рядов ВКП(б)».
Мало кто знал тогда о том, что прямо из зала заседаний Бухарина и Рыкова отправили в камеры НКВД.
Текущие дела
6 марта 1937 года Булгаков сообщал режиссёру МХАТа Сахновскому:
«Дорогой Василий Григорьевич, извещаю Вас, что в „Литературном Агентстве“ имеется поступление за „Мёртвые души“ из Чехословакии в сумме чешских крон 394‑24, из которых, согласно нашему договору с Вами, Вам причитается одна шестая часть.
Как поживает „Анна“? Когда выпускаете?»
Булгаковеды считают, что «Анной Карениной», которую ставили Сахновский и Немирович‑Данченко, Булгаков интересовался неслучайно. Он не терял надежды поехать в Париж — при условии, что на свои гастроли МХАТ повезёт туда «Дни Турбиных». Но по Москве ходили упорные слухи, что Немирович хотел показать французам «Анну Каренину».
10 марта Булгаков телеграфировал в Ленинград — Асафьеву: «Почему задерживается присылка музыки».
Директор ГАБТа В.И. Мутных послал вдогонку свою телеграмму:
«Работа Мининым задерживается отсутствием музыки». Асафьев тотчас прислал недоумённый ответ:
«… ведь в театре клавир семи картин, как же отсутствует музыка? Ничего не понимаю. Ведь учить‑то эти семь картин можно. Но по моим сведениям, опера не идёт».
Композитор не верил заверениям, что ГАБТ всерьёз собираются выпустить «Минина» на сцену. Через две недели он напишет:
«… дразнят, что, мол, кто знает, может, и пойдёт!.. Почему не начинают работать над „М[ининым]“, если опера идёт?»
Но Булгаков в успех верил, на что‑то надеялся. Ожидая написания музыки, он вместе с женой зачастил с визитами к друзьям. Побывав в гостях у дирижёра Большого театра Мелик‑Пашаева, Елена Сергеевна записала:
«… были у Меликов. Танцевали. Было весело».
20 марта на очередном пленуме правления Союза советских писателей с очередным докладом выступил В.П. Ставский. Он заверил собравшихся:
«Нет никакого сомнения в том, что основная масса советских писателей — это люди, которые на деле показали всю преданность свою Сталину…
Товарищ Сталин лучше, чем многие из нас, знает литературу и помогает советами. Он помогает нам, когда звонит… По предложению товарища Сталина выдвигаются и награждаются теперешние наши орденоносцы».
Своеобразную «награду» очень скоро вручили и Булгакову. Она пришла из Харькова. Вот как это событие отразилось в дневнике (запись от 22 марта):
«Сегодня — ценным пакетом извещение о вызове в суд. Харьковский театр русской драмы подал жульническое заявление о взыскивании денег по „Пушкину“ на том основании, что пьеса не значится в списке разрешённых пьес.
Когда пришёл конверт, М[ихаил] А[фанасьевич] повертел его в руках и сказал:
— Не открывай его, не стоит. Кроме неприятностей, ничего в нём нет. Отложи его на неделю».
Конверт всё‑таки вскрыли. И в результате:
«День убит на писание жалобы Керженцеву.
Поездка в Комитет для сдачи этой жалобы».
В той жалобе Булгаков, в частности, писал:
«Сообщая, что я никак не принимал на себя предоставление разрешённой пьесы, что совершенно видно из договора, и что я, согласно законоположениям, имею право взыскивать деньги с театра за непоставленную пьесу, а не театр с меня, — протестую, главным образом, против опорочивающей меня фразы, что я „ввёл театр в заблуждение“, ибо никаких театров я никогда в заблуждение не вводил.
Вообще, сколько я понимаю, моё положение становится всё тяжелее. Я не говорю о том, что я не могу поставить на отечественной сцене ни одной из сочинённых мною в последние годы пьес (я с этим вполне примирился). Но мне приходится теперь, как бы в виде награды за мои драматические работы, в том числе и за пьесу о Пушкине, не только отбиваться от необоснованных попыток взыскания с меня денег (описанный здесь случай — не первый), но ещё и терпеть опорочивание моего литературного имени.
Обращаюсь к Вам с жалобой на это».
Через два дня в письме П.С. Попову драматург признавался:
«Я теперь без содрогания не могу слышать слова — Пушкин — и ежечасно кляну себя за то, что мне пришла злосчастная мысль писать пьесу о нём».
Асафьеву в тот же день написал:
«… несмотря на утомление и мрак, я неотрывно слежу за „Мининым“ и делаю всё для проведения оперы на сцену».
Булгаковские «утомление и мрак» усугубляла, надо полагать, и другое неприятное известие. Связана оно было с Большим Ржевским переулком, где Марианна Шиловская делала всё, чтобы Ольга Бокшанская и Евгений Калужский съехали бы с их квартиры. По этому поводу Елена Сергеевна записала 23 марта:
«Разговоры по телефону с Калужским. У М[ихаила] Афанасьевича] создалось впечатление, что они хотели бы переехать на время к нам, — Марианна явно их выживает. „Но, — сказал М[ихаил] А[фанасьевич], — этого нельзя делать, как же работать? Это будет означать, что мы с тобой должны повеситься?“»
Не потому ли Булгаков с такой грустью сетовал в том же письме Павлу Попову от 24 марта:
«… всё время живём мы бешено занятые, в труднейших и неприятнейших хлопотах. Многие мне говорили, что 1936‑й год потому, мол, плох для меня, что он високосный, — такая есть примета. Уверяю тебя, что эта примета липовая. Теперь вижу, что в отношении меня 37‑й не уступает своему предшественнику».
Невисокосный год
Однако и в «плохом» 1937 году выдавались минуты, когда «неприятнейшие хлопоты» на время уступали место более приятным вещам:
«Опять играли с масками — новое увлечение М[ихаила] Афанасьевича]».
Но… раздавался телефонный звонок или звонили в дверь, и маска беззаботной радости сменялась выражением унылой озабоченности.
Именно так случилось весной 1937‑ого, когда власти в очередной раз вспомнили, что Булгаков — лицо мужского пола, и, следовательно, является защитником отечества. Его вновь вызвали в военный комиссариат. 25 марта Елена Сергеевна записала в дневнике:
«Целый день ушёл на освидетельствование М[ихаила] Афанасьевича] в комиссии… М[ихаил] А[фанасьевич] прошёл переучёт, выдали об этом памятку. Но какое он назначение получит — неизвестно. Медицинский диплом тяготит М[ихаила] А[фанасьевича].
Восемнадцать лет он уже не имеет никакого отношения к медицине».
Булгаков всерьёз опасался, что власти наденут на него докторский халат. И на него вновь напала хандра:
«Поздно ночью М[ихаил] А[фанасьевич]:
— Мы совершенно одиноки. Положение наше страшно».
Зато следующий день ознаменовался новостью приятной. Получили…
«… приглашение на бал‑маскарад в американском посольстве, устраивает дочь посла.
До чего же это не вяжется с нашим настроением!»
Даже когда Московский городской суд признал иск харьковчан неправомерным, и возвращать деньги за так и не поставленного «Александра Пушкина» было не нужно, особой радости это не вызвало.
29 марта «Правда» опубликовала доклад Сталина «О мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников». Вождь, в частности, сказал:
«В борьбе с современным троцкизмом нужны теперь не старые методы, не методы дискуссий, а новые методы — методы выкорчёвывания и разгрома».
Это означало, что с «врагами народа», число которых (по утверждению официальной пропаганды) увеличивалось день ото дня, будут сражаться до полного их уничтожения.
Вскоре стали известны подробности и тех «сражений», что проходили в квартире на Ржевском, где Марианна Шиловская (в связи с рождением ребёнка) усилила свой натиск на нежеланных соседей:
«2 апреля.
Вечером пришёл мой Женичка. Рассказывал, что в Ржевском происходят неприятности из‑за Олиной комнаты, которую Марианна хочет использовать для себя».
Через день вконец издёрганный Булгаков писал Вересаеву:
«Я очень утомлён и размышляю. Мои последние попытки сочинять для драматических театров были чистейшим донкихотством с моей стороны. И больше я его не повторю. На фронте драматических театров меня больше не будет. Я имею опыт, слишком много испытал».
Запомним это признание в «донкихотстве». И булгаковскую клятву в том, что в его творчестве ничего подобного «больше не будет» тоже запомним.
Тем временем газеты (уже вполне официально) объявили о том, что Бухарин, Рыков и некоторые из их сторонников арестованы. И советские «генералы» от литературы вновь забили в набат. 5 апреля было срочно созвано очередное общемосковское собрание писателей, на котором единогласно была принята резолюция:
«Советские писатели требуют суда над правыми отщепенцами Бухариным и Рыковым. Советские писатели образуют вокруг любимого Сталина живое кольцо преданности, бдительности и защиты».
А через два дня в очередной раз косвенным образом подтвердился факт неусыпного контроля над булгаковской перепиской. Не успел Михаил Афанасьевич отослать письмо, в котором сочинение пьес называлось «донкихотством», как с ним тотчас пожелало побеседовать высокое начальство.
О подлинной причине столь пристального внимания властей к творчеству Булгакова догадаться было нетрудно: ведь там (на самом «верху») хорошо помнили, что он собирался написать пьесу о Сталине. И вдруг такое категорическое заявление об отказе работать для театров! Значит, обещанной пьесы о вожде тоже не будет?.. Было от чего забеспокоиться.
Елена Сергеевна записывала:
«7 апреля.
Звонок из ЦК: зовут Мишу к Ангарову. Поехал.
Разговор, по его словам, был долгий, тяжкий по полной безрезультатности. Миша говорил о том, что проделали с «Пушкиным», а Ангаров отвечал в том плане, из которого было видно, что он хочет указать Мишу правильную стезю. Между прочим, о «Минине» сказал: Почему вы не любите русский народ? — и всё время говорил, что поляки очень красивые в либретто».
Видный большевик М.А. Ангаров был на семь лет моложе Булгакова, литературой никогда не занимался. Однако это не помешало ему сходу начать учить приглашенного писателя тому что и как следует писать. Вывод из той «безрезультативной» беседы Елена Сергеевна сделала такой:
«Самого главного не было сказано… — что Мише нужно сказать и, вероятно, придётся писать в ЦК или что‑нибудь предпринимать. Но Миша смотрит на своё положение безнадёжно. Его задавили, его хотят заставить писать так, как он не будет писать».
Эту дневниковую запись очень интересно дополняет агентурная сводка, в которой лубянскому начальству докладывалось о том, как оценивает своё состояние сам Михаил Булгаков. Агент приводил такие слова писателя:
«Я сейчас чиновник, которому дают ежемесячное жалование, пока ещё не гонят с места (Большой театр) и надо этим довольствоваться. Пишу либретто для двух опер — историческое и времён гражданской войны. Если опера выйдет хорошая — её запретят негласно, если выйдет плохая — её запретят открыто».
Хранящиеся в Центральном литературном архиве дневники Всеволода Вишневского дают возможность установить, что записывал он в тот день, когда Булгаков беседовал с Ангаровым:
«Вечер. 7 апреля 37. Переделкино.
Был вчера у Сельвинского. Там Пильняки. Поговорили о литературе, о войне… Пильняк пристраивается писать роман».
А вот у Булгакова «пристроиться», чтобы что‑то написать, никак не получалось. Тридцать лет спустя Елена Сергеевна вспоминала:
«У него почти не было времени писать. Утром мы вставали, пили кофе, и он уходил на репетиции — часам к полодиннадцатого. Вечером почти всегда были гости — и при этом мы везде ходили, бывали на всех новых постановках! Друзей было немного, но это были те, кто не мог жить без М[ихаила] А[фанасьевича]. Он шутил, рассказывал, разыгрывал сценки — это был неисчерпаемый источник веселья, жизнерадостности. Расходились в 5–6 часов утра, и я только умоляла:
— Ну, давайте будем расходиться хоть бы в 3!
И только иногда, когда гости уходили, и мы оставались одни, он мрачно говорил:
— Что же это? Ведь это уходит в воздух, исчезает, а ведь это могло остаться, могло быть написано.
Тогда я начинала плакать, а он пугался и сразу менял настроение».
Не прибавляли радости и новости, сообщавшие о делах МХАТа. Запись от 10 апреля 1937 года:
«В „Вечерней Москве“ сообщение о том, что МХАТ заключил договор с Парижем. Едут и везут: „Любовь Яровую“, „Анну Каренину“, „Бориса Годунова“ и „Горячее сердце“. Слухи о „Турбиных“, значит, неверны были. Миша никогда не увидит Европы».
Это ли не повод для очередной печали? А тут ещё слухи о коллегах‑литераторах. О них — в записи от 11 апреля:
«Мише рассказывали на днях, что Вишневский выступал (а где — чёрт его знает!) и говорил, что „мы зря потеряли такого драматурга, как Булгаков“. А Киршон говорил (тоже, видимо, на этом собрании), что время показало, что „Турбины“ хорошая пьеса.
Оба — чудовищные фигуры! Это они одни из главных травителей Миши. У них нет ни совести, ни собственного мнения».
А газеты продолжали сообщать о новых «диверсиях» замаскировавшихся, но выявленных работниками НКВД «врагов» советского народа… Так, 12 апреля «Правда» вышла со статьёй «Фальшивая картина» о кинофильме «Большие крылья». Ещё через три дня в той же газете были со всей решительностью вскрыты «Ошибки Камерного театра» (они, как оказалось, допущены его руководителем Таировым при постановке спектакля «Дети солнца»).
А через шесть дней…
18 апреля «Правда» опубликовала (рядом с заметкой Платона Керженцева «Апологеты фашистской архитектуры») письмо в редакцию, озаглавленное коротко, но предельно выразительно: «Мы огорчены и возмущены». Его авторами были жители Камчатки: заместитель председателя Камчатского облисполкома Тевлянто, художник Вуквоол и колхозник‑моторист Гиаю. Все трое с негодованием писали о спектакле театра Революции по пьесе Сельвинского «Умка — Белый Медведь»…
Прошло четыре дня, и в газетах появилось постановление Всесоюзного Комитета по делам искусств. Театру Революции предписывалось:
«… снять эту пьесу с репертуара, как антихудожественную и политически недостойную советского театра».
А в это время Осип Мандельштам, сосланный, как мы помним, в Воронеж за антисталинские стихи, заканчивал сочинять «Оду». В ней были строки:
Обрисовав рифмованными штрихами происходившие в стране события, автор «Оды» приступал к созданию портрета главного своего героя, который должен был предстать перед читателями в виде…
Из‑под пера гонимого властями поэта, измаявшегося до предела от тягот ссылки, выходили всё новые верноподданнические четверостишья:
Трудно было поверить, что хвалу вождю воздаёт автор памфлета о кремлёвском горце. Но это было именно так. Мандельштам как бы являл миру свою новую поэзию, новую свою правду:
Дошли ли эти стихи до Булгакова, читал ли он их, неизвестно. Но 19 апреля Елена Сергеевна записала в дневнике:
«В моё отсутствие к М[ихаилу] А[фанасьевичу] заходила жена поэта Мандельштама. Он — выслан и уже, кажется, третий год в Воронеже. Она в очень тяжёлом положении, без работы».
Так что, как ни старался Осип Эмильевич «перековаться» в поэта‑сталинца, его отчаянная попытка не принесла никакого облегчения ни ему самому, ни его близким.
Между тем число тех, кто оказывался «в очень тяжёлом положении», увеличивалось с каждым днём. Органы НКВД выявляли всё новых «врагов народа». 20 апреля 1937 года Елена Сергеевна записала в дневнике:
«Вот это штука — арестован Мутных. В Большом театре волнения».
Комбриг В.И. Мутных долгое время работал начальником Центрального дома Красной армии. Затем получил повышение — стал возглавлять Большой театр, особо важный объект, в котором проводились торжественные заседания с участием руководителей страны. На пост директора ГАБТа всегда назначали высокопоставленных энкаведешников.
По сведениям чекистов 1 мая 1937 года должен был начаться путч военных, предводительствуемых маршалом Тухачевским. И спецслужбы срочно приняли ответные меры: заменили всю охрану Кремля, ликвидировали старые пропуска, ввели новые пароли. Были также арестованы ненадёжные лица, занимавшие особо ответственные посты.
17 апреля «взяли» Карла Викторовича Паукера. Он возглавлял оперативный отдел ОГПУ, отвечавший за охрану членов политбюро и всех правительственных резиденций. В показаниях Паукера, вероятно, фигурировал и директор Большого театра Мутных.
Обо всём этом Булгаковы, конечно же, знать ничего не могли. На их глазах просто исчезали люди. Один за другим…
Это сейчас мы спокойно говорим о тех исчезновениях. И даже не видим в них ничего из ряда вон выходящего, говоря, что это год был такой — 37‑ой, иначе, мол, и быть не могло. А тогда о новых арестах сообщали тревожно‑взволнованным тишайшим шёпотом, только своим, самым проверенным.
21 апреля Елена Сергеевна записала в дневнике:
«Слух о том, что с Киршоном… что‑то неладное. Говорят, что арестован Авербах. Неужели пришла Немезида и для Киршона?»
Запись от 22 апреля:
«Марков рассказывал, что в ложе (по‑видимому, на „Анне Карениной“) был разговор о поездке в Париж, что, будто бы, Сталин был за то, чтобы везти „Турбиных“ в Париж, а Молотов возражал».
23 апреля 1937 года первую страницу «Правды» украсила большая фотография. На ней были изображены Ворошилов, Молотов, Сталин и Ежов в момент их посещения строительства канала Волга‑Москва.
25 апреля — вновь о «врагах» и арестах:
«Были в Большом Театре. Когда шли домой, в Охотном ряду встретили Катаева (Вал.). Конечно, разговор о Киршоне. Есть слух, что арестован Крючков, секретарь Горького. Что натворил Крючков — не знаю, но сегодня он называется в „Веч[ерней Москве]“ грязным дельцом».
27 апреля главная партийная газета сообщила о разоблачении писателя Бруно Ясенского. В тот же день Елена Сергеевна записала:
«Шли по Газетному. Олеша догоняет. Уговаривал Мишу идти на собрание московских драматургов, которое открывается сегодня и на котором будут расправляться с Киршоном. Уговаривал М[ихаила] А[фанасьевича] выступить и сказать, что Киршон был главным организатором травли М[ихаила] А[фанасьевича]. Это вообще правда, но, конечно, М[ихаил] А[фанасьевич] ине думает выступать с этим заявлением».
28 апреля:
«Миша несколько дней в тяжком настроении духа, что меня убивает. Я, впрочем, сама понимаю, что будущее наше беспросветно».
А тяжёлый каток репрессий тем временем с неумолимой бесцеремонностью продолжал вкатываться в мир творческой интеллигенции. Каждый день приносил новые подробности. Запись от 30 апреля:
«Возвращаясь, встретили Тренёва. Он рассказал, что на собрании драматургов вытащили к ответу Литовского. „Зачем протаскивал всячески пьесы Киршоиа и Афиногенова?“ Этот негодяй Литовский вертелся, как на огне и даже кричал что‑то вроде — не я один!..
Вечером у нас Мелик с Мининой. М[ихаил] А[фанасьевич] развеселился, рассказывал смешные вещи».
Но 1 мая настроение изменилось:
«Утомительный, тяжёлый день… При встрече с… Леонтьевым рассказала ему о том невыносимо тяжёлом состоянии духа, в котором находится Михаил Афанасьевич последнее время из‑за сознания полной безнадёжности своего положения».
И тут же — новые отголоски грозных судилищ. На этот раз в дневнике упомянут ответственный работник Главреперткома, ещё недавно решавший судьбу «Ивана Васильевича»:
«…на собрании вытащили Млечина. Тот начал свою речь так:
— Вот здесь говорили, что я травил Булгакова. Хотите, я вам расскажу содержание его пьесы?..
Но ему не дали продолжать. Экий подлец!».
Бурные события, будоражившие литераторское сообщество, заставили и Булгакова задуматься о собственной судьбе. Ведь если разоблачают «врагов народа», столько лет мешавших жить и творить подлинным патриотам, то почему бы ни попробовать…
И вновь вспомнился он — главный читатель. 2 мая Елена Сергеевна записала:
«Сегодня Миша твёрдо принял решение писать письмо — о своей писательской судьбе. По‑моему, это совершенно правильно. Дальше так жить нельзя».
«М[ихаил] А[фанасьевич] весь день пролежал в постели, чувствует себя плохо, ночь не спал».
Причиной плохого настроения, по мнению Елены Сергеевны, могли быть и постоянные «нападки» со стороны окружающих:
«Один пристаёт с вопросами, почему М[ихаил] А[фанасьевич] не ходит на собрания писателей, другой — почему М[ихаил] А[фанасьевич] пишет не то, что нужно, третья — откуда М[ихаил] А[фанасьевич] достал экземпляр „Белой гвардии “, вышедшей в Париже…»
4 мая на первой странице «Правды» появилась большая фотография Сталина на трибуне Мавзолея во время праздничной демонстрации. А на последней странице скромно сообщалось о том, что Киршон и Афиногенов будут исключены из состава президиума и правления Союза писателей.
В тот же день в Государственном Камерном театре обсуждались итоги февральского пленума ЦК ВКП(б). Речь сразу пошла о том, что театр ставит не «те» пьесы, и что виновен в этом Таиров, главный режиссёр, не желающий замечать вражеских «лазутчиков», которые кишмя кишат вокруг.
Присутствовавший в зале Всеволод Вишневский взял слово и сообщил собравшимся о том, что…
«… через одну — западную — границу в течение 1936 года сделали попытку перейти границу 14 тысяч диверсантов и шпионов!»
Вот о чём, по словам Вишневского, следует трубить во все трубы. Вот кого надо разоблачать со сцены. Писатель призвал коллектив театра проявлять бдительность. Ежеминутно, во всём. И, прежде всего, в репертуаре.
5 мая заседание было продолжено. И сразу же в президиум передали записку от актрисы Алисы Коонен, которая сообщала, что покидает зал, потому что её муж, Таиров, почувствовал себя плохо, и она в данный момент вызывает врача.
А с трибуны продолжали лететь исступленно взбудораженные восклицания:
«— Проглядели вредительство!
— Проглядели шпионаж!!
— Проглядели работу диверсантов!!!»
Дневниковая запись от 7 мая:
«Сегодня в „Правде „статья П. Маркова о МХАТ. Ни одним словом не упоминает „Турбиных“».
И Булгаков стал сочинять письмо Сталину. Но при этом (с помощью обычной почты) продолжал информировать власти о своём ухудшающемся самочувствии. Те, в свою очередь, мгновенно реагировали на эти «сигналы»:
Звонок по телефону в половину двенадцатого вечера. От Керженцева. Разыскивает М[ихаила] А[фанасьевича]. Потом — два раза… с тем же — из кабинета Керженцева…
Ну, что ж, разговор хороший, а толку никакого. Весь разговор свёлся к тому, что Керженцев самым задушевным образом расспрашивал: „Как вы живёте, как здоровье, над чем работаете?“ и всё в таком роде. А Миша говорил, что после всего разрушения, произведённого над его пьесами, вообще работать сейчас не может и чувствует себя подавленно и скверно. Что мучительно думает над вопросом о своём будущем, хочет выяснить своё положение. На что К[ерженцев] очень ласково опять же уверял, что всё это ничего, что вот те пьесы не подошли, а вот теперь надо написать новую пьесу, и всё будет хорошо.
Про „Минина“ сказал, что он не читал ещё…
Словом — чепуха».
10 мая Булгаков продиктовал Елене Сергеевне письмо Борису Асафьеву, где была и такая строка:
«Вот уже месяц, как я страдаю полным нервным переутомлением».
Как тут не вспомнить фразу из «Жизни господина де Мольера», описывающую состояние больного драматурга, который…
«… всё время хворал, хворал безнадёжно, затяжным образом, постепенно всё более впадая в ипохондрию, изнурявшую его!»
В том же письме Асафьеву говорилось и о ситуации с «Мининым и Пожарским» (дело в том, что после ареста директора Большого театра Мутных, о постановке этой оперы старались не вспоминать):
«Керженцев вчера говорил со мной по телефону, и выяснилось, что он не читал окончательного варианта либретто…
Дорогой Борис Владимирович! Вам необходимо приехать в Москву. Настойчиво ещё и ещё раз повторяю это. Вам нужно говорить с Керженцевым и Самосудом, тогда только разрешатся эти загадки‑головоломки с „Мининым“… (о том, что Мутных уже не директор Большого театра… Вы, конечно, уже знаете)».
А непредсказуемая жизнь продолжала подбрасывать нежданные события. А вместе с ними и лиц, которые изо всех сил пытались отвлечь Булгакова от мрачных мыслей и внушить ему, что всё идёт хорошо.
В мае 1937‑ого объявился очередной такой почитатель и защитник.
Добраницкий и другие
В дневнике Елены Сергеевны новый знакомец представлен так:
«… видимо, журналист, Добраницкий, кажется, так его зовут».
Вечером 14 мая он пришёл в гости:
«М[ихаилу] А[фанасьеви]чу нездоровилось, разговаривал, лёжа в постели. Тема Добраницкого — мы очень виноваты перед вами, но это произошло оттого, что на культурном фронте у нас работали вот такие как Киршон, Афиногенов, Литовский… Но теперь мы их выкорчёвываем. Надо исправить дело, вернувши вас на драматургический фронт. Ведь у нас с вами (то есть у партии и драматурга Булгакова) оказались общие враги и, кроме того, есть и общая тема — „Родина“ — и далее всё так же.
М[ихаил] А[фанасьевич] говорит, что он умён, сметлив, а разговор его, по мнению М[ихаила] А[фанасьевича], — более толковая, чем раньше, попытка добиться того, чтобы он написал если не агитационную, то хоть оборонную пьесу.
Лицо, которое стоит за ним, он не назвал, а М[ихаил]Афанасьевич]ине добивался узнать».
На следующий день Булгаковых навестил художник Владимир Владимирович Дмитриев:
«… был Дмитриев.
— Пишите агитационную пьесу!
М[ихаил] А[фанасьевич] говорит:
— Скажите, кто вас подослал?
Дмитриев захохотал.
Потом стал говорить серьёзно.
— Довольно! Вы ведь государство в государстве! Сколько это может продолжаться? Надо сдаваться, все сдались. Один вы остались. Это глупо!»
Запись от 16 мая:
«М[ихаил] А[фанасьевич] в ужасном настроении. Опять стал бояться ходить один по улицам».
Когда на следующий день в «Правде» появилась статья «Троцкистская агентура в литературе», новые «доброжелатели» тут же повели разговоры том, что положение Булгакова может кардинально измениться. Для этого нужно лишь пойти и попросить, пойти и потребовать…
Реакция Михаила Афанасьевича была однозначно решительной:
«— Никуда не пойду. Ни о чём просить не буду.
И добавил, что никакие разговоры не помогут разрешить то невыносимо тягостное положение, в котором он находится».
20 мая «Правда» сообщила об исключении из рядов партии Афиногенова и Ясенского. 22 мая — та же участь постигла Киршона.
А Булгаков в эти дни с воодушевлением читал друзьям и знакомым главы из романа, о котором в дневнике Елены Сергеевны сказано, что он…
«… о Христе и дьяволе (у него ещё нет названия, но я его так называю для себя)».
Слух о том, что Булгаков сочинил что‑то на религиозную тему, быстро дошёл до кого следует. Чтобы образумить писателя, наставить его на путь истинный, на него «вывели» заведующего сценарным отделом киностудии «Ленфильм» А.И. Пиотровского. Вечером 20 мая он позвонил:
«.Хотел заказать М[ихаилу] А[фанасьевичу] сценарий. М[ихаил] А[фанасьевич] отказался. Но из любопытства спросил — „на какую тему?“— Антирелигиозную!»
23 мая к Булгаковым снова пришёл Добраницкий — почитать булгаковские пьесы:
«М[ихаил] А[фанасьевич] ушёл потренироваться ходить одному — как он сказал. А Добраницкий принялся за „Пушкина“. Через час я ему сказала, что у нас, в нашей странной жизни, бывали уже такие случаи, что откуда ни возьмись появляется человек, начинает очень интересоваться литературными делами М[ихаила] А[фанасьевича], входит в нашу жизнь, мы даже привыкаем к нему, и потом — он так же внезапно исчезает, как будто его и не бывало.
Тогда он… сказал:
— Вы увидите, я не исчезну. Я считаю долгом своей партийной совести сделать всё возможное для того, чтобы исправить ошибку, которую сделали в отношении Булгакова».
1 июня газеты ошеломили новостью: застрелился видный военачальник Ян Гамарник.
Через четыре дня Елена Сергеевна отметила в дневнике:
«В „Советском искусстве“ сообщение, что Литовский уволен с поста председателя Главреперткома.
Гнусная гадина. Сколько зла он натворил на этом месте».
«Был Добраницкий, принёс М[ихаилу] А[фанасьевичу] книги по гражданской войне. Расспрашивает М[ихаила] А[фанасьевича] о его убеждениях, явно агитирует. Для нас загадка — кто он?»
А в дневнике Всеволода Вишневского в тот же день появилась запись:
«Пильняк кончил роман. Просит принять».
Новое произведение Бориса Пильняка называлось «Соляной амбар». О чём эта вещь?
Одного из героев романа, Климентия Обухова, советская власть отправляет в ссылку в сибирское село, где он работает на лесоповале. Казалось бы, ситуация вполне заурядная — ссылка для тогдашних советских людей давно уже стала делом привычным, заготовка леса — тоже. Но Обухова «ссылают» не в простое село, а в Шушенское — в то самое, где при царе отбывал ссылку Ленин, и где, как известно, будущего вождя лес валить не заставляли.
Обухов пишет домой письма, полные философских размышлений:
«… плохие романисты, действительно не зная, что делать с персонажем, убивают его, и это плохо для романа… Но, думается мне, что может быть — и должен быть — такой роман, где механическая смерть всех его героев будет самым закономерным концом. Это в том случае, если роман посвящён эпохе, которая гибнет закономерно. Одарил ли романист иль не одарил персонажей знанием того, что они жили в ситуации и поддерживали ситуацию, которая гибельна, — статистика смертей является закономерностью гибельной ситуации».
Потрясающе пророческие строчки! Писатель чуть ли не открытым текстом заявлял читателям о том, что они являются героями эпохи, которая не просто гибнет, а «гибнет закономерно». Стоило вместо слов «роман» и «герои» поставить слова «страна» и «граждане», как сразу становилось ясно, какую судьбу предсказывал советским людям Борис Пильняк.
Да, «Соляной амбар» был написан эзоповским языком. Но те, кто помнил повесть «Красное дерево», сразу понимали, о чём идёт речь:
«Каждое дерево в отдельности — от столетнего кедра до малой сосенки — умирает под нашими топорами и пилами так скажем — безвременно. Но мы всё дальше и дальше выкорчёвываем деревья, — и это уже закономерность. Судьба отдельного дерева второстепенна».
И этот свой роман Пильняк понёс показывать… Всеволоду Вишневскому!
11 июня газеты довели до сведения читателей о предании суду группы высокопоставленных военачальников. Елена Сергеевна записала в дневнике:
«Утром — сообщение в „Правде“ — Прокуратура Союза о предании суду Тухачевского, Уборевича, Корка, Эйдемана, Фельдмана, Примакова, Путны и Якира по делу об измене родине.
М[ихаил] А[фанасьевич] в Большом театре на репетиции „Поднятой целины“…
Митинг после репетиции. В резолюции — требования высшей меры наказания для изменников».
А через три дня и уже негодующие писатели поместили в «Правде» свой гневный отклик:
«НКВД и товарищ Ежов раскрыли центр шпионов и мерзавцев… Писатели СССР требуют у Верховного суда расстрелять Тухачевского, Якира, Уборевича и других. В могилу им посылаем проклятия.
Вишневский, Фадеев, Вс. Иванов, Л. Леонов, Ф. Панфёров».
Аналогичное требование в тот же день поместила и «Литературная газета»:
«Не дадим житья врагам Советского Союза! Мы требуем расстрела шпионов!
Вишневский, Фадеев, Леонов, Федин, Шолохов, Толстой, Тихонов, Сурков, Безыменский, Сельвинский, Пастернак, Шагинян, Макаренко, Прокофьев, Асеев».
Военачальников, конечно же, расстреляли…
Выстрелы эти прогремели как бы совсем рядом с квартирой Булгакова. Ведь ещё не так давно (когда Елена Сергеевна была женой Шиловского) эти «враги народа» (Тухачевский, Уборевич, Корк и другие) часто бывали у них в гостях, сидели за одним столом, шутили, смеялись, спорили… Почему вслед за своими бывшими сослуживцами в тюремную камеру не угодил Евгений Шиловский, никто объяснить не мог. Обсуждать же эту тему вслух не решались…
Сегодня можно предположить, что экс‑командарм, ушедший на преподавательскую работу, видимо, просто выпал их поля зрения следователей. А подвергавшиеся жесточайшим пыткам бывшие сослуживцы о нём не вспомнили.
С врагами в ту пору разбирались быстро. Гораздо труднее было тем, кто оставался жить. Так, Илья Сельвинский, имевший уже несколько запрещённых пьес, с горечью писал 21 июня:
«Я самый настоящий неудачник, и все мои неудачи — лишь оборотная сторона моих побед… Не знаю, о чём писать дальше, за что взяться…»
А между супругами Булгаковыми разгорелся спор:
«Мы держали пари с М[ихаилом] А[фанасьевичем] третьего дня. Он говорит, что Добраницкого мы больше не увидим — не позвонит, не придёт».
22 июня 1937 года в гости к Булгаковым заглянул Ф.Н. Михальский, работник МХАТа, собиравшийся вместе с театром ехать на гастроли в Париж:
«Ну, конечно, разговор перебросился на Мишины дела. Всё тот же лейтмотив — он должен писать, не унывать. Миша сказал, что он чувствует себя, как утонувший человек — лежит на берегу, волны перекатываются через него».
Булгаков — «утонувший человек»? Тем, кому довелось тогда общаться с ним, трудно было в это поверить. То лето выдалось очень жарким. Булгаковы чуть ли не каждый день ездили на Москва‑реку, там купались, Михаил Афанасьевич катался на байдарке. А по вечерам шли ужинать в кафе «Журналист» или в ресторан Клуба мастеров искусств. И самым жизнерадостным, самым активным участником всех этих мероприятий был Михаил Булгаков — тот самый «утонувший человек», через которого «перекатываются волны».
Запись от 23 июня:
«Вечером явился Добраницкий. Я выиграла пари».
А через два дня произошла и вовсе неожиданная встреча:
«Вышли в город и тут же в Гагаринском встретили Эммануила Жуховицкого. Обрадовался, говорил, что обижен очень нами, что мы его изъяли, спрашивал, когда может опять придти? Условились на сегодняшний вечер, в десять часов…
Жуховицкий явился почему‑то в одиннадцать часов и почему‑то злой и расстроенный (М[ихаил] А[фанасьевич] объяснил потом мне — ну, ясно, потрепали его здорово в учреждении)».
О каком «учреждении» шла речь Елена Сергеевна не уточнила, но догадаться несложно — об НКВД.
«Начал он с речей, явно внушённых ему, — с угрозы, что снимут „Турбиных“, если М[ихаил] А[фанасьевич] не напишет агитационной пьесы.
М[ихаил] А[фанасьевич]:
— Ну, я люстру продам.
Потом о „Пушкине“: почему, как и кем была снята пьеса?
Потом о „Зойкиной“ в Париже: что и как?
Сказали, что уже давно не имеем известий.
Словом, полный ассортимент: расспросы, враньё, провокации».
Продолжал заглядывать к Булгаковым и художник Владимир Дмитриев. Тоже много говорил, много спрашивал, засиживаясь глубоко заполночь. Пришёл он и 2 июля:
«После обеда пошли на балкон и стали втроём забавляться игрой — пускали по ветру бумажки папиросные и загадывали судьбу — высоко ли и далеко ли полетит бумажка».
В 1937‑ом подобное времяпрепровождение легкомысленным баловством не считалось. Такие пришли времена, когда дальнейшая судьба практически любого советского человека была приравнена к стоимости папиросной бумажки, за благополучный полёт которой поручиться мог далеко не каждый.
Время репрессий
Июль Булгаковы провели под Житомиром — на даче у знакомых. Работая над либретто оперы о Петре Первом, Булгаков послал письмо в Москву — Якову Леонтьеву и его близким:
«,Дорогие друзья,
здесь прелестно! И вот, радуясь солнцу, речке, акациям, лицам, сладостному воздуху и надежде излечиться от утомления, и Люся, и я нежно вас целуем …»
Вернувшись в августе в Москву, Булгаковы обнаружили, что в столице мало что изменилось. Год 1937‑ой продолжал своё мрачное шествие. И продолжали исчезать люди. Но к этому успели уже привыкнуть. Раз кого‑то арестовывают, значит, есть за что — дыма без огня не бывает.
В дневнике Елены Сергеевны появились новые фамилии:
«… Аркадьев арестован…
… писатель Клычков, который живёт в нашем доме, арестован. Не знаю Клычкова…
… слухи о писательских арестах. Какой‑то Зарубин, Зарубин, потом Бруно Ясенский, Иван Катаев, ещё кто‑то…
… арестован Бухов. Он на меня всегда производил мерзкое впечатление…
М[ихаил] А[фанасьевич] слышал, что в Ленинграде посажен Адриан Пиотровский».
Пожалуй, настало время спросить: а почему не «брали» Булгакова?
В самом деле, почему?
Может быть, не разрешал Сталин? Не давал санкции?
Может быть. Но, скорее всего, причина была в другом — писатель и так жил как бы в клетке, находясь под неусыпным надзором соглядатаев «битковых». А «одинокий волк» (когда он за решёткой) никому не страшен. Зато его присутствие (где‑то рядом, совсем под рукой) приятно щекочет самолюбие. Тираны, как известно, во все времена любили устраивать в своих дворцах экзотические зверинцы. Кто знает, может быть, именно поэтому опальный литератор и находился как бы на свободе?
Зато статус поднадзорного «волка» отразился на судьбах родственников Булгакова. Так, 15 августа позвонила Ольга Бокшанская и сообщила, что её…
«… в последний день не пустили в Париж. Почему — неизвестно».
Да и зачем это обсуждать? Одним разрешают выезжать за рубеж, а другим нет, одних арестовывают, других оставляют на свободе… Об этом тогда старались не говорить, прекрасно понимая, как это опасно. Да и совать свой нос в чужие дела у интеллигентных людей было не принято. Не зря же Воланд произнёс:
«Каждое ведомство должно заниматься своими делами»!
Одно из таких «ведомств» (Бюро секции драматургов Союза советских писателей) вспомнило о Булгакове и прислало ему запрос. Писатель ответил заботливым коллегам:
«Дорогие товарищи!
По возвращении моём в Москву я нашёл у себя письмо Бюро Драмсекции от 29.737, в котором Бюро запрашивает меня о работе моей над пьесой к 20‑летию Октября.
С большим сожалением я должен уведомить Бюро, что уже больше года я не занимаюсь сочинением пьес для драматических театров».
Кроме того, секция драматургов запрашивала, не нуждается ли Булгаков в каком либо виде помощи от Бюро. Об этом — слово Елене Сергеевне:
«… в ответ на вопрос о помощи написал, что помощь они могут оказать, если похлопочут о квартире в Лаврушенском и об авансе во Всероскомдраме (так как денег у нас нет ни копейки).
Такое же письмо Тренёву — председателю драмсекции.
Пошли во Всероскомдрам. Просьба об авансе. Очень милое отношение…»
17 августа:
«Звонок Тренёва утром. Письмо уже получено и, по‑видимому, произвело впечатление. Квартиры, конечно, не будет».
Однако последствия от письма всё‑таки были — к Булгакову тотчас направили надёжного «успокоителя». Вот запись в дневнике от 20 августа:
«После телефонного звонка — Добраницкий. Сказал, что арестован Ангаров. М[ихаил] А[фанасьевич] ему заметил, что Ангаров в его литературных делах (М[ихаила] А[фанасьевича]), в деле с „Иваном Васильевичем “ с „Мининым „сыграл очень вредную роль.
Добраницкий очень упорно предсказывает, что судьба Михаила] А[фанасьевича] изменится сейчас к лучшему, а М[ихаил] А[фанасьевич] так же упорно в это не верит».
В сентябре 1937 года Булгаков закончил работу над очередным либретто и 17 числа направил Керженцеву письмо:
«Прилагая при этом экземпляр оперного либретто „Пётр Великий“, сочинённого мною и сданного в Большой театр (согласно договорённости, по которой я обязался сочинять одно либретто в год для Большого театра), прошу Вас ознакомиться с ним».
А в дневнике Елены Сергеевны продолжали перечисляться «исчезавшие» лица:
«… арестован Литовский. Ну, уж это было бы слишком хорошо…
Слух, что арестован Киршон. М[ихаил] А[фанасьевич] этому не верит».
И вдруг 19 сентября явно обескураженная Елена Сергеевна записала:
«Дмитриев… говорил, что в Ленинграде видел Литовского».
Но не только о «врагах» и об «арестах» писалось в дневнике. Были записи и о самых обычных будничных событиях. Так, в конце сентября Калужский и Бокшанская, вытеснявшиеся Марианной Шиловской из дома в Ржевском переулке, наконец‑то справили новоселье. И Булгаковы…
«… поехали к Калужским на новую квартиру — на улице Кирова. Квартира приличная, только крутая лестница. Был Гриша Конский».
Даже простые повседневные дела не обходились в те годы без недреманного ока закадычного «друга Гриши».
Испанская тема
А Булгаков всё не оставлял попыток найти выход из создавшегося тупика. Елена Сергеевна записывала:
«Мучительные поиски выхода: письмо наверх? Бросить ли театр? Откорректировать роман и представить?
Ничего нельзя сделать. Безвыходное положение.
Поехали днём на речном трамвайчике — успокаивает нервы».
Даже в письмах, в которых речь шла о сугубо музыкальных делах Большого театра, Булгаков рассуждал о своей загубленной судьбе. Так, направляя 2 октября очередную весточку композитору Асафьеву, он вставил в неё строчки, явно предназначавшиеся не только адресату:
«За семь последних лет я сделал 16 вещей разного жанра, и все они погибли. Такое положение невозможно, и в доме у нас полная бесперспективность и мрак».
А 3 октября 1937 года в дневнике Елены Сергеевны приведено другое высказывание:
«М[ихаил] А[фанасьевич] сказал:
— Я работаю на холостом ходу… Я похож на завод, который делает зажигалки…»
Запись от 5 октября:
«Письмо от Вересаева, сообщает, что его материальное положение ухудшилось, просит вернуть долг — 1000 р., которые мы брали у него после мольеровского разгрома. М[ихаил] А[фанасье вич] отправил ему письмо по почте — о том, что завтра или сегодня вернёт, извинился за задержку».
В тот же день необходимую сумму заняли, долг вернули, и Елена Сергеевна подвела итог:
«Денег у нас до ужаса нет».
В том же письме Вересаеву Булгаков повторил расчёты, о которых сообщал Асафьеву:
«Недавно подсчитал: за 7 последних лет я сделал 16 вещей, и все они погибли, кроме одной, и та была инсценировкой Гоголя! Наивно было бы думать, что пойдёт 17‑я или 19‑я.
Работаю много, но без всякого смысла и толка. От этого нахожусь в апатии».
Любопытно содержание агентурной сводки, описывающей состояние Булгакова тех дней. Агент‑доносчик приводит такое высказывание писателя:
«Мне все говорят о моих ошибках, и никто не говорит о главной из них: ещё с 1929‑30 года мне надо было бросить писать вообще. Я похож на человека, который лезет по намыленному столбу только для того, чтобы его стаскивали за штаны вниз для потехи почтеннейшей публики. Меня травят так, как никого и никогда не травили: и сверху, и снизу, и с боков. Ведь мне официально не запретили ни одной пьесы, а всегда в театре появляется какой‑то человек, который вдруг советует пьесу снять, и её сразу снимают. А для того, чтобы придать этому характер объективности, натравливают на меня подставных лиц».
А Елена Сергеевна заносила в дневник высказывание другого «агента»:
«9 октября.
Дмитриев. Говорил, что нужно написать новую картину в „Беге “, тогда пойдёт пьеса. Вздор какой!..»
И всё чаще врывались в жизнь отголоски репрессий:
«13 октября.
В газетах о снятии Бубнова с должности…»
Режим продолжал избавляться от нелояльных, от правых, левых и прочих, запятнавших себя общением с троцкистами. Эта тема была тогда очень актуальна. Не случайно в агентурной сводке так подробно говорится о том, как к политическим процессам относится писатель Булгаков:
«Для меня нет никаких событий, которые бы меня сейчас интересовали и волновали. Ну, был процесс — троцкисты, ну, ещё будет — ведь я же не полноправный гражданин, чтобы иметь своё суждение. Я поднадзорный, у которого нет только конвойных. Что бы ни происходило в стране, результатом всего этого будет продолжение моей травли».
Но вернёмся к дневнику Елены Сергеевны.
«16 октября
… долгий разговор с Керженцевым о „Петре“, о „Минине“. Смысл тот, что всё это надо переделывать…
23 октября.
Выправить роман (дьявол, мастер, Маргарита) и представить…
27 октября.
Миша правит роман…
Пильняк арестован …»
Бориса Пильняка арестовали 28 октября 1937 года. На даче в Переделкино, где отмечался семейный праздник — трёхлетие сына. В десять часов вечера в доме появился незваный гость. Борис Андреевич хорошо его знал — не раз встречался с ним в советском посольстве в Японии. Лучезарно улыбаясь, гость мягко проговорил:
«— Николай Иванович срочно просит вас к себе. У него к вам какие‑то вопросы. Через час вы будете дома. Возьмите свою машину, на ней и вернётесь. Николай Иванович хочет что‑то у вас уточнить».
Пильняк поехал на встречу с Николаем Ивановичем, наркомом внутренних дел Н.И. Ежовым. С тех пор Бориса Андреевича Вогау, писавшего под псевдонимом Борис Пильняк, никто больше не видел. Он сгинул в казематах Лубянки.
Но он ли один? Вернёмся к дневнику Елены Булгаковой.
«11 ноября.
Оказывается, Добраницкий арестован».
Чем‑то, значит, не угодил «агент» Добраницкий новому начальству — людям Ежова. Но не зря говорят, что свято место пусто не бывает. Исчезнувшего «друга» Добраницкого тут же надёжно заменил другой не менее надёжный «друг», актёр Григорий Конский:
«Позвонил Конский — соскучился, — можно придти?
Пришёл, но вёл себя странно. Когда М[ихаил] А[фанасьевич] пошёл к телефону, Гриша, войдя в кабинет, подошёл к бюро, вынул альбом оттуда, стал рассматривать, подробно осмотрел бюро, даже пытался заглянуть в конверт с карточками, лежащий на бюро. Форменный Битков».
А вот запись от 12 ноября 1937 года:
«Вечером М[ихаил] А[фанасьевич] работал над романом о Мастере и Маргарите».
Обратим внимание, слово «мастер» — с заглавной буквы. Елена Сергеевна ещё не привыкла к тому, что своего героя Булгаков писал с маленькой буквы.
И вдруг — неожиданное предложение. Ещё летом вахтанговцы обратились с просьбой инсценировать роман Сервантеса. 24 июня Елена Сергеевна записала:
«Письмо от Кузы. Предлагает делать Мише „Дон Кихота“.
Булгаковы стали размышлять. Размышляли полгода.
1 декабря в дневнике появилась запись:
«Звонил Куза о „Дон‑Кихоте“. Браться?.. Не браться?.. Денег нет, видно — браться».
3 декабря (после посещения дирекции Вахтанговского театра):
«Мучительно подписывать договор. Торговались плаксиво. Деньги должны дать по частям».
7 декабря:
«Получили деньги, вздохнули легче. А то просто не знала, как жить дальше. Расходы огромные, поступления небольшие. Долги».
14 декабря 1937 года в Большом театре состоялась премьера оперы «Поднятая целина». Елена Сергеевна в тот же вечер записала:
«… на „Поднятой целине“ был Генеральный секретарь и, разговаривая с Керженцевым о репертуаре Большого, сказал:
— А вот же Булгаков написал „Минина и Пожарского“».
Михаил Афанасьевич тотчас отправил в Ленинград письмо Асафьеву:
«Дорогой Борис Владимирович!..
14 декабря я был приглашён к Керженцеву, который сообщил мне, что докладывал о работе над „Мининым“, и тут же попросил меня в срочном порядке приступить к переделкам в либретто, на которых он настаивает».
Работа вновь закипела.
Руководство Большого театра, недовольное тем, как реагирует на происходящее с оперой Асафьев, стало подыскивать нового композитора. Булгаков тут же послал новую телеграмму в Ленинград:
«Немедленно выезжайте Москву».
За этой телеграммой полетели другие, затем были посланы письма. 26 декабря Елена Сергеевна записала:
«Звонок из Ленинграда, но говорит не Асафьев, а жена его, и повторяет только одно — „Ваши письма расстроили Бориса Владимировича“. Михаил Афанасьевич сердился, говорил мне потом, что ни одно доброе дело не остаётся без наказания».
В канун нового 1939 года Булгаков слёг с гриппом. Болея, размышлял о трудной судьбе «Минина и Пожарского» и о туманном будущем «Дон Кихота». Ведь о ещё ненаписанной пьесе ему тоже говорил Керженцев — на той декабрьской встрече после премьеры «Поднятой целины». Елена Сергеевна записала тогда, что Платон Михайлович…
«О „Дон‑Кихоте“ сказал, что надо сделать так, чтобы чувствовалась современная Испания. О, ччёрт!..»
В Испании, как известно, в тот момент шла гражданская война, в которой Советский Союз поддерживал республиканцев. Каким образом это должно было отразиться в булгаковской пьесе, понять было невозможно.
Вновь обратимся к агентурной сводке. В ней затрагивалась и испанская тема. Стукач‑доносчик передавал по начальству такие слова Михаила Булгакова:
«Об испанских событиях читал всего три‑четыре раза. Мадрид возьмут, и будет резня. И опять‑таки, если бы я вдохновился этой темой и вздумал бы написать о ней — мне всё равно бы этого не дали.
Если бы я написал об Испании, то кругом закричали бы: ага, Булгаков радуется, что фашисты победили».
А год 1937 тем временем завершился. «Горький вкус у меня от него», — записала в дневнике Елена Сергеевна.
С 11 по 20 января 1938 года проходил очередной пленум ЦК ВКП(б). Сообщая о результатах его работы, газеты писали, что, хотя явные враги уже истреблены, в стране враждебных элементов ещё предостаточно. Поэтому советским людям был брошен очередной клич:
«Пора истребить замаскированного врага, пробравшегося в наши ряды и старающегося фальшивыми криками о бдительности скрыть свою враждебность!»
Выводы из решений пленума были сделаны молниеносно. Уже 18 января газеты принесли сообщение, тут же попавшее в дневник Елены Сергеевны:
«… гробовая новость о Керженцеве. На сессии в речи Жданова Керженцев назван коммивояжёром. Закончилась карьера. Боже, сколько путаницы он внёс, сколько вреда причинил искусству».
Запись от 30 января:
«Говорят, что Равичев (или Рабинович) — помощник Керженцева, застрелился».
А Булгаков 4 февраля отправил письмо Сталину. На этот раз Михаил Афанасьевич просил не за себя, а за Николая Эрдмана, которому после отбытия ссылки не разрешали жить в столице.
6‑го числа…
«Утром звонок Дмитриева, просится прийти немедленно. Пришёл подавленный. Оказывается, жену его, Елизавету Исаевну, арестовали. Советовался, как хлопотать».
Этот арест никого не удивил: всё шло своим чередом. Не зря ведь про лубянское ведомство, продолжавшее избавляться от сподвижников Ягоды, наиболее отчаянные остряки с усмешкой говорили: «Цветочки сорваны, теперь за ягодки взялись!».
Однако новость, о которой узнали 23 февраля, огорошила настолько, что в неё не хотелось верить:
«… М[ихаилу] А[фанасьевичу] говорили, что арестован доктор Блументаль (!) Что всё это значит?»
В самом деле, какую опасность для советского строя мог представлять врач‑гинеколог Н.Л. Блументаль? Понять было невозможно.
Запись от 28 февраля:
«Сегодня в газетах сообщение о том, что 2 марта в открытом суде (в Военной коллегии Верховного суда) будет слушаться дело Бухарина, Рыкова, Ягоды и других…»
Завершение романа
А жизнь в доме Булгаковых текла по‑прежнему, без особых видимых изменений. Днём — работа в Большом театре, вечером — гости или походы в театры. Иногда Михаилу Афанасьевичу удавалось вырвать часок‑другой и сходить на каток с пасынком Сергеем.
Ажиотаж вокруг «Минина и Пожарского», вызванный репликой Сталина, потихоньку затихал. Приближалась премьера «Ивана Сусанина», а две оперы на одну и ту же тему и об одном и том же времени на сцене ГАБТа идти не могли.
И Булгаков всё свободное время отдавал теперь окончательной отделке романа о дьяволе. 1 марта Елена Сергеевна записала:
«Миша днём у Ангарского, сговаривается почитать начало романа. Теперь, кажется, установилось у Миши название „Мастер и Маргарита“. Печатанье его, конечно, безнадёжно. Теперь Миша правит его и гонит вперёд, в марте хочет кончить. Работает по ночам».
На пришедшее 22 марта приглашение от американского посла (посетить бал в посольстве) Елена Сергеевна отреагировала с грустью:
«Было бы интересно пойти. Но не в чем, у М[ихаила]Афанасьевича] брюки лоснятся в чёрном костюме. У меня нет вечернего платья. Повеселили сами себя разговорами, и всё».
Препятствовало хождению по балам и вновь ухудшившееся самочувствие Булгакова. Праздничным первомайским вечером он даже пошёл к своему доброму приятелю, врачу А.А. Арендту…
«… посоветоваться, что делать — одолели головные боли».
А 2 мая к Булгаковым зашёл старый знакомый, И.С. Ангарский‑Клёстов — тот самый, что в 20‑х годах возглавлял издательство «Недра». Он вновь объявился в Москве и занялся издательскими делами.
«Ангарский пришёл… и с места заявил: „А не согласитесь ли написать авантюрный советский роман? Массовый тираж, переведу на все языки, денег тьма, валюта, хотите, сейчас чек дам — аванс? „
Миша отказался, сказал — это не могу.
После уговоров Ангарский попросил М[ихаила] Афанасьевича] читать его роман (Мастер и Маргарита)».
Казалось бы, вот он — тот самый роман, который так искал Ангарский. Куда уж авантюрнее? Берите, переводите на любой язык.
«М[ихаил] А[фанасьевич] прочитал три первых главы.
Ангарский сразу сказал: „а это печатать нельзя “.
— Нельзя».
23 мая последняя страница «Мастера и Маргариты» была дописана. Роман заканчивался полётом главных его героев к своему последнему пристанищу:
«Мастер одной рукой прижал к себе подругу и погнал шпорами коня к луне, к которой только что улетел прощённый в ночь воскресения пятый прокуратор Иудеи».
Работа, длившаяся около десяти лет, наконец‑то была завершена. Роман оставалось только перепечатать набело и… А что, собственно, могло произойти потом? Сам Михаил Афанасьевич 15 июня (в письме жене на дачу) высказался по поводу судьбы своего «Мастера…» так:
«„Что будет?“— ты спрашиваешь? Не знаю. Вероятно, ты уложишь его в бюро или в шкаф, где лежат убитые мои пьесы, и иногда будешь вспоминать о нём. Впрочем, мы не знаем нашего будущего.
Свой суд над этой вещью я уже совершил, и, если мне удастся ещё немного приподнять конец, я буду считать, что вещь заслуживает корректуры и того, чтобы быть уложенной в тьму ящика.
Теперь меня интересует твой суд, а буду ли я знать суд читателей, никому неизвестно».
24 июня роман (с помощью сестры Елены Сергеевны, Ольги Бокшанской) был, наконец, перепечатан. И положен на полку шкафа — дожидаться своего часа.
Пьеса о рыцаре
Давно ли Булгаков называл свои попытки сочинять пьесы для советской сцены «чистейшим донкихотством»? Давно ли сетовал на то, что опыт этот был для него слишком печальным и клялся: «… больше я его не повторю»?..
Жизнь всё же заставила его заняться делом, которое иначе как донкихотством в квадрате не назовёшь. Летом 1938 года в подмосковной Лебедяни (там отдыхали Елена Сергеевна с сыном Сергеем и его няней‑воспитательницей) Михаил Афанасьевич…
«… стал при свечах писать „Дон‑Кихота“ и вчерне — за месяц — закончил пьесу».
В ней — масса автобиографичных деталей. В иных местах даже возникает ощущение, что главным героем пьесы является не Дон Кихот, а сам Михаил Булгаков. Что это он в образе рыцаря Печального Образа странствует по жизни, пытаясь своим пером, как пикой, всюду уничтожать несправедливость.
Хитроумный идальго и внешне немного похож на Булгакова. Хотя бы тем, что страдает от галлюцинаций, что всё время рвётся кого‑то спасать, что мечтает о мщении.
Люди, окружающие Дон Кихота, постоянно напоминают ему о том, что времена благородного рыцарства давно канули в Лету, что пора‑де остепениться… Разве не то же самое приходилось выслушивать Булгакову, которого беспрестанно призывали одуматься, смириться и поставить своё перо на службу большевистской власти?
Но обратимся к пьесе.
Начинается она с эпиграфа. Для него Михаил Афанасьевич использовал строки, которые автор романа, Сервантес, адресовал своему покровителю:
«Вложив ногу в стремя, в предсмертном волнении пишу тебе это, великий сеньор».
Кому адресованы эти слова? Зрителям, что придут в театр? Читателям, что возьмут в руки его пьесу, если она будет напечатана?
Прежде всего, этот эпиграф обращён к нему — самому главному читателю булгаковских произведений, к его покровителю, к его «великому сеньору». Ему же адресованы и многие реплики пьесы. А некоторые монологи и вовсе производят впечатление, будто они составлены из строк того письма, в котором драматург высказывал вождю свои тревоги, но отправить которое так и не решился.
Есть в пьесе персонаж, который заслуживает особого разговора. Это Духовник, вступающий в жаркую полемику со странствующим идальго.
Духовник!..
В этом образе — и это невозможно не почувствовать — почти нескрываемый намёк на Иосифа Сталина, который, как мы помним, учился в духовной семинарии. Поэтому и спор Дон Кихота с духовником воспринимается как воображаемый разговор писателя с вождём — тот самый разговор, которого столько лет ждал Булгаков, и которому, увы, так и не суждено было состояться.
Булгакову, вне всяких сомнений, была известна характеристика, данная Сталину Лионом Фейхтвангером в его книге о Москве 1937 года:
«Сталин определённо не является великим оратором… Но главное у Сталина — это юмор, обстоятельный, хитрый, спокойный, норой беспощадный крестьянский юмор».
И в «Дон Кихоте» Духовник (Сталин), как и подобает святому отцу, пытается с присущим ему «юмором» наставить заблудшего христианина (Булгакова) на путь истинный:
«ДУХОВНИК. Как могли вы вбить себе в голову, что вы странствующий рыцарь, побеждающий гигантов и берущий их в плен? Перестаньте шататься по свету, глотая ветер и служа посмешищем добрых людей! Бросьте ваши безумства, вернитесь в свой дом, учите ваших детей, если они у вас есть, заботьтесь о хозяйстве! Где в Испании вы видели странствующих рыцарей, гигантов и очарованных принцесс? Где все эти нелепости, которыми вы смешите людей?»
В словах Духовника — квинтэссенция тех упрёков и обвинений, которые страна Советов бросала в лицо Михаилу Булгакову. Кто‑то, видимо, советовал ему вместо сочинения крамольных пьес заняться воспитанием детей. И вот пришла пора этим «советчикам» ответить. И драматург (устами рыцаря Печального Образа) ответил. Может быть чересчур многословно, но тут уж ничего не поделаешь — слишком накипело.
Прислушайтесь: в каждой фразе, произносимой Дон Кихотом, слышен голос самого Михаила Булгакова:
«ДОН КИХОТ. Ну что же, я буду сражаться с вами вашим оружием — языком. Скажите мне, за какое именно из моих безумств вы осуждаете меня больше всего и приказываете мне учить детей, которых у меня никогда не было? Вы считаете, что человек, странствующий по свету не в поисках наслаждений, а в поисках терний, безумен и праздно тратит время? Люди выбирают разные пути. Один, спотыкаясь, карабкается по дороге тщеславия, другой ползёт по тропе унизительной лести, иные пробираются по дороге лицемерия и обмана. Иду ли я по одной из этих дорог? Нет! Я иду по крутой дороге рыцарства и презираю земные блага, но не честь! За кого я мстил, вступая в бой с гигантами, которые вас так раздражали? Я заступался за слабых, обиженных сильными. Если я видел где‑нибудь зло, я шёл на смертельную схватку, чтобы побить чудовищ злобы и преступлений! Вы их не видите нигде? У вас плохое зрение, святой отец! Моя цель светла — всем сделать добро и никому не причинить зла. И за это я, по‑вашему, заслуживаю презрения?»
Булгаков, пожалуй, впервые открыто, не прячась ни за какие иносказания, заявлял о своём мщении. О том, что он вполне осознанно вступил в битву с большевистскими «гигантами», жаждая побить этих «чудовищ злобы и преступлений». Сражение это он считает справедливым, ибо ставит перед собою единственную цель: защитить «слабых, обиженных сильными».
Когда же Духовник (Сталин), не желающий видеть творящихся вокруг него преступлений, объявляет ополчившегося на них Дон Кихота «безумным», странствующий рыцарь (Булгаков) невозмутимо отвечает:
«— У вас плохое зрение, святой отец!»
В этой пьесе Булгаков вновь продемонстрировал нам своё умение предвидеть грядущее. В самом деле, ведь рыцарь Печального образа полемизирует с Духовником, используя его же оружие — язык. А, как известно, своими тщательно подготовленными выступлениями Иосиф Виссарионович не раз громил своих противников, увлекая за собою массы. А в конце сороковых годов выйдет в свет сталинская работа «Марксизм и вопросы языкознания», которая наделает в стране немало шума. Булгаков как будто предчувствовал появление этой книги.
Обратим внимание ещё на один штрих: драматург даёт Сталину несколько рискованно смелых советов. В сцене, где рыцарь Печального Образа наставляет Санчо, идущего на губернаторство, звучат отчаянно дерзкие рекомендации, явно адресованные всесильному генсеку (надо лишь заменить обращение «Санчо» на «Сосо»):
«ДОН КИХОТ. Что ещё мне хотелось сказать? Ах да. Ведь ты будешь судить людей! Это трудно, Санчо. Слушай же меня и не позабудь ничего. Когда будешь судить, не прибегай к произволу… Руководись законом, но помни: если этот закон суров, не старайся придавить всей его тяжестью осуждённого! Знай, что слава строгого судьи никак не громче славы судьи милостивого».
Не будем забывать, что эти слова были написаны в то самое время, когда на весь мир гремели открытые судебные процессы над «врагами народа», то есть над людьми, ещё вчера считавшимися гордостью пролетарской державы. А Булгаков (устами Дон Кихота) бесстрашно «поучал» устроителя тех беспрецедентных судилищ:
«ДОН КИХОТ. Всё может быть в суде. Например, перед тобою может предстать твой враг. Что должен ты сделать в таком случае? Немедленно забыть обиду, нанесённую им тебе, и судить его так, как будто ты видишь его впервые в жизни. Бывают случаи, Санчо, когда судейский жезл вдруг задрожит в руке судьи, и, если это случится с тобой, не вздумай склонить его потому, что кто‑то шепнул тебе что‑нибудь и сунул звякнувший мешок тебе в капюшон. Последнее в особенности запомни, Санчо, если ты не хочешь, чтобы я стал презирать тебя».
Дон Кихот ничего не требует, он только даёт советы. Но в его монологах звучат выражения, которые вряд ли могли понравиться тому, кто повелевал судьбами миллионов людей.
«ДОН КИХОТ. И если ты когда‑нибудь в состоянии малодушия вздумаешь склонить жезл судьи, то только из сострадания! Что ещё мне сказать тебе? Не будь грубым с низшими, Санчо, и, прошу тебя, перестань ты болтать, знай, что болтовня может довести тебя до виселицы…»
А теперь приглядимся к тому, как в «Дон Кихоте» описаны сами странствия хитроумного идальго (кстати, как много в них похожего на жизнь самого Булгакова).
Вот Дон Кихот, преисполненный рыцарского благородства, вступает в бой с «гигантами». Вот его награждают насмешками и тумаками… И вот перед ним появляется человек, чьё лицо закрыто забралом. Происходит короткая битва, и благородный рыцарь повержен. Он умирает.
Человек с закрытым лицом — это Сансон Карраско, бакалавр, называющий себя в целях конспирации рыцарем Белой луны. Именно он (носящий те же инициалы, что и у Кобы Сталина) и побеждает в поединке Дон Кихота.
В те годы слово «забрало» вызывало вполне определённые ассоциации — ведь про всех, кого арестовывала Лубянка, говорили, что их «забрали». Как не вспомнить в этой связи восторженное письмо, которое 21 августа 1936 года советские писатели отправили народному комиссару внутренних дел Генриху Ягоде:
«Мы гордимся вашей верной и самоотверженной работой, без промаха разящей врага!»
Не из этих ли слов родилась реплика, описывающая внешний вид соперника Дон Кихота:
«… огни плавают в его панцире и боевой отвагой горят его глаза — я вижу их в щели забрала!»?
Поверженный бакалавром Сансоном Карраско, рыцарь Печального Образа обращается к своему оруженосцу:
«ДОН КИХОТ. Ах, Санчо, Санчо! Повреждения, которые нанесла мне его сталь, незначительны. Также и душу мою своими ударами он не изуродовал. Я боюсь, не вылечил ли он мою душу, а вылечив, вынул её, но другой не вложил… Он лишил меня самого драгоценного дара, которым награждён человек, он лишил меня свободы! На свете много зла, Санчо, но хуже плена нету зла! Он сковал меня, Санчо… Смотри, солнце срезано наполовину, земля поднимается всё выше и пожирает его. На пленного надвигается земля! Она поглотит меня, Санчо».
Говоря о «повреждениях», которые нанесла странствующему рыцарю некая «сталь», Булгаков почти в открытую называл виновника всех своих несчастий — Иосифа Сталина.
Закончив писать «Дон Кихота» Булгаков вернулся в Москву и 7 августа 1938 года отправил в Лебедянь (оставшейся там жене) письмо, в котором, в частности, упомянул и о внезапно объявившемся Дмитриеве:
«Он обрушился на меня из Ленинграда с сообщением, что его посылают на жительство в Таджикистан. Сейчас он хлопочет через Москвина как депутата и МХТ о пересмотре этого решения, и есть надежда, что так как за ним ничего не числится, а жительство ему назначено, как мужу сосланной его жены, а также потому, значение его как большого театрального художника несомненно, участь его будет изменена».
Между тем один из ближайших друзей Булгакова, заместитель директора Большого театра Я.Л.Леонтьев, о Дмитриеве отзывался весьма нелестно:
«… на самом деле он — плохой человек, грубый, эгоистичный и чрезвычайно практичный».
Но Булгаковы по‑прежнему относились к нему как к старому приятелю, ценили в нём талант театрального художника и как ни в чём не бывало продолжали принимать у себя дома.
В тот же день (7 августа) уже поздно вечером Булгаков отправил жене ещё одно короткое письмо:
«Мой друг, сегодня, когда писал тебе днём письмо, узнал, что Станиславский умер».
Наступила осень.
4 сентября у себя дома Михаил Афанасьевич читал «Дон Кихота». Среди слушателей был и Дмитриев (с новой женой Мариной). Лубянка продолжала контролировать каждый шаг драматурга.
Новая пьеса произвела впечатление. Но и озадачила. Многие, по‑видимому, почувствовали то же самое, что чувствуем сегодня мы, когда читаем и перечитываем булгаковского «Дон Кихота». И это не ускользнуло от Елены Сергеевны:
«Явно понравилось!.. И, конечно, разговор о том, что всё прекрасно, но вот вместо какой‑то сцены нужно поставить другую… На лицах написан вопрос — как пройдёт, да под каким соусом, да как встретит это начальство и так далее».
10 ноября состоялось официальное представление пьесы театру. Елена Сергеевна записала:
«Днём были в Вахтанговском — в два часа было назначено чтение „Дон Кихота“. Встретили Мишу долгими аплодисментами, слушали (человек до ста, пожалуй) превосходно: вся роль Санчо, эпизод с бальзамом, погонщика — имели дикий успех, хохотали до слёз, так что Миша должен был иногда прерывать чтение. После финала — ещё более долгие аплодисменты. Потом Куза встал и торжественно объявил: „Всё! “, то есть никаких обсуждений. Этот сюрприз они, очевидно, готовили для того, чтобы доставить Мише удовольствие, не заставлять его выслушивать разные, совершенно необоснованные мнения».
А ровно за неделю до чтения «Дон Кихота» Булгаков выступил на вечере, посвящённом 40‑летию МХАТа. Елена Сергеевна не без гордости записала:
«Мише была устроена овация (именно это выражение употребляли все) и номер был блестящий. Все подчёркивают, что в этой встрече обнаружилось настоящее отношение к Мише — восторженное и уважительное».
Этот ли восторг от выступления Булгакова послужил поводом, или была какая‑то предварительная договорённость, но 9 сентября 1938 года в гости к нему нагрянули два мхатовца. Это посещение и положило начало последней, завершающей главе в жизни опального писателя.
Глава вторая Судьба мастера
Батумский пастырь
Итак, в начале сентября 1938 года Булгакова посетили мхатовцы П.А. Марков и В.Я. Виленкин. Этот визит в дневнике Елены Булгаковой зафиксирован так:
«Пришли в одиннадцатом часу вечера и просидели до пяти утра… Они пришли просить М[ихаила] А[фанасьевича] написать пьесу для МХАТа.
— Я никогда не пойду на это, мне это невыгодно делать, это опасно для меня. Я знаю всё вперёд, что произойдёт. Меня травят, я даже знаю, кто. Драматурги, журналисты.
Потом М[ихаил] А[фанасьевич] сказал им всё, что он думает о МХАТе, все вины его в отношении М[ихаила] А[фанасьевича], все хамства. Прибавил:
— Но теперь уже всё это — прошлое. Я забыл и простил. (Как М[ихаил] А[фанасьевич] умеет — из серьёза в шутку перейти.) Но писать не буду…
— МХАТ гибнет. Пьес нет… Ты ведь хотел писать пьесу на тему о Сталине?..
М[ихаил] А[фанасьевич] сказал:
— Это, конечно, очень трудно… хотя многое мне уже мерещится из этой пьесы.
Они с трудом ушли в пять часов утра…»
В этом разговоре Булгаков был вполне откровенен и искренен. Последние годы жизни наглядно продемонстрировали полную бесперспективность практически всех его драматургических попыток. Сколько размышлений было об этом, сколько горьких слов высказано вслух в период откровений. Елена Сергеевна записывала:
«Подумать только, у М[ихаила] А[фанасьевича]написано двенадцать пьес, — и ни копейки на текущем счету. Идут только две пьесы в одном театре».
«Две пьесы» — это «Дни Турбиных» и инсценировка «Мёртвых душ».
И всё‑таки он решил рискнуть. Слишком необычной была ситуация. Точнее, даже не ситуация, а главный герой его будущей пьесы — не простой смертный, а великий вождь в ореоле всенародной славы.
Сохранилась тетрадь, где рукой Михаила Булгакова поставлена дата (10 сентября 1938 года) и написано:
«„Пастырь“. Материалы для пьесы или оперы о Сталине».
Однако в полную силу посвятить себя этому делу мешали суетливые повседневные хлопоты. Дни по‑прежнему поглощались служебной текучкой: Булгаков то пропадал в театре, то просиживал в балетном техникуме, то сочинял свои либретто, то правил чужие. А по вечерам приходили гости, их надо было развлекать, веселить…
Дневник Елены Сергеевны продолжал заполняться печальными фразами:
«Но между всеми этими делами — постоянный возврат к одной и той же теме — к загубленной жизни М[ихаила] А[фанасьевича].
М[ихаил] А[фанасьевич] обвиняет во всём самого себя. А мне тяжело слушать это. Ведь я знаю точно, что его погубили. Погубили писатели, критики, журналисты. Из зависти. А кроме того, потому, что он держится далеко от них, не любит этого круга, не любит богемы, амикошонства.
Ему это не прощается. Это как‑то под пьяную лавочку высказал всё Олеша».
А тут вдруг Большому театру срочно потребовалось либретто по рассказу Мопассана «Мадемуазель Фифи». Музыку должен был писать Исаак Дунаевский. Тема захватила. Личность композитора тоже. Пришлось приниматься за либретто. Будущую оперу назвали «Рашель».
И в гости к Булгаковым зачастил обаятельнейший человек, находившийся к тому же в пике славы. Его песни из кинофильмов «Весёлые ребята», «Цирк», «Волга‑Волга», «Дети капитана Гранта» пела вся страна. Когда он приходил, булгаковская квартира мгновенно заполнялась весёлой музыкой, звонкими голосами поющих, шумом и смехом. Но стоило гостю уйти (как правило, далеко заполночь), Михаил Афанасьевич вновь впадал в уныние.
Тем временем до театральной общественности дошли слухи о том, что Булгаков написал пьесу о хитроумном странствующем рыцаре. Начались телефонные звонки. Елена Сергеевна с горечью констатировала:
«Как всё повторяется. М[ихаил] А[фанасьевич] напишет пьесу — шевеление, звонки, разговоры, письма. Потом пьеса снимается — иногда с грохотом, как „Мольер“, иногда тихо, как „Иван Васильевич“, — и наступает полная тишина».
В конце сентября к Булгаковым вновь пришли Марков и Виленкин:
«Старались доказать, что сейчас всё по‑иному: плохие пьесы никого не удовлетворяют, у всех желание настоящей вещи. Надо, чтобы М[ихаил] А[фанасьевич] сейчас именно написал пьесу. М[ихаил] А[фанасьевич] ответил, что раз Литовский опять выплыл, опять получил место и чин, — всё будет по‑старому. Литовский — это символ…
Марков, уходя, говорил: „в воздухе — грозный призрак войны “».
На следующий день предчувствие Маркова получило подтверждение:
«Включила радио: войска идут через Берлин в полной готовности. Гитлер объявил Чехии ультиматум».
1 октября — звонок из театра Вахтангова:
«„Дон‑Кихота“ читали в надлежащих местах (где?!), и он очень понравился…»
Но Булгаков уже не верил ни в какие оптимистические прогнозы, и 4 октября Елена Сергеевна записала:
«Настроение у нас убийственное. Это, конечно, естественно, нельзя жить, не видя результатов своей работы».
Ещё через несколько дней (несмотря на то, что до 3 часов ночи весело «играли в винт») Елена Сергеевна вновь отметила:
«У Миши мрачное настроение».
А в это же самое время совсем недалеко от дома, в котором жил Булгаков — в застенках НКВД выбивали показания из Семёна Григорьевича Гендина, того самого следователя, что в 1925 году допрашивал в ОГПУ Михаила Афанасьевича о «Собачьем сердце». Гендин успел дослужиться до должности исполняющего обязанности начальника Разведывательного Управления штаба РККА, но пробыл на этом посту всего 8 месяцев — с сентября 1937‑го по май 1938‑го. 22 октября 1938 года его расстреляли.
Вот так протекала тогда жизнь.
У Булгакова в тот момент были свои неприятности. В начале ноября в магазине Литфонда — там, где всегда покупали писчую бумагу, он встретил вдруг неожиданный отказ. Елена Сергеевна написала в дневнике, что Михаилу Афанасьевичу было заявлено, что…
«…он уже и так получил больше нормы, а норма, оказывается, четыре килограмма бумаги в год.
На чём же теперь писать?».
5 ноября Комитет по делам искусств и Главрепертком дали разрешение на постановку «Дон Кихота». Но от этого жизнь Булгакова не изменилась ни на йоту: вновь летели дни, отданные Большому театру, и вечера, подаренные друзьям. И снова возникали жалобы на плохое самочувствие:
«Дикая мигрень. А всё оттого, что ложимся спать каждый день под утро. Вот и вчера тоже вернулись… в четыре часа, а легли спать в пять».
И всё чаще в дневник заносились печальные размышления о бесцельно растрачиваемом времени:
«При работе в театре (безразлично, в каком, говорит Миша, а по‑моему, особенно в Большом) — невозможно работать дома — писать свои вещи. Он приходит такой вымотанный из театра — этой работой над чужими либретто, что, конечно, совершенно не в состоянии работать над своей вещью. Миша задавал вопрос — что же делать? От чего отказаться? Быть может, переключиться на другую работу? Что я могу сказать? Для меня, когда он не работает, не пишет своё, жизнь теряет всякий смысл».
Запись от 22 декабря 1938 года:
«В Москве уже несколько дней ходят слухи о том, что арестован Михаил Кольцов».
Последний год
Наступил год 1939‑ый, последний год жизни , как называл его сам Михаил Булгаков. Ещё в «Жизни господина де Мольера» он попытался представить, как всё это произойдёт. И в главе «Сцены в парке» описал разговор двух французов, одного постарше, другого помоложе:
«— Я, знаешь ли, скоро умру, — говорит старший и таинственно добавляет: — Ты ведь знаешь, какая у меня серьёзная болезнь?..
— О господи, зачем я пришёл в парк? — думает младший, а вслух говорит:
— Э, какой вздор! Я тоже себя плохо чувствую…
— Мне пятьдесят лет, не забудь! — угрожающе говорит старший.
— Мой Бог, вчера тебе было сорок восемь, — оживляется младший, — ведь нельзя же, в самом деле, чтобы человеку становилось сразу на два года больше, как только у него дурное расположение духа!»
И вот теперь уже совсем не за горами эти самые «сорок восемь» лет должны были стать возрастом самого Михаила Булгакова.
«Он повторял, что в 1939 году он умрёт и ему необходимо закончить „Мастера… “, это была любимая его вещь, дело его жизни».
Так спустя годы писала Елена Сергеевна, снова и снова вспоминая о том, как Булгаков брал с неё клятву, что она не отдаст его в больницу, и что он умрёт у неё на руках. В письме брату Александру (написанном в январе 1961‑го), когда зашла речь о событиях давнего 1932 года, Елена Сергеевна вновь затронула эту тему:
«Он очень серьёзно повторял: „Поклянись“. И потом в течение нашей жизни несколько раз напоминал мне об этом. Я настаивала на показе врачу, на рентгене, анализах и т. д. Он проделывал всё это, всё давало успокоение, и тем не менее он назначил 39‑й год, и когда пришёл этот год, стал говорить в лёгком шутливом тоне о том, что вот — последний год, последняя пьеса и т. д. Но так как здоровье его было в прекрасном состоянии, то все эти слова никак не могли восприниматься серьёзно. Говорил он об этом всегда за ужином с друзьями, в свойственной ему блестящей манере, с светлым юмором, так что все привыкли к этому рассказу».
Самыми «неверующими» в приближение неминуемого финала были сыновья Елены Сергеевны, Евгений и Сергей, а также художник Владимир Дмитриев. Стоило им в очередной раз услышать упоминание («в лёгком шутливом тоне») о наставшем «последнем» годе жизни, как они начинали вышучивать «горе‑пророка», стараясь перевести разговор на другую тему.
Но поскольку Михаил Афанасьевич вновь и вновь возвращался к этой печальной теме, то приходилось принимать меры, и…
«… раз в год (обычно весной) я заставляла его проделывать всякие анализы и просвечивания. Всё давало хороший результат, и единственное, что его мучило часто, это были головные боли, но он спасался от них тройчаткой — кофеин, фенацетин, пирамидон».
Головные боли. Именно они и являлись тем нехорошим симптомом, который говорил о предрасположенности к роковому почечному заболеванию. Об этом можно было прочесть в любом медицинском справочнике:
«Болезнь тянется многие годы, больной жалуется на головные боли, сердцебиение и некоторые другие расстройства. Обычно увеличивается (гипертрофируется) сердце и расстраивается зрение».
Впрочем, к постоянным (порою весьма изнурительным) головным болям давно привыкли. На них просто перестали обращать внимание (благо, спасительная тройчатка всегда была под рукой). В письме в Париж, посланном Еленой Сергеевной 17 октября 1960 года брату Булгакова Николаю Афанасьевичу и его жене Ксении, есть такие слова:
«… к 1939‑му году он был прелестен и внешне и душевно».
Да и жизнь текла точно так же, как и раньше. И каждый день как всегда заканчивался далеко заполночь. 6 января, когда у Булгаковых заночевал Николай Эрдман, Елена Сергеевна отметила:
«Сегодня на рассвете, в шесть часов утра, когда мы ложились спать, засидевшись в длительной, как всегда беседе… когда Николай Робертович стал советовать Мише, очень дружелюбно, писать новую пьесу, не унывать и прочее, Миша сказал, что он проповедует, как „местный протоиерей “».
С гостями Булгаков шутил. Но когда посторонние расходились, снимал с себя весёлую шутливую маску, и…
Обратимся к «Жизни господина де Мольера», где описана подобная ситуация:
«И несомненно, что, помимо физических страданий, его терзала душевная болезнь, выражающаяся в стойких приступах мрачного настроения духа… В иные минуты им овладевало раздражение и даже ярость. В такие минуты он не мог собою управлять, становился несносным в общении с близкими…
Когда настроение духа становилось совершенно невыносимым, на помощь приходило вино, и небольшая компания…»
То, что слова, относящиеся к Мольеру, отражали состояние самого Михаила Афанасьевича, подтверждает и запись в дневнике Елены Сергеевны от 8 января 1939 года:
«.Вечером Мелики… играли на биллиарде. Миша очень развеселился, чему я очень рада, так как у него эти дни тягостное пессимистическое настроение духа».
Через три дня пришёл друг‑художник:
«Дмитриев был, нездоров, говорил, его вызвали повесткой в Ленинград, в НКВД. Ломал голову, зачем?»
И вдруг, резко оборвав пессимистическую хандру, Булгаков всерьёз взялся за написание пьесы, которую тут же объявил самой «последней».
Последняя пьеса
Фраза из дневника Елены Сергеевны от 16 января 1939 года:
«… после отдыха, вечером, Миша взялся, после долгого перерыва, за пьесу о Сталине».
Работал Булгаков неторопливо. Во‑первых, не хватало материалов. А во‑вторых, хотелось напоследок создать драматургический шедевр. Елена Сергеевна отмечала:
«if вчера и сегодня вечерами Миша пишет пьесу, выдумывает при этом и для будущих картин положения, образы, изучает материалы. Бог даст, удача будет!»
Не будем забывать, что произведение, которое сочинял Булгаков, было не просто посвящено вождю. Оно писалась к 60‑летию Сталина. О торжествах всесоюзного масштаба, приуроченных к 21 декабря 1939 года, все вокруг говорили с придыханием и восторгом. Вот почему всё, что создавалось к этому юбилею, становилось тем самым дорогим «яичком», которым так дорожат, если оно поспело ко Христову дню.
Прекрасно понимая, что своей пьесой он просто «обречён» попасть в «десятку», Михаил Афанасьевич решил на этот раз использовать ситуацию с максимальной для себя пользой. Дело в том, что квартира, где он жил, и которая поначалу так радовала всех, давно уже стала раздражать. К ней относились как к тесному неуютному временному пристанищу.
А тут ещё стали распространяться невероятные «квартирные» истории, связанные с именем вождя. Об одной из них даже Л. Фейхтвангер написал в своей книге о Москве 1937 года — в главе, посвящённой Сталину:
«О нём рассказывают сотни анекдотов, рисующих, как близко он принимает к сердцу судьбу каждого отдельного человека, — например… как он буквально насильно заставил одного чересчур скромного писателя, не заботящегося о себе, переехать в приличную, просторную квартиру».
Булгаков не относил себя к разряду «не заботящихся о себе», и потому без всяких стеснений выставил условие:
«Миша сказал — „капельдинером в Большом буду, на улице с дощечкой буду стоять, а пьесу в МХАТ не дам, пока они не привезут мне ключ от квартиры “».
В другой раз он выразился ещё резче:
«— Я не только что МХАТу, я дьяволу готов продаться за квартиру».
МХАТ квартиру обещал. Четырёхкомнатную. Но Булгаков этим посулам не верил.
1 февраля все центральные газеты сообщили о награждении писателей орденами. Елена Сергеевна записала в дневник:
«.Награждены, за малым исключением, все сколько‑нибудь известные».
Даже 26‑летний поэт Сергей Михалков (он жил как раз над Булгаковыми — этажом выше), едва начинавший свой творческий путь, и тот получил орден. Илья Сельвинский, который всюду, где только можно, заявлял о том, что его притесняют, не печатают, не берут пьес и так далее, тоже стал орденоносцем.
А Булгаков попал в категорию «за малым исключением», то есть оказался в числе тех, кого награждение не касалось. Это его не удивило: он ведь не сидел в президиумах писательских «совещаний», не лез на трибуны, чтобы славить вождей или требовать расстрела для «врагов народа». И всё‑таки… В глубинах его души наверняка поселилась ещё одна горькая обида…
Об этом очередном «щелчке» по писательскому самолюбию супруги Булгаковы, видимо, и говорили в конце февраля, что тотчас отразилось на самочувствии:
«Сегодня днём больна вдребезги из‑за вчерашней бессонной ночи…
У Миши — сильные головные боли. Серёжа прогревал ему синей лампой голову».
И вдруг неожиданный вызов в Комитет по делам искусств. От Булгакова потребовали объяснений по поводу «Дней Турбиных», поставленных в Лондоне. Елена Сергеевна записала:
«Что такое? Что за акция?.. С этим — продолжение тяжёлых разговоров о нестерпимом Мишином положении, о том, что делать?»
Служба в Большом театре тоже удовлетворения не приносила. А уж мелкие «уколы», «щипки» выносить было и вовсе унизительно. Настроение становилось ещё мрачнее. И…
Пьеса о Сталине была решительно отложена в сторону. Булгаков вновь обратился к своему «последнему» роману. Запись от 28 февраля:
«Миша сидит вечером над романом („Мастер и Маргарита“), раздумывает».
На следующий день — то же самое:
«Вечером Миша — над романом».
«Вечером — Миша — роман».
А 7 марта Булгаковых на улице догнал драматург Константин Тренёв. Он жил в одном доме с Булгаковыми, был автором широко известной в ту пору пьесы «Любовь Яровая» и занимал, как мы помним, ответственный пост в Союзе писателей. Завязавшийся на ходу разговор Елена Сергеевна, вернувшись домой, занесла в дневник. Первым заговорил Тренёв:
«… спросил, что делает Миша с пьесою своею? — Ничего. У него никакой веры в то, что его пьеса может пойти.
— Напрасно, напрасно. Сейчас такое время… Хотят проявить смелость… У меня был разговор о вас и в ЦК и в Комитете… Надо нам непременно повидаться… Приходите к нам на этих днях…
Миша сказал мне: „Я же ещё пойду кланяться?! Ни за что“».
Как явное продолжение того уличного разговора в квартире Булгаковых появился гость. 10 марта Елена Сергеевна записала:
«… часов в десять вечера… пришёл Гриша Конский (после телефонного звонка). Просьба прочитать роман. Миша говорит — я вам лучше картину из „Дон‑Кихота“ прочту. Прочитал, тот слушал, хвалил. Но ясно было, что не „Дон‑Кихот“ его интересовал. И, уходя, опять начал выпрашивать роман хоть на одну ночь. Миша не дал».
На следующий день Булгаков отправил письмо Вересаеву. В дневнике Елены Сергеевны оно прокомментировано так:
«… в нём текст соглашения между ними обоими по поводу пьесы „Пушкин“.
Да, повинен Викентий Викентьевич в гибели пьесы — своими широкими разговорами с пушкинистами об ошибках… своими склоками с Мишей».
Роковая черта
Тем временем в жизни Булгакова возник момент весьма и весьма драматичный — ведь приближался март. Тот самый роковой месяц март, приход которого ожидался с таким трепетом, а возможно, и страхом. В том же письме Вересаеву (от 11 марта) Михаил Афанасьевич, в частности, с печалью констатировал:
«… у меня, как у всякого разгромленного и затравленного литератора, мысль всё время устремляется к одной мрачной теме о моём положении, а это утомительно для окружающих.
Убедившись за последние годы в том, что ни одна моя строчка не пройдёт ни в печать, ни на сцену, я стараюсь выработать в себе равнодушное отношение к этому. И, пожалуй, я добился значительных результатов.
Одним из последних моих опытов явился „Дон‑Кихот“ по Сервантесу, написанный по заказу вахтанговцев. Сейчас он и лежит у них и будет лежать, пока не сгниёт, несмотря на то, что встречен ими шумно и снабжён разрешающею печатью Реперткома…
Теперь я занят совершенно бессмысленной с житейской точки зрения работой — произвожу последнюю правку своего романа.
Всё‑таки, как ни стараешься удавить самого себя, трудно перестать хвататься за перо. Мучает смутное желание подвести мой литературный итог».
Между тем до дня, когда — в полном соответствии с этим «смутным желанием» — от Булгакова потребуют предъявления окончательного «итога», было уже рукой подать. 14 марта Елена Сергеевна записала:
«Миша пришёл домой совершенно разбитый нравственно…»
И хотя причиной внезапной «разбитости» были всего лишь «эти вечные однообразные мхатовские разговоры», возникшие после очередной читки «Дон Кихота», взвинченно‑напряжённое состояние самого Булгакова тоже не следует сбрасывать со счетов. Календарь‑то показывал 14‑е.
В этот день (если по новому стилю, то 26‑го) исполнялось 32 года со дня смерти отца. А это означало, что очень скоро — 31 марта (по старому стилю, а если по новому, то 12 апреля) должна была наступить и его собственная кончина. Отсюда и состояние потерянности, нравственная разбитость.
А жизнь продолжала идти как ни в чём не бывало. И в самочувствии тоже не происходило никаких изменений. Во всяком случае, в дневнике Елены Сергеевны не зафиксировано ничего из ряда вон выходящего. 16 марта отправились в гости:
«Миша вечером у Фёдоровых — винт».
Вечер следующего дня тоже провели в гостях:
«Мне было весело… Но Миша был в полном отчаянии, говорит, что больше никуда не хочет ходить, вечера — потерянные, разговоры пустые и, главное, — фальшивые».
Булгаков изо всех сил старался отвлечь себя от не покидавших его мыслей о стремительно приближающемся финале, от жуткого ощущения, что старуха‑смерть караулит его за каждым поворотом.
Видимо, прекрасно понимая, в каком состоянии он находится, 22 марта Борис Эрдман (театральный художник, родной брат драматурга) пригласил Булгаковых в Клуб писателей — хоть немного развеяться. И тревожную печаль тут же как ветром сдуло:
«Прелестно ужинали — икра, свежие огурцы, рябчики… Миша и Борис Робертович играли на биллиарде … причём Миша выиграл. Потом встретили Михалковых и с ними и с Эль‑Регистаном пили кофе. Эль‑Регистан рассказывал интересные случаи из своих журналистских впечатлений, а Михалков говорил, как всегда, очень смешные и остроумные вещи. Миша смеялся, как Серёжка, до слёз.
В общем, чудесный вечер».
И всё‑таки тот день наступил. Тот роковой день, когда Булгакову исполнилось 48 лет и 11 месяцев. Тот самый возраст , в котором умер его отец.
12 апреля 1939 года Михаил Афанасьевич наверняка проснулся в жуткой тревоге: неужели сегодня ?
Однако в тот день ничего страшного не случилось…
И в последующие тоже.
Дни пролетали за днями, и… ни‑че‑го.
Он слушал оперы, смотрел балеты. Играл в свой любимый винт. Отослал письма в Лондон по поводу распределения гонораров за «Дни Турбиных». Сделал понравившиеся всем доклады о Шекспире — в Большом театре и в его филиале. Продолжал засиживаться в разговорах с друзьями до пяти часов утра. Читал им «Мастера и Маргариту»…
А напророченная (на роду написанная) смерть всё никак не приходила. Напротив, жизнь продолжалась. Со всеми её радостями и печалями.
19 апреля к Булгаковым заглянули Борис Эрдман и мхатовцы Николай Хмелёв с Григорием Конским. Последний вновь вызвал у хозяев какие‑то подозрения:
«Поужинали хорошо, весело. Сидели долго. Но Гриша… Битков форменный».
24 апреля Булгаков повёз в Союз писателей (по их просьбе) автобиографию. Елена Сергеевна записала:
«Автобиография — сплошное кладбище пьес».
А 6 мая пронёсся слух, что арестована Н.А. Венкстерн. Та самая Наталья Алексеевна Венкстерн, которая инсценировала для МХАТа «Записки Пиквикского клуба». Та самая Наталья Венкстерн, в гостях у которой (в городке Зубцове, что лежит при впадении реки Вазузы в Волгу) Михаил Афанасьевич сочинял «Адама и Еву».
8 мая вновь объявился Григорий Конский, «сыскные» ухватки которого Елена Сергеевна уже всерьёз называла «битковщиной»:
«Ведь вот обида — человек умный, остроумный, понимающий — а битковщина всё портит!
Умолял Мишу почитать хоть немного из романа…
Просится, чтобы взяли его вместе жить летом.
Разговоры: что у вас в жизни сейчас нового? Как относитесь к Фадееву? Что будете делать с романом?»
И совсем уж неожиданный звонок прозвучал 10 мая. Звонивший назвался Вольфом:
«Я закричала — какой Вольф? Вениамин Евгеньевич?!
Пришёл через час, похудел, поседел, стал заикаться. Оказывается, просидел полгода, был врагом народа объявлен, потом через шесть месяцев выпущен без всякого объяснения, восстановлен в партии и опять назначен на свой прежний пост — директора Ленинградского Красного театра (теперь — имени Ленинского комсомола)».
И вот наступил день 49‑летия.
Булгакову, наверное, хотелось кричать во всё горло: «Роковая черта преодолена! Да здравствуют ошибки пророков‑предсказателей!» Впрочем, нам об этом ничего не известно. Сохранилась лишь запись Елены Сергеевны:
«Вчера был день рождения Миши. Подарила ему словарь Александрова — русско‑английский…
В „Правде “ на первой странице о назначении на пост наркоминдела тов. Молотова, а на последней в хронике — об уходе, по его просьбе, Литвинова с поста наркоминдела».
20 мая шёпотом передали очередную страшную новость: арестован писатель Исаак Бабель…
А Михаил Афанасьевич вновь взялся за пьесу о Сталине.
Пьеса о вожде
По ходу работы понадобилась пишущая машинка. Направили куда следует прошение, чтобы разрешили выписать её из Америки — в счёт гонораров от «Мёртвых душ». 22 мая пришёл официальный отказ. Елена Сергеевна вознегодовала:
«Это не жизнь! Это мука! Что ни начнём, всё не выходит! Будь то пьеса, квартира, машинка, всё равно!»
«Дело о машинке» Булгаков решил всё‑таки уладить и 27 мая вместе с супругой поехал в валютный отдел Наркомфина, где пытался объяснить чиновникам:
«Я ведь не бриллианты из‑за границы выписываю. Для меня машинка — необходимость, орудие производства».
И наркомфиновцы (хоть и с большой неохотой) выписать машинку разрешили.
Наступил июнь. МХАТ пригласил на переговоры об условиях предстоящего сотрудничества. За пьесу о вожде сулились златые горы, а к ним (в качестве бесплатного приложения) — обещанная ранее 4‑х комнатная квартира. Возвратившись из театра домой, Елена Сергеевна занесла в дневник, казалось бы, малозначительную, но очень насторожившую её деталь:
«Когда мы только что пришли в МХАТ — надвигалась гроза».
Однако, несмотря на «грозовые» предзнаменования, у Булгаковых складывалось ощущение, что все трудности и неудачи наконец‑то преодолены, и что начинается новый (светлый и радостный) отрезок жизни.
Когда 11 июня в гости зашли братья Эрдманы, Борис и Николай, выяснилось, что и у них в жизни наметились положительные сдвиги:
«Мы сидели на балконе и мечтали, что сейчас приближается полоса везения нашей маленькой компании».
Однако прошло всего два дня, и Елена Сергеевна вновь с тревогой записывала:
«Настроение у Миши убийственное».
Но пьесу о Сталине Булгаков писать продолжал. 11 июля в Комитете по делам искусств состоялась её читка. Всем присутствовавшим она «очень понравилась». Но Елена Сергеевна вновь обратила внимание на зловещее предзнаменование:
«Во время читки пьесы — сильнейшая гроза».
14 июля Булгаков сообщал В.Я. Виленкину:
«В Комитете я читал всю пьесу за исключением предпоследней картины (у Николая во дворце), которая ещё не была отделана. Сейчас её отделываю. Остались две‑три поправки, заглавие и машинка.
Таковы дела…
Я устал. Изредка езжу в Серебряный бор, купаюсь и сейчас же возвращаюсь… Устав, отодвигаю тетрадь, думаю — какова будет участь пьесы. Погадайте. На неё положено много труда».
В записи Елены Сергеевны от 15 июля отражены проблемы, волновавшие в тот момент заместителя директора МХАТа ГМ. Калишьяна:
«Калишьян бьётся с названием пьесы, стремясь придать ей сугубо политический характер. Поэтому — перезванивание по телефону».
Наконец, 22 июля заголовок был выбран. Прежние варианты: «Пастырь», «Кормчий», «Кондор» и даже «Мастер» — отвергнуты. Утверждено наименование «Батум».
«Батум»… Название как название. Но это при условии, что автор пьесы — не Михаил Булгаков. А у Булгакова не всё так просто. Тот, кто хорошо знаком с творчеством этого драматурга, кто прочувствовал его стиль, должен тотчас насторожиться.
Итак, «Батум»…
Сразу вспоминаются названия предыдущих пьес Б улгакова: «Б елая гвардия», «Б агровый остров», «Б ег», «Б лаженство» — все начинаются с одной и той же буквы — «Б». С той самой, с которой берут начало его фамилия и самое главное слово советской эпохи — Б ольшевики.
Случайно ли это?
Если нет, то, стало быть, этим названием драматург хотел нам что‑то сказать. Но что?
И о чём вообще его «последняя» пьеса?
В её основу положена одна из самых загадочных страниц в биографии вождя. В самом начале XX века Сталин (под кличками «Сосо» и «пастырь») вёл подпольную работу в Батуме, где и был арестован. Затем его сослали в Восточную Сибирь. Однако молодой революционер подозрительно быстро совершил из ссылки побег и вновь объявился на Кавказе. Ходили слухи, что находившегося в заключении «пастыря» завербовала царская охранка. Дескать, она и устроила «побег» своему новому сотруднику.
В 1937 году многомиллионным тиражом вышла брошюра о революционной деятельности большевиков на Кавказе. Автором книжки значился Лаврентий Берия. В брошюре сообщалось, что Сталин, находясь в Сибири, выправил себе «поддельное» удостоверение жандармского агента и с его помощью бежал из ссылки.
Как известно, в советское время (особенно в 1937 году) случайно ничего не издавалось. Тем более, печатная продукция, в которой имелись какие‑то сведения о вожде. Подобная литература выходила в свет только после «высочайшего» утверждения. И если в бериевский труд попал некий пикантный эпизод из сталинской биографии, стало быть, это произошло с ведома самого Иосифа Виссарионовича, желавшего таким образом хоть как‑то объяснить возникновение жандармского следа в своей биографии.
Брошюра эта и была тем единственным источником, из которого в ту пору черпались все сведения о вожде.
В пьесах Булгакова, как мы знаем, тоже нет ничего случайного. Значит, не просто так вспомнил он в своём «Батуме» ту давнюю историю. Ведь заканчивается она тем, что бежавший из ссылки Сталин приходит на квартиру друзей‑подпольщиков и там неожиданно… засыпает.
Что снится ему? То, как в далёкой Сибири он выписывает себе жандармское удостоверение? Нет! Сталину снится, как он провалился в прорубь.
«СТАЛИН… я сейчас же обледенел… Там всё далеко так, ну, а тут повезло: прошёл всего пять вёрст и увидел огонёк… вошёл и прямо лёг на пол… а они сняли с меня всё и тулупом накрыли… Я тогда подумал, что теперь я непременно умру…»
Далее в пьесе следует разъяснение, что вернувший в Батум Сталин «безмерно утомлён». Он «кладёт голову на край кушетки и замолкает».
«НАТАША. Сосо, ты что? Очнись…
СТАЛИН. Не могу… я последние четверо суток не спал ни одной минуты… Думал, поймать могут… а это было бы непереносимо… на самом конце…
ПОРФИРИЙ. Так ты иди ложись, ложись скорей!
СТАЛИН. Ни за что! Хоть убей, не пойду от огня… пусть тысяча жандармов придёт, не встану… я здесь посижу… (Засыпает.)»
Итак, перед нами сон Сталина. СОН! Как тут не вспомнить рекомендации вождя десятилетней давности — относительно снов в булгаковском «Беге»:
«…я не имел бы ничего против постановки „Бега “, если бы Булгаков прибавил к своим восьми снам ещё один или два сна, где бы он изобразил внутренние социальные пружины гражданской войны в СССР».
Строптивый драматург, как мы помним, к советам вождя не послушался. В ту пору никакие «социальные пружины» его не интересовали. Правда, через несколько лет (в середине 30‑х) один сон он всё‑таки «прибавил», создавая пьесу «Сон инженера Рейна» (или «Сон инженера Матвеева»). И вот теперь, когда, наконец‑то, настало время и для «социальных пружин», Булгаков ввёл в свою пьесу второй из рекомендованных Сталиным снов. Но спящим‑то на этот раз оказывается сам вождь.
Спящий Сталин… Удивительный финал! Выходило, что вождь, постоянно призывавший страну к бдительности (враг ведь не дремлет!), сам способен безмятежно спать? Как это следовало понимать?
Не подсказывал ли Булгаков подобным «сонным» окончанием своей пьесы, что так называемый героический период в жизни вождя завершился ещё в начале века?
Да и было ли хоть что‑нибудь героического в том периоде? Ведь по булгаковскому Батуму ходит молодой человек, ничем особо не примечательный. Он похож на многих молодых людей, своих сверстников. В том числе и на молодого… Михаила Булгакова.
Да, в «Батуме» много автобиографичного.
Поначалу это может показаться невероятным. В самом деле, что может быть общего между великим вождём всех времён и народов и писателем, у которого не печатали ни одной написанной им строчки? Вроде бы, ничего. Но, если взять себе в помощники приём «булгакочувствования » и внимательно вчитаться в пьесу, то тут‑то и откроется «секрет» пьесы. И окажется, что молодой Сталин…
Да, молодой Сталин учился в духовной семинарии, а юный Булгаков вырос в семье преподавателя духовной академии.
19‑летнего Сталина изгнали из семинарии, и Булгакова примерно в том же возрасте чуть было не исключили из университета.
Выбирая свой жизненный путь, Сталин решительно порвал с религиозной карьерой, став профессиональным революционером. И Булгаков тоже не пошёл по стопам предков‑священнослужителей, посвятив себя профессии писателя.
Сталин баламутил батумских рабочих, подбивая их на стачки и выводя на демонстрации. А Булгаков уже в своей фамилии носил ёрничество и баламутство и демонстративно сочинял произведения, вносившие смуту в сознание советских людей.
Революционер Сталин подвергался преследованиям властей за свою антиправительственную деятельность. И писателя Булгакова за его антисоветское творчество тоже подвергали гонениям.
В критический момент жизни, совершив побег из сибирской ссылки, Сталин прибывал в Батум. И Булгаков в непростой период своей жизни, сбежав из Владикавказа, тоже оказывался в том же городе.
Эти совпадения дают основания предположить, что образ молодого Сталина (в отсутствие достоверных биографических данных) Булгаков вполне мог «срисовывать» с самого себя в том же молодом возрасте.
И название пьесы приводит к тому же выводу. «БАТУМ»… Ведь это же… По краям — инициалы автора пьесы (Б. М.), а в середине — надсадный крик (ату!), которым на Руси издавна гнали преследуемых. В этом слове — в зашифрованном виде — вся булгаковская судьба.
Обращает на себя внимание ещё одна удивительная вещь: в словах и поступках молодого большевика нет ничего большевистского. Сталин распространяет листовки, участвует в демонстрации, даже произносит краткую речь, выглянув из тюремного окна… Но ведь так мог себя вести и меньшевик, и эсер и анархист? Если заменить фамилию главного героя любой другой, самой обыкновенной (Иванов, Петров или Сидоров), что останется? Одни бытовые подробности.
Похождения недоучившегося семинариста, посланного в Батум подстрекать рабочих на антиправительственные выступления, могли заинтересовать зрителя лишь в том случае, если в них заложены стремительно развивающееся действие, напряжённая интрига, занимательные повороты сюжета и неожиданный финал. Но всего этого в булгаковской пьесе нет. Как тут не вспомнить слова Луначарского о «Белой гвардии», который писал, что булгаковскую пьесу составляют…
«… необыкновенно заурядные, туповатые, тусклые картины никому не нужной обывательщины…»
Если бы Луначарский (скончавшийся в 1933‑ем) мог прочесть «Батум», он наверняка повторил бы то же самое.
А вот какую реплику Булгаков вложил в уста одного из персонажей пьесы (не важно, что персонаж этот «отрицательный»):
«ГУБЕРНАТОР. Прямо на карту не могу смотреть… Как увижу „Батум“, так и хочется, простите за выражение, плюнуть».
И это говорилось о городе, который считался революционной колыбелью вождя.
Но вернёмся к финальному сну.
Итак, сбежав из сибирской ссылки, Сталин прибывает в Батум. Прибывает, чтобы тотчас заснуть. Это «засыпание» главного героя под занавес пьесы можно понять и так: всё, что произойдёт со Сталиным (и со страной) в дальнейшем (после «героического» батумского периода), — это уже сон, тревожный, кровавый, а потому невероятно страшный. Мысль по тем годам невероятно смелая.
Написав «Батум», Булгаков как бы завершал свою сталинисту. В неё — весь жизненный путь генсека. В самом деле, «Батум» — это юность вождя. Хлудов из «Бега» — это Сталин в разгар гражданской войны. Аллилуя из «Зойкиной квартиры» — это Сталин в период НЭПа. «Полоумный Журден» — это Сталин в конце 20‑х годов. Бунша из «Сна инженера Рейна» — это великий вождь в середине 30‑х.
«Батум» (по своему содержанию) эту сталиниану начинает, а по времени написания завершает.
Булгаков превзошёл самого себя, создав иносказательный шедевр. Из тончайших и невероятно колких намёков он соткал большевистскому «королю» внешне безукоризненный верноподданнический наряд.
24 июля Елена Сергеевна записала:
«Пьеса закончена! Это была проделана Мишей совершенно невероятная работа… Прямо непонятно, как сил хватило у него. Вечером приехал Калишьян, и Миша передал ему три готовых экземпляра».
Через три дня в помещении Художественного театра проходило заседание Свердловского райкома партии. Булгакову предложили прочесть пьесу членам райкома. За драматургом прислали машину. Перед самым выездом вновь разразилась гроза. Елена Сергеевна впоследствии вспоминала:
«Когда подъехали к театру — висела афиша о читке „Батума “, написанная акварелью, — вся в дождевых каплях.
— Отдайте её мне! — сказал Миша Калишьяну.
— Да что Вы, зачем она Вам? Знаете, какие у Вас будут афиши? Совсем другие!
— Других я не увижу».
Партаппаратчики встретили пьесу хорошо, если не сказать, превосходно. Впрочем, иного и ожидать было нельзя — произведение‑то о самом Сталине! Елена Сергеевна отметила:
«Слушали замечательно, после чтения очень долго, стоя, аплодировали. Потом высказыванья. Все очень хорошо. Кальшьян в последней речи сказал, что Театр должен её поставить к 21 декабря».
1 августа своё отношение к «Батуму» высказали и в Комитете по делам искусств:
«Звонил Калишьян, что пьеса Комитету в окончательной редакции — очень понравилась и что они послали её наверх».
Ознакомился с «Батумом» и вернувшийся из очередной поездки за рубеж В.И. Немирович‑Данченко. Елена Сергеевна записала:
«Ольга мне сказала мнение Немировича о пьесе: обаятельная, умная пьеса. Виртуозное знание сцены. С предельным обаянием сделан герой. Потрясающий драматург».
Немирович‑Данченко принялся наводить справки о том, как принят «Батум» «наверху». Ему ответили, что никаких сведений о пьесе пока не поступало.
Дневниковая запись от 3 августа:
«Звонил инспектор по репертуару некий Лобачёв — нельзя ли прочитать пьесу о Сталине, периферийные театры хотят её ставить к 21 декабря».
7 августа позвонил режиссёр Судаков (перешедший работать в Малый театр):
«Звонок Судакова — страшный вой. Как получить пьесу, чтобы дублировать её. МХАТ не смеет только себе забирать! Вся страна должна играть! И всё в таком роде. А под всем этим — готов себе локоть укусить, что упустил пьесу тогда весной…»
Тем временем во МХАТе решили «для сбора и изучения архивных документов» послать в Грузию специальную творческую бригаду. Возглавить её поручили Михаилу Булгакову.
Поездка в Батуми
К тому времени уже было принято решение о том, чтобы Батум называть на грузинский лад — Батуми. Но к новому слову ещё не привыкли, и столицу солнечной Аджарии продолжали именовать по‑старому
8 августа 1939 года Елена Сергеевна записала в дневник:
«Утром, проснувшись, Миша сказал, что, пораздумав во время бессонной ночи, пришёл к выводу — ехать сейчас в Батум не надо».
На следующий день состоялась встреча Булгакова с Немировичем‑Данченко, после которой Владимир Иванович сказал Ольге Бокшанской…
«— Лучше всего эту пьесу мог бы поставить Булгаков».
9 августа пришёл очередной запрос:
«Вечером письмо от Загорского из Киева — просит пьесу Театр Красной Армии. А утром сегодня звонил какой‑то киевлянин, просил дать ему пьесу, чтобы он перевёл её на украинский язык для Киева».
10 августа принесли телеграмму:
«Телеграмма от Дмитриева — не поехать ли ему в Тифлис встречать пас, а оттуда уже вместе в Батум. Миша, но совету Калишьяна, ответил, чтобы ехал прямо в Батум».
Художнику Дмитриеву было поручено оформить будущий спектакль. Однако трудно отделаться от ощущения, что и на этот раз НКВД, боясь оставить Булгакова без присмотра, спешило пристроить рядом с ним своего человека.
Запись от 11 августа:
«Вечером звонок — завлит Воронежского театра, просит пьесу — „её безумно расхваливал Афиногенов“.
Сегодня встретила одного знакомого, то же самое — «слышал, что М[ихаил] А[фанасьевич] написал изумительную пьесу». Слышал не в Москве, а где‑то на юге».
13 августа:
«Укладывались. Звонки но телефону: из Казанского театра некий Варшавский — о новой пьесе. „Советское искусство“ просит М[ихаила] А[фанасьевича] дать информацию о своей новой пьесе: „наша газета так следит за всеми новинками… Комитет так хвалил пьесу…
Я сказала, что М[ихаил] А[фанасьевич] никакой информации дать не может, пьеса ещё не разрешена.
— Знаете что, пусть он напишет и даст мне. Будет лежать у меня этот листок. Если разрешение будет, я напечатаю. Если нет — возвращу Вам.
Я говорю — это что‑то похоже, как писать некролог на тяжко заболевшего человека, но живого.
— Что вы?! Совсем наоборот…
Неужели едем завтра!!
Не верю счастью».
В тот же день Михаил Афанасьевич написал Сергею Ермолинскому:
«Завтра я во главе бригады МХТ уезжаю на поиски материалов для оформления новой моей пьесы „Батум“ в Тбилиси‑Батуми.
Люся едет со мной.
Вернёмся, я полагаю, в первых числах сентября».
Елена Сергеевна (Булгаков называл её Люсей) сделала к письму приписку:
«Мечтаю скорей сесть в вагон, путешествие наше меня манит и волнует».
Наступило 14 августа:
«Восемь часов утра. Последняя укладка. В 11 часов машина.
И тогда — вагон]»
В.Я. Виленкин, тоже включённый в состав «бригады», впоследствии вспоминал:
«Михаил Афанасьевич был в этой командировке нашим „бригадиром “. Своим новым наименованием он, помнится, был явно доволен и относился к нему серьёзно, без улыбки».
Как только поезд тронулся, в «бригадирском» купе устроили торжественный «банкет». Поездка начиналась великолепно. Но вдруг…
Вспомним, что сказано об этом слове в «Театральном романе»:
«Но вдруг… О, это проклятое слово!.. Я боюсь его так же, как слова „сюрприз“, как слов „вас к телефону“, „вам телеграмма“ или „вас просят в кабинет“. Я слишком хорошо знаю, что следует за этими словами».
Но вернёмся в вагон поезда. Елена Сергеевна потом записала:
«Было весело. Пренебрегая суевериями, выпили за успех. Поезд остановился в Серпухове и стоял уже несколько минут. В наш вагон вошла какая‑то женщина и крикнула в коридоре: „Бухгалтеру телеграмма! “»
Далее — из воспоминаний Виленкина:
«Михаил Афанасьевич сидел в углу у окна, и я вдруг увидел, что лицо его сделалось серым. Он тихо сказал: „Это не бухгалтеру, а Булгакову“. Он прочитал телеграмму вслух: „Надобность поездке отпала возвращайтесь Москву “». Рядовые члены «бригады» еле успели сойти в Серпухове. Булгаковы решили ехать дальше — «просто отдохнуть». Однако путешествие вскоре всё же прервали:
«… в Туле сошли. Причём, тут же опять получили молнию — точно такого же содержания».
Нашли машину и помчались в Москву:
«Миша одной рукой закрывал глаза от солнца, а другой держался за меня и говорил: навстречу чему мы мчимся? Может быть, смерти?»
Глаза Булгаков закрывал не случайно — у него началось то, чего все эти годы он ждал с такой тревогой и с таким трепетным страхом: нелады со зрением.
«Через три часа бешеной езды, то есть в восемь вечера, были на квартире. Миша не позволил зажечь свет: горели свечи. Он ходил по квартире, потирал руки и говорил — покойником пахнет. Может быть, это покойная пьеса?» Позвонили из МХАТа, просили зайти.
«Состояние Миши ужасно.
Утром рано он мне сказал, что никуда идти не может. День он провёл в затемнённой комнате, свет его раздражает».
Чтобы как‑то отвлечься от мрачных мыслей, взялся за изучение иностранных языков — французского и итальянского.
Выяснение причин
Днём 16 августа Булгакова навестили мхатовцы, Сахновский и Виленкин. Они‑то и разъяснили ситуацию:
«… пьеса получила наверху (в ЦК, наверное) резко отрицательный отзыв. Нельзя такое лицо, как И.В. Сталин, делать романтическим героем, нельзя ставить его в выдуманные положения и вкладывать в его уста выдуманные слова. Пьесу нельзя ни ставить, ни публиковать».
Мало этого, к самой попытке сочинить пьесу о вожде отнеслись с большим подозрением:
«… наверху посмотрели на представление этой пьесы Булгаковым, как на желание перебросить мост и наладить отношение к себе».
Вспомним, как в «Жизни господина де Мольера» описан момент, когда великого французского драматурга перестал вдруг поддерживать Людовик:
«Тут в спину Мольера повеяло холодом, у него появилось такое ощущение, точно стояла какая‑то громадная фигура за плечами и вдруг отошла. Обманывать себя не приходилось, король покидал его».
В книге «Жизнеописание Михаила Булгакова» высказано интересное предположение относительно того, как на сообщение о запрете «Батума» мог отреагировать сам драматург:
«… можно вообразить, как грянули в голове Булгакова в момент, когда он выслушивал это, слова Хлудова, обращённые к вестовому Крапилину в его собственной пьесе: „Плохой солдат! Ты хорошо начал, а кончил скверно! “».
Вспомним этот фрагмент из «Бега»:
«КРАПИЛИН (заносясь в гибельные выси)…. А ты пропадёшь, шакал, пропадёшь, оголтелый зверь, в канаве!.. (Улыбаясь.) Да нет, убежишь, убежишь в Константинополь! Храбёр ты только женщин вешать да слесарей!.. (Вдруг очнулся, вздрогнул, опустился на колени, говорит жалобно). Ваше высокопревосходительство, смилуйтесь над Крапилиным! Я был в забытьи!
ХЛУДОВ. Нет! Плохой солдат! Ты хорошо начал, а кончил скверно. Валяешься в ногах? Повесить его! Я не могу на него смотреть!»
Все эти годы Сталин воспринимал подковырки и ёрничанье Булгакова с таким же интересом, с каким Хлудов слушал откровенную речь Крапилина. Но к верноподданническому произведению драматурга (как и Хлудов — к солдатской просьбе о пощаде) вождь отнёсся резко отрицательно.
Булгаков, скорее всего, не знал, что в начале 1933 года была написана книга о молодых годах вождя. Рукопись отправили в Кремль на утверждение. Сталин прочёл её и написал в издательство письмо (его опубликовали десятилетия спустя):
«Я решительно против издания „Рассказов о детстве Сталина “. Книга изобилует массой фактических неверностей… Но не это главное. Главное состоит в том, что книжка имеет тенденцию вкоренить в сознание советских людей (и людей вообще) культ личностей, вождей, непогрешимых героев. Это опасно, вредно. Теория «героев» и «толпы» есть не большевистская, а эсеровская теория… Народ делает героев — отвечают большевики.
Советую сжечь книжку.
И.Сталин».
Книгу о детстве вождя, конечно же, не издали…
Когда Сталину доложили о том, что Булгаков написал о нём пьесу, вождь наверняка тотчас решил, что она полна подкалываний и подначек. И, начав читать её, принялся искать их. Не потому ли пьеса так долго находилась «наверху»?
Впрочем, на то имелись и другие (гораздо более веские) причины. Ведь в конце лета 1939 года сильно осложнилась международная обстановка — гитлеровский вермахт грозно бряцал оружием. 10 августа в Москву прибыли официальные представители Великобритании и Франции, чтобы начать с СССР переговоры о совместных действиях против агрессивных намерений фюрера. Никто ещё не знал, что переговоры эти очень скоро зайдут в тупик. А до начала Второй мировой войны оставалось всего три недели.
Именно в этот напряжённейший момент мировой истории Сталину и принесли пьесу Булгакова. Вождь нашёл время не только для того, чтобы прочесть её, но и перечитать. Ища подтексты, скрытые намёки и прочие подковырки и колкости. Во всех булгаковских произведениях они ощущались чуть ли не в каждой реплике, а в «Батуме» их почему‑то не было. Не было! Как ни вчитывайся в диалоги и монологи.
Сталин мог подумать примерно так:
«Как же так? Ведь Булгаков всегда высмеивал то, чем надо гордиться, и лил слёзы по поводу того, что отжило свой век. А тут он вдруг принялся воспевать Сталина, как героя…
Нет, здесь что‑то не так! Кто поверит в его искренность? Все захотят узнать, ЧТО имеет он в виду на самом деле, и кинутся искать истинный смысл пьесы в её ПОДТЕКСТЕ…
Если же никакого подтекста в его пьесе нет, то это означает только одно: „одинокий литературный волк“, поджав хвост и превратившись в „пуделя“, примкнул‑таки к остальной писательской стае. Но тогда…
Поверженный, сдающийся в плен противник мне неинтересен! В его запоздалом верноподданничестве я не нуждаюсь».
Сталин вполне мог рассуждать именно так.
И ещё он наверняка обратил внимание на то, что пьеса сложена из эпизодов, выдуманных автором, а потому и «… изобилует массой фактических неверностей». И тотчас продиктовал (или написал собственноручно) своё мнение о том, КАК надо изображать Сталина. Точнее, как не следует его изображать:
«… нельзя ставить его в выдуманные положения и вкладывать в его уста выдуманные слова».
Вот что вполне могло лежать в основе скупых фраз, дошедших до Булгакова из Кремля. Эти фразы и решили судьбу его пьесы.
Надо было что‑то предпринимать, определиться в отношении того, как поступать дальше. И вечером 16 августа Елена Сергеевна записала:
«Миша думает о письме наверх».
18 августа:
«За весь день — ни одного звонка… Миша всё время мучительно раздумывает над письмом наверх».
Однако вскоре желание что‑то объяснять, в чём‑то перед кем‑то оправдываться прошло. И 19 августа в дневнике появилась запись:
«1 час ночи… Телефон молчит. Миша сидит над итальянским языком. Я — по хозяйству».
20 августа:
«Звонок из газеты „Московский большевик“ — о „Батуме“. Сказала, что пьеса не пойдёт нигде. Пауза.
— Простите… простите, что побеспокоил…»
22 августа:
«Сегодня в газетах сообщение о переговорах с Германией и приезде Риббентропа.
Вечером… Миша пошёл к Серёже Ермолинскому».
Сергей Ермолинский впоследствии вспоминал:
«Он лёг на диван, некоторое время лежал, глядя в потолок, потом сказал:
— Ты помнишь, как запрещали „Дни Турбиных“, как сняли „Кабалу святош “, отклонили рукопись о „Мольере “? И ты помнишь — как ни тяжело было всё это, у меня не опускались руки. Я продолжал работать, Сергей! А вот теперь смотри — я лежу перед тобой продырявленный».
Запись от 23 августа:
«Миша упорно заставляет себя сидеть над языками — очевидно, с той же целью, как я над уборкой».
25 августа Елена Сергеевна поехала в МХАТ — отвозила неиспользованные командировочные деньги:
«В Театре все глядят на меня с сочувствием, как на вдову».
26 августа:
«Сегодня — сбор труппы в Большом… Миша был. Слова Самосуда (о „Батуме “): а нельзя ли из этого оперу сделать? Ведь опера должна быть романтической».
27 августа:
«Сегодня без конца телефонные звонки… Калигиьян — с сообщением, что запрещение не отражается на материальной стороне и что деньги я могу прийти получить когда угодно…
Кроме того, весь сегодняшний день (сбор труппы в МХА‑Те) прошёл под знаком „Батума“ и Михаила Афанасьевича.
В общем скажу, за это время видела столько участия, нежности, любви и уважения к Мише, что никак не думала получить. Это очень ценно…
У Миши состояние духа раздавленное. Он говорит — выбит из седла окончательно. Так никогда не было».
31 августа Михаил Афанасьевич и Елена Сергеевна, взяв с собой Марику, жену Ермолинского, поехали кататься по Москве‑реке на пароходике. Сошли на Ленинских горах.
«Там Миша ездил опять на байдарке…
Вечером у нас Оля и Женя Калужский. Со слов Оли — Немирович не может успокоиться с этой пьесой и хочет непременно просить встречи с Иосифом Виссарионовичем и говорить по этому поводу».
А Булгаковы решили всё же съездить в Батуми. Просто так. Отдохнуть…
Но отдохнуть ли?
Вновь возникают сомнения.
И встаёт вопрос, а не появилось ли у обиженного (в который уже раз) Булгакова его прежнее желание, возникавшее всякий раз, когда ему становилось худо: бежать? За рубеж. В Турцию. Через всё тот же Батум, ставший теперь городом Батуми?
От этой поездки их все отговаривали.
8 сентября решили посоветоваться со старым и добрым приятелем — Я.Л. Леонтьевым. Тот сразу напомнил о том, что началась война, и Елена Сергеевна записала в дневнике:
«Военные действия развиваются. Сегодня ночью, когда вернулись из Большого, услышали по радио, что взята Варшава.
Ходили мы в театр для разговора с Яковом. Он не советует ехать в Батум (у нас уж были заказаны билеты на 10 сентября). Доводы его убедительны. И пункт неподходящий и время. Уговорил поехать в Ленинград».
Конечно, Булгаковы жалели, что лишаются возможности побывать на Чёрном море. Об этом запись от 9 сентября:
«Ужасно мы огорчены, что сорвалась поездка на юг. Так хотелось покупаться, увидеть все эти красивые места».
Однако то, что произошло в этот же день с Булгаковым, вмиг заставило забыть все мелочи жизни:
«В Большом театре Миша в первый раз не увидел лиц в оркестре, не узнал Максакову — лица задёрнуты дымкой».
И 10 сентября 1939 года в международном вагоне они уехали в Ленинград.
Окончательный диагноз
В городе на Неве Булгаковы остановились в своей любимой гостинице (одной из лучших тогда в Ленинграде) — в «Астории». 11 сентября пошли побродить по городу. Но прогулка никакого удовольствия Михаилу Афанасьевичу не доставила:
«Не различал надписей на вывесках, всё раздражало — домой. Поиски окулиста».
«Лекарь с отличием» и сам отлично понимал, что именно с ним происходит. Но в глубине души всё же надеялся, если не на чудо, то хотя бы на то, что у него самое обычное заболевание глаз. Он хватался за эту мысль, как за последнюю спасительную соломинку.
«Настойчиво уговаривал уехать… Страшная ночь: „Плохо мне, Люсенька. Он мне подписал смертный приговор “».
«Он» — это, конечно же, Сталин.
Врач‑окулист, к которому обратились Булгаковы, сказал:
«„Ваше дело плохо. Немедленно уезжайте домой “. Эта докторская жестокость повторилась и в Москве — врачи не подавали ему надежды, говоря: „Вы же сами врач, и всё понимаете “».
В «Жизни господина де Мольера» с профессиональной точностью описано состояние французского драматурга, заболевшего той же самой болезнью:
«Лечить Мольера было очень трудно… Больной был очень мнителен, старался понять, что происходит у него внутри, сам у себя щупал пульс и сам себе внушал мрачные мысли».
Поразительная деталь: Елена Сергеевна пригласила к больному старого приятеля их семьи — доктора Андрея Андреевича Арендта, потомка того самого лейб‑медика, которого вызывали к умиравшему Пушкину.
«Я вызвала Арендта. Тот пригласил невропатолога Вовси и специалиста по почкам М.Ю. Раппопорта. Они полностью подтвердили диагноз: гипертонический нефросклероз. (Впоследствии врачи говорили мне: “ Телеграмма ударила по самым тонким капиллярам — глаза и почки“.) Предложили сразу ложиться в кремлёвку. Он смотрел на меня умоляюще, … я сказала:
— Нет, он останется дома.
И врач, уходя, сказал:
— Я не настаиваю только потому, что это вопрос трёх дней…
Он слышал это… Я уверена, что если б не эта фраза — болезнь пошла бы иначе… Это убило его — а он и то ведь прожил после этого не три дня, а несколько месяцев».
26 сентября Булгаков продиктовал письмо другу юности А.П. Гдешинскому:
«Дорогой Саша!
Вот настал и мой черёд. В середине этого месяца я тяжело заболел, у меня болезнь почек, осложнившаяся расстройством зрения.
Я лежу, лишённый возможности читать и писать, и глядеть на свет».
А записи Елены Сергеевны становились всё короче и всё страшнее. 26 сентября:
«Углублённый в себя взгляд. Мысли о смерти, о романе, о пьесе, о револьвере».
28 сентября:
«Сонливость, сон стал очень тихий и очень крепкий. Не слышит, когда я вхожу в комнату…
Вечером попросил достать роман, записи. Работать, конечно, не смог».
29 сентября:
«… к Мишиной тяжёлой болезни: головные боли — главный бич…»
Головные боли!.. Как не вспомнить тут строки из «Мастера и Маргариты»:
«О боги, боги, за что вы наказываете меня?.. Да, нет сомнений, это она, непобедимая, ужасная болезнь… гемикрания, при которой болит полголовы… от неё нет спасения, нет никакого спасения…»
1 октября:
«Разбудил в семь часов — невозможная головная боль. Не верит ни во что. О револьвере. Слова: отказываюсь от романа, отказываюсь от всего, отказываюсь от зрения, только чтобы не болела голова».
2 октября:
«Заснул в одиннадцать, проснулся в три часа с безумной болью в голове. Полное отчаяние».
9 октября:
«Вчера большое кровопускание — 780 граммов, сильная головная боль».
10 октября произошло событие, которого все ждали давно — МХАТ посетил Сталин. Елена Сергеевна записала:
«Генеральный секретарь, разговаривая с Немировичем, сказал, что пьесу „Батум „он считает очень хорошей, но что её нельзя ставить.
Это вызвало град звонков от мхатчиков, и кроме того, ликующий звонок от М[ихаила] А[фанасьевича], который до этого трубки в руку не брал».
И ещё Елена Сергеевна записала:
«Меня необыкновенно трогает отношение к Мише профессора Страхова. Он всё восхищается Мишиным юмором, какой он сохранил и в болезни».
17 октября на квартиру Булгакова доставили пишущую машинку, купленную за океаном. На следующий день позвонил Александр Фадеев (он возглавил тогда Союз писателей) и сказал, что «он завтра придёт Мишу навестить». А 24 октября МХАТ принял решение ставить «Александра Пушкина» и полностью выплатить гонорар по «Батуму». Вот так подействовало на общественность посещение театра Сталиным.
И самочувствие Булгакова сразу улучшилось. Весь конец октября и начало ноября он работал над «Мастером и Маргаритой»
Но 10 ноября — неожиданное резкое ухудшение:
«Проснулся в семь утра. Разговор ненормальный».
Вызвали врача — Забугина. Потом другого — Арендта. После их ухода больной сказал:
«Я в ужасе… По‑моему, доктора заметили, Забугин безусловно заметил, что я не нахожу слов, которые мне нужны, говорю не то, что хочу!.. Ужасно!.. Какое впечатление? Это, наверное, из‑за наркотиков?!»
Да, Булгаков вновь был вынужден принимать наркотики. Поскольку только они на какое‑то время спасали от жутчайших головных болей.
В тот же день:
«В четыре часа ночи проснулся…
— Чувствую, что умру сегодня».
11 ноября:
«Проснулся в 10.15. Раздражителен, недоверчив. Рассказывал, что видит людей, которых нет в комнате …»
13 ноября:
«Бросил курить».
Однако через два дня — запись совсем иной эмоциональной окраски:
«Необычайное настроение. Разговор о пьесе новой».
Много лет спустя, рассказывая о последних днях Михаила Афанасьевича (в письме брату Булгакова Николаю), Елена Сергеевна писала:
«Мы засыпали обычно во втором часу ночи, а через час‑два он будил меня и говорил: „Встань, Люсенька, я скоро умру, поговорим“. Правда, через короткое время он уже острил, смеялся, верил мне, что выздоровеет непременно, и выдумывал необыкновенные фельетоны про МХТ, или начало нового романа, или вообще какие‑нибудь юмористические вещи. Как врач, он знал всё, должно было произойти, требовал анализы, иногда мне удавалось обмануть его в цифрах анализа, — когда белок поднимался слишком высоко…»
18 ноября Булгаков вместе с женой поехал в подмосковный санаторий «Барвиха». Здесь ему стало лучше. Появились даже проблески надежды на выздоровление. И он принялся рассказывать жене о пьесе, которую задумал. Среди её действующих лиц был и… Сталин. Елена Сергеевна испугалась:
«— Опять ты его!
— А я теперь его в каждую пьесу буду вставлять».
30 ноября 1939 года началась война с Финляндией. Но Булгаковы были далеки от трагедий глобального масштаба. И в дневнике сохранилась запись:
«Кругом кипят события, но до нас они доходят глухо, потому что мы поражены своей бедой».
1 декабря Булгаков продиктовал письмо Павлу Попову:
«В основной моей болезни замечено здесь улучшение (в глазах). Благодаря этому у меня возникла надежда, что я вернусь к жизни».
2 декабря отправил послание А.П. Гдешинскому:
«Появилась у меня некоторая надежда, что вернётся ко мне возможность читать и писать, т. е. то счастье, которого я лишён вот уже третий месяц».
3 декабря написал сестре Елене:
«По словам доктора выходит, что раз в глазах улучшение, значит, есть улучшение и в процессе почек.
А раз так, то у меня надежда зарождается, что на сей раз я уйду от старушки с косой и кончу кое‑что, что хотел бы закончить».
18 декабря Булгаковы возвратились в свою московскую квартиру. И через десять дней Михаил Афанасьевич сообщал А.П. Гдешинскому:
«Ну, вот я и вернулся из санатория. Что же со мною? Если откровенно и по секрету тебе сказать, сосёт меня мысль, что вернулся я умирать.
Это меня не устраивает по одной причине: мучительно, канительно и пошло. Как известно, есть один приличный вид смерти — от огнестрельного оружия, но такового у меня, к сожалению, не имеется.
Поточнее говоря о болезни: во мне происходит, ясно мной ощущаемая, борьба признаков жизни и смерти. В частности, на стороне жизни — улучшение зрения.
Но, довольно о болезни!
Могу лишь добавить одно: к концу жизни пришлось пережить ещё одно разочарование — во врачах‑терапевтах.
Не назову их убийцами, это было бы слишком жестоко, но гастролёрами, халтурщиками и бездарностями охотно назову…
Пройдёт время, и над нашими терапевтами будут смеяться, как над мольеровскими врачами. Сказанное к хирургам, окулистам, дантистам не относится. К лучшему из врачей Елене Сергеевне также. Но одна она справиться не может, поэтому принял новую веру и перешёл к гомеопату. А больше всего да поможет нам всем больным Бог!»
В канун нового 1940 года, поздравляя сестру Елену, Булгаков писал:
«Себе ничего не желаю, потому что заметил, что никогда ничего не выходило так, как я полагал… Будь что будет».
А Елена Сергеевна оставила в дневнике такую запись:
«Ушёл самый тяжёлый в моей жизни год 1939‑й, и дай Бог, чтобы 1940‑й не был таким!
Вчера… мы вчетвером — Миша, Серёжа, Сергей Ермолинский и я — тихо, при свечах встретили Новый год: Ермолинский — с рюмкой водки в руках, мы с Серёжей — белым вином, а Миша — с мензуркой микстуры. Сделали чучело Мишиной болезни — с лисьей головой (от моей чернобурки), и Серёжа, по жребию, расстрелял его».
В самом начале нового года Булгаков вроде бы пошёл на поправку Нет, выздоровления не произошло, но театры и знакомых посещать стал.
3 января 1940 года:
«Проснулся с болью в голове…
Пошёл в Большой театр…
Пошла за ним. Приехали на машине домой».
«К профессору Страхову пешком туда и обратно. Мороз сильнейший, будто бы 30°…
Заснул, просыпался каждые два часа — всё время сильнейшая головная боль. Порошок. Несколько раз гомеопатическое средство от головной боли».
«Проснулся с очень плохим самочувствием. Порошок… Гомеопатическое средство».
Попробовал занести на бумагу кое‑какие мысли о задуманной пьесе, но…
«Ничего не пишется, голова, как котёл… Болею, болею».
13 января Булгаковы отправились в Союз писателей.
«Лютый мороз, попали на Поварскую в Союз. Миша хотел повидать Фадеева, того не было. Добрались до ресторана писательского, поели…
Миша был в чёрных очках и в своей шапочке, отчего публика (мы сидели у буфетной стойки) из столовой смотрела во все глаза на него — взгляды эти непередаваемы.
Возвращение в морозном тумане. У диетического магазина — очередь».
14 января:
«Миша лежит. Мороз действует на него дурно».
И всё же Булгаков нашёл в себе силы и начал диктовать поправки к «Мастеру и Маргарите». 15 января Елена Сергеевна записала:
«Миша, сколько хватает сил, правит роман. Я переписываю».
Запись от 16 января:
«42 градуса!.. Окна обледенели, даже внутренние стёкла… Работа над романом…
Вечером — правка романа. Я верю, что он поправляется».
17 января:
«42°. За окном какая‑то белая пелена, густой дым…
Сегодня днём в открытую в кухне форточку влетела синичка. Мы поймали её, посадили в елисеевскую корзину.
Она пьёт, ест пшено. Я её зову Моней, она прислушивается. Говорят, приносит счастье в дом».
24 января Булгаков написал (сам!) коротенькое письмецо Павлу Попову:
«Жив ли ты, дорогой Павел? Меня морозы совершенно искалечили, и я чувствую себя плохо».
В тот же день в дневнике Елены Сергеевны вновь появилась тревожная запись:
«Плохой день. У Миши непрекращающаяся головная боль. Принял четыре усиленных порошка — не помогло. Приступы тошноты…
Живём последние дни плохо, мало кто приходит, звонит. Миша правит роман…»
Настало время и нам приглядеться повнимательнее к произведению, которому Булгаков отдал столько времени, сил и здоровья.
Глава третья Закатный роман
Удивительная книга
Одиннадцать лет создавал Булгаков самое загадочное и самое парадоксальное своё произведение.
Вспомним вкратце его содержание. В чём‑то оно перекликается с уже знакомым нам «Копытом инженера». И даже начинается так же просто и непритязательно:
«В час жаркого весеннего заката на Патриарших прудах появилось двое граждан…
Первый был не кто иной как Михаил Александрович Берлиоз, редактор толстого художественного журнала и председатель правления одной из крупнейших московских литературных ассоциаций, сокращённо именуемой Массолит, а молодой спутник его — поэт Иван Николаевич Понырёв, пишущий под псевдонимом Бездомный».
То ли от жары, то ли от каких‑то иных необъяснимых причин, но на аллее, опоясывающей Патриаршие пруды…
«… не оказалось ни одного человека».
Отчего, неизвестно, но именно в этот момент на главу Массолита навалилось тревожное предчувствие, даже не предчувствие, а…
«… Берлиоза охватил необыкновенный, но столь сильный страх, что ему захотелось тотчас же бежать с Патриарших без оглядки».
Впрочем, нехорошие ощущения вскоре прошли. Но на аллее появился некий гражданин весьма странного вида:
«Он был в дорогом сером костюме, в заграничных, в цвет костюма, туфлях. Серый берет он лихо заломил на ухо, под мышкой нёс трость с чёрным набалдашником в виде головы пуделя. По виду — лет сорока с лишним. Рот какой‑то кривой. Выбрит гладко. Брюнет. Правый глаз чёрный, левый — почему‑то зелёный. Брови чёрные, но одна выше другой. Словом — иностранец».
Вскоре выяснилось, что перед Берлиозом и Бездомным предстал специалист по чёрной магии, приехавший в Москву консультировать древние рукописи чернокнижников.
Охотно подключившись к разговору на евангельскую тему, которую вели между собой редактор с поэтом, загадочный иностранец не только сообщил своим собеседникам массу интереснейших подробностей из жизни Иисуса Христа и Понтия Пилата, но и предсказал Бездомному и Берлиозу их собственную судьбу. Поэт узнал, что его ожидает лечебница для душевнобольных, а главе Массолита было напророчено, что ему‑де «отрежут голову».
Предсказания тут же начали сбываться: Берлиоз попал под трамвай, который и в самом деле отрезал ему голову, а Бездомный уже к вечеру оказался в психиатрической клинике.
Во всех этих необыкновенных событиях не было ничего из ряда вон выходящего, потому что тот, кто называл себя «профессором чёрной магии», прибывшим в Москву по неотложному делу, был никто иной как сам сатана.
Вместе со своей свитой (гаером Коровьевым, котом Бегемотом и рыжим Азазелло) он вселился в квартиру покойного Берлиоза. Предварительно (с помощью обычной «дьявольщины») отправив на берег Чёрного моря гражданина Лиходеева, который проживал в комнатах, что соседствовали с жилплощадью главы Массолита.
Черти заключили договор с театром Варьете — тем самым, которым до своего изгнания из Москвы руководил гражданин Лиходеев. И по всему городу тотчас расклеили броские афиши. В них жители столицы оповещались о том, что «сегодня и ежедневно» будут проводиться «сеансы чёрной магии с полным её разоблачением». Команда Воланда (так звали их предводителя) и в самом деле устроила в театре Варьете поистине «дьявольское» представление — со всевозможными невероятными фокусами и загадочными превращениями.
Затем наступило время «Великого Бала у сатаны» с участием самых отъявленных мошенников и преступников. Апофеозом сатанинского шабаша стал момент, когда из черепа Берлиоза, тут же на глазах всех превращённого в чашу, Воланд пил кровь барона Майгеля, специально убитого для этого бесовского ритуала.
Королевой бала черти выбрали москвичку Маргариту. По завершению бальных мероприятий воландовская компания вызволила из психиатрической лечебницы её возлюбленного, мастера, автора романа о Понтии Пилате.
Книгу эту прочли на небесах, она получила одобрение, и к Воланду прислали гонца с просьбой, чтобы он увёз писателя из страны Советов.
Осуществить «высочайшее распоряжение» Воланд поручает Азазелло. Рыжий чёрт тут же возникает в полуподвальной квартирке мастера и там (специально прихваченным для этой цели вином) отравляет и самого писателя и его подругу. Отравляет, чтобы тотчас оживить и уже в новом облике представить Воланду.
Наконец вся сатанинская братия (вместе с мастером и Маргаритой) благополучно покидает Москву.
После долгого пути странники становятся свидетелями того, как Понтий Пилат получает прощение и встречается с Иешуа. Затем мастеру даруется вечный покой.
Книгу завершает эпилог, в котором изложена дальнейшая судьба её персонажей. Иными словами, рассказывается, что произошло с ними после того, как черти сгинули из Москвы.
Заканчивается роман словами:
«… жестокий пятый прокуратор Иудеи всадник Понтий Пилат».
Таково содержание «Мастера и Маргариты».
Поиски сути
Начиная с середины 60‑х годов двадцатого столетия, то есть практически сразу после опубликования «романа о дьяволе», его автора стали называть не иначе, как мистическим писателем, провозгласив чуть ли не родоначальником литературы на сатанинские темы. С тех пор всё то, что так или иначе связано с сатаной, принято именовать булгаковским.
Достаточно ли обосновано подобное отношение к творческому методу и стилю писателя Булгакова? Да, он написал роман о дьяволе. Да, он сам называл себя «.мистическим писателем».
В 20‑е годы ХХ‑го века дьявол был одним из самых популярных героев советской литературы. В книге «Жизнеописание Михаила Булгакова» Мариэтта Чудакова приводит целую вереницу произведений, где присутствует сатана. Называет их авторов.
Прежде всего, это И. Эренбург, создавший «Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников» — книгу, которую даже Ленин читал.
Это О. Савич с его «Иностранцем из 17 №».
Это А. Грин с рассказом «Фанданго», в котором говорится о приезде в Петроград голодной морозной зимой 1921 года группы иностранцев во главе с профессором, оказывающимся сатаной.
Это А. Соболь, в рассказе которого «Обломки» действует не менее таинственный персонаж — Виктор Юрьевич Треч. Фамилия эта при обратном чтении не оставляет никаких сомнений в том, что перед нами — сам чёрт собственной персоной.
Но особое внимание следует обратить на роман «Венедиктов…». В начале 20‑х годов его прочла художница Ушакова, жена Николая Лямина, дружившего с Булгаковым. Она‑то и подарила…
Впрочем, пусть об этом расскажет очевидец событий, Любовь Белозёрская. В своих «Воспоминаниях» она подробно рассказала историю, которая началась с того, как Ушакова…
«… подарила М[ихаилу] А[фанасьевичу] книжку, в которой делала обложку… Это „Венедиктов, или Достопамятные события жизни моей». Романтическая повесть, написанная ботаником X, иллюстрированная фитопатологом Y. Москва, V год Республики“. Автор, нигде не открывшийся, — профессор Александр Васильевич Чаянов.
Н. Ушакова, иллюстрируя книгу, была поражена, что герой, от имени которого ведётся рассказ, носит фамилию Булгаков. Не меньше был поражён этим совпадением и Михаил Афанасьевич.
Всё повествование связано с пребыванием Сатаны в Москве, с борьбой Булгакова за душу любимой женщины, попавшей в подчинение к Дьяволу…
Сатана в Москве. Происходит встреча его с Булгаковым в театре Медокса…
Судьба сталкивает Булгакова с Венедиктовым, и тот рассказывает о своей дьявольской способности безраздельно овладевать человеческими душами.
“ Беспредельна власть моя, Булгаков, — говорит он, — и беспредельна тоска моя, чем больше власти, тем больше тоски… Знаешь ли ты, что лежит вот в этой железной шкатулке?.. Твоя душа в ней, Булгаков!“ Но душу свою у Венедиктова Булгаков отыгрывает в карты».
Как видим, предшественников у булгаковского Воланда было предостаточно.
В смутные 20‑е годы всемогущество нечистой силы никого не удивляло. Дьяволов самого разного толка в молодой республике Советов было такое великое множество, а к их сатанинским каверзам настолько привыкли, что Демоны и Бесы не поражали ничьё воображение.
Зато в конце 30‑х годов, когда Булгаков закончил своего «Мастера…» и принялся читать его друзьям и знакомым, одного лишь намёка на сатану было достаточно, чтобы слушателями овладевал страх. Образы всесильных чертей сливались с обликами всемогущих энкаведешников.
Ещё через тридцать лет (в середине 60‑х, когда булгаковский роман был наконец‑то опубликован) неограниченная власть партии и службы безопасности, охранявшей её вождей, у советских людей удивления не вызывала. К могуществу непогрешимых генсеков привыкли, их самодержавные замашки воспринимали как нечто само собой разумеющееся.
Многочисленную литературу, описывающую похождения и проделки дьяволов, граждане СССР основательно подзабыли. Вот почему появление (пусть даже на страницах книги) некоего существа, обладающего не меньшей, чем у генерального секретаря, властью, привлекло к себе столь исключительное внимание. И создатель необычного романа (за отсутствием «конкурентов») был тотчас же провозглашён главным мистическим писателем страны.
А там, где мистика, там, как известно, — тьма необыкновенного, невероятного и недоступного для понимания. И у многих читателей, озадаченных загадочной новизной «Мастера и Маргариты», стали возникать недоумённые вопросы:
О ЧЁМ, собственно, эта книга?
ЧТО именно хотел сказать ею автор?
КТО из реально существовавших людей послужил прообразами для его необычных героев?
И так далее и тому подобное…
Начались поиски ответов…
Один из них лежал, как казалось многим, на поверхности. Речь идёт о мастере, который дерзнул в обществе с воинствующей антирелигиозной идеологией сочинить книгу о Понтии Пилате. Даже сам сатана, когда узнал, о чём и о ком рассказывается в этой книге, и тот расхохотался:
«— О чём, о чём? О ком? — заговорил Воланд, перестав смеяться. — Вот теперь? Это потрясающе! И вы не могли найти другой темы?».
Если даже сам дьявол удивился, что же говорить тогда об обыкновенных читателях?
Поудивлявшись, обыкновенные читатели сделали вывод, что в основу образа мастера легли жизненные перипетии самого автора «Мастера и Маргариты». Ведь это же он, Михаил Булгаков, живя в стране, озарённой кроваво‑красными всполохами Великого Октября, написал роман о белой гвардии и белогвардейцах.
Что касается остальных персонажей романа (от сверхначитанного Берлиоза до гаерствующего Коровьева), то в отношении их произошёл неожиданный сбой. Поскольку у каждого прототипов обнаружилось больше, чем следовало бы.
Так, по поводу Ивана Понырёва, сочинившего под псевдонимом Бездомный большую антирелигиозную поэму, высказывались самые разные суждения. Одни считали, что он скопирован с пролетарского поэта Ивана Придворова, более известного как Демьян Бедный. И объясняли это тем, что именно Бедный написал популярную в те годы антирелигиозную агитку в стихах — «Новый завет без изъяна евангелиста Демьяна». Другие, напротив, утверждали, что Иван Бездомный — это вылитый поэт Иван Приблудный, друг Есенина. Третьи видели в Бездомном какие‑то черты поэта Александра Безыменского…
А уж относительно личности, которая могла бы послужить прообразом Берлиоза, мнения литературоведов и вовсе разошлись весьма основательно. Самый маститый из них, А.З. Вулис, был даже вынужден признать (в солидном исследовательском труде под названием «Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита»):
«С кого Булгаков рисовал Берлиоза, на сей счёт высказывались весьма разнообразные идеи… Претендентов на престол Берлиоза оказывается такая уйма, что они — по мне — взаимно уничтожаются».
В своём исследовании Вулис привёл «показания» и самого главного свидетеля в этом литературном споре, Елены Сергеевны Булгаковой:
«Елену Сергеевну настораживали три сюжетных поворота. Первый — в сторону политики. Например, не следует ли воспринимать квартиру № 50, или психиатрическую лечебницу или водопроводчиков на крыше дома как иносказательные изображения 37‑го года? Чуралась она вопросов о Сталине. Как объяснить, что Воланду отдана его фраза о фактах, которая упрямая вещь, и не ассоциировал ли Булгаков рубище Воланда („всё та же грязная заплатанная сорочка“) с шинелью Сталина, а свиту Воланда („он шёл в окружении Абадонны, Азазелло и ещё нескольких похожих на Абадонну, чёрных и молодых“) с соратниками Сталина, „чёрными и молодыми“? Догадкам такого рода Булгакова противопоставляла молчание».
Относительно того, с кого «срисован» критик Латунский (он упоминается в романе всего‑то два или три раза), у знатоков отечественной литературы никаких сомнений не возникало. Они в один голос заявляли, что в образе нещадного преследователя мастера выведен бывший руководитель Главреперткома О.С.Литовский — тот самый (по словам Елены Сергеевны) «.мерзавец», который в 30‑х годах так досаждал Булгакову.
Один из последних толкователей смысла булгаковского романа, А.Н.Барков, выдвинул свою версию, которая, с его точки зрения, раскрывает все тайны и объясняет абсолютно всё. Во всяком случае, вопрос о прообразах героев «Мастера и Маргариты», по мнению Баркова, можно считать решённым. Окончательно и бесповоротно.
Согласно барковской версии прототипом Воланда является Ленин, прообразом Левия Матвея — Лев Толстой, Маргариты — актриса Художественного театра и гражданская жена Горького Андреева. В финансовом директоре театра Варьете Римском Барков увидел черты Станиславского, в администраторе того же театра Варенухе — Немировича‑Данченко, в Гелле — Ольгу Бокшанскую и так далее.
На вопрос, с кого Булгаков «срисовал» своего мастера, Альфред Барков отвечает: с Алексея Максимовича Горького. Дескать, это он, буревестник революции, пошёл в услужение к Сталину и получил от вождя ключи от больничных палат. И стал бродить по ним, совращая пациентов, то бишь непокорных писателей и поэтов к сотрудничеству с большевиками.
Что можно сказать по поводу подобной трактовки (или «барковки», если выражаться по‑булгаковски — шутливо и с ёрнической подковыркой)?
Начнём с Горького. Невозможно себе представить, чтобы деликатнейший Михаил Булгаков способен был так изобразить человека, сделавшего ему столько добра? Ведь Алексей Максимович и пьесы булгаковские отстаивал и сочувственным словом поддерживал в трудные минуты! Если даже в последние годы жизни Горький и сделал что‑то не так, как следовало бы, происходило это скорее от того наваждения, что напало на великого пролетарского писателя, оказавшегося в цепком окружении большевистских спецслужб. Ведь это и к Горькому можно отнести слова из «Жизни господина де Мольера»:
«Поступай он иначе, кто знает, не стала бы его биография несколько короче, чем она есть теперь?»
Да, большевикам Булгаков мстил. Но к тем, кто, как и он, оказывался заложником тоталитарной системы, всегда относился с уважением. Поэтому и с Горьким не мог он поступить так неблагородно. Не булгаковский это стиль.
Что же касается остальных прототипов, якобы окончательно открытых «версией» Баркова… Это его «открытие» напоминает одну давнюю историю. Она известна многим…
В начале 1836 года Пушкин опубликовал стихотворение «На выздоровление Лукулла». Современники тотчас узрели в нём непозволительную сатиру на министра С.С. Уварова. Разразился шумный скандал. Автор произведения, дерзко высмеивающего высокопоставленного чиновника, был вызван к шефу жандармов. На вопрос А.Х. Бенкендорфа, на кого намекает поэт в своём стихотворении, Пушкин, не задумываясь, ответил: «На вас, Александр Христофорович!» Оба посмеялись. На том «следствие» и завершилось.
Поучительная история! И говорит она о том, что при желании сходство можно найти с кем угодно. Особенно в произведениях, автор которых намеренно укутывает своих героев в вязкий мистический туман и всюду расставляет кривые зеркала, сбивающие с толку читателей. Вот почему искать подлинные «оригиналы», с которых Булгаков «списывал» своих героев следует очень и очень осторожно.
Поэтому не будем торопиться. И, прежде чем приподнять «маску» с какого‑то булгаковского героя, зададимся вопросом: почему практически все попытки понять подлинный смысл романа с таким упорным постоянством заводили исследователей в тупик?
Случайны ли эти «заблуждения»?
А что если «Мастер и Маргарита» — это некая хитроумная ловушка с множеством отвлекающих ходов? И устроен этот лабиринт так, чтобы, попав в него, простодушные читатели, въедливо‑дотошные критики и напористые следователи с Лубянки были обречены на бесконечные блуждания.
Вполне возможно, что подобные намерения у писателя были. Потому и «клюнуть» на хитрую отвлекающую «приманку», которую с лукавой усмешкой насадил на свой «крючок» опытный «рыболов» Булгаков, очень легко. Вот почему в поисках истинной сути романа, ни в коем случае не следует идти по пути внешней похожести! Иными словами, если фамилия Литовский похожа на фамилию Латунский, это вовсе не означает, что именно с последнего гражданина «скопирован» интересующий нас герой. Хотя и здесь, как говорится, возможны варианты.
Для разгадывания тайн булгаковского «Мастера…» прежде всего необходимо понять, что и кого хотел вывести писатель в своём романе, что именно стремился зашифровывать и от кого прятал свои откровения.
Но легко сказать: «необходимо понять». Сделать — гораздо труднее.
Автору этих строк приблизиться к разгадке некоторых зашифрованных булгаковских тайн (очень хочется в это верить) помог случай. Как‑то (было это в самом начале 90‑х годов) довелось листать подшивки старых советских газет. Страница сменялась страницей… В заголовках и в текстах статей мелькали упоминания о событиях и исторических персонажах, давным‑давно ушедших в небытие… И вдруг…
Внезапно возникло ощущение, что отдельные эпизоды нашей истории, встречающиеся, казалось бы, впервые, не выглядят такими уж неожиданно‑новыми. Напротив, кажутся добрыми старыми знакомыми, лишь слегка подзабытыми в вихре промчавшихся лет. Это могло означать только одно, что где‑то, когда‑то об этих событиях уже доводилось слышать или читать.
Но где и когда?
Память не очень уверенно подсказала: у Булгакова… Где? В «Мастере и Маргарите»!
Стал сопоставлять…
Совпадает!
Кинулся перечитывать роман заново. И поразился, насколько описанные в нём события идентичны тому, что происходило у нас в стране в первые годы советской власти. А точнее, в 1924 году.
И вся фантасмагория «Мастера и Маргариты» мгновенно растаяла, как дым. А сам роман стал восприниматься не как занимательный калейдоскоп, состоящий из удивительных и невероятных похождений дьявола и его свиты, а как острейший политический памфлет. Как тщательно спланированная и наконец‑то осуществлённая МЕСТЬ писателя столь нелюбимому им большевистскому режиму. Вот почему наиболее крамольные коллизии романа так тщательно зашифрованы. Чтобы акт мщения не был пресечён раньше времени, в самом зародыше.
Поэтому попробуем в качестве ключа к непростому булгаковскому шифру воспользоваться событиями отечественной истории. Поскольку знания поверхностные в этом случае не помогут, придётся ещё раз освежить в памяти кое‑что из того, что происходило у нас в стране в начале минувшего века.
Услыхав подобное предложение, отдельные читатели, возможно, воскликнут:
— Что? Опять история? Это же так скучно — листать полуистлевшие страницы старых газет!
Но вот что сказал по аналогичному поводу Николай Бухарин — в своём докладе на первом съезде советских писателей:
«Здесь я прошу моих слушателей извинить меня, что некоторое количество времени они должны поскучать, по скука, как зло, будет лучше оттенять добро, которое последует в следующей части, где будет не так скучно, и где я натолкнусь, может быть, на ожесточённые возражения. Можно сослаться здесь на блаженного Августина, который говорил, что зло существует только для того, чтобы оттенять добро».
Снова история
Мы уже не раз говорили о том, что новый 1924 год молодая республика Советов встречала, находясь как бы в «разлуке» со своим признанным лидером. Вождь мирового пролетариата был безнадёжно болен. Три тяжелейших инсульта, обрушившихся на Ленина в мае и декабре 1922‑го, а затем и в марте 1923‑его, превратили его в парализованного инвалида, лишённого возможности говорить.
Новое кровоизлияние в мозг могло произойти в любой момент и завершиться летальным исходом. Такой вариант развития болезни врачи, лечившие Владимира Ильича, отнюдь не исключали.
Всей правды о находившемся в Горках вожде Михаил Булгаков, разумеется, не знал. Но он читал публиковавшиеся в газетах бюллетени о состоянии здоровья больного и (как дипломированный медик) кое о чём вполне мог догадываться.
Отсутствие главы Совнаркома в своём рабочем кабинете на жизни страны вроде бы никак не отражалось, поскольку со всеми государственными делами прекрасно управлялась так называемая «тройка», приставленная к партийно‑правительственным рулям ещё самим Лениным. В неё, как мы знаем, входили ближайшие соратники заболевшего вождя: Каменев и Зиновьев. Им помогал Сталин, который был у своих более опытных коллег, так сказать, на подхвате.
Удачливые партийные функционеры доставшейся им безграничной властью, конечно же, делиться не собирались. И потому всеми правдами и неправдами старались избавиться от любых претендентов на властный престол. (Вспомним, как лихо старая гвардия расправилась с «выскочкой» Краснощёковым).
Но был, как мы знаем, ещё один, не менее достойный кандидат в большевистские «цари» — народный комиссар по военным и морским делам Троцкий. С ним «тройка» и вела ожесточённые непримиримые сражения.
8 января 1924 года в центральных газетах появилось сообщение о том, что наркомвоенмор тоже, оказывается, серьёзно болен. Вспомним ещё раз, что по этому поводу написано в булгаковском дневнике:
«Сегодня в газетах: бюллетень о состоянии здоровья Л.Д. Троцкого.
Начинается словами: „Л.Д. Троцкий 5‑го ноября прошлого года болел инфлуэнцей…“, кончается: „отпуск с полным освобождением от всяких обязанностей, на срок не менее 2‑х месяцев“. Комментарии к этому историческому бюллетеню излишни.
Итак, 8‑го января 1924 г. Троцкого выставили. Что будет с Россией, знает один Бог. Пусть он ей поможет!»
Булгаков словно предчувствовал, что страна находится на пороге судьбоносных событий. Не прошло и двух недель, как жизнь показала, что предчувствия его не обманули: 21 января 1924 года в результате очередного кровоизлияния в мозг Ленин неожиданно скончался. Вся власть в огромной стране полностью перешла в руки лидеров могущественного триумвирата.
Тотчас начались (подготовленные заранее и со всей тщательностью) перестановки в составе правительства и в партаппарате. И, конечно же, в армии, главою которой по‑прежнему считался высланный к Чёрному морю Троцкий.
Всесоюзный съезд Советов, назначенный на третью декаду января, поспешно (и, главное, послушно) утвердил все новые назначения. Затем все перемены в руководстве партией и страной благословил и съезд ВКП(б), который по счёту оказался тринадцатым.
Чтобы покрасоваться во всём своём величии перед остальным миром, лидеры «тройки» созвали конгресс Коминтерна. Для участия в нём в июле 1924 года в Москву съехались руководители коммунистических партий и сочувствующих большевикам движений из многих зарубежных стран. Апофеозом этого грандиозного международного форума стало посещение мавзолея, где делегаты конгресса могли лицезреть саркофаг с только что забальзамированным телом усопшего вождя.
Вот такие в стране Советов происходили события в году 1924‑ом. Именно из них и соткан сюжет «Мастера и Маргариты», именно оттуда и перешли в роман многие его персонажи.
Сопоставим реальных людей и реальные исторические события, в которых эти люди участвовали, с содержанием книги, придуманной Михаилом Булгаковым.
Замаскированные герои
Начнём с персонажа важного, весьма значительного, но не самого главного — Берлиоза. Фамилию эту Булгаков выбрал не сразу Были варианты: Мирцев, Крицкий, Цыганский… Даже Чайковский.
Долго искались для Берлиоза и имя с отчеством. Михаил Яковлевич или Антон Антонович? Антон Миронович или Владимир Антонович? Владимир Миронович или Марион Антонович? Борис Петрович или…? В конце концов, он стал Михаилом Александровичем.
В первой версии романа (в «Копыте инженера») Берлиоз занимал пост редактора журнала «Богоборец». В «Мастере и Маргарите» он уже возглавляет крупную литературную ассоциацию под названием Массолит.
Поскольку Берлиоз литератор, к тому же с булгаковскими инициалами (М. А. Б.), кандидата в его прототипы искали исключительно в литературных кругах того времени.
Но «Мастер и Маргарита» — это не просто книга, созданная для чтения‑развлечения, это роман‑мщение. И адресована эта месть вполне конкретной советской власти. Поэтому такой персонаж, как Берлиоз, на котором строится завязка и дальнейшее движение сюжета, никак не может быть выходцем из малозначительного (в политическом отношении) литературного мира.
Но откуда, из каких «слоёв» извлёк его Булгаков?
Сопоставление содержания романа с реальными историческими событиями 20‑х годов XX века приводит к выводу, что на роль прообраза главы Массолита настойчиво «просится» человек весьма высокого полёта. В своих анкетах (в графе «профессия») сей «проситель» неизменно указывал, что считает себя литератором, хотя на самом деле был профессиональным революционером, активнейшим политиком и занимал в стране Советов ответственейший пост. Речь идёт о вожде большевиков Владимире Ильиче Ленине.
Подобное утверждение на первый взгляд может показаться совершенно неправдоподобным. Но те «отличительные черты», которыми автор щедро снабдил своего замаскированного героя, заставляют поверить в реальность нашего предположения.
Приглядимся к Берлиозу со вниманием.
Он возглавляет Массолит, то есть некую массовую литературную организацию. Напишем её название несколько иначе — Массо‑Лит. Если употребить модные тогда сокращения, получим — М‑Л. Какая массовая организация имела в те годы точно такую же аббревиатуру? Только одна — большевистская партия. М арксистско‑Л енинская, сокращённо — М‑Л.
А вот как о покойном Берлиозе отзывается поэт Иван Бездомный:
«… что мне о нём известно? Да ничего, кроме того, что он был лыс и красноречив до ужаса».
«Лыс» и «красноречив» — точно так же говорили и о Ленине.
У главы Массолита такая же фамилия, как и у композитора Гектора Берлиоза. Иногда из‑за этого случались всякие казусы. С тем же Бездомным, например. Вспомним, как по совету главврача психиатрической клиники бедняга‑поэт пробовал изложить на бумаге свои «подозрения и обвинения» в адрес загадочного иностранного «консультанта»:
«Иван работал усердно… и даже попытался нарисовать Понтия Пилата, а затем кота на задних лапах. Но и рисунки не помогли, и чем дальше — тем путанее и непонятнее становилось заявление поэта».
Ещё бы не запутаться, когда происшествие на Патриарших прудах выходило за пределы человеческого понимания! А здесь ещё…
«… а здесь ещё прицепился этот никому не известный композитор‑однофамилец, и пришлось вписывать: “ не композитором… “».
Словом, путаница получилась большая и несуразная.
А между тем и Ленина в первые годы советской власти тоже часто путали с одним москвичом, хотя тот по своим внешним данным был полной противоположностью Владимиру Ильичу: имел высокий рост, стройную фигуру, звучный голос и выразительное лицо. Служил ленинский «двойник» в Малом театре актёром, снискав себе на этом поприще завидную популярность. Звали его Михаил Францевич Игнатюк.
Но как Игнатюк он был известен очень немногим, так как всегда и везде выступал (причём, аж с 1902 года) под сценическим псевдонимом ЛЕНИН. Именно под этой фамилией его и знала театральная публика обеих столиц и крупных городов провинции.
Появление высокопоставленного однофамильца заставило актёра на первых порах требовать, чтобы на всех афишах непременно указывалось, что перед зрителями предстанет именно он, артист Малого театра Михаил Ленин, а «не председатель Совнаркома» с той же фамилией.
«Не композитор» — «не председатель Совнаркома»… На эту удивительную схожесть современники Булгакова должны были обратить внимание, что называется, сходу.
Дом Массолита, где восседал Берлиоз, в первом варианте романа назван «шалашом Грибоедова». А это уже впрямую перекликается с ленинским пристанищем в Разливе, где, как известно, скрывавшийся от преследования властей вождь, жил в шалаше и питался сваренными на костре грибами.
Следующий штрих, убеждающий в наличии сходства между лидером большевиков и героем булгаковского романа — медицинский. На Патриарших прудах Берлиоз вдруг почувствовал себя неважно — возникли какие‑то странные галлюцинации, и он подумал:
«Пожалуй, пора бросить всё к чёрту и в Кисловодск…»
Но, как мы знаем, дальнейшие трагические события перечеркнули планы главы Массолита.
И у Ленина в начале 20‑х годов бывали галлюцинации. И он (точно так же, как Берлиоз) собирался «бросить всё к чёрту» и поехать отдыхать. 17 апреля 1922 года Владимир Ильич даже написал об этом в письме, адресованном Серго Орджоникидзе (оно публиковалось в собрании сочинений вождя). Приведём оттуда слова, в которых Ленин выражает своё отношение к предлагаемым местам будущего отдыха:
«… Боржом очень годится, ибо есть прогулки по ровному месту…»
Но внезапно случившийся удар не дал Ленину (равно как и Берлиозу) осуществить свои намерения.
«Кисловодск» — «Боржом»… Курорты, родственные друг другу и в чём‑то очень похожие один на другой.
А сама смерть Берлиоза, потерявшего голову под колёсами трамвая, разве не напоминает кончину Владимира Ильича от внезапного кровоизлияния в голову, то бишь в мозг?
Есть в романе ещё одна маленькая «подсказка». Вводя её, Булгаков явно рассчитывал вызывать у своих современников самые что ни на есть «ленинские» ассоциации. Но сначала несколько слов о том, как она была обнаружена.
Когда у автора этих строк не оставалось уже почти никаких сомнений в том, кто является прообразом главы Массолита, в памяти всплыл эпизод из первой главы романа: на Патриарших прудах появились страдавшие от невыносимой жары Берлиоз и Бездомный и…
«… бросились к пёстро раскрашенной будочке с надписью „Пиво и воды“».
Сразу возник вопрос: какую воду должны были пить булгаковские герои, чтобы в одном из них читатели мгновенно распознали черты пролетарского вождя?
Если Булгаков хотел вывести нас на «ленинский» след, Берлиоз и Бездомный не могли утолять жажду ни нарзаном, ни лимонадом, ни ситро, ни сельтерской, ни грушевой, ни яблочной, ни персиковой. Они должны были пить только аб…
Взять с полки «Мастера и Маргариту» и открыть первую главу было делом одной минуты… Вторая страница… Да, так оно и есть! Булгаковские герои пили абрикосовую воду! Абрикосовую!
Именно после питья этой воды у Берлиоза начались странные галлюцинации, и он с надеждой подумал о Кисловодске. А фамилия патологоанатома, производившего вскрытие тела умершего Ленина, была, как мы помним, Абрикосов. В 30‑е годы и этот намёк был понятен всем без дополнительных пояснении.
В одной из первых редакций романа загадочный «инженер» (то есть сатана) спрашивает у Берлиоза, какой смертью он умрёт:
«— Я попаду в ад, в огонь, — сказал Берлиоз, улыбаясь и в тон инженеру, — меня сожгут в крематории.
— Пари на фунт шоколаду, что этого не будет, — предположил, смеясь, инженер, — как раз наоборот, вы будете в воде.
— Утону? — спросил Берлиоз.
— Нет, — сказал инженер».
Что имел в виду Булгаков, о какой «воде» идёт здесь речь? Ответ можно найти в тех же ранних редакциях романа, где написано, что сбежавший из психиатрической клиники Иванушка завладевает катафалком с останками Берлиоза. Не справившись с управлением, поэт выпускает из рук вожжи. И тотчас колесницу начинает нести неизвестно куда, и она вместе с гробом оказывается в реке.
Но эту ли речную воду имел в виду Булгаков?
Нет, конечно. Знание реальных исторических событий даёт основание предположить, что и в этом случае писатель весьма недвусмысленно намекал на ещё один пикантный эпизод ленинской биографии.
Дело в том, что ранней весной 1924 года в склеп, где покоилось тело вождя, была допущена группа людей, которым поручили забальзамировать усопшего. Под руководством специально вызванного из Харькова анатома В.П. Воробьёва тело Владимира Ильича извлекли из гроба и поместили в ванну с бальзамирующим раствором.
Не эту ли «воду» имел в виду булгаковский «инженер», когда, «смеясь», предсказывал Берлиозу его будущее?
Может вновь возникнуть вопрос, откуда и как могли просочиться эти сверхсекретнейшие сведения к одинокому «литературному волку», далёкому от кремлёвских дел и делишек?
Что тут ответишь?
Во‑первых, шила в мешке не утаишь. О работах, которые велись в ленинском склепе (слово «мавзолей» тогда ещё не вошло в обиход), ходило по Москве много слухов, полных леденящих душу подробностей.
Во‑вторых, один из ближайших помощников анатома Воробьёва, химик Б.И. Збарский, был хорошо знаком с Борисом Пастернаком. Его родного брата, художника А.Л. Пастернака, по рекомендации Збарского привлекли к работам по бальзамированию (необходимо было сделать серию акварельных рисунков). От автора этих секретных цветных зарисовок тоже могла исходить какая‑то информация, ставшая достоянием узкого круга московских интеллигентов.
Вот такая вырисовывается «подноготная» у вроде бы не самого главного героя этой загадочно‑удивительной книги — Михаила Александровича Берлиоза.
А теперь обратим свой взор на Ивана Николаевича Понырёва, который по просьбе главы Массолита написал (под псевдонимом Бездомный) антирелигиозную поэму, а затем (не без помощи коллег‑литераторов) оказался в психиатрической лечебнице. Напомним, что в первом варианте «Мастера и Маргариты» (в «Копыте инженера») собеседник Берлиоза представлен как художник.
Кто из реально существовавших современников Булгакова мог послужить прототипом этого героя?
Иван Николаевич Б… Человек, достаточно близко стоявший к Берлиозу (то бишь к Ленину) и являвшийся, стало быть, его соратником… Кого должен был напоминать он первым слушателям булгаковского романа? Конечно же, Николая Ивановича Б… Бухарина. Одного из сподвижников Ильича и одного из авторов написанной по просьбе Ленина «Азбуки коммунизма». В свободные минуты Николай Бухарин с увлечением занимался рисованием.
Бухарин был единственным из высокопоставленных партийцев, кто находился в Горках в момент смерти Владимира Ильича. И именно бухаринскую судьбу во второй половине тридцатых годов коллеги по партии решили простым голосованием, передав бывшего члена политбюро в распоряжение НКВД.
Теперь от персонажей земных (во всяком случае, абсолютно реальных) перейдём к героям неземным, потусторонним, мистическим. И постараемся выяснить, кого имел в виду Михаил Булгаков, когда вводил в свой роман нечистую силу?
Воланд и его присные
Очень многие считают, что в образе всемогущего Воланда Булгаков вывел Иосифа Сталина. Эта версия в своё время даже вызвала оживлённые споры, конец которым положил уже упоминавшийся нами А.З. Вулис, заявивший:
«Эта теория: Сталин как прототип Воланда… документально недоказуема».
Но если ничего нельзя доказать с помощью документов, значит, можно попытаться разгадать загадку косвенным путём. В том числе и с помощью «булгаковчувствования».
Что ж, попробуем.
Воланд, по его же собственным словам, прибыл в Москву для консультаций подлинных рукописей некоего чернокнижника десятого века. Как «единственный в мире специалист» по подобной литературе.
Что имел в виду Булгаков, вкладывая эту, казалось бы, вполне безобидную информацию в уста сатаны?
Очень многое.
«Чёрными книгами» в царское время называли сочинения революционеров марксистского толка. Называя Воланда «единственным специалистом» в этой области, автор романа как бы впрямую заявлял, что происхождение марксизма — типично дьявольское. Как тут саркастически не усмехнуться?
Само сатанинское имя — Воланд — звучит непривычно для уха россиян. Происхождение этого слова пытались объяснить по‑всякому. Предполагали, например, что Булгаков мог позаимствовать его у гётевского Мефистофеля, однажды воскликнувшего: «Junker Voland kommt!». Были и другие версии.
Но вспомним в очередной раз о том, что роман о дьяволе — это оружие мщения. Значит и имя, которое дано сатане, должно звучать мстительно ёрнически. Рассмотрим его именно с этой точки зрения.
Напишем слово «Воланд» несколько иначе — ВО ланд. «Ланд» со многих европейских языков переводится как «страна». Существовала ли такая страна, аббревиатура названия которой была бы «ВО»?
Существовала. Вспомним хотя бы экзотическую страну Багровый Остров из одноимённой булгаковской пьесы. Если эту «страну Б О» записать латинскими буквами, то получим «land ВО». Или «ВО LAND». От этого «Boland» a до интересующего нас «Воланда» уже, как говорится, рукой подать.
Но под Багровым островом Булгаков подразумевал Советскую Россию или страну В еликого О ктября, которую тоже можно рассматривать как «страну ВО», «ланд ВО» или «ВО ЛАНД».
В первой редакции романа загадочный иностранец представлялся Берлиозу и Безродному как Велиар Вельярович Воланд. А имена Велиар и Вельяр очень похожи на довольно распространённое в те годы имя Велиор, как раз и составленное из слов ВЕЛИ кая О ктябрьская Р еволюция.
Вот что на самом деле имел в виду Булгаков, нарекая дьявола таким экзотическим именем — сама страна Советов представлялась писателю неким дьяволом во плоти.
Но Воланд появляется в Москве не один, а в сопровождении эскорта помощников: Коровьева, Бегемота и Азазелло.
Кто скрывается под этими именами‑кличками?
Не напоминает ли воландовская троица ту руководящую кремлёвскую «тройку», которая в 1924 году самодержавно правила страной Великого Октября? Поищем сходство между членами большевистского триумвирата и командой булгаковских чертей.
Каменев (он же Розенфельд). Носил усы и бородку. Ходил в пенсне. Внешность имел благообразную, напоминая не то церковного старосту, не то бывшего регента церковного хора. Коллеги часто обвиняли его в политической близорукости, с усмешкой говоря, что хотя Каменев и носит пенсне, но дальше собственного носа ничего не видит.
И один из приближённых Воланда тоже называет себя «бывшимрегентом» и носит…
«… явно не нужное пенсне, в котором одного стекла вовсе не было, а другое треснуло».
И фамилия этого персонажа тоже начинается на букву «К» — Коровьев.
В наши дни любой скажет, что эта фамилия происходит от слова «корова». Но в тридцатых годах советскому человеку, услышавшему окончание «овъев», сразу же вспоминался «враг народа» Зиновьев, сподвижник Каменева. Коровьев — Зиновьев. Как тут не вспомнить в очередной раз булгаковского рассказчика из «Жизни господина де Мольера», с лукавой улыбкой вопрошавшего:
«Есть сходство между этими фамилиями? Ах, мой Бог, я не знаток! Пусть в этом разбираются учёные!»
Однако и без «учёных» видно, что фамилию эту Булгаков составил из «КАМенева» и «ЗинОВЬЕВА». Получившийся в результате сложения Камовьев после небольших переделок и превратился в Коровьева.
В первые годы советской власти ветераны партии, имея, как и все остальные люди, имена и фамилии, козыряли ещё и так называемыми «партийными кличками». И если партийной кличкой Розенфельда была Каменев, то дьявольская кличка Коровьева — Фагот. Слово это в переводе с французского означает «нелепость», а с итальянского — «неуклюжий человек» (оба языка, как мы знаем, Булгаков изучал). Как к нелепому неуклюжему человеку и относились к Каменеву его бывшие коллеги по политбюро.
Второй член воландовской команды — Бегемот, он же Ганс (в переводе с немецкого — «дурачок») — напоминает другого советского вождя 20‑х годов — Г.Е. Зиновьева. Григорий Евсеевич любил поесть и был известен своей полнотой. Кот Бегемот («громадный, как боров») тоже из категории гурманов. И ещё он резонёр, любит поучать других, изрекая разнообразные суждения и афористичные мысли. Этим же славился и Зиновьев, как бы подтверждая, что полностью соответствует своей настоящей фамилии — РадоМЫСЛЬский.
Третье место в свите Воланда занимает рыжий Азазелло. Он не только специалист по всевозможным тайным акциям, связанным с грабежами, разбоями и убийствами, но ещё и мастер по приготовлению пищи. В одном из вариантов романа Азазелло (там он звался ещё Фьелло), обидевшись на то, что его послали исполнять непривычное ему дело, говорит:
«Что за мода поваров посылать? Пусть бы Бегемот и ездил, он обаятельный».
В кремлёвской «тройке» образца 1924 года третье место принадлежало Сталину, который, как известно, был рыжеват. В своё время он тоже выполнял тайные партийные поручения по добыванию денег с помощью грабежей и разбоев, что на языке тогдашних революционеров именовалось благородным словом «экспроприация». Во второй половине 20‑х годов в Москве шёпотом передавались ленинские слова о Сталине (их часто любил повторять Троцкий):
«Сей повар будет готовить только острые блюда!»
Да и сами имена Азазелло и Сосо созвучны.
Имя «Азазелло» явно происходит от Азазеля — так древние иудеи именовали падшего ангела и даже сатану. У мусульман Азазель — это злой дух. К бывшему семинаристу Сосо Джугашвили все эти определения очень подходят.
Кстати, в ранних редакциях романа имя Азазелло носил Воланд, который, как мы уже говорили, очень многим напоминал Сталина.
А теперь вспомним Аллилую из пьесы «Зойкина квартира». Имя и отчество у него — Анисим Зотикович. Стало быть, инициалы Аллилуи — А.З.А. В своё время мы выяснили, что прототипом этого героя был Иосиф Сталин. Получается, что уже в середине 20‑х годов Михаил Булгаков дал генсеку эту звучную кличку — Аза. Затем превратил её в Азазелло.
Четвёртой в сатанинской компании была рыжая и бесстыжая ведьма Гелла. Посетителям квартиры, в которой обосновались черти, она запомнилась тем, что обходилась минимальным количеством одежды. На ней обычно…
«… ничего не было кроме кокетливого кружевного фартучка и белой наколки на голове. На ногах, впрочем, были золотые туфельки».
Кто скрывается под этим экзотическим обликом? Кого могла напоминать эта ведьма современникам Булгакова?
Гелла… Келла… Колла…
Ну, конечно же, златокудрую Коллонтай. Ближайшую сподвижницу Ленина в октябре 1917 года. Пламенная большевичка, являвшаяся одним из организаторов октябрьского переворота, она в качестве народного комиссара вошла в состав первого советского правительства.
Происходила А.М. Коллонтай из благородной семьи. Будучи дочерью санкт‑петербургского генерала, в молодые годы вращалась в дворцовых кругах. Не на это ли обстоятельство намекают «золотые туфельки» Геллы?
В зрелом возрасте Александра Михайловна прославилась своими любовными похождениями и страстными призывами к свободной любви, не связанной никакими путами. Эти черты её натуры и нашли отражение в бесстыдном одеянии рыжей ведьмы, а точнее, в его отсутствии.
Вот такую дьявольскую команду ввёл в свой роман Михаил Булгаков. И место для постоянной резиденции выделил ей особое.
Нехорошая квартира
В свой довольно солидный по объёму роман Булгаков поместил всего одну иллюстрацию — «план Иерусалима 1 в. н. э.». На старинном рисунке подробно обозначено, где и какой находится дворец, где и какие расположены ворота и так далее.
Для чего нужны эти подробности? Имеют ли они какое‑либо отношение к сюжету «Мастера и Маргариты»?
Нет, не имеют.
На «план Иерусалима» в романе не ссылается никто. Ни Воланд, рассказывающий о Понтии Пилате и Иешуа. Ни мастер, предстающий перед читателями в качестве автора собственной версии древней евангельской притчи. Ни даже сам автор, называющий себя «правдивым рассказчиком» всей «мастер‑и‑маргаритовской» истории.
Но зачем он тогда вообще нужен — этот рисунок?
Не для того ли, чтобы обратить внимание читателей на схожесть контуров древнего Иерусалима с очертаниями какого‑то другого аналогичного комплекса?
Но какого?
Откроем третью главу «Мастера и Маргариты», которая называется «Седьмое доказательство», и найдём то место, где Берлиозу почудилось, что иностранный «консультант» психически ненормален. Озадаченный редактор спросил:
«— А где вы будете жить?
— В вашей квартире, — вдруг развязно ответил сумасшедший и подмигнул».
Почему Воланд не пожелал остановиться в гостинице, где ему полагалось проживать, как и всем приезжавшим в СССР иностранцам? Почему вдруг стал претендовать на жилплощадь, которую занимали Берлиоз и его сосед Лиходеев? Чем так понравилась ему именно эта квартира?
В романе она названа «нехорошей». Потому что…
«…два года тому назад начались в квартире необъяснимые происшествия: из этой квартиры люди начали бесследно исчезать».
Странная жилплощадь. И в то же самое время — самая обычная, каких в Москве тысячи. Читателям даже называется точный её адрес: это квартира № 50 в доме № 302‑бис по Садовой улице. И сообщается, что когда‑то она принадлежала вдове ювелира Анне Францевне де Фужере.
Анна Францевна да ещё и де Фужере. Опять непонятная заграничная «экзотика»? Снова странное пристрастие к именам западноевропейского происхождения? Но зачем? Или это зашифрованный намёк?
Разумеется, намёк.
И подсказка читателям.
Скромные «фамильные» данные «ювелирши» сразу же давали понять современникам Булгакова, кого имеет он в виду. Ведь инициалы у его героини (А.Ф.) точно такие же, как и у последней русской императрицы, которую, как известно, звали А лександрой Ф ёдоровной. И которая по происхождению была германской принцессой.
Тем, кто понял этот «царский» намёк, сразу же становилось ясно, что «нехорошая квартира» — это не обычная московская коммуналка, а некая властная территория, на которой положено проживать правителям.
В Москве таким местом являлся Кремль. В Кремле проходили коронации русских царей. В Кремле обосновалось и советское правительство, переехавшее в первопрестольную из Петрограда. В обычных гостиницах большевистские лидеры (так же, как и Воланд) жить не пожелали, в них стали селить партийных функционеров рангом пониже. Вожди же предпочли занять квартиры в Кремле.
Да и где кроме, как в «нехорошей квартире», то есть в Кремле, мог проживать глава Массоли… то бишь глава Совнаркома Ленин? И откуда, как не из Кремля, стали в первую очередь «бесследно исчезать» люди?
В романе сказано, что ювелирша…
«… три комнаты из пяти сдавала жильцам: одному, фамилия которого была, кажется, Беломут, и другому — с утраченной фамилией».
В более ранних редакциях романа жильцы названы более определённо: Михаил Григорьевич Баломут и Кирьяцкий. Второй жилец сразу ассоциируется с главой Временного правительства Керенским. Фамилия другого, скорее всего, является булгаковской шуткой. Под Михаилом Баломутом писатель явно имел в виду самого себя, жильца квартиры № 50 в доме на Большой Садовой улице («булгак», как мы помним — это «ёрник», «баламут»).
Последним из тех, кто «бесследно исчез» из «нехорошей квартиры», стал, как мы знаем, директор театра Варьете Стенай Лиходеев. Тот, что проживал в соседних с Берлиозом комнатах.
Кто мог послужить прототипом этому загадочному персонажу? Не оставил ли Булгаков в его фамилии каких‑либо подсказывающих намёков?
Фамилия Лиходеев сложная, составлена она из слов «лихие деяния». Напишем их иначе: Лихие Деяния — «Л» и «Д». У кого из сподвижников Ильича были похожие инициалы? У Троцкого. Звали его Лев Давидович — «Л» и «Д». И он (так же, как и Ленин) жил в «нехорошей квартире», то есть в Кремле.
В одном из вариантов романа Лиходеев именуется Бомбеевым, а это уже прямой намёк на военную, связанную с бомбами, должность Троцкого — народный комиссар по военным и морским делам, глава Реввоенсовета. Находясь на этом посту, Лев Давидович совершил превеликое множество кровавых «лихих деяний».
Выставление Лиходеева из собственной квартиры очень напоминает высылку Троцкого из Москвы, о которой даже в булгаковском дневнике упоминается. В последней редакции романа изгнанный из Москвы Лиходеев оказывается в Ялте, в более ранних вариантах местом лиходеевской «ссылки» назван Владикавказ.
Фамилии подчинённых С.Б. Лиходеева и соратников Л.Д. Троцкого тоже очень созвучны. В театре Варьете пропавшего Степана Богдановича заменили финансовый директор Римский (первым заместителем Троцкого был Склянский) и администратор Вареиуха (первым главнокомандующим Красной армии был Вацетис).
Берлиоз и Лиходеев — это Ленин и Троцкий. Вот кто проживал в той престижно‑властной «квартире», в которой рвалась обосноваться нечистая сила.
Но если Булгаков подчёркнуто называет её «нехорошей», значит, в романе должна существовать и некая жилплощадь, в характеристике которой отсутствует приставка «не».
«Хорошая» квартира
В противовес «нехорошей» квартире, которую оккупировали Воланд и его подручные, в «Мастере и Маргарите» описано некое совершенно великолепнейшее место, куда попадают те персонажи романа, у кого в жизни возникают всяческие «неувязки».
Одним из первых в этот замечательный уголок был доставлен поэт Бездомный. Однако, оглядевшись, он с удивлением обнаруживает, что «хорошая» квартира является самым обычным… сумасшедшим домом.
Впрочем, можно ли про этот «дом» сказать, что он является «обычным»? Ни в коем случае! Бездомного доставили в приёмную «знаменитой психиатрической клиники, недавно отстроенной под Москвой на берегу реки».
Что же это за клиника такая, пациенты которой коротают время в отдельных палатах «с белыми стенами, с удивительным ночным столиком из какого‑то светлого металла и с белой шторой, за которой чувствовалось солнце»?
Что это за клиника, пациенты которой спят в «чистейшей, мягкой и удобной кровати»?
Что это за клиника, где в каждой палате имеется «балкон, за ним берег извивающейся реки и на другом её берегу — весёлый сосновый бор»?
Что это за клиника, главный врач которой очаровывает пациентов своими «очень пронзительными глазами и вежливыми манерами»?
Что это за клиника, оборудованная так, что ничего подобного шет нигде и за границей», а по части комфорта в которой «гораздо лучше», чем в престижной московской гостинице «Метрополь»?
Что это за клиника такая, которую не только «учёные и врачи специально приезжают осматривать», но в ней ещё «каждый день интуристы бывают»?
Может быть, описанная Булгаковым больница — всего лишь плод его писательской фантазии? Некий образец, идеал, любовно вырисованный бывшим медиком, «.лекарем с отличием»?.. Подобному предположению мешает одно небольшое обстоятельство, а именно: фамилия главного врача. В «Мастере и Маргарите» психиатрической клиникой заведует профессор Стравинский.
Для чего этому персонажу дана фамилия всемирно известного человека? И вновь, заметим, композитора. Что это — невинная писательская шутка?
Нет, тоже очередной намёк.
Совсем не случайно главного врача психбольницы и главу Массолита как бы роднит знаменитость их фамилий. Получается, что оба состоят в одной «композиторской» команде и руководят «родственными» учреждениями.
Существовало ли в СССР властное ведомство, которое возглавлял бы человек с «композиторской» фамилией?
Существовало.
В 30‑х годах у всех на устах был композитор И. И. Дзержинский, автор популярных тогда опер «Тихий Дон», «Поднятая целина», «Волочаевские дни». И ещё. Михаил Афанасьевич на всю жизнь запомнил фамилию оперативника, проводившего обыск в Чистом (Обуховом) переулке — Врачёв. Вот почему не может быть никакого сомнения в том, что, описывая прелести образцовой психлечебницы с её обаятельными «врачами», писатель имел в виду зловещую Лубянку. А в главном «враче» сумасшедшего дома Стравинском соединил пронзительный взгляд Дзержинского с вежливыми манерами его преемника Менжинского.
Вот в какое «замечательное» место собратья по перу упекли поэта Ивана Бездомного.
Новая дьяволиада
Слабевший день ото дня Булгаков продолжал вносить поправки в свой последний роман.
24 января 1940 года Елена Сергеевна записала в дневник:
«Жалуется на сердце. Часов в восемь вышли на улицу, но сразу вернулись — не мог, устал».
1 февраля, вспомнив, что бывший муж Елены Сергеевны, Евгений Шиловский, человек военный, Булгаков спросил жену:
«Ты можешь достать у Евгения револьвер?».
Револьвер она, конечно же, не достала. Но записи под диктовку добавлений и исправлений к роману о дьяволе всё равно продолжались. Эта работа шла до середины февраля, когда Булгаков…
«… сделал ещё вставки в первую часть — я читала ему. Но когда перешли ко второй, и я стала читать про похороны Берлиоза, он начал было править, а потом вдруг сказал:
— Ну, ладно, хватит, пожалуй.
И больше уже не просил меня читать».
Запись от 19 февраля:
«У Миши очень тяжёлое состояние — третий день уже. Углублён в свои мысли, смотрит на окружающих отчуждёнными глазами. К физическим страданиям прибавились духовные — или, вернее, они привели к такому болезненному душевному состоянию».
Впоследствии Елена Сергеевна вспоминала:
«Умирая, он говорил:
— Может быть, это и правильно… Что я мог бы написать после „Мастера „?»
А ведь всего несколько лет назад, сочиняя «Жизнь господина де Мольера», Булгаков с горечью признавался:
«… никогда в жизни мне не удавалось написать ничего, что доставило бы мне хотя бы крошечное удовольствие».
И вот его заветная мечта осуществилась — написан роман, который и самому автору и всем, кому довелось услышать написанное, доставлял «удовольствие», притом громадное.
Последний раз Булгаков читал его небольшой группе друзей, среди которых были завлит МХАТа П.А. Марков и драматург А.М. Файко. Чтение происходило за три месяца до начала роковой болезни. 14 мая 1939 года (как раз накануне своего 48‑летия) Михаил Афанасьевич читку завершил. И с улыбкой сказал слушателям, что собирается подавать роман в Главлит и в издательство — для напечатания.
Впечатление книга произвела ошеломляющее… На следующий день Елена Сергеевна записала:
«Последние главы слушали почему‑то закоченев. Всё их испугало. Паша в коридоре меня испуганно уверял, что пи в коем случае подавать нельзя — ужасные последствия могут быть…
Звонил и заходил Файко — и говорит, что роман пленителен и тревожащ. Что хочет много спрашивать, говорить о нём».
Пройдёт почти три десятилетия, и вслед за Файко миллионы читателей тоже захотят «много спрашивать» и «говорить» о булгаковском «Мастере»…
Так что же всё‑таки хотел поведать нам своим романом Михаил Булгаков? Какой тайный смысл вложил он между строк своей удивительной книги?
После того, как под «масками» основных булгаковских героев нам удалось разглядеть тех, с кого они были «списаны», можно смело утверждать, что главным сюжетным стержнем романа стали события, случившиеся в стране Великого Октября в 1924 году.
Что же на самом деле происходит в «Мастере и Маргарите»? О чём повествует автор?
Роман начинается с событий, происходящих на П атриарших п рудах. Снова «П» и «п» — столбы с перекладиной, так любимые Булгаковым. Писатель как бы сразу предупреждает нас, что сейчас речь пойдёт о нелюбимой им партии, о «П оганой п артии», о «П аскудной п артии». И о партийцах, которых повсюду — п руд п руди.
И вот, рассуждая на ходу на антирелигиозные темы, появляются вожди этой партии: Ленин (Берлиоз) и Бухарин (Бездомный).
Булгакову наверняка было знакомо высказывание Ф.М.Достоевского о той новой «религии», именем которой большевики назовут возводимое ими «светлое будущее». За много лет до революции Фёдор Михайлович написал (в черновиках к «Бесам»):
«Социализм — ведь это замена христианства, ведь это новое христианство, которое ведёт обновить весь мир. Это совершенно то же христианство, только без Бога».
Булгаков был не только полностью согласен с точкой зрения великого писателя, но ещё и мечтал о том, чтобы вождей большевиков настигла неминуемая кара за содеянное ими. Они должны получить сполна за пролитую кровь миллионов сограждан, за попрание святынь и прочие бесовские деяния!
Для этого к антирелигиозному разговору двух вождей Булгаков и подключает неизвестно откуда взявшегося незнакомца. Это истинный хозяин большевистской России — Дьявол (Воланд). Он прибыл в свою родную вотчину, чтобы самолично править балом.
Однако осуществлению сатанинских планов мешает не верящий ни в Бога, ни в чёрта Ленин (Берлиоз), который желает управлять сам. Всеми и всем. И огромной страной, и (в недалёком будущем) всем миром. Смехотворность подобных намерений очевидна, и Дьявол (Воланд) с сарказмом заявляет потерявшему ощущение реальности вождю большевиков:
«… для того чтобы управлять, нужно, как‑никак, иметь точный план на некоторый, хоть сколько‑нибудь приличный срок. Позвольте же вас спросить, как же может управлять человек, вс/ш он не только лишён возможности составить какой‑нибудь план хотя бы на смехотворно короткий срок, ш/, лот, скажем, о тысячу, но не может ручаться даже за свой собственный завтрашний день? И в самом деле … вообразите, */то вы, например, начнёте управлять, распоряжаться и другими и собою, вообще, так сказать, входить во вкус, г/ вфг/г г/ вяс… кхе‑кхе… саркома лёгкого… и вот ваше управление закончилось!»
Поскольку Ленин (Берлиоз) продолжает упорствовать, его оперативно (для Дьявола это особого труда не составляет) отправляют на тот свет.
Ближайшего сподвижника вождя Троцкого (.Лиходеева) с помощью тех же «сатанинских штучек» отсылают к Чёрному морю.
Устранив со своего пути всех, кто им мешал, Дьявол (Воланд) и его свита: Каменев (Коровьев), Зиновьев (Бегемот) и Сталин (Азазелло) — беспрепятственно захватывают Кремль («нехорошую квартиру»).
С этого момента в России окончательно воцаряется нечистый большевистский дух, и она становится страной ДЬЯВОЛА. Каждый, кто выражает недовольство советской (сатанинской) властью, тотчас оказывается в поле зрения бесовского ведомства Дзержинского. Стоит Воланду только сказать: «Мне этот… не понравился… Нельзя ли сделать так, чтобы он больше не приходил?», как не угодивший Дьяволу человек тотчас попадает в застенки «железного Феликса», то есть в «уютно» обрешечённые палаты образцовой «лечебницы» Стравинского.
Чтобы окончательно лишить Троцкого (Лиходеева) возможности (с помощью подведомственной ему Красной армии) дать отпор дьявольским козням кремлёвских узурпаторов, черти проводят среди ближайших его соратников по Реввоенсовету показательную чистку.
Вспомним сеанс «чёрной магии» в театре Варьете. В аллегорической форме он воспроизводит ту самую «кадровую чехарду», которую кремлевская «тройка» устроила в военном ведомстве страны Советов. Это был настоящий разгул сатанинских сил (подлинная дъяволиада), когда одних высокопоставленных военных в одночасье назначали послами, других отправляли на хозяйственную работу, третьих отсылали служить не периферию.
В Реввоенсовете (в театре Варьете) «неразлучная парочка», Каменев (Коровьев) и Зиновьев (Бегемот), стараются вовсю. Первый откручивает голову одному из сподвижников Троцкого (конферансье Бенгальскому), а второй обвораживает публику совершенно невероятными «превращениями» и «разоблачениями». Этим показательным сеансом чёрной дьявольской магии стране Великого Октября («стране ВО») наглядно демонстрировалось, как новая сатанинская власть будет поступать с теми, кто ей не угоден.
Бал сатаны
Победоносный захват власти положено отмечать самым торжественным образом. И дьяволы‑триумфаторы созывают помпезный конгресс Коминтерна («Великий бал у сатаны»), на который съезжаются лидеры коммунистического движения со всего мира (самые отпетые мошенники и преступники). Кульминационным моментом этого грандиозного большевистского шабаша становится посещение только что открывшегося мавзолея Ленина (для ритуального общения с мёртвой головой).
Вспомним, как этот мистический акт описан в романе: перед гостями бала возникает Сталин (Азазелло), держа в руках блюдо, на котором лежит мёртвая голова Ленина (Берлиоза). И вот Дьявол (Воланд) бросает на неё свой пронзительный взгляд.
«Тут же покровы головы потемнели и съёжились, потом отвалились кусками, глаза исчезли, и вскоре Маргарита увидела на блюде желтоватый, с изумрудными глазами и жемчужными зубами, на золотой ноге, череп. Крышка черепа откинулась на шарнире».
Вот тут‑то перед гостями и появляется «бывший барон» Майгель. На сатанинский бал он приглашён самим Воландом, который представил своего гостя как…
«… почтеннейшего барона Майгеля, служащего в Зрелищной комиссии в должности ознакомителя иностранцев с достопримечательностями столицы».
На дьявольский шабаш барона позвали всего лишь для того, чтобы… убить. Не успел Майгель войти, как к нему приблизились «чёрныё и молодые» приближённые Воланда:
«Абадонна оказался перед бароном и на секунду снял свои очки. В тот же момент что‑то сверкнуло огнём в руках Азазелло, что‑то негромко хлопнуло в ладоши, барон стал падать навзничь, алая кровь брызнула у него из груди и залила крахмальную рубашку и жилет. Коровьев подставил чашу под бьющуюся струю и передал наполнившуюся чашу Воланду».
Приняв превращённый в ритуальный кубок (и наполненный кровью барона Майгеля) череп Берлиоза, Воланд прикоснулся к нему губами…
Кто же он такой — этот загадочный барон Майгель, в убийстве которого принимали участие некий Абадонна и Сталин (Азазелло), а кровью которого Каменев (Коровьев) наполнил череп самого Ленина (Берлиоза)? Что вообще хотел сказать Булгаков, вводя в свой роман этого мало кому запомнившегося третьестепенного героя?
Приглядимся к «бывшему барону». Кто был его прототипом?
Ответ на этот вопрос литературоведам давно известен. Считается, что прообразом Майгеля является бывший белогвардейский офицер барон Б.Г. Штейгер, ставший в 30‑х годах неизменным участником дипломатических раутов в Москве. Он даже попал в дневник Елены Сергеевны (в те места, где описывались посещения американского посольства) с упоминанием негласного прозвища «бывшего барона» — «наше домашнее ГПУ».
А вот что говорит о сыскных и стукаческих способностях Штейгера сам хозяин сатанинского бала:
«— Да, кстати, барон, — вдруг интимно понизив голос, проговорил Воланд, — разнеслись слухи о чрезвычайной вашей любознательности. Говорят, что она, в соединении с вашей не менее развитой разговорчивостью, стала привлекать всеобщее внимание. Более того, злые языки уже уронили слово — наушник, шпион. И ещё более того, есть предположение, что это приведёт вас к печальному концу не менее чем через месяц. Так вот, чтобы избавить вас от этого томительного ожидания, мы решили придти к вам на помощь, воспользовавшись тем обстоятельством, что вы напросились ко мне в гости именно с целью подсмотреть и подслушать всё, что можно».
И дьяволы «помогают» барону Майгелю отправиться в мир иной.
Фамилии Штейгер и Майгель очень похожи по начертанию. Вот и стали считать, что описанием смерти «бывшего барона» от рук чертей Булгаков как бы намекал на факт расстрела реального Б.Г.Штейгера чекистами (бывший барон был расстрелян 20 декабря 1937 года вместе с Енукидзе, Караханом и другими подельщиками). Как говорится в таких случаях, всё сходится. И никаких сомнений относительно того, кто является прототипом «мастер‑и‑маргаритовского» барона, вроде бы возникать не должно.
Но они возникают.
И порождают массу вопросов.
За какие заслуги всемогущий Воланд оказывает «бывшему барону» такие «дьявольские» почести? И для чего вообще понадобилось вводить в роман эту блеклую личность, которая даже на сюжет не влияет и потому не задерживается в памяти читателей?
А что если «бывший барон» малозначительным персонажем кажется только нам, читающим роман спустя десятилетия после описываемых событий? Может быть, в 30‑х годах роль, отведённая ему, была более весомой?
Попробуем разобраться.
«Барон Майгель». Сочетание заглавных букв («Б» и «М») обратное тому, что имеет место у Михаила Берлиоза — «М» и «Б». Получается, что Майгель в каком‑то смысле антипод Берлиоза? В 30‑х годах любой гражданин страны Великого Октября знал, что буквами «б» и «м» обозначаются непримиримые антиподы‑антагонисты — большевики и меньшевики. И если в образе Берлиоза выведен Ленин, то в лице Майгеля мы имеем дело с…
Ответ появится сам собой, если принять во внимание маленькую подсказку, который оставил нам Булгаков, введя в фамилию «бывшего барона» слово «май». У кого из непримиримых антагонистов Ленина в фамилии было название весеннего месяца? У лидера меньшевиков Март ов а.
Выходит, что на шумном коминтерновском сборище из большевистского черепа пилась меньшевистскую кровь? Нечто подобное, с точки зрения Булгакова, и происходило на всех партийных съездах, партконференциях и конгрессах. Большевики с меньшевиками и были, по его мнению, той (единой и неделимой) нечистой силой, что ввергла народ великой державы в кровавый дьявольский «бал», правил которым сам Сатана.
А теперь вспомним, как описан в романе уход из жизни Михаила Берлиоза. Это трагическое событие Булгаков преподносит так, что невольно возникают сомнения относительно естественности кончины главы Массолита.
В самом деле, умереть Берлиозу (Ленину) в романе «помогают» многие. Тут и Аннушка с её пролитым маслом (что это — намёк на яд?). Тут и комсомолка‑вагоновожатая в алой повязке (медсестра? санитарка?), управляющая убийцей‑трам‑ваем (роковой шприц?). Тут и Коровьев (Каменев), чуть ли не подталкивавший обречённого «литератора» на трамвайные рельсы:
«— Сюда пожалуйте! Прямо и выйдете куда надо!»
Эти небольшие, но очень точные штрихи осторожно подводят читателя к мысли о том, что Берлиоза (Ленина) отправила на тот свет чья‑то злая дьявольская воля. «Это насильственная смерть! — как бы подсказывает нам возникающий между строк голос автора. — Без дьявольского вмешательства здесь явно не обошлось!»
А смерть барона Майгеля (в том виде, как описал её Булгаков) подвергает сомнению естественность кончины и меньшевика Мартова. Хотя, как известно, умер он в Германии, то есть вдали от страны ненавистных ему большевиков. В романе же прямо заявлено, что санкцию на убийство «бывшего барона» (Мартова) дал глава сатанинской шайки, орудовавшей в Москве, а исполнителем воли шефа стал некто, кто носил тёмные очки и кого звали Абадонной.
Кто скрывается под таким экзотическим именем?
На этот вопрос Булгаков ответил ещё в романе «Белая гвардия». Там к Алексею Турбину (практикующему у себя на дому врачу‑венерологу) приходит пациент и заводит разговор о некоем «антихристе», «злом гении», уехавшем в «город дьявола», то есть в Москву.
«— Батюшка, нельзя так, — застонал Турбин… — Про какого антихриста вы говорите?..
— Он молод. Но мерзости в нём как в тысячелетнем дьяволе… и трубят уже, трубят боевые трубы грешных полчищ и виден над полями лик сатаны, идущего за ним.
— Троцкого?
— Да, это имя его, которое он принял. А настоящее его имя по‑еврейски Аваддон, а по‑гречески Аполлион, что значит — губитель».
Значит, Абадонна (как и Лиходеев) — это Троцкий…
Таким образом, в дьявольскую шайку, захватившую пролетарскую столицу, Булгаков включил всю большевистскую верхушку: Ленина, Троцкого, Каменева, Зиновьева, Сталина. А во главе этой бесовской компании поставил самого Сатану. И облачил свой хлёсткий политический памфлет в изящные одежды увлекательного мистически‑сказочного сюжета. В результате получился захватывающий зашифрованный рассказ об истерзанной России, попавшей в когти кровожадным дьяволам.
Именно к такому толкованию и приводит сопоставление содержания булгаковского романа с реальными событиями, происходившими в стране Советов в 1924 году.
И сразу всё становится на свои места. Исчезают головоломные загадки, пропадает непонятная мистическая чертовщина. Остаётся лишь выстраданное годами горестных раздумий и вызывающее столько тревожных ассоциаций удивительное историческое исследование. Или своеобразный «Краткий курс истории большевизма», в котором Булгаков выступает как историк, как летописец своего непростого времени. Не случайно он взял себе в помощники‑консультанты единственного в мире специалиста по большевистским рукописям — сатану.
«— А — а! Вы историк? — с большим облегчением и уважением спросил Берлиоз.
— Я — историк, — подтвердил учёный и добавил ни к селу не к городу. — Сегодня вечером на Патриарших будет интересная история!»
А теперь уделим внимание ещё одному необычному персонажу. Рассказ о нём выделен в самостоятельный сюжет, который является как бы своеобразным романом в романе. Знакомят нас с этим персонажем два рассказчика: мастер, автор книги о тех давних временах, и Воланд, непосредственный очевидец событий…
— Речь идёт о Иешуа Га‑Ноцри или Иисусе Христе! — уже готов воскликнуть догадливый читатель. И он был бы абсолютно прав, если бы… Если бы булгаковский мастер не утверждал, что написал роман вовсе не об иудейском проповеднике, а об одном из тех, кто послал его на мученическую смерть.
Понтий Пилат
Сразу следует сказать, что роман мастера о Понтии Пилате к тому, что изложено в библейских Евангелиях, имеет отношение весьма отдалённое. Скорее всего, это вольная фантазия на новозаветную тему. Иисус, о котором рассказывают Евангелия от Марка, Матфея, Луки и Иоанна, совершенно не похож на булгаковского Иешуа Га‑Ноцри. И Понтий Пилат в «Мастере и Маргарите» совсем не такой, каким его представляет Библия.
Отметив это, зададимся вопросом: а чем вообще привлёк Булгакова могущественный властелин древней Иудеи, что именно он, прокуратор Понтий Пилат, а не Иисус Христос стал главным героем романа, написанного мастером? Неужели только заглавными буквами своего имени — «П» и «П», напоминающими столбы с перекладинами?
А может быть, Булгакову удалось увидеть нечто необычное в самом начертании имени Пилат?
Но что особенного можно в нём разглядеть?
Напишем имя прокуратора наоборот. Получится слово «ТАЛИП», состоящее из не очень понятной части — «ТАЛИ» и завершающееся всё той же буквой «П», так «любимой» Булгаковым. Что напоминает это загадочное «ТАЛИ»? Да ведь это же… срединная часть фамилии вождя: С‑ТАЛИ‑Н.
Значит, в имени диктатора Иудеи писатель разглядел часть перевёрнутой фамилии генсека? Но ведь сказал же А.З. Вулис в своём солидном исследовании:
«Эта теория: Сталин как прототип Пилата — документально недоказуема»!
Стало быть, нужно искать доказательства косвенные. И поэтому приглядимся к этому персонажу повнимательнее.
Если Булгаков хотел, чтобы мы увидели в Понтии Пилате большевистского вождя, прокуратор должен был быть наделён хоть какими‑то сталинскими чертами. И писатель наделил его ими. Грозный прокуратор появляется одетым в белый плащ «с кровавым подбоем». И входит он «в крытую колоннаду между двумя крыльями дворца» не просто так, а «шаркающей кавалерийской походкой».
Почему подбой у плаща «кровавый», долго объяснять не надо — руки у всех большевистских вождей были по локоть в крови. И то, что Сталин ходил в кавалерийской шинели, было известно всем. Но почему походка у него «шаркающая»? Не потому ли, что изучавший английский язык Булгаков, знал, что слово «шарк» переводится как «акула»? Вот он и подарил своему Пилату (Сталину) характерные черты (а стало быть, и повадки) морской хищницы?
Грозный прокуратор возникает на страницах романа для того, чтобы допросить бродягу галилеянина, которому Синедрион вынес смертный приговор. Пилат должен утвердить или отклонить это решение.
У властителя раскалывается голова, его тянет в прохладу, в уединение. А приходится о чём‑то расспрашивать этого оборванца, который… Который к каждому обращается со словами «добрый человек»… И который дерзко заявляет тому, кто призван решать его судьбу:
«Мне пришли в голову кое‑какие новые мысли, которые могли бы, полагаю, показаться тебе интересными, и я охотно поделился бы ими с тобой, тем более что ты производишь впечатление очень умного человека».
Обречённый арестант предлагает побеседовать с ним?.. Что ж, можно и поговорить. Зачем отказываться от разговора, который, возможно, немного отвлечёт? И который внесёт хоть какое‑то оживление в однообразие жизни.
И Понтий Пилат приступает к этой беседе, начав её с напоминания о том, что жизнь арестанта висит на волоске.
«— Не думаешь ли ты, что ты её подвесил, игемон? — спросил арестант. — Если это так, то ты очень ошибаешься.
Пилат вздрогнул и ответил сквозь зубы:
— Я могу перерезать этот волосок.
— И в этом ты ошибаешься, — светло улыбаясь и заслоняясь рукой от солнца, возразил арестант, — согласись, что перерезать волосок уж наверно может лишь тот, кто подвесил?»
Даже оказавшись на самом краю бездны, арестованный проповедник гордо демонстрировал свою независимость. Но именно это и пришлось по душе прокуратору — он улыбнулся. И решил, что отклонить явно необоснованный приговор Синедриона ему особого труда не составит…
Но Понтий Пилат не смог избавить Иешуа Га‑Ноцри от мученической смерти. Слишком вызывающе дерзкие слова произнёс вдруг этот бродяга. Они были направлены против власти вообще. А, стало быть, и против власти самого кесаря.
И Пилат объявил…
«… Пилат объявил, что утверждает смертный приговор…»
Эту фразу Булгаков повторит почти дословно, когда в ленинградской гостинице «Астория» почувствует приближение напророченного конца:
«Плохо мне, Люсенька. Он подписал мне смертный приговор».
Но и подписавшему «приговор» Пилату тоже плохо. На душе у него неспокойно. Он теряет покой. Его начинают мучить угрызения совести.
Точно так же, по мнению Булгакова, должен был чувствовать себя и Сталин. За то, что так и не встретился с опальным писателем. За то, что отдал его на растерзание критиков, реперткомовцев и прочих недоброжелателей. За то, что запретил последнюю булгаковскую пьесу, и тем самым подписал драматургу «смертный приговор»…
В последний раз с Понтием Пилатом мы встречаемся в финальной главе «Мастера и Маргариты», которая называется «Прощение и вечный покой». Девятнадцать столетий минуло с той первой и единственной встречи с подследственным из Галилеи, но бывший прокуратор так и не обрёл покоя. Его мучают давние неоплаченные долги. Даже во сне он говорит об этом. Говорит сам с собой, потому что…
«… видит одно и то же — лунную дорогу, и хочет пойти по ней и разговаривать с арестантом Га‑Ноцри, потому что, как он утверждает, он чего‑то не договорил тогда, давно, четырнадцатого числа весеннего месяца нисана. Но, увы, на эту дорогу ему выйти почему‑то не удаётся, и к нему никто не приходит. Тогда, что же поделаешь, приходится разговаривать с самим собой».
И сразу вспоминается другой разговор. Телефонный. Тот, что состоялся в апреле 1930 года. Тогда, как мы помним, потерявшему всякую надежду литератору позвонил человек, с которым он не был знаком и с которым никогда ранее не встречался. С этим незнакомым собеседником и пришлось вступить в беседу.
«Никогда не разговаривайте с неизвестными /» — так названа первая глава «романа о дьяволе». Слова в этой фразе подобраны так, что их начальные буквы выстраиваются в следующую цепочку: Н.Н.Р.С.Н. Вновь столбы, окружающие буквы «Р» и «С», только перекладины у столбов опущены чуть пониже.
Что зашифровал таким образом Булгаков?
Над этим вопросом стоит поломать голову.
Мы помним, как опечалился писатель, когда понял, что обещанная беседа с вождём не состоится. В «Мастере и Маргарите» страдать и мучиться из‑за несостоявшейся встречи он предоставил «сильной» стороне — Понтию Пилату. Однако в конце романа терзания эти всё‑таки прекратил, простив прокуратора. И устроив ему долгожданную встречу с проповедником Га‑Ноцри. Булгаков расстелил перед своими героями широкую лунную дорогу. И вот уже…
«… на эту дорогу поднимается человек в белом плаще с кровавым подбоем и начинает идти к луне. Рядом с ним идёт какой‑то молодой человек в разорванном хитоне и с обезображенным лицом. Идущие о чём‑то разговаривают с жаром, спорят, хотят о чём‑то договориться».
Казалось бы, счастливый конец, которым Булгаков в очередной раз подсказывал вождю, как следует завершить многолетнее противостояние одинокого «литературного волка» и всесильного генсека. Вот только подсказка эта почему‑то заключена в роман, где кишмя кишат дьяволы и черти.
И почему так не похожи они на хрестоматийных обитателей ада? Почему такие незлые и совсем нестрашные?
Доброта дьявола
В самом деле, самый главный булгаковский чёрт, Воланд, изображён в романе так, что страха не вызывает. Того самого страха, который просто обязан вселять во всех смертных истинный князь тьмы, творец всех ужасов преисподней. Ведь по Булгакову он и возглавляет преступный клан большевиков, на совести которых — кровь миллионов россиян. Казалось бы, к подобному преступнику и отношение должно быть соответствующее.
Но Воланд не только внушает к себе почтительное уважение, он явно претендует на роль героя романтического склада. Его вполне можно отнести к разряду положительных персонажей романа. Особенно если принять во внимание эпиграф, которым Булгаков предварил «Мастера и Маргариту»:
«… так кто ж ты, наконец?
— Я — часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо».
Гёте. «Фауст».
Эту гётевскую фразу так и тянет продолжить, вложив в уста «благородного демона» Воланда другие крылатые слова о том, что он «совершает благо», «сея разумное, доброе, вечное».
Дьяволы, сопровождающие своего предводителя, тоже не похожи на тех свирепых носителей зла, к которым все привыкли. Призванные согласно своему статусу безжалостно карать, они лишь по‑отечески журят.
Вот и выходит, что в Москве объявилась не зловещая бесовская шайка (исчадие ада), а дружная когорта воспитателей‑наставников, строго следящих за соблюдением норм общепринятой морали. И выглядят эти «педагоги» этакими милыми чудаками, главное занятие которых — помогать влюблённым и оказывать услуги непризнанным писателям. Первых они воссоединяют, а для вторых вызволяют из небытия их бесценные рукописи, казалось бы, сгоревшие дотла. И только граждан, свернувших на тропу порока (лжецов, лихоимцев‑стяжателей и прочих чинуш‑бюрократов), грозные повелители адовых сковородок наказывают. Да и то не очень строго — добродушными шлёпками.
Сам собой возникает вопрос: разве такие дьяволы бывают?
Нет, тут явно что‑то не так.
Не мог Булгаков, хлебнувший и злого и доброго в предостаточном количестве, спутать чёрта с ангелом. Не мог принять носителя зла за сеятеля добра.
Неужели на этот раз сплоховал, промахнулся?..
Быть такого не может!
Но даже если предположить, что «промашка» всё‑таки вышла, то почему она такая странная? И малоправдоподобная.
На непонятную «странность» булгаковских дьяволов литературоведы обратили внимание уже давно. К примеру, И.Л. Галинская (в книге «„Мастер и Маргарита „М.А.Булгакова. К вопросу об историческо‑философских источниках романа») с недоумением писала:
«Мастер сочинил почему‑то „Евангелие от Сатаны “, очень добром и справедливом. Маргарита стала ведьмой, а сам Сатана — почти единственный, кто совершает милосердные деяния…
На первый взгляд совершенно необъяснимый парадокс: любовь и творчество ведут к союзу с Дьяволом».
Поразмышляем над этой парадоксальной необъяснимостью.
О любви, ведущей к союзу с нечистой силой, мы поговорим немного позднее. Сначала обратимся к творчеству, которое самих творцов толкает в объятья «доброго» сатаны. И постараемся понять, отчего происходит это неожиданное «братание».
А что если Булгаков изобразил Воланда и его присных именно такими не просто так, а намеренно, специально ?
Возможен такой пассаж?
Вполне. Ведь это же типичный булгаковский приём — прятать под одними «масками» своих персонажей совершенно другие «физиономии» и «лики», до поры до времени неведомые читателю. Не случайно же название романа начинается со слова «мастер». Ведь мастер — это тот, чьи писания имеют двойной, тайный смысл.
Поэтому приглядимся к героям романа ещё раз. И, осторо‑о‑ожненько приподняв их большевистские «маски», попробуем выяснить, нет ли под ними каких‑нибудь других неожиданных «ликов»…
Есть новые «лики».
И совершенно иной сюжет.
А шумный политический спектакль, который только что разыгрывался перед нами, что с ним? Он мгновенно рассыпался в прах. Ведь все его участники, поменяв «маски», приобрели новые облики, характеры и даже судьбы. И уже нет никакой коминтерновской карусели. И дьявольщина совсем уже не та. Во всяком случае, дьяволы как бы отодвинуты в сторону, на задний план. А сами персонажи (в их новом обличии) уже не имеют ничего общего с одиозными большевистскими вождями.
На кого же они похожи теперь?
Давайте сравним содержание булгаковского романа с фактами биографии самого автора. Посмотрим, что получится.
А получится удивительная вещь. Окажется, что основная сюжетная линия «Мастера и Маргариты» полностью совпадает с жизненным путём Михаила Булгакова.
Значит, перед нами роман автобиографический?
Чьи же «маски» разыгрывают в нём действо? И в какой из них воплощены авторские черты?
Новые «маски»
Булгаковеды давно обратили внимание на то, что в «Мастере и Маргарите» есть сквозной персонаж. С него всё начинается, им всё и завершается. Это Иван Николаевич Бездомный.
Бездомный…
Почему Булгаков выбрал своему герою именно эту фамилию?
Скорее всего, потому, что она наиболее точно отражала тот многолетний статус, в котором писатель находился практически всё время своего пребывания в Москве. Ему ведь так и не удалось осуществить свою заветную мечту — стать обитателем достойного жилья. Выросший в прекрасной квартире киевского дома на Андреевском спуске, он впоследствии чуть ли не в каждом письме на чём свет стоит клял свою бездомность. А 21 июля 1924 года даже записал в дневнике:
«… был у Любови Евгеньевны … Ушёл я под дождём грустный и как бы бездомный».
Даже свою последнюю пьесу Булгаков, как мы помним, соглашался отдать МХАТу только в обмен на ключи от четырёхкомнатной квартиры.
Есть в понятии «бездомный» ещё один (более широкий) смысл: страна Советов не приняла Булгакова, дерзкий сочинитель пришёлся ей не ко двору. И он, как узник, крепко‑накрепко запертый в четырёх стенах социалистического рая, ощущал себя в нём чужим, бездомным.
Вот и выходит, что «Мастер и Маргарита» — это ещё и роман о бездомном Булгакове. О том дерзком фельетонисте, что работал в «Гудке», по ночам сочинял «Белую гвардию» и, не спеша, обдумывал «Дьяволиаду». На дворе стоял 23‑ий год XX столетия. Бывшему «лекарю с отличием», мечтавшему взойти на литературный Олимп, исполнилось 32 года…
Тридцать два … Число, для Булгакова весьма тревожное. Ведь по его же собственным расчётам (и говорим мы об этом в который уже раз) именно столько лет было отпущено ему прожить на свете после смерти отца. Достигнув 32‑летнего возраста, он исчерпал ровно половину предсказанного ему срока.
Не случайно «Мастер и Маргарита» тоже состоят из тридцати двух глав.
А у Бездомного какой возраст? Ему 23 года, то есть 32 наоборот. Роман и начинается с того, как 23‑летний поэт выслушивает монолог своего более опытного коллеги о происхождении божеств.
Иван Бездомный, как мы помним, только что («в очень короткий срок») сочинил «большую антирелигиозную поэму», в которой наделил Иисуса Христа «всеми отрицательными чертами», а его учение изобразил как препятствие, мешающее людям строить новое светлое будущее. Правда, при этом «Иисус у него получился, ну, совершенно живой, некогда существовавший Иисус».
Подобная трактовка образа Христа («некогда существовавший Иисус») категорически не устраивает атеиста Берлиоза. И он требует заменить её другой, более, с его точки зрения, правильной: «никогда не существовавший Иисус». Но сразу же после этого погибает.
Трагедия, свершившаяся на глазах поэта, выбивает его из колеи. Немного придя в себя, он начинает преследовать странного «консультанта», которого подозревает в причастности к обезглавливанию Берлиоза…
Разве не напоминает эта жуткая история уже знакомые нам события, имевшие место в жизни самого Михаила Булгакова? Вынужденный служить в партийной газете, он сочинял для неё просоветские (или, образно выражаясь, всё те же «антирелигиозные») фельетоны. Писались они, как мы помним, тоже очень быстро — на сочинение каждого уходило от 18 до 22 минут. И герой каждого фельетона (так же, как и «Иисус») тоже всегда получался «яг/, совершенно живой».
Иногда строптивому фельетонисту удавалось, как говорится, ударить в набат и закричать отчаянно‑истошным голосом: «Посмотрите, что творится вокруг, уважаемые сограждане! Нашу с вами страну захватили дьяволы! Убийцы‑дьяволы!». А в названиях булгаковских повестей он просто‑таки застыл — этот надсадный крик‑предупреждение: «Дьяволиада»! «Роковые…»! «Собачье…»!
И Булгаков был услышан. Но кем? Всё теми же дьяволами, что стояли на страже большевистского режима. В результате чересчур дерзким литератором, кричавшим совсем не то, что хотелось слышать советской власти, всерьёз занялась Лубянка. Его принялись усердно врачевать «профессора» из «лечебницы» Феликса Дзержинского…
К счастью для себя, Булгаков очень быстро понял, что в стране Советов кричи, не кричи — всё равно ничего не добьёшься, только голос потеряешь. И он перестал сочинять откровенную сатиру…
Разве не то же самое происходит с Иваном Бездомным? Молодой поэт истошным криком зовёт людей на поимку «консультанта», который «убивает людей на Патриарших». Однако зову его никто не внемлет, все считают, что молодой человек тронулся умом. И бедолагу‑поэта отправляют в «лечебницу», где он, окружённый вниманием заботливых «профессоров», принимает решение никогда больше не писать «стихов».
При таком рассмотрении «Мастера и Маргариты» жизненный путь поэта Бездомного и биография фельетониста Булгакова совпадают довольно точно.
А теперь вновь обратимся к началу «Мастера и Маргариты». К тому месту, где глава Массолита демонстрирует Бездомному весьма «солидную эрудицию» в религиозных вопросах.
Ведь Берлиозу так и не удалось завершить свою речь, «прерванную питьём абрикосовой» и неожиданным приходом загадочного «консультанта». Не удалось! А незваный пришелец напророчил главе Массолита скорую кончину («Вам отрежут голову!»), а его молодому спутнику — болезнь головного мозга (шизофрению) и скорое знакомство с лечебницей для душевнобольных. Все предсказания, как мы знаем, очень скоро сбылись. Со стопроцентной точностью.
Разве не то же самое происходило в 1907 году в киевской квартире преподавателя Киевской духовной академии Афанасия Ивановича Булгакова? Тогда, как мы помним, к заболевшему профессору богословия пришёл врач. И поставил убийственно‑дьявольский диагноз. Причём печальная судьба была предсказана не только больному отцу, но и его совершенно здоровому 16‑летнему сыну. Первому предстояло вот‑вот распроститься с жизнью, а второго через 32 года (тридцать два ) ожидало точно такое же скоротечное заболевание с тем же самым летальным исходом.
У Афанасия и Михаила Булгаковых — предрасположенность к одной и той же наследственной болезни (почек). И Берлиоза с Бездомным злой рок тоже бьёт как бы по одному и тому же месту: первый лишается головы , а у второго оказывается поражённым головной мозг.
Перед своей кончиной профессор Афанасий Иванович Булгаков наверняка вёл с сыном разговор. О чём? О бренности человеческого бытия? О превратностях судьбы? О религиозных сюжетах, что так напоминали жизненный путь обречённого больного? Об этом мы, увы, никогда не узнаем.
Доподлинно известно лишь одно: те беседы так и остались незавершенными. Это обстоятельство печалило Михаила Булгакова всю жизнь. Ему постоянно казалось, что он тогда «… что‑то не договорил…, а может быть, чего‑то не дослушал».
Отсюда напрашивается такое толкование: трое вполне реальных киевлян (больной отец, его сын, а также врач, сообщивший им правду о тяжком наследственном заболевании) стали прообразами героев «Мастера и Маргариты» (Берлиоза, Бездомного и сатаны , предсказывающего судьбу своим собеседникам). Иными словами, Берлиоз «списан» с Афанасия Булгакова, Бездомный — с его сына Михаила, а сатана — с лечащего врача. А весь эпизод на Патриарших прудах — это пересказ (в аллегорической форме, разумеется) обстоятельств безвременной кончины киевского профессора богословия.
Трагедия, случившаяся на глазах 16‑летнего гимназиста Миши Булгакова, была столь невероятной, а сама внезапность кончины отца столь не укладывалась в голове, что страх перед неожиданной (преждевременной) смертью, страх, возникший в марте 1907 года, «беспокойная, исколотая иглами память» Михаила Булгакова хранила всю жизнь. Он пытался осмыслить то, что произошло, найти какую‑то логику в тех давних событиях, но, увы… Ясно было одно, что отца за что‑то покарал Господь.
Не потому ли в «Мастере и Маргарите» так часто упоминается о трагедиях, которые случаются раньше времени? Не потому ли на всём протяжении, казалось бы, забавно‑юморного повествования происходит шесть преждевременных смертей?
Причину каждой из них Булгаков объясняет по‑своему. Но раньше времени они случаются потому, что это не просто смерти, а смерти, последовавшие в результате наказания. За содеянные грехи.
Первой жертвой оказывается Берлиоз, трагическая гибель которого становится завязкой романа. Жестокая кара обрушивается на главу Массолита как бы вполне заслуженно — за его воинствующий атеизм, за святотатственное неверие в существование Иисуса.
И внезапная кончина отца, и «обезглавливание» России обезумевшими от жажды власти большевиками — всё это происходило на глазах Михаила Булгакова. А лишение Берлиоза головы совершается на глазах Ивана Бездомного.
В самом начале революционных событий Михаил Афанасьевич, как мы помним, какое‑то время вполне мог находиться на излечении от морфинизма в психиатрической клинике. Иван Бездомный тоже попадает в аналогичную лечебницу.
Там его и навещает сосед по палате, главное действующее лицо романа.
Кто он — этот внезапно объявившийся персонаж? Кто является его прототипом?
Раздвоение героя
В психиатрическую лечебницу разбушевавшегося поэта сопровождал его коллега по перу поэт Рюхин, которого обиженный Бездомный назвал «гнидой» и «кулачком»:
«Типичный кулачок по своей психологии, — заговорил Иван Николаевич, которому, очевидно, приспичило обличать Рюхина, — и притом кулачок, тщательно маскирующийся под пролетария…вы загляните к нему внутрь — что он там думает… вы ахнете!».
Рюхин, разумеется, кровно обиделся, покраснел и начал думать о том…
«… что он отогрел у себя на груди змею…»
Однако, возвращаясь из клиники в Москву, Рюхин снова вспомнил «обидные слова, брошенные Бездомным прямо в лицо», и, поразмышляв, был вынужден признать, что «в них заключается правда». Действительно, ведь ему…
«Ему — тридцать два года! В самом деле, что же дальше? — И дальше он будет сочинять по нескольку стихотворений в год. — До старости? — Да, до старости. — Что же принесут ему эти стихотворения? Славу? „Какой вздор! Не обманывай‑то хоть сам себя. Никогда слава не придёт к тому, кто сочиняет дурные стихи… Правду, правду сказал! — безжалостно обращался к самому себе Рюхин. — Не верю я ни во что из того, что пишу!.. “»
Зачем понадобилось Булгакову так усиленно подчёркивать возраст третьестепенного героя? Разве изменилось бы что‑либо, если бы мы не знали, сколько Рюхину лет?
Вопросы резонные. И этот вроде бы не к месту возникший возраст можно было бы рассматривать как некий «недосмотр» писателя, если бы свой роман не создавал он одиннадцать лет, подвергая каждую главу самому тщательному редактированию.
Значит, в сообщаемом нам возрасте поэта Рюхина содержится какой‑то смысл? И какая‑то важная информация?
Обратим внимание, что Рюхину — 32 года, а Бездомному — 23. Снова перед нами всё те же сочетания «двойки» и «тройки». Опять случайность?
Быть этого не может! К тому же в первых редакциях романа главный его герой тоже называл себя «поэтом». А в дневнике Булгакова есть запись, сделанная осенью 1923 года:
«6 ноября (24‑го октября) Вторник. Вечер.
… Страшат меня мои 32 года и брошенные на медицину годы, болезни и слабость …»
Приходит на память и фраза из повести «Тайному другу», где Михаил Афанасьевич вспоминает о своей работе в «Гудке» и о тех фельетонах, которые он писал, тратя на их создание «от 18 до 22 минут»:
«Волосы дыбом… могут встать от тех фельетончиков, которые я там насочинял».
А теперь — строка из дневниковой записи Булгакова от 2 сентября 1923 года:
«… я верю, что я неизмеримо сильнее как писатель всех, кого я знаю».
Вспомним ещё одну запись — от 6 ноября 1923 года:
«Не может быть, чтобы голос, тревожащий меня сейчас, не был вещим. Ничем иным я быть не могу, я могу быть одним писателем».
Как совпадают эти булгаковские высказывания с теми словами, что вложены им в уста поэта Рюхина. Совпадают по тревожному настроению, по жажде славы. И даже по признанию никчёмности всего того, что вышло из‑под его пера.
Кстати, поразмышляв в палате психиатрической лечебницы о своей судьбе, Бездомный тоже заявляет о том, как «чудовищны» созданные им стихи. Тем самым он как бы признаётся в том, что совсем недалеко ушёл от Рюхина.
Что же получается? В романе представлены два поэта, отличающихся друг от друга всего лишь возрастом. Во всё же остальном оба очень похожи друг на друга. Но Бездомный, как мы уже выяснили, носит в себе булгаковские черты. Значит, и Рюхин тоже чем‑то родственен автору романа?
Да, Булгаков как бы раздвоился. И из одной своей «половины» — из той, что была потрясена большевистской дьяволиадой, он «вылепил» Бездомного. Из другой — из той, что осознала никчёмность написанных «фельетончиков», создал Рюхина. Рюхин — это как бы зеркальное (32–23) отражение Бездомного. Подобным неожиданным приёмом писатель подготавливает нас к тому, что очень скоро у основного его прототипа (у Бездомного) тоже произойдёт «раздвоение». Иными словами, появится настоящий его двойник. И какой!..
Впервые этот новый персонаж возникает перед читателем в одиннадцатой главе. В ней рассказывается о том, как Иван Бездомный, пребывая «в сладкой истоме» (ему «пришлось сделать впрыскивание по рецепту Стравинского»), пытается взглянуть на происшествие у Патриарших прудов как бы с другой стороны. Иными словами, потрясённый поэт наконец‑то приходит в себя и начинает рассуждать здраво. Больше ничего особенного в этой главе не происходит. Но заканчивается она появлением в Ивановой палате загадочного гостя. Он‑то и будет в дальнейшем высказывать Ивану здравые мысли.
Читатель ещё ни о чём пока не догадывается, но самим названием главы («Раздвоение Ивана») он уже предупреждён о том, что обещанное «раздвоение» вот‑вот начнётся.
Более основательное знакомство с таинственным незнакомцем состоится в главе 13‑ой, которую Булгаков назвал особо подчёркнуто: «Явление героя». Героем этим оказался…
«… бритый, темноволосый, с острым носом, встревоженными глазами и со свешивающимся на лоб клоком волос человек примерно лет тридцати восьми».
Нежданный визитёр назвался душевнобольным, заявив Ивану:
«— Будем смотреть правде в глаза… И вы и я — сумасшедшие, что отпираться]».
Само появление странного соседа описано так, что вполне может быть воспринято как некое фантастическое видение, как сказочный сон, приснившийся приходящему в себя поэту.
Кого же увидел Иван?
Человека со счастливой судьбой. Человека, который добился того, о чём мечтал. Человека, написавшего книгу, которую хотел написать.
Бездомный видит в этом фантастическом сне как бы самого себя, но уже в роли счастливчика, сумевшего поймать за хвост птицу удачи.
Ночной гость из палаты 118 безымянен. Он именует себя мастером.
Какой смысл вложен в это понятие?
Мастер — это профессионал высочайшего класса. Специалист, постигший своё ремесло до тонкостей. В переводе с английского (а этот язык, как мы помним, Булгаков старательно изучал во второй половине 20‑х годов) слово «master» означает «хозяин», «учитель‑наставник», «руководитель» и даже «конферансье».
Вспомним ещё раз, как воспринимал это понятие Александр Блок:
«Мастер — тот, кто ощущает стержень всего своего творчества и держит ритм в себе».
Николай Бухарин называл мастерами лишь тех поэтов, чьи произведения содержат в себе «двойной, «тайный» смысл.
«Ночной гость» из соседней палаты всеми перечисленными свойствами и качествами обладает. Но он ещё и чертовски везуч — ему улыбнулась фортуна. Он выиграл в лотерею сто тысяч рублей. А сто тысяч, по его же собственным словам, «… это, согласитесь, громадная сумма денег».
Как известно, богатство даёт определённую независимость от окружающей действительности, предоставляя возможность жить так, как хочется. Мастер использовал выпавший ему шанс и сочинил роман на евангельскую тему.
Но не об Иисусе Христе его книга, нет! О Нём написано уже предостаточно. Пусть «иваны бездомные» добавляют свои странички к уже созданным томам. У мастера свой собственный путь, не зависящий от тропинок, протоптанных другими. Его герой — всесильный прокуратор Иудеи Понтий Пилат. Тот самый, что послал на казнь иудейского проповедника.
Казалось бы, не признававшие христианскую религию большевики должны были отнестись к Пилату как к союзнику, к «своему» (если исходить из древнего принципа: враг моего врага — друг). И книгу о нём должны были бы принять с восторгом, поднять на щит. Но новых хозяев России библейские прокураторы не интересуют. Роман мастера встречают в штыки, на него обрушивается лавина критики. А некий Алоизий Магарыч, позарившись на жилплощадь ставшего неугодным писателя, строчит на него донос в ОГПУ.
С Лубянки мастер возвращается сломленным. И по собственной воле устремляется в «лечебницу» Стравинского. А там искусные «профессора» так ловко продолжили «ломку» своего пациента, что даже дьявол удивился:
«— Да, — заговорил после молчания Воланд, — его хорошо отделали».
И вновь сквозь драматичную историю мастера отчётливо проступают жизненные перипетии самого Михаила Булгакова. Вспомним, как неожиданно (словно выигрыш в лотерею) пришла к нему слава, популярность? И как обрушились на него театральные критики? Как склоняли его имя со всех трибун? Как все его произведения предавались анафеме и запрещались? Как заинтересовалась им Лубянка и так далее, и так далее…
«Пора благополучия» вспыхнула и тут же погасла, как падающая звезда. Вот почему этот краткосрочный период и представился Бездомному как невероятно сказочное сновидение. Этим сном Булгаков как бы лишний раз подчеркнул, что мастер повторяет его собственную судьбу. Писатель сообщал своим читателям, что в стране большевиков всякий, кто попытается написать правду, обречён на попрание и «ломку» в застенках Лубянки. Несчастный Бездомный и якобы счастливый мастер в конце концов оказываются в одной палате‑камере.
А теперь обратим внимание на главную героиню романа, которая от великой любви почему‑то превратилась в ведьму.
Великое чувство
Прежде всего, не будем забывать, что торжественный гимн в честь Её Величества Любви написал человек, имевший в амурных делах опыт достаточно солидный. Как‑никак, а только официально Булгаков был женат трижды. И о том, что такое любовь (включая и любовь с большой буквы), ему было известно не понаслышке. Это великое человеческое чувство он и описал в своём романе. И как описал! Вспомним начало второй части «Мастера и Маргариты»:
«За мной, читатель! Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви? Да отрежут лгуну его гнусный язык!
За мной, мой читатель, и только за мной, и я покажу тебе такую любовь!»
Что можно сказать об этой чарующей оде, начинающейся так восторженно? Только одно: её чересчур возвышенная патетика настораживает, словно предупреждая нас о том, что автор всего лишь шутит. В самом деле, ирония (почти нескрываемая) ощущается чуть ли не в каждом восклицательном знаке. К тому же рассказывает об этом необыкновенном чувстве писатель не сам, а устами своего «душевнобольного» героя. Как тут не побалагурить?
И Булгаков, дав себе волю, рассказывает нам амурную историю, благостную и сентиментальную до предела.
Уже первую читательскую улыбку должна вызвать фраза мастера, который почему‑то никак не может вспомнить, на ком же он был женат когда‑то.
«На этой… Вареньке… Манечке… нет, Вареньке… ещё платье полосатое, музей… Впрочем, я не помню».
Кого имеет здесь в виду Булгаков? Свою первую жену Татьяну Николаевну? Вряд ли. Было бы чересчур некорректно — так говорить о своей первой любви, о женщине, честно и самоотверженно делившей с ним все беды и радости его драматичной молодости. Да и подозревать Татьяну Николаевну в каких бы то ни было связях с нечистой силой у Булгакова не было никаких оснований. Да, она устроила ему чудесное исцеление от морфинизма, происшедшее совершенно необъяснимым образом. Во всём же остальном была, как говорится, до мозга костей земным человеком, чуждым какого бы то ни было мистицизма.
Значит, кандидатура первой жены Булгакова на роль прототипа «музейной Вареньки» отпадает.
Продолжим поиск.
В прекрасной незнакомке, с которой случайно знакомится мастер, есть черты Елены Сергеевны Булгаковой. Но если так, тогда его прежняя («.музейная») жена — это Любовь Евгеньевна? Тоже неубедительно. Ведь эту Любовь (Любангу‑Бан‑гу) ему никто не навязывал, он выбрал её сам. Да и вообще не очень‑то достойно награждать бывшую супругу нелестными воспоминаниями. Да ещё задним числом. Михаилу Афанасьевичу (и мы не раз убеждались в этом) подобное было не свойственно.
Остаётся признать, что свою «прекрасную Маргариту» Булгаков наделил отчеством первой своей жены, характером — второй, а основные биографические данные позаимствовал у третьей.
Совсем недавно опубликованы мемуары ещё одной знакомой Михаила Афанасьевича — некоей Маргариты Петровны Смирновой, тоже претендующей на роль главного прототипа героини булгаковского романа. Но стоит внимательно прочесть эти «воспоминания», как сразу возникает ощущение, что «опираются» они не столько на собственную память мемуаристки, сколько на эпизоды многократно читанных и перечитанных «Мастера и Маргариты».
Впрочем, нас меньше всего интересует чья‑то конкретная личность, положенная автором в основу образа Маргариты. Мы хотим разобраться в том чувстве, что вспыхнуло между нею и мастером.
Своё неожиданное увлечение встреченной на улице красавицей мастер почему‑то приземлённо сравнивает (вызывая у читателей очередную улыбку) с удачным лотерейным выигрышем. Он деловито заявляет про внезапно возникшую любовь, что это чувство…
«… нечто гораздо более восхитительное, чем получение ста тысяч рублей».
Нежданная разлука с любимой должна, казалось бы, опечалить мастера, оказавшегося на больничной койке. Нет, он совершенно спокойно говорит об оставленной Маргарите:
«Мне, впрочем, её не очень жаль, так как она мне не пригодится больше… Впрочем, у меня есть надежда, что она забыла меня».
А какой предстаёт перед читателями сама Маргарита? Красивой, любящей мастера, верящей, что написанный им роман принесёт ему славу. Но при этом она очень расчётлива, и поэтому никак не может выбрать, уйти ли ей навсегда в лачугу мастеру или остаться в своей шикарной квартире с прежним мужем.
Характер у Маргариты — не сахар, она переполнена агрессией. Вспомним, какой жестокий разгром учинён ею писательскому дому. Маргарита не сдержанна на язык и довольно часто сквернословит…
Согласитесь, не очень‑то привлекательный получается образ? Ведьма, одним словом.
А если заглянуть во французский словарь и поискать слова, похожие на слово «Маргарита»!
Слово «margot», означает «сорока», a «margoton» — «девка». Не очень привлекательные эпитеты для той, кто претендует на роль носительницы королевы возвышенной любви.
Последуем дальше. Когда мастеру (который «заслужил покой») даруется «вечный приют», сопровождать его в это необыкновенное место доверяют всё той же Маргарите. И она говорит своему возлюбленному на пороге «вечного дома»:
«— А прогнать меня ты уже не сумеешь. Беречь твой сон буду я».
И сразу возникает ощущение, что отныне мастер обречён вечно коротать дни свои с Маргаритой. Какая уж тут, как говорится, любовь?
Но если ставшая ведьмой Маргарита — это всё‑таки Любовь Евгеньевна, верная спутница Михаила Булгакова времён его шумного успеха, то кто же тогда Елена Сергеевна? Не она ли выведена в образе жены всё того же Ивана Бездомного, который, излечившись от шизофрении, становится профессором Иваном Николаевичем Понырёвым (не от слова ли «понурый» произведена эта фамилия?)? Это про неё сказано в эпилоге романа: «Бедная женщина, связанная с тяжко больным»? А затем ещё и добавлено:
«Она знает, что на рассвете Иван Николаевич проснётся с мучительным криком, начнёт плакать и метаться, поэтому и лежит перед нею на скатерти под лампой заранее приготовленный шприц в спирту и ампула с жидкостью густого чайного цвета».
Согласитесь, что и в образе жены Понырёва привлекательного тоже мало?
А может быть, искать ту, что является подлинным (настоящим) прообразом главной героини романа вообще бессмысленно? Спутница мастера наделена чертами всех трёх булгаковских жён и потому является как бы обобщённым, собирательным образом женщины (в трактовке натерпевшегося от своих любовных метаний Булгакова)?
Но тогда превращение Маргариты в ведьму и вступление её в свиту «доброго» дьявола по имени Воланд следует рассматривать как очередной булгаковский прикол? Горько усмехнувшись, писатель говорит нам, что его Маргарите общаться с чертями его Маргарите намного интереснее, чем коротать свой век с ненормальным мастером, помешанным на своей гениальности. А потому «любовь» и «мастерство», «любовь» и «творчество» вообще несовместимы друг с другом.
Так ли это? Кто не согласен, пусть спорит с Булгаковым.
Но вернёмся к главному герою романа, к мастеру. Только ли черты своего создателя носит он в себе?
Рассказывая Бездомному о себе, мастер сообщает, что он…
«… ещё два года тому назад работал в одном из московских музеев, а кроме того, занимался переводами.
— С какого языка? — с интересом спросил Иван.
— Я знаю пять языков, кроме родного, — ответил гость, — английский, французский, немецкий, латинский и греческий. Ну, немножко ещё читаю по‑итальянски».
Но Михаил Булгаков, как известно, полиглотом не был. Всеми перечисленными языками владел его отец.
Но если так, то тогда выходит, что мастер наделён ещё и чертами Афанасия Ивановича Булгакова?
И в ночных беседах Бездомного с мастером вновь отчётливо слышны отголоски тех разговоров, что вели между собой в марте 1907 года безнадёжно больной профессор богословия и его 16‑летний сын. И точно так же, как общение киевлян Булгаковых прервал приход врача с его неумолимым диагнозом, так и диалог пациентов московской психиатрической клиники сначала прервала гроза (и «Иванушка впал в беспокойство»), а затем появилась фельдшерица…
Вновь перед нами — трое действующих лиц, связанных между собой невидимыми нитями: обеспокоенный Иван Бездомный , пропавший куда‑то мастер и приносящая тревожную весть фельдшерица …
Иванушка спросил:
«— … а что там рядом, в сто восемнадцатой комнате, сейчас случилось?..
— Скончался сосед ваш сейчас, — прошептала Прасковья Фёдоровна…».
Скончался сосед… Пропало полусонное видение… Раздвоение закончилось очередной преждевременной кончиной. Уже второй по счёту.
Таким образом, и всё то, что связано со смертью мастера, является аллегорическим пересказом обстоятельств кончины профессора богословия Афанасия Булгакова.
На печальное сообщение фельдшерицы Иван Бездомный отреагировал довольно удивительным образом. Он…
«… многозначительно поднял палец и сказал:
— Я так и знал! Я уверяю вас, Прасковья Фёдоровна, что сейчас в городе ещё скончался один человек. Я даже знаю, кто, — тут Иванушка таинственно улыбнулся, — это женщина».
Бездомный имел в виду Маргариту. Её смерть в романе будем считать третьей.
Но неужели не было альтернативы тем трагедиям, что привели мастера сначала в «дом скорби», а затем и к летальному исходу?
И она изложена в романе о Понтии Пилате.
Снова Пилат
Приглядимся к прокуратору Иудеи ещё раз. Перед нами человек, страдающий от жутких головных болей. Единственно близкое ему существо носит имя Байга. Он очень одинок, и это сразу заметил Иешуа, сказав:
«Беда в том…, что ты слишком замкнут… Ведь нельзя же, согласись, поместить всю свою привязанность в собаку».
А начальнику тайной стражи, который делал доклад прокуратору, вдруг показалось…
«… показалось, что на него глядят четыре глаза — собачьи и волчьи».
Чьими характерными чертами наделён этот персонаж?
Догадаться нетрудно — булгаковскими! Ведь это у Михаила Булгакова постоянно болела голова. Это он придумал самому близкому своему человеку, жене, ласковое прозвище Банга‑Любанга. Это он называл себя «одиноким литературным волком ».
Что же получается? Что и в образе прокуратора Понтия Пилата Булгаков вывел самого себя?
Чтобы попытаться помочь.
В романе об этом сказано так: прокуратор…
«… пойдёт на всё, чтобы спасти от казни решительно ни в чём не виноватого безумного мечтателя и врача».
Пилат убеждён, что идеалист‑мечтатель Иешуа «безумен». Прокуратору показалось, что бродячий философ является ещё и лекарем. Но почему‑то слова, произнесённые Пилатом, хочется истолковать так, что грозный правитель Иудеи намерен «спасти от казни» не одного человека, а двоих: «.мечтателя и врача».
Вновь складывается впечатление, что Булгаков имеет здесь в виду свои самые сокровенные чаяния. Всю жизнь в его душе жило желание спасти от карающей руки слепого рока своего мечтателя‑отца. И было такое же страстное желание отвести безжалостный меч судьбы от самого себя, от «.лекаря с отличием». Для того и принял он облик грозного правителя Иудеи, чтобы свершить чудо.
Но богам не по душе незапланированное исцеление, и они насылают на Пилата жуткую головную боль. Что ему остаётся делать? Только горестно восклицать, обратившись к небу:
«О, боги, боги, за что вы наказываете меня?..»
Но стоп! Если Понтий Пилат — это Михаил Булгаков, то кто же тогда послужил прообразом Иешуа? Неужели?..
Вспомним, с чего начинается вторая глава «Мастера и Маргариты»!
«В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана …»
Вот он — зашифрованный след! «Четырнадцатого числа»! «Весеннего месяца писана»! Что это за дата?
Нисан — первый месяц еврейского календаря, месяц возрождения, про который в священных книгах сказано:
«В Нисан наших праотцев спасли от египетского рабства, и мы также будем спасены в Нисан».
Нисан — время необыкновенное, это пора чудес. Древние мудрецы говорили, что не случайно в названии месяца нисана (первого весеннего, возвещающего о пробуждении природы) присутствуют две буквы «н» («нун»)! Именно поэтому нисан — это «нисей нисим», то есть «чудо чудес».
А что означает «четырнадцатое число», которое выбрал для своего повествования Булгаков?
Для него это особый день. Ведь именно 14‑го нисана (а если по‑нашему календарю, то 14‑го марта) скончался Афанасий Иванович Булгаков, его отец.
В этот же день расстаётся с жизнью и Иешуа Га‑Ноцри. На кресте. Это уже четвёртая по счёту смерть в булгаковском романе. После своей мученической кончины иудейский проповедник обретает бессмертие. А имя Афанасий в переводе с древнегреческого как раз и означает «бессмертный».
Таким образом, киевского профессора богословия с полным основанием можно считать прообразом библейского философа Иешуа. А сам роман о Понтии Пилате — это предпринятая Михаилом Булгаковым очередная попытка спасти (хотя бы таким способом) своего отца. Писатель в очередной раз пытается помешать злому року перерезать тот волосок, на котором подвешена жизнь дорогого ему человека.
Видимо, перед смертью отец говорил встревоженному сыну о бессмысленности подобных попыток. Спасти того, чьей судьбой давно уже распорядились свыше, невозможно. Вот Иешуа (Афанасий Булгаков) и говорит Пилату (своему сыну Михаилу):
«… согласись, что перерезать волосок уж наверно может лишь тот, кто подвесил».
Вероятно, Афанасий Иванович высказывал и какие‑то другие мысли. Среди них могли быть и такие, что шли вразрез с устоявшимися традициями. Кто знает, может быть, именно профессор богословия и произнёс те самые слова, которые годы спустя его сын вложит в уста Иешуа:
«… всякая власть является насилием над людьми и… настанет время, когда не будет власти ни кесарей, ни какоё‑либо иной власти. Человек перейдёт в царство истины и справедливости, где вообще не будет надобна никакая власть»?
Когда подобные мысли высказывает тот, кто отходит в мир иной, то есть человек, которому уже нечего и некого в этом мире бояться, значит, в них заключена доля истины. Но в булгаковской семье к властям всегда относились исключительно лояльно. Слова отца должны были потрясти сына. И заставить задуматься над вопросом: может ли тот, кто говорит такое, надеяться на благосклонную поддержку Всевышнего…
Точно так же будет ошеломлён и Понтий Пилат, когда услышит чересчур смелое высказывание Иешуа.
«Лицо Пилата исказилось судорогой, он обратил к Иешуа воспалённые, в красных жилках белки глаз и сказал:
— Ты полагаешь, несчастный, что римский прокуратор отпустит человека, говорившего то, что говорил ты?»
Вот тогда‑то Булгаков (рукою прокуратора) и «утверждает смертный приговор»… Он вынужден это сделать.
Но Пилат всё равно надеется спасти обречённого проповедника — ведь ему известно, что «согласно обычаю» одного из преступников полагается «отпустить на свободу» в честь «великого праздника пасхи».
Однако на пути всесильного прокуратора встаёт не менее могущественный Синедрион во главе с первосвященником Каифой. Синедрион уже принял решение, согласно которому бродячий философ, смущающий своими проповедями народ, должен быть предан смерти. Булгаков (устами Пилата) не в силах переубедить Кайфу. И Иешуа отправляют на казнь.
Вновь перед нами — три персонажа: Иешуа, Пилат и Кайфа. Одному из них предстоит умереть прежде времени.
Почему же прокуратор не спас бродячего проповедника? Булгаков говорит нам, что правителю Иудеи просто не хватило мужества, смелости. Не случайно доверенное лицо Пилата, делая отчёт о последних минутах жизни Иешуа Га‑Ноцри, говорит:
«… он был немногословен на этот раз. Единственное, что он сказал, это, что в числе человеческих пороков одним из самых главных он считает трусость».
Эти слова произнёс Иешуа… Но кто знает, не прозвучали ли они из уст умиравшего Афанасия Булгакова, дававшего сыну‑гимназисту своё последнее наставление? Вполне возможно.
Как бы там ни было, но в битве за жизнь обречённого подследственного Понтий Пилат потерпел сокрушительное поражение. Вот тут‑то ему и показалось…
«… показалось смутно прокуратору, что он чего‑то не договорил с осуждённым, а может быть, чего‑то не дослушал».
И Пилату (равно как и Булгакову) остаётся только одно — мстить. Но кому?
Месть Пилата
Не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы заметить, как похож безжалостный Синедрион далёкой библейской эпохи на политбюро ЦК советской поры. Но в булгаковском романе есть ещё одна пикантная подробность: библейского первосвященника, стоящего во главе Синедриона, зовут Иосиф. Точно так же, как и генерального секретаря большевистской партии.
И ещё сообщается, что человек, предавший Иешуа (и передавший его в руки Синедриона), был родом из Кариафа. Поэтому в романе его и зовут Иудой из Кариафа.
На гнусное предательство Иуду вдохновил Иосиф из Синедриона. Современники Булгакова мгновенно догадывались, на кого на самом деле намекает автор: на Иосифа из политбюро, он же Иосиф из Гори («из Гори» — «из Кариафа», очень созвучно).
Во время допроса Иешуа говорит про Иуду:
«Уменя, игемон, есть предчувствие, что с ним случится несчастье, и мне его очень жаль».
Вечером того же дня Понтий Пилат принимает решение, которое должно привести к тому, что предчувствие проповедника сбудется. Эту весьма непростую операцию он поручает провести Афранию, начальнику своей тайной службы.
Нет, нет, никаких распоряжений относительно того, чтобы с кем‑то расправиться, прокуратор не даёт. Но в беседе с Афранием, когда речь зашла об этом самом Иуде из Кариафа, Понтий Пилат всего лишь намекнул… Нет, даже не намекнул, а…
«… прокуратор умолк, оглянулся, нет ли кого на балконе, и потом сказал тихо:
— Так вот в чём дело — я получил сегодня сведения о том, что его зарежут этой ночью».
Так сказал Понтий Пилат. И добавил:
«… я прошу вас заняться этим делом, то есть принять все меры к охране Иуды из Кариафа».
Этих слов прокуратора оказалось вполне достаточно для того, чтобы тотчас был приведён в действие чётко отлаженный механизм тайной службы. И ночью Иуду зарезали. Люди Афрания. По негласному приказу Понтия Пилата.
«Афраний»… Откуда взялось это необычное имя?
В словаре Брокгауза и Ефрона, которым наверняка пользовался Булгаков, когда подыскивал достойную кличку, скажем, тому же Коровьеву, сказано, что слово «фагот» придумал итальянский монах Афранио. Имя запало в память, а затем оно было дано начальнику тайной службы.
Всё вполне могло происходить именно таким образом. Но…
Был у Иосифа Сталина свой человек на Лубянке, и звали тоже Аграний…, то есть Агранов. Настоящей его фамилией была Соренсен. Современникам писателя этот всесильный временщик из чекистского ведомства был хорошо известен. Булгаков заменил всего одну букву в его кличке (вместо «г» поставил «ф»), но каждый, услышав имя Афраний, сразу понимал, о ком идёт речь.
Итак, по приказу прокуратора Иуду закалывают. Под покровом ночи. Это уже пятая смерть в булгаковском романе. А тридцать тетрадрахм, полученные Иудой от Синедриона в награду за предательство, подбрасывают в храм — первосвященнику.
Своим толкованием древней библейской истории Булгаков как бы говорит, что там, где всеми делами заправляет Синедрион (политбюро), праведным философам места нет, а первосвященники (особенно те, что носят имя Иосиф) заслуживают только одного — мстительной кары.
Итак, о чём же он — автобиографический роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»?
В нём изложена невероятно печальная (а местами — просто трагическая) судьба самого автора. Роман начинается с описания странного заболевания, неожиданно возникшего у киевского профессора богословия. Сначала это просто нелады со зрением (у Берлиоза внезапно появились галлюцинации). Затем приходит врач (Воланд), который говорит, что болезнь Афанасия Булгакова смертельна. И ещё доктор предупреждает, что и сына Афанасия Ивановича ожидает та же горестная участь.
Предсказания медика сбываются: отец умирает, а потрясённый сын с величайшей тревогой ожидает от жизни самого худшего. И вскоре, заболев морфинизмом, Михаил Булгаков (как и Иван Бездомный) попадает в психиатрическую лечебницу. Всё, что происходит в дальнейшем, представляется ему в виде сна или какого‑то фантасмагорического видения.
Да, он становится известным писателем (мастером), к нему приходит слава. Но выглядит она совсем не так, как представлялось ему ранее: его (как и мастера) начинают травить, преследовать, предавая анафеме вредную и сугубо опасную «булгаковщину» («пилатчину»).
Затем (опять же в некоем фантасмагорическом полусне) Булгаков (мастер) излечивается от морфинизма (от душевной болезни). Каким образом происходит это исцеление, непонятно. В романе в роли врачей‑целителей выступают дьяволы, которые и отправляют выздоровевшего писателя на «вечный покой».
Сам же Булгаков (уже в образе профессора Ивана Николаевича Понырёва) навсегда прекращает свою литературную деятельность. С этих пор жизнь его вроде бы складывается нормально. Но каждый год, как только наступает напророченный ему роковой месяц март (и мартовское полнолуние), им овладевает тоска, и он со страхом и тревогой ждёт конца своей жизни.
Обо всём этом и рассказал писатель Михаил Булгаков в своём автобиографическом романе «Мастер и Маргарита».
Но один вопрос всё‑таки остался у нас без ответа — о «добрых» дьяволах. Почему к мастеру, бесспорно являющемуся добрым христианином, спасение приходит от сатаны?
Чтобы ответить на этот вопрос, вернём персонажам романа их прежние большевистские «маски». И вновь окажемся в советской стране, которую (а в этом Михаил Булгаков был убеждён) захватили дьяволы. Вынужденный всю свою жизнь прожить в СССР, писатель очень скоро понял, что так называемая «нечистая сила» — это всего лишь карающий меч матушки‑природы, и карает он исключительно грешников. Потому бояться безжалостной сатанинской кары должны лишь те, у кого совесть не чиста.
Воланд и его команда не выносят приговоры, они лишь приводят их в исполнение. Это их работа. Да, Бегемот «починяет примуса» исключительно для того, чтобы подставлять их затем под адские сковородки. Но когда выдаётся свободная минута, почему бы ему не повалять дурака, не победокурить?
Своим романом Булгаков как бы предупреждал человечество:
«Не бойтесь сатаны! Бойтесь нечистой большевистской силы! И если вдруг вам представится возможность вырваться из её цепких объятий, бегите! Куда угодно, хоть к чёрту на рога, но бегите из этой страны коммунистических дьяволов!»
Да, «Мастер и Маргарита» — роман автобиографический, но это ещё и роман‑мщение. Его автор мстит большевикам, этим истинным демонам коварства и зла. И пусть его мщение предстаёт перед читателями в тщательно закамуфлированной форме, Булгаков сумел высказать всё то, о чём думал. Высказал так, как хотел.
Он даже описал конец правления дьявольской кремлёвской «тройки». Точно так же, как Тугай, герой его раннего рассказа «Ханский огонь», сжигал свою родовую вотчину, так и дьяволы предают огню основные гнёзда большевизма. Сгорает дотла Кремль («нехорошая квартира»), сгорает здание ЦК ВКП(б) (берлиозовский дом — «шалаш Грибоедова»), охвачено жарким пламенем и порождение большевистской экономической политики — магазин Торгсин на Смоленском рынке, где можно было купить всё, но только за валюту.
Мщение состоялось. Причём, по самой полной программе.
А что же советская власть? Неужели эти «чёртовы» большевики ничего не ведали о том, КАКУЮ книгу сочиняет по ночам «враждебный пролетариату» писатель? Неужели ни о чём не догадывались?
Свой роман Булгаков читал слишком многим. Осведомителей «битковых», тотчас извещавших обо всём Лубянку, среди слушателей было предостаточно. Вспомним хотя бы, как просил Григорий Конский дать ему «Мастера и Маргариту»? Почитать. «Хотя бы на одну ночь».
Так что энкаведешникам всё (или, по крайней мере, очень многое) было известно. И написание «злобного антисоветского пасквиля» (а только так и должны были воспринимать на Лубянке и в Кремле булгаковскую книгу) не могло остаться без последствий, без наказания.
Однако и Булгаков был достаточно прозорлив, чтобы предвидеть и такие повороты своей судьбы. И поэтому ввёл в свой «роман о дьяволе» несколько особых эпизодов, тоже имевших явный автобиографический подтекст.
Судьба Мастера
В «Мастере и Маргарите» Булгаков описал и свою собственную кончину Уж если предсказано было, что произойдёт она в 1939‑ом, так пусть же так оно и будет. И неважно, что в назначенный срок (31 марта) смерть не пришла. Год‑то ещё не закончен — до конца декабря ещё уйма времени, значит, всё ещё может случиться.
Но последняя декада декабря 1939 года оказалась занятой юбилейными торжествами — страна, как мы помним, отмечала 60‑летие Сталина. Булгаков, томившийся ожиданием предсказанного ему конца, как бы сам напросился на этот юбилей, написав пьесу о вожде всех времён и народов. И вот пьесу отправили на самый верх, а её автора пригласили на праздничное торжество. Там‑то из уст самого дьявола и прозвучал безжалостный приговор:
«… чтобы избавить вас от этого томительного ожидания, мы решили придти к вам на помощь, воспользовавшись тем обстоятельством, что вы напросились ко мне в гости …»
Чьи это слова? Их произносит Воланд, обращаясь к приглашённому на «великий бал у сатаны» барону М айгелю. Но ведь Б.М. — это булгаковские инициалы.
И голова Берлиоза (отца Михаила Булгакова) тоже здесь, на сатанинском балу.
Приглашённого Б.М. по приказу Воланда убивают. В романе эта смерть — шестая по счёту.
Но, как известно, в любых прогнозах бывают ошибки. Памятуя об этом, Булгаков предлагает нам ещё один вариант своей собственной кончины — в сцене, где рассказывается, как расстаются с жизнью мастер и Маргарита. Воланд подсылает к ним своего «рыжего демона» с поистине «дьявольским» подарком — бутылкой фалернского вина, того самого, которое якобы «пил прокуратор Иудеи»:
«Азазелло извлёк из куска тёмной гробовой парчи совершенно заплесневевший кувшин. Вино нюхали, налили в стаканы, глядели сквозь него на исчезающий перед грозою свет в окне. Видели, как всё окрашивается в цвет крови.
— Здоровье Воланда! — воскликнула Маргарита, поднимая свой стакан.
Все трое приложились к стаканам и сделали по большому глотку. Тотчас предгрозовой свет начал гаснуть в глазах мастера, дыхание его перехватило, он почувствовал, что настаёт конец…
— Отравитель… — успел ещё крикнуть мастер. Он хотел схватить нож со стола, чтобы ударить Азазелло им, но рука его беспомощно соскользнула со скатерти, всё окружавшее мастера в подвале окрасилось в чёрный цвет, а потом и вовсе пропало».
Итак, мастера отравил Азазелло. Булгаков словно предчувствовал, что то же самое может проделать и тот, кто был прообразом рыжего чёрта — реально существовавший большевистский демон Иосиф Сталин.
Хоть и писал в своей книге А.З. Вулис, что сведений «… о знакомстве вождя народов с «Мастером» история не сохранила», Сталину, вне всяких сомнений, должны были доложить о подозрительной книге. Генсек не мог не захотеть с нею ознакомиться. И желание вождя, безусловно, было удовлетворено. Каким именно образом НКВД заполучило копию «Мастера и Маргариты», гадать не будем, в те годы для чекистов не было ничего невозможного.
Сталин вполне мог стать одним из первых читателей булгаковского романа. И из всего того, что так искусно пряталось меж его строчек, наверняка многое сумел понять, расшифровать, о многом догадаться. Мог и Ленина узнать в Берлиозе, и Каменева — в Коровьеве, и Зиновьева — в Бегемоте и себя — в Азазелло. И в психушке Стравинского вполне мог распознать застенки Лубянки. А в Понтии Пилате мог уловить свои собственные черты.
А затем Сталину принесли пьесу «Батум». Перед генсеком оказались два произведения, совершенно непохожих одно на другое: крамольнейший «Мастер…» и якобы верноподданнейший «Батум».
И судьба писателя была тут же решена. Окончательно и бесповоротно. Вождь вполне мог подумать:
«— Этот человек должен успокоиться навеки!»
А вслух (в присутствии начальника своей тайной службы) тихо сказать:
«— Какие замечательные книги пишет этот удивительно талантливый писатель Булгаков! Но у меня есть сведения, что он скоро умрёт. От какой‑то наследственной болезни. Мне почему‑то кажется, что именно так оно и будет. Нельзя ли принять меры и защитить его от этого коварного недуга?'»
Этих слов вождя было вполне достаточно, чтобы привести в действие прекрасно отлаженный механизм тайной службы. Каким именно «фалернским вином» лубянские «афрании» могли опоить Булгакова, вряд ли когда‑либо станет известно.
Но ведь вино‑то было.
Незадолго до получения роковой телеграммы Булгаков и его попутчики пили в «бригадирском» купе вагона какое‑то вино. Кто присутствовал при этом? Елена Сергеевна и двое мхатовцев: В.Я.Виленкин и П.В.Лесли. Кто из них исполнил роль Азазелло? Или был ещё один, «пятый» (неизвестный нам) соучастник того распития?
Гадать бессмысленно. Если дьявольская операция по «устранению» неугодного писателя и в самом деле имела место, имена её непосредственных исполнителей мы вряд ли когда‑нибудь узнаем. Я.С. Агранов был расстрелян 1 августа 1938 года. И не столь важно, кто заступил на освободившееся место, и кто кому стал отдавать тайные поручения. Главное в том, что именно после «винного» инцидента в поезде жизнь Булгакова неумолимо устремилась к финалу.
Вспомним ещё несколько записей Елены Сергеевны той поры.
25 января 1940 года:
«Проснулся с головной болью.
Прогулка на почту (телеграмма Рубену Симонову) и до Ермолинских. На улице почувствовал слабость, у Ермолинских лежал на диване… Целый день болит голова».
26 января:
«Пришёл Борис.
Карты. Бутерброды.
Заснул, спал спокойно».
27 января:
«Проснулся. Гомеопатическое средство.
Припадок сильнейшей боли. Тройчатка. Горчишники»
28 января:
«Парикмахер.
Работа над романом.
Потом Миша пошёл к Файко — играли в винт».
1 февраля:
«Проснулся — сильнейшая головная боль…
22.30. Сильнейший приступ головной боли.
Ужасно тяжёлый день.
— Ты можешь достать у Евгения револьвер?»
6 февраля:
«Мучительная рвота и боли в животе (сам сделал укол пантопона в 10.30 утра). Утром в 11 часов: «В первый раз за все пять месяцев болезни я счастлив… Лежу, покой, ты со мной… Вот это счастье… Сергей в соседней комнате…
12.40. „Счастье — это лежать долго… в квартире… любимого человека… слышать его голос… вот и всё… остальное не нужно “».
8 февраля:
«Возбуждённое состояние, иногда затруднение в выборе слов, перескакивание с мысли на мысль».
Хоть как‑то помочь умиравшему писателю попытались актёры МХАТа Качалов, Тарасова и Хмелёв. 8 февраля 1940 года они написали письмо секретарю Сталина А.Н. Поскрёбышеву В этом послании говорилось, что Булгаков находится в ужасном положении, что врачи бессильны. Последняя надежда на сильное радостное эмоциональное потрясение…
«… которое дало бы ему новые силы для борьбы с болезнью, вернее — заставило бы его захотеть жить, — чтобы работать, творить, увидеть свои будущие произведения на сцене.
Булгаков часто говорил, как бесконечно он обязан Иосифу Виссарионовичу, его необычайной чуткости к нему, его поддержке. Часто с сердечной благодарностью вспоминал о разговоре с ним Иосифа Виссарионовича по телефону десять лет тому назад, разговоре, вдохнувшем тогда в него новые силы.
Видя его умирающим, мы — друзья Булгакова — не можем не рассказать Вам, Александр Николаевич, о положении его, в надежде, что Вы найдёте возможным сообщить об этом Иосифу Виссарионовичу».
Иными словами, актёры предлагали вновь повторить нечто подобное тому телефонному разговору…
На этот раз звонка не последовало.
Аналогичная ситуация описана в самом финале «Жизни господина де Мольера». Там речь идёт о смерти великого французского драматурга, и Булгаков пытается выяснить, почему к умиравшему королю сцены не пришёл (да и вряд ли собирался) король‑солнце Людовик:
«Тош, кто правил землёй, считал бессмертным себя, но в этом, я полагаю, ошибался. Он был смертен, как и все, а следовательно — слеп. Не будь он слепым, он, может быть, и пришёл бы к умирающему, потому что в будущем увидел бы интересные вещи и, возможно, пожелал бы приобщиться к действительному бессмертию».
Собирался ли Сталин «приобщиться к действительному бессмертию», неизвестно. Но к постели умиравшего писателя гонца всё же послал. Вот что сказано об этом в дневнике Е.С.Булгаковой:
«15 февраля.
Вчера позвонил Фадеев с просьбой повидать Мишу, а сегодня пришёл. Разговор вёл на две темы: о романе и о поездке Миши на юг Италии для выздоровления.
Сказал, что наведёт все справки и через несколько дней позвонит…
22.15. Припадок — укол морфия».
«20.30. А. А. Фадеев. Весь вечер — связный разговор, сначала возбуждённый с Фадеевым, потом более сдержанный со всеми вместе».
«Очень тяжёлое, беспокойное состояние».
“Служить народи… За что меня жали? Я хотел служить народу… Я никому не делал зла“».
«1830. Приход Фадеева. Разговор…
Мне: „Он мне друг“.
Сергею Ермолинскому: „Предал он меня или не предал? Нет, не предал! “»
По воспоминаниям С.А. Ермолинского, когда Булгаков, указав на Елену Сергеевну, сказал Фадееву:
«„Я умираю, она всё знает, что я хочу“ — Фадеев, стараясь держаться спокойно и сдержанно, ответил: „Вы жили мужественно, вы умираете мужественно“. После чего выбежал на лестницу, уже не сдерживая слёз».
Но после ухода гостя Булгаков попросил жену:
«Никогда больше не пускай его ко мне!»
«Тяжёлый день — ужасные мучения.
Почти всё время стонет и кричит… Судороги сводят тело…
Всё время испытывает чувство страха… Сильные боли».
В тот же день родная сестра Елены Сергеевны, Ольга Бокшанская, писала матери (свою сестру она тоже называла Люсей):
«Мака уже сутки как не говорит совсем, только вскрикивает порой, как они думают, от боли… Люсю он как бы узнаёт, других нет. За всё время он произнёс раз одну какую‑то фразу, не очень осмысленную, потом, часов через 10, повторил её, вероятно, в мозгу продолжается какая‑то работа».
А вот строки из письма Елены Сергеевны Н.А. Булгакову в Париж:
«Люди, друзья, знакомые и незнакомые, приходили без конца. Многие ночевали у нас последнее время — на полу. Мой сын Женичка перестал посещать школу, жил у меня, помогал переносить надвигающийся ужас… сёстры медицинские были безотлучно, доктора следили за каждым изменением. Но всё было напрасно. Силы уходили из него…»
Приехал на один день из Калуги живший там на поселении старый друг Булгакова Н.Н. Лямин. Приехал, рискуя быть арестованным. Приехал, чтобы проститься.
И ещё из воспоминаний Елены Сергеевны:
«Умирая, он шутил с той же силой юмора, остроумия. Рассказывал тархановские истории».
И, наверное, вспоминал строки из своего «Дон Кихота»:
«ДОН КИХОТ. Мне страшно оттого, что я встречаю мой закат совсем пустой, и эту пустоту заполнить нечем…
Вот она!., я не боюсь. Я её предчувствовал и ждал сегодня с утра. И вот она пришла за мной. Я ей рад… я испугался, что останусь в пустоте. Но вот она пришла и заполняет мои пустые латы и обвивает меня в сумерках…
САНЧО. Сеньор Кихано! Не умирайте! Сеньор Дон Кихот! Вы слышите мой голос?.. Почему вы не отвечаете мне?
АНТОНИЯ (вбегает со светильником). Что делать, Сансон? Что делать?
САНЧО. Он не отвечает мне!
САНСОН. Я сделать больше ничего не могу. Он мёртв.
И самая трагичная запись в дневнике Елены Сергеевны Булгаковой:
«10 марта.
16.39. Миша умер».
С.А. Ермолинский в своих воспоминаниях приводит такую подробность тех дней:
«На следующее утро — а может быть, в тот же день, время сместилось в моей памяти, — позвонил телефон. Подошёл я. Говорили из секретариата Сталина. Голос спросил:
— Правда ли, что умер товарищ Булгаков?
— Да, он умер.
Трубку молча положили».
В «Мастере и Маргарите» есть эпизод, в котором Афраний сообщает Понтию Пилату о смерти Иуды из Кариафа. Кстати, обратим внимание ещё на одно удивительное совпадение — АФ раний и А. Ф адеев. Конечно же, это случайность, но какая пророчески знаменательная.
«Прокуратор вздрогнул…
— Но вы наверно знаете, что он убит?
— Я, прокуратор, пятнадцать лет на работе в Иудее… Мне не обязательно видеть труп для того, чтобы сказать, что человек убит, и вот я вам докладываю, что тот, кого именовали Иуда из города Кариафа, несколько часов тому назад зарезан».
Через какое‑то время Понтий Пилат сообщал об убийстве Иуды сподвижнику Иешуа Га‑Ноцри, Левию Матвею:
«— Кто это сделал? — шёпотом повторил Левий.
Пилат ответил ему:
— Это сделал я».
Этими словами Булгаков как бы называл и своего убийцу — Сталина.
Вспоминается ещё фрагмент из «Дон Кихота»:
«ГЕРЦОГ. Но всё же не могу не пожалеть о том, что похождения Кихано прекратились. Они были забавны, и… развлекали людей».
Булгаков предчувствовал многое. И значительную часть этих предчувствий передал нам через свой закатный роман «Мастер и Маргарита».
Но Булгаков не был бы Булгаковым, если бы, так много зная о том, насколько трагичным будет его конец, не предпринял ничего, чтобы заранее нанести сокрушительный удар по торжествующему противнику.
Последняя месть
На всём протяжении второй части «Мастера и Маргариты» Булгаков несколько раз вкладывает в уста своего главного героя фразу о том, что, ему, мастеру, известно, какими именно словами должен завершиться его недописанный роман. Так, рассказывая Бездомному о том времени, когда работа над романом близилась к завершению, мастер говорит:
«Пилат летел к концу, и я уже знал, что последними словами романа будут: «… Пятый прокуратор Иудеи Всадник Понтий Пилат».
Другое свидетельство исходит от Маргариты, которая…
«… нетерпеливо дожидалась обещанных уже последних слов о пятом прокураторе Иудеи…»
В этом настойчивом повторении явно ощущается очередная булгаковская подсказка, где именно следует искать «зарытую» им тайну. Нам остаётся лишь отправиться по пути, указанному самим Мастером.
Последняя глава романа (32‑ая по счёту) называется, как мы помним, «Прощение и вечный покой». Сочетание начальных букв («П», «и», «в», «п») заключает в себе, вне всяких сомнений, какую‑то информацию.
Прежде чем начать поиски ответа на этот вопрос, обратимся к тому, чем заканчиваются «Мастер и Маргарита». Роман завершает эпилог. Елена Сергеевна недоумевала по поводу того, для чего он вообще нужен:
«Мне так нравились последние слова романа. Я не понимала, зачем что‑то добавлять после них».
Но Михаилу Булгакову эпилог был необходим. Необходим для того, чтобы после стольких страниц, заполненных весёлой фантасмагорией, наконец‑то сказать кое‑что и всерьёз.
Что же именно?
Ответить на этот вопрос и помогает булгаковская подсказка о заключительных словах его романа. А заканчивается он почти так же, как завершается первая фраза второй главы «Мастера и Маргариты». Вспомним:
«… в крытую колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат».
А вот финальные слова эпилога:
«… жестокий пятый прокуратор Иудеи всадник Понтий Пилат».
Есть разница в представлении Понтия Пилата? Есть! Но очень небольшая — у прокуратора появился порядковый номер («пятый») и добавилось слово «всадник».
«Прощение и вечный покой», «пятый прокуратор Иудеи всадник Понтий Пилат» — не правда ли, что‑то знакомое есть в этих фразах? Вспомним последние слова повести‑гротеска «Роковые яйца»:
«… покойный профессор Владимир Ппатьевич Персиков».
Те же самые буквы «П», что с двух сторон обступают имя героя. Но в «Роковых яйцах» в этом крылся определённый намёк на Ленина. А на кого намекал Булгаков в «Мастере и Маргарите»?
«П рощение и вечный покой»…
«Пятый прокуратор Иудеи всадник П онтий П илат».
«П.П. Иудеи всадник П.П.» — столбы‑виселицы обступают слова «иудеи» и «всадник». Не может быть, чтобы это было чистой случайностью, не означающей абсолютно ничего.
Вглядимся в словосочетание: ИУДЕИ ВСАДНИК. Не читается ли в них какое‑нибудь послание от Булгакова?
«ИУДЕ ИВС АД»… Или «Иуде И.В. С. — ад!»
И.В.С. — это инициалы Сталина. Вот, стало быть, кого Булгаков назвал Иудой. Вот, стало быть, кому желал он неминуемого ада, окружая имя ненавистного вождя столбами‑виселицами.
И в последней главе — в той, где прокуратор вроде бы прощён, присутствуют те же буквы: «П», «и», «в», «п». Виселицы окружают инициалы вождя.
Правда, остаётся окончание слова «всадник» — непонятное «ник». Что оно означает? Да ведь это же начальные буквы названия первой главы романа — «Ник огда не разговаривайте с неизвестными». Булгаков вновь призывает нас не заводить беседу с людьми незнакомыми… Нет, не с «незнакомыми», а именно с «неизвестными». Слово это Булгаков выбрал, надо полагать, тоже не случайно. Ведь нём заключены ненавистные ему инициалы: неИ зВСт ными — те же «И », «В» и «Ст».
Начальным слогом названия первой главы своего романа Булгаков как бы обращался к тем, кто так и не понял, о чём шла речь в 32 главах и в эпилоге. И он предлагал им перечитать заново свой закатный роман «Мастер и Маргарита».
Вот и всё. Мщение состоялось.
Маленький эпилог
Итак, тайна булгаковского мастера вроде бы раскрыта, и наши упорные попытки разгадать зашифрованные мысли великого романа наконец‑то подошли…
В самом деле, к чему же мы, собственно, подошли?
Если честно и откровенно, то всего лишь к осознанию абсолютной бессмысленности поисков в текстах — подтекстов, в образах — прообразов, а в типажах — их прототипов.
Художник нарисовал прекрасную картину писатель написал выдающуюся книгу… Можно годами ломать голову отыскивая тех, кто вдохновлял творцов на создание шедевров, кто лёг в основу их бессмертных творений. И можно до бесконечности повторять, что любая картина — всего лишь бледная копия оригинала. Истинный художник‑творец, впитав в себя оригинальные впечатления от окружающей его жизни, создаёт неповторимый оригинал, который начинает жить по своим собственным законам. Не подчиняясь никому. Даже своему создателю.
И что с того, если мы узнаем, кого именно имел в виду Булгаков, создавая колоритную фигуру, скажем, Берлиоза?
Что с того, если мы будем знать, зачем превратил он красавицу Маргариту в ведьму?..
Не зря про подобные попытки в народе говорят, что все они «от лукавого».
История — ведь это совсем не то, что произошло когда‑то, а то, как «дела давно минувших дней» описаны в книгах. Вот почему мы не будем больше философствовать, а по примеру Михаила Булгакова расскажем лишь о дальнейшей судьбе некоторых участников нашего повествования.
Иосиф Сталин. Любителям каббалистических подсчётов будет небезынтересно узнать, что генсек пережил крамольного писателя ровно на 13 лет. И умер тоже в марте. Странные до ужаса совпадения.
Жёны Булгакова покидали этот мир в обратном порядке — по сравнению с той очерёдностью, с которой они входили в жизнь Михаила Афанасьевича. Первой ушла из жизни (в самом начале 70‑х годов) Елена Сергеевна. За нею вскоре последовала Любовь Евгеньевна. И уже в самом начале 80‑х скончалась Татьяна Николаевна, незадолго до этого схоронившая последнего своего мужа, бывшего адвоката Кисельгофа (того самого, которого в 20‑х годах Михаил Булгаков называл своим добрым приятелем).
Вспомним и о тех, кто не верил в уход из жизни 48‑летнего Булгакова. Старший пасынок Михаила Афанасьевича, Евгений Шиловский, умер в 36 лет от той же самой болезни почек, что и Булгаков. Младший, Сергей Шиловский скончался в 49 лет, то есть почти в том же самом возрасте, что и Булгаков. Третий неверующий пересмешник, художник Владимир Дмитриев, ушёл из жизни, не дожив трёх месяцев до своего 48‑летия. С чего вдруг? Почему такая странная закономерность? Ответов на эти вопросы мы, увы, не знаем и вряд ли когда‑нибудь узнаем. Это ещё одна загадка, над которой кому‑то предстоит поломать голову.
В мемуарах одной из претенденток в прообразы Маргариты — Маргариты Петровны Смирновой (утверждавшей, что это её на стыке 20‑30‑х годов Булгаков якобы встретил в одном из арбатских переулков с букетом мимозы в руках) — есть одно примечательное место:
«Михаил Афанасьевич сказал мне однажды: „Маргарита Петровна, знайте, мы умрём с вами в один день. Вы увидите — это будет так „10 марта у меня была зафиксирована клиническая смерть. Я умирала в больнице имени Склифосовского».
Что это — очередное случайное совпадение, каким‑то образом угаданное Булгаковым, или странное «колдовство» из числа тех, что кишмя кишели в его биографии?
И вот что ещё хотелось бы сказать. Люди давным‑давно пришли к выводу, что судить о человеке следует по его делам, а не по его намерениям. И не по тому, на кого он похож в тех или иных своих поступках.
В самом деле, разве что‑то изменится в мире оттого, что мы узнаем об истинных намерениях и подлинных планах, скажем, того же Булгакова, писателя с удивительно ёрнической, баламутской фамилией? О нём судили, судят и будут судить по его рассказам, повестям, пьесам и романам. До тех пор, пока эти произведения будут интересны человеческому сообществу, их автора будут помнить. И чтить его сочинения. То есть его тексты. А также всё то, что он пытался упрятать от постороннего глаза глубоко между строчек — в подтекст. Ведь не зря же он называл себя мастером, то есть человеком, создающим произведения с тайным двойным, а то и тройным смыслом.
А теперь хочется привести фразу из книги поэтессы Ларисы Васильевой «Жена и муза»:
«Настоящая тайна всегда открыта всем, просто не все это видят, пока кто‑нибудь, догадливый или осведомлённый, не назовёт её по имени».
Впрочем, рассуждать о загадках и тайнах можно до бесконечности. Роман Булгакова от этого понятнее не станет. Как был он соткан из великого множества головоломных загадок, так и останется загадочно‑таинственным. Но стремиться разгадать их будут всегда — представители каждого нового поколения читателей.
Вот им‑то и будет интересно прочесть эту книгу. Книгу, которая называется «ТАЙНА БУЛГАКОВСКОГО «МАСТЕРА…».
28 .09 .1999 . — 7 .01 .2006 .

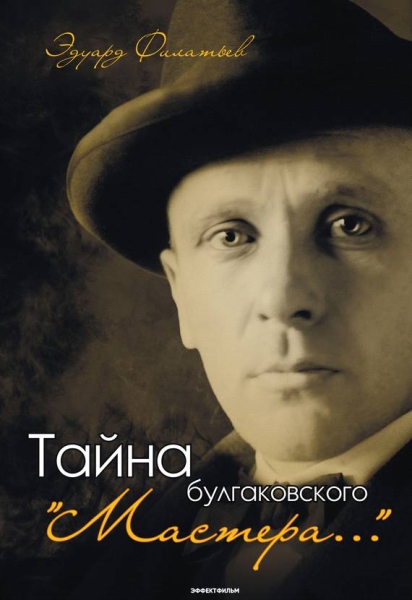
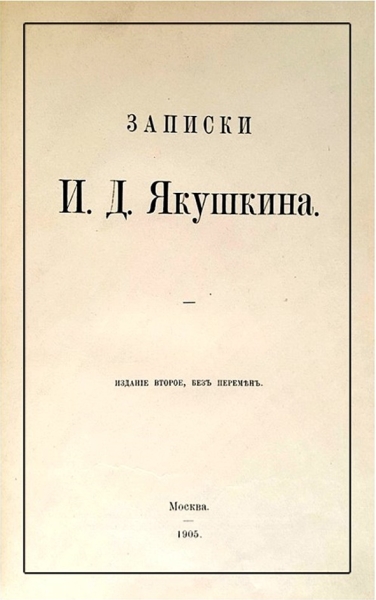
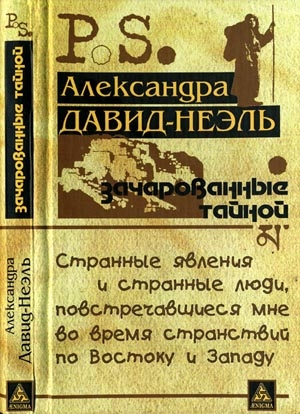

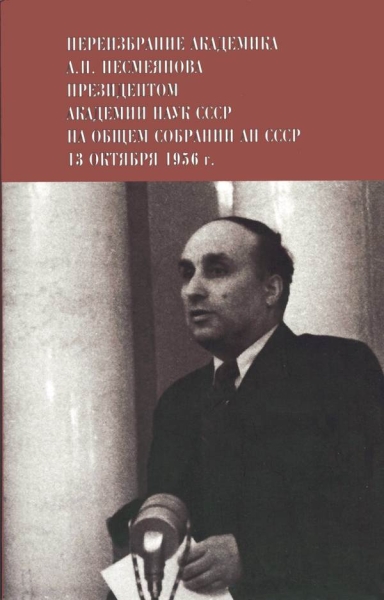


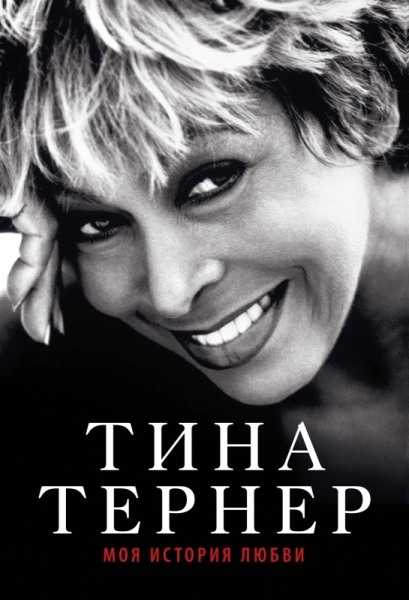
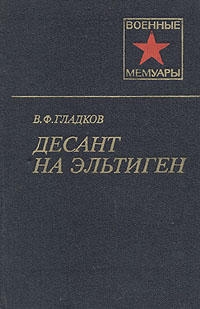

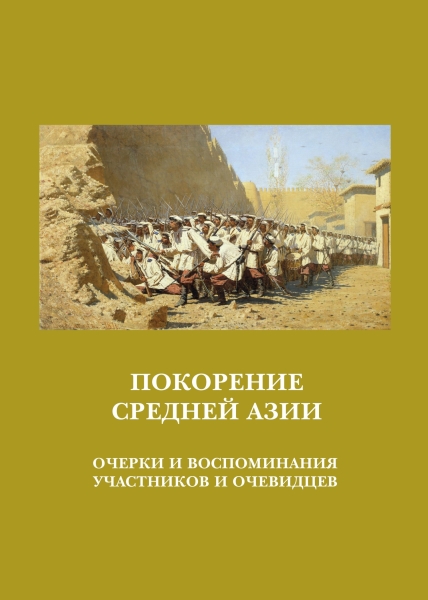

Комментарии к книге «Тайна булгаковского «Мастера…»», Эдуард Николаевич Филатьев
Всего 0 комментариев