А. ПУШКИН СТИХОТВОРЕНИЯ ПОЭМЫ СКАЗКИ
Гений национальной и всемирной литературы Лирика и поэмы Александра Пушкина
«Тебя, как первую любовь, России сердце не забудет!..» Немало сказано за полтора с лишним века замечательных слов о Пушкине-человеке и о Пушкине-поэте. Но так поэтически задушевно и так психологически точно, как Тютчев в этих строках, не сказал, пожалуй, никто. И вместе с тем выраженное в них языком поэзии полностью соответствует научной истине, подтверждено временем, строгим судом истории.
Первый русский национальный поэт, родоначальник всей последующей русской литературы, начало всех начал ее — таково признанное место и значение Пушкина в развитии отечественного искусства слова. Но к этому следует добавить еще одно и весьма существенное. Пушкин смог добиться всего этого потому, что впервые — на достигнутом им высочайшем эстетическом уровне — подымал свои творения на уровень «просвещения века» — европейской духовной жизни XIX столетия и тем самым полноправно вводил литературу русскую в качестве еще одной и значительнейшей национальносамобытной литературы в семью наиболее развитых к тому времени литератур мира.
Александр Сергеевич Пушкин родился 26 мая (6 июня по н. ст.) 1799 года в Москве. В семье его родителей — типичных представителей столичного дворянства того времени — интересовались литературой и театром. Сергей Львович, отец поэта, и сам писал стихи на французском языке. Дядя поэта, Василий Львович Пушкин, был довольно известным в свое время стихотворцем. В московской гостиной Пушкиных неоднократно бывали Карамзин и Дмитриев, а также наиболее талантливые представители литературной молодежи — Батюшков и Жуковский. Однако литературные интересы и занятия отца и даже дяди по существу носили дилетантский характер. Детей С. JI. Пушкин воспитывал на обычный тогда для дворянских кругов чужеземный лад: сдал на руки гувернеров-иностранцев.
Пушкин горько жаловался позднее на недостатки своего «проклятого» воспитания, отрывавшего его от родного языка, родного народа. Но, помимо французов-воспитателей, в детстве около него были и простые русские люди: крепостной дядька Никита Козлов, черты которого, несомненно, отразились в Савельиче из «Капитанской дочки», и мастерица меткой и яркой народной речи няня Арина Родионовна. О ее сказках и песнях, «затверженных от малых лет», в которых, по словам Пушкина, звучал голос родины, он вспоминал даже незадолго перед смертью (в набросках к стихотворению «Вновь я посетил…»). «Проклятое» воспитание давало себя знать: первые литературные опыты мальчика Пушкина были на французском языке.
Осенью 1811 года Пушкин начал учиться в только что созданном Царскосельском лицее. Вскоре грянула Отечественная война. И самого Пушкина и его друзей-лицеистов охватило величайшее патриотическое воодушевление. Отныне, как правило, он стал писать на русском языке, ощутил себя русским поэтом. В Лицее вскоре создалась весьма насыщенная литературно-творческая атмосфера: возникли литературные кружки, выпускались рукописные журналы. Пушкин скоро сделался душой литературного лицейского мирка. Уже в 1814 году в «Вестнике Европы» появляется стихотворение четырнадцатилетнего Пушкина — сатирическое послание «К другу стихотворцу». Несмотря на традиционность жанра, фразеологии, даже самого содержания этих стихов, в них отчетливо звучат начинающие уже в эту пору складываться литературные убеждения молодого поэта. Автор предъявляет к «хорошим стихам» требование общественной полезности и выражает твердую решимость посвятить себя литературе — стать писателем, хотя это и не сулит ему никакого житейского благополучия и преуспеяния. К самому началу следующего, 1815 года относится и первый громкий триумф Пушкина-поэта, связанный с произведением, в значительной своей части посвященным Отечественной войне 1812 года, — с «Воспоминаниями в Царском Селе».
Чтение «Воспоминаний» на лицейском экзамене явилось одним из самых волнующих эпизодов литературной биографии Пушкина, навсегда запечатлевшимся в его сознании и в значительной степени определившим его дальнейшую жизненную судьбу. Особое значение тому, что произошло, придало присутствие на экзамене крупнейшего русского поэта прошлой эпохи Державина. Прослушав пушкинские «Воспоминания в Царском Селе», Державин предугадал, что в смуглом и кудрявом отроке, с восторженным трепетом прочитавшем перед ним свои стихи, зреет его подлинный исторический преемник, растет, как он уверенно твердил, «второй Державин». Одобрение Державина произвело огромное впечатление и на окружающих, и на самого Пушкина. К этому времени в журналах уже было напечатано несколько его стихотворений, но только под «Воспоминаниями в Царском Селе» он поставил свою полную подпись: Александр Пушкин. «Воспоминания» были проникнуты горячим патриотическим чувством, отражавшим общее настроение передовых людей того времени. Но уже и в эту пору гордость великим историческим подвигом русского народа сочетается в поэте с гражданским негодованием к его угнетателям — с ненавистью к «рабству» («К Лицинию», 1815).
Школьные годы были временем и литературного ученичества Пушкина, поражавшего товарищей необыкновенной начитанностью, замечательной осведомленностью в самых разнообразных явлениях русской и в особенности французской литературы. В первых его стихотворениях сказываются различные воздействия; начинающий поэт как бы трогает то те, то другие струны-от иронии Вольтера до меланхолии Оссиана. Однако в выборе литературных учителей скоро начинают проявляться определенные влечения и вкусы. В ранние лицейские годы (1813–1814) он пишет в основном в духе и стиле Батюшкова. Стихи «Российского Парни», певца радости, неги и любви, как называет его мальчик Пушкин, пленяют его античной грацией, стройностью, изяществом поэтической формы и вместе с тем особой романтической мечтательностью, не заключавшей в себе ничего потустороннего, окрашенной в подчеркнуто «земные» тона. Все это вполне гармонировало с пушкинскими настроениями дней его «златой весны». Но под влиянием внешних впечатлений и внутреннего созревания поэта дни «беспечности», ничем не омрачаемой радости бытия быстро проходят. С 1815 года в поэзии Пушкина начинают нарастать «унылые», элегические ноты, столь характерные для раннего русского романтизма и получившие наиболее полное художественное выражение в лирике Жуковского. Следом за Жуковским на условном языке традиционных элегических образов и мотивов (неразделенная любовь, одиночество, безвременное увядание, ранняя могила) Пушкин начинает «выговаривать» свои первые «жалобы на жизнь», свои первые обиды и разочарования, свою неудовлетворенность окружающим. Но в то же время ему остается совершенно чужда мистическая окрашенность романтизма Жуковского, его фантастика в духе средних веков.
Прохождение школы Батюшкова — Жуковского, двух поэтов, у которых культура русского стиха достигла наивысшего для того времени совершенства, имело чрезвычайно важное значение и для развития художественного мастерства Пушкина. На двойной основе — стиха Батюшкова с его пластичностью, скульптурностью, «зримостью глазу» и стиха Жуковского с его музыкальностью, богатством мелодических оттенков, способных передавать тончайшие движения души и сердца, — синтетически вырабатывается тот качественно новый, небывалый по своей художественности пушкинский стих, первые образцы которого мы встречаем уже в некоторых лицейских произведениях поэта и который с таким несравненным блеском даст себя знать в его последующем творчестве.
Еще на лицейской скамье Пушкин стал активным участником той ожесточенной литературной борьбы, которая разгорелась между приверженцами старых и новых литературных течений — членами реакционного литературного общества «Беседа любителей русского слова» и кружка воинствующей литературной молодежи «Арзамас». Не имея возможности присутствовать на заседаниях «Арзамаса», Пушкин громил в своих стихах «друзей непросвещенья», поборников «тьмы», «угрюмых певцов» «Беседы». Эти стихи — колыбель Пушкина-полемиста, бойца, автора политических эпиграмм, сатирических посланий к цензору.
В поисках отечественных образцов Пушкин обращается к одной из самых прогрессивных традиций предшествовавшей ему литературы — к писателям так называемого «сатирического направления» XVIII века, произведения которых были наиболее связаны с жизнью, заключали в себе больше всего элементов народности и реализма: автору «Недоросля» — Фонвизину, «бесценному шутнику» — Крылову. Очень важно, что уже в эти годы Пушкин знакомится и с произведениями первого русского революционного писателя Радищева, многие суждения которого оказывают несомненное влияние на формирование литературных взглядов Пушкина-лицеиста.
Окончив в 1817 году Лицей и зачислившись на службу в Коллегию иностранных дел, Пушкин поселяется в Петербурге. Вырвавшись из шестилетнего лицейского «заточенья», поэт не только жадно предается «светским» развлечениям, но и активно включается в литературную и общественную жизнь столицы: посещает заседания «Арзамаса», вступает в дружеское объединение «Зеленая лампа» — литературный филиал ранней тайной политической организации «Союз благоденствия».
К этому времени в стране все более сгущалась правительственная реакция, и в то же время в передовых кругах дворянства усиливались оппозиционные настроения. Начали возникать тайные общества, подымалась первая волна назревающего движения дворянских революционеров — будущих декабристов. Ближайшие лицейские друзья Пушкина — И. И. Пущин, В. Д. Вольховский — сразу же по окончании Лицея вступили в первое тайное общество «Союз спасения». По авторитетному свидетельству Пущина, полностью разделял его политические взгляды и Пушкин.
Беспечно-веселые стихи Пушкина этой поры, славящие радости земного бытия, Вакха и Киприду, были не только проявлением избытка молодости, кипящих жизненных сил, но и своеобразной формой протеста против ханжества и мистицизма, которыми были охвачены круги высшего придворного общества во главе с Александром I и которые определяли антипросветительскую правительственную политику конца 10-х — первой половины 20-х годов. Юродствующему «большому свету» — «вельможам», «святым невеждам», «изношенным глупцам», «почетным подлецам» — Пушкин противопоставляет в своих стихах «тесный круг друзей» — «философов и шалунов», «счастливых беззаконников», «набожных поклонников Венеры»; «кривлянью придворной мистики» — «святую библию харит» — кощунственную в глазах святош и пользовавшуюся большой популярностью в декабристских кругах поэму Вольтера «Орлеанская девственница». Все чаще и настойчивее в его стихах в одном ряду со словами «Вакх», «Амур», «Венера» появляется и слово «свобода». Такое сочетание было реальной и характерной чертой времени — периода, когда на шумных сборищах дворянских «либералистов» тосты в «честь Вакха, Муз и красоты» и чтение стихов перемежались вольнолюбивыми разговорами, а подчас и смелыми революционными проектами. Примерно такой характер носили и заседания «Зеленой лампы» и «сходки» в домах у будущих декабристов, со многими из которых Пушкин в эту пору близко сошелся.
В тайное общество, о существовании которого Пушкин догадывался, он не был принят. По свидетельству Пущина, дружески, можно сказать, братски расположенного к поэту, «подвижность пылкого его нрава, сближение с людьми ненадежными» «пугали» членов тайного общества. Позднее Пущин иначе взглянул на все это. Упомянув о «ненормальном быте» Пушкина по выходе из Лицея, об его шумном рассеянно-светском существовании, он продолжает: «…видно, впрочем, что не могло и не должно было быть иначе; видно, нужна была и эта разработка, коловшая нам, слепым, глаза». Действительно, «светские» впечатления Пушкина послелицейского периода дали ему богатейший материал для изображения той шумной и пестрой сутолоки, той картины праздного и праздничного петербургского быта, которую так ярко нарисует он позднее в первой главе «Евгения Онегина» — типической картине «жизни светского молодого человека» того времени. Пушкин, по укоризненным словам Пущина, «кружился в большом свете», но он же и настойчиво рвался из этого круга. Задыхаясь в атмосфере придворного и светского ханжества, мракобесия, самодурства, низкопоклонства, лести, карьеризма, поэт страстно искал людей высокой гражданской настроенности-«с душою благородной, возвышенной и пламенно свободной». Таких людей поэт находил среди деятелей тайного общества, и тем больнее переживал недоверие, которое чувствовал с их стороны. «Он затруднял меня опросами и расспросами, — рассказывает Пущин, — от которых я, как умел, отделывался, успокаивая его тем, что он лично, без всякого воображаемого им общества, действует как нельзя лучше для благой цели». Выйдя из Лицея, Пушкин и в самом деле почти сразу же стал энергично и в высшей степени успешно действовать «для благой цели». Образцами передовой, высокоидейной литературы являются «вольные» стихи Пушкина, в которых он предстает в качестве поэта-трибуна, пламенного провозвестника идей назревающей дворянской революционности.
Позднее Пушкин ставил себе в особую заслугу, что он «вославил свободу» вслед за Радищевым. И действительно, в написанных в первые же послелицейские годы стихотворениях «Вольность» и «Деревня» он с небывалой дотоле художественной яркостью и силой снова подымает основные радищевские темы — резко ополчается против самодержавия и крепостничества. В программно-политическом отношении оба эти стихотворения умереннее радищевского «Путешествия из Петербурга в Москву» с имеющимися в нем призывами к всенародному восстанию против самодержавия, к расправе крестьян над помещиками. В первом из них, названном так же, как и революционная ода Радищева, «Вольность», Пушкин, осуждая и казнь народом французского короля Людовика XVI, и убийство дворянами-заговдрщиками Павла J, выступает за ограничение самодержавия «законом» — конституцией. Во втором — «Деревня» — выражает горячее желание увидеть зарю «просвещенной свободы» и «рабство, падшее по манию царя». Но силой ненависти к «самовластительным злодеям» на троне, гневным и негодующим гражданским чувством при виде угнетенного «диким барством» народа стихи Пушкина оказывали громадное революционизирующее воздействие.
В то же время в пушкинских «вольных» стихах с огромной эмоциональной силой проявились и обаятельные черты, присущие лучшим представителям революционной молодежи: восторженно-страстное горение, пламенный революционный патриотизм, горячая вера в торжество «святой вольности». В наиболее совершенной художественной форме Пушкин запечатлел эти черты в своем первом послании 1818 года «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы…»), человеку особенно близкому в то время поэту. Заключительные его строки исполнены такого чудесного молодого порыва, проникнуты таким благородным и высоким воодушевлением, что это стихотворение прозвучало как своего рода первое объяснение в любви Родине и Свободе.
В сатирических песенках — «ноэлях» — и в многочисленных эпиграммах этого времени Пушкин бичевал и конкретных носителей зла: от «кочующего деспота», надевавшего на себя «лицемерную» либеральную маску, «венчанного солдата» — Александра I и царского «друга и брата», «притеснителя» всей России — ненавистного Аракчеева до всякого рода царских «холопов при звезде», духовных и светских носителей реакции. Не меньшей популярностью пользовались и острополитические «крылатые словечки», которые Пушкин, по свидетельству современников, во «всеуслышание» произносил в театре и других публичных местах. Именно здесь-то, в этих беглых экспромтах и мгновенно — на лету — возникавших эпиграммах, с особой яркостью и силой сказывалась политическая настроенность Пушкина и в то же время с особенным блеском проявлялось его меткое и беспощадное остроумие — умение несколькими рифмованными строчками навеки пригвоздить противника к позорному столбу.
Отчетливо сказалась в «вольных» стихах Пушкина и его творческая эволюция. Ода «Вольность», в которой, отталкиваясь от анакреонтической «легкой поэзии», Пушкин взывает к музе высокой гражданской лирики — «грозе царей», «гордой певице» свободы, написана в стиле классицизма, но классицизма революционного, радищевского. «Деревня», начатая в духе сельской сентиментальной идиллии, своей второй, социально-обличительной частью начисто снимает карамзинскую идилличность и также обретает черты, подобные революционной «чувствительности» радищевского «Путешествия из Петербурга в Москву». Наконец, послание «К Чаадаеву» является ярчайшим образцом зарождающегося в последних стихотворных произведениях Радищева русского революционного романтизма. Вместе с тем эти три стихотворения, хотя и разные по своему стилю, непосредственно, хронологически и по существу, зачинают в русской литературе политическую поэзию декабристов. Именно этим и объясняется, что Пушкин первым из всех своих вольнолюбивых друзей и единомышленников подвергся преследованиям правительства. Сначала Александр I хотел отправить поэта, считавшего себя преемником Радищева, вслед Радищеву же в Сибирь; и лишь благодаря настойчивым усилиям и хлопотам высоко ценивших Пушкина Чаадаева, Жуковского, расположенного к нему Карамзина и других удалось заменить эту суровую кару более легкой — ссылкой на юг. По первоначальному проекту царя другим возможным местом ссылки Пушкина намечался Соловецкий монастырь. Это говорит о том, что наряду с политическим вольномыслием Пушкину вменялась в вину и антирелигиозная настроенность, о которой имеются свидетельства ряда современников. Боевым духом протеста против мракобесия и мистицизма проникнуто и первое завершенное эпическое произведение Пушкина — поэма «Руслан и Людмила», задуманная и начатая им еще в Лицее.
Ни над одним своим произведением, за исключением «Евгения Онегина», не работал он так долго и так упорно. Уже одно это показывает, какое большое значение он придавал своей поэме, явившейся первым, до конца осуществленным крупным его стихотворным произведением с широким эпическим содержанием. В поэме было немало традиционного. Сам Пушкин вспоминал в связи с ней Вольтера как автора «Орлеанской девственницы», в свою очередь, своеобразно использовавшего традицию рыцарской поэмы итальянского поэта эпохи позднего Возрождения Ариосто «Неистовый Роланд». Хорошо были известны Пушкину и опыты русской ирои-комической, шутливой и сказочно-богатырской поэмы последней трети XVIII — начала XIX века. Следы всего этого можно без особого труда обнаружить в «Руслане и Людмиле». Но это именно только следы. В целом же поэма Пушкина, использовавшего в порядке широкого художественного синтеза самые разнообразные опыты своих предшественников, — произведение, пусть еще во многом юношески незрелое, но глубоко новаторское.
«Руслан и Людмила» не является литературной переработкой какого-либо одного фольклорного источника. Широко используя в своей новой поэме еще с детства, со слов няни, запомнившиеся сказочные эпизоды, образы и мотивы, поэт свободно и непринужденно смешивает и перемежает их с прочитанным, с литературными реминисценциями. Но, несмотря на достаточно ограниченную в этом отношении романтическую «народность» пушкинской поэмы, уже в ней стал ощутим народный «русский дух», она «Русью пахнет».
В намеренно заимствованном из «Двенадцати спящих дев» Жуковского эпизоде «Руслана и Людмилы» (пребывание Ратмира в замке дев) Пушкин вступает в прямое единоборство с «певцом таинственных видений», «обличает» его в «прелестной лжи», пародийно переключая «небесное» в сугубо «земное». Но и независимо от этого сказочно-фантастическая романтика пушкинского произведения, условность которой не только сразу очевидна, но и неоднократно иронически подчеркивается поэтом, прямо противоположна религиозно-средневековой романтике Жуковского. Поэма жизнерадостна, оптимистична, полностью соответствует духу русских народных сказок с их торжествующими в конечном счете положительными героями, с их победой добра над злом.
«Реалистичность» изображения героев и романтический «историзм» «Руслана и Людмилы» еще так же относительны, как и «народность» поэмы. Но для русской литературы того времени даже и это являлось выдающимся художественным открытием. Взамен окутанной туманами, озаренной таинственным лунным сиянием балладной действительности Жуковского перед нами хотя и условно сказочный, но яркий, полный красок, движения мир, пестрый и разнообразный, как сама жизнь. С этим разнообразием содержания связано жанровое и стилистическое новаторство произведения. Наряду с эпическим в нем присутствовало и ярко выраженное лирическое начало — личность автора-рассказчика, который скреплял весь этот разнохарактерный материал в единое художественное целое.
Поэма написана в русле поэтического языка Батюшкова и Жуковского, развивавших традиции «нового слога» Карамзина, в основу которого было положено то, что Ломоносов называл «средним штилем». Это сближало литературный язык с разговорной речью, но и вносило в него существенные ограничения в духе салонно-дворянской карамзинской эстетики. В «Руслане и Людмиле» Пушкин не раз снимает эти ограничения, заимствуя, когда он считает это нужным, языковой материал из сферы «высокого штиля» и вместе с тем смело черпая слова, выражения, обороты из «низкого штиля», народного просторечия. Случаи эти не так уж многочисленны, но по той негодующей реакции, которую они вызвали со стороны не только «классиков», но и карамзинистов, видно, как велико было принципиальное их значение. «Стихотворный язык богов должен быть выше обыкновенного, простонародного», — заявлял в этой связи один из критиков. А другой прямо сравнивал грациозно-шутливую поэму Пушкина с мужиком «в армяке, в лаптях», втершимся в «Московское Благородное Собрание» и «закричавшим зычным голосом: здорово, ребята!». Прогрессивными литературными кругами поэма, наоборот, была восторженно принята. Пушкин утверждал ею романтический принцип творческой свободы писателя от всякого рода педантических теорий и «правил», литературных условностей, закостеневших традиций. В поэме, по словам Белинского, было заключено «предчувствие» «нового мира творчества»; этим она и открывала новый, пушкинский период в истории русской литературы.
20 марта 1820 года Пушкин читал у Жуковского заключительную песнь «Руслана и Людмилы»; а через неделю с небольшим петербургский генерал-губернатор Милорадович, по внушению Аракчеева, дает распоряжение полиции добыть текст оды «Вольность». Это было началом грозы, вскоре разразившейся над головой поэта: в начале мая Пушкин выехал в далекую южную ссылку, сначала в Екатеринослав, затем после четырехмесячной поездки с семьей генерала Раевского по Кавказу и Крыму к месту назначенной ему службы — в Кишинев.
Жизнь Пушкина резко изменилась. Поэт был вырван из привычного круга друзей и знакомых, из столичной обстановки. Вместо петербургских улиц перед ним были дикие и суровые горы Кавказа, бесконечные морские просторы, залитое ослепительным южным солнцем Крымское побережье. «Искателем новых впечатлении», «бежавшим» от столь прискучившего ему и презираемого им петербургского светского общества, ощущал себя поэт. Жадно, как и все передовые его современники, начинает он читать именно в эту пору произведения Байрона, что, естественно, усиливало романтическую настроенность Пушкина. Ярко сказалась она в первом же его лирическом стихотворении периода южной ссылки, которое он начал писать ночью на корабле, по пути из Феодосии в Гурзуф, — элегии «Погасло дневное светило…». Проникновенно-лирическое, сотканное из «волнений и тоски», горьких воспоминаний о «ранах сердца» и мечтательных порывов к новому, неведомому, стихотворение представляет собой один из замечательнейших образцов русской романтической лирики. Музыкальным рефреном его является образ волнующегося моря, в котором как бы объективируется мир души поэта-романтика и который будет сопровождать Пушкина в течение всего южного периода его творчества. Обращением к морю — «угрюмому океану» — он начинается, прощанием с морской «свободной стихией» заканчивается («К морю», 1824).
В том же августе 1820 года, когда была завершена Пушкиным элегия, принимается он за работу над своей первой южной поэмой «Кавказский пленник». В «Руслане и Людмиле» поэт уносился «на крыльях вымысла» в мир светлой сказки древних лет. Новая поэма обращена к реальной жизни, к современности. Сам Пушкин подчеркивал не только глубоко лирическую, субъективную окрашенность своей поэмы, но и прямую автобиографичность (в смысле общей «душевной» настроенности) образа ее «главного лица». Неудачу разработки характера героя он прямо склонен был объяснять тем, что действовал здесь субъективно-лирическим методом («списал» его с самого себя), подсказанным ему гремевшими в эту пору по всей Европе «восточными» поэмами Байрона. «Кавказский пленник», как и вскоре написанный «Бахчисарайский фонтан», по позднейшим словам самого Пушкина, «отзывается чтением Байрона, от которого, — добавляет поэт, — я с ума сходил». Но уже в «Кавказском пленнике» при несомненном сходстве с Байроном обнаруживаются и существенные от него отличия, которые в дальнейшем будут все углубляться и нарастать и придадут творчеству Пушкина не только совсем иной по отношению к великому английскому поэту, но во многом и прямо противоположный характер.
В лиро-эпических поэмах Байрона, как почти и во всем его творчестве, преобладающим являлось лирическое, глубоко личное, субъективное начало. В «Кавказском пленнике» наряду с лирическим началом — потребностью самовыражения — сказывается пристальное внимание поэта к окружающей действительности, зоркое в нее вглядывание, умение верно воспроизвести хотя бы некоторые ее черты. Об образе Пленника Пушкин замечал: «Я в нем хотел изобразить это равнодушие к жизни и к ее наслаждениям, эту преждевременную старость души, которые сделались отличительными чертами молодежи 19-го века». Замечание это показывает, что и в этот период своего творчества Пушкин уже ставит перед собой задачу художественного отражения объективной действительности, хочет дать в лице главного героя поэмы образ, типичный для современности, наделенный «отличительными чертами» своей эпохи.
Однако субъективно-романтический метод изображения «главного лица» вступал в противоречие с замыслом Пушкина — воспроизвести типический образ героя-современника. Это «был первый неудачный опыт характера, с которым я насилу сладил», писал поэт позднее о Пленнике. Но уже и этот еще «неудачный опыт» был замечательным художественным достижением Пушкина. В своем разочарованном герое-свободолюбце при всей субъективности и недостаточной художественной зрелости его образа поэту все же удалось уловить характерные особенности целой исторической эпохи.
«Исторической» является поэма Пушкина и по своей проблематике. Столкновение вольнолюбивого героя с общественной средой — глубоко не удовлетворяющим его, презираемым им «светом» — разрешается Пушкиным в соответствии с излюбленной сюжетной схемой романтиков: бегство из мира культуры в мир первобытной, «естественной» жизни. «Отступник света, друг природы», герой-одиночка, страстно ищущий «свободы», покидает «родной предел» и летит «в далекий край» — на дикий, первобытный Кавказ. Эта коллизия была в высшей степени характерна для начала 20-х годов XIX века — преддекабрьского периода русской общественной жизни.
Еще сильнее непосредственные впечатления от действительности сказываются во внефабульных частях поэмы — описаниях природы Кавказа и нравов горцев. Природа и быт Кавказа показаны в пушкинской поэме по преимуществу с романтической их стороны. И вместе с тем «местные краски» в «Кавказском пленнике» отличаются замечательной верностью действительности. «Не понимаю, каким образом мог я так верно… изобразить нравы и природу, виденные мною издали», — удивлялся позднее, при втором посещении Кавказа, сам поэт.
Литературно-общественное значение «Кавказского пленника» неизмеримо больше значения «Руслана и Людмилы». В своей первой южной поэме Пушкин дает образец вольнолюбивого романтического произведения лирико-повествовательного типа, открывая этим новую и важную страницу в духовной жизни русского общества — полосу «новейшего романтизма». Двадцатитрехлетний Пушкин становится во главе современной ему литературы, ведя ее теперь за собой. Вместо шутливо-сказочной романтики «Руслана и Людмилы» Пушкин обрел «Кавказским пленником» и для самого себя, и для всей русской литературы глубокий источник романтики в самой действительности. Всем этим объясняется неслыханная литературная популярность «Кавказского пленника», огромное количество вызванных им подражаний, наконец, самое утверждение жанра романтической поэмы в качестве основного, ведущего жанра русской литературы 20-х годов.
«Неудача» создания в «Кавказском пленнике» художественно-типического образа героя-современника приостановила на некоторое время дальнейшие попытки поэта написать повествовательное произведение на современном материале. Его новая поэма, «Бахчисарайский фонтан», тоже о прошлом; но если в «Руслане и Людмиле» старина в основном облечена в форму сказки, здесь она дается в форме воспроизведения хотя и легендарного, но все же рассказа о былом. Как и «Кавказский пленник», поэма тесно связана с непосредственными, на этот раз крымскими впечатлениями Пушкина. Романтичность сюжета, в основу которого положено местное предание об исключительной по страстности и силе, преображающей душу любви крымского хана к плененной им польской княжне, яркая живописность образов — разочарованного и мрачного Гирея, неистово-страстной Заремы, которой противопоставлен ангельски чистый облик Марии, глубокая эмоциональность тона, нарочито таинственная недоговоренность повествования — все это делает «Бахчисарайский фонтан» произведением, наиболее отвечающим поэтике «байронической» поэмы. Вместе с тем поэт делает здесь весьма плодотворную для его последующего творческого развития попытку не субъективно-лирического, как в образе Пленника, а более объективного, драматизированного изображения характеров. Этот первый опыт еще не вполне удался. Пушкин позднее сам иронизировал над «мелодраматичностью» образа Гирея; но он же отмечал, что «сцена Заремы с Марией имеет драматическое достоинство». Однако отсутствие и в этой поэме, как и в «Руслане и Людмиле», живой, непосредственной связи с современностью, видимо, не удовлетворяло поэта. Можно думать, что именно поэтому он считал ее «слабее» «Кавказского пленника».
Годы ссылки сыграли важную роль в идейно-творческом развитии поэта. Период расцвета пушкинского романтизма был и периодом его стремительного интеллектуального роста, временем упорного труда, раздумий, чтений, настойчивых стремлений «в просвещении стать с веком наравне».
На юге поэт был окружен деятелями гораздо более решительного и радикального Южного тайного общества; встречался с вождем его, Пестелем, общение с которым произвело на него очень сильное впечатление. По справедливым словам Вяземского, Пушкин хотя «и не принадлежал к заговору, который приятели таили от него, но он жил и раскалялся в этой жгучей и вулканической атмосфере». В этой атмосфере, еще сильнее накаляемой буржуазно-национальными революционными движениями начала 20-х годов в ряде европейских стран, мысль и чувство поэта все больше революционизируются.
Тема «вольнолюбивых надежд» — порывов к свободе, «святой вольности» — составляет одну из основных тем творчества Пушкина периода южной ссылки. Тема эта пронизывает собой южные поэмы. Снова и снова звучит она в пушкинской лирике (стихотворения «Кинжал» и «Наполеон», 1821; «Узник», 1822; «Птичка», 1823).
Однако политическая обстановка той поры не оправдывала романтических надежд Пушкина на победу «народов» над «королями». Политика Священного союза, созданного для подавления национально-освободительных и революционных движений, явно торжествовала: к 1823 году очаги народно-освободительных движений — революция в Неаполе, испанская революция, восстание греков под предводительством Ипсиланти — один за другим были растоптаны; в России свирепствовала аракчеевская реакция. «Смотря на запад Европы и вокруг себя», поэт вопреки своим первоначальным ожиданиям и надеждам всюду видел мрачную картину побежденных «народов» и торжествующих «королей».
По-прежнему страстно призывая революционную «грозу», которая разрушила бы «гибельный оплот» самодержавия и крепостничества, поэт все меньше верит в возможность близкой революционной бури. Настроения скептицизма и пессимизма этой поры нашли яркое выражение в стихотворении «Демон» — о льющем в душу «хладный яд» «злобном гении», который не верил ни любви, ни свободе, презирал вдохновение, звал прекрасное мечтой и на все взирал с язвительной насмешкой. Горькое разочарование, неверие в возможность торжества свободы звучат и в написанной тогда же «притче» о сеятеле («Свободы сеятель пустынный…»).
Поэт вначале склонен был видеть причину неудач и крушения революционных стремлений в пассивности, долготерпении и покорности самих «народов». Романтический культ героя-одиночки, «мужа судеб», противопоставляемого «покорным рабам», звучит в ряде стихотворений Пушкина этой поры. Однако действительность вносила существенные поправки в эти романтические иллюзии: «герои» при ближайшем рассмотрении оказывались вовсе не так героичны. Уже в стихотворении «Наполеон» (1821), написанном после получения известия о смерти Наполеона, Пушкин осознал глубоко эгоистическую природу наполеоновского героизма. Образ «могучего баловня побед» еще окружен романтическим ореолом, но в то же время герою-индивидуалисту Пушкин противопоставляет высокий патриотический подвиг русского народа, «сердца» которого не постигнул и не разгадал надменный завоеватель, народа, самоотверженно отстоявшего свою независимость и свою родную страну.
Неоднократно бывал Пушкин в эту пору свидетелем и активного протеста народа против угнетателей. Протест этот носил стихийный, бунтарский характер, но он наглядно показывал, что русское крестьянство вовсе не так уж смиренно и покорно подставляет себя под ярмо и бич. Со всем этим непосредственно связан и один из интереснейших замыслов Пушкина, относящихся к 1821–1822 годам, — создание большой поэмы о волжских разбойниках. По не вполне ясным для нас причинам Пушкин, согласно его собственным словам, уничтожил всю поэму, за исключением небольшого отрывка, опубликованного им позднее под названием «Братья разбойники».
«Братья разбойники» — первый, еще романтический опыт разработки Пушкиным темы народного, крестьянского протеста, которая займет такое значительное место в дальнейшем его творчестве. Но чем больше росли интерес и сочувственное внимание Пушкина к простому народу, к крестьянству, тем острее и болезненнее стал он ощущать резкую разобщенность между народом и передовой дворянской интеллигенцией. Перед поэтом все настойчивее встают в качестве основных, актуальнейших вопросов, связанных с «духом века» и настоятельно требующих своего разрешения, с одной стороны, проблема отношений между народом и представителями передового дворянства, с другой — проблема народных движений, роли народа в истории. Именно на основе этой проблематики создаются значительнейшие произведения творчества Пушкина 20-х годов: последняя его романтическая поэма «Цыганы», начатая в январе 1824 года на юге, в Одессе, и оконченная в Михайловском в конце того же года, и его величайшие реалистические создания — роман в стихах «Евгений Онегин» и историческая трагедия «Борис Годунов».
Сюжет и «главное лицо» поэмы «Цыганы» — как бы новая вариация «Кавказского пленника». Но психологический облик героя поэмы Алеко развит значительно больше и гораздо последовательнее. О свободолюбии Пленника упоминалось самым общим и неопределенным образом. В патетических репликах Алеко Земфире об этом говорится прямо. Тому, что в поэме именуется «оковами просвещенья», цивилизованной «рабской» жизнью, «неволей душных городов», людям, как стадо, скученным за «оградой», лишенным очарования природы, стыдящимся своих естественных чувств, торгующим своей свободой, противопоставляется вольная жизнь «дикого», кочевого племени.
Гораздо резче и рельефнее дан в «Цыганах» и второй член антитезы — то вольное существование, в условия которого Алеко попадает. Свободные от оседлой, устоявшейся жизни, от сковывающей собственности, земли, дома, от связанных со всем этим «законов», цыгане являют собой как бы предельное выражение искомой героем романтической «вольности». Но самое важное и существенное, что отличает «Цыган» от «Кавказского пленника», — совершенно иные отношения, в которые становятся «просвещенный», цивилизованный герой и «дикое», первобытное племя.
Алеко — незаурядный, резко выделяющийся из окружающей среды человек, обладающий многими положительными качествами — острокритическим умом, способностью к большим чувствам, сильной волей, смелостью, решительностью. Он глубоко не удовлетворен окружающим, искренне и страстно ненавидит рабский и торгашеский строй современного ему общества. Бунт его против общества — это бунт во имя вольности против рабства, во имя «естественности», «природы» — против общественных отношений, основанных на «деньгах и цепях» и сковывающих, порабощающих мысль и чувства человека. Алеко здесь — с лучшими людьми своего времени. Не случайно как вся поэма, так и образ самого Алеко породили такой живой и сочувственный отклик у Рылеева и других декабристов. Но рвущийся из «оков просвещенья», из «неволи городов», пламенный и решительный вольнолюбец, не признающий власти «судьбы», идущий ей наперекор, Алеко оказывается игралищем «страстей», их «послушным» рабом. По ходу поэмы раскрывается глубоко эгоистическая, «злая» природа этих страстей, порожденная тем самым собственническим строем, на который он так яростно ополчается. Со всей наглядностью это проявляется на отношениях Алеко к Земфире. Земфира — предельное выражение степной, цыганской свободы. Эту свободу она вносит и в свое чувство. Мгновенно и своенравно увлеклась она Алеко; два года была ему «подругой», но затем его любовь ей прискучила. Тут-то и пробуждаются злые «страсти» в душе Алеко, все те инстинкты, которые вскормлены его прошлым, его классом, общественной средой. Требующий для себя безграничной свободы, Алеко ни в какой мере не склонен уважать свободу других. Вольнолюбец становится насильником. Проповедник вольности оказывается беспредельным эгоистом, злым ревнивцем, собственником, рассматривающим, как неотъемлемо принадлежащую ему, неотчуждаемую вещь, жизнь и судьбу другого человека — женщины, свободно предававшейся ему, пока она его любила. Так вскрываются в поэме злобные, античеловечные «страсти» — сокровенная суть, изнанка души и характера героя, совершающего под влиянием их страшное преступление.
«Оставь нас, гордый человек!» — этот суровый финальный приговор старика цыгана относится не к одному лишь Алеко. «Гордый человек» — «байронический» герой вообще. Это тот представитель «молодежи 19-го века», тот «современный человек» — детище современного ему общества, развернутую характеристику которого Пушкин даст позже, в седьмой главе «Евгения Онегина».
Не меньшим, чем обрисовка и раскрытие характера «современного человека», замечательным достижением Пушкина является изображение народной среды — цыган. Характеры всех трех цыганских персонажей пушкинской поэмы строятся и развертываются на образах и мотивах народно-песенного творчества. Уже Радищев выдвинул положение о тесной связи между тоном и настроением народных песен и народной «душой» — национальным характером. Пушкин в «диком напеве» песни Земфиры ищет и обретает ключ, дающий ему возможность проникнуть в «душу» народа, в тайники национального характера. Наряду с почти одновременно писавшимися «Подражаниями Корану», «Цыганы» представляют собой первый замечательный образец пушкинского умения проникать в дух чужой национальности, которое с такой силой скажется в его последующем творчестве.
«Цыганы» — одно из первых русских произведений, влияние которых вышло за пределы отечественной литературы, — не только получили исключительно высокую оценку Проспера Мериме, который перевел их прозой на французский язык, но, несомненно, отозвались (образом Земфиры) в его прославленной новелле «Кармен». В отношении творческого развития самого Пушкина очень важно, что в «Цыганах» он начинает переходить от субъективно-лирического восприятия действительности к объективно драматическому ее воспроизведению. Не только по своей фабуле, по разработке характеров Алеко и Земфиры, но и по своему словесному воплощению поэма драматизирована. «Только с «Цыган» почувствовал я в себе призвание в драме», — свидетельствовал позднее сам Пушкин.
В период южной ссылки литературная слава Пушкина все растет. Каждое новое его произведение вызывает живейший отклик. Романтические поэмы создают ему исключительную популярность. По всей стране в бесчисленных списках ходят его запретные «вольные» стихи. Тем настороженнее и неприязненнее следят за поэтом царь Александр I и его окружение. Придравшись к нескольким строчкам перехваченного полицией частного письма Пушкина, в котором он высказывал атеистические взгляды, поэта перебрасывают в июле 1824 года с юга, из Одессы, в «далекий северный уезд», в имение его матери — вотчину Ганнибалов — село Михайловское.
Пушкин очень трудно пережил заточение в глухое деревенское захолустье. Однако именно в русской деревне, в тесном общении с простыми людьми, с няней Ариной Родионовной Пушкин так непосредственно, как никогда до этого, прикоснулся к той почве, которая является источником подлинного богатырства, — к родной земле, к простому народу. Именно это оказало самое благотворное влияние на всю духовную жизнь поэта, закалило и укрепило его душевные силы, в частности послужило одним из могучих стимулов к необыкновенно яркому проявлению его творческой энергии в формах развивающегося, все крепнущего и усиливающегося художественного реализма. «Чувствую, что духовные силы мои достигли полного развития, я могу творить», — писал Пушкин одному из друзей в июле 1825 года, в самый разгар своей работы над «Борисом Годуновым». Слова эти можно с полным основанием отнести и ко всему пушкинскому творчеству этих лет.
Михайловский период составляет новый и важнейший этап в идейно-художественном развитии поэта. По количеству, многообразию и вместе с тем художественной полноценности созданных произведений последние месяцы 1824 года и 1825 год превосходят решительно все, с чем мы сталкивались в предыдущие периоды, а из последующих уступают лишь знаменитой, ни с чем не сравнимой болдинской осени 1830 года. За весьма небольшое время — всего около шестнадцати месяцев — Пушкиным были завершены начатые на юге «Цыганы», писались очередные главы «Евгения Онегина», созданы «Борис Годунов», «Граф Нулин», «Сцена из Фауста»; наряду с этим написано множество стихотворений, в числе которых «Разговор книгопродавца с поэтом», цикл «Подражания Корану», «Андрей Шенье», «19 октября», «Жених». Уже из этого перечня видно, как широк и разнообразен был размах пушкинского творчества в этот период.
Необычайной зрелости и высоты достигает в это время пушкинская лирика. Некоторые друзья Пушкина, прямо связанные с деятельностью тайных организаций, даже склонны были считать широту диапазона пушкинской лирики ее недостатком. «Любовь ли петь, где брызжет кровь…» — не без укоризны писал поэту В. Ф. Раевский в стихотворном послании к нему из Тираспольской крепости, своеобразно — в революционном духе — продолжая гражданскую традицию ломоносовского «Разговора с Анакреоном» — предпочтения личным, интимным чувствам «пользы общества». По этому пути идет и сам Пушкин в «Андрее Шенье». Поскольку вопрос ставится здесь о необходимости в данных исторических условиях выбора между личным и гражданским, на него дается ответ в духе Ломоносова: в пушкинском стихотворении поэт-гражданин, певец «свободы» торжествует над самим собой, как «певцом любви, дубрав и мира» — поэтом-анакреонтиком.
Лирика михайловского периода во многом непосредственно примыкает к южной лирике. В прощальном обращении «К морю» поэт обещает не забывать «торжественной красы» морской «свободной» стихии. И действительно, гул «романтического» моря продолжает звучать во многих михайловских стихах Пушкина. Особенно ощутим он в страстных излияниях-монологах поэта из «Разговора книгопродавца с поэтом» (1824), во многом напоминающих эмоциональную атмосферу первых южных поэм и представляющих собой один из самых ярких образцов пушкинского романтизма. Но уже в этом стихотворении в лице двух его антагонистов — пламенного романтика-поэта и трезвого, рассудительного книгопродавца — дано прямое, в лоб столкновение мечты и действительности, поэзии и прозы, причем кончается оно тем, что поэт, хотя и не сдавая своих основных позиций, вынужден признать правоту собеседника.
Лирика Пушкина в эту пору подымается на качественно новую ступень не романтической, — окутанной «черной шалью», одетой в черкесские бурки или «яркие лохмотья» цыган, — а реальной русской народности. Одним из замечательных произведений в народном русском духе является написанное Пушкиным в михайловский период стихотворение «Жених» (1825). Стихотворение облечено в форму баллады, но Пушкин имел право придать ему обозначение: «простонародная сказка». Бытовая и психологическая атмосфера, образы отца, жениха, разбойника, свахи, наконец, язык пушкинской «простонародной сказки» — все это русское, народное. К тому же русскому народному миру принадлежит насквозь деревенский и насквозь песенный — не только по прямому включению в него народно-песенных мотивов, но и по своему общему тону и по ритмическому дыханию — «Зимний вечер» (1825). Вместе с нарастанием народности творчества Пушкина нарастает его реализм, происходит окончательное утверждение пушкинской «поэзии действительности».
В середине декабря 1825 года Пушкин пишет новую, но на этот раз уже никак не романтическую, а всецело и сугубо реалистическую, шутливо-сатирическую и пародийную поэму-повесть в стихах «Граф Нулин», в которой была развернута необыкновенно точная — «фламандская» — картина русской поместной действительности.
Мужлан-помещик, главным занятием которого является охота, его супруга, томящаяся в «глуши» от ничегонеделанья и скуки, бойкая горничная Параша — все они взяты из самой гущи барского быта того времени и с исключительной живостью перенесены поэтом в его стихи. Но тут же в основных персонажах — молодой помещице, получившей воспитание во французском «благородном пансионе у эмигрантки Фальбала», и в особенности в образе предельно пустого и ничтожного, легкомысленного и фатоватого графа Нулина — Пушкин беспощадно расправился с раболепством перед «иностранщиной», которое издавна укоренилось в кругах дворянства.
«Граф Нулин» был подготовлен всем ходом предшествовавшего развития поэта. В начале третьей главы «Евгения Онегина», набросанной почти за два года до этого в Одессе, Пушкин, задумываясь над дальнейшим ходом и характером своего творчества, предсказывал свое «обращение» от стихов «к смиренной прозе». Писать в прозе он стал позднее. Но в соответствии с «прозой» жизни, будничной бытописью, составляющей основное содержание «Графа Нулина», уже и в этой поэме он по существу начинает говорить «прозаическим» языком. С особенной силой этот язык «прозы» сказался в той выразительнейшей картинке, которую, отвлекшись от чтения нескончаемого «сентиментального романа» о чувствительной и чинной любви Армана и Элизы, Наталья Павловна наблюдает из окна своего барского дома. Схватка между козлом и собакой, мокрый петух, утки, которые полощутся в луже, баба, которая идет через грязный двор повесить на забор выстиранное ею белье, — нельзя резче подчеркнуть контраст между миром сентиментальных романов, в который по пансионской привычке погружена героиня, и окружающей ее реальной обстановкой. Не удивительно, что подобные «картины» вызвали крайнее возмущение на страницах того самого «Вестника Европы», в котором поэма «Руслан и Людмила» сравнивалась с мужиком в Благородном Собрании. Столь же резко выступивший в нем против пушкинского «Графа Нулина» критик Надеждин возмущался именно тем, что «природа» здесь изображена «во всей наготе своей». Однако в этом-то и заключалась величайшая новаторская «дерзость» поэмы Пушкина, которая находится на прямом пути к творчеству Гоголя — автора «Миргорода» и «Мертвых душ» и его последователей, писателей «натуральной школы».
Свою позднейшую заметку о «Графе Нулине» Пушкин заканчивал многозначительными словами: «Я имею привычку на моих бумагах выставлять год и число. «Граф Нулин» писан 13 и 14 декабря. Бывают странные сближения». Действительно, в тот самый день, когда Пушкин завершал свою стихотворную повесть, в Петербурге, на площади перед памятником Петра, происходило то, чего поэт так жадно ждал, о чем так страстно мечтал, — первое в России вооруженное выступление дворянских революционеров против «самовластья», против царизма. Недели через две после этого до Пушкина дошли глубоко потрясшие его известия о декабрьской катастрофе — разгроме новым царем, Николаем I, восстания декабристов. Затем последовали сообщения о многочисленных арестах, следствии и, наконец, о жестоком приговоре — к смертной казни, сибирской каторге.
Поэт долго не мог оправиться. О чем бы он ни писал, мысль о его «друзьях, братьях, товарищах», как он называл декабристов, неотступно владела им. «Великой скорбию томим», он создает один из драгоценнейших перлов своей поэзии — стихотворение «Пророк». Существует ряд авторитетных свидетельств, что первоначально стихотворение имело другую, резко политическую концовку, сохранившуюся в памяти нескольких современников и прямо направленную против царя — «губителя» декабристов.
После расправы над декабристами положение Пушкина внешне улучшилось. Следствие по делу декабристов, воочию показавшее исключительно большую агитационную роль пушкинских политических стихов, вместе с тем установило его непричастность к декабристским организациям. Николай I решил продемонстрировать свою «справедливость» и сделал «либеральный» жест. Осенью 1826 года он вызвал Пушкина из ссылки, весьма «милостиво» обошелся с ним, заверил, что намерен постепенно провести сверху ряд намечавшихся декабристами важных государственных реформ; в ответ на жалобы поэта на цензурные притеснения заявил, что сам будет его цензором. Пушкин поверил Николаю, как поверили и многие из допрашивавшихся им декабристов. На самом деле все это обернулось хитро рассчитанной ловушкой. Поэта, обладавшего огромной властью над сердцами и умами современников, спокойнее было держать подле себя, на короткой привязи с тем, чтобы попытаться, как это цинично советовал царю шеф жандармов Бенкендорф, соответствующим образом «направить его перо». Поскольку же это не удавалось, николаевская «свобода» оказалась хуже александровской неволи. Пушкин был отдан под явную опеку Бенкендорфа и тайный надзор полиции, следовавшей за ним по пятам, следившей за малейшим его движением, за каждым словом; против поэта возбуждалось одно следственное дело за другим. Личная цензура царя оказалась не облегчением, а новым и притом уже совершенно непреодолимым обременением: спорить с «высочайшим» цензором было так же немыслимо, как некому было апеллировать на его решения. К тому же это не всегда освобождало Пушкина и от обычной цензуры. «Ни один из русских писателей не притеснен более моего», — писал он незадолго перед смертью Бенкендорфу.
Крайне удручала Пушкина и сложившаяся в стране общественная атмосфера. Революционность декабристов была сломлена. Новое поколение дворянских революционеров — «детей декабристов», как называли себя позднее Герцен и Огарев, — еще не подросло. У поэта завязались было дружеские отношения с кружком московской литературной молодежи, душой которого был вольнолюбивый поэт-романтик Дмитрий Веневитинов. Кружок с 1827 года стал издавать при участии Пушкина журнал «Московский вестник». Однако поэт решительно не сочувствовал увлечению членов кружка идеалистической немецкой философией и стал отходить от журнала. Пушкина все сильнее охватывало чувство острого одиночества, тяжелой тоски. Это не могло не наложить резкого отпечатка на его творчество.
Новая общественно-политическая обстановка ставила перед передовыми современниками новые вопросы и задачи. В крушении восстания декабристов особенно трагически сказалась уже раньше горько ощущавшаяся Пушкиным разобщенность между революционной дворянской интеллигенцией и народом. «Невозможны уже были никакие иллюзии, — замечал Герцен, — народ остался безучастным зрителем 14 декабря. Каждый сознательный человек видел страшные последствия полного разрыва между Россией национальной и Россией европеизированной. Всякая живая связь между обоими лагерями была оборвана, ее надлежало восстановить, но каким образом? В этом-то и состоял великий вопрос». Восстановление связи с народом было тем необходимее, что идеологи реакции, стремясь привлечь народ на свою сторону, создали реакционную теорию так называемой «официальной народности», усиленно насаждавшуюся ими в литературе. Стремлением разрешить «великий вопрос», сочетавшимся с настойчивой борьбой против «официальной народности», и направлялась в основном литературная деятельность последекабрьского Пушкина.
Новая проблематика требовала новых средств для своего художественного выражения. Однако необходимо было время для их органического созревания. За всю вторую половину 20-х годов (от возвращения из ссылки до болдинской осени 1830 года) им было создано всего лишь одно крупное законченное произведение — поэма «Полтава». Основной художественной формой творчества Пушкина является в эту пору небольшое, преимущественно лирическое стихотворение. Уже сложившиеся к этому времени разнообразные виды богатой пушкинской лирики продолжали в эти годы свое дальнейшее развитие; наряду с этим ее тематический и жанровый диапазон еще более расширился. По-прежнему важнейшим разделом поэзии Пушкина являются гражданские, политические стихи («Стансы», послание в Сибирь — «Во глубине сибирских руд…», «Арион», «Друзьям», «Анчар»). Не менее видное место продолжает занимать в поэзии Пушкина личная, любовная лирика, окрашивающаяся во все более альтруистические тона. В то же время в лирике Пушкина начинают все сильнее звучать философские мотивы — раздумья о смысле и цели жизни, мысли о смерти. К стихам этого рода примыкает тесно связанный с новой, последекабрьской общественно-политической обстановкой и находящийся как бы на стыке между личной и гражданской лирикой цикл стихотворений о поэте и его назначении, об отношении между поэтом и обществом.
Все более одиноким начинает ощущать себя Пушкин и в своей литературной работе. Глубоко новаторское значение его творчества, которым он закладывал прочные основы одного из величайших явлений мирового художественного слова — русского реализма, — встречало все меньше понимания со стороны окружающих. После опубликования в 1829 году «Полтавы» и грубой статьи о ней Н. И. Надеждина восторженное отношение к поэту со стороны подавляющей части критики круто меняется. Отдельные сочувственные высказывания заглушаются резким и шумным осуждением большинства критиков не только из лагеря «классиков», но через некоторое время из лагеря «романтиков». В связи с выходом в свет в начале 1830 года очередной, седьмой главы «Евгения Онегина», являющейся одним из самых замечательных образцов пушкинской «поэзии действительности», Булгарин, который с благословения и поощрения Бенкендорфа начал прямую и гнусную травлю Пушкина, крикливо заявляет о «совершенном падении» его таланта.
Неисчерпаемый запас духовной мощи нужен был Пушкину, чтобы не свернуть с избранного им творческого пути. В концовке стихотворения «Чернь» (1828), впоследствии названного им «Поэт и толпа», отклонив призывы «черни» служить ей своим творчеством, он демонстративно заявлял, что поэты рождены «не для житейского волненья, не для корысти, не для битв», а «для вдохновенья, для звуков сладких и молитв». Позднее некоторые критики, в особенности Писарев, ошибочно считали эти стихотворения выражением антидемократических настроений Пушкина, его «аристократического» пренебрежения к потребностям и нуждам широких народных масс; а приверженцы реакционной теории так называемого «искусства для искусства» неправомерно пытались использовать их в своих целях, объявляя Пушкина своим идейным вождем и вдохновителем. Действительно, на этих стихах, в особенности на концовке «Черни», как и на перекликающемся с ней одном из последних стихотворений Пушкина — «Из Пиндемонти» (1836), сказываются прямо или косвенно тягостные переживания поэтом своего одиночества, непонимания современниками, лежит на них печать и некоторого общественного пессимизма. Но прежде всего и больше всего они были своеобразным ответом Пушкина на попытки царя и, в особенности, Бенкендорфа, поддерживаемые продажными журналистами, вроде Булгарина, «направить его перо» в правительственном духе, заставить его служить реакции.
В отличие от других поэтов-современников, замкнувшихся в эту пору в кругу узколичных переживаний, Пушкин преодолевал те пессимистические настроения, которые звучали в ряде его стихов второй половины 20-х годов. Минорная лирика уныния, безнадежности, отчаяния как бы снималась мажорными аккордами лирики общественно-политической. За «Зимней дорогой» поэтом слагаются «Стансы» («В надежде славы и добра…») и послание декабристам в Сибирь («Во глубине сибирских руд…»); за стихотворением «В степи мирской, печальной и безбрежной…» пишется «Арион»; за стихотворениями «Воспоминание» и «Дар напрасный, дар случайный…» создается поэма «Полтава». Отразив в пессимистических стихах не только свои личные переживания, но и тягчайший кризис всего своею поколения, то «всеобщее уныние», о котором свидетельствовал Герцен, — настроения после декабрьского «тупика», — Пушкин стремится в своих произведениях на общественно-политические темы найти из него выход.
И в этих произведениях не могли не отозваться те резкие изменения, которые произошли в общественно-политической обстановке страны после декабрьской катастрофы. Но лирика Пушкина никак не утрачивает своей вольнолюбивой сущности. В послании в Сибирь поэт стремится вдохнуть «бодрость и веселье» в сердца своих братьев, друзей, товарищей не только надеждой на то, что «темницы рухнут», но и утверждением великого исторического значения их дела: «Не пропадет ваш скорбный труд и дум высокое стремленье». В стихотворении «Арион», написанном в связи с первой годовщиной казни декабристов, Пушкин в форме прозрачной аллегории не только объявляет себя литературным соучастником — певцом — декабристов («Пловцам я пел»), но и подчеркивает свою верность общим с ними чаяниям и идеалам («Я гимны прежние пою»). Примерно через полтора года после «Ариона» создается одно из самых значительных и по существу своему глубоко гражданских стихотворений Пушкина «Анчар», в котором, как бы развивая слова Радищева о «зверообразном самовластии», «когда человек повелевает человеком», поэт с исключительной силой раскрывает бесчеловечный — обесчеловечивающий и раба и владыку — характер таких социальных отношений, которые основаны на рабстве и угнетении.
Прямое — и для того времени бесспорно прогрессивное — общественно-политическое значение имело настойчивое обращение Пушкина в эти годы к образу и теме Петра I. Именно этот образ возникает почти сразу же после возвращения поэта из ссылки в «Стансах» («В надежде славы и добра…»). Это было первое в новых условиях литературно-политическое выступление Пушкина, в котором дается своеобразный «наказ» новому царю и одновременно определена новая позиция поэта. Ввиду принципиальной важности этого произведения, неверно понятого многими современниками как измена Пушкина своим прежним убеждениям, следует остановиться на нем подробно.
Молодой Пушкин был воспитан на идеях философов-просветителей XVIII века, считавших, что преобразование общества может быть достигнуто в результате деятельности «просвещенного монарха», который, обладая громадными возможностями, вытекающими из его верховной власти, вполне способен такое преобразование осуществить. Именно в связи с этим особое внимание просветителей — и на Западе и у нас — привлекала к себе личность и деятельность царя-преобразователя Петра I, являвшегося как бы наглядным историческим подтверждением правильности и осуществимости их политической концепции. Просветительская концепция, мы видели, отразилась и в ранних «вольных» стихах Пушкина. Позднее, в период южной ссылки, Пушкин отошел от нее, делая ставку не на монархов, а на борющиеся с ними «народы». Но уже тогда, как было сказано, у него стали возникать сомнения в эффективности такого пути. Трагическая неудача освободительного движения декабристов утвердила его в этих сомнениях. В записке «О народном воспитании», которую в качестве своего рода экзамена на политическую благонадежность Николай I поручил написать Пушкину почти сразу же после возвращения его из ссылки (экзамена, который поэт не выдержал: записка совершенно не удовлетворила царя), он достаточно точно сформулировал свое понимание «трагедии» декабризма. Она заключалась, по его словам, в «ничтожности замыслов и средств», то есть в малочисленности участников движения, в отсутствии в нем народа, по сравнению с «необъятной силой правительства».
И мысль Пушкина снова обратилась к пути, указанному философами-просветителями. В облике Николая I, в манере его обращения с поэтом, в либеральных политических посулах Пушкину почудилось сходство с Петром I, как почудилось оно и некоторым декабристам. Направить «необъятную силу» царя в прогрессивном направлении, всячески укреплять его в намерении идти по пути обещанных им преобразований, подчеркивая «семейное сходство» с его «пращуром», ставя ему в пример личность и деятельность Петра, — в этом и заключается как пафос «Стансов», так и непосредственная побудительная причина возникновения у Пушкина петровской темы, которая становится одной из основных тем его последекабрьского творчества. В то же время стихотворение не заключало в себе ничего «верноподданнического». Дать понять, что начало николаевского царствования «мрачили» не только «мятежи», но и «казни», значило выразить гласное осуждение казни декабристов. Но Пушкин этим не ограничивается. Призыв к Николаю быть «незлобным памятью», заключающий собой «Стансы», был не менее смелым призывом «милости к падшим», то есть сосланным на каторгу декабристам, — мотив, который будет отныне все снова и снова звучать в различных произведениях Пушкина и который сам поэт в стихах о «памятнике нерукотворном» назовет в числе своих основных прав на благодарную память народа.
Надежда посредством своих призывов убедить Николая пойти путем преобразований была так же утопична, как и вообще пушкинские иллюзии в отношении нового царя. Но независимо от того «Стансы» были проникнуты безусловно прогрессивным духом. Недаром так высоко оценил их в своих знаменитых пушкинских статьях Белинский, причисляя к «перлам поэзии Пушкина».
Осуществлением замысла Пушкина создать большое историческое произведение из эпохи Петра явилась написанная в 1828 году поэма «Полтава».
В «Полтаве» Пушкин снова обратился к столь характерному для его до-декабрьского творчества жанру стихотворной поэмы. Однако новая поэма Пушкина принципиально и существенно отличалась от всего ранее им в этом роде созданного.
В «Полтаве» Пушкин дал произведение совершенно нового типа — реалистическую историческую поэму, синтетически вобравшую в себя элементы не только эпопеи и романтической поэмы, но и трагедии (сцены-диалоги между Мазепой и Марией, монологи Мазепы) и романа. Причем широкий синтез самых разнообразных жанров был осуществлен Пушкиным в значительной степени именно на основе романа, романтическая фабула беззаконной любви Марии и Мазепы дала возможность развернуть яркую картину данной исторической эпохи. В предисловии к первому изданию «Полтавы» и в последующих заметках о ней поэт настойчиво подчеркивает, что в своей поэме он стремился быть полностью верным истории. Так это и было на самом деле. В романической фабуле своей поэмы, хотя она и основана на реальных событиях, Пушкин, правда, допускает элементы художественного домысла и даже в отдельных случаях отступает от исторических фактов (например, замена имени героини, которая на самом деле звалась Матреной). Зато во всем остальном он полностью опирается на тщательно изученные им исторические источники и материалы, какими он только мог в ту пору располагать.
Однако гораздо значительнее этой фактической точности художественный историзм «Полтавы» — наличие в ней подлинно исторических, то есть обусловленных эпохой и ее в себе олицетворяющих, образов-характеров. В биографии Мазепы особенно потрясли Пушкина эпизоды обольщения стариком-гетманом своей крестницы и казни им ее отца. Они были восприняты поэтом как «разительная историческая черта», дававшая психологический ключ к пониманию характера самого Мазепы. «Сильные характеры и глубокая трагическая тень, набросанная на все эти ужасы, вот что увлекло меня», — писал он позднее. Этот трагический эпизод Пушкин и положил в основу своей поэмы, разработав его с исключительной силой и глубиной. Замечательным художественным достижением автора «Полтавы» является образ Марии с ее женским очарованием и «неженской душой» — один из самых чарующих образов женщин в пушкинском творчестве, особенно восхитивший Белинского. В своем роде не менее значителен и характер Мазепы, «развитый» Пушкиным во всей его мрачной и вместе с тем трагической глубине. Эпизод из личной жизни Мазепы — «губителя» отца Марии и ее самой — объясняет его политический облик. С этим органически связана и необычная структура поэмы, и не понятая большинством критиков, включая даже Белинского, и в самом деле исключительно своеобразная ее композиция. Романтическая фабула художественно закономерно сплетается, как это имело место и в историческом романе, с повествованием о важнейших исторических событиях эпохи, которыми автор по всему ходу поэмы как бы аккомпанирует рассказ о любви Марии и Мазепы и которые после трагического исхода этой любви начинают звучать во весь голос, образуют собой мажорный финал. Злодей в личной жизни, Мазепа выступает и как злодей политический. Обманщик и предатель своей возлюбленной в 3-й и последней песне поэмы — картине Полтавской битвы — предстает как обманщик и предатель своей страны, народа. В то же время исключительно яркое, динамическое описание Полтавской битвы отнюдь не является чужеродным эпопейным привеском к романтической поэме, а составляет важнейшую, органическую часть всего идейно-художественного замысла автора.
Победа под Полтавой была критическим, решающим моментом в истории всего петровского времени. От исхода борьбы с Карлом XII зависело существование России как великой державы. Тем недопустимее и преступнее была продиктованная личными, корыстно-эгоистическими целями измена Мазепы. И вот «честолюбцу, закоренелому в коварствах и злодеяниях», этому лжегерою, не любящему родины и готовому предать народ, контрастно противопоставляется Пушкиным в 3-й песне «Полтавы» фигура героя-полководца, царя-патриота Петра, за которым ощутимо стоит и вся мужающая, крепнущая, закаляющаяся, как булат под «тяжким млатом» суровых исторических испытаний, «Россия молодая».
Петр как исторический деятель и как личность — полная противоположность и Карлу и Мазепе. Карл — «воинственный бродяга», исторический авантюрист, который возмечтал по-своему повернуть ход исторических событий: разорвать на куски и подчинить себе созидающееся могучее, многонациональное российское государство. Изменник Мазепа в своих действиях движим только личными честолюбивыми замыслами, и он одинок: украинские народные массы его не поддержали, за ним пошла только небольшая кучка его приверженцев. Петр делает свое дело для народа вместе со всей «Россией молодой». Из душного и мрачного мира мелких интересов, эгоистических целей и узколичных страстей — «отвратительного» мира Мазепы, в котором, по словам самого Пушкина, нет «ничего утешительного», поэт выводит нас на просторы большого национально-исторического и народного подвига. В этом и смысл необычного построения поэмы Пушкина, с полной отчетливостью раскрывающийся в ее эпилоге. Все, что движимо узколичными, эгоистическими целями, хищническими и корыстными страстями, преходит, теряется без остатка. Только большими делами на благо родины и народа исторический деятель может создать себе вовеки нерушимый «огромный памятник» — вот что говорит поэт не только сюжетом, образами, но и самой композицией своей героико-патриотической поэмы, заключавшей в себе, подобно «Стансам» 1826 года, и новый урок Николаю I.
Высокий общественный пафос, патриотический дух, выбор поэтом в качестве предмета изображения события огромного национально-исторического значения в сочетании с глубоким историзмом — правильным освещением эпохи, исторического хода вещей (в частности, утверждением нерушимой связи русского и украинского народов), исторических характеров — во всем этом сказывается новое качество «Полтавы» по сравнению со всеми предшествовавшими ей поэмами как самого Пушкина, так и его предшественников и современников. В этом подлинная народность поэмы, органически проявляющаяся и в ее стиле. Больше того, в историческом оптимизме «Полтавы», воссоздавшей один из самых героических моментов русской истории, пронизанной патриотической верой в мощь и крепость становящейся русской нации, в силы народа, поэт обрел могучее противоядие тем настроениям отчаяния и тоски, тем пессимистическим мотивам, которые окрасили собой ряд его стихотворений 1826–1828 годов. Имела «Полтава» и важное общественное значение. Победно торжествующий тон поэмы, подчеркиваемый самим звучанием ее стиха — мажорного четырехстопного ямба, героического размера од Ломоносова, обогащенного всем несравненным стихотворным пушкинским мастерством, исполненного энергии и вместе с тем простоты, — все это в период тяжелой общественной депрессии вселяло бодрость в сердца, порождало уверенность в том, что силы нации не сломлены, что молодая Россия, отстоявшая на поле Полтавского боя свое право на существование, давшая достойный отпор внешнему врагу, сумеет перетерпеть и выпавшие на ее долю новые испытания, одолеет тяжкий гнет реакции и порабощения.
В «Полтаве» Пушкин творчески соприкоснулся с героическим прошлым русского народа. Вскоре по окончании поэмы поэт становится живым свидетелем его героического настоящего. В том же апреле 1828 года, когда Пушкин приступил к работе над «Полтавой», началась война России за освобождение греков от турецкого ига, вызвавшая горячее сочувствие в прогрессивных европейских кругах. Просьба поэта о включении его добровольцем в действующую армию была оскорбительно отклонена. Продолжавшееся недоверие власти к певцу декабристов вставало преградой и на пути его к личному счастью.
«Беспечный, влюбчивый», как он сам себя называл, Пушкин увлекался много и многими. Но неприкаянность, бесприютность его личной жизни по возвращении из ссылки все больше угнетали его. Он все чаще подумывал о доме, семье, любящей и любимой жене, детях. В том же 1828 году пошли толки о предстоящей женитьбе его на дочери видного вельможи, директора публичной библиотеки и президента Академии художеств А. Н. Оленина А. А. Олениной. Но женитьба расстроилась из-за политической неблагонадежности поэта. Вскоре в его сердце вспыхнуло новое большое чувство — к его будущей жене, юной московской красавице Натали Гончаровой. Но и тут на его предложение был дан уклончивый ответ. Тогда Пушкин, не спрашивая разрешения царя, отправился на Закавказский фронт.
Величественная и суровая природа Кавказа, героика ратной жизни, оживленное общение со многими сосланными в «теплую Сибирь» «братьями, друзьями, товарищами» поэта — декабристами — все это оказало на него самое благотворное действие, вызвало новый прилив творческой энергии. Им пишется вторая кавказская поэма «Тазит» — плод не только зрелого художника-реалиста, но и проницательного мыслителя-историка; создается цикл великолепных кавказских стихов, одно из самых проникновенных любовных стихотворений — «На холмах Грузии лежит ночная мгла…». В лирике поэта, жадно глотнувшего во время своего самовольного «путешествия в Арзрум» свободы, вновь со всей силой зазвучали жизнеутверждающие, мажорные звуки: стансы «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», где горькая дума о неминуемой смерти снимается благословением новой, «младой жизни», расцветающей у гробового входа отцов; блистательное, напоенное морозом и солнцем «Зимнее утро».
Но самым наглядным, самым убедительным ответом на непрекращавшиеся толки критиков о «совершенном падении» пушкинского таланта явилась воистину золотая болдинская осень 1830 года, когда был дописан «Онегин», созданы «Повести Белкина», «маленькие трагедии» и многое другое. Тогда же Пушкин пишет шуточную и полемическую повесть в стихах «Домик в Коломне», в которой демонстративно вводит в область поэзии жизнь петербургской окраины, бесхитростный и простой быт ее обитателей — городских мещанских низов. В этой поэме «вся Коломна и петербургская природа живая», восторгался Гоголь. И действительно, «Домик в Коломне» в творчестве самого Пушкина стоит на пути к «Медному всаднику», а в движении всей русской литературы — на прямом пути к «Петербургским повестям» Гоголя.
В последующие годы Пушкин создает целый ряд новых, выдающихся стихотворных произведений, таких, как сказки, как примыкающая к ним драма «Русалка», как «Песни западных славян», как некоторые небольшие стихотворения, принадлежащие к шедеврам его поэзии («Пора, мой друг, пора…», «Не дай мне бог сойти с ума…», «Вновь я посетил…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»).
Но поэзия Пушкина 30-х годов существенно отличается от поэзии предыдущего периода все более явственным ослаблением в ней «личной», лирической стихии, все более ощутимым выдвижением на первый план «объекта» — эпического начала, все большим усилением элементов «прозы».
Особое и исключительно важное место принадлежит здесь поэме «Медный всадник», которой Пушкин придал многозначительный подзаголовок: «Петербургская повесть». Действительно, «Медный всадник» представляет собой своеобразнейший синтез героической поэмы о величии и мощи царя-преобразователя и реалистического рассказа о скорбях и несчастьях «маленького человека» — бедного петербургского чиновника.
В «Медном всаднике» получает дальнейшее углубление и развитие столь интересовавший Пушкина образ Петра I. В 30-х годах, задумав написать «Историю Петра», он много работал над материалами по петровской эпохе, изучал не только всю историческую литературу о Петре, но и архивные документы. Петр все отчетливее представал теперь поэту в двойном аспекте — не только создателя новой российской государственности, полководца и крупнейшего государственного деятеля (Петр «Стансов», «Полтавы» и «Арапа Петра Великого»), но и «самовластного помещика», о котором Пушкин несколько позднее замечал, что некоторые его указы, «кажется, писаны кнутом». Это отразилось в том углубленном понимании сущности исторической деятельности Петра, которое дано в «Медном всаднике». Узколичным стремлениям бедного петербургского чиновника, Евгения, в поэме противопоставлены повелительные требования исторической и государственной необходимости, следуя которым Петр и заложил новую столицу — город «под морем». Но в то же время в поэме — гневный протест одного из простых людей, походя раздавленных «горделивым истуканом» — «грозным» и «ужасным» царем-самодержцем.
Евгений — «человек обыкновенный». Потомок впавшего в ничтожество древнего и славного рода, он в момент действия поэмы рядовой представитель столичного люда, петербургской разночинной бедноты, малая клеточка в общем государственном организме. Но Пушкин сталкивает в лоб это малое с самым сильным и властным, с «кумиром» русского самодержавия. В результате произведение Пушкина приобретает далеко идущий, почти символический смысл. «Медный всадник» предстает как поэма и о прошлом, и о настоящем, и о будущем России. Поэт понимает и славит всемирно-историческое значение дела Петра, «прорубившего окно в Европу», но самодержавная тирания ему глубоко враждебна. Борьба против этой тирании в данное время, считает Пушкин, безумна, безнадежна. Но эпизод «бунта» Евгения против Медного всадника на Сенатской площади, не заключающий в себе никакой прямолинейной аллегории, но влекущий за собой целую цепь конкретно-исторических ассоциаций, является прозрением в будущее. В поднятом кулаке Евгения, в его произнесенной сквозь стиснутые зубы угрозе Медному всаднику: «Ужо тебе!» — приговор русскому «самовластью», прорицание его неотвратимой грядущей судьбы, предвестие времени, когда уже не одиночка — «безумец бедный» Евгений, а масса, народ восторжествуют. Не случайно в своих творческих тетрадях этой поры Пушкин рисует фальконетовский памятник, но без всадника: говоря словами царя Бориса Басманову в пушкинском «Борисе Годунове», конь сбил седока.
Все это и обусловливает единственное в своем роде художественное своеобразие произведения Пушкина, в котором поэзия и проза, ода и новелла сплавлены в одно нерасторжимое целое, где «петербургская повесть» о судьбе бедного чиновника является в то же время грандиозной, исполненной глубокого философского и социально-исторического значения поэмой о судьбах всей России.
Как создание искусства слова «Медный всадник» — в том же вершинном ряду, что и такие величайшие творения Пушкина, как «Евгений Онегин», «Борис Годунов», маленькие трагедии, «Капитанская дочка»[1]
Стихотворения
К другу стихотворцу
Красавице, которая нюхала табак
К студентам
К Батюшкову
Воспоминания в Царском Селе
Городок (К ***)
Царское Село. Вид на Садовую улицу и Лицей.
Раскрашенная литография А. Е. Мартынова.
Начало 1820-х годов.
Государственный музей А. С. Пушкина. Москва.
Наполеон на Эльбе (1815)
К Пущину (4 мая)
Мое завещание друзьям
Воспоминание (К Пущину)
Моя эпитафия
Сраженный рыцарь
К Дельвигу (Ответ)
«Итак, я счастлив был, итак, я наслаждался…»
К бар. М. А. Дельвиг
Тень Фонвизина
Гроб Анакреона
Послание к Юдину
Усы Философическая ода
Царское Село. Каскады.
Раскрашенная литография А. Е. Мартынова.
Начало 1820-х годов.
Государственный музей А. С. Пушкина. Москва.
Сон (Отрывок)
Осеннее утро
Заздравный кубок
Амур и Гименей
Пробуждение
Любопытный
Надпись к беседке
К Каверину
В. Л. Пушкину
Князю А. М. Горчакову
«Простите, верные дубравы!..»
«Краев чужих неопытный любитель…»
Вольность Ода
Торжество Вакха
Кн. Голицыной, посылая ей оду «Вольность»
«Когда сожмешь ты снова руку…»
Выздоровление
Жуковскому
К портрету Жуковского
К Н. Я. Плюсковой
Сказки Noël
К Чаадаеву
На Карамзина
История стихотворца
М. Н. Раевская.
Рис. неизвестного художника. Акварель, карандаш.
Начало 1820-х годов.
Государственный музей А. С. Пушкина. Москва.
N. N (В. В. Энгельгардту)
К Щербинину
Недоконченная картина
Веселый пир
Всеволожскому
Стансы Толстому
Возрождение
Послание к кн. Горчакову
Добрый человек
Мадригал М….ой
«Мне бой знаком — люблю я звук мечей…»
«Увы! зачем она блистает…»
«Мне вас не жаль, года весны моей…»
«Погасло дневное светило…»
Дочери Карагеоргия
Черная шаль
«Редеет облаков летучая гряда…»
К портрету Чаадаева
К портрету Вяземского
На Аракчеева
«Как брань тебе не надоела?..»
Земля и море
«Я пережил свои желанья…»
Из письма к Гнедичу
В. Л. Давыдову
К моей чернильнице
«Кто видел край, где роскошью природы…»
«Умолкну скоро я!.. Но если в день печали…»
Е. К. Воронцова.
Гравюра К. Тернера с оригинала Д. Доу.
Государственный музей А. С. Пушкина. Москва.
«Мой друг, забыты мной следы минувших лет…»
«Гречанка верная! не плачь, — он пал героем…»
Десятая заповедь
«Хоть, впрочем, он поэт изрядный…»
Баратынскому Из Бессарабии
Песнь о вещем Олеге
«Люблю ваш сумрак неизвестный…»
Из письма к Я. Н. Толстому
Послание цензору
Иностранке
«Наперсница волшебной старины…»
Ф. Н. Глинке
Царское Село
«Кто, волны, вас остановил…»
«Завидую тебе, питомец моря смелый…»
«Надеждой сладостной младенчески дыша…»
«Простишь ли мне ревнивые мечты…»
«Свободы сеятель пустынный…»{281}
Изыде сеятель сеяти семена своя.
Кн. М. А. Голицыной
Телега жизни
«Недвижный страж дремал на царственном пороге…»
«Все кончено: меж нами связи нет…»
Прозерпина
Из письма к Вульфу
(Михайловское, 1824)
Разговор книгопродавца с поэтом
Книгопродавец
Книгопродавец
Книгопродавец
Книгопродавец
Книгопродавец
Книгопродавец
Коварность
«О дева-роза, я в оковах…»
«Туманский прав, когда так верно вас…»
Фонтану Бахчисарайского дворца
«Ночной зефир…»
«Ненастный день потух; ненастной ночи мгла…»
Подражания Корану[5] Посвящено П. А. Осиповой
«Ты вянешь и молчишь; печаль тебя снедает…»
«Пускай увенчанный любовью красоты…»
Второе послание к цензору
«Полу-милорд, полу-купец…»
«Не знаю где, но не у нас…»
«Охотник до журнальной драки…»
Сожженное письмо
Желание славы
П. А. Осиповой
«Храни меня, мой талисман…»
Андрей Шенье Посвящено H. Н. Раевскому
Ainsi, triste et captif, ma lyre toutefois
S’éveillait…[10]
«Если жизнь тебя обманет…»
Вакхическая песня
«Цветы последние милей…»
19 октября
«Всё в жертву памяти твоей…»
Зимний вечер
«Вертоград моей сестры…»
«В крови горит огонь желанья…»
С португальского
«О муза пламенной сатиры!..»
«Сказали раз царю, что наконец…»
Прозаик и поэт
Жив, жив курилка!
Ex ungue leonem [11]
Соловей и кукушка
«Воспитанный под барабаном…»
«От многоречия отрекшись добровольно…»
«Нет ни в чем вам благодати…»
«Под небом голубым страны своей родной…»
К Вяземскому
Песни о Стеньке Разине
«Как счастлив я, когда могу покинуть…»
«Каков я прежде был, таков и ныне я…»
Tel j’étais autrefois et tel je suis encor.{384}
И. И. Пущину
Ответ Ф. Т***
Зимняя дорога
Мордвинову
Золото и булат
«Во глубине сибирских руд…»
Соловей и роза
«Есть роза дивная: она…»
Ек. Н. Ушаковой
Княгине З. А. Волконской
«В степи мирской, печальной и безбрежной…»
Сельцо Михайловское.
Литография П. А. Александрова по рисунку И. С. Иванова. 1837 г.
Государственный музей А. С. Пушкина. Москва.
«Какая ночь! Мороз трескучий…»
Кипренскому
«Близ мест, где царствует Венеция златая…»
«Всем красны боярские конюшни…»
Послание Дельвигу
Я бы никак не осмелился оставить рифмы в эту поэтическую минуту, если бы твой прадед, коего гроб попался под руку студента, вздумал за себя вступиться, ухватя его за ворот, или погрозив ему костяным кулаком, или как-нибудь иначе оказав свое неудовольствие; к несчастию, похищенье совершилось благополучно. Студент по частям разобрал всего барона и набил карманы костями его. Возвратясь домой, он очень искусно связал их проволокою и таким образом составил себе скелет очень порядочный. Но вскоре молва о перенесении бароновых костей из погреба в трактирный чулан разнеслася по городу. Преступный кистер лишился места, а студент принужден был бежать из Риги, и как обстоятельства не позволяли ему брать с собою будущего{415}, то, разобрав опять барона, раздарил он его своим друзьям. Большая часть высокородных костей досталась аптекарю. Мой приятель Вульф получил в подарок череп и держал в нем табак. Он рассказал мне его историю и, зная, сколько я тебя люблю, уступил мне череп одного из тех, которым обязан я твоим существованием.
«Блажен в златом кругу вельмож…»
19 октября 1827
Эпиграмма (Из антологии)
«Кто знает край, где небо блещет…»
Kennst du das Land…
Wilh. Meist.[12]
По клюкву, по клюкву,
По ягоду, по клюкву…
То Dawe, Esqr [13]
Воспоминание
«Дар напрасный, дар случайный…»
«Еще дуют холодные ветры…»
«Кобылица молодая…»
«Не пой, красавица, при мне…»
«Счастлив, кто избран своенравно…»
Предчувствие
Утопленник
«Рифма, звучная подруга…»
«Ворон к ворону летит…»
«Город пышный, город бедный…»
19 октября 1828
«В прохладе сладостной фонтанов…»
Анчар [14]
Ответ Катенину
Ответ А. И. Готовцовой
Поэт и толпа
Procul este, profani [15].
E. Н. Ушаковой
«Подъезжая под Ижоры…»
Эпитафия младенцу
«На холмах Грузии лежит ночная мгла…»
Из Гафиза (Лагерь при Евфрате)
Олегов щит
«Зорю бьют… из рук моих…»
«Был и я среди донцов…»
А. Г. Муравьева.
Рис. П. Ф. Соколова. Акварель. Копия. 1826 г.
Государственный музей А. С. Пушкина. Москва.
«Зима. Что делать нам в деревне? Я встречаю…»
Зимнее утро
«Я вас любил: любовь еще, быть может…»
«Поедем, я готов; куда бы вы, друзья…»
«Брожу ли я вдоль улиц шумных…»
Монастырь на Казбеке
«Когда твои младые лета…»
К бюсту завоевателя
«Поэт-игрок, о Беверлей-Гораций…»
«Как сатирой безымянной…»
Сапожник (Притча)
Собрание насекомых
Какие крохотны коровки!
Есть, право, менее булавочной головки.
«Что в имени тебе моем?..»
«В часы забав иль праздной скуки…»
Scorn not the sonnet, critic.
К вельможе
«Когда в объятия мои…»
Ответ анониму
Царскосельская статуя
«Глухой глухого звал к суду судьи глухого…»
Дорожные жалобы
Паж, или Пятнадцатый год
C’est l’âge de Chérubin..[18] {531}.
«Румяный критик мой, насмешник толстопузый…»
«Я здесь, Инезилья…»
Заклинание
Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы
Что есть истина?{539}
29 сентября 1830
«В начале жизни школу помню я…»
На перевод Илиады
Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи;
Старца великого тень чую смущенной душой.
«Для берегов отчизны дальной…»
Из Barry Cornwall
Here’s a health to thee, Mary[20].{549}
«Пред испанкой благородной…»
Моя родословная
Post scriptum
«Перед гробницею святой…»
Клеветникам России
Бородинская годовщина
«Чем чаще празднует лицей…»
«Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем…»
«И дале мы пошли — и страх обнял меня…»
Мальчику (Из Катулла)
Minister vetuli, puer[21].
В альбом А. О. Смирновой
В альбом к ж. А. Д. Абамелек
(Из Ксенофана Колофонского)
«Бог веселый винограда…»
«Юноша, скромно пируй, и шумную Вакхову влагу…»
Вино (Ион Хиосский)
«В поле чистом серебрится…»
«Сват Иван, как пить мы станем…»
Будрыс и его сыновья
«Когда б не смутное влеченье…»
«Колокольчики звенят…»
Осень (Отрывок)
Чего в мой дремлющий тогда не входит ум?
«Не дай мне бог сойти с ума…»
«Я возмужал среди печальных бурь…»
«Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…»
«Он между нами жил…»
Песни западных славян
Предисловие
Большая часть этих песен взята мною из книги, вышедшей в Париже в конце 1827 года, под названием La Guzla, ou choix de Poésies Illyriques, recueillies dans la Dalmatie, a Bosnie, la Croatie et l’Herzégowine[22]. Неизвестный издатель говорил в своем предисловии, что, собирая некогда безыскусственные песни полудикого племени, он не думал их обнародовать, но что потом, заметив распространяющийся вкус к произведениям иностранным, особенно к тем, которые в своих формах удаляются от классических образцов, вспомнил он о собрании своем и, по совету друзей, перевел некоторые из сих поэм и проч. Сей неизвестный собиратель был не кто иной, как Мериме, острый и оригинальный писатель, автор Театра Клары Газюлъ, Хроники времен Карла IX, Двойной Ошибки и других произведений, чрезвычайно замечательных в глубоком и жалком упадке нынешней французской литературы. Поэт Мицкевич, критик зоркий и тонкий и знаток в славенской поэзии, не усумнился в подлинности сих песен, а какой-то ученый немец написал о них пространную диссертацию.
Мне очень хотелось знать, на чем основано изобретение странных сих песен: С. А. Соболевский, по моей просьбе, писал о том к Мериме, с которым был он коротко знаком, и в ответ получил следующее письмо:
Paris у 18 janvier 1835.
Je croyais, Monsieur, que la Guzla n’avait eu que sept lecteurs, vous, moi et le prote compris; je vois avec bien du plaisir que j’en puis compter deux de plus ce qui forme un joli total de neuf et confirme le proverbe que nul n’est prophète en son pays. Je répondrai candidement à vos questions. La Guzla a été composée par moi pour deux motifs, dont le premier était de me moquer de la couleur locale dans laquelle nous nous jetions à plein collier vers l’an de grâce 1827. Pour vous rendre compte de l’autre motif je suis obligé de vous conter une histoire. En cette même année 1827, un de mes amis et moi nous avions formé le projet de faire un voyage en Italie. Nous étions devant une carte traçant au crayon notre itinéraire; arrivés à Venise, sur la carte s’entend, et ennuyés des Anglais et des Allemands que nous rencontrions, je proposai d’aller à Trieste puis de là à Raguse. La proposition fut adoptée, mais nous étions fort légers d’argent et cette «douleur nonpareille» comme dit Rabelais nous arrêtait au milieu de nos plans. Je proposai alors d’écrire d’avance notre voyage, de le vendre à un libraire et d’emloyer le prix à voir si nous nous étions beaucoup trompés. Je demandai pour ma part à colliger les poésies populaires et à les traduire, on me mit au défi, et le lendemain j’apportai à mon compagnon de voyage cinq ou six de ces traductions. Je passais l’automne à la campagne. On déjeunait à midi et je me levais à dix heures, quand j’avais fumé un ou deux cigares ne sachant que faire, avant que les femmes ne paraissent au salon, j’écrivais une ballade. Il en résulta un petit volume que je publiai en grand secret et qui mystifia deux ou trois personnes. Voici les sources où j’ai puisé cette couleur locale tant vantée: d’abord une petite brochure d’un consul de France à Banialouka. J’en ai oublié le titre, l’analyse en serait facile. L’auteur cherche à prouver que les Bosniaques sont de fiers cochons, et il en donne d’assez bonnes raisons. Il cite par-ci par-là quelques mots illyriques pour faire parade de son savoir (il en savait peut-être autant que moi). J’ai recueilli ces mots avec soin et les ai mis dans mes notes. Puis j’avais lu le chapitre intitulé: De’costumi dei Morlachi dans le voyage en Dalmatie de Fortis. Il a donné le texte et la traduction de la complainte de la femme de Hassan Aga qui est réellement illyrique; mais cette traduction était en vers. Je me donnai une peine infinie pour avoir une traduction littérale en comparant les mots du texte qui étaient répétés avec l’interprétation de l’abbé Fortis. A force de patience, j’obtins un mot à mot, mais j’étais embarrassé encore sur quelques points. Je m’adressai à un de mes amis qui sait le russe. Je lui lisais le texte en le prononçant à l’italienne, et il le comprit presque entièrement. Le bon fut, que Nodier qui avait déterré Fortis et la ballade de Hassan Aga, et l’avait traduite sur la traduction poétique de l’abbé en la poétisant encore dans sa prose, Nodier cria comme un aigle que je l’avais pillé. Le premier vers illyrique est:
Scto se bieli u gorje zelenoï
Fortis a traduit:
Che mai biancheggia nel verde Bosco
Nodier a traduit bosco par plaine verdoyante; c’était mal tomber, car on me dit que gorje veut dire colline. Voilà mon histoire. Faites mes excuses à M. Pouchkine. Je suis fier et honteux à la fois de l’avoir attrapé, и проч.
<П e p e в о д:
Париж, 18 января 1835.
Я думал, милостивый государь, что у Гузлы было только семь читателей, в том числе вы, я и корректор: с большим удовольствием узнаю, что могу причислить к ним еще двух, что составляет в итоге приличное число девять и подтверждает поговорку — никто не пророк в своем отечестве. Буду отвечать на ваши вопросы чистосердечно. Гузлу я написал по двум мотивам, — во-первых, я хотел посмеяться над «местным колоритом», в который мы слепо ударились в лето от рождества Христова 1827. Для объяснения второго мотива мне необходимо рассказать вам следующую историю. В том же 1827 году мы с одним из моих друзей задумали путешествие по Италии. Мы набрасывали карандашом по карте наш маршрут. Так мы прибыли в Венецию — разумеется, на карте, — где нам надоели встречавшиеся англичане и немцы, и я предложил отправиться в Триест, а оттуда в Рагузу. Предложение было принято, но кошельки наши были почти пусты, и эта «несравненная скорбь», как говорил Рабле, остановила нас на полдороге. Тогда я предложил сначала описать наше путешествие, продать книгопродавцу и вырученные деньги употребить на то, чтобы проверить, во многом ли мы ошиблись. На себя я взял собирание народных песен и перевод их: мне было выражено недоверие, но на другой же день я доставил моему товарищу по путешествию пять или шесть переводов. Осень я провел в деревне. Завтрак у нас был в полдень, я же вставал в десять часов; выкурив одну или две сигары и не зная, что делать до прихода дам в гостиную, я писал балладу. Из них составился томик, который я издал под большим секретом, и мистифицировал им двух или трех лиц. Вот мои источники, откуда я почерпнул этот столь превознесенный «местный колорит»: во-первых, небольшая брошюра одного французского консула в Банялуке. Ее заглавие я позабыл, но дать о ней понятие нетрудно. Автор старается доказать, что босняки — настоящие свиньи, и приводит этому довольно убедительные доводы. Местами он употребляет иллирийские слова, чтобы выставить напоказ свои знания (на самом деле, быть может, он знал не больше моего). Я старательно собрал все эти слова и поместил их в примечания. Затем я прочел главу: De’costumi dei Morlachi[23] из «Путешествия по Далмации» Фортиса. Там я нашел текст и перевод чисто иллирийской заплачки жены Ассана-Аги; но песня эта переведена стихами. Мне стоило большого труда получить построчный перевод, для чего приходилось сопоставлять повторяющиеся слова самого подлинника, с переложением аббата Фортиса. При некотором терпении я получил дословный перевод, но относительно некоторых мест все еще затруднялся. Я обратился к одному из моих друзей, знающему по-русски, прочел ему подлинник, выговаривая его на итальянский манер, и он почти вполне понял его. Замечательно, что Нодье, откопавший Фортиса и балладу Ассана-Аги и переведший со стихотворного перевода аббата, еще более опоэтизировав его в своей прозе, — прокричал на всех перекрестках, что я обокрал его. Вот первый стих в иллирийском тексте: «Scto se bieli u gorje zelenoï»[24]. Фортис перевел: «Che mai biancheggia nel verde Bosco»[25]. Нодье перевел Bosco — зеленеющая равнина; он промахнулся, потому что, как мне объяснили, gorje означает: гора. Вот и вся история. Передайте г. Пушкину мои извинения. Я горжусь и стыжусь вместе с тем, что и он попался, и пр. >
А. А. Оленина.
Рис. В. И. Гау. Акварель, белила,1839 г.
Государственный музей А. С. Пушкина. Москва.
1. Видение короля{606}
2. Янко Марнавич
3. Битва у Зеницы-Великой{614}
4. Феодор и Елена
5. Влах в Венеции
{620} {621}
6. Гайдук Хризич
7. Похоронная песня Иакинфа Маглановича{626}
8. Марко Якубович
9. Бонапарт и черногорцы
10. Соловей
11. Песня о Георгии Черном
12. Воевода Милош
13. Вурдалак
14. Сестра и братья{630}
15. Яныш королевич{631}
(Из Анакреона) Отрывок
Ода LVI (Из Анакреона)
«Юношу, горько рыдая, ревнивая дева бранила…»
Полководец
Из А. Шенье
«Кто из богов мне возвратил…»
H. H. Пушкина.
Рис. A. П. Брюллова. Акварель. Копия.1831 г.
Государственный музей А. С. Пушкина. Москва.
«… Вновь я посетил…»
«Я думал, сердце позабыло…»
На выздоровление Лукулла Подражание латинскому
Пир Петра Первого
Подражание арабскому
Д. В. Давыдову
Мирская власть
(Подражание италиянскому)
(Из Пиндемонти)
«Альфонс садится на коня…»
«Отцы пустынники и жены непорочны…»
«Когда за городом, задумчив, я брожу…»
«Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»
Exegi monumentum [27]{654}
«Была пора: наш праздник молодой…»
На статую играющего в свайку
На статую играющего в бабки
«От меня вечор Леила…»
Руслан и Людмила
Посвящение
Песнь первая
Μ. Η. Волконская.
Рис. Н. Бестужева. Акварель.
Петровский завод. 1837 г.
Исторический музей. Москва.
Песнь вторая
Песнь третия
Песнь четвертая
И. А. Крылов, А. С. Пушкин, В. А. Жуковский, Н. И. Гнедич.
Эскиз к картине «Парад на Марсовом поле».
Рис. Г. Г. Чернецова. Масло. Копия.
Государственный музей А. С. Пушкина. Москва.
Песнь пятая
Песнь шестая
Кавказский пленник Повесть
Посвящение
Н. Н. Раевскому
Часть первая
«Руслан и Людмила».
Гравюра М. Иванова с оригинала И. Иванова (по композиции А. Оленина).
Фронтиспис из 1-го издания поэмы 1820 г.
Часть вторая
Черкесская песня
Гавриилиада
<1821>
Братья разбойники
<1822>
«Кавказский пленник».
Гравюра С. Галактионова с оригинала И. Иванова.
Илл. из альманаха «Полярная звезда на 1824 год».
Бахчисарайский фонтан
Многие, так же как и я,
посещали сей фонтан; но
иных уже нет, другие
странствуют далече.
Татарская песня
Уходит и поет: Старый муж и проч.
Молодой цыган
Вонзает в него нож.
Поражает ее.
«Братья разбойники».
Гравюра С. Галактионова.
Илл. из альманаха «Полярная звезда на 1825 год».
Граф Нулин
The power and glory of the war,
Faithless as their vain votaries, men,
Had pass’d to triumphant Czar.
Посвящение
Песнь первая
Песнь вторая
Дочь (в ужасе)
«Бахчисарайский фонтан».
Гравюра С. Галактионова.
Илл. из «Невского альманаха на 1827 год».
Песнь третия
Домик в Коломне
«Домик в Коломне».
Гравюра И. В. Ческого с оригинала А. П. Брюллова.
Илл. из альманаха «Новоселье», ч. II, 1834 г.
Часть первая
Часть вторая
Часть третия
Медный всадник Петербургская повесть
Предисловие
Происшествие, описанное в сей повести, основано на истине. Подробности наводнения заимствованы из тогдашних журналов. Любопытные могут справиться с известием, составленным В. Н. Берхом{761}.
Часть первая
Часть вторая
Наводнение в Петербурге в 1824 году.
Гравюра неизвестного художника.
1820-е годы.
Государственный музей А. С. Пушкина. Москва.
Сказка о попе и о работнике его Балде
Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди
Сказка о рыбаке и рыбке
Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях
Сказка о золотом петушке
Алфавитный указатель произведений
Адели — 182.
Аквилон — 212.
Алексееву («Мой милый, как несправедливы…») — 169.
«Альфонс садится на коня…» — 394.
Амур и Гименей — 105.
Ангел — 256.
Анджело. Поэма — 611.
Андрей Шенье («Меж тем, как изумленный мир…») — 219.
Анчар — 280.
Арион — 255.
Баратынскому. Из Бессарабии («Сия пустынная страна…») — 171.
Батюшкову («В пещерах Геликона…») — 62.
Бахчисарайский фонтан. Поэма — 511.
Безверие — 109.
«Безумных лет угасшее веселье…» (Элегия) — 307.
Бесы — 306.
Битва у Зеницы-Великой (Песни западных славян) — 356.
«Блажен в златом кругу вельмож…» — 264.
«Близ мест, где царствует Венеция златая…» — 258.
«Бог веселый винограда…» — 335.
«Бог помочь вам, друзья мои…» (19 октября 1827) — 264.
«Богами вам еще даны…» (Друзьям) — 103.
Бонапарт и черногорцы (Песни западных славян) — 365.
Бородинская годовщина — 326.
Братья разбойники. Поэма — 505.
«Брожу ли я вдоль улиц шумных…» — 292.
Будрыс и его сыновья — 340.
Буря — 237.
«Был и я среди донцов…» — 288.
«Была пора: наш праздник молодой…» — 397.
«Быть может, уж недолго мне…» (П. А. Осиповой) — 218.
В альбом («Гонимый рока самовластьем…») — 334.
В альбом кж. А. Д. Абамелек(«Когда-то (помню с умиленьем)…») — 332.
В альбом А. О. Смирновой («В тревоге пестрой и бесплодной…») — 332.
«В Дориде нравятся и локоны златые…» (Дорида) — 128.
«В его «Истории» изящность, простота…» (На Карамзина) — 128.
«В крови горит огонь желанья…» — 237.
«В младенчестве моем она меня любила…» (Муза) — 148.
«В надежде славы и добра…» (Стансы) — 250.
«В начале жизни школу помню я…» — 317.
«В печальной праздности я лиру забывал…» (К ней) — 117.
«В пещерах Геликона…» (Батюшкову) — 62.
«В поле чистом серебрится…» — 339.
«В последний раз, в сени уединенья…» (Разлука) — 115.
«В последний раз твой образ милый…» (Прощание) — 310.
«В прохладе сладостной фонтанов…» — 279.
«В степи мирской, печальной и безбрежной…» — 255.
«В стране, где Юлией венчанный…» (Из письма к Гнедичу) — 150.
«В стране, где я забыл тревоги прежних лет…» (Чаадаеву) — 154.
«В тревоге пестрой и бесплодной…» (В альбом А. О. Смирновой) — 332.
«В часы забав иль праздной скуки…» — 300.
Вакхическая песня — 231.
«Вертоград моей сестры…» — 236.
Веселый пир — 136.
Видение короля (Песни западных славян) — 352.
Вино (Ион Хиосский) — 335.
Виноград — 203.
Влах в Венеции (Песни западных славян) — 360.
«… Вновь я посетил…» — 387.
«Во глубине сибирских руд…» — 253.
Воевода — 342.
Воевода Милош (Песни западных славян) — 368.
Возрождение — 138.
Война — 149.
Княгине 3. А. Волконской («Среди рассеянной Москвы…») — 254.
Вольность. Ода — 118.
«Ворон к ворону летит…» — 278.
«Воспитанный под барабаном…» — 242.
Воспоминание («Когда для смертного умолкнет шумный день…») —269.
Воспоминание (К Пущину) («Помнишь ли, мой брат по чаше…») — 73.
Воспоминания в Царском Селе («Навис покров угрюмой нощи…») — 47.
«Всё в жертву памяти твоей…» — 235.
«Всё в ней гармония, всё диво…» (Красавица) — 333.
«Все кончено: меж нами связи нет…» — 190.
Всеволожскому («Прости, счастливый сын пиров…») — 136.
«Всей России притеснитель…» (На Аракчеева) — 147.
«Всем красны боярские конюшни…» — 259.
«Встречаюсь я с осьмнадцатой весной…» (Князю А. М. Горчакову) — 113.
Второе послание к цензору — 213.
Вурдалак (Песни западных славян) — 369.
«Вчера был день разлуки шумной…» (Друзьям) — 171.
«Вы избалованы природой…» (E. Н. Ушаковой) — 284.
Выздоровление — 124.
Гавриилиада. Поэма — 492.
Гайдук Хризич (Песни западных славян) — 361.
Герой — 315.
Ф. Н. Глинке («Когда средь оргий жизни шумной…») — 181.
«Глухой глухого звал к суду судьи глухого…» — 309.
Гнедичу («С Гомером долго ты беседовал один…») — 333.
Кн. М. А. Голицыной («Давно об ней воспоминанье…») — 187.
Кн. Голицыной, посылая ей оду «Вольность» — 123.
«Гонимый рока самовластьем…» (В альбом) — 334.
«Горишь ли ты, лампада наша…» (Из письма к Я. Н. Толстому) — 176.
«Город пышный, город бедный…» — 278.
Городок (К ***) — 52.
Князю А. М. Горчакову («Встречаюсь я с осьмнадцатой весной…»)— 113.
Граф Нулин. Поэма — 543.
«Гречанка верная! не плачь, — он пал героем…» — 164.
Гречанке («Ты рождена воспламенять…») — 176.
Гроб Анакреона — 87.
«Грустен и весел вхожу…» (Художнику) — 397.
Гусар — 336.
«Давно об ней воспоминанье…» (Кн. М. А. Голицыной) — 187.
В. Л. Давыдову («Меж тем как генерал Орлов…») — 152.
Давыдову («Нельзя, мой толстый Аристип…») — 191.
Д. В. Давыдову («Тебе, певцу, тебе, герою!..») — 392.
«Дар напрасный, дар случайный…» — 270.
Движение — 242.
Дева — 153.
19 октября («Роняет лес багряный свой убор…») — 231.
19 октября 1827 («Бог помочь вам, друзья мои…») — 264.
19 октября 1828 («Усердно помолившись богу…») — 279.
Делибаш — 295.
Дельвигу («Любовью, дружеством и ленью…») — 111.
Демон — 185.
Деревня — 131.
Десятая заповедь — 170.
Дионея — 160.
«Для берегов отчизны дальной…» — 319.
Добрый человек — 140.
Домик в Коломне. Поэма — 601.
Домовому — 133.
Дон — 289.
Дорида («В Дориде нравятся и локоны златые…») — 128.
Дориде («Я верю: я любим; для сердца нужно верить…») — 140.
Дорожные жалобы — 309.
Дочери Карагеоргия — 144.
Дружба — 205.
Друзьям («Богами вам еще даны…») — 103.
Друзьям («Вчера был день разлуки шумной…») — 171.
Друзьям («Нет, я не льстец, когда царю…») — 266.
«Его стихов пленительная сладость…» (К портрету Жуковского) — 125.
Ее глаза — 271.
«Если жизнь тебя обманет…» —230.
«Есть роза дивная: она…» — 254.
«Еще дуют холодные ветры…» — 270.
Желание — 103.
Желание славы — 217.
Жених — 225.
Жив, жив Курилка! — 241.
«Житье тому, любезный друг…» (К Щербинину) — 131.
«Житье тому, мой милый друг…» (Щербинину) — 284.
Жуковскому («Когда, к мечтательному миру…») — 124.
«Журналами обиженный жестоко…» (Эпиграмма) — 296.
«Забудь, любезный мой Каверин…» (К Каверину) —108.
«Завидую тебе, питомец моря смелый…» — 184.
Заздравный кубок — 104.
Заклинание — 314.
«Зачем безвременную скуку…» (К***) — 142.
«Здравствуй, Вульф, приятель мой!..» (Из письма к Вульфу) — 192.
Земля и море — 148.
«Зима. Что делать нам в деревне? Я встречаю…» — 289.
Зимнее утро — 290.
Зимний вечер — 235.
Зимняя дорога — 251.
Золото и булат — 253.
«Зорю бьют… из рук моих…» — 288.
«И дале мы пошли — и страх обнял меня…» — 330.
«И недоверчиво и жадно…» (Ответ А. И. Готовцовой) — 281.
(Из Анакреона). Отрывок («Узнают коней ретивых…») — 380.
Из Гафиза («Не пленяйся бранной славой…») — 287.
(Из Ксенофана Колофонского) («Чистый лоснится пол…») — 334.
(Из Пиндемонти) («Не дорого ценю я громкие права…») — 393.
Из письма к Вульфу («Здравствуй, Вульф, приятель мой!..») — 192.
Из письма к Гнедичу («В стране, где Юлией венчанный…») — 150.
Из письма к Я. Н. Толстому («Горишь ли ты, лампада наша…») — 176.
Из А. Шенье («Покров, упитанный язвительною кровью…») — 384.
Из Barry Cornwall — 320.
«Издревле сладостный союз…» (К Языкову) — 193.
Иностранке — 180.
История стихотворца — 128.
«Итак, я счастлив был, итак, я наслаждался…» — 78.
К *** («Зачем безвременную скуку…») — 142.
К *** («Не спрашивай, зачем унылой думой…») — 116.
К *** («Нет, нет, не должен я, не смею, не могу…») —334.
К ** («Ты богоматерь, нет сомненья…») — 251.
К *** («Я помню чудное мгновенье…») — 225.
К Батюшкову («Философ резвый и пиит…») — 45.
К бюсту завоевателя — 296.
К вельможе — 301.
К Вяземскому («Так море, древний душегубец…») — 243.
К бар. М. А. Дельвиг — 79.
К Дельвигу (Ответ) («Послушай, муз невинных…») — 76.
К другу стихотворцу — 35.
К Каверину («Забудь, любезный мой Каверин…») — 108.
К моей чернильнице — 156.
К Морфею — 103.
К морю — 199.
К ней («В печальной праздности я лиру забывал…») — 117.
К Овидию («Овидий, я живу близ тихих берегов…») — 165.
К Н. Я. Плюсковой («На лире скромной, благородной…») — 126.
К портрету Вяземского («Судьба свои дары явить желала в нем…»)— 147.
К портрету Жуковского («Его стихов пленительная сладость…») — 125.
К портрету Чаадаева («Он вышней волею небес…») — 147.
К Пущину (4 мая) («Любезный именинник…») — 68.
К студентам — 43.
«К тебе сбирался я давно…» (К Языкову) — 272.
К Чаадаеву («Любви, надежды, тихой славы…») — 127.
«К чему холодные сомненья?..» (Чаадаеву) — 211.
К Щербинину («Житье тому, любезный друг…») — 131.
К Языкову («Издревле сладостный союз…») — 193.
К Языкову («К тебе сбирался я давно…») — 272.
К Языкову («Языков, кто тебе внушил…») — 243.
Кавказ — 293.
Кавказский пленник. Поэма — 470.
Казак — 41.
«Как брань тебе не надоела?..» — 147.
«Как с древа сорвался предатель ученик…» (Подражание италиянскому) — 393.
«Как сатирой безымянной…» — 297.
«Как счастлив я, когда могу покинуть…» — 248.
«Какая ночь! Мороз трескучий…» — 256.
«Каков я прежде был, таков и ныне я…» — 249.
Калмычке — 286.
Катенину («Кто мне пришлет ее портрет…») — 154.
Кинжал — 151.
Кипренскому («Любимец моды легкокрылой…») — 257.
Клеветникам России — 325. «Кобылица молодая…» — 270.
Коварность — 201.
«Когда б не смутное влеченье…» — 344.
«Когда, бывало, в старину…»
(Ек. Н. Ушаковой) — 254.
«Когда в объятия мои…» — 304.
«Когда для смертного умолкнет шумный день…» (Воспоминание) — 269.
«Когда за городом, задумчив, я брожу…» — 396.
«Когда, к мечтательному миру…»
(Жуковскому) — 124.
«Когда сожмешь ты снова руку…» — 123.
«Когда средь оргий жизни шумной…»
(Ф. Н. Глинке) 181.
«Когда твои младые лета…» — 295.
«Когда-то (помню с умиленьем)…» (В альбом кж. А. Д. Абамелек) — 332.
Козлову («Певец, когда перед тобой…») — 216.
Кокетке — 168.
«Колокольчики звенят…» — 344.
Конь (Песни западных славян) —374.
«Краев чужих неопытный любитель…» — 117.
Красавица («Всё в ней гармония, всё диво…») — 333.
Красавице, которая нюхала табак — 40.
«Кто видел край, где роскошью природы…» — 159.
«Кто, волны, вас остановил…» — 184.
«Кто знает край, где небо блещет…» — 267.
«Кто из богов мне возвратил…» — 384.
«Кто мне пришлет ее портрет…» (Катенину) — 154.
Лицинию — 63.
«Лук звенит, стрела трепещет…» (Эпиграмма) (Из антологии) —265.
«Любви, надежды, тихой славы…» (К Чаадаеву) — 127.
«Любезный именинник…» (К Пущину) (4 мая) — 68.
«Любимец ветреных Лаис…» (Юрьеву) — 141.
«Любимец моды легкокрылой…» (Кипренскому) — 257.
«Люблю ваш сумрак неизвестный…» — 175.
«Любовью, дружеством и ленью…» (Дельвигу) —111.
Любопытный — 108.
Мадона — 305.
Мадригал М….ой («О вы, которые любовью не горели…») — 140.
Мальчику (Из Катулла) — 332.
«Мальчишка Фебу гимн поднес…» (Эпиграмма) — 298.
Марко Якубович (Песни западных славян) — 362.
Медный всадник. Поэма — 629.
«Меж тем как генерал Орлов…» (В. Л. Давыдову) — 152.
«Меж тем, как изумленный мир…» (Андрей Шенье) — 219.
Мечтатель («По небу крадется луна…») — 69.
Мечтателю («Ты в страсти горестной находишь наслажденье…») — 125.
Мирская власть — 392.
«Мне бой знаком — люблю я звук мечей…» — 141.
«Мне вас не жаль, года весны моей…» — 143.
Мое завещание. Друзьям — 71.
«Мой друг, забыты мной следы минувших лет…» — 160.
«Мой милый, как несправедливы…» (Алексееву) — 169.
«Мой первый друг, мой друг бесценный!..» (И. И. Пущину) — 249.
Монастырь на Казбеке — 294.
Мордвинову («Под хладом старости угрюмо угасал…») — 252.
Моя родословная — 321.
Моя эпитафия — 74.
Муза («В младенчестве моем она меня любила…») — 148.
На Аракчеева («Всей России притеснитель…») — 147.
На выздоровление Лукулла. Подражание латинскому — 389.
На Карамзина («В его «Истории» изящность, простота…») — 128.
«На лире скромной, благородной…» (К Н. Я. Плюсковой) — 126.
На перевод Илиады — 319.
На статую играющего в бабки — 399.
На статую играющего в свайку — 399.
«На холмах Грузии лежит ночная мгла…» — 286.
«Навис покров угрюмой нощи…» (Воспоминания в Царском Селе) — 47.
«Над лесистыми брегами…» (Цыганы) — 323.
«Над озером, в глухих дубровах…» (Русалка) — 134.
«Надеждой сладостной младенчески дыша…» — 185.
Надпись к беседке — 108.
Наездники — 101.
Наперсник — 273.
«Наперсница волшебной старины…» — 181.
Наполеон («Чудесный жребий совершился…») — 161.
Наполеон на Эльбе (1815) — 65.
«Напрасно, пламенный поэт…» (Ответ Катенину) — 281.
«Не дай мне бог сойти с ума…» — 347.
«Не дорого ценю я громкие права…» (Из Пиндемонти) — 393.
«Не знаю где, но не у нас…» — 215.
«Не пленяйся бранной славой…» (Из Гафиза) — 287.
«Не пой, красавица, при мне…» — 271.
«Не розу пафосскую…» (Отрывок) — 320.
«Не спрашивай, зачем унылой думой…» (К ***) — 116.
«Недвижный страж дремал на царственном пороге…» — 188.
Недоконченная картина — 135.
«Нельзя, мой толстый Аристип…» (Давыдову) — 191.
«Ненастный день потух; ненастной ночи мгла…» — 204.
Нереида — 146.
«Нет, не черкешенка она…» (Ответ Ф. Т ***) — 250.
«Нет, нет, не должен я, не смею, не могу…» (К ***) — 334.
«Нет ни в чем вам благодати…» — 242.
«Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем…» — 330.
«Нет, я не льстец, когда царю…» (Друзьям) — 266.
Новоселье — 304.
«Ночной зефир…» — 204.
Ночь — 184.
Няне — 248.
«О вы, которые любовью не горели…» (Мадригал М…. ой) — 140.
«О дева-роза, я в оковах…» —202.
«О муза пламенной сатиры!..» — 239.
«О ты, который сочетал…» (Орлову) — 129.
Обвал — 294.
«Овидий, я живу близ тихих берегов…» (К Овидию) — 165.
Ода LVI (Из Анакреона) («Поредели, побелели…») — 381.
Ода LVII («Что же сухо в чаше дно?..») — 381.
Окно — 100.
«Октябрь уж наступил — уж роща отряхает…» (Осень) (Отрывок) — 344.
Олегов щит — 287.
«Он вышней волею небес…» (К портрету Чаадаева) — 147.
«Он между нами жил…» — 349.
«Опять я ваш, о юные друзья!..» (Элегия) — 109.
Орлову («О ты, который сочетал…») — 129.
Осгар — 37.
Осеннее утро — 100.
Осень (Отрывок) («Октябрь уж наступил — уж роща отряхает…») — 344.
П. А. Осиповой («Быть может, уж недолго мне…») — 218.
«От меня вечор Леила…» — 400.
«От многоречия отрекшись добровольно…» — 242.
Ответ («Я вас узнал, о мой оракул…») — 300.
Ответ анониму — 308.
Ответ А. И. Готовцовой («И недоверчиво и жадно…») —281.
Ответ Катенину («Напрасно, пламенный поэт…») — 281.
Ответ Ф. Т*** («Нет, не черкешенка она…») — 250.
Отрок — 314.
«Отрок милый, отрок нежный…» (Подражание арабскому) — 392.
Отрывок («Не розу пафосскую…») — 320.
«Отцы пустынники и жены непорочны…» — 395.
«Охотник до журнальной драки…» — 215.
Паж, или Пятнадцатый год — 311.
Певец — 102.
«Певец, когда перед тобой…» (Козлову) — 216.
«Перед гробницею святой…» — 324.
Песни западных славян — 349.
Песни о Стеньке Разине — 244.
Песнь о вещем Олеге — 172.
Песня о Георгии Черном (Песни западных славян) — 367.
Пир Петра Первого — 390.
«Питомец мод, большого света друг…» (Послание к кн. Горчакову) — 139.
«По небу крадется луна…» (Мечтатель) — 69.
«Погасло дневное светило…» —143.
«Под вечер, осенью ненастной…» (Романс) — 51.
«Под небом голубым страны своей родной…» — 243.
«Под хладом старости угрюмо угасал…» (Мордвинову) — 252.
Подражание арабскому («Отрок милый, отрок нежный…») — 392.
(Подражание италиянскому) («Как с древа сорвался предатель ученик…») — 393.
Подражания Корану — 205.
«Подъезжая под Ижоры…»— 285.
«Поедем, я готов; куда бы вы, друзья…» — 291.
«Пока не требует поэта…» (Поэт) — 258.
«Покров, упитанный язвительною кровью…» (Из А. Шенье) — 384.
Полководец — 382.
Полтава. Поэма — 552.
«Полу-милорд, полу-купец…» — 215.
«Помнишь ли, мой брат по чаше…» (Воспоминание) (К Пущину) — 73.
«Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…» — 349.
«Поредели, побелели…» (Ода LVI) (Из Анакреона) —381.
Портрет («С своей пылающей душой…») — 273.
Послание Дельвигу («Прими сей череп, Дельвиг, он…») — 260.
Послание к кн. Горчакову («Питомец мод, большого света друг…») — 139.
Послание к Юдину («Ты хочешь, милый друг, узнать…») — 88.
Послание цензору — 177.
«Послушай, муз невинных…» (К Дельвигу) (Ответ) — 76.
Похоронная песня Иакинфа Маглановича (Песни западных славян) — 362.
Поэт («Пока не требует поэта…») — 258.
«Поэт-игрок, о Беверлей-Гораций…» — 297.
Поэт и толпа — 282.
Поэту («Поэт! не дорожи любовию народной…») — 305.
«Пред испанкой благородной…» — 320.
Предчувствие — 274.
Признание («Я вас люблю, — хоть я бешусь…») — 246.
Приметы («Старайся наблюдать различные приметы…») — 167.
Приметы («Я ехал к вам: живые сны…») — 285.
«Прими сей череп, Дельвиг, он…» (Послание Дельвигу) — 260.
Приятелям — 240.
Пробуждение — 107.
Прозаик и поэт — 240.
Прозерпина — 191.
«Промчались годы заточенья…» (Прощанье) — 115.
Пророк — 247.
«Прости, счастливый сын пиров…» (Всеволожскому) — 136.
«Простите, верные дубравы!..» — 116.
«Простишь ли мне ревнивые мечты…» — 186.
Прощание («В последний раз твой образ милый…») —310.
Прощанье («Промчались годы заточенья…») — 115.
Птичка — 183.
«Пускай увенчанный любовью красоты…» — 213.
В. Л. Пушкину («Что восхитительней, живей…») — 112.
И. И. Пущину («Мой первый друг, мой друг бесценный!..») — 249.
Разговор книгопродавца с поэтом — 194.
Разлука («В последний раз, в сени уединенья…») — 115.
«Редеет облаков летучая гряда…» — 146.
Рифма («Эхо, бессонная нимфа…») — 313.
«Рифма, звучная подруга…» — 276.
Роза — 78.
Романс («Под вечер, осенью ненастной…») — 51.
«Роняет лес багряный свой убор…» (19 октября) — 231.
«Румяный критик мой, насмешник толстопузый…» — 312.
Русалка («Над озером, в глухих дубровах…») — 134.
Руслан и Людмила. Поэма — 403.
«С Гомером долго ты беседовал один…» (Гнедичу) — 333.
С португальского — 237.
«С своей пылающей душой…» (Портрет) — 273.
Сапожник (Притча) — 297.
«Сват Иван, как пить мы станем…» — 339.
«Свободы сеятель пустынный…» — 187.
Сестра и братья (Песни западных славян) — 369.
«Сия пустынная страна…» (Баратынскому. Из Бессарабии) — 171.
«Сказали раз царю, что наконец…» — 239.
Сказка о золотом петушке — 691.
Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях — 678.
Сказка о попе и о работнике его Балде — 645.
Сказка о рыбаке и рыбке — 673.
Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди — 649.
Сказки. Noël («Ура! в Россию скачет…») — 126.
Слеза — 77.
Собрание насекомых — 298.
Совет — 240.
Сожженное письмо — 216.
Соловей (Песни западных славян) — 366.
Соловей и кукушка — 241.
Соловей и роза — 253.
Сон (Отрывок) — 94.
Сонет («Суровый Дант не презирал сонета…») — 301.
Сраженный рыцарь — 75.
«Среди рассеянной Москвы…» (Княгине З. А. Волконской) — 254.
Стансы («В надежде славы и добра…») — 250.
Стансы Толстому («Философ ранний, ты бежишь…») — 138.
«Старайся наблюдать различные приметы…» (Приметы) — 167.
Старик — 65.
Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы — 315.
Странник — 385.
«Судьба свои дары явить желала в нем…» (К портрету Вяземского) — 147.
«Суровый Дант не презирал сонета…» (Сонет) — 301.
«Счастлив, кто избран своенравно…» — 273.
Тазит. Поэма — 593.
«Так море, древний душегубец…» (К Вяземскому) — 243.
Талисман — 264.
«Тебе, певцу, тебе, герою!..» (Д. В. Давыдову) — 392.
Телега жизни — 188.
Тень Фонвизина — 79.
Торжество Вакха — 121.
Труд — 309.
«Туманский прав, когда так верно вас…» — 202.
Туча — 383.
«Ты богоматерь, нет сомненья…» (К **) — 251.
«Ты в страсти горестной находишь наслажденье…» (Мечтателю) —125.
«Ты вянешь и молчишь; печаль тебя снедает…» — 211.
Ты и вы — 269.
«Ты рождена воспламенять…» (Гречанке) — 176.
«Ты хочешь, милый друг, узнать…» (Послание к Юдину) — 88.
«Увы! зачем она блистает…» —142.
Уединение — 135.
«Узнают коней ретивых…» (Из Анакреона). Отрывок — 380.
Узник — 182.
«Умолкну скоро я!.. Но если в день печали…» — 160.
«Ура! в Россию скачет…» (Сказки. Noël) — 126.
«Усердно помолившись богу…» (19 октября 1828) — 279.
Усы. Философическая ода — 94.
Утопленник — 274.
Ек. Н. Ушаковой («Когда, бывало, в старину…») — 254.
E. Н. Ушаковой («Вы избалованы природой…») — 284.
Феодор и Елена (Песни западных славян) — 357.
«Философ ранний, ты бежишь…» (Стансы Толстому) — 138.
«Философ резвый и пиит…» (К Батюшкову) — 45.
Фонтану Бахчисарайского дворца — 203.
«Хоть, впрочем, он поэт изрядный…» — 171.
«Храни меня, мой талисман…» — 218.
«Хранитель милых чувств и прошлых наслаждений…» (Царское Село) — 183.
Художнику («Грустен и весел вхожу…») — 397.
Царское Село («Хранитель милых чувств и прошлых наслаждений…»)— 183.
Царскосельская статуя — 309.
Цветок — 282.
«Цветы последние милей…» —231.
Циклоп — 299.
Цыганы. Поэма — 525.
Цыганы («Над лесистыми брегами…») — 323.
Чаадаеву («В стране, где я забыл тревоги прежних лет…») — 154.
Чаадаеву («К чему холодные сомненья?..») — 211.
«Чем чаще празднует лицей…» — 329.
Черная шаль — 145.
«Чистый лоснится пол…» (Из Ксенофана Колофонского) — 334.
«Что в имени тебе моем?..» — 299.
«Что восхитительней, живей…» (В. Л. Пушкину) — 112.
«Что же сухо в чаше дно?..» (Ода LVII) — 381.
«Чудесный жребий совершился…» (Наполеон) — 161.
Шишкову («Шалун, увенчанный Эратой и Венерой…») — 106.
Щербинину («Житье тому, мой милый друг…») — 284.
Элегия («Безумных лет угасшее веселье…») — 307.
Элегия («Опять я ваш, о юные друзья!..») — 109.
Эпиграмма («Журналами обиженный жестоко…») — 296.
Эпиграмма (Из антологии) («Лук звенит, стрела трепещет…») — 265.
Эпиграмма («Мальчишка Фебу гимн поднес…») — 298.
Эпитафия младенцу — 286.
Эхо — 328.
«Эхо, бессонная нимфа…» (Рифма) — 313.
«Юноша, скромно пируй, и шумную Вакхову влагу…» — 335.
«Юношу, горько рыдая, ревнивая дева бранила…» — 381.
Юрьеву («Любимец ветреных Лаис…») — 141.
«Я вас любил: любовь еще, быть может…» — 291.
«Я вас люблю, — хоть я бешусь…» (Признание) — 246.
«Я вас узнал, о мой оракул…» (Ответ) — 300.
«Я верю: я любим; для сердца нужно верить…» (Дориде) — 140.
«Я возмужал среди печальных бурь…» — 348.
«Я думал, сердце позабыло…» — 389.
«Я ехал к вам: живые сны…» (Приметы) — 285.
«Я здесь, Инезилья…» — 313.
«Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» — 396.
«Я пережил свои желанья…» — 149.
«Я помню чудное мгновенье…» (К ***) — 225.
«Я ускользнул от Эскулапа…» (N. N.) (В. В. Энгельгардту) — 129.
«Языков, кто тебе внушил…» (К Языкову) — 243.
Янко Марнавич (Песни западных славян) — 355.
Яныш королевич (Песни западных славян) — 372.
Ex ungue leonem — 241.
N. N. (В. В. Энгельгардту) («Я ускользнул от Эскулапа…») — 129.
То Dawe, Esq г — 268.
Примечания
Об этих вершинах пушкинского творчества см. статью Д. Благого к тому «Библиотеки всемирной литературы»: «А. Пушкин. Евгений Онегин. Драматические произведения. Романы. Повести».
То есть в школе.
Будь здоров! (лат.)
Кому неизвестны «Воспоминания на 1807 год»?
«Нечестивые, пишет Магомет (глава Награды), думают, что Коран есть собрание новой лжи и старых басен». Мнение сих нечестивых, конечно, справедливо; но, несмотря на сие, многие нравственные истины изложены в Коране сильным и поэтическим образом. Здесь предлагается несколько вольных подражаний. В подлиннике Алла везде говорит от своего имени, а о Магомете упоминается только во втором или третьем лице.
В других местах Корана Алла клянется копытами кобылиц, плодами смоковницы, свободою Мекки, добродетелию и пороком, ангелами и человеком и проч. Странный сей реторический оборот встречается в Коране поминутно.
«Мой пророк, прибавляет Алла, вам этого не скажет, ибо он весьма учтив и скромен; но я не имею нужды с вами чиниться» и проч. Ревность араба так и дышит в сих заповедях.
Из книги Слепец.
Плохая физика; но зато какая смелая поэзия!
Так, когда я был печальным и пленным, моя лира все же Пробуждалась… (франц.).
По когтям льва (узнают) (лат.).
Ты знаешь край… Вильгельм Мейстер (нем.).
Господину Дау (англ.).
Прочь, непосвященные (лат.).
Но где (итал.).
Не презирай сонета, критик. Вордсворт (англ.).
Это возраст Керубино… (франц.).
Mémoires de Bourrienne.
Твое здоровье, Мери (англ.).
Старого фалернского, мальчик (лат.).
Гузла, или сборник иллирийских стихотворений, собранный в Далмации, Боснии, Хорватии и Герцеговине (франц.).
О нравах морлаков (итал.).
Что белеет на горе зеленой (серб.).
Что же белеет в зеленой роще (итал.).
Я воздвиг памятник (лат.).
Ну, смелей! (франц.).
Прозрачных (ажурных) (франц.).
Остротами (франц,).
И так далее, и так далее (франц.).
Он очень плох, он просто жалок (франц.).
Великий Потье! (франц.)
Байрон (англ.).
Стихи кн. Вяземского к графине З***.— «Разговор 7 апреля 1832 года», посвященный гр. Е. М. Завадовской; в третьей строфе его дано описание Петербурга: «Я Петербург люблю с его красою стройной, с блестящим поясом роскошных островов…» и т. д.
Смотри описание памятника… — Описание памятника Петру I дано Мицкевичем в стихотворении «Памятник Петра Великого», содержание которого — размышления о Петре и его деле стоящих у памятника под одним плащом самого Мицкевича и его друга — великого русского поэта (он не назван, но ясно, что автор имеет в виду Пушкина), резко обличительный монолог которого и занимает главную часть стихотворения. К казенно-хвалебному четверостишию, написанному малозначительным поэтом XVIII в. В. Г. Pубаном, это не имеет никакого отношения, и сама ссылка на него была введена Пушкиным по цензурным соображениям. И «Олешкевич» и это стихотворение входили в цикл стихов Мицкевича, опубликованных им при третьей части его поэмы «Дзяды». Под влиянием мучительных переживаний, вызванных подавлением Николаем I польского восстания 1830 г., стихи Мицкевича проникнуты не только ненавистью к русскому самодержавию, но и крайне неприязненным отношением к России вообще и, в частности, к Пушкину, как автору стихотворений «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина». Пушкин отозвался на стихи Мицкевича написанным несколько позднее стихотворением «Он между нами жил…», а в «Медном всаднике» (в особенности во вступлении к поэме) противопоставил им горячее национально-патриотическое чувство и подчеркивание огромного значения исторического дела Петра.
Tous ces détails m’ont été donnés en 1817 par Maglanovich lui-même.
J’ai fait de vains éfforts pour me la procurer. Maglanovich lui-même l’avait oubliée, ou peut-être eut-il honte de me réciter son premier essai dans la poésie.
Espèce de bandits.
Soldats de la police.
Все эти подробности были сообщены мне в 1817 году самим Маглановичем.
Я тщетно разыскивал эту балладу. Сам Магланович ее забыл или, может быть, стыдился петь мне первый свой поэтический опыт.
Род разбойников.
Полицейские солдаты.
«Петербург — окно, через которое Россия смотрит в Европу» (франц.).
Альгаротти Франческо (1712–1764) — итальянский писатель и ученый; был близок с Вольтером, позже жил в Петербурге и выпустил в 1739 г. «Письма о России», где и находится цитируемое Пушкиным афористическое выражение.
Комментарии
Тексты печатаются по десятитомному собранию сочинений А. С. Пушкина, выпущенному издательством «Художественная литература» (М., 1959–1962). Лицейские стихотворения «Воспоминания в Царском Селе», «Лицинию», «Старик», «Роза», «Гроб Анакреона», «Певец», «К Морфею», «Друзьям» («Богами вам еще даны…»), «Амур и Гименей», «Шишкову» («Шалун, увенчанный Эратой и Венерой…»), «Пробуждение», «Любопытный», «К Каверину» («Забудь, любезный мой Каверин…»), «Дельвигу» («Любовью, дружеством и ленью…»), «В. Л. Пушкину» («Что восхитительней, живей…»), «Разлука» публикуются в окончательных редакциях 1817–1819 и 1825 гг.
СТИХОТВОРЕНИЯ
К другу стихотворцу (стр. 35). — Первое появившееся в печати стихотворение Пушкина; опубликовано в «Вестнике Европы» за подписью Александр Н. к. ш. п. (перевернутые согласные фамилии Пушкин).
Чтоб не слететь с горы… — «Взойти» на отроги Пинда Парнас или Геликон означало, на условном языке классицизма XVIII в., писать стихи.
Отец второй «Телемахиды» — намек на Вильгельма Карловича Кюхельбекера (1797–1846), к которому, по-видимому, обращено послание («Телемахида» — поэма В. К. Тредиаковского).
Витгенштейн Петр Христианович (1769–1843) — генерал, командовавший в 1812 г. русским корпусом, стоявшим на дороге, ведущей к Петербургу.
Рифматов, Графов, Бибрус — стихотворцы: Сергей Александрович Ширинский-Шихматов (1783–1837), гр. Д. И. Хвостов (1757–1835) и Семен Сергеевич Бобров (1767–1810) — члены «Беседы любителей русского слова». Их же имеет в виду поэт, говоря о «бессмысленных певцах».
Глазунов — петербургский книгоиздатель и владелец книжной лавки.
Руссо Ж.-Б. (1670–1741) — французский поэт, умерший в крайней бедности.
Камоэнс Луис (1524–1580) — португальский поэт, умерший в приюте для нищих.
Костров Ермил Иванович (1750–1796) — русский поэт, влачивший нищенское существование.
Парнасские сестры — музы, покровительницы искусств.
Рамаков — П. И. Макаров (1765–1804), критик и журналист, выступавший против главы «Беседы любителей русского слова» — А. С. Шишкова.
Осгар (стр. 37). — Оригинальное «оссиановское» стихотворение самого Пушкина.
Казак (стр. 41). — В рукописи подзаголовок: «Подражание мало-российскому».
К студентам (стр. 43). — Галич Александр Иванович (1783–1848) — профессор российской и латинской словесности, в течение года преподававший в Лицее (с 5 мая 1814 г. до июня 1815 г.).
Остряк любезный — Алексей Демьянович Илличевский (1798–1837), товарищ Пушкина по Лицею.
Сиятельный повеса — князь Александр Михайлович Горчаков (1798–1883).
Повеса из повес — Иван Васильевич Малиновский (1796–1873), товарищ Пушкина по Лицею.
Платов Матвей Иванович (1751–1818) — атаман донских казаков, герой войны 1812 г.
Товарищ милый, друг прямой — Иван Иванович Пущин (1798–1859).
Вильгельм — Кюхельбекер.
К Батюшкову («Философ резвый и пиит…») (стр. 45). — После возвращения из заграничных походов 1813–1814 гг. Батюшков переживал тяжелый кризис мировоззрения и творчества, мало писал. В его поэзии стали звучать пессимистические ноты.
Певец тиисский — Анакреонт (Анакреон), (ок. 570–487 гг. до н. э.), древнегреческий поэт, воспевавший любовь, вино, беззаботную жизнь.
Лилета — имя, упомянутое Батюшковым в одном из наиболее известных его стихотворений «Мои пенаты» (1811).
Назон — имеется в виду древнеримский поэт Публий Овидий Назон (43 г. до н. э. — 17 г. н. э.).
Воспоминания в Царском Селе («Навис покров угрюмой нощи…») (стр. 47). — Написано по предложению лицейского профессора Галича для публичного экзамена по русской словесности, на котором и было прочитано 8 января 1815 г. в присутствии восторженно отозвавшегося о стихотворении Г. Р. Державина. Поэт вспоминает об этом в послании к Жуковскому 1816 г., в 8-й главе «Евгения Онегина» и в заметке 1835 г.: «Державина видел я только однажды в жизни». При переработке стихотворения в 1819 г. Пушкин демонстративно снял все имевшиеся в нем традиционные похвалы царю Александру I и опустил две строфы (вторую и предпоследнюю).
Минерва росская — Екатерина II. При ней царскосельский дворец и парки приобрели тот вид, который они сохранили в основном и до настоящего времени. Дальше поэт называет ее «великой женой». Позднее Пушкин давал ей другие, гораздо менее лестные наименования.
Элизиум полнощный — северный рай.
Лев — герб Швеции.
Орел — герб России.
Над… скалой // Вознесся памятник… — колонна, воздвигнутая Екатериной II на островке, посреди одного из царскосельских озер, в честь морской победы графа А. Г. Орлова над турками под Чесмою в 1770 г.
Памятник простой — колонна графу П. А. Румянцеву, прославленному полководцу XVIII в.; воздвигнута в честь победы над турками на берегу реки Кагула в 1770 г.
Петров Василий Петрович (1736–1799) — поэт, одописец.
Воитель поседелый — М. И. Кутузов.
Скальд России — В. А. Жуковский.
Городок (стр. 52). — Великий четверток — четверг на страстной неделе, когда происходила особенно длинная церковная служба.
Рифмов — Ширинский-Шихматов.
Мом — бог насмешки (греч. миф.).
Фернейский злой крикун — Вольтер, который последние 20 лет своей жизни провел в Швейцарии (около Женевы) в приобретенном им имении Ферней.
Арьоста, Тасса внук — подразумевается Вольтер, как автор пародийной поэмы «Орлеанская девственница», написанной в манере поэмы Ариосто «Неистовый Роланд», и героико-эпической поэмы «Генриада», написанной в манере «Освобожденного Иерусалима» Торквато Тассо.
Ванюша Лафонтен — знаменитый французский баснописец, автор фривольных стихотворных «Сказок», Жан Лафонтен (1621–1695).
Дмитрев нежный — поэт Иван Иванович Дмитриев (1760–1837), наряду с Карамзиным — глава русского сентиментализма.
Наперсник милый // Психеи — поэт Ипполит Федорович Богданович (1743–1803), автор сказочно-иронической поэмы «Душенька», написанной на тот же сюжет, что и поэма Лафонтена об Амуре и Психее.
Вержье Жак (1657–1720), аббат Грекур Жан Батист де (1683–1743) — французские поэты, развивавшие традиции фривольно-сатирических сказок Лафонтена.
Озеров Владислав Александрович (1769–1816) — автор популярных тогда трагедий, окрашенных в сентиментальные тона.
Княжнин Яков Борисович (1742–1791) — русский драматург.
Грозный Аристарх — французский писатель и критик Ж.-Ф. Лагарп (1739–1803), автор курса истории древней и новой литературы в 16-ти томах «Лицей», написанного в духе классицизма XVIII в.; Аристарх — нарицательное имя строгого критика.
Визгова сочиненья — трагедии Степана Ивановича Висковатова (1786–1831).
Глупона псалмопенья — подражания псалмам Николая Михайловича Шатрова (1765–1841), члена «Беседы любителей русского слова».
Князь, наперсник муз — князь Дмитрий Петрович Горчаков (1758–1824) — автор пользовавшихся в это время большой популярностью рукописных сатирических посланий и ноэлей.
Насмешник смелый — Батюшков, неопубликованная сатира которого «Видение на брегах Леты» распространялась в списках.
Буянова певец — В. Л. Пушкин, автор фривольной поэмы «Опасный сосед» (Буянов — герой поэмы).
Шутник бесценный — И. А. Крылов, автор пародийно-сатирической «шутотрагедии» «Трумф»; Чернавка, Подщипа, князь и проч. — ее действующие лица.
…высот Парнаса // Боярин небольшой… — поэт и переводчик Иван Семенович Барков (1732–1768), непристойно-озорные пародии которого на Сумарокова и других получили широкую известность.
Велик, велик — Свистов! — цензурная замена вместо «Баркова», дальше Свистовым назван и Д. И. Хвостов, за которым закрепилась эта кличка.
Марон — имеется в виду римский поэт Вергилий (Публий Вергилий Марон) (70–19 гг. до н. э.).
Газеты — здесь в старом словоупотреблении — вести, слухи, сплетни.
…с очаковской медалью… — за взятие в 1788 г. турецкой крепости Очаков.
Батюшкову («В пещерах Геликона…») (стр. 62). — Батюшков, прочитав послание к нему Пушкина 1814 г., опубликованное в «Российском музеуме» (см. выше), приехал в начале февраля 1815 г. в Лицей познакомиться с его автором. Откликом на беседу поэтов и явилось это новое послание Пушкина.
Лары — души предков, боги-покровители домашнего очага (рим. миф.).
Будь всякий при своем — слегка измененный стих из послания Жуковского Батюшкову.
Лицинию (стр. 63). — Нападки на Лициния, временщика Ветулия, имели в это время особенную выразительность, поскольку вся полнота государственной власти в России оказалась фактически в руках временщика Аракчеева. Видимо, поэтому при публикации стихотворения ему был дан маскировочный подзаголовок «с латинского». Встречающиеся в этом стихотворении имена не связаны ни с какими историческими лицами.
Ликторы — служители, сопровождавшие сановных лиц в Древнем Риме, расчищавшие им путь в толпе.
Ромулов народ, квириты — римляне.
Циник — в данном случае представитель философской школы (в Древней Греции) киников, или циников, проповедовавших полное презрение к житейским благам.
Старик (стр. 65). — Вольный перевод стихотворения французского поэта Клемана Маро (1496–1544) «О себе».
Наполеон на Эльбе (1815) (стр. 65). — Написано после получения известий, что Наполеон, которому после победы союзных войск и его отречения от французского престола в 1814 г. был предоставлен во владение остров Эльба, 26 февраля 1815 г. покинул его и 1 марта триумфально высадился вo Франции; вскоре на его сторону перешла армия, а 20 марта перепуганный Людовик XVIII бежал из Парижа.
К Пущину (4 мая) («Любезный именинник…») (стр. 68). — 4 мая — день рождения И. И. Пущина.
Старик крылатый — время.
Вот кубок, наливай! — стих из послания Батюшкова «Мои пенаты».
Венком из миртов… — мирт был посвящен богине любви Афродите.
Семела, мать Вакха (греч. миф.).
Певец мой дорогой — друг Пушкина Антон Антонович Дельвиг (1798–1831), стихотворения которого «Вакх» и «К Темире» были опубликованы в 1815 г. в «Российском музеуме».
Воспоминание (К Пущину) («Помнишь ли, мой брат по чаше…») (стр. 73). — Речь идет о «пирушке» четырех лицеистов Малиновского, Пущина, Дельвига и самого Пушкина.
Педант — дежурный гувернер, донесший о происшествии по начальству.
К Дельвигу (Ответ) («Послушай, муз невинных…») (стр. 76). — Ответ на опубликованное в 1815 г. в «Российском музеуме» восторженное послание Дельвига «Пушкину», заканчивавшееся стихами: «Пушкин! Он и в лесах не укроется, // Лира выдаст его громким пением…» и т. д.
Прадон Никола (1632–1698) — французский драматург, пытавшийся состязаться с Расином и возвеличенный друзьями; вскоре его имя стало нарицательным обозначением бездарного писаки.
«Итак, я счастлив был, итак, я наслаждало я…» (стр. 78). — Навеяно приездом в Лицей в гости к брату Екатерины Павловны Бакуниной (1795–1869). Е. П. Бакунина — предмет юношеской любви Пушкина-лицеиста и его ближайших лицейских друзей Пущина и Малиновского.
К бар. М. А. Дельвиг (стр. 79). — Обращено к сестре Дельвига Марии Антоновне.
Эпиталама — брачная песня.
Тень Фонвизина (стр. 79). — В раю… — По античным мифам подземное царство, где находились тени умерших, Аид (Пушкин называет его здесь «адом») разделялся на две части: Элизий — для праведных душ (его поэт называет здесь «раем») — и Тартар, где мучились грешники.
Денис, невежде бич и страх… — Фонвизин.
Но свет ни в чем не пременился. — Следующее затем резко сатирическое описание высших кругов современного Пушкину общества в значительной степени повторяет беспощадную характеристику «света», вложенную Фонвизиным в его стихотворном «Послании к слугам моим Шумилову, Ваньке и Петрушке» в уста кучера Ваньки.
С крылатой шапкой набекрени // Богов посланник молодой… — Гермес (Эрмий, Меркурий), в античной мифологии вестник богов, изображался с крыльями у ступней или на головном уборе.
Кропов — Андрей Фролович Кропотов (1780–1821), бездарный писатель, издатель и единственный автор сатирического журнала «Демокрит», выходившего в первой половине 1815 г.
Анненская лента — орден Анны 1-й степени, который носили на ленте через плечо.
«Аспазия» — журнал «Кабинет Аспазии», издававшийся в 1815 г. Б. М. Федоровым при материальной поддержке Д. И. Хвостова. В 4-й книжке журнала был опубликован восторженный «Разбор посланий в стихах графа Д. И. Хвостова».
Анастасевич Василий Григорьевич (1775–1845), библиограф, журналист, в своем журнале «Улей» (1811–1812) давал положительные отзывы о стихах Хвостова.
Князь Шальной — князь Петр Иванович Шаликов (1767–1852), писатель, автор слащавых сентиментальных стишков, которые еще со времен «Арзамаса» высмеивались Пушкиным и поэтами его круга; редактор официальной газеты «Московские ведомости». В одном из своих стихотворений, следуя обыкновению карамзинистов без нужды засорять русский язык французскими словами, употребил слово «боскет» (фигурно подстриженная группа деревьев).
Безглагольник пресловутый — Ширинский-Шихматов, избегавший в своих стихах глагольных рифм. Петриада — его эпическая поэма «Петр Великий, лирическое песнопение» (1810).
Ужасный критикам старик — А. С. Шишков (см. о нем с. 721, прим, к стих. «Второе послание к цензору»).
Невинная другиня — незамужняя поэтесса Анна Петровна Бунина (1774–1828), почетный член «Беседы любителей русского слова», усиленно восхвалявшаяся Шишковым. Называя ее «другиней», Пушкин высмеивает пристрастие Шишкова к «старинному слогу», «славенщине».
Ежемесячный вздыхатель — уже упомянутый выше издатель журнала «Кабинет Аспазии» («Кокетки старой кабинет») Б. М. Федоров, печатавший в нем свои «чувствительные» стихи.
Открылась тайн священных дверь!.. и т. д. — пародийно перетасованные и слегка измененные Пушкиным строки, взятые им из различных мест огромного стихотворения Державина «Гимн лиро-эпический на прогнание французов из отечества».
Бобров С. С. — поэт-мистик.
И ты судьбой Невтону равен… — великий английский математик и физик Исаак Ньютон (1643–1727) под старость поддался религиозно-мистическим настроениям, в частности, занялся толкованием Апокалипсиса.
Ты бог — ты червь, ты свет — ты ночь… — несколько переиначенная цитата из знаменитой оды Державина «Бог».
…татарин бритый возгремел… — Державин вел свой род от татарского мурзы Багрима и прославившую его оду «Фелица» направил Екатерине II от имени некоего татарского мурзы.
Фальконетов Купидон — статуя французского скульптора Э.-М. Фальконе (1716–1791) «Амур, грозящий пальцем»; находилась в Петербургском Эрмитаже.
Клейст Э.-Х. (1715–1759) — немецкий поэт, автор элегий, песен, идиллий.
Послание к Юдину («Ты хочешь, милый друг, узнать…») (стр. 88). — Павел Михайлович Юдин (1798–1852) — лицейский товарищ Пушкина.
Альбион — Англия.
…пышные чехлы Лиона… — во французском городе Лионе находились знаменитые шелковые фабрики.
Захарово — подмосковное имение бабки Пушкина Марии Алексеевны Ганнибал, куда семья Пушкиных уезжала летом с 1806 по 1810 г.
Виланд К.-М. (1733–1813) — немецкий писатель; некоторые рецензенты поэмы «Руслан и Людмила» усматривали в ней сходство со сказочной эпопеей Виланда «Оберон».
Ментия (ментик) — короткая гусарская куртка с несколькими рядами блестящих пуговиц.
Раскат — помост для пушек на крепостном валу.
Милая Сушкова — сверстница детских лет Пушкина, Сонечка Сушкова.
Клофо — парка, которая прядет нить жизни (греч. миф.).
Сон (стр. 94). — Отрывок, видимо, из задуманной поэмы «Оправданная лень».
Цитерея — Афродита, богиня любви (греч. миф.).
Бершу Жозеф (1765–1839) — французский поэт, автор шутливо-дидактической поэмы «Гастрономия».
Мамушка моя — образ, в котором, видимо, слились воспоминания о няне Арине Родионовне и бабушке М. А. Ганнибал.
Альбан — Франческо Альбани (1578–1660), модный в России в начале XIX в. итальянский художник академического направления.
Осеннее утро (стр. 100). — Навеяно отъездом Бакуниной, которая провела лето 1816 г. в Царском Селе.
Амур и Гименей (стр. 105). — Гименей (Гимен) — бог брака, сын бога огня, хромого кузнеца Вулкана, мужа Венеры. Изображался со светильником в руке. Амур — бог любви, его «маленький брат», изображался с повязкой на глазах: любовь слепа (рим. миф.).
Шишкову («Шалун, увенчанный Эратой и Венерой…») (стр. 106). — Царскосельский товарищ Пушкина, Александр Ардалионович Шишков (1799–1832) — поручик Кексгольмского полка, расположенного в Софии, подле Царского Села, поэт, переводчик немецких романтиков, племянник главы литературных староверов, адмирала А. С. Шишкова; в отличие от дяди был человеком передовых взглядов и не раз подвергался правительственным репрессиям.
Эрато — муза эротической поэзии (греч. миф.).
Тибулл Альбий — римский поэт (ок. 50–19 гг. до н. э.).
Мелецкий — Юрий Александрович Нелединский-Мелецкий (1752–1829) — русский поэт.
Парни Эварист Дезире (1753–1814) — французский поэт.
К Каверину («Забудь, любезный мой Каверин…») (стр. 108). — Петр Павлович Каверин (1794–1855) — офицер лейб-гвардии гусарского полка, стоявшего в окрестностях Царского Села, приятель Пушкина-лицеиста. Характерный тип гусара того времени, игрока, прожигателя жизни, что сочеталось в нем, ученике Геттингенского университета, с интеллектуальными интересами и прогрессивными политическими взглядами.
Нескромные стихи. — В своем шутливо-сатирическом «Ноэле на лейб-гусарский полк», до нас не дошедшем, Пушкин задел и Каверина, за что извиняется в послании к нему.
Кифера (или Цитера) — одно из названий богини любви Афродиты по острову у берегов Греции, бывшему одним из мест ее культа.
Портик — крытая галерея, в которой античные философы вели беседы со своими учениками.
Элегия («Опять я ваш, о юные друзья!..») (стр. 109). — Написано 1 января, после возвращения с рождественских каникул, на которые впервые после пяти лет безвыездной жизни в Лицее воспитанников отпустили к родным.
Безверие (стр. 109). — Было прочитано Пушкиным 17 мая 1817 г. на выпускном экзамене по российской словесности.
Дельвигу («Любовью, дружеством и ленью…») (стр. 111). — Написано в связи с отказом издателя журнала «Вестник Европы», профессора М. Т. Каченовского, приверженца отживших литературных направлений, напечатать три стихотворения, присланные Пушкиным.
В. Л. Пушкину («Что восхитительней, живей…») (стр. 112). — Написано в связи с намерением поступить на военную службу, не одобрявшимся близкими поэта.
Бессмертный трус. — Древнеримский поэт Гораций (65— 8 гг. до н. э.), сражаясь при Филиппах в войсках республиканцев и видя, что сражение проиграно, бросил легион, которым командовал, и бежал с поля битвы.
…в тибурских… лесах… — местность близ Рима, где находилась вилла Горация.
Князю А. М. Горчакову («Встречаюсь я с осьмнадцатой весной…») (стр. 113). — Тебе… // Указан путь и счастливый и славный… — Горчаков действительно сделал блестящую карьеру видного государственного деятеля, дослужившись до министра иностранных дел и канцлера.
Прощанье («Промчались годы заточенья…») (стр. 115). — Написано незадолго до выпуска из Лицея.
…оставьте красный мне колпак… — Недруги Карамзина в своих доносах выдвигали против него нелепое обвинение в якобинстве. В связи с этим по шутливому ритуалу «арзамасцев», считавших Карамзина своим идейным главой, очередной председатель на заседаниях кружка облекался в «красный колпак» якобинцев; его же надевали на голову новопринимаемого члена, что ожидало и готовившегося вступить в «Арзамас» Пушкина.
Разлука («В последний раз, в сени уединенья…») (стр. 115). — Лицейской жизни милый брат — поэт В. К. Кюхельбекер. В первой печатной редакции стихотворение, написанное перед самым выпуском из Лицея, было прямо озаглавлено «Кюхельбекеру». При последующих публикациях его имя как «государственного преступника» пришлось снять, тем более что при переработке стихотворения весной 1825 г. строку «Не разлучайся… с фортуной, дружеством и Фебом» Пушкин характерно изменил: «с свободою и Фебом».
«Простите, верные дубравы!..» (стр. 116). — Написано незадолго до возвращения в Петербург из Михайловского, куда поэт поехал вскоре после окончания Лицея, в альбом владелицы соседнего имения — Тригорского, Прасковьи Александровны Осиповой, по первому браку Вульф (1781–1859).
«Краев чужих неопытный любитель…» (стр. 117). — Голицыну увидел… — княгиня Евдокия Ивановна Голицына (1780–1850), хозяйка великосветского салона, женщина образованная, демонстративно подчеркивавшая свой русский «патриотизм».
К ней («В печальной праздности я лиру забывал…») (стр. 117). — Обращено к Екатерине Павловне Бакуниной.
Вольность. Ода (стр. 118). — Непосредственным образцом оды Пушкина послужила одноименная ода Радищева, частично включенная последним в «Путешествие из Петербурга в Москву» и явившаяся одной из главных причин постигнувшей его кары — смертного приговора, замененного ссылкой в Сибирь. Стихотворение «Вольность» широко распространилось в списках и явилось одной из причин ссылки Пушкина. Впервые было опубликовано Герценом в лондонской «Полярной звезде на 1856 год»; в России было полностью напечатано только в 1906 г.
…возвышенного галла… — Кого имеет здесь в виду Пушкин, точно не установлено: исследователями называются имена французских поэтов, современников революции конца XVIII в. — Андре Шенье, Экушара Лебрена и автора «Марсельезы» Руже де Лилля.
Мученик ошибок славных — французский король Людовик XVI, казненный в 1793 г. по приговору Конвента; по Пушкину, погиб в качестве искупительной жертвы за бесчисленные преступления, совершенные его «предками» — королями из династии Бурбонов.
Злодейская порфира. — Пушкин имеет в виду последующий захват верховной власти Наполеоном, надевшим на себя императорскую порфиру.
Пустынный памятник тирана — Михайловский дворец в Петербурге, в котором в ночь с 11 на 12 марта 1801 г. группой заговорщиков, принадлежавших к высшей знати, был задушен император Павел I; по свидетельству современников, Пушкин написал свою оду в квартире братьев А. И. и Н. И. Тургеневых, окна которой выходили на «забвенью брошенный дворец» (после убийства Павла в нем не жили).
Клио — муза истории.
Калигулы последний час… — Павла I поэт приравнивает к одному из самых деспотических и кровожадных римских императоров, Калигуле. Аналогия подкрепляется тем, что Калигула был также убит в своем дворце приближенными заговорщиками, процарствовав, как и Павел, всего около четырех лет (37–41 гг. н. э.). Именуя Павла «увенчанным злодеем», поэт резко отрицательно изображает и его высокопоставленных убийц, именуя их «янычарами» (привилегированная часть войска турецких султанов, неоднократно, подобно русской гвардии XVIII в., использовавшаяся для устройства дворцовых переворотов).
Торжество Вакха (стр. 121). — По древнегреческим преданиям, бог вина и виноделия Вакх (Бахус) победоносно проехал в колеснице, запряженной тиграми, в сопровождении свиты козлоногих фавнов и сатиров, сильванов и нимф-вакханок, по всей Греции и Востоку вплоть до Индии; в честь его устраивался ряд праздников, в том числе «оргии» или «вакханалии», отличавшиеся крайней необузданностью.
Силен — старейший из сатиров, воспитатель Вакха (греч. миф.).
Кн. Голицыной, посылая ей оду «Вольность» (стр. 123). — Обращено к той же Е. И. Голицыной, что и стихотворение «Краев чужих неопытный любитель…». В декабре 1817 г. Карамзин писал Вяземскому, что Пушкин «смертельно влюбился в Пифию Голицыну и теперь уже проводит у нее вечера».
«Когда сожмешь ты снова руку…» (стр. 123). — Обращено к Н. И. Кривцову в связи с отъездом его в Лондон для службы в русском посольстве.
Святая библия харит — знаменитая антицерковная поэма Вольтера «Орлеанская девственница».
Выздоровление (стр. 124). — Прелестный воин — одна из петербургских «прелестниц», Елизавета Шот-Шедель, посетившая тяжело болевшего в начале 1818 г. поэта под видом гусарского офицера.
Жуковскому («Когда, к мечтательному миру…») (стр. 124). — …творишь ты для немногих… — Имеются в виду изданные Жуковским сборнички «Для немногих», содержащие в себе образцы немецкой поэзии и переводы их поэтом на русский язык и выпущенные в небольшом количестве экземпляров, которые не поступали в продажу, а раздавались ближайшим друзьям. В первой журнальной публикации стихотворения в 1821 г. Пушкин снабдил его подзаголовком: «По прочтении изданных им книжек «Для немногих».
К портрету Жуковского («Его стихов пленительная сладость…») (стр. 125). — Портрет Жуковского писан Кипренским (гравирован Вендрамини).
К Н. Я. Плюсковой («На лире скромной, благородной…») (стр. 126). — Наталья Яковлевна Плюскова (ок. 1780–1845) — близкая к литературным кругам фрейлина жены Александра I, императрицы Елизаветы Алексеевны. Нелюбимая царем и отрицательно относившаяся к его реакционной политике, интересовавшаяся литературой, занимавшаяся благотворительной деятельностью, Елизавета Алексеевна пользовалась сочувствием и популярностью в либеральных кругах общества. Воспевание полуопальной царицы само по себе было выражением оппозиционной настроенности Пушкина. Однако стихотворение имело и более широкий политический смысл, поскольку у некоторых членов тайного общества возник проект нового дворцового переворота — замены (как в случае с Екатериной II) Александра I его женой. Душой этого проекта был Ф. Н. Глинка, стоявший во главе «Вольного общества любителей словесности», в органе которого — журнале «Соревнователь просвещения» — и было опубликовано пушкинское стихотворение под заглавием «Ответ на вызов написать стихи в честь ее императорского величества государыни императрицы Елизаветы Алексеевны».
Сказки. Noël (стр. 126). — Noël — французская сатирическая песенка на мотив церковных рождественских песнопений. Написано Пушкиным в связи с речью Александра I на открытии в Варшаве польского сейма, в которой царь обещал дать России конституцию. Ноэль стал широко известен в списках. В печати впервые появился только в 1858 г. в лейпцигском «Собрании стихотворений Пушкина, Рылеева, Лермонтова и других лучших авторов».
Кочующий деспот — после свержения Наполеона и организации реакционного так называемого Священного союза Александр I часто бывал за границей, на международных конгрессах.
Меня газетчик прославлял… — Александра I всячески превозносила реакционная западноевропейская печать.
Лавров И. П. — директор исполнительного департамента в министерстве полиции.
Соц В. И. — секретарь особого цензурного комитета.
Горголи И. С. — петербургский обер-полицмейстер.
К Чаадаеву («Любви, надежды, тихой славы…») (стр. 127). — Петр Яковлевич Чаадаев (1794–1856) — офицер лейб-гвардии гусарского полка, человек широкого образования (впоследствии — автор знаменитых «философских писем»), прогрессивных и вольнолюбивых взглядов (в 1821 г. вступил в «Союз благоденствия»), был в период до ссылки Пушкина его ближайшим старшим другом.
На Карамзина («В его «Истории» изящность, простота…») (стр. 128). — Эпиграмма на «Историю Государства Российского» H. М. Карамзина.
N. N. (В, В, Энгельгардту) («Я ускользнул от Эскулапа…») (стр. 129). — Обращено к Василию Васильевичу Энгельгардту (1785–1837), приятелю Пушкина, члену дружеского литературного объединения «Зеленая лампа», бывшего негласным отделом «Союза благоденствия». Активное участие в «Зеленой лампе» принимал и сам Пушкин. Энгельгардт славился своим острословием и забавными куплетами, которые ходили но всему Петербургу.
Пинд — горный хребет в Греции, местопребывание Аполлона и муз.
Орлову («О ты, который сочетал…») (стр. 129). — Обращено к командиру лейб-гвардии Конного полка генералу Алексею Федоровичу Орлову (1786–1861), приятелю генерала Павла Дмитриевича Киселева (1788–1872), назначенного в 1819 г. начальником штаба второй армии, который находился в местечке Тульчине (Подольской губернии), и обещавшего записать поэта на военную службу.
Под сенью дедовских лесов… — в Михайловском, куда Пушкин через несколько дней (стихотворение датировано им 4 июля 1819 г.) и уехал.
К Щербинину («Житье тому, любезный друг…») (стр. 131). — Обращено к офицеру, члену «Зеленой лампы» Михаилу Андреевичу Щербинину (1793–1841).
Деревня (стр. 131). — Написано в июле в Михайловском (пейзаж его зарисован в первой части стихотворения) под влиянием впечатлений от «псковского хамства» — крепостнического быта и тяжкого положения закрепощенных крестьян. Пушкин смог опубликовать под заглавием «Уединение» только первую часть стихотворения (до слов: «Но мысль ужасная здесь душу омрачает», затем следовали четыре строки многоточий), вторая получила широкое распространение в списках.
Оракулы веков — великие писатели прошлого.
Друг человечества — выражение, широко распространенное в просветительской философии XVIII в.
Русалка («Над озером, в глухих дубровах…») (стр. 134). — Стихотворение было запрещено к печати цензором Тимковским, а когда поэту удалось опубликовать его в 1826 г. в собрании стихотворений, это вызвало жалобу со стороны духовенства министру просвещения.
Уединение (стр. 135). — Вольный перевод одноименного стихотворения французского поэта Антуана Арно (1766–1834). Пушкин добавил отсутствующее в оригинале: «Вдали тиранов и невежд» (для печати был вынужден ослабить эту строку, заменив на: «Вдали взыскательных невежд»).
Всеволожскому («Прости, счастливый сын пиров…») (стр. 136). — Обращено к Никите Всеволодовичу Всеволожскому (1799–1862), сослуживцу Пушкина по Коллегии иностранных дел, члену «Зеленой лампы», в доме которого и происходили заседания кружка. На одном из них послание было оглашено поэтом.
Египетские девы — цыганки.
Пленница младая — ученица балетной школы, находившейся неподалеку от дома Всеволожского, Евдокия Михайловна Овошникова (1804–1846).
Стансы Толстому («Философ ранний, ты бежишь…») (стр. 138). — Ответ на «Послание А. С. Пушкину» петербургского приятеля поэта, члена «Союза благоденствия», одного из руководителей «Зеленой лампы» Якова Николаевича Толстого (1791–1867).
Эпиктет — греческий философ-стоик (ок. 50—ок. 138 гг.).
Послание к кн. Горчакову («Питомец мод, большого света друг…») (стр. 139). — Обращено к лицейскому товарищу Пушкина князю Александру Михайловичу Горчакову.
«Мне бой знаком — люблю я звук мечей…» (стр. 141). — Написано под влиянием известий о революции в Испании.
Юрьеву («Любимец ветреных Лаис…») (стр. 141). — Обращено к офицеру Уланского полка, члену «Зеленой лампы» Федору Филипповичу Юрьеву (1796–1860). Батюшков, прочитав это стихотворение, воскликнул: «О! Как стал писать этот злодей!»
«Увы! зачем она блистает…» (стр. 142). — Написано в Гурзуфе. Она — одна из дочерей генерала Николая Николаевича Раевского, слабая здоровьем Елена либо Екатерина, болезнью которой и была вызвана поездка Раевских на юг.
«Погасло дневное светило…» (стр. 143). — Написано, по свидетельству самого поэта, ночью на корабле по пути из Керчи в Гурзуф. Напечатано в 1820 г. в журнале «Сын отечества» с пометой под текстом: «Черное море». В последующих публикациях было указано: «Подражание Байрону».
Дочери Карагеоргия (стр. 144). — Карагеоргий (Георгий Черный) — организатор и глава национально-освободительной борьбы сербов против турецкого ига (1804–1813), с 1808 г. верховный воевода — господарь Сербии. Для достижения своей цели не останавливался ни перед чем: убил отца (точнее, отчима), угрожавшего донести туркам на повстанцев, казнил брата. Разбитый в 1813 г. турками, получил убежище в России в Хотине, близ Кишинева, где и проживала в годы ссылки Пушкина его семья. После того как его бывший соратник, воевода Милош Обренович, снова поднял восстание против турок, он тайно вернулся в 1817 г. в Сербию, но был изменнически убит Милошем, опасавшимся, что Георгий снова возьмет в свои руки верховную власть.
Черная шаль (стр. 145). — При первой публикации стихотворение имело подзаголовок «Молдавская песня».
«Редеет облаков летучая гряда…» (стр. 146). — Написано в имении А. Л. и В. Л. Давыдовых — селе Каменке, Киевской губернии. Пейзажу Каменки, расположенной на скалистых берегах реки Тясмина, противопоставляется морской пейзаж Гурзуфа.
Дева юная — скорее всего младшая дочь генерала Раевского Мария Николаевна (1805–1863), которой во время пушкинской поездки в Крым было всего пятнадцать лет. При публикации стихотворения в «Полярной звезде» Пушкин просил Бестужева опустить три относящиеся к ней стиха элегии и был крайне огорчен, что тот напечатал ее полностью.
К портрету Чаадаева («Он вышней волею небес…») (стр. 147). — Брут Марк Юний (85–42 гг. до н. э.) — политический деятель Древнего Рима, пламенный республиканец, участвовавший в убийстве Юлия Цезаря после захвата им верховной власти. Когда республиканские войска, предводительствуемые Брутом, потерпели поражение, он бросился на меч. Считался классическим образцом борца за свободу.
Периклес — Перикл (490–424 гг. до н. э.), крупнейший государственный деятель Афин, способствовавший наивысшему расцвету греческой литературы и искусства.
К портрету Вяземского («Судьба свои дары явить желала в нем…») (стр. 147). — Петр Андреевич Вяземский (1792–1878) — поэт, критик, близкий к Карамзину (его сестра была женой Карамзина), член «Арзамаса», активный участник борьбы романтиков с классиками, друг Пушкина.
На Аракчеева («Всей России притеснитель…») (стр. 147). — Совета — высшего правительственного органа — Государственного совета; для своего герба Аракчеев взял девиз: «Предан без лести». Особенно убийственна последняя строка эпиграммы, бросающая в лицо Аракчееву то, что было широко известно, но о чем никто не осмеливался гласно сказать: всесильный временщик сам находился в полном подчинении у простой, наглой и злой крепостной девки (в подлиннике употреблено еще более резкое слово), Настасьи Минкиной, его «домоправительницы» и любовницы, которая позднее за жестокое обращение с дворовыми была ими убита.
Земля и море (стр. 148). — Вольное переложение идиллии древнегреческого поэта Мосха (II в. до н. э.).
«Я пережил свои желанья…» (стр. 149). — Вначале входило в состав первой кавказской поэмы Пушкина, в монолог пленника, но затем было выделено в самостоятельное произведение (в одной из пушкинских рукописей озаглавлено «Элегия (из поэмы «Кавказ»)».
Война (стр. 149). — Написано в связи с греческим восстанием против турок в 1821 г. и слухами о готовящемся объявлении Россией войны Турции. Пушкин, который во время кишиневской ссылки находился недалеко от районов восстания, горячо сочувствовал грекам.
Из письма к Гнедичу («В стране, где Юлией венчанный…») (стр. 150). — Начало письма к поэту, переводчику «Илиады» Николаю Ивановичу Гнедичу (1784–1833) из Кишинева от 24 марта 1821 г.
Овидий мрачны дни влачил… — Древнеримский поэт Публий Овидий Назон был сослан императором Октавианом Августом, по бытовавшему преданию, за любовную связь с его дочерью Юлией в город Томы (ныне Констанца в Румынии), на берегу Черного моря. О муках изгнания Овидий писал в своих элегиях «Tristia» («Скорби»), взывая к Августу о прощении, и в «Письмах с Понта». Не одобряя «малодушия» поэта и противопоставляя ему в этом отношении себя, не поющего «молебнов лести» своему «Октавию»— Александру I, Пушкин высоко ценил поэтические достоинства этих произведений.
С Орловым спорю… — Генерал Михаил Федорович Орлов (1778–1842), брат А. Ф. Орлова, член «Арзамаса» и один из руководящих деятелей «Союза благоденствия»; с 1820 г. командовал Кишиневской дивизией. Ссыльный Пушкин, знакомый с ним еще по «Арзамасу», часто бывал в его доме — средоточии членов кишиневской ячейки тайного общества.
И смелую певицу славы // От звонких уз освободил… — После некоторых колебаний Гнедич стал переводить «Илиаду» размером подлинника — гекзаметром без рифм, в противовес своему предшественнику, поэту XVIII в. Е. И. Кострову, который переводил ее рифмованным шестистопным ямбом.
Кинжал (стр. 151). — Стихотворение, пользовавшееся особенной популярностью среди наиболее радикально настроенных декабристов. С ним специально знакомили тех, кого подготовляли к цареубийству.
Лемносский бог — Вулкан.
Кесарь — Гай Юлий Цезарь (100—44 гг. до н. э.) был заколот республиканцами в Сенате и упал к подножию статуи главы республиканцев Помпея, незадолго до этого им побежденного.
Апостол гибели — Жан-Поль Марат (1743–1793), один из крупнейших вождей революционной мелкой буржуазии во время французской революции конца XVIII в.; был убит жироидисткой Шарлоттой Корде — девой Эвменидой. Эвменида — богиня мщения (греч. миф.). Восторженно принимая первый период французской революции, Пушкин отрицательно относился к диктатуре якобинцев и террору. Этим объясняется оценка им Марата и идеализация Шарлотты Корде.
На торжественной могиле… — могила казненного студента Карла Занда, заколовшего 23 марта 1819 г. реакционного немецкого писателя Августа Коцебу (служившего агентом русского правительства), стала местом паломничества передовой немецкой молодежи.
Без надписи — т. е. направленный против всякого тирана или деятеля преступной силы — реакции.
В. Л. Давыдову («Меж тем как генерал Орлов…») (стр. 152). — Обращено к одному из видных деятелей тайного Южного общества, председателю Каменской управы Тульчинской думы, после разгрома восстания декабристов осужденному по первому разряду и сосланному на каторгу в Сибирь, где он и умер, Василию Львовичу Давыдову (1792–1855). Пушкин гостил с ноября 1820 по январь 1821 г. у В. Л. и А. Л. (милый брат) Давыдовых в Каменке, куда, воспользовавшись именинами их матери, съехалось для совещания много членов тайного общества.
Обритый рекрут Гименея — М. Ф. Орлов, который вскоре подошел «под меру» — женился на старшей дочери генерала Раевского Екатерине Николаевне.
Раевские мои — сам генерал H. Н. Раевский, брат Давыдовых по матери, и его старший сын Александр Николаевич (1795–1868), которые также гостили в эту пору в Каменке.
Безрукий князь — князь Александр Константинович Ипсиланти (1792–1828), потерявший правую руку в сражении под Дрезденом в 1813 г.; Пушкин познакомился с ним в Кишиневе в октябре 1820 г. В начале марта 1821 г. Ипсиланти поднял восстание с целью освобождения Греции от турецкого ига.
Седой обжора — митрополит Гавриил Банулеску, похороны которого состоялись незадолго перед пасхой, 30 марта 1821 г.: отсюда …с сыном птички и Марии // Пошел христосоваться в рай… — пародийное переииачивание евангельского рассказа о рождении Иисуса Христа от девы Марии и духа святого, изображавшегося в виде голубя. В этих строках зерно написанной в том же месяце поэмы «Гавриилиада».
Я променял парнасски бредни… на сушеные грибы. — В качестве чиновника Пушкин обязан был, как и его начальник, генерал Инзов, говеть, исповедоваться и причащаться.
Лафит иль кло-д-вужо — красные вина.
Эвхаристия — обряд причащения.
Те — члены итальянского революционного общества карбонариев, организовавшие в 1820 г. восстание в Неаполе, в марте 1821 г. подавленное австрийскими войсками.
Та — свобода.
Катенину («Кто мне пришлет ее портрет…») (стр. 154). — Обращено к полковнику лейб-гвардии Преображенского полка, поэту, критику, драматургу Павлу Александровичу Катенину (1792–1853), деятелю ранних декабристских организаций, отставленному в 1820 г. по политическим причинам от военной службы. Страстный театрал, Катенин был учителем актрисы А. М. Колосовой, которую Пушкин больно задел в эпиграмме «Все пленяет нас в Эсфири…» («свистом гимны заглушил»). Желая искупить свою «вину» и воспользовавшись появлением гравированного портрета Колосовой при новом издании «Андромахи» Расина в переводе гр. Д. И. Хвостова, Пушкин в форме послания к Катенину сложил артистке блистательный мадригал.
Селимена и Моина — роли, исполнявшиеся Колосовой в комедии Мольера «Мизантроп» и трагедии Озерова «Фингал».
Чаадаеву («В стране, где я забыл тревоги прежних лет…») (стр. 154). — Пушкин, узнав о распространившихся по Петербургу слухах, что его высекли в полиции, был так потрясен, что в первом порыве негодования хотел или покончить с собой, или убить царя Александра. Своим намерением он, очевидно, поделился с особенно близким ему тогда Чаадаевым, который сумел успокоить его.
…философа, который… стал картежный вор. — Пушкин имеет в виду Толстого-американца, отставного гвардейского офицера, кутилу, игрока, шулера, дуэлянта, как правило, убивавшего своих противников наповал, графа Федора Ивановича Толстого (1782–1846). Прозвище «американец» он получил за то, что, будучи участником первого русского кругосветного плавания, за недостойное поведение был высажен на одном из Алеутских островов, где прожил несколько месяцев и после всякого рода приключений вернулся через Камчатку домой. В Кишиневе до Пушкина дошло известие, что якобы Ф. И. Толстой был инициатором сплетни, согласно которой его высекли в полиции.
Оратор Лужников — профессор М. Т. Каченовский (1775–1842), издатель «Вестника Европы» (1805–1830), подписывавший некоторые свои статьи псевдонимом «Лужницкий старец» (Лужники — местность в Москве).
Вольнолюбивые надежды оживим… — Имеется в виду концовка послания Пушкина к Чаадаеву 1818 г. При публикации послания в 1821 г. эта строка была исключена цензурой.
Гони ты Шеппинга… — очевидно, того, о ком саркастически упомянул Пушкин в послании к Горчакову 1819 г.
«Кто видел край, где роскошью природы…» (стр. 159). — Навеяно воспоминаниями о поездке Пушкина в 1820 г. вдоль берегов Крыма и его жизни в Гурзуфе.
Дионея (стр. 160). — В издании 1826 г. включено в раздел «Подражаний древним». Дионея и Хромид — имена из древнегреческих идиллий.
Наполеон («Чудесный жребий совершился…») (стр. 161). — Написано по получении 18 июля 1821 г. известия о смерти 5 мая Наполеона на острове св. Елены.
Царский труп — гильотинированный Людовик XVI.
Тильзит… // Последней славою венчал… — Александр I в 1807 г. после неудачной войны в союзе с Пруссией против Наполеона вынужден был признать законность его власти как императора Франции и заключить с ним в пограничном городе Восточной Пруссии Тильзите мир и союз на весьма выгодных для него и «обидных» для русских условиях.
Померкни, солнце Австерлица… — близ города Аустерлица, в Моравии, Наполеон одержал в 1805 г. блестящую победу над союзными войсками, решившую участь всей кампании. Есть свидетельство, что, когда перед началом Бородинского сражения показалось солнце, Наполеон, обращаясь к войскам, воскликнул: «Солдаты, это солнце Аустерлица».
Льдистый ужас полуночи — жестокая зима 1812 г., способствовавшая гибели «великой армии» Наполеона во время русского похода.
«Гречанка верная! не плачь, — он пал героем…» (стр. 164). — Возможно, что стихотворение подсказано конкретным случаем, но под пером поэта он обрел обобщенный смысл прославления героизма греков, восставших против турецкого ига.
Аристогитон — афинский юноша, вместе со своим братом Гармодием убивший (в VI в. до н. э.) во время народного празднества тирана Гиппарха кинжалом, спрятанным под миртовыми ветками, и казненный за это.
К Овидию («Овидий, я живу близ тихих берегов…») (стр. 165). — Называя Овидия певцом любви, Пушкин имеет в виду его «Любовные элегии» («Amores») и прославленную поэму «Ars amatoria» («Наука любви»).
Скифия — степи, примыкающие к северным берегам Черного моря и населенные в первом тысячелетии различными племенами, считавшимися древними греками и римлянами варварскими.
Истр — древнее название Дуная.
Кокетке (стр. 168). — Обращено к жене владельца Каменки А. Л. Давыдова Аглае Антоновне, урожденной герцогине Граммон.
Простодушная Аньеса — персонаж комедии Мольера «Школа жен».
Алексееву («Мой милый, как несправедливы…») (стр. 169). — Обращено к кишиневскому сослуживцу и приятелю поэта Николаю Степановичу Алексееву (1788–1854). Слова Баратынского взяты из напечатанного им в том же 1821 г. послания «Коншину» («Пора покинуть, милый друг…»). Алексеев приревновал поэта к своей близкой знакомой Марии Егоровне Эйхфельдт.
Десятая заповедь (стр. 170). — Первая половина стихотворения — шутливый пересказ библейской заповеди Моисея.
«Хоть, впрочем, он поэт изрядный…» (стр. 171). — Поскольку в черновиках вместо «Эмилий» было «Людмилин», — видимо, сам автор «Руслана и Людмилы», — адресатом эпиграммы может быть кто-то из светских знакомых поэта.
Баратынскому. Из Бессарабии («Сия пустынная страна…») (стр. 171). — С одним из лучших поэтов-современников, Евгением Абрамовичем Баратынским (1800–1844), Пушкин познакомился в 1819 г. и очень высоко ценил его творчество.
Бессарабия, по которой Пушкин только что (в декабре 1821 г.) совершил поездку, побывав в Аккермане и в Измаиле, была воспета Державиным в «Песне на взятие Измаила».
Тень Назона — тень Овидия;
Овидием живым Баратынский назван потому, что за мальчишеский проступок он был исключен из пажеского корпуса с запретом поступать на государственную службу. Это вынудило его зачислиться рядовым в один из петербургских полков, откуда в чине унтер-офицера он был переведен в 1820 г. — год ссылки Пушкина — в Финляндию, что явилось для него также своего рода ссылкой.
Друзьям («Вчера был день разлуки шумной…») (стр. 171). — Адресовано офицерам генерального штаба В. Т. Кеку, А. П. и М. А. Полторацким и В. П. Горчакову, занимавшимся топографическими съемками Бессарабской области.
День разлуки шумной — прощальный обед, данный 14 февраля 1822 г. Полторацкими по случаю отъезда Кека. Пили из походных стаканов, вставлявшихся один в другой; самый большой из них предоставили Пушкину.
Песнь о вещем Олеге (стр. 172). — Олег — первый киевский князь из рода Рюрика, овладевший Киевом, в который перенес столицу из Новгорода, и подчинивший своей власти ряд славянских племен. После похода в 907 г. на столицу Византии, Царьград, во время которого он, по сказанию летописца, прибил в знак победы свой щит на цареградских воротах, получил прозвище Вещий — чародей. Рассказ о смерти Олега основан Пушкиным на летописном предании, приведенном Карамзиным в «Истории Государства Российского».
Хазары — кочевой народ, обитавший некогда в областях, граничивших на юге с Киевской Русью; Олег вел с ними удачную борьбу.
Кудесник, волхв — в Древней Руси мудрец-прорицатель.
Перун — бог молнии и грома, главное божество древних славян.
Игорь — сын Рюрика; после смерти Олега, который был его опекуном, княжил в Киеве.
Ольга — жена Игоря.
Гречанке («Ты рождена воспламенять…») (стр. 176). — Обращено к Калипсо Полихрони, во время греческого восстания бежавшей вместе с другими своими соотечественниками из Константинополя в Кишинев. Ходили слухи, что она была возлюбленной певца Леилы (героиня поэмы Байрона «Гяур», очень ценимой Пушкиным). Приглашая Вяземского (в письме от 5 апреля 1822 г.) по дороге в Одессу «завернуть» в Кишинев, Пушкин обещал познакомить его «с гречанкой, которая целовалась с Байроном».
Из письма к Я. Н. Толстому («Горишь ли ты, лампада наша…») (стр. 176). — Вписано в письмо к Я. Н. Толстому, одному из основателей и особенно активных участников кружка «Зеленая лампа», из Кишинева от 26 сентября 1822 г. после строк: «Ты один изо всех моих товарищей, минутных друзей минутной младости, вспомнил обо мне… два года и шесть месяцев не имею от них никакого известия, никто ни строчки, ни слова…»
Лампада наша — зеленая лампа, висевшая в комнате собраний членов кружка, от которой он и получил свое название.
Вино кометы — шампанское сбора 1811 г. — года появления кометы, — славившееся своим особенно высоким качеством.
Калмык — слуга-мальчик, прислуживавший за столом. По установившемуся обычаю, когда кто-нибудь из присутствующих, вспоминал Толстой, «отпускал» «пошлое словцо», мальчик должен был подойти к нему и сказать «здравия желаю». Пушкин, продолжает Толстой, «ни разу не подвергался калмыцкому желанию здравия. Он иногда говорил: «Калмык меня балует, Азия протежирует Африку…»
Послание цензору (стр. 177). — Послание обращено к одному из самых трусливых и тупых цензоров того времени, петербургскому цензору А. С. Бирукову, на просмотр к которому попадала большая часть произведений Пушкина.
Бунина А. П. — посредственная поэтесса, почетный член «Беседы любителей русского слова».
…Куницына Маратом… — лицейский учитель Пушкина, Александр Петрович Куницын (1783–1840), исполненный свободолюбивых идей, оказал очень большое влияние на самого поэта и на его товарищей. В разгар реакции, в 1821 г., его ранее напечатанная книга «Право естественное», в основу которой был положен курс его лицейских лекций, стала конфисковываться и уничтожаться, как «противоречащая явным истинам христианства и клонящаяся к ниспровержению всех связей, семейственных и государственных».
…государь велит печатать без тебя. — Пушкин имеет в виду данное Александром I Карамзину право печатать его «Историю Государства Российского» без цензуры.
Певец Пиров — Е. А. Баратынский, автор поэмы «Пиры», опубликованной в 1821 г.
Шутливые оды — непристойные произведения поэта и переводчика XVIII в. И. С. Баркова широко распространялись в списках.
Пушкина стихи. — Поэт имеет в виду свои собственные политические стихи и эпиграммы.
Шаликов — князь Петр Иванович Шаликов (см. о нем с. 703, прим, к стих. «Тень Фонвизина») (см. прим. 89 — верстальщик).
Наказ Екатерины — руководство для созванной Екатериной II в 1767 г. комиссии по выработке новых государственных законов; «Наказ» был составлен в весьма либеральных тонах, но никакого фактического влияния не имел. В «Замечаниях по русской истории XVIII века» Пушкин прямо называл его «лицемерным». Цензору он напоминает о нем по чисто тактическим соображениям, делая вид, что принимает его всерьез.
Сатирик превосходный — Д. И. Фонвизин.
Державин, бич вельмож. — Державину принадлежит много сатирических и обличительных од, направленных против высшей знати («Вельможа», «Властителям и судьям» и др.).
Наперсник Душеньки — И. Ф. Богданович, автор поэмы «Душенька».
Дней Александровых прекрасное начало. — Самые первые годы царствования Александра I отличались некоторым либерализмом; в частности, тогда было издано много книг, переиздание которых впоследствии безусловно запрещалось цензурой.
Те годы — времена царствования Павла I, в 1797 г. запретившего к употреблению тринадцать слов, которые, по его мнению, имели революционное звучание, в числе их находилось и слово «отечество», вместо которого предписывалось употреблять слово «государство».
Бентам Иеремия (1748–1832) — английский либеральный правовед. Переизданная в 1820 г. в новом переводе «Всеобщая история» французского историка XVIII в. аббата Милота «попала в сети» — подверглась резким цензурным искажениям.
Хоть умного себе возьми секретаря. — Несколько измененная строка из басни Крылова «Оракул».
«Наперсница волшебной старины…» (стр. 181). — В образе веселой старушки, первом не условном, а реальном олицетворении своей музы, Пушкин, по-видимому, объединяет няню Арину Родионовну и свою бабку Марию Алексеевну Ганнибал, которая обучила поэта русской грамоте и любила рассказывать о старине, о предках.
Ф. Н. Глинке («Когда средь оргий жизни шумной…») (стр. 181). — Федор Николаевич Глинка (1786–1880) — офицер, участник Отечественной войны. Пушкин высоко ценил его как человека, но об его стихах отзывался чаще всего иронически. Глинка принял горячее участие в защите Пушкина, когда в апреле 1820 г. над ним нависла угроза тяжкой правительственной кары, а после того как поэта постигнул остракизм (так называлось в Древней Греции изгнание по политическим мотивам из пределов государства) — ссылка из Афин — Петербурга на юг, не побоялся в отличие от большинства его друзей и знакомых публично обратиться к нему со стихотворным приветствием, содержавшим восторженную характеристику его творчества. За это в своем ответном послании Пушкин и называет его Аристидом. Аристид (ок. 540 — ок. 487 гг. до н. э.) — афинский государственный деятель, слывший образцом чести и справедливости.
Адели (стр. 182). — Обращено к дочери А. Л. и А. А. Давыдовых Адели Александровне, которой, когда Пушкин встречался с ней в Каменке, было двенадцать лет.
Лель — по ошибочным представлениям того времени, древнеславянский бог любви (на самом деле это лишь песенный припев).
Узник (стр. 182). — Вскормленный в неволе орел молодой находился во дворе кишиневского острога; о посещении острога в 1821 г. Пушкин записал в своем дневнике.
Птичка (стр. 183). — Посылая стихотворение в письме к Гнедичу от 13 мая 1823 г., Пушкин спрашивал, знает ли он о «трогательном обычае русского мужика» весной в «светлое», то есть пасхальное, воскресенье выпускать на волю птичку, и добавлял: «Вот вам стихи на это».
Царское Село («Хранитель милых чувств и прошлых наслаждений…») (стр. 183). — Набросанное в 1817–1819 гг. стихотворение осталось недоработанным. Снова Пушкин вернулся к нему в Кишиневе и начал перерабатывать, в частности, хотел закончить строфу стихами, связанными со своим положением ссыльного: «Печали тихий друг и глаз очарованье, // Явись, тебя зову я в мрачное изгнанье». Но и на этот раз работа не была завершена.
«Кто, волны, вас остановил…» (стр. 184). — Недоработанный черновой набросок; в предпоследнем стихе слово «свободы» отсутствует и добавлено по смыслу редакторами.
«Завидую тебе, питомец моря смелый…» (стр. 184). — Недоработанный черновик.
«Надеждой сладостной младенчески дыша…» (стр. 185). — Строка «В страну, где смерти нет, где нет предрассуждений» — в первых вариантах носила политический характер: «Страну, где нет оков, где нет предрассуждений» и еще резче: «Страну, где нет царей…»
«Простишь ли мне ревнивые мечты…» (стр. 186). — Обращено к предмету одного из самых страстных увлечений Пушкина, дочери венского банкира Риппа, Амалии, вышедшей замуж за триестского купца Ризнича и весной 1823 г. приехавшей вместе с матерью-итальянкой в Одессу, где поэт с ней и познакомился.
«Свободы сеятель пустынный…» (стр. 187). — Посылая Александру Ивановичу Тургеневу (1784–1845), давнему другу семьи поэта, в письме от 1 декабря 1823 г. «лучшие», но политически нецензурные строфы из стихотворения «Наполеон» о победе французской революции, Пушкин иронически прибавлял: «Это последний мой либеральный бред. Теперь я раскаялся и на днях написал подражание басне умеренного демократа Иисуса Христа». Эпиграф к стихотворению заимствован из Евангелия.
Кн. М. А. Голицыной («Давно об ней воспоминанье…») (стр. 187). — Обращено к Марии Аркадьевне Голицыной (1802–1870), внучке полководца А. В. Суворова, с которой Пушкин встречался до ссылки и, по-видимому, снова встретился в Одессе. Во время этих встреч она повторяла поэту создания его лиры слез и тайной муки — пела положенные на музыку его элегические стихи.
«Недвижный страж дремал на царственном пороге…» (стр. 188). — Политическое стихотворение, связанное с горькими раздумьями Пушкина о нанесшем тяжелый удар по его «вольнолюбивым надеждам» на победу «народов» над «королями» разгроме силами Священного союза, под эгидой владыки севера — царя Александра I, национально-освободительных движений в ряде европейских стран и торжестве реакции, распространившейся на всю континентальную Европу от Италии (Тибровых валов — холмов на берегу Тибра, на которых построен Рим) и Испании (башен Гибралтара) до Польши (Вислы), Петербурга (Невы) и Царского Села — резиденции Александра.
Давыдову («Нельзя, мой толстый Аристип…») (стр. 191). — Обращено к Александру Львовичу Давыдову (1773–1833), генерал-майору в отставке, который оставался чужд политической деятельности своего брата-декабриста, Василия Львовича, и старался жить в свое удовольствие.
Аристип — древнегреческий философ (V в. до н. э.), учивший, что цель и смысл жизни — в наслаждениях.
Но не могу с тобою плыть… — при первой публикации стихотворение имело подзаголовок: «На приглашение ехать с ним морем на полуденный берег Крыма». Поездка эта была организована новороссийским генерал-губернатором, графом Михаилом Семеновичем Воронцовым, в одесской канцелярии которого служил в течение года (с июля 1823 по июль 1824 г.) Пушкин. Воронцов вскоре возненавидел поэта, который, в свою очередь, преследовал его убийственными эпиграммами. В число многочисленных участников этой поездки Пушкин подчеркнуто не был включен.
Чахоточный отец… Энеиды — древнеримский поэт Вергилий — автор эпической поэмы «Энеида». Вергилий болел легкими, поэтому жил на южном побережье Италии и наконец — после нескольких лет работы над поэмой — пустился морем на места ее действия — в Грецию и Азию.
Гораций — древнеримский поэт.
Августов певец (в ряде своих од прославлял императора Августа), написавший оду «К кораблю, везущему в Афины Вергилия».
Прозерпина (стр. 191). — Вольный перевод из «Déguisements de Vénus» («Превращений Венеры») (XVII картина) Парни (в рукописи подзаголовок «Подражание Парни»).
Прозерпина — дочь Кереры (Цереры), богини растительного царства, жена Плутона, бога подземного царства — Аида, самая нижняя область которого, Тартар, окружена огненной рекой Флегетоном (греч. миф.).
Пелион — горный хребет в Фессалии, в Греции.
Из письма к Вульфу («Здравствуй, Вульф, приятель мой!..») (стр. 192). — Стихотворная часть письма Пушкина от 20 сентября 1824 г. Алексей Николаевич Вульф (1805–1881) — сын (от первого брака) П. А. Осиповой, студент Дерптского (Тартуского) университета, где он учился вместе с поэтом Языковым. Когда Пушкин приехал в августе 1824 г. в ссылку в Михайловское, Вульф во время летних каникул жил у матери в Тригорском, и поэт близко сошелся с ним.
Пострелять из пистолета… — Готовясь к дуэли с таким грозным противником, как Толстой-американец, Пушкин, и без того отлично стрелявший, систематически упражнялся в пистолетной стрельбе.
Курчавый брат — Лев (по-английски Лайон) Сергеевич Пушкин.
К Языкову («Издревле сладостный союз…») (стр. 193). — С Николаем Михайловичем Языковым (1803–1846) Пушкин еще не был лично знаком, но высоко ценил его поэтическое дарование и много слышал о нем от Вульфа. Языков отозвался на пушкинское письмо ответным посланием «А. С. Пушкину» («Не вовсе чуя бога света…»), но на приглашение Пушкина откликнулся позднее, приехав в Тригорское только в середине июня 1826 г.
Разговор книгопродавца с поэтом (стр. 194). — Пушкин был первым русским писателем, сделавшим свой литературный труд во всех отношениях основным делом своей жизни, начавшим жить на свой литературный заработок. Это было явлением исторически весьма прогрессивным, делало писателя материально независимым от всякого рода покровителей и «меценатов». В силу укоренившихся понятий своего круга на первых порах Пушкин несколько стеснялся писательского «ремесла». Однако через некоторое время он, по его собственным словам, «поборол в себе отвращение писать и продавать свои стихи для того, чтобы иметь средства к существованию», и в то же время понял, что в этом залог его независимости — «свободы». Выражением этого и является «Разговор…», которому Пушкин придавал особое значение и напечатал его перед первой главой «Евгения Онегина» в качестве своего рода введения в роман, демонстрирующего новое, «прозаическое» отношение Пушкина к действительности.
К морю (стр. 199). — Стихотворение написано в связи с высылкой поэта из Одессы в Михайловское; начато в Одессе, закончено в Михайловском (строфы о Наполеоне и о Байроне). В период пребывания в Одессе Пушкин, стремясь вырваться из ссылки, подумывал бежать морем за границу, отсюда и слова о поэтическом побеге.
Могучей страстью очарован… — увлечение женой М. С. Воронцова, Елизаветой Ксаверьевной (урожд. гр. Браницкой; 1792–1880).
Гробница славы — остров св. Елены.
Другой властитель наших дум — Байрон; он стал на сторону восставших греков и снарядил военный корабль, на котором отплыл в Грецию, где вскоре простудился и умер в апреле 1824 г.
Где капля блага, там на страже // Уж просвещенье… — тезис Руссо, подхваченный романтиками, о том, что «просвещенье» — собственническая европейская цивилизация — источник всех зол и спасенье в возврате к «природе».
Коварность (стр. 201). — Стихотворение вызвано дошедшими до Пушкина слухами, что А. Н. Раевский, злоупотребив дружеской доверчивостью поэта, из ревности выдал гр. Воронцову тайну его сердечных отношений с женой Воронцова.
«О дева-роза, я в оковах…» (стр. 202). — При первой публикации имело подзаголовок: «Подражание турецкой песне».
«Туманский прав, когда так верно вас…» (стр. 202). — По обоснованному предположению редакторов, первое слово стихотворения в автографе, обозначенное только начальной буквой Т., следует читать: «Туманский». Василий Иванович Туманский (1800–1860) — поэт, служил чиновником по особым поручениям при графе Воронцове. Летом 1823 г. прибыл с Воронцовым в Одессу (там Пушкин с ним и познакомился).
Фонтану Бахчисарайского дворца (стр. 203). — В числе достопримечательностей ханского дворца в Бахчисарае находится так называемый «Фонтан слез», который, по преданию, хан Гирей воздвиг в память своей возлюбленной, польской княжны Марии, убитой из ревности женой хана, грузинкой Заремой, — сюжет, положенный Пушкиным в основу его поэмы «Бахчисарайский фонтан». В надписи над фонтаном содержится похвала Сирии и Багдаду.
«Ночной зефир…» (стр. 204). — Впервые опубликовано в альманахе «Литературный музеум на 1827 год», под заглавием «Испанский романс», вместе с нотами А. Н. Верстовского, положившего романс на музыку.
«Ненастный день потух…» (стр. 204). — Поскольку в стихотворении имеется противопоставление северному пейзажу южного, одесского, очевидно, оно навеяно мыслями о Е. К. Воронцовой.
Подражания Корану (стр. 205). — Цикл «Подражаний Корану» — собранию проповедей Магомета, объявленных им божественным откровением и ставших главной священной книгой мусульман, — один из великолепных образцов художественного проникновения Пушкина в мир других национальных культур. Давая вольный пересказ различных глав («сур») и отдельных мест из Корана, Пушкин сумел замечательно передать общий дух подлинника. В то же время боевой, призывно-воинствующий пафос некоторых из «Подражаний» соответствовал психологическому настрою передовых людей эпохи. Недаром они были так восторженно встречены декабристами. В первом «Подражании» звучат и лирико-биографические ноты (мотивы гоненья, одаренности языка Магомета могучей властью над умами — в подлиннике отсутствуют). Посвящение цикла П. А. Осиповой также могло быть связано с тем, что в особенно тяжкие первые месяцы новой ссылки поэта (принятие его отцом поручения следить за сыном, просматривать его письма, отсюда резкий разрыв с родителями) он обретал сень успокоенья в соседнем Тригорском.
«Ты вянешь и молчишь; печаль тебя снедает…» (стр. 211). — В рукописи названо «Подражание Андрею Шенье — вольный перевод его стихотворения «Jeune fille, ton coeur avez nous veut se taire…» («Юная девушка, твое сердце молчит в нашем присутствии»),
Чаадаеву («К чему холодные сомненья?..») (стр. 211). — Стихотворение навеяно впечатлениями крымской поездки и тогдашними раздумьями поэта на месте развалин (у Георгиевского монастыря на южном побережье Крыма), считавшихся, по преданию, руинами храма древнегреческой богини Артемиды. Холодные сомненья в достоверности этого предания высказал И. М. Муравьев-Апостол в вышедшей в 1823 г. книге «Путешествие по Тавриде». С грозным храмом Артемиды связан миф о сыне царя Агамемнона Оресте, который, мстя матери за убийство отца, убил ее возлюбленного. Обрушившаяся на него за это вражда свирепой Эвмениды — богини мщения могла прекратиться при условии похищения им крымской статуи Артемиды. Отправившийся туда вместе со своим другом Пил адом Орест был схвачен и должен был быть принесен в жертву богине. Пилад великодушно предложил заменить друга, но Орест отказался от этого. Жрица Артемиды, которая должна была заколоть Ореста, оказалась его сестрой Ифигенией. В самый критический момент она узнала брата, спасла обоих друзей и бежала вместе с ними в Грецию, где явилась провозвестницей культа Артемиды Таврической. Дружбу Ореста и Пилада Пушкин приравнивает к своим отношениям с Чаадаевым, непосредственно связывая новое послание к нему с посланием 1818 г., в котором надеялся, что имена их обоих будут написаны благодарной родиной на развалинах иных — «обломках самовластья».
Аквилон (стр. 212). — Своеобразное обращение к Александру I — грозному аквилону, низвергнувшему надменный дуб — Наполеона, а теперь ополчившемуся на легкое облачко — поэта, гневно перебросившему его на дальний небосклон — с юга на север, в Михайловское. Попытки некоторых исследователей связать несомненный аллегоризм этого стихотворения с разгромом восстания декабристов не убедительны.
«Пускай увенчанный любовью красоты…» (стр. 213). — Заветное золото — медальон с миниатюрой любимой.
Второе послание к цензору (стр. 213). — В 1824 г. министром народного просвещения на место Александра Николаевича Голицына (1773–1844) был назначен Александр Семенович Шишков (1754–1841) — адмирал, писатель и реакционный государственный деятель. По своим литературным вкусам Шишков был безусловным сторонником старой, отжившей поэзии XVIII в. и решительным противником новой литературной школы Карамзина — Жуковского — Пушкина. Тем не менее Пушкин надеялся, что с назначением Шишкова на пост министра народного просвещения, который тем самым становился главой цензурного ведомства, гнет цензуры несколько ослабнет. Этим и вызвано новое послание к наследнику Тимковского (в 1821 г. вышедшего в отставку), Бирукову, к которому было обращено и первое послание.
…он русских муз… созвал, соединил…— Имеется в виду «Беседа любителей русского слова», главой которой был Шишков, привлекший к участию в ней Державина (венца Екатерины).
Святой отец — князь Голицын (см. выше), который, прияв за образец Омара-ибн-Хаттаба, мусульманского калифа, которому приписывалось сожжение в 642 г. знаменитой александрийской библиотеки, и Али-бен-Аби-Талеба, другого мусульманского калифа, распорядился сжечь труд А. П. Куницына «Право естественное».
Магницкий Михаил Леонтьевич (1778–1844) — один из самых крайних реакционеров и «душителей просвещения» александровского царствования, разгромивший в 1819 г. Казанский университет «за безбожное направление».
Кавелин-дурачок — Кавелин Дмитрий Александрович (1778–1851) — ректор Петербургского университета, деятельный пособник Голицына и Магницкого; возбудил дело против другого лицейского учителя Пушкина, проф. А. И. Галича, за вредное направление его лекций. Над Галичем, который покаялся в своих «заблуждениях», была совершена специальная церемония «очищения» в церкви «святой водой». Одно время (до его «подвигов» на поприще просвещения) Кавелин был близок литературным кругам, в которых до ссылки вращался и молодой Пушкин, и был принят в «Арзамас».
«Полу-милорд, полу-купец…» (стр. 215). — Эпиграмма на М. С. Воронцова (1782–1856), который был сыном русского посла в Лондоне, где и получил образование. В дальнейшем кичился своей англоманией, на что намекает Пушкин словом полу-милорд. Полу-купцом он назван за то, что принимал участие в торговых операциях Одесского порта.
«Не знаю где, но не у нас…» (стр. 215). — Эпиграмма на М. С. Воронцова. Первый стих — отклик на аналогичное выражение в эпиграмме Вяземского (1821).
«Охотник до журнальной драки…» (стр. 215). — Эпиграмма на Каченовского, которого Пушкин счел автором статьи «Второй разговор между классиком и издателем «Бахчисарайского фонтана», направленной против Вяземского. На самом деле статья, опубликованная под псевдонимом N в журнале Каченовского, была написана М. А. Дмитриевым.
Сожженное письмо (стр. 216). — Она — Е. К. Воронцова. О том, какое значение имели для Пушкина ее письма, рассказывает (со слов сестры поэта) его первый биограф П. В. Анненков; «…когда приходило из Одессы письмо с печатью, изукрашенною точно такими же кабалистическими знаками, какие находились и на перстне ее брата, — последний запирался в своей комнате, никуда не выходил и никого не принимал к себе».
Козлову («Певец, когда перед тобой…») (стр. 216). — Иван Иванович Козлов (1779–1840) — поэт, переводчик Байрона. В возрасте около сорока лет был разбит параличом, лишившим его ног, а три года спустя совершенно ослеп. Год потери зрения был вместе с тем и годом оживленной литературной деятельности Козлова. В 1825 г. вышла его поэма «Чернец», в которой современники увидели черты сходства с трагической судьбой автора и которая имела огромный успех. Козлов послал Пушкину экземпляр «Чернеца» с собственноручной надписью. Это глубоко взволновало Пушкина. «Подпись слепого поэта тронула меня несказанно. Повесть его прелесть», — писал он брату. Этим и было вызвано настоящее послание, которое Пушкин, введя в собрание своих стихотворений, сопроводил (в оглавлении) подзаголовком («по получению от него «Чернеца»). Эпитет небесным пением, видимо, по цензурным причинам в печати был заменен на «чудесным».
Желание славы (стр. 217). — Обращено к Е. К. Воронцовой.
Грозный день разлуки пришел в связи с ссылкой поэта из Одессы в Михайловское.
П. А. Осиповой («Быть может, уж недолго мне…») (стр. 218). — …в дали, в краю чужом… — как и в бытность в Одессе, Пушкин замышлял бежать из ссылки за границу.
«Храни меня, мой талисман…» (стр. 218). — Талисман — перстень, который в день печали — перед разлукой — подарила на память поэту Е. К. Воронцова и о котором упомянуто в стихотворении «Сожженное письмо».
Андрей Шенье (стр. 219). — Шенье Андре (1762–1794) — французский поэт. В своей лирике Шенье стремился дать почувствовать подлинную стихию древнегреческой поэзии — ее замечательную пластичность, строгость и сдержанность формы, величайшую художественную простоту. Этим он был очень близок Пушкину, что сказалось на целом ряде стихотворений Пушкина, являющихся порой непосредственным переложением стихов Шенье, порой сходных по своим мотивам. Шенье горячо приветствовал первые шаги Великой французской буржуазной революции, воспев их в двух одах. Однако он не принял дальнейшего развития революционных событий: во время процесса короля выступил в его защиту, резко выступал против якобинцев. Шенье был арестован и казнен 25 июля 1794 г., накануне переворота, свергнувшего вождя революционной мелкой буржуазии Робеспьера, который вскоре был казнен вместе с его наиболее преданными сторонниками. Как уже указано в примечании к стихотворению «Кинжал», в основном так же относился к событиям первой французской революции и сам Пушкин. Однако разница была в том, что не пойти в революционной Франции 1793 г. дальше прославления первых шагов революции — значило стать в лагерь ее врагов, славить же в реакционной аракчеевской России, накануне 14 декабря 1825 г., те же первые дни французской революции — значило писать революционные стихи. Это доказывается и судьбою данного стихотворения Пушкина. Строки, посвященные в нем описанию французских революционных событий (44 стиха), были выкинуты цензурой. Мало того, после восстания декабристов эти выброшенные строки стали распространяться в списках с надписью «На 14 декабря». Списки дошли до правительства. Главный виновник распространения их, офицер Алексеев, был приговорен к смертной казни; допрашивался и Пушкин, которому удалось доказать, что «все сии стихи, написанные к тому же до восстания декабристов, никак без явной бессмыслицы не могут относиться к 14 декабря» и что они столь же «явно относятся к французской революции». Однако это не исключало лирической окраски в описании ссыльным Пушкиным переживаний заключенного в темницу французского поэта. Равным образом проклятия Шенье в адрес его врагов — Робеспьера и якобинцев — в том же внутреннем, лирическом плане переключались Пушкиным в адрес преследовавшего его Александра I, узнав о смерти которого, Пушкин восклицал в письме к П. А. Плетневу: «…душа, я пророк, ей-богу, пророк! Я Андрея Шенье велю напечатать церковными буквами, во имя отца и сына etc.».
Близ Данте Пушкин помещает Байрона, потому что он принимал участие в национальном освободительном движении итальянских революционеров-карбонариев, считавших Данте величайшим национальным гением и своим предтечей.
Усталая секира — гильотина.
(V. Les derniers vers d'André Chénier.) —
— (примечание автора — верстальщик)
(См. Последние стихи Андрея Шенье) (франц.).
Позорная твердыня — Бастилия, взятая и разрушенная восставшим народом.
Великодушная присяга — клятва, данная членами генеральных штатов, представителями третьего сословия, объявившими себя Национальным собранием, — не расходиться, пока они не выработают конституции.
…самовластию бестрепетный ответ. — Ответ вождя «конституционалистов» графа Оноре Мирабо (1749–1791) посланцам короля, объявившим о роспуске генеральных штатов, что они собрались но воле нации и удалить их можно только силою штыков: «Подите, скажите вашему повелителю…» и т. д.
Пламенный трибун — по объяснению самого Пушкина, данному на следственной комиссии: «Он же, Мирабо».
Пантеон — в древности храм всех богов, в Париже — здание, предназначавшееся для церкви святой Женевьевы, но превращенное декретом Национального собрания в место погребения великих людей; туда был перенесен прах Вольтера и Руссо.
Убийца с палачами — «Робеспьер и Конвент» — ответ, данный Пушкиным следственной комиссии.
У Авеля, y Фанни. —
Abel, doux confident des mes jeunes mystères (El. I): 1 один из друзей A. Ш.
Fanni, l’une des maîtresses d’An. Ch. Voyez les odes qui lui sont adressées 2. — (примечание автора — верстальщик)
1 Авель, милый наперсник моих юношеских тайн (Элегия I) (франц.),
2 Фанни, одна из любовниц Андрея Шенье. См. оды, к ней обращенные (франц.).
И Узница моя. —
V. La jeune Captive (M-lle de Coigny) 1. — (примечание автора — верстальщик)
1 См. Юная Пленница (М-ль де Куаньи) (франц.).
Voyes ses ïambes.
Chénier avait mérité la haine des factieux. Il avait célébré Charlotte Corday, flétri Collot d’Herbois, attaqué Robespierre. — On sait que le roi avait demandé à l’Assemblée, par une lettre pleine de calme et de dignité, le droit d’appeler au peuple du jugement qui le condamnait. Cette lettre signée dans la nuit du 17 au 18 janvier est d’André Chénier.
(H. de la Touche.) 1 — (примечание автора — верстальщик)
1 См. его ямбы.
Шенье заслужил ненависть мятежников. Он прославлял Шарлотту Корде, клеймил Колло д’Эрбуа, нападал на Робеспьера. — Известно, что король испрашивал у Конвента письмом, исполненным спокойствия и достоинства, права апеллировать к народу на вынесенный ему приговор. Это письмо, подписанное в ночь с 17 на 18 января, составлено Андреем Шенье.
(А. де ла Туш) (франц.). — (примечание автора — верстальщик)
Дева-эвменида — Шарлотта Корде.
Он был казнен 8 термидора, т. е. накануне низвержения Робеспиерра. — (примечание автора — верстальщик)
На роковой телеге везли на казнь с Ан. Шенье и поэта Руше, его друга. Ils parlèrent de poésie à leurs derniers moments: pour eux après l’amitié c’était la plus belle chose de la terre. Racine fut l’objet de leur entretien et de leur dernière admiration. Ils voulurent réciter ses vers. Ils choisirent la première scène d’Andromaque.
(H. de la Touche.) 1 — (примечание автора — верстальщик)
1 В свои последние минуты они беседовали о поэзии. Она была для них, после дружбы, прекраснее всего на свете. Предметом их разговора и последнего восхищения был Расин. Они решили читать его стихи. Выбрали они первую сцену Андромахи.
(А. де ла Туш) (франц.).
На месте казни он ударил себя в голову и сказал: pourtant j’avais quelque chose là 1. — (примечание автора — верстальщик)
1 Все же здесь у меня кое-что было (франц.).
К*** («Я помню чудное мгновенье…») (стр. 225). — Обращено к Анне Петровне Керн (1800–1879) — родственнице П. А. Осиповой. Пушкин встретил ее впервые на балу в Петербурге в 1819 г. Вторая встреча, более длительная, произошла летом 1825 г., когда А. П. Керн гостила у Осиповой в соседнем Тригорском. Передано ей в день отъезда «на прощанье».
«Если жизнь тебя обманет…» (стр. 230). — Вписано в альбом дочери П. А. Осиповой, тогда пятнадцатилетней Евпраксии Николаевны (Зизи) Вульф (1809–1883).
«Цветы последние милей…» (стр. 231). — Стихотворение-отклик на присылку П. А. Осиповой «в позднюю осень» (датировано 16 октября) цветов поэту.
19 октября («Роняет лес багряный свой убор…») (стр. 231). — Первая из серии так называемых «лицейских годовщин» Пушкина, связанных с открытием в этот день царскосельского Лицея (в 1811 г.) и по установившейся традиции ежегодно праздновавшихся лицеистами первого — пушкинского — выпуска.
Кудрявый наш певец — Н. А. Корсаков, даровитый композитор-любитель, положивший на музыку два лицейских стихотворения Пушкина.
Чужих небес любовник беспокойный — товарищ Пушкина Федор Федорович Матюшкин (1799–1872), по окончании Лицея поступил во флот и вскоре отправился в кругосветное плавание.
«На долгую разлуку…» — переиначенные строки из прощальной песни Дельвига по случаю окончания Лицея «Судьба на вечную разлуку, // Быть может, здесь сроднила нас». Пущин в январе 1825 г. первый из всех друзей Пушкина отважился посетить опального друга в Михайловском.
…проселочной дорогой // Мы встретились… — В сентябре 1825 г., проездом из-за границы, А. М. Горчаков заехал в псковское имение своего дяди, куда Пушкин приехал повидаться с ним.
Вещун пермесских дев — т. е. муз — А. А. Дельвиг, также посетивший ссыльного Пушкина в Михайловском.
Брат родной по музе, по судьбам — Вильгельм Карлович Кюхельбекер, в 1821 г. выступил в Париже (куда попал в качестве секретаря одного знатного русского путешественника) с публичными лекциями о русской литературе. Лекции своим «вольнодумным тоном» вызвали неудовольствие русских властей, и Кюхельбекер вынужден был вернуться в Россию. С большим трудом ему удалось получить место при главнокомандующем на Кавказе, генерале Ермолове. Однако уже в 1822 г. вследствие ссоры и дуэли с племянником Ермолова он должен был выйти в отставку и с того времени перебивался частными уроками и мелкой литературной работой.
Поговорим… о Шиллере… — Кюхельбекер из всех лицеистов особенно хорошо знал немецкую литературу и больше всего увлекался Шиллером. В рукописи стихотворению был предпослан эпиграф из Горация: «Nunc est bibendum» («Теперь следует пить»).
Зимний вечер (стр. 235). — Добрая подружка — няня Арина Родионовна. Здесь упоминаются народные песни: «За морем синичка не пышно жила» и «По улице мостовой шла девица за водой».
«Вертоград моей сестры…» (стр. 236). — Это и следующее стихотворения, объединенные при первой публикации заглавием «Подражания», навеяны мотивами библейской «Песни песней» царя Соломона.
Вертоград — сад.
Нард, алой и киннамон — благовонные растения.
С португальского (стр. 237). — Вольный перевод стихотворения «Воспоминания» бразильского поэта T.-А. Гонзага (1744–1810).
«О муза пламенной сатиры!..» (стр. 239). — По свидетельству близкого приятеля Пушкина С. А. Соболевского, поэт хотел предпослать это стихотворение в качестве предисловия к задуманному, но не осуществленному им сборнику своих эпиграмм.
«Сказали раз царю, что наконец…» (стр. 239). — Мятежный вождь, Риэго-и-Нуньес Рафаэль (1785–1823), возглавлявший в 1820 г. восстание против испанского короля Фердинанда VII, в 1823 г. был арестован и вскоре казнен в Мадриде. Когда Александр I получил известие об этом, граф Воронцов, хотя и слыл либералом на английский лад, в присутствии многих сказал царю: «Какое счастливое известие» (по другим свидетельствам, даже добавив: «Одним мерзавцем меньше»).
Приятелям (стр. 240). — Было опубликовано в «Московском телеграфе» под заглавием «Журнальным приятелям», произвольно сужавшим более широкое — не специально литературное, а скорее политическое — звучание, придававшееся ему поэтом (в письме его к Рылееву, написанном около этого же времени, во второй половине июля — августе 1825 г. «нашим приятелем» иронически назван сам Александр I). Видимо, поэтому Пушкин счел необходимым довести это до сведения читателей, опубликовав в «Северной пчеле» Булгарина, тогда еще не ставшего на сторону реакции, соответствующее уточнение: «А. С. Пушкин просил издателей «Северной пчелы» известить публику, что стихи его сочинения, напечатанные в № 3 «Московского телеграфа», на стр. 215, под заглавием «К журнальным приятелям» должно читать просто: «К приятелям».
Совет (стр. 240). — В отличие от предыдущей данная эпиграмма непосредственно направлена в адрес «приятелей» журнальных.
Жив, жив Курилка! (стр. 241). — Эпиграмма на Каченовского вызвана пренебрежительным отзывом о «Кавказском пленнике», опубликованном в «Вестнике Европы» (1825, № 3) за подписью: «Юст Веридиков». В основе эпиграммы — старинная песенка, исполнявшаяся при гадании с лучинкой; если до конца ее лучинка не сгорит, задуманное желание исполнится.
Ex ungue leonem (стр. 241). — На эпиграмму Пушкина, опубликованную за подписью А. П. и под неверным заглавием «Журнальным приятелям» (см. прим. к стих. «Приятелям»), отозвался один из них — писатель Александр Ефимович Измайлов (1779–1831), написав статью в издававшемся им журнале «Благонамеренный», над которым Пушкин и его друзья неоднократно подтрунивали: «Страшно, очень страшно! Более же всего напугало меня то, что у господина сочинителя есть когти!»
Движение (стр. 242). — В основу первой части стихотворения положен известный анекдот из истории античной философии о споре Зенона Элейского (V в. до н. э.) с Антисфеном.
Мудрец брадатый — Зенон, который софистически утверждал, что движения по существу нет, ибо оно «только название, данное целому ряду одинаковых положений, из которых каждое отдельно взятое есть покой».
Другой — Антисфе н апеллировал к непосредственному чувству (Другой смолчал и стал пред ним ходить).
«Воспитанный под барабаном…» (стр. 242). — Эпиграмма на Александра I, лично командовавшего русской армией, разбитой Наполеоном под Аустерлицем. Александр придавал огромное значение «фрунтовой науке» — превращению солдат в обезличенных автоматов, что достигалось путем непрерывной и самой свирепой муштры, при которой за малейшую неисправность виновного подвергали жесточайшим наказаниям. После победы над Наполеоном Александр в качестве одного из вождей Священного союза стал обращать почти все свое внимание не на внутреннее управление Россией, которое целиком перешло в руки Аракчеева, а на подавление революционного движения в различных европейских странах, причем русская политика оказалась всецело на поводу у реакционнейшего австрийского министра Меттерниха, который ловко сумел использовать организацию Священного союза в интересах Австрийской империи. Это и имеет в виду Пушкин, иронически называя Александра коллежским асессором (небольшой чиновничий чин) по части иностранных дел.
«От многоречия отрекшись добровольно…» (стр. 242). — Написано на полях рукописной тетради 1819 г., из которой Пушкин отобрал очень небольшое число ранних стихов для подготовлявшегося им в 1825 г. первого отдельного издания своих стихотворений. По-видимому, это четверостишие должно было объяснить друзьям причину столь строгого отбора, однако печатать его Пушкин не стал.
«Нет ни в чем вам благодати…» (стр. 242). — Эпиграмма, видимо, связанная с каламбурным переводом имени Анна (по-древнееврейски — благодать); относится к старшей дочери П. А. Осиповой Анне Николаевне Вульф (1799–1857).
«Под небом голубым страны своей родной…» (стр. 243). — Написано в связи с получением Пушкиным известия о смерти в Италии от чахотки Амалии Ризнич. Стихотворение озаглавлено в рукописи «29 июля 1826» (т. е. дата написания).
К Вяземскому («Так море, древний душегубец…») (стр. 243). — Послано Вяземскому в письме от 14 августа 1826 г. в ответ на присланное им стихотворение «Море». Вызвано дошедшим до поэта слухом (он оказался неверным), что Н. И. Тургенев, заочно приговоренный по делу декабристов к смертной казни и находившийся в Англии, выдан русскому правительству и привезен морем в Петербург.
К Языкову («Языков, кто тебе внушил…») (стр. 243). — Написано в ответ на стихотворное послание Языкова («О ты, чья дружба мне дороже…» в письме из Дерпта от 19 августа 1826 г.), который незадолго до этого в течение месяца гостил в Тригорском, непрерывно встречаясь там с Пушкиным.
Кастальская вода — источник на горе Парнас (отрог горного кряжа Пинд), считавшейся наряду с горой Геликон местопребыванием Аполлона и камен — муз. С вершины Геликона стекал другой источник поэтического вдохновения — Иппокрена, выбитый ударом копыта крылатого коня Аполлона, Пегаса.
Песни о Стеньке Разине (стр. 244). — Пушкин издавна интересовался личностью Разина. В самом начале ссылки в Михайловском он просил брата прислать ему книг о Разине, называя его «единственным поэтическим лицом русской истории». Данные песни — оригинальные произведения самого Пушкина, использовавшего мотивы народного творчества и некоторые книжные источники. В основе фабулы первой из них — рассказ очевидца, голландского путешественника Стрейса; эпизод с требованием астраханским воеводой шубы от Разина имеется в хронографе начала XVIII в. В 1827 г. Пушкин сделал попытку напечатать «Песни», но получил весьма многозначительную отповедь Николая I, переданную ему через Бенкендорфа: «Песни о Стеньке Разине, при всем поэтическом своем достоинстве, по содержанию своему не приличны к напечатанию. Сверх того, церковь проклинает Разина, равно как и Пугачева».
Признание («Я вас люблю, — хоть я бешусь…») (стр. 246). — Опочка — уездный город Псковской губернии; в Опочецком уезде находились Михайловское и Тригорское.
Алина — падчерица П. А. Осиповой, Александра Ивановна Осипова (ок. 1805–1864).
Пророк (стр. 247). — Написано под впечатлением казни пяти и ссылки многих из декабристов на каторгу в Сибирь. В основу положен образ библейского пророка — проповедника правды и беспощадного обличителя грехов и беззаконий царской власти; некоторые мотивы были взяты Пушкиным из книги самого пламенного и вдохновенного из древнееврейских пророков, Исайи, погибшего мучительной смертью. Первоначальный конец (последняя строфа) стихотворения дошел до нас в нескольких, едва ли вполне точных и расходящихся в мелочах, но в основном совпадающих записях:
Позднее (стихотворение было впервые опубликовано только в 1828 г.) Пушкин отказался от этой концовки, заменив ее новым четверостишием, хотя и лишенным прямого, конкретно-исторического приурочения, но с предельной страстью и силой утверждающим великую мощь и значение поэтического слова и высокое гражданское призвание поэта-пророка.
Няне (стр. 248). — Написано в октябре в Москве, неожиданный вызов в которую Пушкина царем очень встревожил Арину Родионовну.
«Как счастлив я, когда могу покинуть...» (стр. 248). — Отрывок, видимо, представляет собой зерно будущей драмы «Русалка».
Боян — древнерусский певец, упоминаемый в «Слове о полку Игореве».
Славья — соловья.
«Каков я прежде был, таков и ныне я…» (стр. 249). — Эпиграф (переводом его является первая строка стихотворения) взят из А. Шенье.
И. И. Пущину («Мой первый друг, мой друг бесценный!..») (стр. 249). — Написано 13 декабря, т. е. накануне первой годовщины восстания декабристов. Послание было направлено поэтом Пущину с женой декабриста H. М. Муравьева, А. Г. Муравьевой, поехавшей к мужу в Сибирь, и передано ему в первый день его приезда в Читинский острог. «Отрадно отозвался во мне голос Пушкина», — вспоминал об этом Пущин.
Стансы («В надежде славы и добра…») (стр. 250). — Стихотворение, состоящее из отдельных, вполне законченных в себе (в ритмическом и смысловом отношениях) строф.
Мятежи и казни — стрелецкие бунты в начале царствования Петра, подавленные им с исключительной жестокостью.
…был… отличен Долгорукой, — Князь Яков Федорович Долгорукий (1639–1720), один из видных государственных деятелей петровского царствования, славившийся неподкупной честностью, прямотой и смелостью в отношениях с царем (однажды разорвал в Сенате указ, подписанный Петром, считая его несправедливым, и Петр простил ему это). Долгорукий неоднократно воспевался декабристами.
Ответ Ф. Т*** («Нет, не черкешенка она…») (стр. 250). — Она — Софья Федоровна Пушкина (1806–1862), дальняя родственница поэта, которой он после возвращения из ссылки предложил стать его женой. Кто скрывается под буквами Ф. Т., точно не установлено.
Зимняя дорога (стр. 251). — Обращение к Нине, по-видимому, навеяно мыслями о браке с С. Ф. Пушкиной, на встречу с которой он спешил из Михайловского в Москву. Однако поэта постигла неудача. Его сватовство было отклонено.
К** («Ты богоматерь, нет сомненья…») (стр. 251). — Друг Байрона английский поэт Томас Мур, автор восточной поэмы «Лалла-Рук», назван здесь наряду с Тибуллом и Парни как певец любви.
Мордвинову («Под хладом старости угрюмо угасал…») (стр. 252). — Граф Николай Семенович Мордвинов (1754–1845) — адмирал, видный государственный деятель екатерининского и александровского времени; член Финансового комитета и Комитета министров и председатель одного из департаментов Государственного совета. Мнения, подаваемые им в Государственный совет по важнейшим юридическим и экономическим вопросам, были проникнуты оппозиционным духом и широко распространялись в списках. Мордвинов пользовался популярностью в кругах декабристов, прочивших его в члены временного правительства.
Единый из… орлов Екатерины — В. П. Петров, написавший в 1796 г. оду Мордвинову.
Коцит — река «плача», одна из подземных рек, окружающих «царство мертвых» — Аид.
Золото и булат (стр. 253). — Перевод французского стихотворения (автор неизвестен) «Tout est à moi, car je l’achète» («Все мое, ибо я его покупаю»).
«Во глубине сибирских руд…» (стр. 253). — Непосредственным толчком к написанию стихотворения послужил героический отъезд к мужьям-декабристам на каторгу в Сибирь (с этим прямо связаны строки «Любовь и дружество до вас // Дойдут сквозь мрачные затворы») многих из их жен, в том числе особенно дорогой поэту М. Н. Волконской, с которой он и хотел переслать свой стихотворный привет-призыв к вере в высокое стремленье их помыслов, к мужеству и гордому терпенью (слова, взятые из «Прощальной песни воспитанников Царскосельского Лицея», написанной Дельвигом и исполнявшейся хором при выпускном лицейском торжестве). Однако к отъезду спешившей Волконской оно не было закончено, и поэт переслал его, как и послание Пущину, с уехавшей несколько позднее, в начале января 1827 г., А. Г. Муравьевой. От имени декабристов ответил Пушкину поэт А. И. Одоевский («Струн вещих пламенные звуки…»). Послание Пушкина и ответ Одоевского разошлись в огромном количестве списков. Строка Одоевского «Из искры возгорится пламя» подсказала Ленину название первой большевистской газеты «Искра», эпиграфом к которой она была взята, а знаменитые ленинские слова о декабристах: «…но дело их не пропало» — перекликаются со строкой пушкинского послания: «Не пропадет ваш скорбный труд».
Ек. H. Ушаковой («Когда, бывало, в старину…») (стр. 254). — Вписано в альбом ко дню восемнадцатилетия — 3 апреля 1827 г. — Екатерины Николаевны Ушаковой (1809–1872), с которой поэт познакомился в конце 1826 г. на балу в Дворянском собрании. Поэт стал частым гостем в московском доме Ушаковых, в котором собирались писатели, музыканты.
Княгине З. А. Волконской («Среди рассеянной Москвы…») (стр. 254). — Послано Пушкиным вместе с экземпляром только что вышедшей поэмы «Цыганы».
Царица муз и красоты — княгиня Зинаида Александровна Волконская (1792–1862) была не только хозяйкой самого известного московского салона, в котором собирались выдающиеся деятели литературы и искусства, но и являлась богато и разносторонне одаренной дилетанткой — поэтессой, певицей, с чем и связаны слова Пушкина о двойном венке.
Анжелика Каталани — итальянская певица, с огромным успехом выступавшая в 20-е гг. в России; услышав пение одной из участниц цыганского хора в Москве, цыганки Стеши, она в знак восхищения подарила ей свою шаль.
«В степи мирской, печальной и безбрежной…» (стр. 255). — Написано вскоре по приезде Пушкина впервые после его семилетнего отсутствия в Петербург.
Арион (стр. 255). — Арион — древнегреческий поэт и музыкант (VII–VI вв. до н. э.), по преданию, спасенный от гибели в море очарованным его пением дельфином. Пушкин воспользовался этим преданием для иносказательного изображения своих связей с движением декабристов и утверждения верности своим свободолюбивым идеалам. Стихотворение датировано 16 июля 1827 г., т. е. написано в несомненной связи с первой годовщиной казни декабристов 13 июля 1826 г.
«Какая ночь! Мороз трескучий…» (стр. 256). — Незавершенное стихотворение из времен Ивана Грозного. (Предположительное прочтение последней строки: «В столбы под трупом проскакал».)
Кромешник удалой — опричник.
Кипренскому («Любимец моды легкокрылой…») (стр. 257). — В бытность Пушкина в 1827 г. в Петербурге знаменитым художником-портретистом О. А. Кипренским (1782–1836) был написан известный портрет Пушкина, восхищавший современников сходством с оригиналом. Художник намерен был показать его на предполагавшейся в Западной Европе выставке своих произведений.
Аониды — одно из названий муз.
Поэт («Пока не требует поэта…») (стр. 258). — Написано в Михайловском, куда Пушкин бежал из Петербурга в конце июля 1827 г.
«Близ мест, где царствует Венеция златая…» (стр. 258). — Перевод стихотворения А. Шенье «Près des bords où Venise est la reine de la mer…» («Близ берегов, где Венеция — королева мира»).
Веспер — «вечерняя звезда» — планета Венера.
Ринальд, Годфред, Эрминия — герои поэмы итальянского поэта Торквато Тассо (1544–1595) «Освобожденный Иерусалим»; отдельные строфы этой поэмы приобрели значение народных песен и распевались венецианскими лодочниками-гондольерами.
«Всем красны боярские конюшни…» (стр. 259). — Пушкин не стал дорабатывать этот опыт в народном духе, а сюжет его подсказал крестьянину-поэту Федору Никифоровичу Слепушкину (1783–1848), который и написал на него стихотворение «Конь и домовой».
Послание Дельвигу («Прими сей череп, Дельвиг, он…») (стр. 260). — Одновременно со стихами Пушкин вручил Дельвигу и череп, подаренный ему дерптским «студентом» — А. Н. Вульфом.
Кистер — церковный сторож.
Клянусь… айдесским богом… — т. е. Плутоном, богом царства мертвых; у древних это считалось самой страшной клятвой.
…брать с собою будущего… — документ на проезд так называемыми почтовыми, или перекладными, лошадьми — «подорожная» — мог браться не только на себя, но и на спутника, которого проезжий имел право себе подыскать и имя которого в подорожной не проставлялось; скелет, понятно, в качестве «будущего» не годился.
Певец Корсара — Байрон, написавший стихотворение «Надпись на кубке из черепа».
…скандинавов рай воинский // В пирах домашних воскрешай… — Во дворце бога Одина — Валгалле по верованиям скандинавов души убитых храбрых воинов пьют вино из черепов поверженных врагов.
Гамлет-Баратынский — Баратынский — автор стихотворения «Череп», в связи с которым Пушкин припоминает знаменитый монолог шекспировского Гамлета, который тот произносит, держа в руке череп.
«Блажен в златом кругу вельмож…» (стр. 264). — Черновой необработанный отрывок.
19 октября 1827 («Бог помочь вам, друзья мои…») (стр. 264). — Написано к очередной лицейской годовщин
В краю чужом находились С. Г. Ломоносов, служивший в русских посольствах в Испании и Франции, и А. М. Горчаков;
в пустынном море — Ф. Ф. Матюшкин;
в мрачных пропастях земли — на каторге, в Сибири, И. И. Пущин, в заключении, в крепости, В. К. Кюхельбекер.
Талисман (стр. 264). — Возвращение к теме стихотворения 1825 г. «Храни меня, мой талисман…» и новое ее воплощение, видимо, навеяно приездом Е. К. Воронцовой в 1827 г. в Петербург.
Эпиграмма (Из антологии) («Лук звенит, стрела трепещет…») (стр. 265). — Направлена против слабенького поэта (отсюда сравнение его с героем фонвизинского «Недоросля» — Бельведерский Митрофан), позднее ставшего писателем по церковным вопросам, Андрея Николаевича Муравьева (1806–1874), который, желая помериться ростом с копией знаменитой статуи Аполлона Бельведерского (в салоне З. Волконской), отбил ей руку и написал на пьедестале весьма корявые извинительные стишки.
Пифон — дракон, охранявший Дельфы и убитый стрелой Аполлона.
Друзьям («Нет, я не льстец, когда царю…») (стр. 266). — Ответ на неправильное восприятие «Стансов» 1826 г. как «лести» царю. Николай I, стремясь расположить к себе общественное мнение, сделал ряд либеральных жестов: сместил наиболее ненавистных реакционных деятелей александровского царствования, стал на сторону греков, боровшихся против турецкого ига, назначил пенсию вдове казненного Рылеева (в тайне милости творит). Все это было той игрой в либерализм, которую Ленин считал характерной чертой русского царизма, начиная с Екатерины II.Но Пушкину это казалось осуществлением того «наказа» — идти путем Петра I,который он преподал Николаю в «Стансах». Поэтому в данном стихотворении с особенной силой сказались иллюзорные надежды поэта. В то же время он решительно выступает в нем против тех действительно «льстецов» — ближайшего окружения царя, — которые, считал он, мешают осуществлению либеральной правительственной программы. Поэтому Николай, отозвавшись об этом стихотворении для приличия с похвалой, печатать его запретил.
«Кто знает край, где небо блещет…» (стр. 267). — Людмила — графиня Мария Александровна Мусина-Пушкина, которая, вернувшись после путешествия в Италию и стосковавшись по родине, на одном светском собрании демонстративно потребовала себе клюквы, с чем и связан второй эпиграф, предпосланный стихотворению.
Сыны Авзонии — итальянцы.
Флорентийская Киприда — античная статуя Венеры Медицейской в музее Уффици во Флоренции, принадлежавшая резцу неизвестного скульптора — ваятеля безымянного.
Форнарина — натурщица Рафаэля.
То Dawe, Esqr (стр. 268). — Обращено к английскому художнику Джорджу Дау (Доу; 1781–1829), проведшему много лет в России. Рисунок, сделанный им с Пушкина, до нас не дошел.
Олениной черты — Анна Алексеевна Оленина (1808–1888) (см. о ней во вступительной статье).
Воспоминание («Когда для смертного умолкнет шумный день…») (стр. 269). — Полупрозрачная… ночи тень… — петербургская белая ночь (написано 19 мая).
Ты и вы (стр. 269). — Она— А. А. Оленина.
«Дар напрасный, дар случайный…» (стр. 270). — В рукописи названо «На день рожденья», дата которого и стоит в заголовке стихотворения.
«Кобылица молодая…» (стр. 270). — Вольное переложение оды Анакреонта.
Ее глаза (стр. 271). — Обращено к П. А. Вяземскому, воспевшему в стихотворении «Черные очи» фрейлину императрицы Марии Федоровны Александру Осиповну Россет (1809–1882).
Ангел Рафаэля — на прославленной картине «Сикстинская мадонна».
«Не пой, красавица, при мне…» (стр. 271). — Навеяно народной грузинской мелодией, которая сообщена Грибоедовым М. И. Глинке и исполнялась ученицей Глинки А. А. Олениной.
Призрак милый, роковой — очевидно, М. Н. Волконская (Раевская).
К Языкову («К тебе сбирался я давно…») (стр. 272). — Написано в связи с отъездом за границу, через немецкий град — Дерпт (ныне Тарту), университетского товарища поэта H. М. Языкова и приятеля Пушкина, дипломата Николая Дмитриевича Киселева (1800–1869).
Гербовые заботы — векселя, писавшиеся на бумаге с государственным гербом.
Портрет («С своей пылающей душой…») (стр. 273). — Это и два следующих стихотворения обращены к Аграфене Федоровне Закревской (1799–1879), которую Пушкин в последней главе «Евгения Онегина» назвал «Клеопатрою Невы».
Предчувствие («Снова тучи надо мною…») (стр. 274). — Связано, по-видимому, с последним этапом дела об «Андрее Шенье» (см. прим. к этому стихотворению); вскоре возникло угрожавшее Пушкину еще более тяжкими последствиями дело об авторстве «Гавриилиады».
Мой ангел — А. А. Оленина.
Утопленник (стр. 274). — Пушкин сопровождал заглавие при первой публикации подзаголовком «Простонародная песня», а в собрании своих стихотворений (в оглавлении) — «Простонародная сказка».
«Рифма, звучная подруга…» (стр. 276). — Окончательно не доработано. В античной поэзии рифмы не было. Поэтому в духе ее Пушкин сам создает миф о возникновении рифмы, как дочери Аполлона и богини памяти и матери девяти муз — Мнемозины.
Гезиод (VIII в. до н. э.) наряду с Гомером считался величайшим поэтом древности.
Феб… стадо пас… — Зевс, разгневавшись на Аполлона, изгнал его с Олимпа на землю и заставил пасти в горах Тайгета стада фессалийского царя Адмета.
Ворон к ворону летит…» (стр. 278). — Вольное переложение первой половины одной из шотландских народных песен из сборника «Chants populaires des Frontières Méridionales de l’Ecosse, recueillis et commentés par Sir Walter Scott, traduits de l’anglais par M. Artaud». Paris. 1826 («Народные песни шотландского порубежья, собранные и объясненные г. Вальтером Скоттом, переведенные с английского г. Арто». Париж. 1826).
«Город пышный, город бедный…» (стр. 278). — Написано в связи с готовящимся отъездом поэта из Петербурга в Михайловское. Последние две строки относятся к А. А. Олениной.
«19 октября 1828 (стр. 279). — Написано в день очередной лицейской годовщины; после традиционного празднования Пушкин сразу же уехал из Петербурга.
«В прохладе сладостной фонтанов…» (стр. 279). — Прозорливый и крылатый поэт — по новейшим разысканиям, Адам Мицкевич, автор «Крымских сонетов».
Анчар (стр. 280). — Образ древа яда подсказан сообщением о нем (по последующим данным, сильно преувеличенным) находившегося на Яве врача голландской Ост-индской компании Ф. П. Фурша. Опубликование этого стихотворения, которое Пушкин не послал предварительно Николаю I, в особенности имеющееся в нем слово «царь», вызвало резкое неудовольствие властей, и цензурный надзор над поэтом был усилен.
Ответ Катенину («Напрасно, пламенный поэт…») (стр. 281). — П. А. Катенин, находившийся в это время в опале в своей деревне, был одним из «друзей», осудивших пушкинские «Стансы». Он аллегорически высказал это в стихотворной повести «Русская быль», посланной Пушкину со стихотворным посвящением, в котором призывал поэта, испив из кубка былого романтического вольнолюбия, снова «закипеть духом» и огласить застольную беседу «бейронским пеньем». Это и вызвало пушкинский ответ. Не пью, любезный мой сосед! — цитата из стихотворения Державина «Философы, пьяный и трезвый».
…лавр Корнеля или Тасса… — Катенин «воскресил Корнеля гений величавый» — переводил его трагедии. Корнель кончил дни в забвении и нищете. Торквато Тассо был заключен герцогом Феррарским в сумасшедший дом.
Ответ А. И. Готовцовой («И недоверчиво и жадно…») (стр. 281). — Анна Ивановна Готовцова опубликовала в «Северных цветах на 1829 год» восторженное послание «А. С. Пушкину», в конце которого, однако, сетовала на «несправедливый приговор» женскому полу в каком-то из его произведений (возможно, в «Разговоре книгопродавца с поэтом» или отдельно опубликованных строфах, предназначавшихся к 4-й главе «Евгения Снегина» — «Женщины»). В той же книжке «Северных цветов» был опубликован и ответ Пушкина.
Поэт и толпа (стр. 282). — Эпиграф — слова жрицы из 6-й книги «Энеиды» Вергилия.
Щербинину («Житье тому, мой милый друг…») (стр. 284). — Пушкин взял из послания к М. А. Щербинину 1819 г. первые четыре стиха, слегка изменив их, и приписал другой конец, соответствующий новому быту адресата (вышел в отставку, женился и поселился в своем харьковском имении).
E. Н. Ушаковой («Вы избалованы природой…») (стр. 284). — Елизавета Николаевна Ушакова (1810–1872) — младшая сестра Ек. Н. Ушаковой (см. о ней с. 730, прим. к стих. «Ек. Н. Ушаковой» (см. прим. 397 — верстальщик)). В ее альбоме имеется много рисунков Пушкина.
Армида — прекрасная волшебница в поэме Тассо «Освобожденный Иерусалим».
Пресненское поле— в Старой Москве подле Средней Пресни, где находился дом Ушаковых.
«Подъезжая под Ижоры…» (стр. 285). — Обращено к Екатерине Васильевне Вельяшевой (1812–1865), с которой поэт познакомился в тверском имении Вульфов, куда часто наезжал в эти годы.
Ижоры — последняя станция на пути из Торжка в Петербург.
Вампир — герой нашумевшего одноименного романа, ошибочно приписывавшегося Байрону.
Эпитафия младенцу (стр. 286). — Младенец — двухлетний сын М. Н. Волконской, которой было запрещено взять его с собою в Сибирь. Эпитафия была выбита на надгробии ребенка в Александро-Невской лавре в Петербурге.
«На холмах Грузии лежит ночная мгла…» (стр. 286). — Написано во время поездки Пушкина на театр военных действий в Закавказье. В первой редакции связано с воспоминаниями о первой поездке с семьей Раевских на Кавказ и с вспыхнувшим с прежней силой чувством к М. Н. Раевской. Вторая, окончательная редакция, написанная несколько позднее, переадресована H. Н. Гончаровой.
Калмычке (стр. 286). — О своем посещении калмыцкой кибитки Пушкин рассказывает в «Путешествии в Арзрум».
Сен-Мар — модный в то время исторический роман французского поэта-романтика Альфреда де Виньи (1797–1863) «Сен-Мар, или Заговор времен Людовика XIII». Пушкин весьма неодобрительно относился к этому произведению.
Ma dov'è — ария из модной тогда оперы Галуппи (1706–1785) «Покинутая Дидона».
Собранье — Московское Благородное Собрание, место дворянских публичных балов (в настоящее время — Дом Союзов).
Из Гафиза (стр. 287). — Написано в духе восточной поэзии, но у знаменитого персидского поэта Гафиза (XIV в.) подобного стихотворения нет. В рукописях заглавие: «Фаргат-Беку». Очевидно, стихотворение обращено к Фаргат-Беку, служившему в конном мусульманском полку русской армии, сражавшейся с турками.
Карабах — горная страна на южном Кавказе, где разводилась знаменитая порода горных кавказских лошадей.
Азраил— ангел смерти у мусульман.
Олегов щит (стр. 287). — Во время русско-турецкой войны 1829 г. русские войска перешли Балканы и взяли 8 августа город Адрианополь, находящийся всего в нескольких переходах от тогдашней столицы Турции — града Константина — Константинополя, по-турецки — Стамбула, но дальше не пошли. Вскоре после этого, 2 сентября, между Россией и Турцией был заключен Адрианопольский мир. В первой строфе речь идет о походе на греков воинственного варяга — киевского князя Олега, который, по летописи, «повесил щит свой на вратах в знак победы и ушел от Царьграда».
«Зорю бьют… из рук моих…» (стр. 288). — Написано в военном лагере во время Арзрумского похода. Звук зори — барабанного боя (сигнала к вставанию) — напомнил поэту подобный же сигнал, звучавший каждое утро в лицейские годы.
«Был и я среди донцов…» (стр. 288). — Навеяно разговором с донскими казаками, занесенным Пушкиным в свои путевые записки.
Дон (стр. 289). — Арпачай — левый приток Аракса, граница между Закавказьем и Турцией.
«Зима. Что делать нам в деревне? Я встречаю…» (стр. 289). — Написано, как и стихотворение «Зимнее утро», в тверском имении П. И. Вульфа, где Пушкин гостил по пути в Петербург.
«Поедем, я готов; куда бы вы, друзья…» (стр. 291). — Получивший грозный разнос от властей за свою самовольную поездку в действующую армию и холодно встреченный после возвращения из нее гордой, мучительной девой — своей будущей женой H. Н. Гончаровой (к ней, вероятнее всего, обращено и предыдущее стихотворение «Я вас любил…»), Пушкин обратился с просьбой разрешить ему поехать во Францию или Италию либо причислить его к русской миссии, отправлявшейся в Китай. На эти просьбы последовал отказ.
Ночной гребец— гондольер; он не поет, потому что Венеция была захвачена в это время австрийцами.
Мощи городов — древние римские города Помпея и Геркуланум, расположенные на берегу Неаполитанского залива, у подножия Везувия, и засыпанные пеплом во время извержения 79 г. н. э. Ко времени Пушкина удалось отрыть часть улиц и домов Помпеи с их содержимым, сохранившимся в полной неприкосновенности в течение почти двух тысячелетий.
Монастырь на Казбеке (стр. 294). — Монастырь за облаками — старинная грузинская церковь Цминда Самеба.
Делибаш (стр. 295). — Делибаш — по-русски: сумасшедший, сорвиголова, начальник так называемых «дели», особых отрядов турецкой армии, состоявших из испытанных храбрецов и употреблявшихся в дело в наиболее ответственные минуты, дабы увлечь их примером остальные войска.
К бюсту завоевателя (стр. 296). — Имеется в виду бюст Александра I, сделанный знаменитым датским скульптором Б. Торвальдсеном (1768–1844) в 1820 г. в Варшаве.
Эпиграмма («Журналами обиженный жестоко…») (стр. 296). — Зоил Пахом — Каченовский, подавший жалобу на цензора С. Н. Глинку, пропустившего статью Н. А. Полевого, в которой якобы содержались «неблагонамеренные» личные выпады против Каченовского как издателя «Вестника Европы».
«Поэт-игрок, о Беверлей-Гораций…» (стр. 297). — Эпиграмма на Ивана Ермолаевича Великопольского (1797–1868). Ответ на сатирическое послание к Пушкину, в котором упоминается о том, что Пушкин проиграл в карты гонорар за вторую главу «Евгения Онегина».
«Как сатирой безымянной…» (стр. 297). — В своих эпиграммах против Каченовского Пушкин не называл прямо его имени. Тем не менее в опубликованной в «Вестнике Европы» статье о «Полтаве» Пушкина, подписанной «С Патриарших прудов» (написана Н. И. Надеждиным), было сказано, что автор «Полтавы» «ударился в язвительные стишонки и ругательства».
Сапожник (Притча) (стр. 297). — Рассказ о греческом живописце Апеллесе (IV в. до н. э.) — эпиграмма (в форме «притчи» — басни) на Надеждина. Он судил о свете в разносной статье о пушкинском «Графе Нулине», а в качестве эпиграфа к статье о «Полтаве» взял слова Горация: «Берите труд не свыше сил своих».
Эпиграмма («Мальчишка Фебу гимн поднес…») (стр. 298). — Семинарист — Надеждин, окончивший духовную семинарию и напечатавший в «Вестнике Европы» отрывки из своей латинской диссертации о романтизме.
Собрание насекомых (стр. 298). — Верный принятому им правилу не задевать «личностей», Пушкин вместо имен имевшихся им в виду литераторов проставил в этой эпиграмме звездочки (количество их по числу слогов), предоставляя угадывать их как самим затронутым лицам, так и читателям. Это придавало эпиграмме и более широкий, обобщенный характер. Современниками подставлялись различные имена: Глинка, Каченовский, Свиньин, Олин, Раич, Бестужев-Рюмин, Греч, Федоров.
Циклоп (стр. 299). — Написано для графини Екатерины Федоровны Тизенгаузен, внучки Кутузова, участвовавшей в придворном костюмированном бале по случаю заключения мира с Турцией. Соответственно выбранному ею костюму циклопа, она должна была прочесть приветственные стихи императорской чете.
«Что в имени тебе моем?..» (стр. 299). — Обращено к красавице польке Каролине Собаньской, просившей поэта, который встречался с ней во время южной ссылки и снова встретился в Петербурге, занести в ее альбом свое имя.
Ответ («Я вас узнал, о мой оракул…») (стр. 300). — Ответ на письмо Ек. Н. Ушаковой, до нас не дошедшее.
«В часы забав иль праздной скуки…» (стр. 300). — Обращено к одному из видных церковных деятелей того времени, славившемуся своим красноречием, московскому митрополиту Филарету, который, сохранив полностью внешнюю форму стихотворения Пушкина «Дар напрасный, дар случайный…» и лишь слегка изменив его, придал ему прямо противоположный, религиозно-христианский характер. Позднее Пушкин разочаровался в идеализированной им в этом стихотворении личности Филарета. В дневнике 1834 г. он иронически отзывается о его проповедях и резко осуждает практиковавшиеся им доносы на своих противников.
Сонет («Суровый Дант не презирал сонета…») (стр. 301). — Вильям Вордсворт (1770–1850), из сонета которого Пушкиным взят эпиграф, английский поэт-романтик, глава так называемой Озерной школы, возродивший пришедшую в упадок в век классицизма старинную форму сонета, которую культивировали многие великие писатели прошлого — Данте (Дант), Петрарка, Шекспир (творец Макбета), португальский поэт Луис Камоэнс, автор знаменитой героико-эпической поэмы «Лузиады». Вольным переложением сонета Вордсворта о сонете и является настоящее стихотворение Пушкина, вскоре сложившего еще два сонета. Пушкин опустил некоторые упоминаемые Вордсвортом имена сонетистов, но прибавил два новых: певца Литвы — Мицкевича и Дельвига.
К вельможе (стр. 301). — Обращено Пушкиным к одному из характерных представителей русской феодально-крепостнической — «вельможной» — культуры второй половины XVIII в., владельцу колоссальных земельных богатств, Николаю Борисовичу Юсупову (1751–1831). Почти вся молодость Юсупова прошла в путешествиях по западной и южной Европе — Англии, Франции, Испании и Италии, где он позднее занимал ряд крупных дипломатических постов. Юсупов познакомился со многими наиболее выдающимися деятелями эпохи Просвещения и незадолго до 1789 г. посетил резиденцию французских королей — Версаль. Из заграничных путешествий он вывез превосходно составленную библиотеку и замечательное собрание картин и статуй, которыми украсил свое подмосковное имение — Архангельское. Родители Пушкина одно время жили в Москве в доме Юсупова; поэт мог знать его таким образом с раннего детства. С Юсуповым Пушкин встречался и позднее, не раз бывая в его Архангельском, описание которого и дает в этом стихотворении.
Ферней (Фернэ) — поместье Вольтера на границе Франции и Швейцарии, в котором он провел последние годы своей жизни. По поручению Екатерины II Юсупов посетил Вольтера в Фернее.
Армида — французская королева Мария-Антуанетта.
Трианон — название двух павильонов в Версальском парке: один из них — Малый Трианон — был любимым местопребыванием Марии-Антуанетты.
Дидерот — Дидро Дени (1713–1784), французский философ и писатель. Сперва католик и идеалист, Дидро затем перешел к решительному атеизму и воинствующему материалистическому миросозерцанию. В частности, Дидро славился своими блестящими беседами-импровизациями.
Треножник — на треножнике, устанавливавшемся у расщелины скалы, из которой исходили одуряющие газы, жрицы бога Аполлона — пифии — произносили свои «прорицания».
Афей — атеист, безбожник.
Деист — представитель религиозно-философского направления, допускающего существование бога в качестве творца мира, но отрицающего какое бы то ни было дальнейшее его вмешательство в изначально установленную закономерность явлений природы. Деистом был Вольтер.
Софисты — в Древней Греции странствующие учителя философии, которые расшатывали традиционную религию и мораль, доведя до большого совершенства искусство философского анализа и спора.
Двойственный собор — английский парламент, состоящий из двух «палат»: верхней — палаты лордов и нижней — палаты общин.
Вихорь бури — Великая французская буржуазная революция.
Фурии — богини мщения и кары.
…странствует с кладбища на кладбище. — Во время французской революции прах Вольтера был торжественно перенесен в Пантеон (место погребения великих людей Франции); в разгул реакционных неистовств периода Реставрации роялисты выбросили его на свалку.
Барон д’Ольбах — Гольбах Поль (1723–1789), французский философ-материалист.
Морле Андре (1727–1819) — французский философ и экономист, сотрудник знаменитой «Энциклопедии или объяснительного словаря наук, искусств иремесл», в которой принимали ближайшее участие выдающиеся французские философы-материалисты XVIII в.
Гальяни (1728–1787) — итальянский аббат, экономист, писатель; был близок с Дидро и другими «энциклопедистами».
Касти Джамбаттиста (1721–1803) — итальянский поэт, автор сатирических поэм иэротических стихотворений.
Александра Васильевна Алябьева (1812–1891) — одна из первых московских красавиц того времени.
Наталья Николаевна Гончарова (1812–1863) — будущая жена Пушкина.
Корреджио (Корреджо) Антонио Аллегри (ок. 1489–1534) — знаменитый итальянский художник.
Канова Антонио (1757–1822) — знаменитый итальянский скульптор.
Диктатор — в Древнем Риме лицо, которому Сенат передавал в исключительных случаях всю полноту государственной власти.
Новоселье (стр. 304). — Обращено к историку, писателю, редактору журнала «Московский вестник», Михаилу Петровичу Погодину (1800–1875), которого 26 апреля 1830 г. Пушкин поздравил с новосельем.
«Когда в объятия мои…» (стр. 304). — Обращено к невесте Пушкина, H. Н. Гончаровой.
Мадона (стр. 305). — 30 июля 1830 г. Пушкин писал H. Н. Гончаровой, ставшей уже его невестой, о картине, приписывавшейся итальянскому художнику Пьетро Перуджино (между 1445 и 1452–1523): «…часами простаиваю перед белокурой мадоной, похожей на вас как две капли воды», и шутя прибавлял: «…я бы купил ее, если бы она не стоила 40 000 рублей». Описание этой картины и дано в сонете.
Сион — один из холмов, на которых расположен Иерусалим.
Ответ анониму (стр. 308). — Аноним — Иван Александрович Гульянов (1789–1841), выдающийся египтолог, член Российской академии; в связи с предстоящей женитьбой Пушкина послал ему, не подписывая своего имени, приветственное стихотворение, выражая уверенность, что семейное счастье послужит для поэта источником новых творческих вдохновений.
Труд (стр. 309). — Написано в последних числах сентября 1830 г. в связи с окончанием романа в стихах «Евгений Онегин».
Царскосельская статуя (стр. 309). — Имеется в виду находящаяся в Царскосельском парке бронзовая статуя-фонтан «Молочница» скульптора П. П. Соколова на тему басни Лафонтена «Молочница и кувшин».
«Глухой глухого звал к суду судьи глухого…» (стр. 309). — Вольное переложение басни французского поэта Поля Пелисона (1624–1693) «Трое глухих».
Дорожные жалобы (стр. 309). — Яр — старый московский ресторан.
Мясницкая — прежнее название улицы Кирова в Москве; в рукописи было «по Никитской», где жила H. Н. Гончарова.
Прощание («В последний раз твой образ милый…») (стр. 310). — Навеяно воспоминаниями о Е. К. Воронцовой.
Паж, или Пятнадцатый год (стр. 311). — Керубино — юный паж в комедии Бомарше «Женитьба Фигаро».
«Румяный критик мой, насмешник толстопузый…» (стр. 312). — Индейская зараза — холера; на обратном пути из Арзрума Пушкин из-за начавшейся эпидемии чумы провел три дня у ворот угрюмого Кавказа в карантине в Гумрах.
Рифма («Эхо, бессонная нимфа…») (стр. 313). — В античном стихосложении рифмы не было, и миф о происхождении ее создан самим Пушкиным.
Отрок (стр. 314). — Отрок — гениальный русский ученый и поэт-одописец М. В. Ломоносов.
Заклинание (стр. 314). — Литературным толчком к написанию стихотворения послужило стихотворение на ту же тему очень нравившегося Пушкину английского поэта-романтика Барри Корнуолла (псевдоним Б.-У. Проктера; 1787–1874) «Призыв». Вместе с тем оно проникнуто глубоким личным чувством, связанным с образом Амалии Ризнич.
Леила — героиня поэмы Байрона «Гяур»; тень убитой Леилы в конце поэмы является ее возлюбленному.
Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы (стр. 315). — Было опубликовано впервые только после смерти Пушкина с чтением последней строки: «Темный твой язык учу». Как ни прекрасен сам по себе этот стих, однако, по разысканиям исследователей, он принадлежит не Пушкину, а Жуковскому.
Парки — богини человеческой судьбы, одна из которых выпрядала, другая развертывала, а последняя разрывала нить жизни человека. Часто изображались в виде безобразных старух.
Герой (стр. 315). — Эпиграф — вопрос, который, по евангельскому преданию, римский наместник Иудеи Понтий Пилат задал приведенному к нему на суд Христу. Стихотворение было написано в связи с приездом Николая I 29 сентября 1830 г. в Москву, во время холерной эпидемии, что и подчеркивается датой, поставленной под стихами (на самом деле они написаны в октябре того же года). По требованию Пушкина, оно было напечатано без подписи, и авторство его стало известно только после смерти поэта.
Пришлец сей бранный — Наполеон. В следующих строках Пушкиным упоминается итальянская кампания 1796–1797 гг., в которой выдвинулся Наполеон; совершенный им переворот 9 ноября 1799 г., поход в Египет в 1798–1799 гг., наконец, Езятие Москвы в 1812 г.
Зять кесаря — в 1810 г. Наполеон женился на дочери австрийского императора Марии-Луизе.
Скала — остров святой Елены.
Бурьен Луи (1769–1834) — секретарь Наполеона. В 1829–1830 гг. вышли в десяти томах «Мемуары Бурьена», автор которых старается всячески «разоблачать» Наполеона и, между прочим, опровергает рассказ о том, что он, посетив во время египетского похода госпиталь зараженных чумой, касался некоторых из них, желая ободрить их. Уже после написания стихотворения выяснилось, что «Мемуары Бурьена» подложны.
«Вначале жизни школу помню я…» (стр. 317). — В рукописи этот отрывок, написанный болдинской осенью 1830 г. и Пушкиным не печатавшийся, заглавия не имеет и до недавнего времени представлялся загадочным. Исследователи чаще всего склонны были истолковывать его как стилизованный «под Данте» (написан стихотворным размером «Божественной комедии» — терцинами) автобиографический рассказ поэта о своем детстве или школьных годах. Если Пушкин в ранние годы и сопоставлял иронически Лицей с монастырем, а себя с монахом, то подобная стилизация мало вяжется с художественным методом зрелого Пушкина. В то же время имеются основания видеть в этом наброске начало задуманной Пушкиным поэмы о молодом Данте до его «нисхождения в ад», подобно тому как Байрон написал (тоже от лица автора «Божественной комедии» и тоже терцинами) хорошо известную Пушкину поэму о Данте после его «возвращения» на землю — «Пророчество Данте». Но что бы ни представлял собой этот отрывок, он является отнюдь не просто стилизацией, а одним из ярчайших проявлений замечательной способности Пушкина, не изменяя себе, проникаться философским и эстетическим мировоззрением и мышлением самых различных веков и народов. Недаром Белинский считал, что этот отрывок впервые ввел русских читателей в художественный мир и раскрыл им подлинное величие автора «Божественной комедии».
Двух бесов изображенья — статуи Аполлона и Венеры.
«Для берегов отчизны дальной…» (стр. 319). — Навеяно воспоминанием об Амалии Ризнич.
Отрывок («Не розу пафосскую…») (стр. 320). — Город Пафос на острове Киферы, где, по мифу, возникла из пены морской Афродита.
Роза феосская — от города Феоса (Теоса) — родины Анакреонта.
Из Barry Cornwall (стр. 320). — Из стихотворения Корнуолла взят только эпиграф, явившийся зачином пушкинского стихотворения.
Моя родословная (стр. 321). — Стихотворение не было разрешено к печати Николаем I, но получило широкое распространение в списках и нажило поэту множество врагов при дворе.
Меня зовут аристократом. — В 1830 г. Пушкин принимал ближайшее участие в «Литературной газете» Дельвига, издателя и сотрудников которой полемизировавшие с нею журналисты прозвали «литературными аристократами».
Не офицер я, не асессор, // Я по кресту не дворянин… — Согласно «табели о рангах», установленной Петром I в 1722 г., дворянином становился каждый произведенный в офицеры, достигнувший чина коллежского асессора или получивший за тридцатипятилетнюю службу орден — крест Владимира 4-й степени.
Не торговал мой дед блинами… — Имеется в виду кн. Меншиков, который, по преданию, мальчиком торговал на московских улицах пирогами; его правнук А. С. Меншиков был личным другом Николая I и занимал видные государственные посты.
Не ваксил царских сапогов… — Имеется в виду И. П. Кутайсов, бывший сперва камердинером Павла I, а затем возведенный им в графское достоинство и достигший высших чинов; его сын П. И. Кутайсов был сенатором.
Не пел с придворными дьячками… — Любовник (позднее негласный муж) императрицы Елизаветы гр. А. Г. Разумовский был придворным певчим, его племянник был при Александре I министром народного просвещения.
В князья не прыгал из хохлов… — намек на кн. А. А. Безбородко, одного из видных государственных деятелей времен Екатерины II.
И не был беглым он солдатом… — дед гр. П. А. Клейнмихеля, жестоко управлявшего военными поселениями. В противовес всему этому поэт вкратце рисует историю своих предков, в течение многих веков участвовавших в созидании русского государства.
Нижегородский мещанин — Кузьма Минин.
Страдальца сын — царь Михаил Федорович, отец которого, митрополит Филарет, был пострижен Борисом Годуновым в монахи и позднее провел много лет в польском плену.
Мой пращур — Федор Пушкин, казненный Петром I за участие в заговоре против него.
Мятежом поэт смело называет восшествие на престол бабки Николая I Екатерины II, в результате дворцового переворота 1762 г., во время которого его дед Лев Александрович Пушкин остался вместе с фельдмаршалом Минихом верен присяге, данной Петру III.
Гербовая печать — печать с изображением герба рода Пушкиных.
Я Пушкин просто, не Мусин… — В XVIII в. род Пушкиных захирел, а их боковая ветвь — Мусины-Пушкины получили графский титул и выдвинулись в первые ряды послепетровской знати.
И был отец он Ганнибала… — Иван Абрамович Ганнибал (1737 или 1736–1801), генерал-поручик, герой Чесменского боя, взявший турецкую крепость Наварин.
…он в Мещанской дворянин. — Мещанская — улица в Петербурге, известная в то время своими притонами, с которыми была связана в молодости жена Булгарина.
Цыганы («Над лесистыми брегами…») (стр. 323). — Не пойдет уж ваш поэт. — В бытность в ссылке в Кишиневе Пушкин однажды присоединился к кочующему цыганскому табору и провел в нем несколько дней.
«Перед гробницею святой…» (стр. 324). — Перед гробницей Кутузова в Казанском соборе в Петербурге.
Сей остальной — оставшийся, последний: Кутузов выдвинулся уже во время Екатерины II, в русско-турецких войнах 1770–1790 гг.
Клеветникам России (стр. 325). — Впервые — в брошюре «На взятие Варшавы. Три стихотворения В. Жуковского и А. Пушкина» 1831 г. Написано, как и предыдущее стихотворение, в связи с польским восстанием 1830–1831 гг., которое Ф. Энгельс называл «консервативной революцией». Пушкин видел в нем угрозу целостности и безопасности русского государства, особенно в связи с ожесточенной антирусской кампанией, поднятой в иностранной, главным образом французской, прессе, и с враждебными выступлениями во французском парламенте, прямо призывавшими к войне с Россией. Против этих-то «клеветников, врагов России», мечтавших о реванше за 1812 г., в основном и направлено стихотворение.
Волнения Литвы — польское восстание.
Прага — укрепленное предместье Варшавы.
Того, под кем дрожали вы? — Наполеона.
Измаильский штык. — Одним из самых блистательных подвигов Суворова было взятие в 1790 г. штурмом турецкой крепости Измаил, считавшейся неприступной.
Бородинская годовщина (стр. 326). — Опубликовано в упомянутой выше брошюре, написано по получении известия о взятии русскими войсками Варшавы, которое произошло как раз в день годовщины Бородинского сражения — 26 августа 1831 г.
…послушных воле гордой… — воле Наполеона.
Мутители палат — ораторы французского парламента.
Куда отдвинем строй твердынь? — Консервативные польские шляхетские круги требовали присоединения к Польше Украины.
Могучий мститель злых обид — фельдмаршал И. Ф. Паскевич, после смерти Дибича ставший во главе русских войск, действовавших против польских повстанцев.
Младого внука своего, — Известие о взятии Варшавы привез Николаю I внук Суворова, А. А. Суворов.
«Чем чаще празднует лицей…» (стр. 329). — Написано к двадцатилетней лицейской годовщине.
Шести друзей не узрим боле… — К этому времени умерло шесть лицеистов первого выпуска: Ржевский, Корсаков, Саврасов, Костенский, Дельвиг и Есаков. Особенно потрясен был Пушкин смертью Дельвига, умершего 14 января 1831 г.
«И дале мы пошли…». «Тогда я демонов увидел черный рой…» (стр. 330). — Шутливые вариации на мотивы первой части «Божественной комедии» Данте «Ад». Проводником Данте по кругам ада был древнеримский поэт Вергилий.
Мальчику (Из Катулла) (стр. 332). — Перевод стихотворения римского поэта Катулла (I в. до н. э.) «Ad pocillatorem» («Виночерпию»), первая строка из которого дана в качестве эпиграфа.
Фалерн — воспевавшееся римскими поэтами крепкое (выдерживалось около десяти лет) вино, обычно разбавлявшееся водой или медом.
В альбом А. О. Смирновой (стр. 332). — Пушкин убеждал А. О. Смирнову-Россет, которая была близка к царской семье и двору, писать «исторические записки» обо всем виденном и слышанном; с этой целью он подарил ей альбом, в качестве эпиграфа вписав данное стихотворение.
В альбом к ж. А. Д. Абамелек (стр. 332). — Анна Давыдовна Абамелек — поэтесса, переводчица и одна из прославленных петербургских красавиц. Пушкин нянчил ее двухлетним ребенком, будучи еще лицеистом.
Гнедичу («С Гомером долго ты беседовал один…») (стр. 333). — Ответ на восторженное послание Гнедича Пушкину по прочтении его «Сказки о царе Салтане».
Скрижали — мраморные доски, на которых, по Библии, были высечены десять заповедей Моисея, полученные им от бога на горе Синай; Моисей в гневе их разбил, застав народ поклоняющимся идолам.
Илион — Троя, осада и взятие которой греками описаны в «Илиаде» Гомера.
Красавица («Всё в ней гармония, всё диво…») (стр. 333). — Написано в альбом графине Елене Михайловне Завадовской (1807–1874).
(Из Ксенофана Колофонского) (стр. 334). — Стихотворение переведено из греческого сборника «Пир мудрецов» (с перевода его на французский язык Лефевром), составленного ученым Афенеем (III–II вв. до н. э.). Написано Ксенофаном из Колофона (VI–V вв. до н. э.).
«Бог веселый винограда…» (стр. 335). — Перевод взятого из того же сборника стихотворения поэта Эвбула (IV в. до н. э.).
Вино (Ион Хиосский) (стр. 335). — Перевод взятого из того же сборника стихотворения поэта Иона с острова Хиос (V в. до н. э.).
Гусар (стр. 336). — По мотивам украинского фольклора.
Будрыс и его сыновья (стр. 340). — Перевод баллады Мицкевича «Три Будрыса».
Паз — сын Ольгерда, великого князя литовского.
Кестут — воевода, брат Ольгерда.
Крыжаки — крестоносцы, члены Тевтонского ордена, с которым литовцы находились в постоянной борьбе.
Воевода (стр. 342). — Вольный перевод баллады Мицкевича «Засада».
«Когда б не смутное влеченье…» (стр. 344). — В рукописи помета: «1833, дорога, сентябрь».
«Колокольчики звенят…» (стр. 344). — Песня цыганки, написанная Пушкиным для начатой его близким знакомым, композитором графом Михаилом Юрьевичем Виельгорским (1788–1856) оперы «Цыганы» (с пушкинской поэмой она не была связана).
Осень (Отрывок) (стр. 344). — Написано поэтом во время второй осени, проведенной им в Болдине в 1833 г., тоже творчески очень плодотворной, хотя и уступающей необыкновенному творческому подъему болдинской осени 1830 г., воспоминаниями о которой скорее всего и подсказаны заключительные (начиная с X) строфы. Эпиграф из стихотворения Державина: «Евгению. Жизнь Званская», тоже описывающего свой быт в имении «Званка».
«Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…» (стр. 349). — Единственное за все время семейной жизни обращение поэта к жене, упорно противившейся его стремлению бросить все и уехать из Петербурга в деревню, чтобы полностью отдаться литературному труду. Выходу поэта в отставку и его удалению от двора препятствовал и царь.
«Он между нами жил…» (стр. 349). — …он, вдохновен был свыше… — Пушкина восхищала необыкновенная способность Мицкевича к литературным импровизациям. Одна из них была посвящена теме любви, которая должна соединить в будущем все народы. Позиция Пушкина в польском вопросе, отразившаяся в его стихах, связанных с польским восстанием 1830–1831 гг., вызвала чрезмерную отповедь Мицкевича в его стихотворении «Русским друзьям». Ответом на это последнее и является настоящее стихотворение, которое не было доработано и доведено до конца.
Песни западных славян (стр. 349). — Первые девять песен, входящие в состав цикла, и песни 13-я и 16-я — более или менее вольный перевод из сборника «Гузла» Проспера Мериме, хотя и бывшего мистификацией, но все же опирающегося на мотивы славянского фольклора. Песни 10-я, «Соловей», и 14-я, «Сестра и братья», переведены из сборника сербских песен Бука Караджича. Песня 12-я, «Воевода Милош», написана на основании книги Бука Караджича «Жизнь и подвиги князя Милоша Обреновича» (1825) и устных рассказов, слышанных Пушкиным в Кишиневе. Подлинник песни 15-й, «Яныш королевич», на который Пушкин ссылается в примечании, не обнаружен. Наконец, «Песня о Георгии Черном» полностью принадлежит самому Пушкину, который издавна интересовался его личностью (см. стих. «Дочери Карагеоргия») и, будучи в Кишиневе, собирал о нем сведения. Книжным источником послужило поэту «Путешествие в Молдавию, Валахию, Сербию» Д. Н. Бантыш-Каменского (М., 1810).
Фома I был тайно умерщвлен своими двумя сыновьями Стефаном и Радивоем в 1460 году. Стефан ему наследовал. Радивой, негодуя на брата за похищение власти, разгласил ужасную тайну и бежал в Турцию к Магомету II. Стефан, по внушению папского легата, решился воевать с турками. Он был побежден и бежал в Ключ-город, где Магомет осадил его. Захваченный в плен, он не согласился принять магометанскую веру, и с него содрали кожу (примечание автора — верстальщик).
Щиколодка, по московскому наречию щиколка (примечание автора — верстальщик).
Так называют себя некоторые иллирийские раскольники (примечание автора — верстальщик).
Фаланга, палочные удары по пятам (примечание автора — верстальщик).
Радивой никогда не имел этого сана; и все члены королевского семейства истреблены были султаном (примечание автора — верстальщик).
Кафтан, обыкновенный подарок султанов (примечание автора — верстальщик).
Анахронизм (примечание автора — верстальщик).
Трогательный обычай братования, у сербов и других западных славян, освящается духовными обрядами (примечание автора — верстальщик).
Неизвестно, к какому происшествию относится эта песня (примечание автора — верстальщик).
Потеря сражения приписывается далматам, ненавистным для влахов (примечание автора — верстальщик).
Жиды в турецких областях суть вечные предметы гонения и ненависти. Во время войны им доставалось от мусульман и христиан. Участь их, замечает В. Скотт, походит на участь летучей рыбы. — Мериме (примечание автора — верстальщик).
Банялука, прежняя столица Боснийского пашалыка (примечание автора — верстальщик).
Селихтар, меченосец (примечание автора — верстальщик).
Все народы почитали жабу ядовитым животным (примечание автора — верстальщик).
Мицкевич перевел и украсил эту песню (примечание автора — верстальщик).
Влахи — сербская народность, живущая в горах Далмации.
Цехины — старинная венецианская золотая монета.
Долиман — турецкая длиннополая одежда.
Гайдук, глава, начальник. Гайдуки не имеют пристанища и живут разбоями (примечание автора — верстальщик).
Западные славяне верят существованию упырей (vampire). См. песню о Марке Якубовиче (примечание автора — верстальщик).
Мериме поместил в начале своей Guzla известие о старом гусляре Иакинфе Маглановиче; неизвестно, существовал ли он когда-нибудь; но статья его биографа имеет необыкновенную прелесть оригинальности и правдоподобия. Книга Мериме редка, и читатели, думаю, с удовольствием найдут здесь жизнеописание славянина-поэта.
Notice sur Hyacinthe Maglanovich.
Hyacinthe Maglanovich est le seul joueur de guzla que j’aie vu, qui fût aussi poète; car la plupart ne font que répéter d’anciennes chansons, ou tout au plus ne composent que des pastiches en prenant vingt vers d’une ballade, autant d’une autre, et liant le tout au moyen de mauvais vers de leur façon.
Notre poète est né à Zuonigrad, comme il le dit lui-même dans sa baliade intitulée L’Aubépine de Veliko. Il était fils d’un cordonnier, et ses parents ne semblent pas s’être donné beaucoup de mal pour son éducation, car il ne sait ni lire ni écrire. A l’âge de huit ans il fut enlevé par des Tchingénehs ou Bohémiens. Ces gens le menèrent en Bosnie, où ils lui apprirent leurs tours et le convertirent sans peine á l’islamisme, qu’ils professent pour la plupart[37]. Un ayan ou maire de Livno le tira de leurs mains et le prit à son service, où il passa quelques années.
Il avait quinze ans, quand un moine catholique réussit à le convertir au christianisme, au risque de se faire empaler s’il était découvert: car les Turcs n’encouragent point les travaux des missionnaires. Le jeune Hyacinthe n’eut pas de peine à se décider à quitter un maître assez dur, comme sont la plupart des Bosniaques; mais, en se sauvant de sa maison, il voulut tirer vengeance de ses mauvais traitements. Profitant d’une nuit orageuse, il sortit de Livno, emportant une pelisse et le sabre de son maître, avec quelques sequins qu’il put déroher. Le moine qui l’avait rebaptisé l’accompagna dans sa fuite, que peut-être il avail conseillée.
De Livno à Scign en Dalmatie il n’y a qu’une douzaine de lieues. Les fugitifs s’y trouvèrent bientôt sous la protection du gouvernement vénitien et à l’abri des poursuites de l’ayan. Ce fut dans cette ville que Maglanovich fit sa première chanson: il célébra sa fuite dans une ballade, qui trouva quelques admirateurs et qui commença sa réputation[38].
Mais il était sans ressources d’ailleurs pour subsister, et la nature lui avait donné peu de goût pour le travail. Grâce à l’hospitalité morlaque, il vécut quelque temps de la charité des habitants des campagnes, payant son écot en chantant sur la guzla quelque vieille romance qu’il savait par coeur. Bientôt il en composa lui-même pour des mariages et des enterrements, et sut si bien se rendre nécessaire, qu’il n’y avait pas de bonne fête si Maglanovich et sa guzla n’en étaient pas.
Il vivait ainsi dans les environs de Scign, se souciant fort peu de ses parents, dont il ignore encore le destin car il n’a jamais été à Zuonigrad depuis son enlèvement.
A vingt-cinq ans c’était un beau jeune homme, fort, adroit, bon chasseur et de plus poète et musicien célèbre; il était bien vu de tout le monde, et surtout des jeunes filles. Celle qu’il préférait se nommait Marie et était fille d’unriche morlaque, nommé Zlarinovich. Il gagna facilement son affection et, suivant la coutume, il l’enleva. IÎ avait pour rival une espèce de seigneur du pays, nommé Uglian, lequel eut connaissance de l’enlèvement projeté. Dans les mœurs illyriennes l’amant dédaigné se console facilement et n’en fait pas plus mauvaise mine à son rival heureux; mais cet Uglian s’avisa d’être jaloux et voulut mettre obstacle au bonheur de Maglanovich. La nuit de l’enlèvement, il parut accompagné de deux de ses domestiques, au moment où Marie était déjà montée sur un cheval et prête à suivre son amant. Uglian leur cria de s’arrêter d’une voix menaçante. Les deux rivaux étaient armés suivant l’usage. Maglanovich tira le premier et tua le seigneur Uglian. S’il avait eu une famille, elle aurait épousé sa querelle, et il n’aurait pas quitté le pays pour si peu de chose; mais il était sans parents pour l’aider, et il restait seul exposé à la vengeance de toute la famille du mort. Il prit son parti promptement et s’enfuit avec sa femme dans les montagnes, où il s’associa avec des heyduques[39].
Il vécut longtemps avec eux, et même il fut blessé au visage dans une escarmouche avec les pandours[40]. Enfin, ayant gagné quelque argent d’une manière assez peu honnête, je crois, il quitta les montagnes, acheta des bestiaux et vint s’établir dans le Kotar avec sa femme et quelques enfants. Sa maison est près de Smocovich, sur le bord d’une petite rivière ou d’un torrent, qui se jette dans le lac de Vrana. Sa femme et ses enfants s’occupent de leurs vaches et de leur petite ferme; mais lui est toujours en voyage; souvent il va voir ses anciens amis les heyduques, sans toutefois prendre part à leur dangereux métier.
Je l’ai vu à Zara pour la première fois en 1816. Je parlais alors très facilement l’illyrique, et je désirais beaucoup entendre un poète en réputation. Mon ami, l’estimable voivode Nicolas ***, avait rencontré à Biograd, où il demeure, Hyacinthe Maglanovich, qu’il connaissait déjà, et sachant qu’il allait à Zara, il lui donna une lettre pour moi. Il me disait que, si je voulais tirer quelque chose du joueur de guzla, il fallait le faire boire; car il ne se sentait inspiré que lorsqu’il était à peu près ivre.
Hyacinthe avait alors près de soixante ans. C’est un grand homme, vert et robuste pour son âge, les épaules larges et le cou remarquablement gros; sa figure est prodigieusement basanée; ses yeux sont petits et un peu relevés du coin; son nez aquilin, assez enflammé par l’usage des liqueurs fortes, sa longue moustache blanche et ses gros sourcils noirs forment un ensemble que l’on oublie difficilement quand on l’a vu une fois. Ajoutez à cela une longue cicatrice qu’il porte sur le sourcil et sur une partie de la joue. Il est très extraordinaire qu’il n’ait pas perdu l’oeil en recevant cette blessure. Sa tête était rasée, suivant l’usage presque général, et il portait un bonnet d’agneau noir: ses vêtements étaient assez vieux, mais encore très propres.
En entrant dans ma chambre, il me donna la lettre du voivode et s’assit sans cérémonie. Quand j’eus fini de lire: vous parlez donc l’illyrique, me dit-il d’un air de doute assez méprisant. Je lui répondis sur-le-champ dans cette langue que je l’entendais assez bien pour pouvoir apprécier ses chansons, qui m’avaient été extrêmement vantées. Bien, bien, dit-il; mais j’ai faim et soif: je chanterai quand je serai rassasié. Nous dinâmes ensemble. Il me semblait qu’il avait jeûné quatre jours au moins, tant il mangeait avec avidité. Suivant l’avis du voivode, j’eus soin de le faire boire, et mes amis, qui étaient venus nous tenir compagnie sur le bruit de son arrivée, remplissaient son verre à chaque instant. Nous espérions que quand cette faim et cette soif si extraordinaires seraient appaisées, notre homme voudrait bien nous faire entendre quelquesuns de ses chants. Mais notre attente fut bien trompée. Tout d’un coup il se leva de table et se laissant tomber sur un tapis près du feu (nous étions en décembre), il s’endormit en moins de cinq minutes, sans qu’il y eût moyen de le réveiller.
Je fus plus heureux, une autre fois: j’eus soin de le faire boire seulement assez pour l’animer et alors il nous chanta plusieurs des ballades que l’on trouvera dans ce recueil.
Sa voix a dû être fort belle; mais alors elle était un peu cassée. Quand il chantait sur sa guzla, ses yeux s’animaient et sa figure prenait une expression de beauté sauvage, qu’un peintre aimerait à exprimer sur la toile.
Il me quitta d’une façon étrange: il demeurait depuis cinq jours chez moi, quand un matin il sortit, et je l’attendis inutilement jusqu’au soir. J’appris qu’il avait quitté Zara pour retourner chez lui; mais en même temps je m’aperçus qu’il me manquait une paire de pistolets anglais qui, avant son départ précipité, étaient pendus dans ma chambre. Je dois dire à sa louange qu’il aurait pu emporter également ma bourse et une montre d’or qui valaient dix fois plus que les pistolets, qu’il m’avait pris.
En 1817 je passai deux jours dans sa maison, où il me reçut avec toutes les marques de la joie la plus vive. Sa femme et tous ses enfants et petits-enfants me sautèrent au cou et quand je le quittai, son fils aîné me servit de guide dans les montagnes pendant plusieurs jours, sans qu’il me fût possible de lui faire accepter quelque récompense.
<Перевод:
Заметка об Иакинфе Маглановиче.
Иакинф Магланович — единственный мне знакомый гусляр, который в то же время был поэтом; большинство гусляров повторяют старые песни или самое большее — сочиняют подражания, заимствуя стихов двадцать из одной баллады, столько же из другой и связывая все это при помощи скверных стихов собственного изделия.
Поэт наш родился в Звониграде, как он сам говорит об этом в балладе «Боярышник рода Велико». Он был сын сапожника, и его родители, по-видимому, не сильно беспокоились о его образовании, ибо он не умеет ни читать, ни писать. В возрасте восьми лет он был похищен чинженегами, или цыганами. Эти люди увели его в Боснию, где и обучили своим штукам и без труда обратили его в магометанство, исповедываемое большинством среди них[41]. Один «айан», или старшина, в Ливно отобрал его у цыган и взял себе в услужение, где он и пробыл несколько лет.
Ему было пятнадцать лет, когда один католический монах обратил его в христианство, рискуя быть посаженным на кол в случае обнаружения этого, ибо турки отнюдь не поощряют миссионерской деятельности. Юный Иакинф недолго задумывался над тем, чтобы покинуть своего хозяина, достаточно сурового, как и большинство босняков; но, уходя из его дома, он задумал отмстить за дурное обращение. Однажды ночью, в грозу, он ушел из Ливно, захватив с собой шубу и саблю хозяина, с несколькими цехинами, какие ему удалось похитить. Монах, окрестивший его, сопровождал его в бегстве, совершенном, вероятно, по его совету.
От Ливно до Синя, в Далмации, не больше чем миль двенадцать. Беглецы скоро прибыли туда, под покровительство венецианского правительства, в безопасности от преследований айана. Здесь-то Магланович сочинил свою первую песню: он воспел свое бегство в балладе, которая привлекла внимание некоторых, и с нее-то началась его известность[42].
Но он был без средств к существованию, а по природе своей не слишком был расположен к труду. Благодаря морлацкому гостеприимству некоторое время он жил на подаяния сельских жителей, отплачивая им пением какой-нибудь заученной им старой песни. Вскоре он сам сочинил несколько новых песен на случай свадеб и погребений, и его присутствие стало настолько необходимым, что праздник был не в праздник, если на нем не было Маглановича с его гузлой.
Так он жил в окрестностях Синя, мало беспокоясь о своих родных, судьба которых ему доныне осталась неизвестной, так как со дня похищения он ни разу не бывал в Звониграде.
В двадцать пять лет это был красивый молодой человек, сильный, ловкий, прекрасный охотник и сверх того знаменитый поэт и музыкант, его уважали все, в особенности девушки. Та, которой он отдавал предпочтение, звалась Марией и была дочерью богатого морлака по имени Злариновича. Он легко добился взаимности и, по обычаю, похитил ее. У него был соперник по имени Ульян, нечто вроде местного сеньора, который заранее проведал о похищении. Иллирийские нравы таковы, что отвергнутый любовник легко утешается и не косится на своего счастливого соперника; но этот Ульян решил ревновать и препятствовать счастью Маглановича. В ночь похищения он явился с двумя слугами в ту минуту, когда Мария уже села на лошадь, чтобы следовать за возлюбленным. Ульян угрожающим голосом приказал остановиться. Соперники, по обычаю, были вооружены. Магланович выстрелил первый и убил сеньора Ульяна. Если бы у него была семья, то она поддержала бы его, и он не покинул бы страны из-за таких пустяков, но он был одинок, против него — готовая на месть вся семья убитого. Он быстро пришел к решению и скрылся с женой в горах, где присоединился к гайдукам[43].
Он долго жил с ними и даже был ранен в лицо при схватке с пандурами[44]. Наконец, заработав кое-какие деньги, как я полагаю, не особенно честным способом, он оставил горы, купил скот и поселился в Каттаро с женой и детьми. Дом его около Смоковича, на берегу речонки или потока, впадающего в озеро Врана. Жена и дети заняты коровами и фермой, он же вечно в разъездах; часто посещает он своих старинных друзей гайдуков, но не принимает уже участия в их опасном промысле.
Я встретил его в Заре впервые в 1816 г. В то время я свободно говорил по-иллирийски и сильно желал услышать какого-нибудь известного поэта. Мой друг, уважаемый воевода Николай ***, встретил в Белграде — месте своего жительства — Иакинфа Маглановича, ему ранее известного, и, зная, что он направлялся в Зару, снабдил его письмом ко мне. Он писал мне, что если я желаю послушать гусляра, то должен сперва подпоить его, ибо вдохновение на него сходило лишь тогда, когда он бывал почти пьян.
Иакинфу было в то время около шестидесяти лет. Это — высокий человек, еще крепкий и сильный для своего возраста, широкоплечий, с необычайно толстой шеей; лицо его удивительно загорелое, глаза маленькие и слегка приподнятые по углам, орлиный нос, довольно красный от крепких напитков, длинные белые усы и густые черные брови, все это вместе дает образ, незабываемый для того, кто видел его хоть раз. Прибавьте к тому длинный шрам через бровь и вдоль щеки. Непостижимо, как он не лишился глаза при таком ранении. Голова у него была бритая, по почти всеобщему обычаю, и носил он черную барашковую шапку; платье его было очень поношенное, но притом весьма опрятное.
Войдя ко мне в комнату, он передал мне письмо воеводы и присел без стеснения. Когда я прочел письмо, он сказал тоном довольно презрительного сомнения: — Так вы говорите по-иллирийски. — Я отвечал немедленно на этом языке, что достаточно понимаю по-иллирийски, чтобы оценить его песни, которые мне очень хвалили. — Ладно, ладно, — отвечал он, — но я хочу есть и пить; я буду петь, когда поем. — Мы вместе пообедали. Мне показалось, что он голодал по меньшей мере дня четыре, с такой жадностью он ел. По совету воеводы, я подливал ему, и друзья мои, которые, услышав о его приходе, пришли ко мне, наполняли его стакан ежеминутно. Мы надеялись, что, когда этот необычайный голод и жажда будут удовлетворены, наш гость соблаговолит нам что-нибудь спеть. Но ожидания наши оказались напрасны. Вдруг он встал из-за стола и, опустившись на ковер у огня (дело было в декабре), заснул в пять минут, и не было никакой возможности разбудить его.
Я был удачливее в другой раз: я постарался напоить его лишь настолько, чтобы воодушевить его, и тогда он спел мне много баллад, находящихся в этом сборнике.
Должно быть, голос его был прежде хорош, но тогда он был немного разбит. Когда он пел, играя на гузле, глаза его оживали и лицо принимало выражение дикой красоты, которую художники охотно заносят на полотно.
Он расстался со мною довольно странным способом: пять дней жил он у меня и на шестой утром ушел, и я тщетно ждал его до вечера. Мне сказали, что он ушел из Зары к себе домой; но в то же время я заметил исчезновение пары английских пистолетов, которые, до его поспешного ухода, висели у меня в комнате. Я должен добавить, к его чести, что он мог равным образом унести и мой кошелек, и золотые часы, которые были раз в десять дороже, чем взятые им пистолеты.
В 1817 году я провел два дня в его доме, где он принял меня, выказав живейшую радость. Жена его и все дети и внуки окружили меня и обнимали, а когда я ушел от них, старший сын служил мне проводником в горах в течение нескольких дней, причем невозможно было уговорить его принять какое бы то ни было вознаграждение (франц.). > (примечание автора — верстальщик)
Вурдалаки, вудкодлаки, упыри — мертвецы, выходящие из своих могил и сосущие кровь живых людей (примечание автора — верстальщик).
Лекарством от укушения упыря служит земля, взятая из его могилы (примечание автора — верстальщик).
По другому преданию, Георгий сказал товарищам: «Старик мой умер, возьмите его с дороги» (примечание автора — верстальщик).
Прекрасная эта поэма взята мною из Собрания сербских песен Вука Стефановича (примечание автора — верстальщик).
Песня о Яныше королевиче в подлиннике очень длинна и разделяется на несколько частей. Я перевел только первую, и то не всю (примечание автора — верстальщик).
Вила — русалка в сербских поверьях.
(Из Анакреона). Отрывок («Узнают коней ретивых…») (стр. 380). — Из произведений древнегреческого поэта Анакреонта почти ничего не сохранилось. Позднее, около начала нашей эры, подражателями Анакреонта был составлен сборник «Анакреонтических стихотворений», получивший большую популярность, но Анакреонту на самом деле не принадлежавший. Из данного сборника Пушкиным и переведены это и два следующих стихотворения.
Полководец (стр. 382). — Посвящено Михайлу Богдановичу Барклаю-де-Толли (1761–1818), который в начале войны 1812 г. был главнокомандующим русской армии. Тактика Барклая — отступление в глубь страны — вызвала резкое недовольство в войсках и при дворе. Барклай был смещен, и на его место был назначен Кутузов, который продолжал ту же тактику. Поступивший к нему под начало Барклай участвовал в ряде сражений, появляясь во всех наиболее опасных местах. После Бородинской битвы он писал Александру I: «26 августа не сбылось мое пламеннейшее желание: провидение пощадило жизнь, которая меня тяготит».
Палата — «Военная галерея» бывшего Зимнего дворца, в которой помещены портреты участников войны 1812–1814 гг., написанные английским художником Доу.
Из А. Шенье (стр. 384). — Перевод стихотворения Шенье «Oeta, mont ennobli par cette nuit ardente…» («Эта гора, облагороженная той пылающей ночью…»).
Алкид — одно из имен главного героя древнегреческих эпических преданий, Геркулеса — олицетворения физической мощи. По преданию, один из кентавров, смертельно раненный Геркулесом, решив погубить героя, подарил его жене ядовитую рубашку, омоченную в его крови. При этом он уверил ее, что, если любовь Геркулеса к ней ослабнет, она должна дать ему надеть эту рубашку. Жена так и сделала. Рубашка стала разъедать его тело. Мучимый ужасной болью, Геркулес взошел на гору Эту, соорудил костер и бросился в него. Когда огонь запылал, герой на облаке, посланном к нему отцом его Зевсом, был вознесен на Олимп.
Палица — главное оружие Геркулеса.
Немейский лев — мифическое чудовище, задушенное Геркулесом, — первый из совершенных им подвигов.
«Кто из богов мне возвратил…» (стр. 384). — Вольное переложение оды Горация «К Помпею Вару».
Странник (стр. 385). — Сжатое переложение начала первой главы произведения английского иисателя-проповедника эпохи английской революции Джона Беньяна (1628–1688) «Путешествие странника из сего мира в грядущий».
«…Вновь я посетил…» (стр. 387). — Написано в связи с приездом осенью 1835 г. — последний раз в жизни — в Михайловское. Няня Пушкина умерла 31 июля 1828 г.
Иные берега, иные волны… — воспоминания ссыльного поэта о Крыме и Одессе.
На выздоровление Лукулла. Подражание латинскому (стр. 389). — Это стихотворение является уничтожающим сатирическим выпадом против одного из «столпов» николаевской реакции, министра народного просвещения, главы цензурного ведомства, президента Академии наук графа Сергея Семеновича Уварова (1786–1855). Под Лукуллом (имя римского полководца, славившегося необычайной роскошью своих пиров и празднеств— «лукулловы пиры») Пушкин подразумевает известного богача, графа Д. Н. Шереметева, который только что поправился после опасной болезни. Уваров, который должен был по жене наследовать бездетному Шереметеву, уверенный в его неизбежной смерти, поспешил опечатать его имущество. Эта скандальная история разнеслась по всему Петербургу. Стихотворение целиком принадлежит самому Пушкину, подзаголовок — «Подражание латинскому» — дан с целью провести стихи через цензуру. Это вполне удалось: стихотворение было напечатано и сделало Уварова одним из злейших врагов поэта.
Пир Петра Первого (стр. 390). — В основе — исторический факт, засвидетельствованный Ломоносовым и отмеченный Пушкиным в подготовлявшейся им «Истории Петра»: «Петр простил многих знатных преступников, пригласил их к своему столу и пушечной пальбой праздновал с ними примирение». Особую выразительность стихотворению придавало то, что поэт открыл им первую книжку своего журнала «Современник», вышедшую в 1836 г., — десятилетие приговора над декабристами. Как и десять лет назад в «Стансах» 1826 г., поэт, ставя в пример Николаю Петра, призвал его быть «незлобным памятью» — амнистировать декабристов.
Брантов утлый бот. — Брандт — голландец, приехавший в Россию в 1669 г. в качестве подмастерья; по приказанию Петра I починил морскую лодку, ботик, привезенный в свое время англичанами в подарок царю Алексею Михайловичу и остававшийся долгое время без употребления. Ботик, послуживший как бы началом русскому флоту, в 1722 г. был перевезен в Петербург, где ему была устроена торжественная встреча.
Подражание арабскому («Отрок милый, отрок нежный…») (стр. 392). — Три последних стиха подсказаны строками из «Гюлистана» Саади Ширазского: «…я и друг мой жили будто два миндальные ореха в одной скорлупе».
Д. В. Давыдову («Тебе, певцу, тебе, герою!..») (стр. 392). — Обращено к прославленному поэту-партизану Денису Васильевичу Давыдову (1784–1839), стихи которого Пушкин очень ценил, считая его в числе своих литературных учителей и говоря, что он «дал ему почувствовать еще в Лицее возможность быть оригинальным». Послано вместе с дарственным экземпляром «Истории Пугачевского бунта». Первая строка — перевод стиха из дарственной надписи французского поэта Арно на книге, посланной им Давыдову.
Мирская власть (стр. 392). — По словам друга Пушкина, поэта П. А. Вяземского, стихотворение, «вероятно, написано потому, что в страстную пятницу в Казанском соборе стоят солдаты на часах у плащаницы».
(Подражание итальянскому) («Как с древа сорвался предатель ученик…») (стр. 393). — Вольный перевод «Сонета об Иуде» итальянского поэта Франческо Джанни (1760–1822) с французского перевода Антони Дешана.
(Из Пиндемопти) (стр. 393). — Ссылка на итальянского поэта И. Пиндемонте (1753–1828) преследует маскировочную цель: на самом деле стихотворение полностью принадлежит Пушкину.
«Альфонс садится на коня…» (стр. 394). — Вольное переложение одного из эпизодов французского романа графа Яна Потоцкого «Десять дней из жизни Альфонса Ван-Вордена» («Dix journées de la vie d’Alphonse Van-Worden». Paris, 1814). Месть повешенных разбойников объясняется в романе тем, что повешенные были несправедливо осуждены.
«Отцы пустынники и жены непорочны…» (стр. 395). — Вторая часть стихотворения — переложение великопостной молитвы Ефрема Сирина.
«Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» (стр. 396). — Эпиграф — начальные слова оды Горация «К Мельпомене».
Александрийский столп — огромная гранитная колонна бывш. Дворцовой площади в Петербурге, сооруженная в память Александра I; в 1834 г. Пушкин специально уехал из Петербурга, не желая присутствовать на торжестве ее «освящения».
Художнику (стр. 397). — Обращено к скульптору Борису Ивановичу Орловскому (наст, фам. — Смирнов) (1796–1837), ученику Торвальдсена, автору памятников Барклаю-де-Толли и Кутузову перед Казанским собором в Петербурге.
«Была пора: наш праздник молодой…» (стр. 397). — Написано к двадцатипятилетней годовщине открытия Лицея; осталось неоконченным.
Чертог царицын — крыло царскосельского дворца, в котором помещался Лицей; на торжественном открытии Лицея 19 октября 1811 г. Куницын в присутствии царя и высшей знати произнес горячую и смелую либеральную речь об обязанностях гражданина и воина.
Наш Агамемнон — Александр I (Агамемнон в «Илиаде» Гомера — вождь царей, осаждавших Трою).
Новый царь — Николай I.
Новы тучи — революция 1830 г. во Франции; польское восстание 1830–1831 гг.
На статую играющего в свайку (стр. 399). На статую играющего в бабки (стр. 399). — Стихотворения посвящены произведениям молодых скульпторов А. В. Логановского (1810–1855) и Н. С. Пименова (1812–1864), показанным осенью 1836 г. на выставке в Академии художеств.
Дискобол — знаменитая статуя метателя диска, работы древнегреческого скульптора Мирона (V в. до н. э.).
Руслан и Людмила (стр. 403). — Поэма начата в 1817 г. и закончена 26 марта 1820 г., меньше чем за полтора месяца до высылки Пушкина из Петербурга на юг (за исключением эпилога, написанного уже на Кавказе).
Отрывки из поэмы были опубликованы вскоре же после ее окончания в журналах «Невский зритель» и «Сын отечества». Отдельным изданием поэма вышла из печати между 23 июля — 10 августа 1820 г.
Для второго издания поэмы, вышедшего в 1828 г., Пушкин добавил стихотворное введение «У лукоморья дуб зеленый…», первые строки которого представляют собой переложение эпизода из сказки, рассказанной поэту во время ссылки в Михайловском няней Ариной Родионовной.
Стр. 424.Князь Тавриды — фаворит Екатерины II, князь Г. А. Потемкин-Таврический.
Стр. 440. Поэзии чудесный гений — В. А. Жуковский, фабулу поэмы которого «Двенадцать спящих дев» (2-я часть «Вадим») Пушкин шутливо пародирует в эпизоде пребывания Ратмира в замке дев.
Стр. 443. Омер — Гомер.
Стр. 444. …лицемерная Диана // Пред милым пастырем своим… — Диана, богиня луны, считалась девственницей. Однако она каждый вечер спускалась в пещеру к погруженному ею в вечный сон возлюбленному — красавцу пастуху Эндимиону.
Стр. 446. Лемноса хромой кузнец — Вулкан.
Кавказский пленник (стр. 470). — Поэма начата в Гурзуфе в августе 1820 г. под непосредственным впечатлением от только что совершенной Пушкиным поездки на Кавказские минеральные воды. Сначала поэт хотел выдвинуть на первый план описание кавказской природы, быта и нравов горцев и предполагал назвать поэму «Кавказ». Однако затем в соответствии с основной задачей, поставленной им перед собой, непосредственно связал ее заглавие с образом героя. Поэма в основном была закончена в первой половине 1821 г. в Каменке. Критика встретила «Кавказского пленника» (не считая отдельных небольших замечаний) восторженно. Второе издание поэмы вышло в 1828 г. со следующим предисловием Пушкина: «Сия повесть, снисходительно принятая публикою, обязана своим успехом верному, хотя слегка означенному, изображению Кавказа и горских нравов. Автор также соглашается с общим голосом критиков, справедливо осудивших характер пленника, некоторые отдельные черты и проч.». В издании «Поэм и повестей» 1835 г. (третья прижизненная публикация поэмы) это предисловие было снято.
Посвящена поэма другу Пушкина и его спутнику в поездке на Кавказские воды и в Крым, сыну генерала Раевского, Н. Н. Раевскому, который, будучи еще мальчиком, принял «вослед отца героя» участие в Отечественной войне 1812 г.
Бешту, или, правильнее, Бештау, кавказская гора в 40 верстах от Георгиевска. Известна в нашей истории (примечание автора — верстальщик).
Аул. Так называются деревни кавказских народов (примечание автора — верстальщик).
Уздень, начальник или князь (примечание автора — верстальщик).
Шашка, черкесская сабля (примечание автора — верстальщик).
Сакля, хижина (примечание автора — верстальщик).
Кумыс делается из кобыльего молока; напиток сей в большом употреблении между всеми горскими и кочующими народами Азии. Он довольно приятен вкусу и почитается весьма здоровым (примечание автора — верстальщик).
Счастливый климат Грузии не вознаграждает сию прекрасную страну за все бедствия, вечно ею претерпеваемые. Песни грузинские приятны и по большей части заунывны. Они славят минутные успехи кавказского оружия, смерть наших героев: Бакунина и Цицианова, измены, убийства — иногда любовь и наслаждения (примечание автора — верстальщик).
Державин в превосходной своей оде графу Зубову первый изобразил в следующих строфах дикие картины Кавказа:
Жуковский, в своем послании к г-ну Воейкову, также посвящает несколько прелестных стихов описанию Кавказа:
— (примечание автора — верстальщик.
Чихирь, красное грузинское вино (примечание автора — верстальщик).
Черкесы, как и все дикие народы, отличаются пред нами гостеприимством. Гость становится для них священною особою. Предать его или не защитить почитается меж ними за величайшее бесчестие. Кунак (т. е. приятель, знакомый) отвечает жизнию за вашу безопасность, и с ним вы можете углубиться в самую средину кабардинских гор (примечание автора — верстальщик).
Байран, или байрам, праздник разговенья. Рамазан, музульманский пост (примечание автора — верстальщик).
Мстислав, сын св. Владимира, прозванный Удалым, удельный князь Тмутаракана (остров Тамань). Он воевал с косогами (по всей вероятности, нынешними черкесами) и в единоборстве одолел князя их Редедю. См. Ист. Гос. Росс. Том II (примечание автора — верстальщик).
Гавриилиада (стр. 492). — Поэма, пародийно, в духе Вольтера и религиозных поэм Парни, вышучивающая христианский догмат о непорочном зачатии, писалась в Кишиневе в апреле 1821 г. Поэма была сочувственно встречена в декабристских кругах (см. письмо Пушкина к А. А. Бестужеву от 13 июня 1823 г., из которого видно, что последнему «нравится Благовещение», т. е., очевидно, именно «Гавриилиада»). Жандармский генерал Бибиков в своем доносе на Пушкина Бенкендорфу от 8 марта 1826 г., т. е. в самый разгар следствия над декабристами, называет «Гавриилиаду» «бунтовскими стихами», которые, нападая «опасным и коварным оружием насмешки на святость религии — узды, необходимой для всех народов и, в особенности, для русских», тем самым «разносят пламя мятежа по всем классам общества» (подлинник по-французски). Однако донос Бибикова был оставлен тогда без внимания. Между тем поэма получала все большее распространение в списках. В 1828 г. последовал донос петербургскому митрополиту от крепостных некоего штабс-капитана Митькова, которые жаловались, что барин читал им «Гавриилиаду». На этот раз доносу был дан ход, и возникло специальное дело «о развращении отставным шт. — кап. Митьковым своих дворовых людей в понятиях христианской религии чтением рукописи стихотворения «Гавриилиады». По распоряжению Николая I дело было передано на рассмотрение особой следственной комиссии и проходило под непосредственным наблюдением самого царя. Пушкин дважды вызывался на допрос к петербургскому военному генерал-губернатору. Поэт отрицал свое авторство, показав, что ознакомился с «Гавриилиадой», которая «ходила между офицерами Гусарского полку», еще в Лицее, в 1815–1816 гг. и тогда же переписал ее, но впоследствии сжег свой список. Около этого же времени в письме к Вяземскому, которое было послано обычной почтой (и, как, вероятно, на это рассчитывал Пушкин, могло попасть в руки полиции), Пушкин назвал автором «Гавриилиады» умершего за четыре года до этого кн. Д. П. Горчакова, автора многих «колких» сатирических произведений, «презревших печать», т. е. ходивших в рукописи. Дело о «Гавриилиаде» могло угрожать Пушкину весьма тягостными последствиями, на что он и намекал в том же письме к Вяземскому: «Ты зовешь меня в Пензу, а того и гляди, что я поеду далее — «Прямо, прямо на восток». Мне навязалась на шею преглупая шутка. До правительства дошла, наконец, «Гавриилиада»; приписывают ее мне; донесли на меня…» (письмо от второй половины августа 1828 г.). Николай I не удовлетворился объяснениями Пушкина на допросах и прямо потребовал, чтобы он назвал автора поэмы. Тогда Пушкин попросил разрешения написать лично царю. Письмо это до нас не дошло, как не дошел и ответ на него царя. В письме к царю Пушкин, очевидно, признавал свое авторство. В конспекте Ю. Н. Бартенева, записавшего рассказы одного из членов следственной комиссии, кн. А. Н. Голицына, значится: «Гаврильяда Пушкина. Отпирательство Пушкина. Признание. Обращение с ним государя». После получения письма от Пушкина по распоряжению царя дело было прекращено.
Автограф «Гавриилиады» до нас не дошел. В черновиках Пушкина сохранился лишь набросок начала плана «Гавриилиады»: «Святой дух, призвав Гавриила, описывает ему свою любовь и производит в сводники. Гавриил влюблен. Сатана и Мария».
Печатающийся в настоящее время текст поэмы реконструирован по нескольким спискам, не всегда надежным.
Братья разбойники (стр. 505). — Уцелевший, видимо, вступительный отрывок большой поэмы, над которой Пушкин работал в 1821–1822 гг. Сохранились два наброска плана ее. Оба они связаны с мотивами народных «разбойничьих» песен, входящих в круг фольклора о Стеньке Разине; с песнями и сказаниями о Разине Пушкин мог познакомиться во время поездки с семьей Раевских летом 1820 г. по Кубани. Их специально собирал Н. Н. Раевский-сын. Кроме того, до нас дошел небольшой черновой набросок начала поэмы. Почти все остальное было то ли из-за неудовлетворенности написанным, то ли по соображениям политической небезопасности уничтожено Пушкиным, о чем он сообщал в письме к декабристу А. А. Бестужеву 13 июня 1823 г.: «Разбойников я сжег — и поделом. Один отрывок уцелел в руках Николая Раевского…»
«Братья разбойники», которые и являются этим уцелевшим отрывком, связаны с народной разбойничьей песней «Ах! далече, далече в чистом поле» — о двух братьях разбойниках — «большом» и «меньшом», которых воспитали, не отец и мать, а «чернадальна сторона». Близок народным песням и ряд отдельных мест и выражений «Братьев разбойников». Интерес к разбойничьей теме, несомненно, подсказывался Пушкину его повышенным вниманием ко всем формам протеста против существовавшего в ту пору политического порядка вещей, даже к такой форме, как уход в разбойники. Поддерживался этот интерес и реальными впечатлениями окружающей действительности. Во время приезда Пушкина в мае 1820 г. в Екатеринославскую губернию там происходили серьезные крестьянские волнения. В бытность Пушкина в Кишиневе по всей Бессарабии шла усиленная борьба с разбойниками из беглых крестьян и повстанцев — борцов за национальную независимость. Писатель А. Ф. Вельтман, встречавшийся с Пушкиным в Кишиневе, считает, что пушкинская поэма о разбойниках связана с впечатлениями от знаменитого молдавского разбойника Урсула. В черновиках «Братьев разбойников» еще определеннее, чем в окончательном тексте, подчеркивается, что они взялись за свой опасный промысел, таскуна барскою сохой», то есть бежав из крепостной неволи. Самый эпизод с бегством двух братьев из городской тюрьмы также подсказан вполне реальным случаем, о чем свидетельствует сам Пушкин в письме к Вяземскому И ноября 1823 г.: «Вот тебе и Разбойники. Истинное происшествие подало мне повод написать этот отрывок. В 1820 году, в бытность мою в Екатеринославле, два разбойника, закованные вместе, переплыли через Днепр и спаслись. Их отдых на островке, потопление одного из стражей мною не выдуманы».
«Братья разбойники» были впервые опубликованы в альманахе «Полярная звезда на 1825 год», издававшемся А. Бестужевым и К. Рылеевым, и вышли отдельным изданием в 1827 г.
Бахчисарайский фонтан (стр. 511). — Поэма начата весной 1821 г., основная ее часть написана в 1821 г.; закончена поэма осенью 1823 г. Первоначально Пушкин хотел назвать ее «Харем». Эпиграф взят из стихотворения знаменитого персидского поэта XIII в. Саади. Сперва Пушкин хотел посвятить поэму Н. Н. Раевскому и набросал соответствующее вступление, позднее собирался посвятить ее П. А. Вяземскому. В основе сюжета лежит легенда о похищении крымским ханом Керим-Гиреем польской княжны Марии Потоцкой, еще до ссылки слышанная Пушкиным, по его собственным словам, от одной «молодой женщины», в которую он «был очень долго и очень глупо влюблен» (по новейшим биографическим разысканиям, гр. С. С. Потоцкая, вышедшая в 1821 г. замуж за генерала П. Д. Киселева). Описание Крыма и, в частности, Бахчисарая дано по непосредственным личным впечатлениям поэта. Поэма вышла в 1824 г. с предпосланной ей «вместо предисловия» программной статьей П. А. Вяземского «Разговор между издателем и классиком с Выборгской стороны или Васильевского острова», в которой выдвигались и защищались основные принципы поэтики романтизма. Поэма была встречена единодушным восторгом критиков, в том числе и приверженцев классицизма, но вокруг статьи «издателя» Вяземского вспыхнула ожесточенная полемика, явившаяся одним из наиболее шумных проявлений тех боев между «классиками» и «романтиками», которые были так характерны для 20-х гг. прошлого века и возникали чаще всего именно вокруг творчества Пушкина. Сам Пушкин, к этому времени все решительнее вступавший на почву художественного реализма, остался в стороне от этой полемики, но в «Письме к издателю «Сына отечества» выразил свое одобрение статье Вяземского.
При подготовке поэмы к печати Пушкин выбросил из нее все то, что, как он сам выразился, «цензура выбросила бы и без меня». Однако поэт решительно возражал против каких-либо дальнейших уступок, «…сделай милость, не уступай этой суке цензуре, отгрызывайся за каждый стих, и загрызи ее, если возможно, в мое воспоминание», — писал Пушкин издателю поэмы Вяземскому.
Еще до выхода в свет поэма получила чрезвычайно широкое распространение. «В Петербурге ходят тысяча списков», — писал Пушкин брату 1 апреля 1824 г. При жизни Пушкина «Бахчисарайский фонтан» вышел еще двумя отдельными изданиями (1827 и 1830 гг.) и вошел в состав первой части «Поэм и повестей» 1835 г.
Цыганы (стр. 525). — Поэма начата в январе 1824 г. в Одессе, где были написаны вчерне первые три отрывка (145 стихов). Примерно через два месяца после приезда в Михайловское Пушкин возобновил работу над «Цыганами» и с исключительной быстротой завершил ее: остальные 394 стиха поэмы были написаны им вчерне за неделю (между 2 и 8 октября). К 10 октября черновик был перебелен и написан эпилог.
Образы поэмы и даже в известной мере ее сюжет подсказаны Пушкину реальными жизненными впечатлениями. В «Биографическом известии об А. С. Пушкине до 1826 года» А. С. Пушкин приводит один эпизод из кишиневского периода жизни брата: «Однажды Пушкин исчез и пропадал несколько дней. Дни эти он прокочевал с цыганским табором, и это породило впоследствии поэму «Цыганы». Сам Пушкин говорит об этом в эпилоге «Цыган»: «За их ленивыми толпами в пустынях часто я бродил…» В набросках к эпилогу были и такие строки: «Почто ж, безумец, между вами // В пустынях не остался я, // Почто за прежними мечтами // Меня влекла судьба моя?» О том же Пушкин вспоминает и в VIII главе «Евгения Онегина» и в стихотворении 1830 г. «Цыганы».
В уста старого цыгана Пушкиным вложено преданье о «святом старике» изгнаннике, то есть древнеримском поэте Овидии, с «участью» которого поэт так часто сопоставлял в это время свою собственную судьбу. «Песня Земфиры» представляет довольно близкую переработку народной цыганской хоры (плясовой, хороводной песни) на молдавском языке «Жги меня, жарь меня», которую Пушкин неоднократно слышал и «дикий напев» которой в нотной записи был по его просьбе для него сделан. Поэт послал эти ноты Вяземскому, и они были опубликованы вместе с текстом «Песни Земфиры» в «Московском телеграфе» (1825).
В рукописи Пушкиным были намечены два эпиграфа к поэме: «Мы люди смирные, девы наши любят волю — что тебе делать у нас. Молд. песня» и «Под бурей рока — твердый камень, // В волненьях страсти — легкий лист. Князь Вяземский».
В день окончания «Цыган» Пушкин сообщал П. А. Вяземскому: «Кстати о стихах: сегодня кончил я поэму «Цыганы». Не знаю, что об ней сказать. Она покамест мне опротивела» (письмо от 8 или 10 октября 1824 г.). Однако позднее поэт снова писал ему: «Я кажется писал тебе, что мои «Цыганы» никуда не годятся: не верь — я соврал — ты будешь ими очень доволен» (письмо от 25 января 1825 г.). В тот же день он отправил с И. И. Пущиным Рылееву отрывок из «Цыган» — первые 93 стиха, которые и были напечатаны в «Полярной звезде на 1825 год». Однако полностью печатать поэму Пушкин не спешил, считая, видимо, ее не вполне завершенной. В январе он снова вернулся к ней и начал было набрасывать совсем новый эпизод — монолог Алеко над колыбелью сына, но, несмотря на упорную работу (четыре редакции и ряд набросков отдельных мест), не закончил его.
Ходившая в списках поэма, проникнутая пафосом вольности и ненавистью к общественно-политическому строю того времени, «однообразному как песнь рабов», имела огромный успех в кругах декабристов. «От «Цыган» все без ума», — писал Пушкину Рылеев в письме от 25 марта 1825 г. Обстановка, сложившаяся после 14 декабря 1825 г., видимо, заставила Пушкина отложить печатание «Цыган», и отдельное издание их, весьма сочувственно встреченное критикой, появилось только в 1827 г. (без имени автора и с указанием: «Писано в 1824 году»).
Граф Нулин (стр. 543). — Эта первая шутливо-реалистическая поэма, точнее, повесть в стихах написана всего за два дня — 13 (дата в конце первого беловика) и 14 декабря 1825 г. В своей позднейшей заметке о «Графе Нулине» поэт подробно рассказывает о возникновении замысла своей стихотворной повести, которую сперва он назвал «Новый Тарквиний»: «В конце 1825 г. находился я в деревне. Перечитывая «Лукрецию», довольно слабую поэму Шекспира, я подумал: что если б Лукреции пришла в голову мысль дать пощечину Тарквинию? Быть может, это охладило б его предприимчивость и он со стыдом принужден был отступить? Лукреция б не зарезалась, Публикола не взбесился бы, Брут не изгнал бы царей, и мир и история мира были бы не те. Итак, республикою, консулами, диктаторами, Катонами, Кесарем мы обязаны соблазнительному происшествию, подобному тому, которое случилось недавно в моем соседстве, в Новоржевском уезде. Мысль пародировать историю и Шекспира мне представилась. Я не мог воспротивиться двойному искушению и в два утра написал эту повесть».
Основой сюжета послужило действительное «происшествие», случившееся незадолго до того по соседству с Михайловским и являвшееся, при всей его анекдотичности, весьма характерным для тогдашнего дворянско-поместного быта. «Сделал посещение вроде «Графа Нулина», — записал несколько позднее в дневнике А. Н. Вульф, — с той только разницей, что не получил пощечины». Поэма была впервые опубликована в «Северных цветах на 1828 год», а в декабре 1828 г. вышла вместе с поэмой Баратынского «Бал» отдельной книжкой под общим названием «Две повести в стихах».
Стр. 546. С ужасной книжкою Гизота… — Франсуа Гизо (1787–1874) — выдающийся французский историк, выступавший в это время в своих брошюрах против реакционного министерства во Франции периода Реставрации, возглавлявшегося крайним монархистом Вилленом.
Пера — Ф. Паэра — директор итальянского театра в Париже.
Тальма Ф.-Ж. (1763–1826) — актер-трагик, выдвинувшийся в эпоху французской революции.
Марс (1779–1847) — комедийная актриса.
Потье Шарль (1775–1838) — актер, выступавший в это время с огромным успехом в модных легких комедиях и водевилях.
Д' Арленкур Шарль (1789–1856) — автор модных псевдоисторических романов «ужасов» и «приключений».
Ламартин Альфонс (1790–1869) — поэт, после выхода в 1820 г. сборника его стихов «Поэтические размышления» считавшийся главой французского романтизма. Сам Пушкин относился к его весьма модной тогда и на Западе и у нас поэзии чаще всего отрицательно и отказывал ему в праве называться романтиком.
Стр. 547. «Мы получаем Телеграф» — журнал «Московский телеграф», в котором для привлечения подписчиков печатались в красках образцы новых модных костюмов.
Полтава (стр. 552). — К работе над «Полтавой» Пушкин приступил весной (5 апреля) 1828 г. Первая песнь была закончена только 3 октября. С этого времени работа над «Полтавой» приняла чрезвычайно стремительный темп: за последующие две недели были написаны и перебелены вторая и третья песни (960 стихов). Именно к этому времени, очевидно, и относятся слова Пушкина в позднейшей заметке о «Полтаве»: «Полтаву написал я в несколько дней…» М. В. Юзефович, познакомившийся с Пушкиным во время пребывания его в действующей армии в лагере Паскевича, так рассказывает, со слов самого поэта, о двух октябрьских неделях работы его над «Полтавой»: «Это было в Петербурге. Погода стояла отвратительная. Он уселся дома, писал целый день. Стихи ему грезились даже во сне, так что он ночью вскакивал с постели и записывал их впотьмах. Когда голод его прохватывал, он бежал в ближайший трактир, стихи преследовали его и туда, он ел на скорую руку что попало и убегал домой, чтобы записать то, что набралось у него на бегу и за обедом. Таким образом слагались у него сотни стихов в сутки. Иногда мысли, не укладывавшиеся в стихи, записывались им прозой. Но затем следовала отделка, при которой из набросков не оставалось и четвертой части». Рассказ этот полностью подтверждается огромным количеством дошедших до нас черновых рукописей «Полтавы». Эпиграф к ней взят из поэмы Байрона «Мазепа». Сперва Пушкин хотел так же назвать и свою поэму. Не сразу было дано им и имя героине — Мария (дочь Кочубея на самом деле звалась Матреной); сначала он называет ее Натальей, Анной.
Предпосланное поэме посвящение написано уже после ее окончания, 27 октября 1828 г. В рукописи оно сопровождалось припиской «I love this sweet пате» («Я люблю это нежное имя»), характерно перекликающейся со стихами об умирающем казаке: «И имя нежное Марии // Чуть лепетал еще язык». Установление адресата посвящения вызвало много споров, но к настоящему времени можно считать почти полностью доказанным, что оно обращено к Марии Николаевне Волконской.
«Полтава» вышла в свет отдельным изданием в конце марта 1829 г. (вторым изданием — в «Поэмах и повестях» Пушкина 1835 г., ч. 2).
Василий Леонтьевич Кочубей, генеральный судия, один из предков нынешних графов (примечание автора — верстальщик).
Хутор — загородный дом (примечание автора — верстальщик).
У Кочубея было несколько дочерей; одна из них была замужем за Обидовским, племянником Мазепы. Та, о которой здесь упоминается, называлась Матреной (примечание автора — верстальщик).
Мазепа в самом деле сватал свою крестницу, но ему отказали (примечание автора — верстальщик).
Предание приписывает Мазепе несколько песен, доныне сохранившихся в памяти народной. Кочубей в своем доносе также упоминает о патриотической думе, будто бы сочиненной Мазепою. Она замечательна не в одном историческом отношении (примечание автора — верстальщик).
Бунчук и булава — знаки гетманского достоинства (примечание автора — верстальщик).
Стр. 556. Шведский паладин — шведский король Карл XII, одержавший в начале русско-шведской войны победу над русскими войсками под Нарвой.
Новый, сильный враг. — Речь идет о Наполеоне и его походе на Москву, окончившемся его полным разгромом.
Смотр. Мазепу Байрона (примечание автора — верстальщик).
Дорошенко, один из героев древней Малороссии, непримиримый враг русского владычества (примечание автора — верстальщик).
Григорий Самойлович, сын гетмана, сосланного в Сибирь в начале царствования Петра I (примечание автора — верстальщик).
Симеон Палей, хвастовский полковник, славный наездник. За своевольные набеги сослан был в Енисейск по жалобам Мазепы. Когда сей последний оказался изменником, то и Палей, как закоренелый враг его, был возвращен из ссылки и находился в Полтавском сражении (примечание автора — верстальщик).
Костя Гордеенко, кошевой атаман запорожских казаков. Впоследствии передался Карлу XII. Взят в плен и казнен в 1708 г. (примечание автора — верстальщик).
20 000 казаков было послано в Лифляндию (примечание автора — верстальщик).
Стр. 557. Богдана счастливые споры — освободительная борьба украинцев в XVII веке против польских помещиков, возглавленная Богданом Хмельницким и завершившаяся договором на собравшейся в 1654 г. Переяславской Раде о соединении Украины с Московским государством.
Мазепа в одном письме упрекает Кочубея в том, что им управляет жена его, гордая и высокоумная (примечание автора — верстальщик).
Искра, полтавский полковник, товарищ Кочубея, разделивший с ним его умысел и участь (примечание автора — верстальщик).
Езуит Заленский, княгиня Дульская и какой-то болгарский архиепископ, изгнанный из своего отечества, были главными агентами Мазепиной измены. Последний в виде нищего ходил из Польши в Украйну и обратно (примечание автора — верстальщик).
Так назывались манифесты гетманов (примечание автора — верстальщик).
Филипп Орлик, генеральный писарь, наперсник Мазепы, после смерти (в 1710) сего последнего получил от Карла XII пустой титул малороссийского гетмана. Впоследствии принял магометанскую веру и умер в Бендерах около 1736 года (примечание автора — верстальщик).
Булавин, донской казак, бунтовавший около того времени (примечание автора — верстальщик).
Стр. 562. За порогами Днепра. — Имеется в виду Запорожская Сечь.
Тайный секретарь Шафиров и гр. Головкин, друзья и покровители Мазепы; на них, по справедливости, должен лежать ужас суда и казни доносителей (примечание автора — верстальщик).
В 1705 году. Смотр. примечания к Истории Малороссии, Бантыша-Каменского (примечание автора — верстальщик).
Во время неудачного похода в Крым Казы-Гирей предлагал ему соединиться с ним и вместе напасть на русское войско (примечание автора — верстальщик).
В своих письмах он жаловался, что доносителей пытали слишком легко, неотступно требовал их казни, сравнивал себя с Сусанною, неповинно оклеветанною беззаконными старцами, а графа Головкина с пророком Даниилом (примечание автора — верстальщик).
Деревня Кочубея (примечание автора — верстальщик).
Уже осужденный на смерть, Кочубей был пытан в войске гетмана. По ответам несчастного видно, что его допрашивали о сокровищах, им утаенных (примечание автора — верстальщик).
Стр. 574. Забела, Гамалей — украинские полковники, приверженцы Мазепы.
Войско, состоявшее на собственном иждивении гетманов (примечание автора — верстальщик).
Стр. 580. Хитрый кардинал — кардинал Монтальто (1521–1590), затем римский папа Сикст V, который до выбора его в папы выдавал себя за слабого, немощного старика, а едва был выбран, сразу же отбросил костыли и запел благодарственный псалом.
Сильные меры, принятые Петром с обыкновенной его быстротой я энергией, удержали Украйну в повиновении.
«1708 ноября 7-го числа, по указу государеву, казаки по обычаю своему вольными голосами выбрали в гетманы полковника стародубского Ивана Скоропадского.
8-го числа приехали в Глухов киевский, черниговский и переяславский архиепископы.
А 9-го дня предали клятве Мазепу оные архиереи публично; того же дня и персону (куклу) оного изменника Мазепы вынесли и, сняв кавалерию (которая на ту персону была надета с бантом), оную персону бросили в палачевские руки, которую палач, взяв и прицепя за веревку, тащил по улице и но площади даже до виселицы, и потом повесили.
В Глухове же 10-го дня казнили Чечеля и прочих изменников…» (Журнал Петра Великого.)
— (примечание автора — верстальщик).
Малороссийское слово. По-русски — палач (примечание автора — верстальщик).
Чечель отчаянно защищал Батурин против войск князя Меншикова (примечание автора — верстальщик).
Запорожский атаман — Костя Гордеенко, о котором Пушкин говорит в 11-м примеч. к поэме (примечание автора — верстальщик).
В Дрезден к королю Августу. См.: Voltaire. Histoire de Charles XII (примечание автора — верстальщик).
— Ах, ваше величество! бомба!.. — «Что есть общего между бомбою и письмом, которое тебе диктуют? пиши». Это случилось гораздо после (примечание автора — верстальщик).
Ночью Карл, сам осматривая наш лагерь, наехал на казаков, сидевших у огня. Он поскакал прямо к ним и одного из них застрелил из собственных рук. Казаки дали по нем три выстрела и жестоко ранили его в ногу (примечание автора — верстальщик).
Стр. 583. Розен, Шлипенбах — шведские генералы, атаковавшие русские позиции, но отрезанные от своих и принужденные — сперва Шлипенбах, а затем прорвавшийся было Розен — сдаться.
Стр. 584. Шереметев Б. П. (1652–1719) — генерал-фельдмаршал, один из крупнейших военачальников петровского времени, во время полтавского сражения командовал центром русской армии.
Брюс Я. В. (1670–1735) — генерал-фельдцехмейстер, начальствовал артиллерией.
Боур P. X. (1667–1717) — генерал от кавалерии, командовал правым флангом.
Репнин А. И. (1668–1726) — также один из крупнейших боевых генералов эпохи Северной войны.
Полудержавный властелин — один из ближайших сподвижников Петра, кн. А. Д. Меншиков, командовавший левым флангом и особенно отличившийся во время полтавского боя.
Стр. 586. Войнаровский Андрей— племянник Мазепы и его приверженец, герой поэмы Рылеева «Войнаровский».
Благодаря прекрасным распоряжениям и действиям князя Меншикова, участь главного сражения была решена заранее. Дело не продолжалось и двух часов. Ибо (сказано в Журнале Петра Великого) непобедимые господа шведы скоро хребет свой показали, и от наших войск вся неприятельская армия весьма опрокинута. Петр впоследствии времени многое прощал Данилычу за услуги, оказанные в сей день генералом князем Меншиковым (примечание автора — верстальщик).
L’Empereur Moscovite, pénétré d’une joie qu’il ne se mettait pas en peine de dissimuler (было о чем и радоваться), recevait sur le champ de bataille les prisonniers qu’on lui amenait en foule et demandait à tout moment: où est donc mon frère Charles?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alors prenant un verre de vin: A la santé, dit-il, de mes maîtres dans l’art de la guerre! — Renschild lui demanda: qui étaient ceux qu’il honorait d’un si beau titre. — Vous, Messieurs les généraux Suédois; reprit le Czar. — Votre Majesté est donc bien ingrate, reprit le Comte, d’avoir tant maltraité ses maîtres.
Московский император, проникнутый радостью, которую он не давал себе труда скрывать… принимал на поле битвы пленников, которых ему приводили толпой, и то и дело спрашивал: «А где же мой брат Карл?». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Тогда, взяв стакан вина, он сказал: «За здоровье моих учителей в военном искусстве!» Реншильд спросил его, кого он почтил таким славным титулом. «Вас, господа шведские генералы», — ответил царь. «В таком случае ваше величество очень неблагодарны, — ответил граф, — вы так дурно обошлись со своими учителями» (франц.) (примечание автора — верстальщик).
Стр. 590. Три… ступени // Гласят о шведском короле. — После того как Карл XII был наголову разбит под Полтавой, он бежал в Молдавию, находившуюся тогда под турецким владычеством, рассчитывая с помощью турок, воевавших с Россией, возобновить борьбу против Петра. Однако Турция заключила мир с русскими и потребовала, чтобы Карл покинул страну; он сопротивлялся, был обезоружен, арестован и в 1714 г. вынужден был вернуться в Швецию.
Обезглавленные тела Искры и Кочубея были отданы родственникам и похоронены в Киевской лавре; над их гробом высечена следующая надпись.
Року 1708, мѣсяца iюля 15 дня, посѣчены средь Обозу войсковаго, за Бѣлою Церковiю на Борщаговцѣ и Ковшевомъ, благородный Василiй Кочубей, судiя генеральный; 1оаннъ Искра, полковиикъ полтавскiй. Привезены же тѣла их iюля 17 въ Кiевъ и того жъ дня въ обители святой Печерской на семъ мѣстѣ погребены» (примечание автора — верстальщик).
Тазит (стр. 593). — Вторая кавказская поэма Пушкина, над которой он работал вскоре после возвращения из Закавказья, в конце 1829 — начале 1830 г., непосредственно связана с вынесенными во время проезда через Кавказ впечатлениями поэта. В частности, открывающая ее картина похорон горца прямо подсказана осетинскими похоронами, при которых поэт присутствовал и которые описывает в «Путешествии в Арзрум». Неоконченная поэма, в рукописи заглавия не имеющая, была опубликована только после смерти Пушкина в «Современнике» 1837 г. под заглавием «Галуб» (неверно прочитанное Жуковским имя отца Тазита). В рукописях Пушкина сохранились наброски планов поэмы. В наиболее подробном из них, кроме первых восьми пунктов, соответствующих написанной части поэмы, вслед за пунктом «сватовство» следуют еще шесть: 9) Отказ, 10) Миссионер, 11) Война, 12) Сраженье, 13) Смерть и 14) Эпилог. Это бросает некоторый свет на дальнейшее развитие пушкинского замысла: поэт начал было начерно набрасывать стихи, относящиеся к девятому пункту, но на этом работа оборвалась. В дальнейшем Тазит, уже подготовленный к этому его воспитателем (он назван в плане «черкесом христианином»), очевидно, принял христианство, ушел к русским, участвовал на их стороне в войне с черкесами и погиб в бою (возможно, от руки своего отца — сурового и фанатически непримиримого Гасуба).
Стр. 593. Адехи — то же, что «адыге» — родовое название черкесов.
Вблизи развалин Татпартуба — место, считавшееся среди черкесов священным и потому обеспечивавшее безопасность всякому, кому удавалось укрыться туда от любого преследования.
Уздени — вассалы владетельных горских князей.
Стр. 594. Азраил — по магометанскому верованию ангел смерти.
Домик в Коломне (стр. 601). — Поэма написана в октябре 1830 г. в Болдине. Реально-бытовая стихотворная повесть из жизни петербургской окраины и быта маленьких людей явилась своего рода демонстративным ответом на ожидания реакционных журналистов, требовавших от Пушкина после его возвращения с фронта русско-турецкой войны 1829 г. создания произведений в казенно-патриотическом духе. По свидетельству Гоголя, поэт сначала даже хотел назвать ее «Кухарка». От всех предшествовавших поэм Пушкина «Домик в Коломне» отличается не только новым содержанием, но и новой стихотворной формой: написан пятистопным ямбом, разбитым на особые восьмистишные строфы (так называемые октавы).
Пушкин первоначально предполагал сразу же напечатать поэму, но анонимно. Однако она была опубликована только три года спустя, в 1833 г., в альманахе «Новоселье» за полным именем автора.
Коломной называлась одна из тогдашних петербургских окраин, заселенных главным образом мелким трудовым людом. Пушкин описывает Коломну по непосредственным впечатлениям: в период между Лицеем и ссылкой он жил в Коломне на Фонтанке, у Калинкина моста, близ Покровского собора («У Покрова»), в доме Клокачева.
Стр. 601. Шихматов богомольный, — В 1830 г. поэт Ширинский-Шихматов постригся в монахи.
Стр. 602. Пустить на пе. — каламбурное применение карточного термина, обозначавшего удвоение ставки, — дать двойную рифму на «пе»: стопе — канапе.
Стр. 604. Сочиненъя Эмина. — Имеется в виду Ф. А. Эмин (ок. 1735–1770) — автор авантюрных романов, весьма популярных в свое время, или его сын Н. Ф. Эмин (ок. 1760–1814), автор чувствительных романов в письмах.
Стонет сизый голубок, // И Выду ль я на реченьку — популярные песни на слова И. И. Дмитриева и Ю. А. Нелединского-Мелецкого.
Стр. 606. Графиня — графиня Стройновская, урожденная Буткевич, которая ради спасения своей разорившейся семьи вышла восемнадцати лет замуж за семидесятилетнего старика-богача.
Стр. 607. Гоф-фурьер — придворный служитель, ведавший дворцовой прислугой.
…гроб на Охту отвезли. — Охта — одна из петербургских окраин, где находилось кладбище для бедноты.
Анджело (стр. 611). — Эта поэма-новелла и вместе с тем поэма-драма начата в феврале, закончена 27 октября 1833 г. в Болдине. В рукописи указано: «Анджело (повесть, взятая из шекспировской трагедии «Measure for measure» («Мера за меру»)». Пьеса Шекспира привлекла к себе сочувственное внимание Пушкина глубокой психологической разработкой образа Анджело. В одной из заметок 1835–1836 г., противопоставляя Шекспира Мольеру, Пушкин писал: «Лица, созданные Шекспиром, не суть, как у Мольера, типы такой-то страсти, такого-то порока, но существа живые, исполненные многих страстей, многих пороков. Обстоятельства развивают перед зрителем их разнообразные и многосторонние характеры. У Мольера Скупой скуп — и только; у Шекспира Шейлок скуп, сметлив, мстителен, чадолюбив, остроумен. У Мольера лицемер волочится за женою своего благодетеля, лицемеря; принимает имение под сохранение, лицемеря; спрашивает стакан воды, лицемеря. У Шекспира лицемер произносит судебный приговор с тщеславною строгостию, но справедливо; он оправдывает свою жестокость глубокомысленным суждением государственного человека; он обольщает невинность сильными, увлекательными софизмами, не смешною смесью набожности и волокитства. Анджело лицемер, потому что его гласные действия противоречат тайным страстям! А какая глубина в этом характере!»
Сперва Пушкин собирался перевести пьесу, но затем вступил на путь свободной переработки, перенеся действие из Австрии в Италию (сам Шекспир заимствовал сюжет пьесы из итальянской хроники). Поэма была опубликована в 1834 г. (в альманахе А. Ф. Смирдина «Новоселье», ч. II).
Критикой, в том числе и Белинским, поэма была встречена резко отрицательно; но сам Пушкин, по свидетельству ближайшего друга последних лет его жизни П. В. Нащокина, ставил «Анджело» очень высоко. «Наши критики, — говорил он Нащокину, — не обратили внимания на эту пиесу и думают, что это одно из слабых моих сочинений, тогда как ничего лучше я не написал».
Медный всадник (стр. 629). — «Петербургская повесть» написана осенью 1833 г. в Болдине (начата 9, закончена 31 октября). «Высочайший цензор» Пушкина, Николай I потребовал переделки ряда мест. 14 декабря 1833 г. Пушкин записал в дневнике: «Мне возвращен «Медный всадник» с замечаниями государя. Слово кумир не пропущено высочайшей цензурой. Стихи: «И перед младшею столицей // Померкла старая Москва, // Как перед новою царицей // Порфироносная вдова», — вымараны. Во многих местах поставлен (?)». Поэт предпочел отказаться от опубликования поэмы; позднее начал было вносить исправления, но бросил это. При его жизни была напечатана в 1834 г. лишь часть вступления под названием «Петербург. Отрывок из поэмы» в журнале «Библиотека для чтения».
«Медный всадник» был напечатан лишь после смерти Пушкина в «Современнике» 1837 г. (т. V, № 1) с рядом вынужденных, в соответствии с требованиями Николая I, поправок Жуковского (самой существенной было устранение центрального эпизода — «бунта» Евгения против «самодержавного великана», что резко исказило основной смысл «петербургской повести»). Подлинный текст поэмы впервые полностью опубликован только в советское время.
Наводнение, описываемое в поэме, произошло 7 ноября 1824 г.; оно отличалось особенной силой и причинило огромные разрушения.
Стр. 629. В. Н. Берх (1781–1834) — историк и географ, автор книги «Подробные известия о всех наводнениях, бывших в Санкт-Петербурге» (СПб., 1826).
Альгаротти где-то сказал: «Pétersbourg est la fenêtre par laquelle la Russie regarde en Europe» (примечание автора — верстальщик) [45][46]
Смотри стихи кн. Вяземского к графине 3*** (примечание автора — верстальщик).
Мицкевич прекрасными стихами описал день, предшествовавший петербургскому наводнению, в одном из лучших своих стихотворений — Oleszkiewicz. Жаль только, что описание его не точно. Снегу не было — Нева не была покрыта льдом. Наше описание вернее, хотя в нем и нет ярких красок польскою поэта (примечание автора — верстальщик).
Граф Милорадович и генерал-адъютант Бенкендорф (примечание автора — верстальщик).
Смотри описание памятника в Мицкевиче. Оно заимствовано из Рубана — как замечает сам Мицкевич (примечание автора — верстальщик).
Сказка о попе и о работнике его Балде (стр. 645). — Написана болдинской осенью 1830 г. Будучи в ссылке в Михайловском, Пушкин писал брату в середине ноября 1824 г.: «…вечером слушаю сказки — и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания. Что за прелесть эти сказки! каждая есть поэма!» Тогда же со слов Арины Родионовны Пушкин конспективно записал содержание некоторых сказок. Третья из этих записей легла в основу «Сказки о попе…».
Из всех сказок Пушкина эта наиболее народна и по своей форме: написана стихом раешника и так называемых народных «забавных листов». Это привело в восторг познакомившегося с ней и со «Сказкой о царе Салтане…» Гоголя: «У Пушкина… сказки русские народные — не то что «Руслан и Людмила», но совершенно русские. Одна писана даже без размера, только с рифмами и прелесть невообразимая».
При жизни Пушкина его сказка по цензурным условиям не смогла появиться в печати и была опубликована только после смерти поэта Жуковским, который вынужден был заменить «попа» «купцом Кузьмой Остолопом», «попадью» — «хозяйкой»; «поповну» — «дочкой» и «попенка» — «сынком». Имя работника — Балда не носит оттенка порицания, что вступало бы в противоречие со всем содержанием сказки, а употреблено в первоначальном народном значении. В нижегородской губернии, где находилось пушкинское Болдино, это: «лесная кривулина, толстое корневище, палица, дубина» (словарь Даля).
Сказка о царе Салтане… (стр. 649). — Художественная переработка в сказку-поэму народной сказки, краткая запись сюжета которой была сделана Пушкиным еще в Кишиневе в 1822 г. В 1824 г. он снова, гораздо подробнее, записал его со слов няни.
В 1828 г. Пушкин начал перелагать эту запись в стихи, но написал только первые четырнадцать стихов, почти совпадающие с окончательным текстом, затем стал набрасывать для себя продолжение ее прозой (прием, неоднократно в творческом процессе им применяемый).
Полностью сказка была написана только в 1831 г. (датирована 29 августа) в порядке своего рода творческого соревнования с В. А. Жуковским, который написал в это время сказки «О спящей царевне» и «О царе Берендее».
Сказка о рыбаке и рыбке (стр. 673). — Написана второй болдинской осенью 1833 г. (датирована 14 октября). В основе сказки — сюжет, широко распространенный в фольклоре разных народов. Непосредственным сюжетным источником ее послужила померанская сказка из знаменитого немецкого сборника сказок бр. Гримм «О рыбаке и его жене», но поэт полностью перенес ее на русскую народную почву. Поэтому он опустил написанный было еще один эпизод — о желании старухи стать «римскою папой».
Фольклористами сделан ряд записей пушкинской сказки из уст представителей народа. Написана тем же стихом, что и большинство «Песен западных славян».
Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях (стр. 678). — Написана, как и предыдущая, в Болдине (закончена 4 ноября). В основе ее — седьмая и последняя до нас дошедшая из записей народных сказок со слов Арины Родионовны.
Сказка о золотом петушке (стр. 691). — Написана третьей болдинской осенью 1834 г. (в рукописи дата окончания: Болдино, 20 сентября 1834 года, 10 часов 53 минуты). Сюжет подсказан «Легендой об арабском звездочете» из сборника «сказок Альгамбры» северо-американского писателя Вашингтона Ирвинга (1783–1859), но этот литературный сюжет также разработан в духе русского народного творчества. Возможно, предвидя цензурные затруднения, поэт сам заменил в тексте стихи «Помолясь Илье пророку» и «Но с царями плохо вздорить» на «Сам, не зная, быть ли проку» и «Но с иным накладно вздорить». Последняя замена особенно знаменательна. Как раз в том же 1834 г. поэт во внешне шутливых топах, но по существу весьма серьезно писал в одном из писем к жене об их маленьком сыне: «Посмотрим, как-то наш Сашка будет ладить с порфирородным своим тезкой; с моим тезкой я не ладил», — и многозначительно добавлял: «Не дай бог ему идти по моим следам, писать стихи, да ссориться с царями! В стихах он отца не перещеголяет, а плетью обуха не перешибет» (письмо 20–22 апреля 1834 г.). Через два месяца Пушкин подал прошение царю об отставке, но последний встретил это такими недвусмысленными угрозами, что глубоко возмущенный поэт вынужден был взять свою просьбу обратно. Поэт отметил в своем дневнике (февраль 1835 г.): «Цензура не пропустила следующие стихи в сказке моей о золотом петушке: «Царствуй, лежа на боку» и «сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок». Времена Красовского возвратились. Никитенко глупее Бирукова». С цензурными искажениями сказка и появилась в печати: «предосудительные» места были заменены многоточиями.

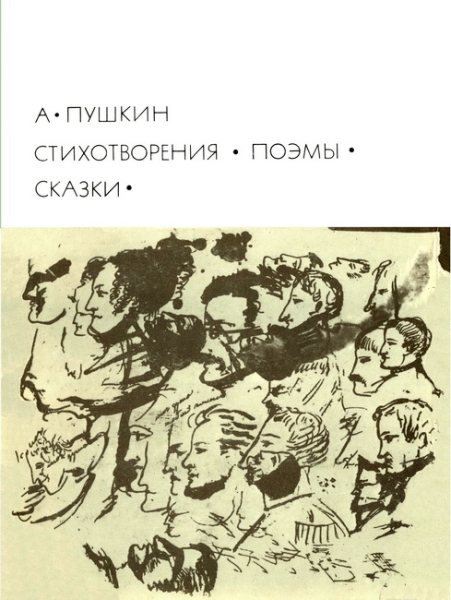
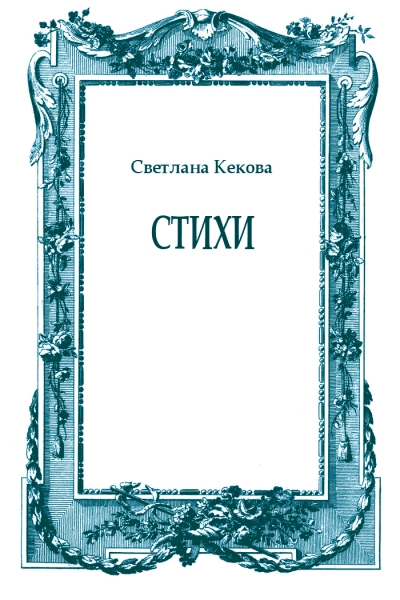
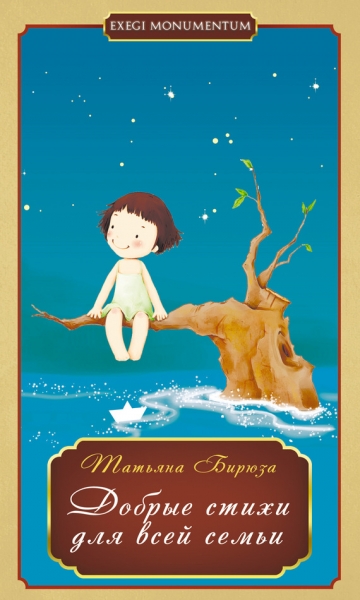

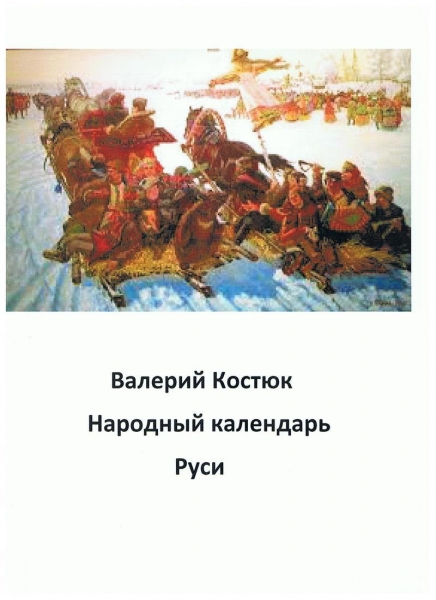
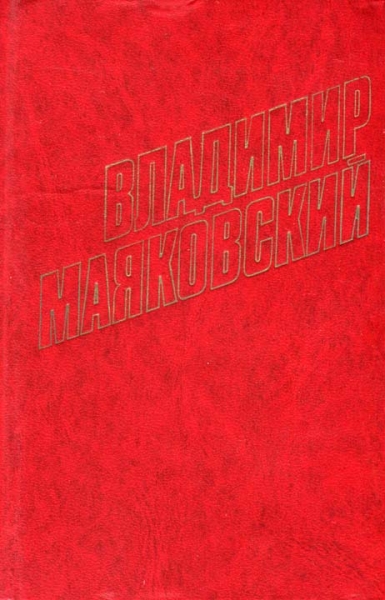
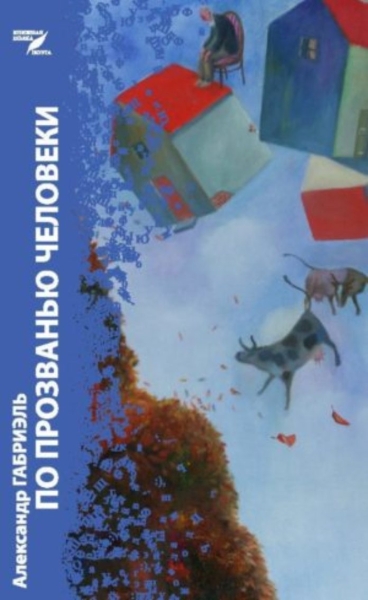
Комментарии к книге «Стихотворения. Поэмы. Сказки», Александр Сергеевич Пушкин
Всего 0 комментариев