Дэн Ариели ЧЕСТНО О НЕЧЕСТНОСТИ Почему мы лжем всем и особенно себе
© Dan Ariely, 2012
© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина Паблишер», 2020
© Электронное издание. ООО «Альпина Диджитал», 2020
This edition published by arrangement with Levine Greenberg Rostan Literary Agency and Synopsis Literary Agency
Моим учителям, соратникам и студентам — за то, что сделали исследовательский процесс веселым и увлекательным.
Спасибо всем, кто принимал участие в наших экспериментах в течение многих лет: вы — движущая сила этого исследования, и я глубоко признателен вам за помощь.
Введение Почему изучать нечестность так интересно?
Есть только один способ выяснить, честен ли человек. Спросите его об этом. Если он ответит «да», то он точно мошенник.
Впервые мой интерес к исследованию мошенничества проявился в 2002 году, всего через несколько месяцев после краха компании Enron. Я принимал участие в одной технологической конференции и как-то вечером в баре встретил Джона Перри Барлоу. Я знал Джона как автора текстов песен группы Grateful Dead, однако во время нашего разговора выяснил, что он был еще бизнес-консультантом и работал в этом качестве с несколькими компаниями, включая Enron.
На случай, если вы не обратили внимания на это событие в 2001 году, уточню: история падения бывшего любимого детища Уолл-стрит выглядит так. С помощью ряда креативных бухгалтерских трюков (и при молчаливом содействии консультантов, рейтинговых агентств, правления компании и ныне уже не существующей аудиторской компании Arthur Andersen) Enron поднялась до невероятных финансовых высот, но лишь для того, чтобы рухнуть, когда ее махинации стало невозможно скрывать. Акционеры потеряли вложенные средства, пенсионные накопления улетучились, тысячи сотрудников остались без работы, а компания разорилась.
Разговаривая с Джоном, я особенно интересовался тем, как он объясняет собственное добровольное заблуждение. Он сказал, что, хотя и занимался консультированием Enron в то самое время, когда компания уже начала выходить из-под контроля, не замечал ничего предосудительного. Фактически он был уверен в том, что Enron являлась прогрессивным лидером новой экономики, вплоть до момента, когда вся эта история оказалась на первых полосах газет. Еще удивительнее: по его словам, когда информация о проблемах в компании вышла наружу, он не мог поверить, что был настолько слеп и не замечал самых очевидных сигналов. Я начал размышлять. До разговора с Джоном я предполагал, что проблемы Enron возникли из-за троих бесчестных руководителей — Джеффри Скиллинга, Кеннета Лэя и Эндрю Фастоу, которые совместно спланировали и осуществили широкомасштабную махинацию с бухгалтерской отчетностью. Однако передо мной сидел человек, который мне нравился и которого я уважал. И его собственная история взаимоотношений с Enron объяснялась искренними заблуждениями, а не преднамеренной нечестностью.
Разумеется, существовала вероятность того, что Джон и все остальные, вовлеченные в дело Enron, были весьма коррумпированы, но я предположил, что в данном случае мы имеем дело с другим видом нечестности — он возникает в результате заблуждений, в которых пребывают люди типа Джона, меня и вас. Я задался вопросом: не является ли нечестность чем-то более глубоким, чем действия нескольких «паршивых овец», и не присуща ли подобная слепота деятельности других компаний?[1] Мне стало интересно, повел бы себя таким же образом я сам или мои друзья, если бы нам довелось консультировать Enron.
Я был очарован темой мошенничества и нечестности. Откуда они берутся? На что способен человек, когда речь заходит о честности и нечестности? И (возможно, самое важное) склонны ли к нечестности лишь немногие подлецы или же проблема носит более широкий характер? Я понял, что ответ на последний вопрос может изменить наше отношение к нечестности: если основную часть мошеннических действий в мире совершают немногочисленные «паршивые овцы», мы можем достаточно легко справиться с этой проблемой. В отделе кадров любой компании мошенников можно вычислять во время собеседования или выработать процедуры, позволяющие со временем избавиться от людей, склонных к нечестному поведению. Однако, если проблема не сводится к существованию нескольких отщепенцев, это означает, что нечестные поступки дома и на работе может совершить каждый, в том числе вы и я. И если потенциально каждый из нас может стать преступником, важно понять, как проявляется нечестность, и найти пути сдерживания этого аспекта человеческой натуры, не позволяющие ему выйти из-под контроля.
Что мы знаем о причинах нечестности? Если говорить о рациональной экономике, наибольшее распространение получила точка зрения, высказанная экономистом из Чикагского университета лауреатом Нобелевской премии Гэри Беккером, который предположил: люди совершают преступления, основываясь на рациональном анализе каждой ситуации. Как указывает Тим Харфорд в книге «Логика жизни»[2], рождение этой теории было связано с довольно обыденной проблемой. Как-то раз Беккер опаздывал на встречу и, поскольку все парковки были переполнены, решил оставить машину в неположенном месте, рискуя получить штраф. Беккер проанализировал свои мысли в этой ситуации и отметил, что его решение возникло в результате сопоставления затрат — штрафа и стоимости возможной эвакуации автомобиля на штрафстоянку — и преимуществ, связанных со своевременным приходом на встречу. Он также отметил, что, сопоставляя затраты и преимущества, он совершенно не думал о том, насколько его решение правильно или неправильно. Речь шла исключительно о сравнении возможных позитивных и негативных исходов.
Так родилась простая модель рациональных преступлений (ПМРП). Согласно ей, мы все думаем и ведем себя примерно так же, как повел себя Беккер. Как любой среднестатистический воришка, мы ежедневно пытаемся найти для себя преимущества в той или иной ситуации. Для рационального расчета плюсов и минусов совершенно не важно, чем именно мы занимаемся: грабим банки или пишем книги. По логике Беккера, если у нас мало денег, то, проезжая мимо магазина, мы быстро прикидываем, сколько денег в кассе, оцениваем, какова вероятность того, что нас поймают, и представляем, какое нас может ждать наказание за преступление (самые умные успевают еще просчитать, как быстро они смогут выйти из тюрьмы — досрочно, за примерное поведение). Основываясь на этом расчете рисков и результатов (выгоды), мы принимаем решение о том, сто́ит грабить магазин или нет. По сути, теория Беккера говорит о том, что решения относительно честности, как и большинство других решений, основаны на анализе рисков и результатов.
ПМРП — крайне прямолинейная модель нечестности, однако не вполне понятно, насколько точно она описывает поведение людей в реальном мире. Если ПМРП в полной мере отражает истинное положение дел, то у общества есть два очевидных способа борьбы с нечестностью. Первый заключается в повышении вероятности быть пойманным (например, за счет увеличения числа сотрудников полиции или установки дополнительных камер наблюдения). Второй состоит в ужесточении наказания для тех, кого поймали (например, в увеличении сроков заключения или размеров штрафа). Вот что представляет собой ПМРП, описывающая сущность правоохранительной деятельности, наказаний за преступления или нечестности в целом.
Но что, если ПМРП описывает нечестность недостаточно точно или полно? В этом случае стандартные подходы к борьбе с нечестностью будут неэффективными и недостаточными. Если ПМРП — неидеальная модель для описания причин нечестности, то нам нужно сначала определить, что же заставляет людей мошенничать, а затем применить свое знание, чтобы противостоять нечестности. Моя книга — именно об этом[3].
Жизнь в ПМРП-мире
Перед тем как заняться изучением сил, влияющих на нашу честность и нечестность, давайте проделаем простой мысленный эксперимент. Как выглядела бы наша жизнь, если бы мы четко придерживались логики ПМРП и оценивали свои действия только с точки зрения возможных плюсов и минусов?
Если бы мы жили в мире, действующем по правилам ПМРП, то занимались бы сравнением рисков и результатов для каждого своего решения и делали то, что сочли наиболее рациональным. Мы бы не принимали решения, основываясь на эмоциях или доверии, поэтому, скорее всего, прятали бы свои кошельки в сейф, выходя из офиса даже на пару минут. Мы бы держали деньги под матрасом. Мы бы не стали просить соседей проверять наш почтовый ящик во время нашего отсутствия, опасаясь, что они украдут наши вещи. Мы не спускали бы глаз с коллег. Рукопожатие как символ заключения сделки потеряло бы всякий смысл. Практически для любого действия требовалось бы заключение контракта, а это означает, что значительную часть жизни мы проводили бы в судебных баталиях. Мы наверняка приняли бы решение не заводить детей, потому что они (когда вырастут) тоже захотят украсть все, что у нас есть, а жизнь в одном доме с нами предоставит им такую возможность, и не одну.
Разумеется, мы не святые. Мы далеки от совершенства. Однако если вы согласитесь с тем, что ПМРП-мир рисует не вполне точную картину наших мыслей и действий, а также не совсем корректно описывает повседневную жизнь, то этот эксперимент предполагает: мы не мошенничаем и не крадем так часто, как могли бы, будь мы совершенно рациональны и действуя исключительно в собственных интересах.
Любители искусства, все сюда!
В апреле 2011 года в шоу Айры Гласса под названием «Эта американская жизнь» прозвучала история Дэна Вайсса, молодого студента колледжа, работавшего в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне. Его работа состояла в том, чтобы контролировать складские запасы сувенирных магазинов центра, продавцами в которых были 300 благонамеренных добровольцев — в основном пенсионеры, любившие театр и музыку.
Торговля в магазинах была организована по принципу мобильных ларьков с прохладительными напитками и мороженым. В них не было кассовых аппаратов, а деньги складывались в обычные коробки. Бизнес шел отлично, его оборот составлял свыше 400 000 долларов в год. Однако имелась и одна большая проблема: из этой суммы ежегодно пропадало около 150 000 долларов.
Заняв пост менеджера, Дэн решил поймать вора. Он начал подозревать одного молодого сотрудника, который относил деньги в банк. Дэн связался с детективным агентством, сотрудник которого помог ему разработать настоящую спецоперацию. Февральским вечером они устроили засаду. Дэн пометил купюры в коробке и вышел из офиса. Вместе с детективом они устроились в кустах неподалеку и принялись поджидать подозреваемого. Когда молодой человек появился в дверях здания, они остановили его и нашли в его карманах несколько меченых купюр. Дело закрыто, не так ли?
Оказалось, что нет. В тот вечер молодой человек украл всего 60 долларов, однако даже после того, как его уволили, деньги и товары продолжали пропадать. Следующий шаг Дэна состоял в том, чтобы создать систему учета заказов с указанием цен и записями о каждой продаже. Он сказал продавцам записывать каждую продажу и полученную сумму, и (вы наверняка уже догадались) недостачи прекратились. Проблема заключалась не в одном воришке, а в действиях огромного количества добропорядочных любителей искусства, которые просто не могли устоять перед искушением, видя лежащие вокруг товары и деньги.
Мораль этой истории сложно назвать вдохновляющей. Говоря словами самого Дэна, «при удобном случае мы готовы взять вещи, принадлежащие другим… Поэтому людей нужно как-то контролировать, чтобы они вели себя правильно».
Главная цель этой книги — изучение связанных с рисками и выгодами рациональных сил, которые вроде бы должны руководить нашим нечестным поведением, но на самом деле (как вы увидите далее) часто этого не делают. Мы поговорим и об иррациональных силах, которые представляются нам неважными, но на самом деле играют значительную роль. В большинстве случаев, когда пропадает большая сумма, считается, что виноват один-единственный хладнокровный преступник. Однако, как показала история любителей искусства, мошенничество не всегда есть результат действий одного человека, который проанализировал все «за» и «против» и все-таки совершил кражу. Напротив, часто это следствие поведения многих людей, каждый из которых, воруя снова и снова, оправдывает себя тем, что берет небольшую сумму или незначительную вещь. В книге мы исследуем факторы, заставляющие нас мошенничать, и внимательно изучим то, что делает нас честными. Мы обсудим, что именно заставляет нечестность поднимать свою уродливую голову и как получается, что мы мошенничаем в своих интересах, продолжая думать о себе хорошо и тем самым провоцируя все новые нечестные действия.
Изучив основные тенденции, лежащие в основе нечестности, мы обратимся к нескольким экспериментам, которые помогут нам разобраться с психологическими и другими факторами, повышающими степень честности в нашей повседневной жизни, в том числе с конфликтами интересов, подделками, креативностью и простой усталостью. Мы исследуем и социальные аспекты нечестности, поговорим о том, как другие люди влияют на наше определение правильного и неправильного, и о нашей предрасположенности к мошенничеству в ситуациях, когда от нашей нечестности могут выиграть окружающие. Мы попытаемся понять, как работает нечестность, насколько она зависит от структуры нашей повседневной среды и при каких условиях мы, скорее всего, будем вести себя нечестно (в большей или меньшей степени).
Одно из основных преимуществ поведенческой экономики (помимо исследования сил, определяющих степень нечестности) состоит в том, что она показывает различные факторы — как внутренние, так и определяемые внешней средой, — влияющие на наше поведение. Стоит нам понять, что именно руководит нами, и мы сразу перестаем чувствовать себя беззащитными перед лицом своих человеческих слабостей (в том числе и нечестности), осознаем способность изменить свое окружение и вести себя более правильно, добиваясь лучших результатов.
Я надеюсь, что исследование, о котором я буду рассказывать в следующих главах, поможет всем нам понять, чем вызвано нечестное поведение, и указать целый ряд интересных способов справиться с ним и ограничить его.
Итак, в путь…
Глава 1. Тестирование простой модели рационального преступления (ПМРП)
Позвольте мне быть откровенным: все лгут. Окружающие вас люди. Вы сами. И я тоже лгу время от времени.
Будучи преподавателем колледжа, я стараюсь поддерживать интерес к моему предмету у студентов, действуя нестандартно. Время от времени я приглашаю в аудиторию необычных гостей (что также помогает мне сэкономить немного времени на подготовку к занятиям). Такие встречи идут на пользу всем: и приглашенным, и студентам, и, разумеется, мне.
Однажды я пригласил такого необычного гостя на занятие по поведенческой экономике. Этот умный и состоявшийся человек обладал интересной особенностью: до того, как стать легендарным бизнес-консультантом ряда известных банков и компаний, он получил степень доктора юридических наук, а еще раньше — степень бакалавра в Принстоне. «Последние несколько лет, — сказал я классу, — наш уважаемый гость помогал представителям элиты бизнеса превращать мечты в реальность!»
После такого вступления мой гость поднялся на сцену и сразу же приступил к делу.
— Сегодня я помогу исполнить ваши мечты. Мечты о ДЕНЬГАХ! — с интонациями триумфатора воскликнул он. — Вы хотите много ДЕНЕГ?
Собравшиеся закивали со смехом, оценив его прямой и откровенный подход.
— Здесь есть кто-нибудь, считающий себя богатым? — продолжил гость. — Я знаю, что я богат, но вы, студенты… Нет! Вы все бедны! Но это изменится благодаря великой силе МОШЕННИЧЕСТВА! Вперед!
Затем он перечислил имена некоторых известных аферистов, начав с Чингисхана и закончив «героями» наших дней, в том числе несколькими десятками руководителей крупных компаний (Бернардом Мейдоффом, Мартой Стюарт и другими).
— Вы все хотите быть такими, как они, — взывал он. — Вы хотите иметь власть и деньги! И все это вы можете получить благодаря обману. Слушайте внимательно и я открою вам секрет!
После столь вдохновляющего вступления пришло время группового упражнения. Он попросил студентов закрыть глаза и несколько раз глубоко вдохнуть.
— Представьте себе, что вы кого-то обманули и заработали свои первые 10 миллионов долларов, — сказал он. — Что вы сделаете с этой суммой? Вы! В бирюзовой рубашке!
— Я куплю дом, — застенчиво ответил студент.
— ДОМ? Мы, богатые люди, называем это ОСОБНЯК. Ну а вы? — спросил он, указывая на другого студента.
— Устрою себе каникулы.
— На принадлежащем вам острове? Отлично! Когда вы зарабатываете столько же денег, сколько великие мошенники, это меняет всю вашу жизнь. Здесь есть любители вкусно поесть?
Несколько студентов подняли руки.
— Как насчет ужина, приготовленного лично великим поваром Жаком Пепином? Дегустации вин из Шатонеф-дю-Пап? Когда у вас много денег, вы всегда можете жить на широкую ногу. Спросите хотя бы Дональда Трампа! Слушайте, мы же все знаем, что за 10 миллионов долларов вы переедете машиной лучшего друга или любимую. Я здесь, чтобы сказать вам, что это нормально. Я помогу вам отпустить тормоза!
К тому времени многие студенты уже начали понимать, что наш гость — не тот, за кого он себя выдает. Однако, проведя последние 10 минут в мыслях о прекрасных вещах, которые можно было бы купить на свои первые 10 миллионов долларов, они разрывались между желанием быть богатыми и признанием того факта, что мошенничество аморально.
— Я чувствую вашу нерешительность, — сказал лектор. — Вы не должны позволять эмоциям руководить вашими действиями. Вы должны противостоять своим страхам, анализируя все «за» и «против». Какие преимущества у богатства, полученного с помощью мошенничества?
— Вы становитесь богатыми! — ответили студенты.
— Правильно. А в чем состоят недостатки?
— Вас поймают!
— Ну, — сказал лектор. — Существует ВЕРОЯТНОСТЬ, что вас поймают. Однако вот он, мой секрет! Пойманный мошенник и наказанный мошенник — не одно и то же. Взгляните на Берни Эбберса, бывшего генерального директора фирмы WorldCom: его адвокат смог всех убедить в том, что Эбберс просто не понимал, что происходит в компании. Или на Джеффа Скиллинга, бывшего генерального директора Enron, отправившего сотрудникам по электронной почте сообщение со словами «Уничтожьте документы, эти ребята скоро за нами придут». Позднее Скиллинг утверждал, что его слова были «сарказмом»! В конце концов, если такая линия защиты не сработает, вы всегда можете улизнуть в страну, которая не выдает беглых преступников!
Медленно, но верно мой гость — который на самом деле был комиком Джеффом Крейслером, автором сатирической книги «Как разбогатеть на мошенничестве» (Get Rich Cheating) — убеждал собравшихся в том, что финансовые решения следует принимать, руководствуясь экономической выгодой и не обращая никакого внимания на соображения морали. Слушая лекцию Джеффа, студенты понимали, что с сугубо рациональной точки зрения он абсолютно прав. В то же время они не могли не испытывать дискомфорта из-за того, что он признавал мошенничество лучшим путем к успеху.
В конце занятия я попросил студентов подумать о том, в какой степени их собственное поведение соответствовало ПМРП. «Как часто в течение дня у вас появляется возможность смошенничать без негативных последствий? — спросил я. — Как часто вы используете эти возможности? Сколько обмана мы наблюдали бы вокруг себя, если бы каждый взял на вооружение подход Джеффа, основанный на чисто экономической выгоде?»
Подготовка тестирования
Подход и Беккера, и Джеффа к характеристике нечестности базируется на трех элементах:
1) результат, который получает субъект, совершив преступление;
2) вероятность быть пойманным;
3) ожидаемое наказание в случае поимки.
Сравнивая первый элемент (результат) с двумя другими (рисками), рациональный человек определяет, стоит ли ему совершать то или иное преступление.
Можно предположить, что ПМРП достаточно точно описывает, каким образом люди принимают решения, связанные с честностью и мошенничеством. Однако тот факт, что эта модель вызвала множество вопросов и сомнений и у моих студентов, и у меня самого, свидетельствует о необходимости копнуть поглубже, чтобы понять суть происходящего. Следующие несколько страниц будут посвящены тому, каким образом мы оцениваем степень или уровень мошенничества, так что будьте внимательны.
Я и мои коллеги Нина Мазар (преподаватель в Торонтском университете) и Он Амир (преподаватель Калифорнийского университета в Сан-Диего) решили глубже изучить процесс мошенничества. Мы развесили объявления по всей территории Массачусетского технологического института (MIT), где я в то время преподавал, в которых предлагали студентам заработать: до 10 долларов примерно за 10 минут[4]. В назначенное время желающие вошли в комнату и сели в кресла, к которым были прикреплены небольшие столики (обычная обстановка во время экзаменов). Затем каждый участник получил лист бумаги с 20 матрицами (похожими на матрицу, изображенную на рис. 1). В каждой из этих матриц нужно было найти пару чисел, составляющих в сумме 10 (такую задачу мы называем матричной и часто будем возвращаться к ней в этой книге). Участникам сообщили, что у них есть пять минут на то, чтобы найти решение для максимального количества матриц, и что за каждый правильный ответ они смогут получить по 50 центов (в разных экспериментах сумма варьировалась).
По команде «Начали!» участники переворачивали лист бумаги и начинали решать эти довольно простые математические задания с максимально возможной скоростью.
На рисунке ниже показано, как выглядел лист бумаги, который получали участники; одна из матриц дана в увеличенном виде. Насколько быстро вы сможете найти пару чисел, составляющих в сумме 10?
Именно так начинался эксперимент для всех участников, однако дальнейшие их действия различались в зависимости от того или иного условия.
Представьте, что вы — один из участников и находитесь, как и все остальные, под наблюдением. Вы стремитесь выполнить задание как можно быстрее. В течение первой минуты вы справились с одной матрицей. Прошло еще две минуты, и вы разобрались с тремя. Наконец время вышло, а вы решили всего четыре задачки из 20, заработав два доллара. Вы подходите к столу, за которым сидит наблюдатель, и вручаете ему свой листок. Проверив ответы, тот довольно улыбается. «Четыре правильных решения», — говорит он и вручает вам деньги. Результаты, полученные от группы, находившейся под наблюдением во время тестирования, позволили нам вывести средний показатель выполняемости задания.
Теперь представьте, что вы находитесь в иных условиях (мы назвали их экспериментом «с уничтожением») и у вас есть возможность смошенничать. Это похоже на условия с контролем выполнения заданий — с единственным исключением. По истечении пяти минут наблюдатель говорит: «После того, как закончите, посчитайте количество правильных ответов, затем уничтожьте свой листок с помощью измельчителя для бумаг, стоящего в дальнем углу комнаты, а потом подойдите ко мне и скажите, для какого количества матриц нашли правильное решение». Выполнив эти действия, вы можете получить деньги и уйти восвояси.
Что бы вы сделали в таких условиях? Захотели обмануть наблюдателя? И если да, то на какую сумму?
Закончив тестирование, мы смогли сравнить результаты, полученные в условиях контролируемого эксперимента, где смошенничать было невозможно, с результатами эксперимента «с уничтожением», вполне допускавшим нечестное поведение. Если бы результаты оказались одинаковыми, мы могли сделать вывод, что мошенничества не было. Однако, если мы видели, что более высокие результаты показывали участники эксперимента «с уничтожением», вывод мог быть таким: участники завысили свои результаты, то есть смошенничали, когда у них была возможность уничтожить улики. Степень мошенничества представляла собой разницу между количеством матриц, которые, по словам участников, были решены правильно, и количеством задач, на которые действительно были даны правильные ответы в рамках контролируемого эксперимента.
Возможно, не было ничего удивительного в том, что участники пытались сфальсифицировать свои результаты, оказавшись в подходящих для этого условиях. В рамках контролируемого эксперимента участники решили в среднем по четыре из 20 матричных задач. Участники эксперимента «с уничтожением» заявили, что решили в среднем по шесть задач, то есть на две больше, чем в контролируемых условиях. И это увеличение было связано не с действиями отдельных участников, заявивших о нереально высоких результатах, а с действиями большого количества участников, каждый из которых обманул экспериментатора совсем чуть-чуть.
Чем больше денег, тем больше мошенничества?
Вооружившись показателем среднего уровня мошенничества, мы с Ниной и Оном приступили к изучению того, какие силы мотивируют людей мошенничать больше или меньше. ПМРП утверждает, что люди в большей степени склонны к обману, когда у них появляется шанс получить больше денег без риска быть пойманными или наказанными.
Мы склонны были согласиться с этим утверждением, показавшимся нам простым и довольно убедительным, поэтому решили его проверить. Мы создали другую версию матричного теста, каждый раз меняя сумму, которую мог получить участник за каждое правильное решение. Некоторым было обещано по 25 центов; другим — по 50 центов, по одному доллару, по два или пять. Максимальная сумма, которую мы предлагали за правильный ответ, составляла 10 долларов. Что, по-вашему, случилось дальше? Изменился ли уровень нечестности участников в зависимости от предлагавшегося вознаграждения?
Перед тем как я раскрою эту тайну, расскажу о другом похожем эксперименте. На этот раз, вместо того чтобы проводить матричный тест, мы спросили другую группу участников, о каком, по их мнению, количестве правильных ответов заявляли участники эксперимента «с уничтожением» при различных уровнях оплаты. Они предположили: чем выше будет вознаграждение, тем большее количество правильно решенных задач припишут себе испытуемые. По сути, их интуитивная теория основывалась на той же логике, что и ПМРП. Однако они ошиблись. Когда мы проверили ответы, оказалось, что участники теста приписали себе в среднем по два правильных решения, вне зависимости от денежной выплаты, которую они могли получить за каждое из них. В действительности уровень мошенничества оказался даже немного ниже, когда мы пообещали участникам максимальную сумму (по 10 долларов) за каждый правильный ответ.
Почему же участники не мошенничали больше, когда предлагавшаяся им сумма возрастала? Почему уровень мошенничества оказался немного ниже при самом высоком уровне оплаты? Подобная нечувствительность к размеру вознаграждения дает основания предполагать, что нечестность — не единственно возможный результат анализа затрат и преимуществ. Если бы это было так, увеличение ожидаемой выгоды (предложенной суммы) вело бы к росту мошенничества. Почему уровень мошенничества был самым низким при самой высокой оплате? Подозреваю следующее: когда сумма, которую можно было заработать на правильном ответе, составляла 10 долларов, участникам было сложнее мошенничать и при этом сохранять чувство собственного достоинство, ощущение порядочности (далее мы еще поговорим об этом). Обманом заполучить 10 долларов — не то же самое, что забрать из офиса домой карандаш. Скорее, это можно сравнить с ситуацией, когда вы тащите из офиса несколько коробок с ручками, степлер и пару пачек бумаги — сложно закрыть глаза на такой поступок или найти ему рациональное объяснение.
Поймать вора
Целью следующего эксперимента было выяснить, что произойдет, если участники будут действовать под страхом быть пойманными на обмане. В сущности, мы ввели в эксперимент своего рода камеру слежения, только не настоящую, а воображаемую.
Мы попросили одну группу участников уничтожить половину своего листа с ответами; если бы они были нечестны с нами, мы смогли бы это обнаружить. Вторую группу мы попросили уничтожить весь лист с ответами, что означало полную безнаказанность обманщиков. Наконец, третью группу мы попросили уничтожить лист с ответами, выйти из комнаты, где проводилось тестирование, а затем самостоятельно взять свое вознаграждение из коробки, в которой лежали мелкие купюры и монеты на сумму свыше 100 долларов. Выполняя эти условия, участники могли не только обмануть нас и остаться безнаказанными, но и взять намного больше денег, чем им причиталось.
И вновь мы попросили еще одну, независимую, группу предсказать, о каком количестве решенных задач заявят все участники. И снова наши «эксперты» предположили, что склонность к нечестным поступкам проявится в соответствии с ПМРП: участники скажут, что нашли больше правильных решений, чем на самом деле, ведь вероятность попасться для них снизилась.
Что же мы выяснили? Как и прежде, многие решили схитрить, но совсем чуть-чуть, и уровень мошенничества оказался одинаковым для всех трех групп (уничтожение половины листа, уничтожение всего листа и уничтожение всего листа с самостоятельной выплатой вознаграждения).
Возможно, вы задаетесь вопросом, действительно ли участники верили, что в условиях эксперимента смогут смошенничать и не попасться. Да, так и было. Для того, чтобы убедиться в нашей правоте, мы с Рашелью Баркан (преподавателем Университета имени Давида Бен-Гуриона в Негеве) и Эйнав Махарабани (учащейся магистратуры, работавшей с Рашелью) провели еще одно исследование. В роли экспериментаторов выступили сама Эйнав и еще одна наша ассистентка, Тали. Эйнав и Тали во многом похожи, но Эйнав незрячая (что становится понятно сразу), и это означает, что ее проще обмануть. Когда для участников теста наступало время получить вознаграждение, из тех денег, что лежали в коробке, они могли взять столько, сколько хотели, и Эйнав не видела, сколько именно они берут.
Обманывали участники Эйнав чаще, чем Тали? Они по-прежнему брали чуть больше денег, чем заслуживали, но не больше, чем когда экспериментом руководила Тали.
Судя по результатам теста, вероятность попасться не оказывает значительного влияния на уровень мошенничества. Разумеется, я не хочу сказать, что на действия людей вообще не влияет опасение быть пойманным: в конце концов, никто не собирается угонять машину, если рядом с ней стоит полицейский. Но влияние этого фактора сильно преувеличено (и уж точно не играло никакой роли в наших экспериментах).
Вы можете подумать, что участники теста следовали примерно такой логике: «Если я припишу себе лишь несколько правильных ответов, никто не станет меня подозревать. Но если я смошенничаю по-крупному, это может вызвать подозрение и мне начнут задавать вопросы».
Это предположение мы тоже проверили в еще одном эксперименте. На сей раз мы сказали половине участников эксперимента, что в среднем количество правильных решений достигает четырех (что было истинной правдой). Другой половине мы сообщили, что испытуемые правильно решают в среднем восемь задач. Для чего мы это сделали? Если бы уровень мошенничества был связан с нежеланием выделяться, наши участники приписывали бы себе чуть больше правильных ответов, чем среднее (по их мнению) количество. Иными словами, если бы они думали, что в среднем верных ответов — четыре, то заявляли бы о шести, а если бы думали, что среднее значение равно восьми, то заявляли бы о 10.
Как же повели себя участники эксперимента? Оказалось, что информация о результатах других участников почти не повлияла на их действия. Они не приписывали себе больше двух лишних ответов (решив четыре матрицы, они заявляли о том, что решили шесть), даже когда думали, что другие находили по четыре или восемь правильных решений.
Этот результат дает основания предполагать, что обман не связан с опасением слишком сильно выделиться. Скорее, он показывает наличие взаимосвязи между ощущением моральности наших действий и той глубиной обмана, которую мы считаем комфортной. По сути, мы мошенничаем лишь до тех пор, пока продолжаем считать себя сравнительно честными людьми.
В реальных условиях
Вооружившись доказательствами того, что ПМРП не работает, мы с Рашелью решили выбраться из лаборатории и посмотреть, что происходит в условиях реальной жизни. Мы решили воссоздать ситуации, в которых может оказаться кто угодно и когда угодно. Кроме того, мы хотели изучить поведение обычных людей, а не только студентов (хотя, как показала практика, студентам не нравится слышать, что они и «обычные люди» — не одно и то же). У наших лабораторных исследований был и еще один недостаток: их участники не могли проявить себя с хорошей стороны. Лучшее, что они могли сделать, — воздержаться от мошенничества. Однако во многих ситуациях в реальной жизни люди могут не только демонстрировать нейтральное поведение, но и вести себя благородно, щедро. С учетом этого дополнительного условия мы отправились на поиски ситуаций, в которых могли бы протестировать как светлые, так и темные стороны человеческой натуры.
Представьте себе огромный фермерский рынок, тянущийся по всей длине улицы города Беэр-Шева в Южном Израиле. Торговцы, невзирая на жару, разложили свои товары. Вы чувствуете запах трав и специй, свежеиспеченного хлеба и спелой клубники; взгляд блуждает по огромным подносам с оливками и сырами. Отовсюду слышны крики торговцев: «Только сегодня!», «Недорого!».
Придя на рынок, Эйнав и Тали разошлись в разных направлениях, причем у Эйнав была белая трость, позволявшая ей ориентироваться. Девушки просили торговцев овощами взвесить и упаковать два килограмма помидоров, сообщив, что сами пока сходят за другими покупками. После этого наши экспериментаторы исчезали, а через 10 минут возвращались, чтобы забрать помидоры, расплачивались и уходили. Свою покупку они относили другому торговцу, который соглашался оценить качество приобретенного товара. Сравнивая качество помидоров, купленных Эйнав и Тали, мы выясняли, кто из них совершил удачную покупку, а кого обманули.
Стала ли Эйнав жертвой такого обмана? Очевидно, что с рациональной точки зрения торговцам следовало выбирать для нее самые непривлекательные помидоры — она в любом случае не могла получить от них эстетическое удовольствие. Иной экономист (например, из Чикагского университета) мог бы даже сказать, что торговцы — в стремлении максимально поднять уровень социального благосостояния всех участников процесса (самого продавца, Эйнав и других клиентов) — должны были продать ей самые некрасивые помидоры, оставив хорошие для тех, кто способен оценить внешний вид товара. На деле оказалось, что помидоры, выбранные продавцами для Эйнав, были даже красивее, чем те, что купила Тали. Торговцы выбрали вариант, который оказался в некоторой степени убыточным для их бизнеса, но предпочли продать слепой покупательнице более качественный продукт.
Получив столь оптимистичные результаты, мы обратились к представителям другой профессии, часто вызывающей недоверие потребителей: водителям такси. Многие из них часто пользуются таким приемом: пассажиров, не знающих дороги, долго возят окольными путями, что приводит к значительному повышению платы за проезд. Например, исследование, проведенное в Лас-Вегасе, показало, что некоторые местные таксисты возят пассажиров из международного аэропорта Маккарена до бульвара Стрип через туннель, ведущий к федеральному шоссе 215. В итоге плата за трехкилометровую поездку может доходить до 92 долларов.
Учитывая такую репутацию таксистов, мы решили выяснить, свойственно ли им мошенничать всегда или только в тех случаях, когда пассажир не способен поймать их на обмане. В рамках следующего эксперимента мы попросили Эйнав и Тали 20 раз проехать на такси между железнодорожным вокзалом и Университетом имени Давида Бен-Гуриона в Негеве. Обычно происходит следующее: если вы просите водителя включить счетчик, то плата за проезд составляет около 25 шекелей (примерно семь долларов). Однако, если счетчик не включен, пассажир платит фиксированную сумму в размере 20 шекелей (чуть меньше шести долларов). В рамках нашего эксперимента Эйнав и Тали всегда просили таксиста включить счетчик. Иногда водители сообщали «неопытным» пассажирам, что при выключенном счетчике дорога обойдется дешевле, однако девушки настаивали на своем. В конце поездки Эйнав и Тали спрашивали таксиста, сколько они ему должны, платили, выходили из такси и выжидали несколько минут, после чего садились в другое такси и ехали в обратном направлении.
Сравнив расходы, мы обнаружили, что Эйнав платила меньше, чем Тали, хотя они обе настаивали на том, чтобы заплатить по счетчику. Как такое могло случиться? Возможно, таксисты возили Эйнав самым коротким путем, а Тали — более длинным. Если так, значит, таксисты не обманывали Эйнав, но в какой-то степени мошенничали по отношению к Тали. Однако у Эйнав сложилось иное мнение. «Я слышала, как водители включали счетчик, когда я просила их об этом, — рассказала она, — но много раз слышала и то, как они его выключали еще до того, как приехать в конечную точку маршрута». «Со мной такого не случилось ни разу, — сказала Тали. — Они никогда не выключали счетчик, и мне всегда приходилось платить около 25 шекелей».
Здесь есть два важных момента. Во-первых, очевидно, что водители не анализировали свои риски с целью оптимизации доходов. Будь это так, они стали бы обманывать Эйнав, например говоря, что счетчик показал сумму большую, чем на самом деле, или возя ее по городу более длинным путем. Во-вторых, водители не просто не обманывали Эйнав: они действовали в ее интересах и жертвовали частью своего дохода в ее пользу.
Откуда берется обман
Очевидно, все не так просто, как нас пытаются убедить Гэри Беккер и традиционная экономика. Для начала, поняв, что уровень нечестности не зависит в сколь-нибудь значительной степени (а в нашем эксперименте — не зависит вообще) от суммы, получаемой за нечестное поведение, мы можем предположить: нечестность — нечто большее, чем простое сравнение рисков и результатов определенного поведения. Более того, исследования показывают: уровень нечестности не меняется в зависимости от вероятности быть пойманным, поэтому поверить в то, что причина нечестности кроется в анализе рисков и выгод, становится еще сложнее. Наконец, тот факт, что многие люди мошенничают «по чуть-чуть» и только имея такую возможность, дает основания предположить: силы, рождающие обман, куда более многогранны (и интересны для анализа), чем утверждает ПМРП.
Что же происходит на самом деле? Хочу предложить теорию, рассмотрению которой и посвящена эта книга. Ее основной тезис гласит: наше поведение определяется двумя противоположными мотивациями. С одной стороны, мы хотим воспринимать себя как честных и уважаемых людей. Мы хотим, глядя в зеркало, нравиться самим себе (психологи называют это «мотивация эго»). С другой стороны, мы хотим «заработать» на мошенничестве, и как можно больше (это обычная финансовая мотивация). Очевидно, что здесь есть конфликт. Как можно получить максимальную выгоду от мошенничества, в то же время продолжая думать о себе как о хорошем честном человеке?
Вот здесь и вступает в игру свойственная нам потрясающая гибкость мышления. Благодаря ей мы, совершая мелкие мошеннические действия, способны одновременно и пожинать их плоды, и продолжать считать себя безупречными. Сохранение этого хрупкого равновесия есть процесс рационализации и является основой того, что я называю «теория поправочного коэффициента», или «поправка на хитрость».
Чтобы лучше понять суть этой теории, вспомните, как вы в последний раз заполняли налоговую декларацию. Вам пришлось принимать непростые, неоднозначные решения? Законно ли списать часть расходов по обслуживанию личного автомобиля на представительские расходы компании? Какую именно часть, чтобы не чувствовать себя мошенником? А если у вас две машины? Я сейчас говорю не о том, как вы будете объяснять свои действия сотруднику Федеральной налоговой службы. Речь о том, что мы всегда готовы найти оправдание своим неправедным действиям.
Предположим, что вы идете в ресторан с друзьями и они просят вас объяснить суть проекта, над которым вы много работаете в последнее время. Являются ли расходы, связанные с этим ужином, деловыми? Вряд ли. А если эта встреча произошла во время вашей командировки или вы надеетесь, что один из собеседников в будущем станет вашим клиентом? Делая допущения такого рода, вы играете с подвижными границами своей этики. Я верю: все мы постоянно ищем ту черту, не переходя которую, можем извлечь выгоду из своей нечестности и не разрушить при этом положительное мнение о самих себе. Как писал Оскар Уайльд, «мораль, как и искусство, предполагает, что где-то должна быть проведена черта». Вопрос — где именно?
Мне думается, ответ дает Джером Джером в своей книге «Трое в лодке, не считая собаки», где он рассказал историю о занятии, которое обросло самым большим количеством лжи — о рыбалке. Вот что он писал:
Знавал я одного юношу. Это был честнейший паренек: пристрастившись к рыбной ловле, он взял себе за правило никогда не преувеличивать свой улов больше, чем на 25 %. «Когда я поймаю 40 штук, — говорил он, — я буду всем рассказывать, что поймал 50, и так далее. Но сверх того, — говорил он, — я лгать не стану, потому что лгать грешно».
Хотя лишь немногие сознательно вывели для себя допустимый предел лжи (и еще меньше людей открыто об этом заявили), такой подход представляется мне верным. У каждого из нас есть границы, в пределах которых мы можем обманывать, пока не почувствуем «греховность» своих действий.
Далее мы попытаемся выяснить, как работает поправочный коэффициент, то есть постараемся найти баланс между противоречивыми желаниями сохранить позитивную самооценку и получить выгоду от мошенничества.
Глава 2. Поправка на хитрость: некогда скучать
Начнем с маленькой шутки. Восьмилетний Джимми приходит домой из школы с запиской от учителя, в которой говорится: «Джимми украл карандаш у соседа по парте». Прочитав ее, отец Джимми приходит в негодование. Он долго и нудно читает сыну мораль, всячески демонстрируя ему свое разочарование, и в наказание за проступок запрещает мальчику выходить из дома в ближайшие две недели. «Что еще скажет мама, когда вернется домой!» — зловеще произносит отец. А потом спрашивает: «Послушай, Джимми, если тебе так был нужен карандаш, почему ты ничего не сказал? Почему просто не попросил? Ты же знаешь: я могу принести тебе с работы хоть 10 карандашей».
Эта шутка кажется нам смешной, потому что мы осознаем сложность человеческой натуры и свойственной всем нам нечестности. Мы понимаем, что мальчик, крадущий карандаш у одноклассника, заслуживает наказания, но сами готовы уносить с работы сразу несколько карандашей, даже не задумываясь о своих действиях.
Для меня, Нины и Она эта шутка дала основания предположить, что определенные виды деятельности могут с легкостью снизить планку моральных стандартов. Мы предполагали, что в случае увеличения психологической дистанции между нечестным действием и его последствиями поправочный коэффициент тоже возрастет и участники наших тестов станут мошенничать больше. Разумеется, мы не хотели побуждать людей к обману. Однако с целью изучить и понять мошенничество как явление мы хотели увидеть, какие ситуации и виды вмешательств могут ослабить людские моральные стандарты.
Для тестирования этой идеи мы попробовали для начала разыграть сценку из анекдота про карандаш. Однажды я пробрался в общежитие MIT и оставил там крайне привлекательную наживку: в несколько общих холодильников я положил по упаковке кока-колы, по шесть банок в каждой, а в другие холодильники поставил бумажные тарелки с шестью долларовыми банкнотами. Время от времени я возвращался и проверял, что происходит с приманкой; мы хотели придать этому эксперименту научный характер, поэтому назвали мои действия «наблюдение за периодом полураспада».
Каждый, кому довелось жить в общежитии, может предсказать ход развития событий: в течение 72 часов все банки с колой исчезли, но вот что интересно — купюры остались нетронутыми. Ничто не мешало студентам взять долларовую банкноту, подойти к стоявшему рядом автомату по продаже напитков и получить банку кока-колы и сдачу, но этого никто не сделал.
Должен признать, что мои действия нельзя назвать великим научным экспериментом: студентов сложно удивить банкой кока-колы в холодильнике. А вот шанс обнаружить там тарелку с долларовыми купюрами выпадает редко. Наш тест показал: мы, человеческие существа, готовы и желаем украсть что-то, необязательно имеющее явную денежную ценность. Однако взять настоящие деньги мы стесняемся и ведем себя при этом так, что это заставило бы гордиться самого благочестивого учителя воскресной школы. Мы можем унести с работы стопку бумаги для домашнего принтера, но маловероятно, что мы возьмем из кассы компании хотя бы три-четыре доллара и купим на эти деньги то же количество бумаги.
Чтобы изучить дистанцию между деньгами и их влиянием на нечестность в рамках контролируемого эксперимента, мы снова провели тест с матрицами, включив в него еще одно условие, которое чуть усложнило потенциальным мошенникам доступ к деньгам. Как и прежде, участники эксперимента «с уничтожением» могли нас обмануть: избавиться от листов с записями и солгать насчет количества матриц с правильными решениями. Как и прежде, по истечении положенного времени участники уничтожали листы, подходили к наблюдателю и говорили: «Я решил X[5] матриц, дайте мне X долларов».
Новым условием в этом эксперименте были пластиковые жетоны: именно их, а не долларовые банкноты, получали в награду участники. Итак, после того как испытуемые уничтожали свои листы с ответами, они подходили к наблюдателю и говорили: «Я решил X матриц, дайте мне X жетонов». Получив жетоны, они направлялись к расположенному неподалеку столу, где обменивали их на настоящие деньги.
Вот что мы выяснили: те, кто в эксперименте с «живыми» деньгами прибегал к обману, в рамках нового эксперимента удвоили степень мошенничества. Должен признаться: я подозревал, что участники эксперимента с жетонами будут обманывать больше, но был удивлен ростом мошенничества, связанным с возникновением дополнительного шага, отдалявшего участников от денег. Оказалось, что люди гораздо сильнее предрасположены к нечестным действиям, когда имеют дело не с наличными деньгами, а с такими неденежными объектами, как, например, карандаши и жетоны.
За последние годы я провел довольно много экспериментов, и больше всего меня беспокоит вот что: чем меньше нам приходится иметь дело с наличностью, тем сильнее ошибается наш моральный компас. И если всего один небольшой шаг, отдаляющий нас от настоящих денег, может так сильно повысить уровень мошенничества, то представьте себе, что произойдет в обществе, полностью лишенном расчетов наличными! Может ли оказаться так, что с моральной точки зрения человеку будет проще украсть данные кредитной карты, чем бумажник из чужого кармана? Разумеется, цифровые деньги (например, дебетовые или кредитные карты) имеют множество преимуществ, но вместе с тем они в некоторой степени уменьшают реальность наших действий. Если один промежуточный этап помогает людям сбросить моральные оковы, что будет происходить с ростом популярности онлайн-расчетов? Что случится с нашей личной и социальной моралью, когда финансовые продукты станут еще более абстрактными и менее привязанными к реальным деньгам (подумайте, к примеру, о фондовых опционах, кредитных дефолтах и других финансовых инструментах)?
Некоторые компании уже об этом знают!
Мы, ученые, тщательно документируем, измеряем и изучаем, как влияет на человека та или иная степень его удаленности от денег. Однако я подозреваю, что некоторые компании интуитивно понимают этот принцип и используют его в своих интересах. К примеру, вот письмо, которое я получил от одного молодого консультанта:
Уважаемый доктор Ариели!
Несколько лет назад я успешно завершил учебу в престижном колледже, получив степень бакалавра в области экономики. После этого я поступил на работу в консалтинговую фирму, оказывающую услуги юридическим компаниям.
Причина, по которой я решил написать вам это письмо, связана с тем, что некоторое время я занимался завышением количества часов работы консультантов в счетах для клиентов. Не хочу стесняться в выражениях: я считаю это мошенничеством. Система поощрения консультантов, начиная с высших руководителей и заканчивая рядовыми сотрудниками, побуждает людей идти на обман. Никто не проверяет правильность расценок, которые мы выставляем за ту или иную услугу. У нас нет четких указаний о том, что считать приемлемым. Если сумма выставленных нами счетов ниже, чем у других, мы подвергаемся санкциям. Все эти факторы в совокупности создают идеальную среду для совершенно необузданного мошенничества.
Наши юристы, взаимодействующие с клиентами, получают немалую долю с платежей за каждый указанный нами в счете час работы, поэтому их совершенно не беспокоит, если для завершения проекта нам требуется больше времени. Они вынуждены несколько снижать расходы (чтобы не злить клиентов), однако многие из проводимых нами видов анализа сложно объективно оценить с точки зрения необходимого времени.
Юристы знают об этом и хотят использовать этот факт в своих интересах. В сущности, мы занимаемся мошенничеством от их имени. Мы хотим остаться на своих местах, а они хотят заработать побольше денег.
Вот лишь несколько конкретных примеров того, как происходит мошенничество в моей компании:
• Приближался срок сдачи проекта, и мы постоянно перерабатывали. Казалось, что у проекта неограниченный бюджет, и, когда я спросил, сколько часов работы должен указать в счете, мой начальник (руководитель проекта) приказал мне учесть все время, проведенное в офисе, за вычетом двух часов — на завтрак и обед. Я сообщил, что в моей работе были и другие перерывы, например время, в течение которого сервер осуществлял поиск и обработку информации. А он ответил, что это время можно считать временем продуктивного отдыха, помогающего повысить производительность труда.
• Мой друг отказался указывать завышенные расценки, вследствие чего его показатели оказались ниже среднего примерно на 20 %. Я был восхищен его честностью, но, когда настало время увольнений, он пострадал первым. О чем это говорит всем остальным?
• Один сотрудник указывает в счетах время, которое он проводит за изучением всей деловой переписки по проекту, даже если она не касается его обязанностей. По его словам, он делает это для того, чтобы «быть в курсе».
• Еще один сотрудник часто работает дома и выставляет счета на большие суммы, однако, когда он находится в офисе, создается впечатление, что рабочих проектов у него нет.
Подобные примеры можно приводить бесконечно. Нет сомнений в том, что я являюсь непосредственным участником происходящего, однако, видя проблему изнутри, я хочу решить ее. Можете ли вы мне что-нибудь посоветовать? Что бы вы сделали в моей ситуации?
К сожалению, проблемы, о которых пишет Иона, встречаются довольно часто. Они являются прямым следствием того, что мы думаем о собственной морали. На это можно посмотреть и под другим углом. Как-то утром я обнаружил, что неизвестный злоумышленник разбил стекло моей машины и украл систему GPS-навигации. Разумеется, я был расстроен, но с точки зрения экономического влияния на мое финансовое будущее эффект этого преступления был крайне незначительным. С другой стороны, подумайте о том, как много забирают у меня (и у вас) юристы, фондовые брокеры, инвестиционные управляющие и страховые агенты, выставляя чуть завышенные счета, добавляя к ним скрытые комиссии и т. д. Каждое из этих действий само по себе кажется незначительным с финансовой точки зрения, но все вместе они отнимают куда больше денег, чем могут стоить даже несколько навигационных систем. При этом я подозреваю, что, в отличие от автомобильного вора, сидящие в красивых офисах «белые воротнички» считают себя высокоморальными людьми, так как их действия не только незначительны, но, что важнее, не проявляются в форме физического изымания денег из моего кармана.
Но есть у этой ситуации и положительный аспект: как только мы поймем, насколько повышается степень нашей нечестности в случаях отдаления от реальных денег, мы сможем разобраться в происходящем и установить четкую связь между нашими действиями и людьми, на которых эти действия могут повлиять. В то же время мы можем попытаться сократить дистанцию между нашими действиями и деньгами. Так мы станем лучше понимать последствия своих действий, а значит, повысим степень своей честности.
ЧЕМУ МОЖЕТ НАУЧИТЬ СЛЕСАРЬ
Не так давно мой студент по имени Питер рассказал историю, которая хорошо иллюстрирует, насколько ошибочен наш подход к решению проблемы нечестности.
Как-то раз Питер захлопнул входную дверь, забыв ключи внутри, поэтому он принялся искать слесаря. Через некоторое время ему удалось найти специалиста, имевшего официальное разрешение городских властей на отпирание дверных замков. В случае с Питером на то, чтобы открыть дверь, потребовалась примерно одна минута.
«Я был поражен тем, как быстро и легко этот парень смог открыть дверь», — сказал мне Питер. А затем поделился со мной небольшим уроком морали, который, в свою очередь, получил в тот день от слесаря.
В разговоре с Питером мастер сказал: замки на дверях служат лишь для того, чтобы помогать честным людям оставаться честными. «Один процент людей всегда будет честным и никогда не украдет, — заявил слесарь. — Еще один процент будет вести себя нечестно всегда и попытается взломать замок и украсть ваш телевизор. Остальные же будут вести себя правильно только до тех пор, пока им позволяют обстоятельства, но, если искушение будет слишком сильным, они тоже забудут о честности. Замки не помогут уберечься от воров. Если воры захотят, они всегда смогут проникнуть в дом. Замки защищают от честных на первый взгляд людей, которые не могут справиться с искушением проникнуть за незапертую дверь».
Поразмыслив над этими словами, я подумал, что слесарь, скорее всего, прав. Проблема не в том, что 98 % людей аморальны или будут обманывать при первой же возможности. Скорее, она связана с тем, что большинство из нас нуждается в небольших напоминаниях, позволяющих оставаться на верном пути.
Как заставить людей врать меньше
Когда мы поняли, как работает поправочный коэффициент и как его увеличить, мы решили пойти дальше и выяснить: в наших ли силах сделать так, чтобы люди обманывали меньше. Эту идею тоже можно проиллюстрировать анекдотом.
Расстроенный человек пришел к раввину и сказал: «Ребе, вы не поверите, что со мной случилось! На прошлой неделе кто-то украл мой велосипед, который я оставил у синагоги!» Услышав это, раввин огорчился, но, немного поразмыслив, предложил: «Приходи на службу на следующей неделе, сядь в первом ряду и, когда я начну перечислять 10 заповедей, повернись и посмотри на людей, сидящих за тобой. Когда мы дойдем до заповеди „Не укради“, обрати внимание на человека, который не сможет посмотреть тебе в глаза, — это и будет вор». И раввину, и его собеседнику совет очень понравился.
Раввину было интересно проверить, сработает ли его метод. После службы он подошел к тому человеку и спросил: «Ну как, получилось?»
«Отлично сработало! — был ответ. — Когда вы произнесли „не прелюбодействуй“, я вспомнил, где оставил велосипед».
О чем этот анекдот? О том, что наша память и моральные установки (такие, как 10 заповедей) могут довольно сильно влиять на нашу оценку собственного поведения.
Вдохновившись глубокой мыслью, ставшей основой этого анекдота, мы с Ниной и Оном провели эксперимент в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Мы разделили 450 участников на две равные группы. Первую мы попросили вспомнить 10 заповедей, после чего дали возможность смошенничать в матричном тесте. Остальным мы предложили вспомнить любые 10 книг, прочитанных в школе, и тоже позволили им вести себя нечестно. В этой группе уровень мошенничества оказался обычным, довольно умеренным. В группе, вспоминавшей заповеди, обман отсутствовал как таковой (несмотря на то, что ни один участник не смог вспомнить все 10).
Результаты показались нам крайне интересными. Казалось, самого факта напоминания о нормах морали достаточно для улучшения морального поведения. Мы решили проверить эффект еще раз. Для этого отобрали группу людей, считавших себя атеистами, и попросили их поклясться на Библии, после чего дали им возможность смошенничать в матричном тесте. Каким был результат? Атеисты тоже умудрились не свернуть на скользкую дорожку.
КРАЖА БУМАГИ
Несколько лет назад я получил письмо от женщины по имени Ронда, учившейся в Калифорнийском университете в Беркли. Она рассказала мне об одной своей бытовой проблеме и о том, как смогла решить ее с помощью небольшого напоминания этического толка.
Ронда жила в доме неподалеку от студенческого кампуса, жители которого не были хорошо знакомы друг с другом. Уборщики, приходившие по выходным, оставляли несколько рулонов туалетной бумаги в каждой из двух ванных комнат. Однако уже к понедельнику туалетная бумага исчезала. Классическая «трагедия ресурсов общего пользования»[6]: из-за того, что одни люди брали туалетную бумагу «про запас», причем в количестве большем, чем им требовалось, у других не было возможности воспользоваться этим ресурсом общего пользования, поскольку он очень быстро заканчивался.
Когда Ронда прочитала о моем эксперименте с 10 заповедями, она повесила в одной из ванных комнат записку с просьбой к жильцам не забирать туалетную бумагу, так как ею пользуются все. К ее радости, один рулон вернули уже через несколько часов, второй — на следующий день. В другой ванной комнате (где не было записки) туалетная бумага так и не появилась до следующих выходных, то есть до следующего визита уборщиков. Этот эксперимент показывает, каким образом даже небольшие напоминания помогают нам поддерживать этические стандарты на высоте (в данном случае — пользоваться общей ванной с комфортом).
Подобные эксперименты дают основания предполагать, что наша готовность и склонность к мошенничеству может хотя бы отчасти уменьшиться, если нам напоминают об этических нормах. Но даже если 10 заповедей или Библия оказываются полезными в качестве механизмов стимулирования честности, вряд ли можно считать практичным внедрение религиозных принципов как средства снижения уровня мошенничества (не говоря уже о том, что это нарушит принцип разделения церкви и государства). Поэтому мы начали размышлять о более общих, практически применимых способах уменьшить поправочный коэффициент, что заставило нас протестировать кодексы чести, принятые во многих вузах.
Для того чтобы разобраться, как работает такой кодекс, мы попросили группу студентов MIT и Йельского университета подписать его, а затем дали половине этой группы шанс смошенничать при решении матричных задач.
Заявление, которое подписывали студенты, гласило: «Я понимаю, что этот эксперимент проводится в соответствии с правилами кодекса чести MIT/Йельского университета». Студенты, которых не просили ставить подпись, мошенничали, хотя и немного, а вот из тех, кто подписал заявление, не солгал ни один. При этом следует отметить: на самом деле кодекса чести у двух учебных заведений не было (чем-то это напоминает эффект, который произвела клятва на Библии на атеистов).
Итак, мы обнаружили, что упоминание кодекса чести сработало в университетах, на самом деле его не имевших, но как обстояли дела в учебных заведениях, где такой кодекс был? Всегда ли их студенты мошенничают меньше других? Или только после подписания кодекса? К счастью, я задался этим вопросом в тот момент, когда оказался в Принстоне, в Институте перспективных исследований, представлявшем собой идеальную «чашку Петри» для моих экспериментов.
Кодекс чести Принстонского университета существует с 1893 года. Все поступившие получают его копию и письмо от Комитета по этике, в котором сформулированы принципы применения кодекса. Будущие студенты обязаны подписать это письмо, если хотят быть зачисленными в институт. Кроме того, в течение первой недели обучения они посещают обязательные лекции, посвященные важности кодекса чести, и участвуют в публичных обсуждениях его положений. И, словно всего этого недостаточно, одна из студенческих музыкальных групп исполняет для первокурсников песню, которая так и называется — «Песня кодекса чести».
В течение всего периода обучения студенту Принстона время от времени напоминают о кодексе чести. Он письменно подтверждает соответствие своих действий кодексу в каждой сдаваемой курсовой работе («Эта работа составлена в соответствии с принятыми в университете правилами»). Он подписывает специальный документ после каждого теста, экзамена или опроса («Настоящим подтверждаю, что в ходе экзамена не нарушил положения кодекса чести…»), а также раз в два года получает по электронной почте специальное напоминание от Комитета по этике.
Чтобы проверить, как долго сохраняется эффект подобной массированной моральной бомбардировки, я выждал две недели — после того, как первокурсники прошли обязательный тренинг по вопросам этики — и попытался заставить их свернуть на кривую дорожку, предоставив те же возможности, что и студентам MIT и Йельского университета (где нет кодексов чести и не читают лекции о честности). Оказались ли студенты из Принстона, в чьей памяти еще были свежи положения университетского кодекса, более честными при решении матричных задач?
Увы, нет. Среди тех, кто подписал заявление, обманщиков не оказалось (как не оказалось их и среди студентов MIT и Йельского университета). Однако те, кого не просили подписать кодекс, мошенничали в той же степени, что их коллеги из других вузов. Судя по всему, ни интенсивный курс морали, ни ее пропаганда, ни сам кодекс чести не имели сколь-нибудь длительного влияния на моральный стержень учащихся Принстона.
Эти результаты, с одной стороны, расстраивают, с другой — вселяют надежду. Печально то, что нам, похоже, крайне сложно изменить свое поведение и вести себя более этично, и никакие экспресс-курсы не помогут (я подозреваю, что большинство тренингов по вопросам этики, которые проводятся в компаниях, университетах и бизнес-школах, столь же неэффективны).
Если брать шире, есть основания полагать, что долгосрочные культурные изменения в области этики — задача сверхсложная.
Зато мы склонны вести себя более честно, получив напоминание об этических стандартах. Более того, выяснилось, что метод «подпиши кодекс чести» работает и в тех случаях, когда цена обмана — очевидные и суровые санкции (в случае с Принстоном — вплоть до исключения), и когда таких санкций нет (как в MIT и Йельском университете). Хорошая новость состоит в том, что люди, похоже, хотят быть честными. Это означает, что было бы полезно использовать моральные напоминания в ситуациях, которые подталкивают нас к нечестным действиям[7].
Томас Танг, преподаватель Государственного университета Мидл Теннесси, настолько устал от мошенничества, процветавшего среди студентов программы MBA, что решил применить более жесткий кодекс чести. Вдохновившись нашим экспериментом с 10 заповедями и их влиянием на степень честности, он попросил своих студентов подписать кодекс, в котором говорилось, что они не будут мошенничать во время сдачи экзамена. В частности, там были слова «мошенники будут сожалеть о том, что сделали, до конца своих дней, а потом отправятся прямиком в ад».
Студенты — даже те, кто не верил в существование ада, — впали в ярость. Текст заявления был весьма провокационным, и неудивительно, что Танг подвергся жесткой критике (и в результате вернулся к первоначальному варианту, без упоминания адовых мук).
И все же мне думается, что даже за столь короткий срок устрашающие слова смогли произвести на студентов определенное впечатление. Полагаю также, что их ярость отражала то, насколько сильным было это впечатление. Будущие бизнесмены наверняка почувствовали, насколько высоки ставки; в противном случае их реакция не была бы такой сильной. Поставьте себя на их место. Что бы вы чувствовали, доведись вам подписывать такой документ? Повлияло бы это на ваше поведение? А если бы вам пришлось подписать его перед сдачей налоговой декларации?
РЕЛИГИОЗНЫЕ НАПОМИНАНИЯ
Богословы не оставили без внимания возможность использования религиозных символов как способа повышения честности. В Талмуде есть история об одном религиозном человеке, который жаждет секса и поэтому отправляется к проститутке. Разумеется, его религия не одобряет такие поступки, однако он чувствует, что не в силах справиться со своим желанием. Оказавшись наедине с проституткой, он начинает раздеваться. Сняв рубаху, он обращает внимание на цицит — нити, сплетенные в пучки, которые Тора обязывает прикреплять к краям одежды. Это заставляет его вспомнить о религиозных заповедях, обязательных к выполнению, поэтому он тут же одевается и уходит, не нарушив установленных религией правил[8].
Испытание налоговой службой
Использование кодекса чести для обуздания мошенничества в университете — хороший прием. Но будут ли подобные моральные напоминания эффективны в отношении других типов мошенничества и в неакадемической среде? Будут ли они полезны в предотвращении мошенничества при подаче налоговых деклараций или заявлений о наступлении страховых случаев? Именно это решили выяснить Лиза Шу (аспирант Гарвардского университета), Нина Мазар, Франческа Джино (преподаватель в Гарварде), Макс Базерман (преподававший там же) и я.
Мы начали с того, что изменили стандартный матричный тест, сделав его отчасти похожим на процедуру заполнения налоговой декларации. Когда участники выполнили задание и уничтожили листы с записями, мы попросили их указать количество правильных ответов в специальной форме, разработанной по образу и подобию стандартной налоговой декларации. С целью усилить впечатление заполнения настоящей декларации там было четко указано: полученный доход облагается налогом по ставке 20 %. В первом разделе формы участники должны были указать размер своего «дохода» (количество задач, для которых было найдено правильное решение). В следующем разделе нужно было указать «командировочные расходы». Участники имели право на компенсацию в размере 10 центов за каждую минуту «командировки» (продолжительность которой не превышала двух часов, что давало возможность получить 12 долларов), а также на возмещение расходов непосредственно на дорогу (что позволяло им заработать еще больше; максимальная выплата также составляла 12 долларов). Эта часть оплаты выводилась из-под налогообложения (как в реальной жизни). Наконец, участников просили сложить все выплаты и рассчитать итоговую сумму, которую они получали на руки.
Эксперимент проводился в двух группах с разными условиями: некоторые из участников заполняли всю форму и подписывали ее в нижней части, как обычно делается с официальными бумагами. Подпись являлась подтверждением правильности указанной информации. Во втором варианте участники сначала подписывали форму, а уже потом заполняли ее. Это и было нашим «моральным напоминанием».
Что мы выяснили? Участники первой группы (подпись в нижней части бланка) мошенничали, приписывая себе в среднем по четыре правильных решения сверх действительно найденных. А те, кто сначала поставил подпись? В случаях, когда подпись служила моральным напоминанием, участники приписывали себе всего по одной якобы решенной задаче. Не знаю, что вы думаете об этом «всего по одной»… в конце концов, это все равно мошенничество… Однако с учетом того, что единственным различием между условиями эксперимента было лишь расположение графы для подписи, конечный результат говорит об эффективности такого метода борьбы с нечестностью.
Наша версия налоговой декларации позволила также изучить данные о транспортных расходах. Мы не знали, сколько времени участники провели в дороге на самом деле, но, предположив, что средняя продолжительность «путешествия» была примерно одинаковой в обеих группах, увидели, какое условие эксперимента стало основанием для завышения расходов. Принцип не изменился: те, кто подписывал форму внизу, заявили о причитающихся им 9,62 доллара (в среднем), а участники эксперимента с моральным напоминанием (сначала подпись, потом данные) указали, что их транспортные расходы составили в среднем 5,27 доллара.
Для нас было очевидно: когда люди подписывают обязательство того или иного рода, это принуждает их к более честному поведению (пусть и ненадолго). Вооружившись этим знанием, мы обратились в Налоговую службу США (IRS): наверняка Дядя Сэм будет рад узнать, как увеличить сумму налоговых поступлений. Между нами состоялся примерно такой диалог:
Я: К тому моменту, когда налогоплательщики завершают заполнение декларации, становится уже поздно. Мошенничество уже свершилось, и никто не скажет: «Ой, я должен подписать это заявление, так что позвольте мне начать сначала и дать вам честные ответы». Понимаете? Если люди ставят подпись перед тем, как указать какие-либо данные, они мошенничают меньше. Все, что вам нужно, — перенести поле для подписи в верхнюю часть формы, и это напомнит каждому заполняющему, что от него ждут правды.
IRS: Да, это интересно. Но просить людей поставить подпись в верхней части формы — незаконно. Подпись нужна, чтобы заверить точность предоставленной информации.
Я: А если просить людей поставить подпись дважды, вверху и внизу? Первая будет своего рода обязательством — напоминанием о патриотизме, моральном долге, матери, флаге, домашнем яблочном пироге, а вторая, внизу, будет заверять написанное.
IRS: Но это будет сбивать с толку.
Я: А вы сами когда в последний раз смотрели на налоговую декларацию?
IRS — молчание.
Я: А если сделать по-другому? Если первая подпись на налоговой декларации будет означать согласие налогоплательщика пожертвовать 25 долларов на работу специального подразделения по борьбе с коррупцией? Вне зависимости от ответа, люди задумаются о том, как важна честность в масштабах всего общества! И если налогоплательщик жертвует на нужды этого подразделения, то он не просто выражает свое мнение, а подкрепляет его деньгами и, скорее всего, сам будет поступать соответствующим образом.
IRS — напряженное молчание.
Я: У этого подхода есть и еще одно преимущество: вы можете «взять на карандаш» тех налогоплательщиков, кто решил отказаться от пожертвования, и включить их в план очередной проверки!
IRS: Вы действительно хотите поговорить об этом?[9]
Несмотря на реакцию со стороны налоговиков, мы не разочаровались и продолжили искать другие возможности для проверки своей идеи («сначала подпись, потом информация»). Мы достигли в этом успеха, когда обратились к крупной страховой компании. Там подтвердили нашу уже сформировавшуюся теорию о том, что мошенничает большинство людей, но понемногу. В компании подозревали, что количество настоящих мошенников (совершавших поджоги, имитировавших ограбления и т. д.) сравнительно невелико. Однако многие из тех, кто действительно пострадал, без зазрения совести преувеличивали свои потери на 10–15 %. Телевизор с диагональю 32 дюйма превращался в 40-дюймовый, стоимость ожерелья возрастала с 18 000 до 22 000 и т. д.
Я отправился в штаб-квартиру компании и провел день с ее руководителями, обсуждая, как можно снизить уровень нечестности при заполнении заявлений о страховых возмещениях. Мы обсудили множество идей. Например, такую: обязать заявителей меньше использовать собственные слова, описывая потери, и больше — формальные обороты, а также указывать подробности (где и когда они купили ту или иную утраченную вещь). Такой подход позволил бы создать более жесткие рамки для их моральной гибкости. А в случаях утраты совместной собственности (например, дома при наводнении) семейная пара должна была прийти к согласию о том, что именно было потеряно (хотя, как мы увидим в главе 8 «Мошенничество как инфекция, или Вирус нечестности» и главе 9 «Мошенничество в коллективе: почему две головы не всегда лучше одной», именно эта идея может привести к непредсказуемым и негативным последствиям). Что, если мы будем проигрывать религиозные гимны, пока люди ждут ответа сотрудника на свой телефонный звонок? Разумеется, мы обсудили, как поведут себя клиенты, если им придется подписываться в верхней части бланка или даже рядом с описанием каждого из утраченных, по их словам, предметов.
Как это обычно бывает в крупных компаниях, мои собеседники взяли паузу, чтобы обсудить идею с юристами. Мы ждали шесть месяцев, а потом услышали вердикт: они не горели желанием позволить нам проверить ту или иную идею на практике.
Несколько дней спустя мой знакомый, работавший в этой страховой компании, позвонил и извинился за решение юридической службы. Он сообщил, что в числе прочих бланков, которые компания использует для автомобильного страхования, есть один, не имеющий особой важности, который мы могли бы использовать для эксперимента. В нем указывались данные счетчика пробега, чтобы страховая компания могла рассчитать, сколько километров автомобиль проехал в предыдущем году. Очевидно, люди, желавшие уменьшить свой страховой платеж (а я знаю многих, кто хотел бы), могли подвергнуться искушению солгать и сообщить о меньшем пробеге автомобиля.
Страховая компания выделила нам 20 000 бланков, которые мы использовали для тестирования. На половине из них мы оставили имевшийся текст «Подтверждаю, что предоставляемая мной информация правдива» и место для подписи в нижней части страницы. На оставшихся бланках мы переместили текст заявления и место для подписи в верхнюю часть листа. В остальном обе формы были идентичны. Мы отправили их по почте клиентам страховой компании, а когда получили обратно, смогли сравнить показатели. Что же мы обнаружили?
Люди, подписавшие первый вариант бланка, проехали в среднем по 42 000 километров, а те, кто подписывал бланк в верхней его части, — в среднем по 38 140 километров, то есть разница составила около 3860 километров. Конечно, мы не знаем, сколько в действительности проехали те, кто подписывал бланк вверху, поэтому не уверены в их идеальной честности, но мы знаем, что они мошенничали в значительно меньшей степени. Также интересно отметить, что уровень мошенничества (около 15 % от общего километража в отчетах) был почти идентичен показателям, выявленным в ходе других экспериментов.
Результаты тестов доказывают: даже когда мы рассматриваем свою подпись как подтверждение точности указанной информации (и, разумеется, это ее качество очень полезно), подпись, поставленная в верхней части бланка, до его заполнения, также может служить средством моральной профилактики.
КОМПАНИИ ВСЕГДА РАЦИОНАЛЬНЫ!
Многим людям свойственно верить: в отличие от отдельных индивидуумов (которые порой ведут себя иррационально), крупные коммерческие компании, управляемые профессионалами из совета директоров и инвесторами, всегда будут рациональны. Я никогда так не считал и чем больше взаимодействую с компаниями, тем чаще чувствую, что они ведут себя рационально куда реже, чем отдельно взятые люди (более того, я убежден: если вы считаете, что компании рациональны, вы никогда не присутствовали на заседании совета директоров).
Как вы думаете, что произошло после того, как мы продемонстрировали страховой компании, что можем значительно увеличить долю честных ответов о пробеге автомобилей с помощью минимальной корректировки бланка? Было принято решение использовать этот метод? Нет! Кто-нибудь из руководителей компании просил (или даже умолял) нас, чтобы мы изучили значительно более важную проблему, связанную с заявленным размером потерь (проблему, которая, по их собственным расчетам, обходится страховой отрасли в 24 миллиарда долларов в год)? Вы ответили правильно: нам так никто и не позвонил.
Когда я спрашиваю людей, каким образом мы могли бы снизить уровень преступности в обществе, они обычно предлагают вывести на улицы больше полицейских и ужесточить наказания для правонарушителей. Когда я спрашиваю руководителей крупных компаний, как бы они решили проблему воровства, мошенничества, приписок в командировочных отчетах или саботажа (при котором сотрудники вредят работодателю, сами не получая от этого никакой выгоды), те обычно упоминают усиление системы контроля и введение жесткой политики обязательного наказания за подобные нарушения. Когда правительства пытаются снизить уровень коррупции или ввести новые правовые нормы, которые позволили бы поднять уровень честности, они часто говорят о «прозрачности» (также известен в этом контексте термин «политика солнечного тепла») как лекарстве от всех болезней общества. Разумеется, есть крайне мало свидетельств того, что эти решения действительно работают.
Напротив, описанные здесь эксперименты показывают: даже такая простая вещь, как напоминание о моральных стандартах в момент искушения, может чудесным образом снизить уровень нечестного поведения, а то и вынуждает отказаться от него полностью. Этот подход применим даже в тех случаях, когда определенные моральные кодексы не являются частью нашей личной системы убеждений. Очевидно, что моральные напоминания — довольно простой способ сделать поведение людей более честным как минимум на короткое время. Если бы ваш налоговый консультант попросил вас подписать кодекс чести перед заполнением налоговой декларации или страховой агент заставил бы вас поклясться в том, что вы говорите всю правду о размере своего ущерба, велика вероятность, что случаев уклонения от выплаты налогов или мошенничества со страховками стало бы куда меньше[10].
Какие выводы можно сделать из описанного выше? Прежде всего необходимо признать, что нечестность во многом определяется таким фактором, как поправочный коэффициент, «свойственный» отдельной личности, а не теорией ПМРП. Существование этого коэффициента дает основания предполагать: если мы хотим снизить уровень преступности, нужно каким-то образом изменить свое отношение к обоснованности наших действий. Когда увеличивается наша способность находить оправдания своим эгоистичным желаниям, возрастает и поправочный коэффициент, в результате чего мы чувствуем себя комфортно, даже поступая нечестно. Справедливо и обратное. Когда наша способность оправдывать собственные действия снижается, уменьшается и поправочный коэффициент, и неправомерное поведение вызывает чувство дискомфорта. И если вы рассматриваете с этой позиции глобальные примеры нежелательного поведения — махинации в банках, выдачу фондовых опционов задним числом, дефолты по займам и ипотекам, налоговое мошенничество, вы в большей степени рассуждаете о понятиях честности и нечестности, а не занимаетесь рациональными расчетами.
Разумеется, это означает, что механизмы, определяющие степень нечестности, значительно сложнее, чем нам кажется, и что борьба с нечестностью — совсем не простая задача. Но это также означает, что раскрытие сути сложных связей между честностью и нечестностью может стать для нас увлекательным приключением.
Глава 2Б. Гольф
Подоходный налог превратил куда больше американцев в лгунов, чем гольф.
В фильме «Легенда Багера Ванса» герой Мэтта Дэймона по имени Раннульф Джуна пытается восстановить свои прежние навыки игры в гольф, однако допускает серьезную ошибку, и его мяч улетает в лес. Вернув мяч на поле, он клюшкой отодвигает оказавшуюся рядом ветку, чтобы ничто не мешало очередному удару, при этом случайно касается мяча, и тот немного откатывается в сторону. По правилам такое действие должно быть засчитано как удар. К этому моменту Джуна набрал много очков и если сейчас проигнорирует правила, то сможет выиграть и вернуть себе былую славу. Молодой ассистент со слезами умоляет Джуну не обращать внимания на то, что мяч сдвинулся с прежнего места. «Это произошло случайно, — говорит он, — и в любом случае правило дурацкое. И об этом никто не узнает». Джуна поворачивается к нему и произносит: «Я буду знать. И ты».
Даже соперники Джуны считают, что мяч, скорее всего, просто покачнулся и остался на прежнем месте или плохое освещение сыграло злую шутку. Джуна настаивает: мяч действительно откатился. Результат игры: почетная ничья.
Подобный эпизод действительно имел место на Открытом чемпионате США по гольфу в 1925 году. Гольфист Бобби Джонс неаккуратно ударил по мячу и слегка сдвинул его с места. Никто этого не видел и никогда не узнал бы, однако Джонс записал себе промах и в итоге проиграл матч. Когда выяснилось, что произошло, и Джонса окружили репортеры, тот попросил их не писать об инциденте и произнес знаменитую фразу: «С таким же успехом вы могли бы похвалить меня за то, что я не граблю банки». Об этом ставшем легендой проявлении честности и благородства до сих пор вспоминают поклонники гольфа, и у них есть для этого весомые причины.
Я думаю, что эта сцена — как в кино, так и в реальной жизни — отражает романтизм гольфа. Она показывает отношения человека с самим собой, демонстрируя его навыки и благородство. Возможно, именно эти присущие гольфу особенности — уверенность в себе, самоконтроль и высокие моральные стандарты — служат основанием для распространенной метафоры: когда речь заходит о бизнес-этике, вспоминают гольф (не говоря уже о том, сколько бизнесменов часами изучают тонкости этой игры). В отличие от других видов спорта, в гольфе нет судей, контролирующих исполнение правил или разрешающих спорные ситуации. Игрок в гольф (как и бизнесмен) должен принять самостоятельное решение о том, что допустимо, а что нет. Гольфисты и бизнесмены сами решают, как поступать: в большинстве случаев рядом нет никого, способного проконтролировать их действия или проверить результат. Три основополагающих правила в гольфе: не менять положение мяча перед ударом; играть вне зависимости от того, в каких условиях вы оказались, а если выполнению этих двух правил что-то мешает — вести себя предельно честно. Однако понятию «честно» в данном случае сложно дать однозначное определение. В конечном счете многие люди посчитали бы «честным» не заметить случайное и не имеющее значимых последствий движение мяча после непреднамеренного соприкосновения с клюшкой. Возможно, были бы действительно несправедливо подвергать игрока наказанию за то, что он случайно коснулся мяча.
Несмотря на благородство, которым гольфисты наделяют любимый вид спорта, многие люди, похоже, разделяют точку зрения Уилла Роджерса: гольф может сделать обманщика из любого человека. Если задуматься, подобное мнение не должно удивлять. Игроки в гольф должны перебросить крошечный мячик на огромное расстояние и преодолеть массу препятствий, прежде чем попасть им в маленькую лунку. Это очень сложно, а промахи подрывают веру в собственные силы. Неудивительно, что, оказавшись единственным человеком, оценивающим свой же результат, игрок испытывает большой соблазн проявить к себе снисходительность и не так жестко придерживаться установленных правил.
Чтобы лучше понять природу нечестности, мы обратились к игрокам в гольф. В 2009 году мы со Скоттом Маккензи (учившимся в то время в Университете Дьюка) провели исследование, в ходе которого задали тысяче игроков в гольф несколько вопросов о том, как они играют и каким образом мошенничают в ходе игры. Мы попросили их представить ситуации, в которых за ними никто не наблюдает (как это часто бывает в гольфе), что дает им возможность самостоятельно принять решение о том, следовать правилам или нет (без каких-либо негативных последствий). С помощью компании, организующей занятия по гольфу, мы отправили электронные письма игрокам из всех штатов и попросили их принять участие в опросе; в обмен мы предоставили им шанс выиграть высококачественное профессиональное снаряжение. На наш призыв откликнулись около 12 000 гольфистов, и вот что нам удалось выяснить.
Перемещение мяча
«Представьте, что игрок подходит к мячу и понимает: передвинув его в сторону на 10 сантиметров, он получит весомые преимущества в соревновании. Насколько велика, с вашей точки зрения, вероятность того, что игрок передвинет мяч?»
Этот вопрос присутствовал в трех различных версиях, каждая из которых описывала различные способы изменить неудачное положение мяча (по забавному совпадению, на жаргоне гольфистов оно обозначается словом «lie», которое также переводится как «ложь»). Мы спрашивали участников, насколько, по их мнению, комфортно будет чувствовать себя игрок, передвигая мяч на 10 сантиметров в сторону: 1) с помощью клюшки; 2) с помощью ботинка; 3) взяв его в руку и переложив на другое место.
Разные условия использовались для того, чтобы (как и в предыдущих экспериментах) выяснить, в какой степени тенденция к аморальному поведению зависит от дистанции, отдаляющей человека от нечестного действия. Если бы дистанция имела такое же значение, что и в эксперименте с жетонами, о котором мы рассказывали выше (глава 2 «Поправка на хитрость: некогда скучать»), самый низкий уровень обмана наблюдался бы в случаях, когда для перемещения мяча надо было взять его в руки. Этот показатель оказался бы чуть выше, если бы гольфисты сдвигали мяч мыском ботинка. А самый высокий уровень отмечался бы в тех случаях, когда они использовали инструмент (клюшку для гольфа), позволявший игрокам не вступать в непосредственный контакт с мячом.
Результаты опроса показали, что на степень нечестности в гольфе, как и в других экспериментах, действительно влияет психологическая дистанция. Мошенничество становится куда более простым делом, если от нечестного действия нас отделяет несколько дополнительных шагов. Респонденты понимали, что сдвинуть мяч с помощью клюшки проще всего, и, по их мнению, игрок совершил бы подобное действие в 23 % случаев. На втором месте по частоте был ботинок (14 %). И, наконец, самым сложным с моральной точки зрения было взять мяч в руку и переложить его в нужное место (10 % случаев).
Эти результаты дают основания для следующего предположения: когда мы поднимаем мяч и переносим его в другое место, мы лишаем себя возможности игнорировать целенаправленность и сознательный характер действия и понимаем, что совершаем что-то неэтичное. Передвигая мяч мыском ботинка, мы немного дистанцируемся от своего действия, но все равно физически совершаем прикосновение. А вот когда мяча касается клюшка (особенно если прикосновение едва заметно), нам становится очень легко найти оправдание своим действиям. Можно даже сказать себе: «В конечном счете здесь есть и элемент удачи: мяч мог бы докатиться и до другой, менее удобной точки». И в этом случае мы прощаем себя почти полностью.
«Маллиган»: бить или не бить
Как гласит легенда, в 1920-е канадец Дэвид Маллиган играл в гольф в загородном клубе в Монреале. Он нанес первый удар по мячу, оказавшийся крайне неудачным, после чего вернул мяч на исходную позицию и ударил еще раз. Сам Дэвид назвал произошедшее «корректирующим ударом», однако его партнеры решили, что «маллиган» звучит куда лучше, и это слово стало официальным термином в гольфе, обозначающим «вторую попытку».
В наши дни, нанеся по мячу очевидно плохой удар, игрок может записать его в свою карточку с результатами как «маллиган», поставить мяч на место и забыть о неудачной попытке, словно ее и не было (одна из моих подруг называет словом «маллиган» первую жену своего мужа). В крупных соревнованиях «маллиганы» запрещены, но в любительских играх гольфисты могут заранее договариваться о том, что такие удары допустимы. Разумеется, игроки время от времени позволяют себе эту слабость даже в тех случаях, когда «маллиганы» не разрешены и договоренности об их применении не существует. Именно таким незаконным «маллиганам» был посвящен наш следующий тест.
Мы спросили участников, с какой вероятностью игроки будут бить «маллиганы», если уверены, что их никто не видит. Некоторых мы спрашивали, насколько, по их мнению, вероятен незаконный «маллиган» уже при первом ударе. Другие должны были оценить вероятность этого действия на девятой лунке.
Уточню: оба варианта в гольфе являются запрещенными. Однако складывается впечатление, что проще дать рациональное объяснение повторному удару на первой лунке, чем на девятой. Промахнувшись на первой лунке, вы можете сказать себе: «Вот теперь я начинаю играть по-настоящему и с этого момента буду засчитывать каждый свой удар». На девятой лунке у вас нет возможности притвориться, что игра еще не началась. Соглашаясь на «маллиган», вы признаете, что попросту не засчитали предыдущий удар.
На основании данных наших предыдущих экспериментов мы предполагали, что результаты в двух группах будут отличаться. По «прогнозам» наших участников, не менее 40 % игроков воспользовались бы второй попыткой после первого же неудавшегося удара. А вот на девятой лунке к приему «маллиган» могли прибегнуть 15 % (всего лишь?) игроков.
Размытая реальность
Мы задали участникам эксперимента еще одна задачу, попросив их представить следующую ситуацию: нужно забить шар в лунку не более чем за пять ударов, а игроку понадобилось шесть. Некоторых участников мы попросили оценить, какова вероятность того, что рядовой гольфист в этом случае напишет в своей карточке «5» вместо «6». Остальных — насколько вероятна ситуация, при которой игрок правильно укажет количество ударов, однако при подведении итогов всей игры добавит к общему счету не шесть, а пять ударов (получая, в сущности, тот же результат, что и в первом варианте).
Мы хотели увидеть, будет ли игрокам проще оправдать свое нечестное поведение тем, что они неправильно записали первое число, а не ошибкой в подсчете (по аналогии с ситуацией, когда игрок берет мяч в руку, чтобы перенести его на более выгодную позицию). Как-никак, а «ошибка» при сложении представляет собой явно выраженный и преднамеренный акт мошенничества, которому практически невозможно дать рациональное объяснение. Мы оказались правы. Участники опроса предположили, что 15 % игроков припишут себе меньшее количество ударов и лишь немногие (5 %) укажут неправильную сумму по итогам всей игры.
Великий игрок в гольф Арнольд Палмер как-то сказал: «У меня есть кое-что позволяющее улучшить игру любого гольфиста как минимум на пять ударов. Это ластик». Однако подавляющее большинство игроков, похоже, не хочет идти по этому пути или делать это столь откровенным образом. А вопрос, который мы задали нашим участникам, остается открытым: если игрок проходит дистанцию между лунками не за пять, а за шесть ударов, счет еще не записан и некому его подтвердить, будет ли его результат равен шести или пяти?
Подтасовка результатов имеет много общего с классическим экспериментом, широко известным под названием «Кот Шредингера». Эрвин Шредингер, австрийский физик, в 1935 году описал следующую ситуацию: в стальной камере, где находится радиоактивное вещество, заперт кот. Вещество может либо распадаться, либо нет. В случае распада даже одного атома возникает целая цепочка событий, которые в итоге приведут к смерти кота. Если же распада не будет, кот останется жив. По версии Шредингера, до тех пор, пока ящик закрыт, то есть наблюдателю неизвестно, что происходит внутри, кот и жив и мертв одновременно. Его нельзя однозначно назвать ни живым, ни мертвым. Придуманный Шредингером сценарий являлся критикой квантовой механики, которая оперировала понятием неопределенности и не вполне четко описывала объективную реальность. Если оставить философские аспекты физики в стороне, мы убедимся: история с котом Шредингера является отличной иллюстрацией к нашему гольф-эксперименту. Количество ударов (пять или шесть) — тот самый «ни живой ни мертвый» кот Шредингера: пока вы не записали количество ударов на бумаге, оно не существует в «объективной реальности».
Возможно, вы удивлены тем, что вопросы заданные участникам эксперимента, касались «среднестатистического игрока», а не их собственного поведения на поле. Причина проста: мы ожидали, что, как и большинство людей, гольфисты солгут в ответ на прямой вопрос об их склонности вести себя неэтично. Спрашивая их о поведении кого-то другого, мы предполагали, что они ответят более правдиво, поскольку будут избавлены от ощущения, что признаются в собственном неправомерном поведении[11].
Однако мы хотели изучить и то, в какой степени гольфисты с опытом неэтичного поведения готовы сознаться в обмане. Мы выяснили: хотя многие «другие игроки» мошенничают, некоторые участники нашего исследования считали себя сущими ангелами — они признались, что лишь в 8 % случаев передвигали мяч клюшкой с целью улучшить свой результат. Еще реже они подталкивали мяч ногой (4 %), а брали мяч в руки и переносили его в нужное место лишь в 2,5 % случаев. Конечно, эти показатели довольно внушительны (особенно с учетом того, что на поле для гольфа обычно располагается 18 лунок, а способов смошенничать очень много), но они меркнут в сравнении с тем, что делают «другие игроки».
Аналогичные расхождения проявились и в ответах о «маллиганах», и в подсчете количества ударов. Участники опроса сообщили, что воспользовались бы «маллиганом» на первой лунке лишь в 18 % случаев, а на девятой — только в 4 %. Они также заявили, что лишь в 4 % случаев смогли бы приписать себе меньшее количество ударов, и менее 1 % респондентов пошли бы на такой вопиющий обман, как сознательный неправильный подсчет количества ударов.
Итак, вот сводка наших результатов:
Не знаю, как эти различия могли бы интерпретировать вы; лично мне кажется, что игроки обманывают не только в гольфе — они лгут и в тех случаях, когда рассуждают об обмане.
Итак, что же мы выяснили? Судя по всему, мошенничество в гольфе во многом сходно с теми ситуациями, которые мы изучали в ходе лабораторных экспериментов. Когда те или иные действия не ведут непосредственно к совершению нечестного поступка, когда они отдалены от него, отложены во времени или когда им можно дать рациональное объяснение, игрокам в гольф, как и любому человеческому существу, легче совершить обман. Кроме того, похоже, что гольфисты, как и все остальные, способны совершать нечестные поступки, не меняя мнения о себе как о честных людях. А как же обстоят дела с мошенничеством среди бизнесменов? Что ж… Когда правила можно — в той или иной степени — трактовать по-разному, если есть зона неопределенности или людям позволено оценивать результаты своей работы самостоятельно, даже такая благородная игра, как гольф, может подтолкнуть к обману.
Глава 3. Ослепленные собственной мотивацией
Представьте свой очередной визит к стоматологу. Вы входите, обмениваетесь любезностями с девушкой за стойкой, после чего принимаетесь листать старые журналы в ожидании вызова.
А теперь предположим, что за время, прошедшее с момента вашего последнего посещения, стоматолог приобрел новое дорогостоящее профессиональное оборудование — устройство, которое использует для протезирования зубов компьютерное моделирование и само изготавливает более совершенные коронки и мосты. Сначала на экране компьютера отображается трехмерная модель зубов и десен пациента; это позволяет создать коронку или имплант, идеально подходящие по форме и размерам. На втором этапе методом 3D-печати изготавливается керамическая коронка или мост — в соответствии с заданными параметрами. Понятно, что столь совершенное оборудование стоит весьма недешево.
Но вернемся в приемную. В ожидании вызова вы прочитали статью о любовных похождениях известного политика и только собрались перейти к интервью с очередной светской львицей, как девушка за стойкой называет вашу фамилию. «Второй кабинет налево», — говорит она. Вы усаживаетесь в стоматологическое кресло и обмениваетесь парой слов с ассистентом, который приступает к первичному осмотру вашей ротовой полости. Вскоре входит врач. Он повторяет процедуру осмотра, а затем просит ассистента указать в вашей медицинской карте, что зубы номер три и четыре требуют дальнейшего наблюдения, а на зубе номер семь есть трещины.
«Фто? Какие тфефины?» — пытаетесь произнести вы с широко открытым ртом и торчащим из него слюноотсосом.
Врач заканчивает осмотр, аккуратно кладет инструменты на поднос, откидывается на стуле и объясняет: «На зубной эмали часто возникают микротрещины. Но вы можете не беспокоиться — это лечится. Коронка по новой 3D-технологии — и проблема решена. Что думаете?»
Вы в нерешительности, однако, получив заверения в том, что это совсем не больно, соглашаетесь. В конце концов, вы знакомы с этим специалистом уже много лет и, несмотря на болезненность некоторых процедур, уверены, что он неплохой врач.
Теперь я должен отметить (потому что стоматолог вам этого не сказал), что трещины на зубной эмали — очень-очень маленькие трещины — возникают довольно часто и, как правило, не являются симптомом, из-за которого стоит беспокоиться. В большинстве случаев этот дефект не нуждается в исправлении.
Расскажу историю из жизни, которую услышал от своего друга Джима, бывшего вице-президента крупной стоматологической компании. На протяжении многих лет Джим собирал коллекцию странных случаев из профессиональной практики, но история про 3D-оборудование показалась мне просто ужасной.
Спустя несколько лет после появления новой технологии одно из таких устройств купил стоматолог из Миссури. С того дня он стал по-новому относиться к трещинам на зубах. «Он готов был ставить коронки на что попало, — рассказывал Джим. — Он был воодушевлен и полон энтузиазма, стремясь проверить свое приобретение в деле, а потому начал советовать пациентам улучшить их улыбку. Разумеется, с помощью инновационного 3D-оборудования».
Одним из таких пациентов была молодая студентка юридического факультета; трещинки на эмали ее зубов были совсем крошечными, однако стоматолог порекомендовал поставить коронки. Девушка согласилась, потому что привыкла следовать советам своего дантиста, но знаете, что случилось дальше? Под коронкой зуб разболелся, понадобилось рассверливать зубной канал, а за ним и второй. У пациентки не осталось иного выбора, кроме как пойти на сложную и болезненную хирургическую операцию. Иными словами, то, что началось как лечение вполне безобидных трещинок, привело к страданиям и огромным финансовым затратам.
Завершив учебу, девушка вспомнила о том случае и, поразмыслив, поняла (сюрприз!), что на самом деле коронка ей не требовалась. Как вы можете представить, ей это совсем не понравилось, поэтому она решила отомстить стоматологу, подала на него в суд и выиграла дело.
О чем нам говорит эта история? Как мы уже знаем, людям совершенно не нужно быть испорченными для того, чтобы поступать неоднозначно, компрометируя себя. Люди с самыми благими намерениями могут попасть в ловушку человеческого разума, совершить ужасные ошибки и все равно считать себя хорошими и высокоморальными. Можно уверенно сказать, что большинство стоматологов — компетентные и заботливые профессионалы с самыми лучшими намерениями, желающие пациентам добра. Однако выясняется, что даже лучшие из них могут сбиться с истинного пути — и сбиваются, будучи пристрастными или следуя ложным убеждениям.
Подумайте об этом. Когда стоматолог решает купить новое оборудование, он, несомненно, верит, что это поможет ему лучше обслуживать пациентов. Однако покупка может оказаться весьма дорогой. Стоматолог хочет работать лучше, но ничуть не меньше он хочет компенсировать свои расходы: за счет пациентов, лечить которых он будет, используя эту прекрасную новую технологию. Сознательно или нет, он ищет различные способы решения этой задачи, и — вуаля! У пациента теперь стоит коронка; возможно, она была ему нужна, а возможно, и нет.
Справедливости ради замечу: не думаю, что стоматологи (или подавляющее большинство людей) тщательно изучают свои риски и выгоды, оценивая благосостояние пациентов, а затем осознанно делают выбор в свою пользу, жертвуя интересами больных. Нет. Подозреваю, что некоторые из стоматологов, купивших 3D-оборудование для протезирования, реагируют на сам факт значительного капиталовложения и хотят извлечь из него максимальную пользу.
Это желание начинает влиять на их профессиональные суждения, заставляя давать рекомендации и принимать решения, которые в первую очередь соответствуют их собственным интересам, а не интересам пациентов.
Вы можете подумать, что подобные примеры — когда поставщик услуг хочет двигаться одновременно в двух направлениях (обычно это называют конфликтом интересов) — встречаются довольно редко. Однако в реальности конфликт интересов влияет на наше поведение во многих ситуациях, как профессиональных, так и личных.
Могу я сделать на вашем лице татуировку?
Много лет назад я столкнулся с довольно странным конфликтом интересов. В той ситуации я оказался пациентом. История произошла, когда мне было чуть за 20 (примерно через шесть-семь лет после серьезной травмы[12]). Как-то раз я пришел в больницу на стандартный осмотр. Меня осмотрели несколько специалистов, а потом я направился к заведующему ожоговым центром — и был встречен с особым радушием.
— Дэн, для тебя есть новое, совершенно фантастическое лечение! — воскликнул врач. — Смотри: у тебя жесткие темные волосы, и каждый раз, когда ты бреешься (не важно, насколько тщательно), в местах, где они растут, остаются черные точки. Но на правой стороне твоего лица большой шрам, а на нем волосы не растут и темных точек нет, поэтому лицо кажется асимметричным.
И он прочитал мне небольшую лекцию о том, насколько важна симметрия с точки зрения эстетики и социализации. Я знал, насколько этот вопрос важен для него: несколько лет назад я уже слышал похожие слова, когда он убеждал меня пойти на сложную и длительную операцию, в ходе которой нужно было снять часть скальпа с кровеносными сосудами и воссоздать правую бровь (я согласился на эту сложную процедуру, длившуюся 12 часов, и остался доволен результатом).
Наконец он озвучил свое предложение:
— Мы начали делать небольшие татуировки на шрамах в виде точек, имитирующих волосы на лице после бритья, и нашим пациентам очень нравится, как они выглядят.
— Звучит заманчиво, — сказал я. — Могу я поговорить с кем-то, кто уже прошел эту процедуру?
— К сожалению, нет: это нарушило бы врачебную тайну, — был ответ. Вместо этого мне показали фотографии пациентов, но не лица полностью, а лишь те их части, где была сделана татуировка. Разумеется, на фотографиях все выглядело так, будто на лицах росла настоящая щетина.
Тут мне в голову пришла мысль:
— А что случится, когда я стану старше, а мои волосы поседеют? — спросил я.
— Никаких проблем, — ответил врач. — Когда это случится, мы просто немного осветлим татуировку с помощью лазера.
Довольный результатами беседы, он добавил:
— Приходи завтра в девять. Побрей левую часть лица, как обычно, и оставь щетину нужной тебе длины, а я сделаю на правой стороне лица татуировку. Гарантирую, что уже к полудню ты будешь гораздо счастливее и привлекательнее.
Я размышлял о его предложении по дороге домой и до самого вечера. И понял вот что: если я хочу получить максимальный эффект от этой процедуры, я до конца жизни буду вынужден бриться одинаково. В итоге на следующее утро я пришел к доктору и сказал, что его предложение меня не интересует.
Реакция на мои слова оказалась совершенно неожиданной.
— Что с тобой не так? — рявкнул он. — Тебе что, не хочется быть привлекательным? Ты получаешь удовольствие от того, что твое лицо асимметрично? Или тебе нравится вызывать жалость у девушек — может быть, так они чаще занимаются с тобой сексом? Я даю тебе шанс привести внешность в порядок простым и элегантным способом. Почему бы не воспользоваться им и не сказать мне спасибо?
— Не знаю, — сказал я. — Мне не очень нравится эта идея. Дайте мне еще время подумать.
Сложно поверить, что заведующий отделением разговаривал с пациентом столь грубо и агрессивно, но уверяю вас: именно так все и было. Раньше он никогда не общался со мной в подобной манере, и меня озадачил его напор. На самом деле он был замечательным доктором, увлеченным своим делом, который очень хорошо ко мне относился и изо всех сил старался вылечить. Более того, я не в первый раз отказывался от процедуры. Мне пришлось общаться с врачами на протяжении многих лет, и порой я сам выбирал, с каким методом лечения согласиться, а от какого отказаться. Но никто из них, включая и моего собеседника, главу ожогового отделения, никогда не пытался на меня давить.
Пытаясь разрешить эту загадку, я отправился к его заместителю, молодому врачу, с которым у нас сложились хорошие отношения, и попросил объяснить, почему глава отделения так на меня набросился.
— Все очень просто, — ответил заместитель. — Он уже испробовал эту процедуру на двух пациентах, и теперь ему нужен третий, чтобы опубликовать научную статью в одном из ведущих медицинских журналов.
Эта информация помогла мне понять, что я столкнулся с конфликтом интересов. Это был хороший врач, которого я знал много лет и который действительно обо мне заботился и относился с вниманием и состраданием. Но, несмотря на все это, он не смог справиться с конфликтом интересов. Эта история лишний раз показывает, насколько сложно преодолеть такой конфликт, когда он начинает искажать нашу картину видения окружающего мира.
Теперь, после того как и мои статьи неоднократно публиковались в научных изданиях, я стал куда лучше понимать суть конфликта интересов моего врача (далее мы поговорим об этом подробнее). Разумеется, я никогда не пытался силой заставить кого-то сделать на лице татуировку… Впрочем, для этого у меня еще есть время.
Ты — мне, я — тебе
Еще одна распространенная причина конфликта интересов — свойственная нам склонность отвечать добром на добро. Мы, люди, — социальные существа: когда кто-то помогает нам в сложную минуту или делает подарок, мы склонны чувствовать себя должниками. Это чувство, в свою очередь, может изменить наше представление о человеке и усугубить стремление помогать ему в будущем.
Одно из самых интересных исследований на тему последствий оказанной помощи провели Энн Харви, Ульрих Кирк, Джордж Денфилд и Рид Монтегю (работавшие в то время в Медицинском колледже Бейлора). Энн и ее коллеги пытались выяснить, может ли оказанная поддержка влиять на эстетические предпочтения.
Когда участники эксперимента прибыли в нейробиологическую лабораторию колледжа, они узнали, что им предстоит оценить произведения искусства из двух художественных галерей. Одна называлась «Третья луна», другая — «Одинокий волк». Испытуемым также сообщили, что вознаграждение за участие в эксперименте — щедрый жест со стороны галеристов, причем некоторым участникам было сказано, что их спонсорам выступила «Третья луна», а другим — что их участие оплатила галерея «Одинокий волк».
Вооружившись этой информацией, участники приступили к основной части эксперимента. Каждого из них помещали в магнитно-резонансный томограф, большое устройство с цилиндрическим отверстием в центре, и просили сохранять неподвижное положение. Как только участники оказывались внутри сканера, им показывали изображения 60 картин, одно за другим. Все картины были написаны западными художниками в период с XIII по XX век и относились к разным живописным жанрам, от классического до абстрактного. Однако испытуемые видели не только картины. В левом верхнем углу каждого изображения находился красочный логотип галереи, в которой эту картину можно было купить. Для участника это означало следующее: некоторые из увиденных им картин предоставила галерея, оплатившая его участие в эксперименте, а некоторые — другая галерея, не имевшая к нему отношения.
После сканирования испытуемых попросили еще раз взглянуть на картины с логотипами, но на этот раз они должны были оценить каждую по шкале «нравится/не нравится».
Сравнив оценки, Энн и ее коллеги выяснили, какие рисунки больше понравились участникам: предоставленные «Третьей луной» или «Одиноким волком». Как вы, наверное, уже поняли, участники дали более высокую оценку тем картинам, которые были предоставлены галереей-спонсором.
Вы можете подумать, что такой выбор был проявлением вежливости, в том числе и неискренней: так бывает, когда мы хвалим хозяйку званого ужина за довольно посредственную еду. И вот здесь помогли данные магнитно-резонансного исследования. Сканирование подтвердило полученные результаты. Присутствие логотипа спонсора активизировало деятельность участков мозга, связанных с удовольствием (в частности, вентромедиальной префронтальной коры, отвечающей за мышление высшего порядка, в том числе за формирование ассоциаций и поиск смысла). Это дало основание предположить, что любезность со стороны галереи-спонсора оказала глубокое влияние на восприятие участниками эксперимента произведений искусства. И вот еще что. Когда ученые спрашивали участников, влияло ли наличие логотипа спонсора на их предпочтения в области искусства, все как один отвечали: «Ни в коем случае».
Более того, участники получили разное вознаграждение за время, потраченное на тестирование. Кто-то получил от галереи-спонсора 30 долларов, а кто-то и 100 (максимальная сумма составила 300 долларов). Выяснилось, что благосклонность участников к картинам из той или иной галереи росла с увеличением вознаграждения. Активность мозга была самой низкой, когда платеж составлял 30 долларов, выше — когда он равнялся 100 долларам и самой высокой — когда платеж составлял 300 долларов.
Эти результаты дают основания для следующего предположения. Когда кто-то (человек или организация) делает что-то для нас, мы перестаем быть объективными в отношении всего, что связано с дающей стороной. И наша пристрастность тем сильнее, чем значительнее ее причина (в описанном эксперименте — размер вознаграждения). Особенно интересным мне кажется тот факт, что финансовая поддержка (оплата участия в исследовании) оказала влияние на предпочтения субъекта в области искусства, хотя, по сути, не имела ничего общего с самим искусством (картины не были созданы в галереях, которые выступили спонсорами эксперимента). Важно отметить, что участники знали: галерея выплатит им компенсацию вне зависимости от того, как они оценят картины. Тем не менее платеж (и его величина) сформировал ощущение взаимности, которое и повлияло на их предпочтения.
Занимательная фармацевтика
Некоторые люди и компании знают о человеческой предрасположенности к взаимным одолжениям и тратят много времени и денег, пытаясь заставить окружающих чувствовать себя должниками. Мне кажется, что чаще всего этим занимаются те, чья профессиональная деятельность во многом зависит от существования конфликта интересов. Я имею в виду лоббистов, работающих на самом высоком уровне. Они занимаются тем, что доносят до политиков некую информацию, однако большую часть времени тратят на то, чтобы заставить тех чувствовать себя обязанными — в надежде, что, испытывая это чувство и стремясь от него избавиться, политики проголосуют в интересах лобби.
Однако лоббисты не единственные, кто неустанно пытается использовать других людей в своих интересах. Давайте посмотрим, чем занимаются представители фармацевтических компаний. Их работа состоит в том, чтобы ходить по врачам и убеждать их покупать то или иное медицинское оборудование и лекарства, позволяющие излечить все болезни, от астмы до ящура. В начале беседы они нередко дарят докторам ручки или блокноты с логотипом своей компании или даже несколько бесплатных образцов лекарственного препарата. Небольшие подарки подталкивают врачей к тому, чтобы выписывать лекарство чаще — и все из-за желания отблагодарить.
Однако небольшие подарки, сувениры и бесплатные образцы лекарств — лишь небольшая часть арсенала психологических трюков, которым пользуются представители фармацевтических компаний для того, чтобы найти подход к врачам. «Они используют любые методы», — сказал один мой друг и коллега. По его словам, фармацевтические компании, особенно небольшие, учат торговых представителей относиться к врачам как к богам. Помимо этого, они зачастую приглашают на работу представителей с привлекательной внешностью. Весь процесс отлажен до мелочей. Каждый торговый представитель имеет доступ к базе данных, где во всех деталях указано, какие именно лекарства (выпускаемые как самой компанией, так и ее конкурентами) прописывал каждый врач в течение последнего квартала. Торговые представители дотошно выясняют, каковы гастрономические предпочтения докторов и их помощников, в какое время суток они более всего склонны к встрече и даже какой тип представителя вызывает у доктора наиболее позитивную ответную реакцию. Если выясняется, что доктор предпочитает проводить больше времени с торговым агентом — женщиной, ее рабочий график могут изменить, чтобы она заходила к нему чаще. Если врач склонен к военной дисциплине, к нему направляют ветерана боевых действий. Усилия торговых представителей не ограничиваются лишь общением с самим доктором: эти люди стремятся втереться в доверие и к его окружению. Поэтому в клинику они приходят с конфетами и другими мелкими подношениями для медсестер и ассистентов врача, обеспечивая себе всестороннюю поддержку.
Вот один из особенно интересных методов, в просторечии называемый «халява»: врачу дают возможность время от времени заходить в кафе или ресторан (из тщательно составленного «рекомендованного» списка) и бесплатно заказывать любое понравившееся блюдо (навынос). Иногда такой подход распространяется также на студентов или практикантов. Самым креативным примером применения этой стратегии, получившим широкую известность, стала так называемая черная кружка с логотипом компании, которая вручалась врачу и другим сотрудникам. Компания, использовавшая этот метод, договорилась с сетью кофеен (не будем ее называть) о том, что обладатель кружки мог зайти в любое заведение сети и бесплатно получить столько эспрессо или капучино, сколько пожелает. Эта черная кружка оказалась настолько востребованной, что обладание ею стало символом особого статуса врача-практиканта или студента-медика. По мере того, как подобные методы становились все более экстравагантными, менялись и правила, принятые в больницах и в Американской медицинской ассоциации, — с целью ограничить применение столь агрессивных маркетинговых тактик. Разумеется, с ужесточением правил торговым представителям приходится искать новые подходы, позволяющие оказывать влияние на врачей. «Гонка вооружений» продолжается…[13]
Несколько лет назад мы с моей коллегой Джанет Шварц (преподавателем Тулейнского университета) пригласили на ужин торговых представителей нескольких фармацевтических компаний. В сущности, мы попытались навязать им их собственную игру: отвели в хороший ресторан и не скупились на вино. Когда алкоголь подействовал, гости поделились с нами некоторыми секретами своей деятельности. То, что мы услышали, было поистине шокирующим.
Представьте себе одного из наших собеседников, симпатичного и очаровательного молодого человека чуть старше 20. Такому не откажет ни одна девушка, вздумай он пригласить ее на свидание. Молодой человек рассказал, как однажды убедил весьма несговорчивую женщину-врача посетить информационный семинар, посвященный лекарству, продвижением которого он занимался… согласившись сходить с ней на занятие бальными танцами. Это была услуга за услугу, взаимовыгодный компромисс: торговый представитель делал личное одолжение доктору, а та согласилась взять у него бесплатные образцы лекарства и рекламировать его своим пациентам.
По словам нашего собеседника, еще одним распространенным методом было угощение подчиненных врача разными деликатесами (по-моему, работать медсестрой или личным ассистентом очень выгодно). Дело дошло до того, что сотрудники одной из клиник, представлявшей интерес для торговых представителей, потребовали, чтобы в определенные дни им на обед доставляли стейки или лобстеров. Мы были шокированы, узнав, что некоторые врачи порой приглашали торговых представителей в свой кабинет во время осмотра пациентов: представляясь «экспертами», торговцы сами рассказывали больным о новом лекарстве.
Не менее пугающими оказались истории, рассказанные представителями компаний, торгующих медицинским оборудованием. Мы узнали, что в их среде принято рекламировать то или иное устройство прямо в операционной.
Мы с Джанет были удивлены, насколько хорошо торговые представители знали психологию и разбирались в классических стратегиях убеждения, насколько умело они их использовали. Нам рассказали еще об одной умной тактике, когда врача приглашают прочесть коллегам небольшую лекцию о том или ином препарате. Торговых представителей не слишком заботило, какие знания получат слушатели. На самом деле они были заинтересованы в том эффекте, который оказывала прочитанная лекция на самого докладчика. Выяснилось, что даже после короткого выступления о преимуществах того или иного лекарства оратор начинал верить собственным словам и чаще прописывал этот препарат своим пациентам. Психологические исследования доказывают: мы чаще верим тому, что произносим сами, даже если причина, по которой мы сделали то или иное заявление, более не актуальна (в случае с врачами, выступавшими перед коллегами, они получали вознаграждение только за лекцию, а не за то, что сами начинали выписывать лекарство, которое рекламировали). Здесь в игру вступает когнитивный диссонанс. Врачи начинают верить своим же словам: если они рассказывают другим о пользе того или иного лекарства, это лекарство не может быть плохим. Их собственные убеждения меняются, подстраиваясь под сказанное, и они сами начинают выписывать рекламируемый препарат.
Торговые представители рассказали нам и о других трюках, которые они проделывают, то и дело меняя свое обличье, подобно хамелеону: играя голосом, расставляя акценты, демонстрируя те или иные политически убеждения и т. д. Они искренне гордились своей способностью «расколоть» врача, втереться к нему в доверие. Иногда отношения переходили из профессиональной сферы в личную: некоторые торговые представители «по-дружески» ездили с врачами на рыбалку или играли в баскетбол. Подобный совместный досуг позволял докторам выписывать рецепты с легкой душой: ведь так они помогают своим «приятелям». Разумеется, врачи не осознавали, что подобные действия ставят под сомнение их профессиональную этику. В их представлении они просто наслаждались заслуженным отдыхом в компании друга, с которым — так уж получилось — у них общее дело. Во многих случаях врачи не понимали, что ими манипулировали, но именно так и обстояли дела.
Притворные любезности лишь одна сторона вопроса; есть другие примеры, в которых конфликт интересов куда более очевиден. Например, когда производитель лекарств платит доктору несколько тысяч долларов за консультации. Или передает в пользование медицинскому исследовательскому центру целое здание; или делает щедрый благотворительный взнос в надежде повлиять на результаты исследований. Такие действия приводят к явному конфликту интересов, особенно в медицинских учебных заведениях, когда ангажированный преподаватель навязывает свое предвзятое мнение студентам-медикам и даже пациентам.
Дафф Уилсон, репортер газеты The New York Times, привел мне пример такого поведения. Несколько лет назад один из студентов Гарвардской медицинской школы заметил, что его преподаватель по фармакологии слишком активно пропагандирует достоинства препарата по борьбе с холестерином, не заостряя внимание на его побочных эффектах. Изучив информацию, доступную в интернете, студент обнаружил фамилию преподавателя в платежных ведомостях 10 фармацевтических компаний, пять из которых изготавливали антихолестериновые препараты. И это не единственный пример. По словам Уилсона, «в соответствии с правилами о разглашении информации примерно 1600 из 8900 преподавателей и лекторов Гарвардской медицинской школы в своих отчетах декану сообщили о том, что они или члены их семей имели финансовые интересы в компаниях, так или иначе связанных с предметом их преподавания, исследований или клинической практики». А если преподаватели переходят к публичным рекомендациям, выдавая их за академические знания, это означает, что мы столкнулись с серьезной проблемой.
Финансы: подтасовка фактов
Если вы думаете, что только мир медицины полон конфликтов интересов, вспомним о другой профессии, в которой они встречаются еще чаще. Да, я говорю о «стране чудес» — сфере финансовых услуг.
Предположим, что на дворе 2007 год и вы только что получили фантастическую работу в банке на Уолл-стрит. Вы можете рассчитывать на годовую премию в размере около пяти миллионов долларов, но только в том случае, если будете «правильно» относиться к ипотечным векселям (или другим современным финансовым инструментам). Вам хорошо платят за то, чтобы вы поддерживали искаженное мнение о реальности, однако вы и сами не замечаете, насколько злую шутку может сыграть размер обещанного вознаграждения с вашим собственным восприятием действительности. Напротив, вы очень скоро уверите себя в том, что эти векселя так же надежны, как ваша убежденность в их стабильности.
Признайте, что за ипотечными векселями будущее, — и вы тут же перестанете замечать связанные с ними риски. Более того, вам будет крайне сложно оценить их реальную стоимость. Открыв огромную электронную таблицу, вы пытаетесь оценить истинную ценность той или иной бумаги. Вы меняете процентную ставку с 0,934 на 0,936 и видите, что цена вдруг подпрыгивает до небес. Вы продолжаете играть с цифрами, пытаясь найти параметры, в максимальной степени отражающие «реальность», и краем глаза замечаете, как выбор того или иного параметра влияет на ваше личное финансовое будущее. Вы занимаетесь этим еще какое-то время, пока не убеждаетесь в том, что таблица приняла идеальный вид, а цифры в ней отражают единственно верный способ оценки ипотечных векселей. Вы не испытываете никаких угрызений совести, потому что уверены в полной своей объективности.
Более того, вы никак не связаны с наличными. Вы просто играете с цифрами, которые весьма далеки от настоящих денег. Их абстрактная природа позволяет вам воспринимать свои действия скорее как игру, неспособную серьезно повлиять на жизнь людей, их финансовое положение, размер пенсионных накоплений. Кроме того, вы не одиноки. Вы понимаете, что умники-финансисты, сидящие в соседнем офисе, занимаются примерно тем же. Сравнивая свои результаты с их результатами, вы понимаете, что некоторые из ваших коллег зашли еще дальше в своем стремлении приблизиться к идеалу. Веря в свою способность мыслить рационально, а также в то, что рыночные механизмы всегда исправны, вы еще больше склоняетесь к тому, что ваши действия — а также действия всех остальных (мы еще поговорим об этом в главе 8) — абсолютно верны. Не так ли?
Разумеется, это совсем не так (вы еще помните о финансовом кризисе 2008 года?), но, учитывая, о каких суммах идет речь, нам кажется вполне естественным немного мухлевать. Человеку свойственно вести себя таким образом. Ваши действия приводят к большим проблемам, но вы этого не видите. Ваш конфликт интересов «подпитывается» целым рядом факторов: вы не работаете с настоящими деньгами, финансовые инструменты невероятно сложны, а каждый из ваших коллег занимается тем же самым.
Увлекательный (и вместе с тем удручающий) документальный фильм «Инсайдеры», получивший премию «Оскар», в деталях рассказывает, как отрасль финансовых услуг шаг за шагом развращала правительство США и как системная коррупция привела к ослаблению контроля над деятельностью воротил с Уолл-стрит и финансовому краху 2008 года. Фильм также описывает случаи подкупа известных ученых (профессоров, ректоров, глав факультетов и университетских преподавателей) — с тем чтобы, высказывая свое экспертное мнение, они учитывали интересы финансистов и дельцов с Уолл-стрит. Если вы посмотрите этот фильм, то наверняка удивитесь легкости, с которой ученые и эксперты были готовы продать себя, и подумаете, что сами никогда так не поступили бы.
Но перед тем, как вы окончательно убедите себя в том, что обладаете высочайшими моральными качествами, представьте: мне (или вам) вдруг выплатили огромную сумму за работу в комитете по аудиту какого-нибудь Гигантбанка. Если значительная часть моего дохода зависит от финансовой состоятельности этого банка, я, скорее всего, не буду чересчур придирчив в отношении его действий. При должном уровне вознаграждения я, вероятно, буду реже говорить о прозрачности инвестиций или о том, что финансовые компании должны делать все возможное, чтобы избежать конфликта интересов. Разумеется, я в таком комитете не состою, поэтому мне несложно представить, как часто банки совершают действия, заслуживающие порицания.
Конфликт интересов в академической среде
Размышляя о вездесущности конфликта интересов и о том, как сложно бывает обнаружить его в нашей жизни, вынужден признать, что и сам подвержен его влиянию.
Нас, ученых, порой приглашают выступить в качестве консультантов или экспертов в суде. Вскоре после того, как я занялся научной деятельностью, крупная юридическая компания пригласила меня выступить в таком качестве. Я знал, что некоторые из моих более опытных коллег регулярно подрабатывали, составляя экспертные заключения, что хорошо оплачивалось (хотя сами они утверждали, что делают это не ради денег). Из любопытства я изучил несколько старых судебных дел и искренне поразился тому, как однобоко трактовались результаты научных исследований. Более того, я был шокирован тем, насколько уничижительно эксперты высказывались о мнениях и квалификации экспертов противной стороны, которые в большинстве случаев тоже были весьма уважаемыми учеными.
Тем не менее я решил попробовать (разумеется, не ради денег) и получил довольно высокий гонорар за свое экспертное мнение[14]. Довольно быстро я осознал, что юристы, с которыми я работал, пытались «взрастить» во мне точку зрения, которая помогла бы им выиграть дело. Они не делали этого грубо и навязчиво. Они не говорили мне прямым текстом, что определенные вещи пойдут на пользу их клиентам. Вместо этого они попросили меня описать все исследования, применимые к данному судебному разбирательству. Далее они высказали мнение, что некоторые факты, противоречащие их позиции, могли возникнуть из-за методологических ошибок, а исследования, подтверждавшие их точку зрения, весьма важны и выполнены безукоризненно. Они осыпали меня комплиментами всякий раз, когда моя интерпретация результатов исследования оказывалась для них полезной. По прошествии нескольких недель я обнаружил, что довольно быстро принял точку зрения тех, кто мне платил. Эта история заставила меня всерьез усомниться в способности человека оставаться объективным, когда ему платят за его мнение (сейчас, когда я пишу о том, что мне самому не хватает объективности, я уверен, что никто и никогда больше не попросит меня выступить экспертом — и, возможно, оно и к лучшему).
Один пьяный человек и точка отсчета
Еще один случай, заставивший меня осознать всю опасность конфликта интересов, связан с исследованием, которое проводил я сам.
В свое время мои друзья из Гарварда любезно позволили мне поработать в лаборатории университета. Предложение было особенно привлекательным, поскольку для своих экспериментов они приглашали жителей окрестных районов, а не одних лишь студентов.
Как-то раз я проводил эксперимент в области принятия решений. Как всегда в таких случаях, я предположил, что уровень эффективности эксперимента будет зависеть от его условий. Так бы и вышло, если бы не один участник. Условия эксперимента были таковы, что я ожидал от этого человека самых высоких результатов, однако они оказались намного ниже, чем у других. Это меня обеспокоило. Изучив его данные более тщательно, я обнаружил, что он на 20 лет старше остальных. Кроме того, я вспомнил, что один из участников эксперимента, пожилой мужчина, заявился в лабораторию в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения.
Как только я понял, что это один и тот же человек, я решил исключить из результатов эксперимента его показатели, поскольку было очевидно: в этом состоянии мужчина вряд ли способен принимать осознанные решения. Так я и сделал, и результаты кардинально изменились: я получил именно то, что ожидал увидеть. Однако несколько дней спустя я задумался о том, каким образом пришел к решению исключить данные того пьяницы. Я спросил себя: «Что, если бы этот участник оказался в другой группе (той, от которой я ожидал более низких результатов)?» Если бы это произошло, я, вероятно, не обратил бы внимания на его ответы. А если так, то, скорее всего, я и не подумал бы исключать его данные.
Разумеется, я легко мог убедить себя в том, что принял правильное решение. Но что, если мужчина не был пьян? Вдруг он был болен или существовали другие факторы, объяснявшие его состояние и не связанные с употреблением алкоголя? Нашел бы я иное оправдание тому, что его показатели были исключены из результатов эксперимента? Мы еще узнаем из главы 7 («Изобретательность и нечестность: все мы фантазеры»), что благодаря креативности можно найти оправдание даже самым эгоистичным поступкам, продолжая считать себя образцом честности.
Я решил сделать две вещи. Прежде всего я провел эксперимент заново, чтобы еще раз проверить результаты, и на этот раз все прошло как надо. Затем я решил, что будет нелишним сформулировать стандарты, которые позволят исключать из эксперимента некоторых участников (например, не тестировать нетрезвых людей или тех, кто не способен понять инструкции). Правила для такого рода исключений должны быть оговорены заранее, до начала эксперимента, а не после изучения полученных данных.
Что я вынес из того случая? Когда я принял решение исключить из результатов исследования показатели пьяного человека, я искренне верил, что делаю это во имя науки: как если бы я героически сражался за чистоту данных, без которой правде не бывать. Мне не пришло в голову, что я, возможно, действую в собственных интересах; совершенно очевидно, что у меня была иная мотивация: увидеть именно те результаты, которых я ожидал. В более широком смысле я в очередной раз осознал, насколько необходимы правила, способные обезопасить нас от самих себя.
Раскрытие информации: панацея?
Как же поступать в тех случаях, когда возникает конфликт интересов? Большинству людей на ум приходит идея «прозрачности». Базовая предпосылка, оправдывающая эту идею, заключается в следующем: публичные разъяснения любого действия — благо для всех. Согласно этой логике, если бы профессионалы открыто рассказывали о своих побудительных мотивах клиентам, те могли бы сами оценить, в какой степени полагаться на советы экспертов (несколько предвзятые), и на основании этой оценки принимали бы более осознанные решения.
Будь полная открытость информации общепринятым правилом, врачам пришлось бы информировать своих пациентов о том, что они лично владеют оборудованием, нужным для проведения рекомендуемых процедур. Или, выписывая рецепт, сообщать, что они являются консультантами производителей лекарственных средств — и получают за это деньги. Финансовым консультантам пришлось бы информировать своих клиентов о вознаграждениях, комиссионных и прочих выплатах, которые они получают от поставщиков финансовых услуг. Получив такую информацию, потребители перестали бы слепо доверять профессионалам и принимали бы более взвешенные решения. В теории полная прозрачность информации кажется фантастически прекрасным способом решения проблем: она реабилитирует профессионалов, признавших факт конфликта интересов, и дает их клиентам возможность понять, чем обусловлен тот или иной совет.
Однако на практике раскрытие информации не всегда является эффективным решением проблемы. Порой оно способно ухудшить положение дел. Чтобы пояснить эту мысль, позвольте рассказать об эксперименте, который провели Дэйлин Кейн (преподаватель Йельского университета), Джордж Ловенстайн (преподаватель Университета Карнеги‒Меллона) и Дон Мур (преподаватель Калифорнийского университета в Беркли). Его участники исполняли одну из двух ролей в некой игре (стоит отметить, что ученые называют «игрой» совсем не то, что любой здравомыслящий ребенок). Некоторые играли роль оценщиков: посмотрев на банку, полную мелких монет, они должны были как можно точнее угадать общую сумму; от этого зависело их вознаграждение. Чем точнее они называли сумму, тем больше денег получали, и не важно, ошибались они в большую или в меньшую сторону.
Остальные участники выступали в роли советников: их задача состояла в том, чтобы давать советы оценщикам, когда те пытались угадать, сколько денег в банке (представьте своего финансового консультанта, дающего более простой совет, чем обычно). Интересно, что оценщики и советники действовали в разных условиях. Если оценщикам показывали банку со значительного расстояния и в течение всего нескольких секунд, у советников было больше времени для ее изучения; кроме того, им сообщали, что сумма в банке составляет от 10 до 30 долларов. Это давало советникам информационное преимущество. Они становились своего рода экспертами в области оценки содержимого банки, а у оценщиков появлялась весомая причина доверять их мнению (точно так же мы полагаемся на мнение экспертов во многих областях жизни).
Правила оплаты труда тоже были разными. В контрольной группе советники получали вознаграждение пропорционально точности догадки оценщиков: в этой ситуации не было никакого конфликта интересов. В группе, действовавшей в условиях конфликта интересов, советникам платили больше, если оценщик завышал сумму в банке. Причем чем больше он заблуждался, тем выше был гонорар советника. Иными словами, если оценщик называл сумму, превышавшую реальную на один доллар, это было хорошо для советника, но еще большую выгоду он получал, если оценщик ошибался (в сторону увеличения) на три или четыре доллара. Чем сильнее заблуждался оценщик, тем меньше получал он сам и тем больше — советник.
Чем же закончился эксперимент? Вы наверняка догадались. В контрольной группе советники оценили среднюю сумму в 16,5 доллара; те, кто действовал в условиях конфликта интересов, сказали, что сумма в банке превышает 20 долларов. То есть расчетный показатель увеличился почти на четыре доллара. Конечно, во всем можно найти положительную сторону и сказать себе: «Что ж, по крайней мере они не говорили о 36 долларах или еще большей сумме». Если вы именно так и подумали, примите во внимание еще две вещи. Во-первых, советник не мог слишком завысить сумму, ведь оценщик и сам видел банку. Если бы сумма была слишком большой, оценщик просто не принял бы совет. Во-вторых, вспомните: большинство людей мошенничают в пределах, позволяющих им сохранять хорошее мнение о себе. В данном случае величина поправочного коэффициента составила четыре доллара (или около 25 % от общей суммы).
Однако вся важность эксперимента проявилась при выполнении третьего условия, когда к конфликту интересов добавилось раскрытие информации. Здесь плата советнику была такой же, как и в условиях конфликта интересов. Однако на этот раз советник должен был сообщить оценщику о том, что получит больше денег в случае, если оценщик ошибется и завысит сумму. Можно предположить, что в этом случае оценщик должен был принять к сведению заинтересованность советника и скорректировать его совет. Разумеется, с точки зрения оценщика, такая информация крайне важна, но как необходимость раскрытия информации повлияла на советников? Они оказались более сдержанны в своих оценках? Раскрытие информации привело к уменьшению поправочного коэффициента? Советники чувствовали себя комфортно, называя намного завышенные суммы? И вопрос на миллиард долларов: какое из двух действий оказалось более значимым? Что перевесило: «поправка на точность» совета, сделанная оценщиком, или преувеличение советником суммы в банке?
Хотите узнать результаты? В условии «конфликт интересов плюс раскрытие информации» советники увеличили предполагаемую сумму еще на четыре доллара (с 20,16 до 24,16 доллара). А что же сделали оценщики? Как вы могли догадаться, они действительно скорректировали экспертную оценку, но лишь на два доллара. Другими словами, хотя оценщики и приняли к сведению информацию, раскрытую советниками, она почти не повлияла на их оценку. Как и мы все, оценщики не смогли в полной мере рассчитать силу воздействия на советников конфликта интересов.
Основной вывод из этой ситуации можно сформулировать так: раскрытие информации привело к еще большему искажению; оценщики заработали меньше денег, а советники — больше. Я не уверен, что раскрытие информации всегда будет ухудшать положение дел клиентов, но совершенно очевидно, что политика полной открытости не всегда будет приводить к улучшениям.
Что делать?
Теперь, когда мы стали немного лучше разбираться в сути конфликта интересов, нам ясно, насколько серьезные проблемы он может создавать. Мало того, что эти конфликты вездесущи: зачастую мы даже неспособны полностью оценить степень их влияния на нас и на окружающих. Так что же делать?
Нехитрая, но эффективная рекомендация: попробуйте полностью избавиться от конфликта интересов (конечно, сказать куда проще, чем сделать). К примеру, в области медицины это могло бы означать отсутствие у врачей права использовать принадлежащее лично им оборудование для диагностики или лечения пациентов. Вместо этого мы должны были бы настаивать на участии независимой организации, никак не связанной с врачом и с производителями медицинского оборудования. Мы могли бы запретить врачам консультировать фармацевтические компании или покупать их акции. В конце концов, если мы не хотим, чтобы у врачей возникал конфликт интересов, их доход не должен зависеть от количества и видов рекомендуемых ими процедур или лекарств. Аналогичным образом, если мы хотим снизить влияние конфликта интересов на деятельность финансовых консультантов, нам не следует разрешать им получать вознаграждение за действия, не связанные с интересами их клиентов: никаких комиссионных за услуги, откатов и дополнительных платежей за достижение поставленных целей.
Несмотря на всю важность и необходимость устранения конфликта интересов из нашей жизни, на практике добиться этого довольно сложно. Достаточно посмотреть на деятельность всевозможных посредников, юристов — или автомехаников. То, как оплачивается их труд, ставит их в условия жесточайшего конфликта интересов: ведь сначала они дают рекомендации, а потом извлекают прибыль из фактически проделанной работы или оказанных услуг, в то время как их клиенты не обладают ни опытом, ни рычагами давления. Задумайтесь: существует ли модель оплаты труда, которая не предполагала бы конфликта интересов? Если вы уже размышляли об этом, то, скорее всего, согласитесь: создать ее довольно сложно (если вообще возможно). Важно также понимать: хотя конфликты интересов и вызывают проблемы, порой для этого есть веские основания. Возьмем, к примеру, врачей (стоматологов), проводящих лечение пациентов с использованием принадлежащего лично им оборудования. С точки зрения конфликта интересов эта практика порочна. Но у такой ситуации есть и преимущества: скорее всего, профессионалы будут покупать оборудование, которому доверяют; они, вероятно, станут экспертами в тех методах диагностики и лечения, в которых используется это оборудование; это удобнее для пациента; кроме того, врач может даже провести некоторые исследования, которые помогут усовершенствовать оборудование или способы его использования.
Подводя итог, скажу: невероятно сложно придумать систему оплаты труда, при которой не возникает конфликт интересов и которая на нем не основана. Даже если бы мы могли избежать всех конфликтов интересов, за это пришлось бы заплатить слишком высокую цену, выражающуюся в негибкости и росте бюрократической составляющей; именно поэтому не стоит слишком рьяно призывать к введению драконовских правил и ограничений (например, лишая врачей права общаться с торговыми представителями фармацевтических компаний и приобретать в личную собственность медицинское оборудование). В то же время я считаю, что очень важно понимать, в какой степени мы можем оказаться ослепленными своей финансовой мотивацией. Следует признать, что у ситуаций, в которых возникает конфликт интересов, есть существенные недостатки, — и попытаться избегать их, если ожидаемая выгода очевидно не покрывает возможные издержки.
Думаю, вы понимаете, что во многих отраслях конфликт интересов недопустим. Вот лишь несколько примеров: советники по финансам, имеющие побочные заработки; аудиторы, одновременно работающие на компанию-клиента в качестве консультантов; финансисты, которые получают немалые бонусы в случае успеха своего клиента, но при этом не теряют ни цента, даже если тот остается без гроша в кармане. Это рейтинговые агентства, получающие деньги от компаний, кредитоспособность которых они оценивают. Это политики, обменивающие «пожертвования» и взносы корпораций или лобби на голоса. Мне кажется, во всех этих случаях мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы избавиться от конфликта интересов — в большей степени благодаря нормативно-правовому регулированию.
Возможно, вы скептически относитесь к возможности урегулирования этих процессов на законодательном уровне. Но даже в этом случае, без поддержки правительства или профессиональных организаций, мы как потребители должны признать опасность конфликта интересов и попытаться найти таких поставщиков услуг, в деятельности которых он присутствует в минимальной степени. С помощью власти, которую нам дают наши бумажники, мы можем заставить своих подрядчиков соответствовать этому требованию.
Наконец, в случаях, когда предстоит принять серьезное решение и мы понимаем, что человек, дающий нам совет, необъективен, потому что руководствуется собственными интересами (подобно врачу, который предлагает сделать татуировку на лице пациента), имеет смысл потратить еще немного времени и энергии на то, чтобы услышать мнение третьей стороны, не имеющей в этой ситуации никаких финансовых интересов.
Глава 4. Почему мы ошибаемся, когда устаем
Представьте, что закончился долгий и тяжелый для вас день. Допустим, это день переезда, самый утомительный из всех. Вы совершенно выбились из сил. Кажется, даже ваши волосы устали. Разумеется, о приготовлении еды не может быть и речи. У вас нет сил даже на то, чтобы найти среди множества коробок ту, где лежат сковорода, тарелки и вилки. Совершенно очевидно, что сегодня ваш ужин — еда навынос.
В вашем квартале три ресторана. Первый — небольшое бистро, в меню которого есть свежие салаты и сэндвичи. Второй — заведение с китайской кухней: даже запахи, доносящиеся оттуда, кажутся вам жгучими, как перец. Есть неподалеку и скромная семейная пиццерия, славящаяся огромными порциями. В какой ресторан вы направитесь, превозмогая усталость? Блюда какой кухни предпочтете? Для сравнения подумайте о том, какой выбор сделали бы после нескольких часов, проведенных с книжкой в руках в расслабляющей атмосфере собственного сада.
Для тех, кто еще не заметил: в дни, когда вы испытываете значительный стресс, вы склонны поддаваться искушениям и выбирать менее здоровые варианты. Китайская еда навынос и пицца, в сущности, синонимы переезда: они вызывают в памяти образ молодой, привлекательной, усталой, но счастливой парочки, уплетающей китайскую лапшу в окружении коробок с вещами. И, конечно, все мы помним, как друзья по колледжу угощали нас пиццей и пивом в благодарность за помощь с переездом.
Эта мистическая связь между усталостью и стремлением к нездоровой еде — не просто плод вашего воображения. Именно из-за нее люди, испытывающие сильный стресс, оказываются не в состоянии сидеть на диете или снова берутся за сигарету.
Тортик или фрукты?
В основе этой зависимости — борьба между двумя составляющими нашей личности: импульсивной (эмоциональной) и рациональной (склонной к созерцанию и размышлению). Здесь нет ничего нового. О конфликтах между желаниями и мотивами рассказывают многие шедевры художественной литературы (и научные труды), созданные в разные периоды человеческой истории. Достаточно вспомнить Адама и Еву, поддавшихся искушению съесть сочное яблоко, чтобы получить запретное знание. Или Одиссея, который знал, что сирены захотят соблазнить его и команду своим пением, и приказал морякам заткнуть уши воском, а себя привязать к мачте. Так он убил двух зайцев — смог послушать прекрасное пение и избавился от опасений, что его люди, сойдя с ума, погубят себя и корабль. Ну и, конечно, один из самых трагических примеров борьбы между эмоциями и рассудком — это история любви Ромео и Джульетты, которые оставили без внимания предупреждение отца Лоренцо о том, что необузданная страсть ведет к беде.
Конфликт разума и желаний блестяще продемонстрирован в эксперименте, который провели Баба Шив (преподаватель Стэнфордского университета) и Саша Федорихин (преподаватель Индианского университета). Они предположили, что люди гораздо чаще подвергаются искушению, когда та часть мозга, которая отвечает за принятие обоснованных решений, занята чем-то другим. Чтобы снизить способность участников к эффективному мышлению, Баба и Саша не удаляли часть их мозга (как иногда делают исследователи животных) и не использовали магнитные импульсы, препятствующие нормальной его работе (хотя некоторые устройства могут это делать). Вместо этого они решили усложнить процесс принятия решений участниками эксперимента, используя то, что психологи называют когнитивной нагрузкой. Проще говоря, они хотели выяснить, способствует ли напряженная работа мозга, занятого множеством мыслей, уменьшению осознанности — благодаря которой мы противостоим искушению — и росту склонности к уступкам.
Эксперимент строился следующим образом: ученые разделили участников на две группы и попросили одних запомнить двузначное число (например, 35), а других — семизначное (например, 7 581 280). Чтобы получить плату за участие в исследовании, нужно было повторить это число наблюдателю, находившемуся в другой комнате в конце коридора. Что, если бы участники не запомнили число? Не было бы никакого вознаграждения.
Испытуемые выстроились в ряд, и каждому показали одно из двух чисел (семизначное или двузначное). Стараясь не забыть увиденное, они устремились по коридору в направлении второй комнаты. Однако на их пути вдруг оказался сервировочный столик с огромными кусками шоколадного торта и аппетитно выглядящими фруктами. Когда участники проходили мимо столика, стоявший рядом экспериментатор говорил им: «Дойдите до второй комнаты, назовите число и получите один из двух вкусных призов. Но сделать выбор — торт или фрукты — нужно прямо сейчас, стоя у сервировочной тележки». Участники выбирали десерт, получали листок бумаги, на котором было записано, что они выбрали, и шли во вторую комнату.
Какие решения принимали участники в условиях большей или меньшей когнитивной нагрузки? Поддались ли они импульсивному «Ух ты, тортик!» или выбрали полезный фруктовый салат (что было бы рационально)? Как и подозревали Баба и Саша, ответ отчасти зависел от того, какое число нужно было запомнить участнику. Те, кто бежал по коридору, повторяя про себя «35» — и это было легко, — гораздо чаще выбирали фрукты, чем те, кто изо всех сил старался не забыть сложную комбинацию цифр (7 581 280). Внимание участников второй группы было полностью поглощено опасением забыть семизначное число, и им оказалось куда сложнее превозмочь свои инстинктивные желания, поэтому многие поддались мгновенному импульсу и выбрали в качестве вознаграждения шоколадный торт.
Уставший мозг
Эксперимент моих коллег показал: когда способность принимать осознанные решения подвергается нагрузке, влияние на наше поведение импульсивной составляющей увеличивается. Процесс еще более усложняется, когда мы думаем о том, что Рой Баумайстер (преподаватель Университета штата Флорида) метко назвал «истощение эго».
Чтобы понять его сущность, представьте, что вы стараетесь похудеть на пару килограммов. Сидя на утреннем совещании, вы буравите взглядом лежащее на тарелке слоеное пирожное, но, пытаясь вести себя «правильно», с огромным усилием преодолеваете искушение и ограничиваетесь чашкой кофе. В обед вы мечтаете о сытной пасте со сливочным соусом, однако вместо нее берете зеленый салат с цыпленком гриль. Часом позже, решив пораньше уйти с работы (вашего начальника нет в офисе), вы вновь останавливаете себя: «Нет, я должен закончить проект». В каждом из этих примеров гедонистические инстинкты подталкивают вас к приятным способам их удовлетворения, но заслуживающая похвалы сдержанность (или сила воли) оказывает встречное воздействие в попытке противостоять импульсам.
Основная идея понятия «истощение эго» состоит в следующем: сопротивление искушению требует значительных усилий и энергии. Подумайте о своей силе воли как о мышце. Когда мы видим жареную курицу или шоколадный молочный коктейль, наша первая инстинктивная реакция — возглас «Вкуснотища, хочу!». Пытаясь преодолеть искушение, мы начинаем тратить энергию. Каждое решение, направленное на преодоление искушения, требует усилий (как будто мы поднимаем штангу). С каждым новым искушением сила воли истощается (поднимать штангу раз за разом все тяжелее). Это означает, что к концу дня, в течение которого мы постоянно говорим «нет» самым разным искушениям, наша способность противостоять им уменьшается: в какой-то момент мы сдаемся, и дело заканчивается набиванием живота слойками, пирожными, картошкой фри и всем, что вызывает у нас обильное слюноотделение. Такая ситуация, безусловно, вызывает тревогу: мы каждый день вынуждены принимать решения и противостоять нескончаемым искушениям. Если постоянные попытки держать себя в руках истощают наши силы, стоит ли удивляться, что мы так часто терпим поражение? Истощение эго объясняет, почему особенно сложно контролировать себя по вечерам: после долгого дня напряженной борьбы с самими собой мы оказываемся совершенно без сил. С наступлением ночи мы более всего склонны потакать своим желаниям (подумайте о позднем перекусе как о кульминации целого дня противостояния искушениям).
КОГДА УСТАЮТ СУДЬИ
Если вы сидите в тюрьме и ждете решения суда об условно-досрочном освобождении (УДО), в ваших интересах, чтобы дело рассматривалось с самого утра или сразу после обеда. Почему? Согласно исследованию, которое провели Шай Данцигер (преподаватель Тель-Авивского университета), Джонатан Левав (преподаватель Стэнфордского университета) и Лиора Авнаим-Пессо (преподаватель Университета имени Давида Бен-Гуриона в Негеве), судьи, рассматривающие вопросы об условно-досрочном освобождении, склонны чаще принимать решения в пользу заключенных, пока еще полны сил. Изучив множество случаев УДО в Израиле, ученые обнаружили: комиссии по УДО гораздо чаще принимали положительные решения, если дела рассматривались одними из первых или сразу после обеденного перерыва. Почему? Заочное решение об УДО не является гарантией условно-досрочного освобождения. Но когда судьи испытывают прилив сил (а это обычно происходит с утра или сразу после вкусного обеда и перерыва), их способность преодолеть склонность к стандартному мышлению выше; они способны прилагать больше усилий, действовать более осознанно и чаще принимать положительные решения. В течение дня их когнитивное бремя растет с каждым новым принятым решением, поэтому они выбирают более простое, стандартное — отказать в УДО.
Думаю, аспиранты (тоже узники в некотором роде) инстинктивно понимают принципы работы этого механизма и поэтому так часто приносят пончики, печенье и кексы на защиту диссертации. Если использовать аналогию с УДО, можно сказать, что профессора в таких случаях более охотно предоставляют им «освобождение» от гнета учебы и дают возможность начать вольную жизнь.
Психическое напряжение: проверка на выносливость
В одном из эпизодов телесериала «Секс в большом городе» Саманта Джонс, излишне раскрепощенная блондинка (пояснение для тех, кто не помнит героинь по именам), вступает в длительные и весьма серьезные отношения. Она начинает бесконтрольно питаться и в результате набирает лишний вес. Самое интересное заключается в том, что именно стоит за столь бездумным поведением. Саманта замечает, что непреодолимое влечение к еде возникло после того, как в соседнюю квартиру вселился очень привлекательный мужчина, как раз такой, с которым она была бы рада начать роман, если бы все еще была одинока. Героиня понимает, что использует еду как защиту от искушения. «Я ем, чтобы не обманывать», — объясняет она подругам. У выдуманной Саманты — как и у настоящей — нет сил сопротивляться. Она не может противиться всем искушениям сразу, поэтому идет на компромисс и предпочитает «влюбиться» в еду, а не в человека.
Сериал «Секс в большом городе» сложно назвать шедевром с точки зрения как киноискусства, так и психологии, но он задает интересный вопрос: если в одних ситуациях людям приходится изо всех сил сдерживать себя, не ведет ли это к тому, что они меньше заботятся о морали, оказываясь в других условиях? Не ведет ли умственное истощение к обману? Это мы и решили выяснить вместе с Николь Мид (преподавателем Школы бизнеса и экономики Католического университета Лиссабона), Роем Баумайстером, Франческой Джино и Морисом Швейцером (преподавателем Пенсильванского университета). Как повели бы себя настоящие Саманты, которые истощили свои силы в борьбе с соблазнами, а затем вдруг получили возможность смошенничать — в какой-то другой области? Стали бы мошенничать по-крупному? Или нет? Могли бы они предугадать, что подвергнутся искушению, и постараться избежать его?
Наш первый эксперимент состоял из нескольких этапов. Прежде всего мы разделили участников на две группы. Людей из первой группы мы попросили написать короткое эссе о том, чем они занимались накануне, не используя в рассказе буквы «э» и «я». Чтобы понять, сложно ли это, попытайтесь сами выполнить задание: кратко перескажите один из своих любимых фильмов, не используя буквы «э» и «я». Важно: вы должны не пропускать звуки, а избегать употребления слов, в которых они встречаются (например, слово «велосипед» использовать можно, а «эпизод» нельзя).
Мы назвали это «неизматывающим условием», потому что — и вы с этим согласитесь — написать рассказ, не используя слова с буквами «э» и «я», довольно просто.
Вторую группу мы попросили выполнить то же задание, не используя буквы «а» и «н». Чтобы понять, насколько это сложнее, попробуйте сами.
Как вы наверняка уже убедились, попытка написать рассказ, в котором нет букв «а» и «н», заставляла наших рассказчиков постоянно и сознательно подавлять желание использовать слова, естественным образом приходившие им на ум. Вы не можете написать, что герой фильма «пошел на прогулку» или «встретил друга в ресторане».
Все эти незначительные акты подавления, накапливаясь, приводят к еще большему истощению.
После того, как участники сдали свои эссе, мы попросили их выполнить еще одно задание, которое, собственно, и было определяющим в нашем эксперименте. Речь идет о стандартном матричном тесте.
Что нам удалось выяснить? Все участники (действовавшие как в «неизматывающих условиях», так и в условиях необходимости тщательного выбора слов) продемонстрировали одинаковые способности к решению математических задач. Это означает, что истощение не повлияло на их способности к вычислениям. Однако в тех случаях, когда эксперимент предполагал уничтожение листов с записями (и возможность смошенничать), результаты были другими. Те участники, которые писали эссе без букв «э» и «я», а затем решали матричные задачки и уничтожали свои ответы, позволили себе небольшой обман, заявив об одной лишней правильно решенной матрице. А те, кому пришлось пройти суровое испытание подбором слов без букв «а» и «н», побили все рекорды: участники этой группы сообщили, что решили в среднем на три задачи больше, чем было на самом деле. Оказалось, чем сильнее истощены моральные силы человека, тем чаще и больше он обманывает.
Какие выводы можно сделать из вышесказанного? Когда ваша сила воли изнашивается донельзя, вам гораздо сложнее бороться с возникающими желаниями, что, в свою очередь, может привести к бесчестности.
Мертвые бабушки
На протяжении многих лет преподавательской деятельности я неоднократно замечал, что к концу семестра у моих студентов чаще умирают родственники. Особенно много смертей приходится на неделю, предшествующую выпускным экзаменам и сдаче дипломных работ. В ходе обычного семестра ко мне, как правило, подходит около 10 % студентов с просьбой перенести срок сдачи работ в связи со смертью родственников (чаще всего бабушек). Разумеется, я всегда расстраиваюсь из-за таких новостей и готов пойти навстречу студентам, дав им больше времени на подготовку. Однако мне не дает покоя вопрос: какой небывалой опасности подвергаются их родственники в последние недели перед выпускными экзаменами?
Этот загадочный феномен отмечали многие преподаватели, и, боюсь, мы были вынуждены заподозрить наличие причинно-следственной связи между экзаменами и внезапными смертями старушек. Более того, одному бесстрашному исследователю удалось ее доказать. Собирая соответствующие данные в течение нескольких лет, Майк Адамс (преподаватель биологии в Университете Восточного Коннектикута) выяснил: вероятность смерти любимых бабушек его студентов в 10 раз выше в середине семестра и в 19 раз — перед экзаменами в конце учебного года. К тому же бабушки не самых прилежных студентов подвержены еще большему риску — двоечникам утрата грозит в 50 раз чаще, чем отличникам.
В научном труде, посвященном этой печальной взаимосвязи, Адамс предположил, что описанное явление связано с внутрисемейными факторами. Иными словами, бабушки студентов настолько беспокоятся о своих внуках, что переживаниями во время сессии буквально убивают себя. Это могло бы объяснить, почему показатели смертности возрастают в тех случаях, когда академическое будущее студента оказывается под угрозой. Применительно к государственной политике результаты исследования Адамса приводят нас к следующему заключению: за здоровьем бабушек — особенно бабушек неуспевающих студентов — нужно внимательно наблюдать в течение нескольких недель перед выпускными экзаменами и во время сессии, чтобы специалисты могли вовремя выявить недуг. Другая рекомендация состоит в том, что внуки (особенно те, кто не слишком утруждает себя учебой) должны скрывать от бабушек даты экзаменов и свои оценки.
Хотя столь трагические события действительно могут быть связаны с внутрисемейными факторами, «эпидемию», которая буквально выкашивает ряды бабушек два раза в год, можно объяснить и другими причинами. Возможно, угроза жизни милых старушек действительно существует, но более вероятно, что проблема кроется в недостаточном прилежании студентов и их стремлении любой ценой выкроить еще немного времени на подготовку. Если я прав, возникает еще один вопрос: чем объяснить подверженность студентов «бабушкиному мору» (о котором свидетельствуют многочисленные электронные письма, которые они пишут своим преподавателям) именно в конце семестра?
Вероятно, ближе к концу семестра студенты оказываются настолько истощены месяцами учебы, что отчасти теряют представление о нормах морали — вплоть до демонстрации неуважения к жизни своих бабушек. Если такое простое действие, как запоминание нескольких цифр, заставляет людей выбирать вредный для здоровья шоколадный торт вместо полезных фруктов, несложно представить, как могут повлиять несколько месяцев изучения различных учебных предметов на желание студентов хоть немного облегчить себе жизнь (это не означает, что их можно простить за всех придуманных «мертвых» бабушек и за обман преподавателей).
Обращаюсь ко всем бабушкам мира: берегите себя во время выпускных экзаменов ваших внуков.
Красный, зеленый, синий
Мы выяснили, что истощение снижает нашу способность мыслить рационально, а вместе с ней и готовность действовать в соответствии с нормами морали.
Впрочем, в реальной жизни мы можем делать выбор и избегать ситуаций, которые могут подтолкнуть нас к аморальному поведению. Если мы способны хотя бы отчасти осознать свою предрасположенность к обману в состоянии истощения эго, то можем избежать искушения, принимая во внимание такое свойство своей натуры (применительно к диете это может выражаться в том, что мы не пойдем в магазин, когда голодны).
В рамках нашего следующего эксперимента его участникам был предоставлен выбор: оказаться в ситуации, вынуждающей их к обману, или избежать ее. Как и прежде, мы разделили их на две группы (одна действовала в «неизматывающих условиях», вторая испытывала умственную нагрузку). Правда, на этот раз мы «истощали» наших подопытных другим способом, носящим название «тест Струпа».
Каждому из участников вручили таблицу, состоявшую из пяти колонок и 15 рядов (итого 75 ячеек). В каждой ячейке было указано название цвета: красный, зеленый, синий. Названия были набраны шрифтом этих же цветов в произвольном порядке. Получив свой экземпляр таблицы, участник должен был назвать — вслух, громко — цвет каждого слова. Инструкции были очень простыми: «Если слово написано чернилами красного цвета, нужно сказать „красный“, вне зависимости от того, какое слово вы видите. Если слово написано зелеными буквами, вы должны сказать „зеленый“ и т. д. Делайте это так быстро, как можете. Если вы допустили ошибку, попробуйте еще раз — до тех пор, пока не назовете слово правильно».
Участники, работавшие в более легких условиях, получили таблицы, в которых название каждого цвета (например, зеленого) было напечатано буквами того же цвета (зеленого). Участникам, мозг которых подвергался дополнительной нагрузке, дали другие таблицы: цвет текста в них не совпадал с названием цвета (например, слово «синий» было напечатано зеленым цветом, и участник должен был произнести «зеленый»).
Чтение слов из таблиц первого типа (условие «без истощения») занимало около 60 секунд, участникам второй группы (условие «с истощением») понадобилось примерно в три-четыре раза больше усилий и времени.
Есть некая ирония в том, что работать с таблицей второго типа (где название цвета и цвет шрифта не совпадают) тем сложнее, чем выше способность испытуемого к чтению. Мозг много читающего человека распознает значение каждого слова очень быстро, что приводит почти к автоматической реакции: произносится прочитанное слово (а нужно назвать цвет букв, из которых оно состоит). Участник видит написанное зеленым цветом слово «красный» и хочет сказать «красный»! Но у него другое задание, поэтому он вынужден с некоторым усилием подавить свой первый порыв и назвать цвет чернил. По мере выполнении задания возникает умственное истощение — результат постоянного подавления автоматической реакции и усилий, прилагаемых для поиска осознанных (и правильных) ответов.
Пройдя — удачно или не очень — тест Струпа, участники получили возможность попробовать свои силы в другом испытании. Им нужно было ответить на вопросы, связанные с историей Университета штата Флорида. Например, такие: «Когда был основан университет?» или «Сколько раз в период с 1993 по 2001 год футбольная команда университета участвовала в национальном первенстве?». Всего в тесте было 50 вопросов, для каждого были даны четыре варианта ответа. Вознаграждение зависело от результатов. Участникам эксперимента сообщили, что по завершении работы над тестом они получат специальный бланк, в котором нужно указать выбранные ими варианты ответов (на бланке были нарисованы кружки с номерами ответов, по четыре кружка на каждый вопрос; участники должны были закрасить кружок с правильным, по их мнению, ответом). После этого рабочий лист — с перечнем вопросов — нужно было уничтожить, а наблюдателю отдать только бланк.
Представьте, что вы студент, имеющий возможность смошенничать. Вы только что завершили работу над тестом Струпа (не важно, в каких условиях: «с истощением» или без) и перешли к следующему заданию. В течение нескольких последних минут вы отвечали на вопросы; отпущенное время почти на исходе. Вы идете к наблюдателю, чтобы взять бланк, в который нужно перенести правильные ответы.
«Прошу прощения, — лицо женщины-экспериментатора выражает искреннее огорчение. — У меня почти закончились бланки. Остался только один чистый и один, на котором уже были указаны правильные ответы». Она пыталась стереть карандашные пометки, сделанные другим участником, но их все-таки немного видно. Расстроенная своим промахом, она говорит: «Поскольку вы первый из двух оставшихся участников, можете выбирать. Возьмете чистый бланк или с пометками?»
Разумеется, вы понимаете: если взять уже использованный кем-то бланк, обмануть наблюдателя будет проще. Вы возьмете его? Возможно, решение взять бланк с пометками объясняется вашим альтруизмом: вы просто хотите помочь женщине-экспериментатору, чтобы она меньше переживала из-за своей ошибки. Возможно, вы действительно хотите смошенничать. Есть и другой вариант: вы предполагаете, что использование бланка с ранее сделанными пометками может подтолкнуть вас к обману, и отказываетесь от него, желая остаться честной, открытой и высокоморальной личностью. Как бы то ни было, вы берете один из двух оставшихся бланков, отмечаете в нем свои варианты ответов, уничтожаете оригинал, отдаете бланк и получаете свои деньги.
Удалось ли участникам, находившимся в условиях умственного истощения, уберечься от искушения или они отправились прямиком по дороге обмана? Как оказалось, они значительно чаще выбирали бланк, который позволил бы им смошенничать. Истощив свои моральные силы, они оказались под двойным ударом: чаще выбирали бланк с уже сделанными пометками и (как видно из предыдущего эксперимента) чаще мошенничали, когда им предоставлялась такая возможность. Когда мы объединили результаты двух тестов, оказалось, что участникам, действовавшим в условиях умственного истощения, мы заплатили на 197 % больше, чем второй группе.
Истощение в повседневной жизни
Представьте, что вы сидите на белково-овощной диете. Вечером, немного проголодавшись, вы заходите в продуктовый магазин и чувствуете запах свежеиспеченного хлеба. Вы видите продающиеся со скидкой ананасы; вы их любите, но не можете себе позволить из-за диеты. Вы катите тележку к мясному отделу, чтобы купить цыпленка на ужин. По пути видите пирожки с крабами, но в них слишком много углеводов, поэтому вы снова проходите мимо. Выбираете латук и помидоры для салата; усилием воли заставляете себя не смотреть на чесночно-сырные гренки. Расплачиваясь за покупки, вы испытываете радость от того, что смогли противостоять искушению. Покинув полный соблазнов магазин, вы направляетесь к машине и вдруг видите симпатичную юную девушку-промоутера, которая предлагает вам попробовать шоколадный кекс, разумеется, бесплатно.
Вы уже много узнали об умственном истощении, а потому с легкостью предскажете, что произойдет дальше. Героические попытки не поддаться искушению истощили ваши моральные силы, и вы, скорее всего, сдадитесь и откусите кусочек. Почувствовав, как шоколад тает во рту, услаждая вкусовые рецепторы, давно не испытывавшие такого удовольствия, вы не сможете просто взять и уйти. Вам до смерти захочется еще. Поэтому вы накупите столько пирожных, что их хватило бы на семью из восьми человек, и съедите половину еще по пути домой.
А теперь подумайте о больших торговых центрах. Допустим, вам нужна новая пара обуви. Вы идете от одного магазина к другому через необъятные искушающие витринами просторы и встречаете на своем пути самые разные вещи, которыми хотите обладать, но в которых не очень-то нуждаетесь. Тут и новый гриль, о котором вы давно мечтали, и зимнее пальто, и золотое ожерелье или часы — их можно надеть на новогоднюю вечеринку, ведь вы наверняка на нее пойдете. Каждый соблазнительный товар, который вы видите на витрине, но не покупаете, — это подавленный импульс. Он медленно, но верно истощает ваши волевые резервы и увеличивает вероятность того, что чуть позже вы все-таки поддадитесь искушению.
Подобного рода страдания испытывают все: мы люди, а потому подвержены соблазнам. Принимая трудные решения в течение дня (а большинство наших решений куда сложнее, чем выбор правильного слова в упражнениях с таблицами с названиями цветов), мы раз за разом оказываемся в обстоятельствах, схожих с перетягиванием каната между сиюминутным желанием и благоразумием. Когда дело касается самых важных решений (связанных со здоровьем, семейной жизнью и т. д.), мы оказываемся под градом еще более серьезных противоречий. По иронии судьбы самые простые попытки сдерживать свои импульсивные порывы, которые мы совершаем ежедневно, ослабляют способность к самоконтролю и делают нас более восприимчивыми к искушениям.
Теперь, когда вы узнали много нового об эффектах умственного истощения, как вам повысить свою сопротивляемость многочисленным искушениям? Один из методов предложил мой друг Дэн Сильверман, экономист из Мичиганского университета: он буквально каждый день сталкивался с невероятно опасными искушениями.
Мы с Дэном вместе работали в Институте перспективных исследований в Принстоне. Это прекрасное место для ученых-везунчиков, которые время от времени позволяют себе нечто большее, чем напряженные размышления, например прогулку в парке или хороший обед. Первую половину дня мы посвящали изучению жизни, науки, искусства, после чего наслаждались изысканными яствами, например утиной грудкой с гарниром из кукурузного пюре и грибных шляпок в глазури. За горячим обязательно следовал чудесный десерт: мороженое, крем-брюле, чизкейк или шоколадный торт с малиновым кремом. Все это было настоящей пыткой, особенно для несчастного Дэна, обожавшего сладости. Будучи толковым здравомыслящим экономистом, испытывающим проблемы с избытком холестерина и очень любившим десерты, он понимал, что есть их каждый день крайне неразумно.
Поразмыслив, Дэн пришел к следующему выводу: любой рациональный человек, сталкиваясь с искушением, время от времени должен ему поддаваться. Почему? Действуя таким образом, мы спасаем себя от чрезмерного умственного истощения, сохраняя силы для борьбы с любыми другими искушениями, которые ждут нас в будущем. Поэтому для Дэна, человека осторожного и прекрасно осведомленного о предстоящих искушениях, каждый съеденный десерт был иллюстрацией к выражению carpe diem[15]. Разумеется, как настоящий ученый, Дэн написал об этом научную работу (в соавторстве с Эмре Озденореном и Стивом Салантом).
Если говорить серьезно, эксперименты с умственным истощением дают основания для следующего предположения: в целом мы вполне способны понять, что в течение дня подвергаемся постоянным искушениям и что наша устойчивость к ним ослабевает со временем и по мере того, как накапливается сопротивление. Если мы действительно хотим сбросить вес, нужно избавиться от искушения: выкинуть из холодильника все сладкое, соленое, жирное, все полуфабрикаты и употреблять в пищу свежие продукты. Это нужно сделать не только потому, что мы знаем: копченая курица и пирожные для нас вредны. Это нужно сделать и по другой причине: чем чаще за день мы подвергаемся искушениям одного рода (например, открывая буфет или холодильник), тем сложнее противостоять и другим искушениям.
Понимание сути умственного истощения означает также, что задачи, требующие максимальной степени самоконтроля (например, особенно сложные или нудные рабочие дела), нужно решать в самом начале дня, когда мы еще не слишком истощены. Разумеется, следовать этому совету непросто: вокруг нас слишком много соблазнов (бары, онлайн-магазины, Facebook, YouTube, компьютерные игры), особенно опасных именно потому, что оказывают на нас как искушающее, так и истощающее воздействие.
Естественно, мы не можем избежать влияния всех факторов, угрожающих нашей способности к самоконтролю. Так есть ли надежда? Вот что я предлагаю: как только вы поняли, что стоите перед искушением и не можете ему противиться, лучшей стратегией будет отойти в сторону, не поддаться зову желания, не приближаться, чтобы не оказаться на крючке. Следовать этому совету непросто, но такова реальность: проще избежать искушения, чем бороться с ним, когда оно уже овладело нами. И даже если мы не преуспели, всегда можно попытаться развить свою способность к борьбе, например досчитать до ста, спеть песню или составить план и следовать ему. Любое из этих действий помогает создать собственный арсенал хитростей, позволяющих преодолевать искушения и бороться с ними в будущем.
В завершение должен отметить: порой умственное истощение может оказаться полезным. Время от времени мы чувствуем, что слишком сильно контролируем ситуацию, сталкиваемся с очень большим числом ограничений, недостаточно свободны, чтобы следовать импульсам. Возможно, порой нам нужно перестать быть ответственными взрослыми людьми и немного расслабиться. Вот вам подсказка: в следующий раз, когда захотите пустить все на самотек и поддаться своей натуре, попытайтесь для начала истощить моральные силы: напишите длинное автобиографическое эссе, не используя при этом буквы «а» и «н»; сходите в магазин, примерьте понравившееся, но ничего не покупайте. А когда почувствуете всю тяжесть умственного истощения, сами придумайте себе искушение и поддайтесь ему. Но не пользуйтесь этим трюком слишком часто.
А если вам нужно более научное оправдание, позволяющее время от времени давать слабину, воспользуйтесь теорией рационального потворства своим желаниям, разработанной Дэном Сильверманом.
Глава 5. Почему ношение подделок известных брендов заставляет нас мошенничать больше
Позвольте рассказать историю моего дебюта в мире моды. Когда Дженнифер Уайдман Грин (моя подруга по университету) переехала жить в Нью-Йорк, она стала общаться со множеством людей из модной индустрии. Благодаря ей я познакомился с Фридой Фавал-Фара: она работала в журнале Harper’s Bazaar, издании, задающем тон в своей отрасли. Однажды Фрида пригласила меня прочитать лекцию в редакции журнала, и я с радостью согласился поработать с незнакомой для меня аудиторией.
Перед началом моего выступления Фрида вкратце рассказала об основных модных тенденциях. Мы сидели в кафе в большом здании на Манхэттене, попивая латте. Фрида обращала мое внимание на одежду проходящих мимо женщин, называла торговые марки, объясняла, как много могут рассказать о своей владелице ее одежда и обувь. Внимание Фриды к деталям и глубина анализа поразили меня. Чем-то это напомнило мне навыки профессиональных орнитологов, способных мгновенно разглядеть мельчайшие различия между представителями птичьих видов.
Спустя полчаса я стоял на сцене перед аудиторией, состоявшей из знатоков моды. Мне было очень приятно оказаться в окружении большого количества привлекательных и красиво одетых женщин. Каждая из них выглядела как музейный экспонат, с ее украшениями, косметикой, и, разумеется, умопомрачительной обувью. Благодаря уроку Фриды я даже смог узнать некоторые бренды и почувствовать дух моды, который вдохновлял женщин на создание того или иного ансамбля.
Я не совсем понимал, почему эти люди захотели меня увидеть и что ожидали услышать. Тем не менее нам удалось найти общий язык. Я говорил о том, как принимаются решения, как мы сравниваем цены, пытаясь выяснить, насколько они оправданны; о том, как мы сравниваем себя с другими людьми, и т. д. Они смеялись, когда я от них этого ждал, вдумчиво задавали вопросы и предложили несколько собственных интересных идей. Когда я закончил, на сцену поднялась Валери Салембье, издатель Harper’s Bazaar; она обняла меня, поблагодарила, а затем вручила небольшую, но очень стильную дорожную сумку Prada.
Мы попрощались, и я, с подарком в руке, отправился на следующую встречу. У меня было немного свободного времени, поэтому решил пройтись. Неспешно прогуливаясь, я никак не мог отделаться от мыслей о своей новой кожаной сумке с огромным логотипом Prada. Я шел и спорил сам с собой: нужно ли мне нести ее логотипом наружу? Тогда окружающие стали бы восхищаться (или, возможно, удивились бы, что кто-то, одетый в обычные джинсы и красные кроссовки, смог купить такую). Или лучше повернуть ее логотипом внутрь, чтобы никто не догадался, что это Prada? Так я и поступил.
Я был уверен, что, поскольку логотип не виден, никто не поймет, что за сумка у меня в руках; более того, я никогда не думал о себе как о человеке, который следит за модой. И все же что-то во мне изменилось. Я-то знал: моя сумка — от Prada! И это заставляло чувствовать себя иначе. Моя спина распрямилась, а походка стала вальяжной. Даже не представляю, как бы я вел себя, будь на мне нижнее белье марки Ferrari. Почувствовал бы я себя бодрее? Увереннее? Проворнее?
Проходя через Чайна-таун, наполненный движением, запахами еды и криками уличных торговцев, расхваливавших свой товар, я заметил привлекательную молодую парочку в возрасте чуть за двадцать. К ним подошел китаец. «Сумки, сумки!» — кричал он и кивал в сторону своей небольшой лавочки. Поначалу те не обратили на него внимания. Но через пару секунд девушка спросила: «А у вас есть Prada?» Китаец кивнул. Она поговорила со своим спутником, тот улыбнулся, и пара зашла в магазинчик.
Разумеется, речь шла не о настоящей Prada. Подделкой были и «дизайнерские» очки от Dolce & Gabbana, продававшиеся там же по пять долларов, и духи от Armani, которыми торговали напротив[16].
От Ermine[17] до Armani
Сделаем небольшую паузу и поговорим об истории костюма, в особенности о том, что социологи называют системой внешних сигналов, иными словами, о способе транслировать другим свою сущность через одежду. Еще во времена Древнего Рима существовал свод законов, называемых законами социальных сословий, который спустя столетия нашел отражение в законодательстве почти всех европейских стран. Помимо прочего, закон определял, какую одежду может носить человек в зависимости от его статуса и социального класса. Степень детализации была невероятной. Например, в Великобритании эпохи Ренессанса лишь титулованные дворяне могли носить одежду из определенных видов меха, тканей, кружев; указывалось количество бусин на квадратный фут ткани и т. д. Представители мелкопоместного дворянства имели право носить значительно более скромную одежду. Самые бедные слои населения не подпадали под действие закона: мало смысла в регулировании правил ношения грязной мешковины или одежды из грубой шерсти.
Представители некоторых социальных групп вынуждены были иметь специальные знаки отличия, чтобы их не путали с уважаемыми людьми. Например, проститутки носили полосатые головные уборы как знак скверны, а еретики — нашивки с изображением вязанки дров (символа того, что они могут быть — или будут — сожжены за свою ересь). Проститутка, выходившая на улицу без обязательного головного убора в полоску, использовала своего рода маскировку, как наша современница, надевающая поддельные очки Gucci. Отсутствие полос на головном уборе женщины подавало окружающим ложные сигналы о ее образе жизни и экономическом статусе. Люди, одевавшиеся «не по чину», безмолвно, но вполне прямолинейно лгали окружающим. Хотя это и не было значительным преступлением, нарушителей закона часто ожидали штрафы и другие виды наказаний.
Такая поистине маниакальная одержимость идеей продемонстрировать свою принадлежность к высшему обществу может показаться кому-то абсурдной. На самом деле это было гарантией того, что внешний облик людей полностью соответствовал их статусу и занятиям. Сигнальная система работала. Она была призвана избавить общество от беспорядка и путаницы (и, очевидно, имела свои преимущества, хотя я не предлагаю вновь к ней вернуться). В наши дни правило «встречают по одежке» не настолько действенно, как в прошлом, однако стремление людей подавать окружающим сигналы о своей успешности и индивидуальности никуда не делось, только сегодня представители привилегированных классов ходят в одежде от Armani, а не в горностаевых мантиях. Посылаемые нами сигналы считываются окружающими с той же легкостью, с которой Фрида определяла статус людей через носимые ими бренды.
Вы можете подумать, что люди, покупающие подделки, не способны нанести вред производителям оригинальной продукции, поскольку никогда бы ее не приобрели. Однако вот тут и стоит вспомнить об эффекте внешних сигналов. Если достаточно много людей покупает поддельные шарфы Burberry за 10 долларов, другие — те, кто готов приобрести оригинальное изделие, — могут и не захотеть платить за него в 20 раз больше. При таком повороте событий каждый раз, встречая человека с шарфом Burberry или сумкой Louis Vuitton, мы подозревали бы, что это подделка. И зачем тогда покупать настоящий продукт? Какие сигналы он будет посылать окружающим? Получается, что люди, покупающие подделки, снижают потенциал системы внешних сигналов и подрывают аутентичность настоящего продукта (и его владельца). Именно по этой причине продавцы модной одежды и сами модники так сильно обеспокоены проблемой массовых подделок.
Размышляя о своем опыте с Prada, я задумался о том, существуют ли другие психологические факторы, имеющие отношение к подделкам, но не к внешним сигналам. Я стоял посреди Чайна-тауна, держа в руках сумку известного модного бренда, и смотрел на выходящую из магазина девушку, купившую подделку. Я не выбирал свою сумку и не платил за нее и все же чувствовал, что отношусь к ней совсем не так, как эта молодая женщина.
В более широком смысле речь идет о взаимосвязи между тем, что мы носим, и тем, как мы себя при этом ведем. Я задумался о концепции, которую социологи называют «самосигнализация». Вот ее основная идея: несмотря на то, что именно мы думаем о себе, в действительности мы не имеем ясного представления о том, кем являемся. Мы склонны считать, что отлично разбираемся в собственных предпочтениях и в своем характере, но это не так. В действительности мы наблюдаем за собой точно так же, как за окружающими, и лишь на основании собственных действий делаем выводы о том, кто мы есть и что мы любим.
Вот вам пример. Представьте, что идете по улице и видите попрошайку. Вместо того, чтобы проигнорировать его или дать ему денег, вы решили купить ему сэндвич. Само действие никак не определяет ни вас, ни ваши моральные принципы, ни особенности вашего характера. Однако вы лично трактуете этот поступок как доказательство своей сострадательности и щедрости. И, вооружившись этой «новой» информацией, начинаете еще сильнее верить в свое великодушие. Принцип «самосигнализации» в действии.
Его можно применить и в отношении модных аксессуаров. Обладание настоящей сумкой Prada (пусть даже о том, что она настоящая, не знает никто, кроме ее обладателя) заставляет вас думать и вести себя немного иначе, чем когда вы носите в руках подделку. И это наводит на вопрос: способно ли ношение поддельных вещей вызвать ощущение противозаконности наших действий? Какова вероятность, что украшение себя фальшивыми аксессуарами влияет на нас неожиданным — и негативным — образом?
Знакомство с Chloé
Я решил позвонить Фриде и рассказать ей о своем внезапном интересе к миру высокой моды (думаю, она была удивлена не меньше моего). Мы поговорили, и Фрида пообещала связаться с некоторыми модными домами и убедить их предоставить мне несколько предметов из их коллекций для проведения эксперимента. Некоторое время спустя я получил посылку от бренда Chloé: 20 женских сумочек и 20 пар солнечных очков. Заглянув в накладную, прилагавшуюся к посылке, я узнал, что общая стоимость сумочек составляла около 40 000 долларов, а солнечных очков — около 7000 долларов[18].
Получив в свое распоряжение эти товары, мы с Франческой Джино и Майком Нортоном (преподавателем Гарвардского университета) решили проверить, будут ли люди, носящие поддельные аксессуары, вести себя иначе по сравнению с владельцами настоящих. Если участники эксперимента почувствуют, что ношение подделок превращает их в менее уважаемых членов общества (даже если это всего лишь их фантазия), станут ли они считать себя и менее честными? Пойдут ли они дальше по кривой дорожке, посчитав, что их репутация уже подмочена (даже если окружающие так не думают)? Воспользовавшись притягательностью аксессуаров Chloé, мы привлекли к участию в эксперименте множество студенток программы MBA. Мы выбрали женщин не потому, что думали, будто они отличаются от мужчин с моральной точки зрения (ни в одном из наших предыдущих экспериментов мы не обнаружили какой-либо взаимосвязи между результатами и гендерной принадлежностью участников). Просто все аксессуары, которые оказались в нашем распоряжении, были женскими. Сначала мы никак не могли решить, использовать ли в первом эксперименте солнечные очки или сумочки, но потом поняли, что будет довольно сложно объяснить участницам, почему они должны выполнять наши задания с сумкой в руках. Так что мы остановились на очках.
Участниц разделили на три группы, в зависимости от условий эксперимента: «аутентичный продукт», «подделка» и «отсутствие информации». В эксперименте с условием «аутентичный продукт» мы сообщили участницам, что дадим им настоящие солнечные очки Chloé. Участницы второй группы думали, что носят подделку, выглядевшую в точности как оригинал (на самом деле все очки были настоящими). Наконец, в третьей группе, где условием было отсутствие информации, мы вообще ничего не сказали о подлинности солнечных очков.
Когда участницы надели очки, мы отправили их в центральный холл здания и попросили взглянуть на висевшие там постеры, а также выглянуть в окно — с тем, чтобы они могли оценить качество очков и свои ощущения от их ношения. После этого студентки перешли в другую комнату для выполнения еще одного задания. В чем оно заключалось? Наверняка вы уже догадались: участницам предстояло решить нашу старую добрую матричную задачу — оставаясь при этом в очках.
Представьте себя на месте одной из этих женщин. Вы появляетесь в лаборатории и случайным образом оказываетесь в группе обладательниц поддельного продукта. Наблюдатель информирует вас о том, что очки — подделка, и просит протестировать их и рассказать о своих впечатлениях. Вы получаете чехол, который совсем не выглядит фальшивкой, вынимаете из него солнечные очки, внимательно рассматриваете их, а затем надеваете. После этого вы прохаживаетесь по холлу, изучая постеры и посматривая в окно. Но что в это время происходит в вашей голове? Вы сравниваете солнечные очки с другой парой, лежащей у вас в машине или разбившейся на прошлой неделе? Или думаете «Да, выглядит вполне убедительно, вряд ли кто-то сможет распознать в них подделку»? Не исключено, что очки кажутся вам слишком легкими, а пластиковая оправа — дешевой. Как скажутся мысли о том, что вы носите подделку, на вашей склонности к обману? Станете ли вы мошенничать во время матричного теста больше или меньше? Или ваше поведение вообще не изменится?
Вот что мы обнаружили. Как обычно, многие участницы приписали себе несколько якобы решенных ими задач. Однако, если в группе «аутентичный продукт» таких было «всего лишь» 30 %, в эксперименте с условием «поддельный продукт» их доля составила 71 %.
Получив результаты, мы задали себе еще один вопрос: заставлял ли наших участниц факт обладания предполагаемой подделкой мошенничать больше обычного? Получив в свое распоряжение настоящие очки от Chloé, стали ли женщины поступать более честно? Иными словами, что оказалось сильнее: негативный самосигнал при обладании подделкой или позитивный самосигнал в условии аутентичности продукта?
Вот для чего была нужна третья (контрольная) группа, участницам которой мы не говорили, какие очки оказались у них в руках. В чем смысл условия «отсутствие информации»? Поясню. Предположим, что женщины, носившие якобы фальшивые очки, мошенничали так же часто, как и участницы, не имевшие никакой информации. В этом случае мы могли бы сделать вывод о том, что владение подделкой не влияет на природную склонность женщин к мошенничеству, а вот обладание настоящим продуктом делает их более честными. В то же время, если бы мы увидели, что женщины, носившие настоящие солнечные очки Chloé, обманывают так же часто, как и женщины, не имеющие информации об аутентичности аксессуара (и значительно реже, чем обладательницы подделок), вывод был бы иным: настоящие очки Chloé не делали женщин честнее, а поддельные заставляли их врать чаще, чем обычно.
Как вы помните, 30 % женщин из группы «аутентичный продукт» и 71 % участниц, носивших подделку, сообщили о том, что решили больше матричных задач, чем на самом деле. А как насчет группы, действовавшей в условиях отсутствия информации? 42 % участниц оказались обманщицами. Результаты показывают, что обладание аутентичным продуктом не делает нас более честными (или делает, но в незначительной степени). А вот когда мы надеваем подделку, и надеваем осознанно, моральные ограничения немного смягчаются, вынуждая нас сделать еще несколько шагов по пути нечестности.
В чем мораль этой истории? Если у вас, ваших друзей или кого-то, с кем вы встречаетесь, есть модные подделки, будьте осторожны! Есть вероятность, что вы столкнетесь с обманом раньше, чем ожидаете.
Эффект «Какого черта?»
Сделаем небольшую паузу и еще раз подумаем о том, что происходит, когда вы садитесь на диету. Первое время вы изо всех сил стараетесь ее соблюдать: половинка грейпфрута, ломтик подсушенного мультизернового хлеба и яйцо пашот на завтрак; немного индейки с салатом и низкокалорийным соусом на обед; вареная рыба и брокколи на пару на ужин. Как мы выяснили в предыдущей главе «Почему мы ошибаемся, когда устаем», сидя на диете, человек чувствует себя обделенным (причем обделенным предсказуемо и без ущерба для его репутации). И тут кто-то ставит перед вами тарелку с куском торта. В тот момент, когда вы поддаетесь соблазну и откусываете немного, картина мира меняется. Вы говорите себе: «Какого черта? Я уже нарушил диету, так почему бы не съесть весь кусок, а заодно и тот вкуснейший чизбургер, о котором я мечтал всю неделю? Я опять сяду на диету завтра. Или в следующий понедельник. И на этот раз уж точно буду ее придерживаться». Иными словами, поскольку ваш «светлый образ» уже слегка потемнел, вы решаете полностью отказаться от диеты, чтобы извлечь максимум из новых условий (разумеется, вы даже не задумываетесь, что эта ситуация может повториться и завтра, и послезавтра и т. д.).
Чтобы как следует изучить эту уязвимость, мы с Франческой и Майком решили выяснить, влияет ли одноразовое потакание своим слабостям (сидя на диете, вы съели порцию жареной картошки) на вероятность полного отказа от попыток себя изменить (например, с помощью той же диеты).
Представьте, что вы надеваете солнечные очки — настоящие очки марки Chloé, подделку или просто очки неизвестного происхождения — и садитесь перед компьютером, на экране которого изображен квадрат, разделенный по диагонали на два треугольника. Начинается тест: на одну секунду внутри квадрата появляются 20 точек, расположенных без всякой системы (рис. 3). Затем они исчезают, и на экране остаются лишь пустой квадрат, диагональная линия и изображения двух кнопок: на одной написано «больше справа», на другой — «больше слева». Ваша задача: выбрать нужную кнопку, указав, где было больше точек — справа или слева от диагональной линии. Это упражнение вы проделываете 100 раз. Иногда точек заметно больше на правой стороне. Иногда они сосредоточены слева, и это очевидно. В некоторых случаях дать однозначный ответ сложно. Как вы понимаете, задание очень утомительное и однообразное, внимание быстро рассеивается, и после сотни ответов становится понятно, насколько вы точны — или нет — в своих оценках.
Задание выполнено, и на экране появляется сообщение: «Упражнение нужно повторить еще 200 раз». Однако теперь за каждое принятое решение вам будут платить. Важная деталь: вне зависимости от того, верен ваш ответ или нет, каждый раз, выбирая левую кнопку, вы получаете полцента, а выбирая правую кнопку — пять центов (то есть в 10 раз больше).
С появлением материальной заинтересованности возникает и базовый конфликт интересов. Когда вы видите больше точек справа, этической проблемы не существует: честный ответ («больше справа») совпадает с тем, который позволяет вам подзаработать. Но, когда вы видите больше точек слева, вам нужно принять решение: ответить честно («больше слева»), что соответствует инструкции, или увеличить свою финансовую выгоду, нажав на кнопку «больше справа». С помощью такой системы оплаты мы давали участницам стимул взглянуть на реальность под иным углом, заставляли их мошенничать, нажимая правую кнопку чаще. Иными словами, они столкнулись с конфликтом между необходимостью ответить правильно и желанием увеличить свою прибыль. Врать или не врать, вот в чем вопрос. И не забывайте: проходя тест, испытуемые по-прежнему были в солнечных очках.
Эксперимент с точками дал те же результаты, что и матричный тест: большинство участниц немного смошенничали. Интересно другое: мы заметили, что чаще мошенничали те, кто был в поддельных солнечных очках. Что еще интереснее, они мошенничали постоянно: и когда было невозможно понять, на какой стороне больше точек, и даже когда было совершенно ясно, что точек больше на левой стороне (то есть когда нужно было нажимать кнопку, сулившую меньшее финансовое вознаграждение).
Так выглядели общие результаты. Однако основная причина, по которой мы ввели в эксперимент «точечный тест», состояла в следующем: выяснить, как эволюционирует мошенничество в условиях, когда у людей есть множество разных возможностей для нечестных действий. Нас интересовало, ограничатся ли участницы лишь разовыми актами мошенничества (пытаясь сохранить убежденность в собственной честности и одновременно наживаясь на обмане). Мы подозревали, что подобный баланс может сохраняться в течение какого-то времени, однако рано или поздно участницы должны будут достичь «порога честности». А перешагнув его, они, вероятно, подумают: «Какого черта, раз уж я начала обманывать, почему бы не извлечь из этого максимальную пользу?» И с этого момента они, возможно, станут мошенничать чаще, а то и вовсе при каждом удобном случае.
Первое, что показали результаты: чем дольше длился эксперимент, тем чаще мы сталкивались с обманом. Как и подсказывала нам интуиция, многие студентки в какой-то момент переходили на новый уровень: от небольших периодических актов мошенничества — к системному обману при каждой возникающей возможности. Именно такого поведения мы и ожидали от участниц, подвергшихся воздействию эффекта «Какого черта?». Оно проявлялось и у тех, кого мы тестировали в условиях аутентичного продукта, и у тех, кто носил подделку. Однако участницы группы «подделка» проявили куда большую склонность к отказу от моральных ограничений и к мошенничеству на полную катушку[19].
Анализируя эффект «Какого черта?», мы увидели: когда дело касается мошенничества, мы ведем себя почти так же, как в тех случаях, когда сидим на диете. Один раз нарушив собственные стандарты (касаются ли они еды или денежных стимулов), мы с большой вероятностью прекратим дальнейшие попытки контролировать свое поведение и с этого момента, скорее всего, начнем чаще поддаваться искушениям и вести себя неправильно.
Похоже, выражение «одежда красит человека» все же справедливо, в том числе и с позиции морали. Ношение подделок действительно влияет на то, какие решения — этичные или не очень — мы принимаем. Как и в случае с другими открытиями, полученными в результате социальных исследований, эта информация может быть использована и во благо, и во вред. С одной, негативной, стороны легко представить, как ею могут воспользоваться компании, чтобы ослабить моральные принципы своих работников. Такому сотруднику будет проще дурачить потребителей, поставщиков, конкурентов и регулирующие организации, увеличивая прибыль компании за счет других. Но есть и позитивная сторона. Если мы осознаем опасность грозящего «морального упадка», то станем уделять больше внимания первым его проявлениям, и это поможет нам нажать на тормоза до того, как станет слишком поздно.
Тут дело нечисто
Завершив эксперимент, мы с Франческой и Майком убедились в том, что ношение подделок известных брендов напрямую влияет на восприятие человеком собственной личности. Уличив самих себя в обмане, люди меняют свое поведение и начинают мошенничать все чаще. Возникает вопрос: если ношение подделок изменяет нашу оценку собственного поведения, значит ли это, что мы будем относиться с подозрением и к другим людям?
Мы собрали еще одну группу участниц и попросили их надеть солнечные очки Chloé (предварительно сообщив, был ли этот аксессуар подлинным или фальшивым). Студентки опять послушно прошлись по залу, изучили висящие на стенах плакаты, посмотрели в окно. Вернувшись в лабораторию, они получили тестовое задание, на этот раз не связанное с матрицами или точками. Вместо этого мы попросили девушек заполнить анкету с большим количеством вопросов (они должны были по-прежнему оставаться в очках). Вопросы были самые разные и зачастую носили общий характер (так называемые вопросы-наполнители): с их помощью мы хотели скрыть реальную цель теста. Но были среди них и три блока вопросов, необходимых для понимания того, каким образом наши респонденты трактовали и оценивали степень моральности окружающих.
Вопросы из блока A предлагали участницам оценить вероятность, с которой знакомые им люди станут совершать действия, спорные с этической точки зрения. Ответы на вопросы из блока Б позволяли понять, думают ли участницы, что люди, произносящие определенные фразы, на самом деле лгут. Наконец, вопросы из блока В описывали два сценария, в каждом из которых изображался человек, имевший возможность вести себя нечестно. Участницы должны были оценить, с какой вероятностью он воспользуется этой возможностью.
Вот все три блока вопросов:
Блок A. Как часто знакомые вам люди демонстрируют описанное ниже поведение?
• Стоят в очереди к экспресс-кассе с тележкой, полностью набитой продуктами.
• Пытаются пройти на посадку в самолет до того, как объявили номер их группы[20].
• Необоснованно увеличивают сумму расходов в командировочных отчетах.
• Сообщают руководителю о достижениях в работе, даже если ничего не было сделано.
• Уносят домой офисные канцелярские принадлежности.
• Сообщают страховой компании ложные сведения о стоимости поврежденного имущества.
• Покупают одежду, носят ее, а затем возвращают в магазин.
• Лгут своим партнерам о количестве бывших сексуальных партнеров.
Блок Б. Насколько вероятно, что, произнося одну из этих фраз, человек лжет?
• «Извините, я опоздал из-за ужасных пробок».
• «Мой средний балл в университете равен 4,0».
• «Было приятно встретиться с вами. Давайте как-нибудь пообедаем вместе».
• «Разумеется, я начну работать над этим вопросом сегодня же вечером».
• «Да, Джон вчера вечером был со мной».
• «Я думал, что отправил это электронное письмо. Я уверен, что отправил».
Блок В. Какова вероятность, что герои будут действовать по этим сценариям?
• Стив — директор по производству в компании, выпускающей пестициды и удобрения для лужаек и садов. Ему известно, что одно очень ядовитое химическое вещество будет запрещено и изъято из продажи не позднее конца текущего года; по этой причине сейчас оно продается по очень низкой цене. Если Стив купит его, быстро переработает и продаст готовый продукт своим заказчикам, то получит неплохую прибыль. Какова вероятность, что Стив воспользуется этой возможностью и будет использовать ядовитый компонент до тех пор, пока его не запретят?
• Дейл — директор по производству в компании, выпускающей продукты здорового питания. В одной порции фруктового напитка, выпускаемого этой компанией, содержится 109 калорий. Дейл знает, что многие не покупают напитки, в которых содержится более 100 калорий. Он может уменьшить стандартную порцию на 10 %. В этом случае на этикетке будет написано, что в каждой порции 98 калорий, и ниже мелким шрифтом — что в каждой бутылке содержится 1,1 порции напитка. Какова вероятность, что Дейл уменьшит размер порции, чтобы количество содержащихся в ней калорий не превышало 100?
Какими были результаты? Наверняка вы догадались. Размышляя о поведении своих знакомых (вопросы из блока A), участницы группы «подделка» чаще подозревали их в нечестности, чем девушки из группы «аутентичный продукт». Они же чаще считали, что люди лгут, произнося фразы из блока Б, и что герои двух сценариев (блок В), скорее всего, пойдут по пути обмана потребителей. На основании полученных ответов мы сделали следующий вывод: подделки не только подталкивают нас к нечестности; они вынуждают нас и окружающих считать нечестными людьми.
Притворяйся, пока не сделаешь все это правдой
Итак, что мы узнали из всех этих тестов и как можем использовать эту информацию?
Возьмем для начала производителей из мира высокой моды, которые уже много лет борются с подделками. Сочувствовать им нелегко: наверняка вы думаете, что на самом деле всех остальных мало касаются проблемы модельеров, «обслуживающих богатеев». Испытывая искушение купить поддельную сумку от Prada, вы говорите себе: «Дизайнерские вещи слишком дороги, глупо столько платить за них». Или: «Я в любом случае не стал бы покупать оригинальную вещь, поэтому дизайнер ничего не теряет». Или: «Эти модные дома зарабатывают так много, что несколько человек, купивших подделку, ничего не изменят». Какие бы разумные доводы мы ни приводили (а мы способны логически обосновать любое свое действие, и это объяснение не будет противоречить нашим эгоистичным мотивам), все равно найдется немного людей, которых проблемы модных домов волнуют в той же степени, что их собственные.
Однако есть в этой истории о подделках и еще один фактор, весьма коварный. Компании из мира высокой моды не единственные, кто платит высокую цену за существование подделок. Благодаря самосигнализации и эффекту «Какого черта?» одно-единственное проявление нечестности может полностью изменить поведение человека, причем негативное влияние может оказаться мощным и долговременным. В сущности, это означает, что мы тоже платим за существование подделок, только в особой, моральной валюте. Мы притворяемся, когда приобретаем подделку, и это притворство меняет наше поведение, наш образ в собственных глазах и то, как мы видим окружающих[21].
Подумайте о дипломах, висящих на стенах офисов по всему миру и упоминаемых в резюме многочисленных топ-менеджеров. Несколько лет назад в The Wall Street Journal была опубликована статья о руководителях компаний, сообщивших ложную информацию о своей квалификации. В частности, был упомянут магнат Кеннет Кайзер, занимавший в то время пост президента и операционного директора компании PepsiAmericas. Хотя он и посещал занятия в Университете штата Мичиган, но так его и не окончил. Тем не менее на протяжении многих лет Кайзер заверял своей подписью документы, в которых было указано, что он имеет степень бакалавра (разумеется, есть вероятность, что это обычное недоразумение).
Можно вспомнить историю с Мэрили Джонс, соавтором популярной книги «Меньше стресса, больше успеха: Эффективная подготовка вашего ребенка к вступительным экзаменам в вуз» (Less Stress, More Success: New Approach to Guiding Your Teen Through College Admissions and Beyond), в которой она, помимо прочего, защищала концепцию «быть собой» как основной способ добиться успеха при поступлении в колледж и поиске работы. Она была деканом в MIT, отвечала за прием абитуриентов и на протяжении 25 лет отлично (по всеобщему мнению) справлялась со своим делом. Имелась, правда, одна проблема: для того, чтобы получить этот пост, Джонс указала в своем резюме ложную информацию, приписав себе несколько ученых степеней, которых на самом деле не имела. Это был акт мошенничества в чистом виде. Сама Джонс так не увидела всей иронии, заключавшейся в ее грехопадении: в своем публичном извинении она сказала, что за весь период трудовой деятельности «не нашла в себе смелости исправить „ошибки“ в своем фальшивом резюме». Когда столь популярный защитник идеи «быть собой» оказывается низвергнут из-за того, что солгал о своем образовании, что должны подумать все остальные?
Рассмотрим этот вид мошенничества в контексте эффекта «Какого черта?». Вполне возможно, что ложная информация об образовании, указанная в чьем-то резюме, вначале выглядит вполне невинно. «Притворяйся, пока не сделаешь все это правдой». Но акт мошенничества уже состоялся, и он может стать причиной снижения моральных стандартов и роста склонности к обману в других областях.
Представьте, что происходит, когда руководитель компании, однажды солгавший о своем образовании, постоянно видит напоминание об этой лжи: на визитных карточках, именных бланках, в резюме, на сайте. Вам вряд ли покажется притянутым за уши предположение, что он так же мошенничает с отчетами о тратах во время служебной поездки, о количестве оплачиваемых рабочих часов, о расходовании корпоративных фондов. Весьма вероятно, что один-единственный, самый первый, акт мошенничества даст этому руководителю повод менее критично относиться к своим действиям, что вызовет увеличение поправочного коэффициента, а это, в свою очередь, приведет к возникновению новых актов мошенничества.
Подводя итог, скажу: не следует относиться даже к единичному случаю проявления нечестности как к пустячному происшествию. Мы склонны прощать людям их проступки, совершенные впервые: ведь это всего один раз, ошибаются все… Возможно. Но мы должны понимать: первое проявление нечестности может оказаться решающим для формирования у человека представления о самом себе; первый обман будет определять его дальнейшие действия. Вот почему так важно предотвратить этот самый первый нечестный поступок. Вот почему так важно постараться уменьшить количество единичных проявлений нечестности, даже самых невинных. Если нам это удастся, со временем общество, возможно, станет более честным и менее коррумпированным (подробнее об этом написано в главе 8 «Мошенничество как инфекция, или Вирус нечестности»).
(НЕ) КРАДИТЕ ЭТУ КНИГУ
Никакая дискуссия на тему подделок в мире моды не может считаться законченной без упоминания близких родственников таких подделок. Я имею в виду проблему незаконного скачивания контента (представьте себе эксперимент, в котором роль поддельных очков исполняли бы аудиозаписи или кинофильмы, которые участники скачали из сети, нарушив авторские права их создателей). Позвольте рассказать вам историю о тех временах, когда я узнал кое-что интересное о незаконных скачиваниях. В тот раз я оказался жертвой. Спустя несколько месяцев после публикации книги «Предсказуемая иррациональность: Скрытые силы, определяющие наши решения»[22] я получил электронное письмо:
Уважаемый мистер Ариели,
я только что закончил прослушивание нелегально скачанной копии вашей аудиокниги и хотел бы выразить вам свою признательность. Я афроамериканец из Чикаго, мне 30 лет. В течение последних пяти лет я зарабатывал на жизнь незаконной продажей компакт-дисков и DVD. Я единственный представитель нашей семьи, который не сидит в тюрьме и у которого есть дом. Как представитель семейства, в истории которого нашло отражение все самое плохое, что есть в современной Америке, и как человек, нарушающий закон, я знаю, что рано или поздно присоединюсь к своим родственникам, отбывающим тюремное наказание.
Некоторое время назад я получил постоянную работу и был счастлив сознавать, что могу начать новую жизнь, достойную уважения. Однако вскоре я уволился и вернулся к своему незаконному промыслу. И вот причина: я испытывал боль от того, что бросил собственное дело, которое построил с нуля и которому посвятил пять лет жизни. Оно было моим, и я не мог найти другую работу, которая давала бы мне чувство собственника, хозяина. Стоит ли говорить, что мое поведение вполне соответствовало выводам вашего исследования о собственности?
Однако у моего возврата к незаконной торговле была еще одна важная причина. Когда я работал в обычном магазине, окружающие часто говорили о лояльности и заботе о клиентах, но я не думаю, что они в полной мере понимали смысл этих слов. В незаконном бизнесе лояльность и забота о клиенте проявляются значительно сильнее, чем в легальном. За несколько лет у меня возник рынок сбыта, состоявший из 100 человек, с радостью покупающих мой товар. Мы стали настоящими друзьями, с тесными отношениями, научились заботиться друг о друге. Мне было очень сложно бросить свое дело и отказаться от дружбы с этими людьми.
Я счастлив, что прослушал вашу книгу.
Получив электронное письмо от Элайджи, я нашел в интернете несколько бесплатных аудиоверсий своей книги, доступных для скачивания. Были там и отсканированные копии (должен признаться, сканирование печатной версии книги было осуществлено очень качественно: с передней и задней обложкой, со всеми благодарностями и ссылками и даже с отметками о копирайте, что я особенно оценил).
Не важно, как вы относитесь к концепции «информация хочет быть свободной», являетесь ли ее сторонником или противником: когда вы видите, что ваша работа распространяется бесплатно без разрешения с вашей стороны, проблема незаконного копирования становится более личной, менее абстрактной и совсем не простой. С одной стороны, я очень счастлив, что люди читают о моих исследованиях и, надеюсь, получают от этого какую-то пользу. В конце концов, именно для этого я и пишу свои книги. В то же время я разделяю беспокойство тех, чьи труды незаконно копируются и продаются. К счастью, у меня есть постоянная работа, приносящая мне основной заработок. Но я уверен: если бы написание книг было моим основным доходом, проблема незаконного копирования перестала бы казаться мне не более чем интеллектуальной головоломкой и мне было бы куда сложнее закрыть глаза на ее существование.
Что касается Элайджи, думаю, мы произвели справедливый обмен. Да, он незаконно скопировал мою аудиокнигу, зато я узнал кое-что новое о лояльности и заботе о потребителях в подпольном бизнесе (и даже нашел идею для будущего исследования).
Как же бороться с моральным истощением, эффектом «Какого черта?» и потенциальной угрозой, которую несет в себе одно-единственное проявление нечестности (которое, как мы помним, может еще долго и крайне отрицательно влиять на нашу моральность)? Идет ли речь о моде или других сферах нашей жизни, мы должны понимать: один аморальный поступок тянет за собой другой; аморальные действия в одной сфере могут повлиять на нашу моральность в других областях. Учитывая это, следует выявлять самые ранние признаки нечестного поведения и делать все возможное для того, чтобы не позволить им развернуться в полную силу.
А что же случилось с сумкой от Prada, благодаря которой и возник этот исследовательский проект? Я принял единственно возможное рациональное решение: отдал ее маме.
Глава 6. Самообман
Представьте, что вы очутились на песчаном пляже. На берег накатывают волны, оставляя за собой широкую полосу мокрого песка, по которой так приятно брести без определенной цели. Вы направляетесь к хорошо знакомому месту, где время от времени отдыхают симпатичные особы женского пола. Забыл предупредить: в этой истории вы напористый краб, который собирается бросить вызов нескольким другим крабам мужского пола и посмотреть, кто же завоюет расположение дам.
Где-то впереди вы видите милое создание с симпатичными клешнями. А еще замечаете, что к вам быстро приближается соперник. Вы знаете: лучший способ контролировать ситуацию — напугать других крабов. Тогда вам не придется драться, рискуя пораниться или, что еще хуже, лишиться шанса на свидание. Так что ваша цель: убедить всех остальных в том, что вы крупнее и сильнее. Чем ближе противник, тем быстрее вам нужно придумать, как показаться значительнее, чем вы есть. Встать на цыпочки и вяло помахать клешнями? Вряд ли это поможет. Что же делать?
Нужно произнести зажигательную речь и убедить себя в том, что на самом деле вы сильнее и круче, чем кажется. «Зная», что вы самый крупный краб на пляже, вы вытягиваетесь как можно выше и широко разводите клешни — настолько широко, насколько это вообще возможно (другие животные в подобных ситуациях распускают хвост, как павлины, или угрожающе трясут рогами — или просто топорщат мех и перья, чтобы касаться массивнее). Вера в собственную выдумку позволит вам не дрогнуть. А преувеличенная самоуверенность поможет запугать оппонентов.
Вернемся к людям. Мы обладаем более сложными механизмами бахвальства и «самопиара», чем животные. Мы умеем лгать — не только другим, но и себе. Самообольщение — полезная стратегия для того, чтобы поверить в истории, которые мы рассказываем. И если мы достигаем успеха в этом деле, то вряд ли дрогнем и нечаянно просигнализируем окружающим, что на самом-то деле мы не те, за кого себя выдаем. Я не сторонник лжи как средства получить работу или расположить к себе людей. Однако в этой главе мы все же поговорим о том, как нам удается дурачить самих себя, пока мы пытаемся одурачить других.
Разумеется, мы не можем мгновенно поверить в собственную ложь. Вот пример: предположим, вы пришли в клуб, где проходят «блиц-свидания»[23], и пытаетесь произвести впечатление на привлекательную женщину. Вам в голову приходит сумасбродная идея: вы говорите, что у вас есть лицензия профессионального пилота. Даже если девушка вам поверит, убедить в правдивости этой истории самого себя вам не удастся: вряд ли, оказавшись в следующий раз в самолете, вы пойдете учить пилотов, как правильно сажать самолет. Но рассмотрим другой пример. Допустим, на пробежке со своим другом вы поспорили, кто из вас быстрее. Вы заявляете, что пробегаете один километр за четыре минуты, хотя на самом деле тратите на это больше времени. Снова и снова повторяя свою ложь, пусть и незначительную, вы со временем можете забыть о том, какова на самом деле ваша средняя скорость. Вы можете поверить в свою легенду настолько, что будете готовы биться об заклад, отстаивая свою «правоту».
Расскажу историю, в которой я сам выступил в роли обманщика. Летом 1989 года — примерно через два года после того, как я выписался из больницы, — мы с моим другом Кеном решили развеяться и слетать из Нью-Йорка в Лондон. Мы купили самые дешевые билеты; перевозчиком оказалась компания Air India. Подъехав к нужному терминалу, мы увидели невероятно длинную очередь из людей, стремившихся попасть в здание аэропорта. Кен, всегда отличавшийся сообразительностью, моментально отреагировал: «А давай посадим тебя в инвалидное кресло!» Я немного подумал над этим предложением. Конечно, в кресле мне было бы удобнее и мы могли быстрее попасть внутрь, минуя очередь. (Честно говоря, мне действительно тяжело долго стоять из-за плохой циркуляции крови в ногах. Но инвалидное кресло мне точно не требуется.)
Мы были убеждены, что план хорош. Кен выскочил из такси и вскоре вернулся с креслом-коляской. Мы быстро прошли досмотр, зарегистрировались на рейс и принялись коротать время за кофе и бутербродами. Но тут мне понадобилось зайти в туалет. Кен довез меня до ближайшего, который, к сожалению, не был предназначен для инвалидов. Тем не менее я продолжил играть свою роль. Мы подкатили кресло насколько возможно близко к писсуару, и я попытался попасть в цель с этого расстояния, не добившись, впрочем, особого успеха.
Пока мы проходили испытание писсуаром, подошло время садиться в самолет. Наши места были в одном из последних рядов. Когда мы оказались перед входом в салон самолета, до меня дошло, что кресло слишком широкое, чтобы поместиться между рядами кресел. Поэтому мы сделали то, что диктовал мой новый образ: я оставил кресло у входа, обнял Кена за плечи, и он дотащил меня до наших мест.
Сидя в ожидании взлета, я с негодованием думал о том, что туалет в аэропорту был не предназначен для инвалидов, а сотрудники авиакомпании не предложили мне кресло поуже, чтобы я мог добраться до своего места. Раздражение усилилось, когда я понял, что буду вынужден воздержаться от питья в течение всего шестичасового перелета: ведь я не смогу воспользоваться туалетом, если не хочу выходить из образа. Следующая проблема возникла, когда мы приземлились в Лондоне. Кену пришлось еще раз дотащить меня до выхода, а потом нам пришлось ждать, так как авиакомпания не успела вовремя доставить к самолету инвалидное кресло.
Это небольшое приключение заставило меня осознать, как часто сталкиваются с подобными проблемами настоящие инвалиды. Я был разгневан настолько, что решил подать жалобу в лондонское представительство Air India. Как только нам привезли кресло, мы покатили к офису авиакомпании, где я, едва не лопаясь от негодования, описал все проблемы и унижения, с которыми столкнулся, устроив главе регионального отделения настоящую выволочку за отсутствие заботы об инвалидах. Разумеется, он рассыпался в извинениях, а мы покатили дальше.
И вот что странно: все это время я полностью осознавал, что могу ходить. Но я настолько быстро и глубоко вжился в новый образ, что испытывал совершенно искреннее чувство возмущения — как будто у меня действительно был для него законный повод. В конце концов мы добрались до зала выдачи багажа, я взял свой рюкзак и вышел из аэропорта как ни в чем не бывало, словно Кайзер Созе из фильма «Обычные подозреваемые»[24].
Чтобы лучше понять, что такое самообман, мы с Зое Чанс (аспирантом в Йельском университете), Майком Нортоном и Франческой Джино решили выяснить, как люди заставляют себя поверить в собственную ложь и можно ли этого избежать.
Эксперимент состоял из двух частей; в первой мы предложили участникам ответить на восемь вопросов, похожих на те, которые используются для оценки уровня интеллекта (вот один из них: «Чему равно число, составляющее половину четверти одной десятой части числа 400?»). После завершения теста участники контрольной группы отдавали листы с ответами наблюдателю. Сравнив ответы, мы установили среднюю результативность[25].
Участники другой группы, действовавшие в условиях, способствующих мошенничеству, получили бланки с подсказками (правильные ответы были указаны в нижней части страницы). Мы сказали, что подсказки приведены для того, чтобы испытуемые могли проверить свои результаты, а также понять, насколько хорошо в целом они отвечали на вопросы. Мы попросили студентов быть честными и сначала записать свои варианты ответов и лишь потом сверить их с правильными. Так они и поступили.
Что нам удалось выяснить на этой стадии эксперимента? Как и ожидалось, результаты участников, имевших возможность сверить ответы, оказались чуть выше среднего. Это давало основания предположить, что они использовали подсказки не только для проверки, но и для улучшения своих результатов. Как и во всех других наших экспериментах, мы обнаружили, что люди обманывают, когда им представляется такая возможность, но не злоупотребляют ею.
Как я помогал себе улучшить результаты теста
Идею очередного эксперимента мне подсказали журналы, которые обычно можно найти на борту самолета, в карманах кресел. Однажды во время полета я листал такой журнал и наткнулся на так называемый тест Менса (ответы на вопросы которого дают представление об уровне интеллекта отвечающего). Я довольно азартен и, конечно, не мог упустить такую возможность. В примечаниях к тесту было сказано, что правильные ответы напечатаны на последней странице журнала. Ответив на первый вопрос, я заглянул на последнюю страницу, чтобы выяснить, был ли мой ответ правильным, и — подумать только! — я не ошибся. Я вернулся к тесту и некоторое время спустя заметил: просматривая подсказки, я каждый раз невольно опускал взгляд ниже, к ответу на следующий вопрос. Понятно, что находить правильные ответы мне было несложно. Так и оказалось: я правильно ответил на большинство вопросов, что позволило мне без труда убедить себя в собственной гениальности. Но потом я задумался: действительно ли мои результаты — свидетельство того, что я невероятно умен, или все дело в том, что я краем глаза видел правильные ответы? (Разумеется, я был склонен считать, что залог успеха — мой блестящий интеллект.)
Нечто подобное может произойти с кем угодно: при условии, что правильные ответы приводятся на другой странице или напечатаны вверх ногами, как это часто бывает в журналах и руководствах по проведению SAT-теста (его проходят все абитуриенты, поступающие в высшие учебные заведения США). Мы часто обращаемся к подсказкам, не пройдя тест до конца: чтобы убедиться в собственной толковости или (в случае неверного ответа) сказать себе, что допустили глупую ошибку, чего никогда бы не случилось, будь экзамен настоящим. Так или иначе, дело заканчивается довольно раздутым самомнением и уверенностью в собственной гениальности — и, разумеется, мы с радостью это принимаем.
Результаты первого этапа нашего эксперимента показали, что участники были склонны заглядывать в подсказки: это помогало им значительно улучшить результаты. Однако этот вывод не позволял нам понять, были их действия старым добрым мошенничеством или участники обманывали сами себя. Другими словами, было неочевидно: понимают ли участники, что мошенничают, или убедили себя в том, что действительно знают правильные ответы. Чтобы разобраться в этом, мы дополнили следующий этап эксперимента новым условием.
Представьте, что вы принимаете участие в тесте, аналогичном описанному выше. Перед вами восемь вопросов; вы правильно отвечаете на четыре из них (50 %). Однако в нижней части страницы даны все ответы, и вы заявляете, что на самом деле справились с шестью вопросами (75 %). Как вы думаете, каковы ваши реальные способности: ответить на 50 % или на 75 % вопросов? С одной стороны, вы, возможно, осознаете, что использовали подсказки, чтобы прокачать свой результат, и понимаете, что ваши реальные способности ближе к 50 %. С другой стороны, зная, что вам заплатили за шесть правильных ответов, вы можете убедить себя в том, что действительно способны пройти тест на уровне, близком к 75 %.
И вот тут начинается вторая фаза эксперимента. После завершения предыдущего теста наблюдатель просит вас предсказать, насколько хорошо вы проявите себя в следующем испытании: в нем вам предстоит ответить еще на 100 вопросов. Понятно, что на этот раз подсказок в нижней части страницы не будет (то есть вы не сможете обратиться к ним «за консультацией»). Какими, по вашему мнению, будут результаты следующего теста? Будут они основаны на ваших реальных способностях, продемонстрированных на первом этапе (50 %), или на завышенных (75 %)? Логично предположить следующее: если вы осознаете, что использовали подсказки в предыдущем тесте, чтобы искусственно завысить результат, то ваш прогноз будет этому результату соответствовать. То есть вы дадите примерно столько же правильных ответов, сколько дали самостоятельно (без подсказок) в первом тесте (в процентном соотношении, то есть около 50 %). Но, допустим, вы действительно верите в то, что смогли ответить на шесть вопросов самостоятельно, а не потому, что смотрели на подсказки. Тогда вы предположите, что и в следующем тесте ответите на большее количество вопросов (ближе к 75 %). Разумеется, на самом деле лишь каждый второй ответ будет правильным, однако самообольщение заставляет вас пыжиться, вставать на цыпочки (подобно вышеупомянутому крабу) и свято верить в свои способности.
Результаты эксперимента показали, что участники находились под психологическим воздействием завышенной самооценки. Прогнозы, которые они давали на втором этапе тестирования, показали: испытуемые не просто подглядывали, чтобы улучшить показатели, — они довольно быстро убедили себя в том, что добились высоких результатов сами, без помощи подсказок. Проще говоря, те, у кого был шанс подсмотреть правильные ответы на первом этапе (и смошенничать), поверили в то, что хорошие результаты действительно отражали их истинные способности.
Что, если бы на втором этапе мы заплатили участникам за точность их прогнозов? С появлением материальной заинтересованности участники, вероятно, не смогли бы столь явно игнорировать факт мошенничества. Мы повторили эксперимент с новой группой участников, на этот раз пообещав им по 20 долларов за верный прогноз результатов второго этапа. Даже при наличии финансового стимула, требовавшего большей аккуратности в прогнозах, участники продолжали переоценивать свои способности и стремились завысить результаты. Даже в условиях сильной мотивации самообольщение правит бал.
Я ТАК И ЗНАЛ
Я часто читаю лекции о своих исследованиях самым разным людям, от преподавателей до работников промышленных предприятий. Когда я только начинал свою лекторскую деятельность, я обычно следовал одной схеме: описывал сам эксперимент, рассказывал о результатах и делился своими заключениями. При этом я часто замечал, что слушатели отнюдь не были удивлены результатами, о чем с готовностью мне сообщали. Я недоумевал. «Исход эксперимента часто был неочевиден даже для меня самого. Неужели мои слушатели настолько проницательны? — удивлялся я. — Каким образом они узнали о результатах раньше меня? Или это интуиция, проявляющаяся задним числом?»
Со временем я нашел способ бороться с этими многочисленными «я так и знал». Я просил слушателей предсказать результаты экспериментов. Завершив описание эксперимента и объяснив, что именно мы хотели выяснить с его помощью, я давал аудитории несколько секунд на раздумья. Затем я просил их проголосовать за тот или иной исход эксперимента или просто записать свой прогноз на листе бумаги. Лишь после этого я делился с аудиторией результатами наших тестов. И это сработало. Теперь я крайне редко слышу от аудитории: «Ну, я так и знал».
В честь свойственной людям склонности убеждать самих себя в том, что они знают ответы на все вопросы заранее, я назвал свой исследовательский центр в Университете Дьюка «Центр передового послезнания».
Любовь к преувеличениям
Давным-давно, в начале 1990-х гг., знаменитый кинорежиссер Стэнли Кубрик услышал от своего ассистента историю о человеке, притворявшемся самим Кубриком. Псевдо-Кубрик (его звали Алан Конуэй, и он совсем не был похож на чернобородого режиссера) бродил по Лондону и рассказывал всем, кто он такой (точнее, кем он в действительности не был). Поскольку настоящий Стэнли Кубрик был довольно замкнутым человеком и сторонился папарацци, лишь немногие знали, как он выглядит. Доверчивые обыватели, приходящие в трепет от перспективы лично познакомиться со знаменитым режиссером, с готовностью попадались на удочку Конуэя. Представители студии Warner Bros., финансировавшей работы Кубрика и занимавшейся прокатом его фильмов, начали звонить в его офис едва ли не каждый день с жалобами от людей, которые никак не могли понять, «почему Стэнли не выходит с ними на связь». Они же поили и кормили его, оплачивали его поездки на такси, и вообще — Кубрик обещал им роль в своем следующем фильме!
Как-то раз Фрэнк Рич (бывший театральный критик и автор колонки в The New York Times) обедал в одном из лондонских ресторанов в обществе своей жены и другой семейной пары. Оказалось, что в это же время за соседним столом сидел «поддельный» Кубрик — в компании с известным парламентарием (обладателем рыцарского титула) и несколькими молодыми людьми, которых он потчевал историями о тонкостях кинематографического процесса. Заметив Рича, Конуэй подошел к нему и сообщил, что собирается подать судебный иск против The New York Times: в одном из выпусков газеты его назвали «пребывающим в состоянии творческой спячки». Рич, восхищенный встречей с «затворником» Кубриком, попросил разрешения взять у него интервью. Конуэй дал согласие, предложил Ричу перезвонить ему на днях, назвал номер своего домашнего телефона и… исчез.
Вскоре после этого инцидента в жизни Конуэя началась черная полоса: Рич и все остальные поняли, что стали жертвами мошенника. Окончательно все детали этой аферы стали известны, когда Конуэй решил продать свою историю журналистам. Он заявил, что стал жертвой психического расстройства, но теперь потихоньку выздоравливает («Это необъяснимо. Кубрик завладел мной. Я действительно верил в то, что я — это он!»). В конце концов Конуэй спился, обнищал и умер всего за три месяца до смерти Кубрика[26].
Хотя эта история и является исключительной по своей сути, возможно, Конуэй, щеголяя своим «звездным» обличьем, действительно верил, что он — Кубрик. Это заставляет задаться вопросом: что, если некоторые склонны верить своим фантазиям в большей степени, чем остальные? Чтобы изучить такую возможность, мы провели эксперимент, напоминавший наш базовый тест на самообман. Однако на этот раз мы решили измерить склонность испытуемых закрывать глаза на собственные ошибки. Для этого мы попросили участников теста согласиться или не согласиться с несколькими утверждениями, например такими: «Мое первое впечатление о людях обычно верное» и «Я никогда не скрываю свои ошибки». Мы хотели узнать, обладают ли те, кто чаще отвечал «да» на такие вопросы, большей склонностью к самообману.
Мы вновь убедились в том, что люди, имеющие доступ к правильным ответам, мошенничают и получают более высокие результаты. Как и прежде, они предположили, что в следующем тесте дадут правильные ответы на большее количество вопросов. Они опять предсказуемо заработали меньше, чем могли бы, поскольку преувеличили свои возможности. Но вернемся к тем, кто чаще отвечал «да» на заявления о собственных склонностях. Таких было много, и именно они утверждали, что смогут добиться более высоких результатов во второй фазе эксперимента.
ГЕРОИЧЕСКИЕ ВЕТЕРАНЫ?
В 1959 году умер «последний остававшийся в живых ветеран Гражданской войны» Уолтер Уильямс. Он удостоился пышных похорон: на сопровождавший их военный парад пришли десятки тысяч человек. Был объявлен недельный траур. Много лет спустя журналист по имени Уильям Марвел обнаружил, что на момент начала войны Уильямсу было всего пять лет. Это означало, что тот не мог служить в армии ни в каком качестве, потому что был слишком юн. Но и это еще не все. Уолтер Уильямс «позаимствовал» свой статус у человека по имени Джон Сэллинг, который, как выяснил Марвел, тоже называл себя старейшим ветераном Гражданской войны и тоже безосновательно. По мнению Марвела, из 10 последних оставшихся в живых ветеранов Гражданской войны ни один таковым не являлся.
Таких историй множество, в том числе и связанных с недавними войнами (хотя может показаться, что в последнем случае сфальсифицировать факты значительно сложнее). Один из известных примеров: сержант Томас Ларез, получивший множественные огнестрельные ранения во время боев с афганскими талибами, когда помогал раненому солдату добраться до укрытия. Он не только спас жизнь друга, но и уничтожил, несмотря на собственные ранения, семь бойцов «Талибана». Информация о подвиге Лареза вышла в эфир на новостном канале штата Даллас. Впоследствии каналу пришлось опровергать свое же сообщение: выяснилось, что Ларез, хотя и служил морским пехотинцем, никогда не был в Афганистане или соседних с ним странах. История сержанта была ложью от начала и до конца.
Журналисты часто занимаются разоблачением таких фальшивок. Однако время от времени их тоже ловят на обмане. В одной передаче журналист-ветеран Дэн Разер со слезами на глазах и дрожащим голосом рассказывал о своей карьере в морской пехоте. Потом выяснилось, что он даже не прошел базовый подготовительный курс. Судя по всему, Разер искренне верил в то, что его вовлеченность в процесс была значительно более глубокой, чем в действительности.
Можно найти множество причин, по которым люди преувеличивают свои заслуги. Однако частота, с которой они лгут о своем образовании, профессиональном опыте и личной жизни, наводит на ряд интересных вопросов. Насколько вероятно, что официально зафиксированный факт публичной лжи действует в качестве своеобразного маркера наших достижений, «напоминая» о фальшивом успехе и тем самым помогая лжи закрепиться в нашей жизни? Если у нас есть какой-то трофей, сертификат или медаль, подтверждающие успехи, которых мы никогда не достигали, помогает ли этот маркер держаться за нашу фальшивую уверенность в собственных способностях? Могут ли такие сертификаты или дипломы повысить нашу способность к самообману?
Прежде чем я расскажу о соответствующем эксперименте, упомяну один факт: на стене моего офиса красуются два диплома, выданные MIT. На одном написано «Бакалавр очаровательных наук», второй подтверждает мою кандидатскую степень. Эти дипломы я получил в так называемой Школе очарования; она открывает свои двери на один месяц — январь, холодный и ненастный. Там меня учили бальным танцам, поэзии, искусству завязывания галстука и другим изящным наукам. Скажу честно: чем дольше эти дипломы висят на моей стене, тем сильнее моя вера в то, что я — само очарование.
Мы проверили воздействие «эффекта сертификатов» на наших участниках, для начала дав им возможность смошенничать в первом тесте (с подсказками). После этого мы вручили им дипломы, подтверждающие их результаты, разумеется фальшивые (результаты, не дипломы). На каждом дипломе мы написали имя участника и напечатали их на красивых бланках весьма официального вида. Другие участники дипломы не получили. Способны ли эти маркеры успеха заставить участников сильнее поверить в свои выдающиеся результаты, которые на самом деле отчасти объясняются наличием подсказок? Будут ли участники убеждены в том, что результаты в полной мере отражают их способности?
Как выяснилось, я не единственный, кто находится под влиянием дипломов, висящих на стене. Участники эксперимента, получившие дипломы, в своих прогнозах указали, что во втором тесте смогут ответить на большее количество вопросов. Судя по всему, имея перед глазами маркеры-напоминания о хорошо проделанной работе, мы быстрее убеждаем себя в том, что наши достижения реальны, как бы там ни было на самом деле.
Писательница Джейн Остин в своей книге «Разум и чувства» привела замечательный пример того, как наши эгоистичные интересы, не без помощи окружающих, заставляют нас поверить: эгоизм — не что иное, как милосердие и великодушие. В книге описана сцена, где Джон, первый и единственный сын и законный наследник своего отца, обдумывает обещание, которое дал родителю. Когда тот умирал, Джон пообещал старику позаботиться о своей доброй, но бедной мачехе и трех сводных сестрах. По собственной воле он решает выделить женщинам 3000 фунтов, что составляет малую часть от полученного наследства; этого хватит для достойной жизни. Джон добродушно заключает: он вполне может отдать столь значительную сумму без ущерба для себя.
Джон удовлетворен своим решением и тем, как легко оно ему далось. Однако его умная и эгоистичная жена без особого труда убеждает супруга, что любая сумма, которую он отдаст сводной семье, доведет его самого, жену и их сына «до полнейшей нищеты». Подобно злой сказочной ведьме, она убеждает мужа, что его отец бредил, когда просил сына о помощи, — ведь он был при смерти в этот момент. Затем она начинает долго и нудно рассуждать об эгоизме мачехи Джона. Как вообще она и его сводные сестры могли подумать, что заслуживают хоть каких-то денег? Почему Джон должен тратить состояние отца на нужды алчной мачехи и ее дочерей? У Джона как следует промыты мозги, и он приходит к новому решению: «предложить вдове отца и его дочерям что-нибудь… было бы не только совершенно лишним, но, пожалуй, в высшей степени неприличным». Дело сделано! Совесть чиста, алчность оправдана, деньги на месте.
Самообман в мире спорта
Все спортсмены знают, что использование стероидов незаконно. Если они попадутся на использовании стероидов, это бросит тень не только на их рекорды, но и на спорт в целом. Однако жажда новых (подпитанных стероидами) рекордов, внимания прессы и обожания фанатов так велико, что многие атлеты все равно мошенничают. Это происходит везде, во всех видах спорта. Вспомним Флойда Лэндиса, лишенного титула победителя «Тур де Франс» в 2006 году из-за применения стероидов. Университет Уотерлу на год отстранил свою футбольную команду от участия в соревнованиях после того, как у восьми игроков результаты теста на анаболические стероиды оказались положительными. Болгарский тренер по футболу был на четыре года отстранен от работы после того, как перед началом матча дал своим игрокам стероиды. Мы можем лишь предполагать, о чем думают спортсмены, использующие стероиды, выиграв матч или в момент вручения медалей. Сознают ли они, что не заслужили награду, или искренне верят, что высокий результат — ожидаемое следствие их умений?
Вот, например, бейсбол. Смог бы Марк Макгвайр поставить столько рекордов, если бы не стероиды? Верил ли он, что его достижения зависели исключительно от его навыков? После публичного признания в использовании стероидов Макгвайр заявил: «Я уверен, что многие будут задаваться вопросом, сумел бы я добиться успеха без стероидов. Были хорошие годы — и при этом я обходился без стероидов, а бывало наоборот — я принимал их, а играл плохо. Как бы то ни было, мне не следовало их принимать, и мне искренне жаль, что я это делал».
Возможно, Макгвайр действительно раскаялся, но проблема в другом: ни сам игрок, ни его фанаты так и не знают, насколько хорош он был на самом деле.
Как видите, люди склонны верить собственным надуманным историям. Можно ли избежать такого поведения или хотя бы снизить его частоту? Поскольку, как показал наш эксперимент, даже в случае финансовой заинтересованности люди едва ли способны отказаться от самообмана, мы решили попробовать еще раз, но вмешаться чуть раньше, в тот момент, когда испытуемые сталкивались с искушением и получали возможность смошенничать (тот же подход мы использовали в эксперименте с 10 заповедями, о котором я рассказывал в главе 2 «Поправка на хитрость: некогда скучать»). Поскольку участники очевидным образом игнорировали тот эффект, который оказывали на их результаты правильные ответы-подсказки, мы задались новым вопросом: что произойдет, если в тот момент, когда испытуемые пользуются подсказками, они поймут, что от этого зависит их результат? Если связь между использованием подсказок и улучшением результатов будет очевидна, насколько сложнее — или легче — станет участникам убедить себя в том, что они с самого начала знали правильный ответ?
В рамках нашего базового (с использованием листов бумаги, на которых были напечатаны вопросы) эксперимента было невозможно определить, в какой момент участники переводили взгляд на подсказки — равно как и выяснить, в какой мере они осознавали, что подсказки помогают им ответить правильно. Поэтому мы изменили условия и попросили участников пройти тот же тест, но с использованием компьютеров. На этот раз увидеть правильные ответы было сложнее. Для того, чтобы подсказка появилась на экране, нужно было передвинуть курсор; когда он возвращался на место, подсказка снова исчезала. Это заставляло участников фиксировать внимание на том, когда и как долго они смотрят на подсказку, и им было сложнее игнорировать свои очевидно преднамеренные действия.
Хотя почти все участники воспользовались подсказками как минимум по одному разу, выяснилось, что они не переоценили результаты второго теста (в отличие от эксперимента с использованием листов бумаги) и дали точный прогноз. Испытуемые все равно мошенничали, но осознание того факта, что они пользуются подсказками — тогда как раньше они считали, что просто бросили в нижнюю часть страницы случайный взгляд, позволило им не поддаться склонности к самообману. Похоже, когда мы полностью осознаем, что занимаемся обманом, нам становится куда сложнее приписывать себе лишние заслуги.
Самообман и самосовершенствование
Так что же нам делать с самообманом? Поддерживать его? Бороться с ним? Подозреваю, что самообман очень похож на своих близких родственников: чрезмерную самоуверенность и оптимизм. У него есть свои преимущества и недостатки. С одной стороны (положительной), необоснованно глубокая вера в себя может улучшить наше самочувствие, помогая справиться со стрессом; сделать нас более выносливыми при выполнении сложных или утомительных заданий; подтолкнуть к изучению чего-то нового и неизвестного.
Отчасти мы занимаемся самообманом для того, чтобы поддерживать хорошее мнение о самих себе. Мы закрываем глаза на свои поражения, подчеркиваем успехи (даже когда они не совсем наши), любим винить окружающих и обстоятельства в тех случаях, когда наши ошибки и неудачи очевидны. Как наш приятель краб, мы пользуемся самообманом, чтобы чувствовать себя увереннее, когда этой уверенности нам не хватает. Самопозиционирование, основанное на сильных сторонах нашей натуры, помогает договориться о свидании, завершить крупный проект или устроиться на хорошую работу (разумеется, я не предлагаю вам заниматься приписками при составлении резюме, но уверенность в себе будет только на пользу).
Негативная сторона самообмана состоит в следующем: если наши действия базируются на чересчур оптимистичном мнении о самих себе, мы можем ошибочно предположить, что обстоятельства сложатся наилучшим образом без нашего участия. Как следствие, мы можем отказаться от принятия оптимального для той или иной ситуации решения. Самообольщение может побудить нас «приукрасить» свою жизнь, например рассказать о полученной в престижном университете ученой степени, а потом страдать, потому что правда рано или поздно выйдет наружу. За обман всегда надо платить. Когда люди ведут себя нечестно, они и других начинают подозревать в отсутствии честности, а жить без доверия очень сложно во всех смыслах.
Между счастьем (частично основанным на самообмане) и правильными решениями, от которых зависит наше будущее (и более реалистичным видением нас самих), существует баланс. Конечно, приятно идти по жизни с горящими глазами и надеждами на «прекрасное далеко», но следует помнить: столкнувшись с реальностью, самообман и чрезмерно раздутая самооценка могут оказать разрушающее воздействие на нашу личность.
Положительные стороны лжи
Когда мы лжем во благо другого человека, это называется «ложь во спасение». Используя ее, мы увеличиваем поправочный коэффициент, но делаем это не по эгоистичным причинам. Представьте, к примеру, неискренние комплименты. Нам всем известен классический пример «лжи во спасение», когда женщина с лишним весом, надевая обтягивающее платье, спрашивает мужа: «Оно меня не полнит?» Мужчина быстро анализирует риски: вся жизнь проносится перед его глазами, когда он представляет, что произойдет, скажи он горькую правду. И мужчина отвечает: «Дорогая, ты выглядишь прекрасно». Еще один тихий вечер, еще один спасенный брак.
Иногда такая «благородная ложь» — лишь дань социальным условностям, но порой она творит настоящие чудеса, помогая людям преодолеть сложные жизненные обстоятельства. Сам я понял это в 18 лет, когда стал жертвой несчастного случая. Чудом избежав смерти, я оказался в больнице с ожогами третьей степени, покрывавшими более 70 % моего тела. С самого начала врачи и медсестры твердили: «Все будет хорошо». И я хотел им верить. Для моих молодых ушей фраза «все будет хорошо» значила, что многочисленные шрамы от ожогов и следы пересадки кожи со временем исчезнут, как исчезают незначительные ожоги, которые мы получаем, жаря сосиски на гриле.
Однажды, ближе к концу первого года моего пребывания в больнице, мой терапевт сказала, что хочет познакомить меня с бывшим пациентом, тоже сильно пострадавшим от ожогов 10 лет назад. Врач хотела показать, что я тоже смогу жить в обычном мире и делать все, к чему привык, — иными словами, что все будет хорошо. Но, когда тот человек вошел в мою палату, я пришел в ужас. Он весь был покрыт шрамами. Он мог двигать руками, и движения эти отличались завидным разнообразием, но самые простые действия он выполнял с большим трудом. Я совсем по-другому представлял свое выздоровление, способность вести нормальную жизнь и то, как я буду выглядеть, выйдя из больницы. После той встречи я впал в глубокую депрессию, поняв, что мои шрамы так и останутся видны, а функции тела не восстановятся в полной мере.
Доктора и медсестры лгали мне и в другом (конечно, из лучших побуждений). Например, рассказывая о том, какую боль мне предстоит перенести. Во время одной невероятно долгой операции в мои пальцы ввели длинные тонкие спицы, от подушечек сквозь суставы: пальцы должны были оставаться прямыми, чтобы кожа нарастала равномерно. На торчащий из каждого пальца конец спицы насадили кусочек пробки, чтобы я случайно не поцарапался или не выколол себе глаз. Прожив пару месяцев с этими причудливыми приспособлениями, я узнал, что удалять спицы будут в обычном процедурном кабинете, а не в операционной — то есть без анестезии. Я забеспокоился, ожидая, что операция будет весьма болезненной. Однако медсестры сказали: «О, не волнуйся! Это очень простая процедура, больно не будет». Следующие несколько недель я провел, не особенно задумываясь о том, что мне предстоит.
Наконец момент настал. Одна медсестра крепко держала мой локоть, а вторая, используя щипцы, медленно вытаскивала спицы. Разумеется, боль была нестерпимой. Она не прекращалась несколько дней, и это было совершенно не похоже на то, как медсестры описывали процедуру. Впрочем, оглядываясь назад, я рад, что они мне солгали. Если бы они правдиво рассказали, что меня ожидает, я неделями жил бы в состоянии стресса, думая о предстоящих мучениях. А это, в свою очередь, негативно повлияло бы на мой и без того ослабленный иммунитет. В итоге я пришел к убеждению, что существуют определенные обстоятельства, при которых «ложь во спасение» обоснованна.
Глава 7. Изобретательность и нечестность: все мы фантазеры
Факты нужны только тем, кому не хватает воображения, чтобы создать свою правду.
Как-то раз два исследователя, Ричард Нисбетт (преподаватель Мичиганского университета) и Тим Уилсон (преподаватель Вирджинского университета), поставили в местном супермаркете стол и положили на него четыре пары нейлоновых чулок. Затем они попросили проходивших мимо покупательниц оценить, какая пара чулок нравится им больше других. Подавляющее большинство покупательниц выбирали крайнюю правую пару. Почему? Кому-то больше нравился материал или цвет. Другие считали, что именно у этого товара высокое качество. Такая избирательность показалась экспериментаторам весьма интересной, учитывая тот факт, что все четыре пары чулок были идентичными (впоследствии Нисбетт и Уилсон повторили эксперимент, но уже с ночными рубашками — и с тем же результатом).
Исследователи просили каждую участницу эксперимента объяснить, чем она руководствовалась, делая свой выбор, и ни одна не упомянула расположение чулок на столе. Даже когда экспериментаторы сообщали женщинам, что все чулки были одинаковыми и те просто предпочли пару, лежавшую справа, опрашиваемые отвергали эту версию и смотрели на исследователей с недоумением. Такое их поведение давало основание предположить: женщины в этот момент думали, что неправильно поняли вопрос или что имеют дело с человеком не в своем уме.
В чем мораль этой истории? Мы далеко не всегда в точности знаем, почему делаем то, что делаем, выбираем то, что выбираем, или чувствуем то, что чувствуем. Однако неочевидность истинной мотивации не мешает нам придумывать идеальные и логичные (или кажущиеся таковыми) обоснования своих действий, решений и чувств.
За эту поразительную способность можете благодарить (или проклинать) левое полушарие своего мозга. Следуя формулировке специалиста по когнитивной нейробиологии Майкла Газзаниги (преподавателя Калифорнийского университета в Санта-Барбаре), это полушарие является «толкователем», преобразующим пережитый нами опыт в увлекательные истории.
Газзанига пришел к такому заключению после многих лет исследований пациентов с расщепленным мозгом, группы людей, перенесших операцию по рассечению мозолистого тела — пучка нервных волокон, соединяющих два полушария мозга (обычно такие операции проводятся для лечения больных эпилепсией, чтобы уменьшить интенсивность припадков или сократить их частоту). Интересный факт: при такой аномалии одна половина мозга может идентифицировать получаемый стимул, а вторая не будет иметь о нем ни малейшего представления.
Работая с пациенткой, у которой было рассечено мозолистое тело, Газзанига пытался выяснить, что происходит, если попросить правую половину мозга что-то сделать, а левую (не обладающую информацией о том, что творится в правой) — найти рациональное объяснение этому действию. С помощью устройства, демонстрировавшего правому полушарию написанные на экране инструкции, Газзанига приказывал правой части мозга пациентки засмеяться — в этот момент на экране появлялась мигающая надпись «смех». Когда женщина сделала это, Газзанига спросил, почему она засмеялась. Та не знала, но, вместо того чтобы в этом признаться, придумала целую историю. «Вы каждый месяц приходите сюда и тестируете нас. Забавный способ заработать себе на жизнь!» — сказала она.
Эта история иллюстрирует свойство — в крайнем его проявлении, — присущее нам всем. Мы нуждаемся в объяснениях того, почему ведем себя определенным образом и как функционирует окружающий мир. Мы нуждаемся в объяснениях, даже когда они совершенно никчемны и имеют мало общего с реальным положением дел. Мы по натуре склонны рассказывать истории и делаем это до тех пор, пока не находим объяснение, которое нам нравится и которое звучит достаточно правдоподобно, чтобы ему поверить. А если эта придуманная история к тому же показывает нас с позитивной стороны — еще лучше.
Обмани себя
В 1974 году в своей речи, обращенной к выпускникам Калифорнийского технологического института, физик Ричард Фейнман сказал: «Первое правило: вы не должны себя дурачить, хотя проще всего дурачить самих себя». Как было отмечено выше, все люди подвержены фундаментальному конфликту между глубоко укоренившейся склонностью лгать себе и окружающим и желанием думать о себе как о хорошем и честном человеке. Поэтому мы оправдываем свою нечестность, рассказывая истории о том, почему наши действия приемлемы, а порой и желательны. Что и говорить, мы настоящие мастера дурить голову самим себе.
Прежде чем мы подробно изучим, что заставляет нас плести небылицы, позвольте рассказать историю о том, как однажды я одурачил самого себя (и весьма успешно). Когда мне стукнуло 30, я решил, что должен продать мотоцикл и купить автомобиль, и стал думать, какая именно модель идеально мне подойдет. В то время в интернете только начали появляться сайты, которые я вежливо называю «помощниками в принятии решений», и, к моей радости, я нашел среди них один с рекомендациями по покупке автомобиля. Сайт был выстроен по принципу интервью: я должен был ответить на множество вопросов, от моих ценовых предпочтений и требований к безопасности до желаемого типа фар и тормозных дисков.
Мне потребовалось около 20 минут, чтобы ответить на все вопросы. Каждый раз, покончив с очередной страницей, я видел цветовой индикатор, сообщавший, насколько ближе я стал к обретению машины своей мечты. Ответив на вопросы на последней странице, я нажал кнопку «Готово» и через несколько секунд получил ответ. Сайт с тонкими настройками, учитывавшими все мои пожелания, выдал результат: моей идеальной машиной был… барабанная дробь… Ford Taurus!
Должен признаться, что в то время не так уж много знал об автомобилях. Я и сейчас знаю о них крайне мало. Однако в тот момент я совершенно ясно осознавал, что не хочу покупать Ford Taurus[27].
Не берусь предполагать, что в такой ситуации сделали бы вы, но я поступил так же, как любой другой творческий человек. Я снова зашел на сайт и стал исправлять свои ответы. Время от времени я проверял результаты, чтобы понять, как новый ответ влиял на рекомендации. Это продолжалось до тех пор, пока программа не сжалилась и не посоветовала мне купить малолитражку со складывающейся крышей (именно то, что я хотел). Я последовал этому мудрому совету и стал гордым владельцем кабриолета (который, кстати, прослужил мне верой и правдой многие годы).
Этот опыт подсказал мне, что иногда (или довольно часто) мы делаем выбор, основываясь не на четко сформулированных предпочтениях. Вместо этого мы пользуемся интуицией и занимаемся своего рода умственной гимнастикой, используя все виды оправданий для манипулирования критериями. Таким образом мы получаем то, что на самом деле хотим получить, сохраняя видимость (перед самими собой и окружающими) действий, соответствующих нашим рациональным, хорошо аргументированным предпочтениям.
Логика монетки
Признав тот факт, что мы часто принимаем решения подобным образом, возможно, мы сможем сделать процесс рационализации более эффективным и менее затратным с точки зрения времени. Например, так: представьте, что вам нужно сделать выбор между двумя цифровыми камерами. У камеры A хороший зум и мощный аккумулятор, а камера Б легче и выглядит эффектнее. Вы не знаете, какую выбрать. Вам кажется, что камера A лучше, но камера Б нравится вам больше. Что же делать? Позвольте дать совет. Вытащите из кармана монету и скажите себе: «Камера A — это орел, а камера Б — решка». А теперь бросайте. Если выпадет орел и вы действительно хотите купить камеру А, купите ее. Но, если результат броска вас не удовлетворил, попробуйте еще раз, сказав себе: «Вот теперь сделаю так, как выпадет». Продолжайте до тех пор, пока не выпадет решка. В этом случае вы не только приобретете камеру Б, которую хотели купить с самого начала, но и сможете оправдать свое решение: вы просто следовали «подсказке» монеты. (Вместо монеты можете воспользоваться помощью друзей и опрашивать их до тех пор, пока кто-то из них не даст вам именно тот совет, которого вы ждали.)
Возможно, в этом и заключалась истинная задача программы, благодаря которой я купил свой автомобиль. Не исключено, что она была создана не только для того, чтобы помочь мне принять правильное решение, но и чтобы запустить процесс, позволивший мне оправдать свой выбор — выбор, который я хотел сделать. Если дело действительно в этом, думаю, не помешало бы создать множество других похожих программ, которые изрядно облегчили бы нашу жизнь.
Мозг лжеца
Многие думают, что некоторым людям особенно легко (или, наоборот, тяжело) дается обман. Если это правда, есть ли у таких людей отличительные признаки? Команда исследователей под руководством Ялин Ян (постдок в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе) попыталась найти ответ на этот вопрос, изучая патологических лжецов, то есть людей, которые лгут непроизвольно и бессистемно.
Чтобы найти участников для своего исследования, Ян и ее коллеги отправились в городское агентство по трудоустройству временно безработных. Ученые предполагали, что по крайней мере несколько людей из тех, кто постоянно сидит без работы, испытывают проблемы с трудоустройством из-за патологического вранья (само собой, это не относится ко всем, у кого нет постоянной работы).
Исследователи создали группу из 108 безработных, провели на них серию психологических тестов, а также организовали индивидуальные, с глазу на глаз, интервью с самими участниками, членами их семей и бывшими сослуживцами, пытаясь выявить основные признаки, по которым можно определить патологического лжеца. У 12 человек из 108 ученые обнаружили заметные расхождения в рассказах о работе, обучении в школе, семейных обстоятельствах и совершенных преступлениях. Эти же люди чаще других уклонялись от исполнения служебных обязанностей, притворяясь больными, чтобы воспользоваться преимуществами своего (сфальсифицированного) положения.
Дальше каждого патологического лжеца, а также участников контрольной группы в составе 21 человека из числа клиентов центра по трудоустройству, по очереди подвергали сканированию мозга. Особое внимание исследователи уделили префронтальной коре — части головного мозга, находящейся за лобной костью и отвечающей за навыки мышления высшего порядка, например за планирование ежедневного расписания или ответную реакцию на окружающие нас соблазны. Она также отвечает за наши моральные суждения и принятие решений. Короче говоря, это своего рода управляющий центр, благодаря которому мы думаем, рассуждаем и выносим моральные оценки.
Если не вдаваться в подробности, можно сказать, что наш мозг в основном состоит из серого и белого вещества. Серым веществом называют нейроны, составляющие основу нашего мозга, то есть субстанции, благодаря которой мы способны мыслить. Белое вещество — проводники, связывающие между собой клетки мозга. Белое и серое вещество есть у всех людей, однако Ян и ее коллеги хотели выяснить, каково соотношение в объемах того и другого в мозге участников. Они обнаружили, что у патологических лжецов было на 14 % меньше серого вещества, чем у испытуемых из контрольной группы (такие же показатели обычно отмечаются у людей, страдающих умственными расстройствами). Что это значит? Поскольку у патологических лгунов меньше клеток мозга (серого вещества) в префронтальной коре (зоне, благодаря которой мы отличаем «правильные» поступки от «неправильных»), им сложнее оценивать свои действия с точки зрения морали, то есть для них не составляет труда солгать.
Но это еще не все. Возможно, вам интересно, чем же заполнено свободное пространство мозга патологических лгунов (ведь у них меньше серого вещества). Ян и ее коллеги обнаружили, что в префронтальной коре таких людей содержится на 22‒26 % больше белого вещества. Вследствие этого (напомню: белое вещество отвечает за передачу импульсов между нервными клетками) патологические лгуны, вероятно, способны создать больше взаимосвязей между различными воспоминаниями и идеями. Более активное взаимодействие нейронов вкупе с доступом к обширному миру ассоциаций, «хранящихся» в сером веществе, может оказаться тем самым секретным ингредиентом, который превращает людей в прирожденных лжецов.
Экстраполируя результаты исследования на всю человеческую популяцию, можно сказать, что увеличенное число внутренних мозговых связей позволяет нам лгать с большей легкостью и при этом относиться к себе как к уважаемым людям. Чем лучше развиты внутренние взаимосвязи в мозге, тем больше у нас простора для толкования и объяснения двусмысленных ситуаций. Возможно, это и есть важнейший элемент, который позволяет нам найти логическое обоснование своим нечестным действиям.
Чем изобретательнее, тем богаче
Выводы ученых из группы Ян заставили меня задуматься над тем, связан ли увеличенный объем белого вещества с повышенной склонностью к вранью и высоким уровнем изобретательности. Если уж на то пошло, люди, у которых лучше развиты связи между различными частями мозга, вероятно, более творческие. Чтобы узнать, существует ли связь между изобретательностью и нечестностью, мы с Франческой Джино провели серию исследований. Будучи и сами творческими людьми, мы решили рассмотреть этот вопрос с разных сторон, начав со сравнительно простого подхода.
Когда участники эксперимента оказались в испытательной лаборатории, мы объяснили, что им предстоит ответить на несколько вопросов, а потом выполнить задание на компьютере. Тест включал множество общих вопросов, касавшихся жизненных ситуаций и привычек испытуемых (эти вопросы-наполнители были призваны скрыть истинную цель исследования), а также три блока вопросов, непосредственно относящихся к нашей теме.
В первом блоке мы попросили участников ответить, насколько творческими они считают самих себя — используя соответствующие определения (проницательный, изобретательный, оригинальный, предприимчивый, неординарный и т. д.). Далее мы спросили, насколько часто участники занимаются видами деятельности, требующими той или иной степени креативности (всего 77 видов: боулинг, бег на лыжах, прыжки с парашютом, рисование, сочинение текстов и другие). В третьем и последнем блоке вопросов мы просили участников оценить, насколько их характеру соответствуют фразы типа «У меня много творческих идей», «Я предпочитаю задачи, позволяющие мне проявить свою креативность», «Мне нравится поступать неординарно» и т. д.
Когда участники ответили на все вопросы, мы предложили им пройти «точечный тест», который на первый взгляд не был связан с предыдущим заданием. Если вы не помните, что это такое, вернитесь к главе 5 «Почему ношение подделок известных брендов заставляет нас жульничать».
Что, по-вашему, случилось дальше? Участники, охарактеризовавшие себя как людей творческих, жульничали чаще, чем менее креативные участники? Или реже? Или в том же объеме?
Мы обнаружили, что участники, чаще нажимавшие на кнопку «больше справа» (сулившую им хорошее вознаграждение), оказывались, как правило, теми людьми, которые получили самые высокие баллы по всем трем показателям креативности. Кроме того, различия между более и менее креативными личностями проявлялись чаще всего в тех случаях, когда разница в количестве точек справа и слева была сравнительно небольшой.
Это дает основания предполагать, что отличие изобретательных людей с богатой фантазией от людей менее креативных наиболее заметно в неопределенных, двусмысленных ситуациях, когда «пространство для маневра» особенно велико и существует много возможностей для самооправдания. Когда разница между количеством точек слева и справа от диагональной линии была очевидна, участникам нужно было принять простое решение — лгать или нет. Но когда однозначного ответа не было, в дело вступала изобретательность, а вместе с ней и обман. Чем большей креативностью отличались участники теста, тем проще им было объяснить самим себе, почему они видят больше точек справа от диагональной линии (то есть на стороне, за которую обещано большее вознаграждение).
Проще говоря, связь между креативностью и нечестностью имеет отношение к умению убеждать самих себя в том, что мы поступаем правильно (даже если это не так). Чем более мы изобретательны, тем проще нам придумать хорошую историю, помогающую оправдать наши эгоистические интересы.
Уровень интеллекта имеет значение… Да или нет?
Результаты теста были весьма многообещающими, и все же мы не особенно ими воодушевились. Мы выяснили, что между изобретательностью и нечестностью есть некая связь, но это не означало, что креативность напрямую ведет к нечестному поведению. Что, если на них влияет третий фактор, например уровень интеллекта?
Такая взаимозависимость кажется особенно правдоподобной, стоит нам вспомнить о таких умных людях, как создатель одной из крупнейших в истории финансовых пирамид Берни Мейдофф или знаменитый подделыватель чеков Фрэнк Абигнейл, автор книги «Поймай меня, если сможешь»[28], — ведь им удалось одурачить очень и очень многих. Поэтому наш следующий шаг состоял в проведении эксперимента, позволяющего понять, какой параметр лучше «предсказывает» грядущий обман — креативность или интеллект.
Представьте, что вы один из участников теста. На этот раз эксперимент начинается еще до того, как вы зашли в лабораторию. Неделей ранее вы включили компьютер и заполнили онлайн-анкету: вопросы в ней позволили оценить вашу креативность и измерить уровень интеллекта. Чтобы узнать степень вашей изобретательности, мы использовали три блока вопросов из предыдущего теста. Ваш интеллект мы оцениваем в два этапа. Сначала мы просим вас ответить на три вопроса, призванных выявить вашу склонность к логике или интуиции (вопросы разработаны преподавателем Йельского университета Шоном Фредериком). На каждый из них, помимо правильного ответа, имеется еще один, интуитивный, но неверный.
Вот пример: «Бита и мяч вместе стоят 1,1 доллара. Бита стоит на один доллар больше мяча. Сколько стоит мяч?»
Ну-ка, быстрее! Каков ответ?
10 центов?
Хорошая попытка, но вы ошиблись. Этот ответ так и напрашивается, но он неправильный.
В случае, если вы больше полагаетесь на логику, чем на интуицию, вы на всякий случай проверите себя — хотя интуиция и заставляет вас ответить «10 центов». Если бы мяч стоил 0,1 доллара, бита стоила бы 1,1 доллара. Вместе это составит 1,2 доллара, а не 1,1 (0,1 + (1 + 0,1) = 1,2)! Поняв, что первый (импульсивный) ответ был ошибочным, вы освежаете в памяти школьные знания по алгебре и приходите к правильному решению: пять центов (0,05 + (1 + 0,05) = 1,1). Правда, похоже на школьный экзамен? Поздравляю вас, если вы ответили правильно (если нет, не беспокойтесь; вы наверняка смогли бы ответить на два других вопроса из этого короткого теста).
Теперь мы переходим к измерению уровня вашего интеллекта с помощью вербального теста. Вы получаете список из 10 редко употребляемых слов (таких, как «чахнуть» и «паллиативный»), для каждого из которых нужно выбрать — из шести перечисленных здесь же вариантов — слово, наиболее близкое по смыслу.
Неделей позже вы приходите в лабораторию и садитесь перед компьютером. Инструктор сообщает: «Сегодня вам предстоит выполнить три задания; то, как вы с ними справитесь, позволит оценить ваши способности к решению проблем, навыки восприятия и общий уровень знаний. Для удобства мы объединили их в одну сессию».
Первое задание — проверка ваших способностей решать проблемы; это наш старый добрый матричный тест. Когда пять минут, отведенные на поиск решения, прошли, вы комкаете листок с записями и бросаете его в мусорное ведро. О каком результате вы сообщите наблюдателю: реальном или немного приукрашенном?
Второе задание, связанное с навыками восприятия, — это тест с точками. И опять вы можете жульничать сколько хотите. Финансовый стимул тоже никуда не делся: мошенничая, вы можете получить по 10 долларов за каждую попытку.
Наконец, третье и последнее задание заключается в ответе на 50 вопросов различной сложности и на самые разные темы. Например: «Как далеко может прыгнуть кенгуру?» (8‒12 метров) или «Как называется столица Италии?» (Рим). Из нескольких имеющихся вариантов ответа нужно выбрать правильный. За него вы получаете 10 центов, максимальная сумма выплаты — пять долларов. На листке с ответами выбранный вариант нужно обвести в кружок, а затем перенести свои ответы на специальный бланк.
Завершив работу, вы откладываете карандаш в сторону. Внезапно экспериментатор спохватывается: «О господи! Я ошибся! Здесь уже отмечены правильные ответы. Мне так жаль! Вы не будете возражать, если я попрошу вас воспользоваться этими бланками? Я сейчас сотру все пометки, чтобы их не было видно. Хорошо?» Разумеется, вы соглашаетесь.
Затем экспериментатор просит вас скопировать свои ответы из вопросника на бланки с пометками, уничтожить лист с первоначальными ответами, передать ему заполненный бланк и получить причитающиеся вам деньги. В процессе переноса ответов на бланк вы понимаете, что можете смошенничать: вместо того чтобы вписывать свои варианты ответов, вы можете воспользоваться уже имеющимися и получить больше денег («Конечно, я знал, что столица Швейцарии — Берн. Я написал „Цюрих“, не подумав»).
Итак, вы выполнили три задания и получили возможность заработать до 20 долларов — на обед, пиво или новый учебник. Сколько вы заработаете на самом деле, зависит от вашего ума, опыта участия в подобных тестах, а также от направления, которое указывает ваш моральный компас. Будете ли вы мошенничать? Если да, считаете ли вы, что мошенничество как-то связано с уровнем вашего интеллекта или изобретательностью?
Вот что нам удалось выяснить (как и в предыдущем эксперименте): более творческие люди мошенничали чаще. А вот интеллект оказался не связан со степенью нечестности. Участники, чаще жульничавшие в каждом из трех заданий (матрицы, точки и общие знания), имели в среднем более высокие значения показателя креативности по сравнению с честными испытуемыми, но мало отличались от них по уровню интеллекта.
Мы также изучили результаты обманщиков-экстремалов, то есть тех, кто жульничал каждый раз и по максимуму. Все показатели, по которым мы оценивали креативность, у них были значительно выше, чем у людей, лгавших меньше. И вновь уровни их интеллекта различались незначительно.
Месть как аргумент
Совершенно ясно, что креативность — один из способов «развязать себе руки», чтобы начать жульничать. Один, но далеко не единственный. В своей предыдущей книге «Позитивная иррациональность: Как извлекать выгоду из своих нелогичных поступков»[29] я описал эксперимент, целью которого было выяснить, что происходит с людьми, недовольными оказанными им услугами. Вкратце напомню: мы с Айелет Гнизи (преподавателем Калифорнийского университета в Сан-Диего) наняли молодого актера по имени Дэниел провести от нашего имени эксперимент в нескольких местных кофейнях. Дэниел просил посетителей кофеен выполнить небольшое задание в обмен на пять долларов. Получив согласие, он давал им 10 листов бумаги со случайным набором букв, просил найти максимальное количество одинаковых букв, стоящих рядом, и обвести их карандашом. Когда задание было выполнено, Дэниел собирал листы, вручал участнику эксперимента небольшую пачку денежных купюр и бланк расписки и говорил: «Вот ваши пять долларов. Пересчитайте их, поставьте свою подпись на бланке и оставьте его на столе. Я вернусь чуть позже и заберу расписку». После этого он шел к другому участнику. Важно то, что вместо пяти долларов он отдавал им девять: мы хотели выяснить, сколько участников вернет лишние деньги.
Условия, в которых проходил эксперимент, мы назвали «нераздражающими». С участниками из другой группы (работавшими в «раздражающих» условиях) Дэниел вел себя иначе. Объясняя задание, он делал вид, что ему звонят. Дэниел лез в карман, доставал телефон и говорил: «Привет, Майк. Как дела?» После короткой паузы он с энтузиазмом продолжал: «Отлично, пицца сегодня в 20:30. У меня или у тебя?» После чего произносил «До скорого!» и заканчивал разговор. «Беседа» длилась не более 12 секунд.
Убрав телефон в карман, Дэниел никак не комментировал свои действия и просто продолжал объяснять задание. Далее все происходило по вышеописанной схеме.
Мы хотели выяснить, как поведут себя представители второй группы, столкнувшиеся с неуважением. Оставят лишние деньги себе, отомстив Дэниелу за его грубость? Так и случилось. В первом случае (без раздражающего фактора) 45 % участников вернули лишние деньги, переданные им «по ошибке», во втором это сделали всего 14 % участников. Нам было очень грустно сознавать, что почти каждый второй готов пойти на обман. Но еще больше нас огорчило то, что даже 10-секундный перерыв в разговоре заставляет людей мошенничать еще больше.
Результаты эксперимента свидетельствуют: когда нас кто-то или что-то сильно раздражает, нам проще оправдать свое аморальное поведение. Нечестность становится возмездием. Мы говорим себе, что не сделали ничего плохого — мы просто сводим счеты. Более того, мы заходим еще дальше в своих логических построениях и говорим, что просто «восстанавливаем карму» и «мировое равновесие». Слава нам: мы отправляемся в крестовый поход за справедливость!
Мой друг Дэвид Пог — он ведет в газете The New York Times рубрику, посвященную современным технологиям, — тоже испытал раздражение, вызванное плохим сервисом, а вместе с ним и желание отомстить. Каждый, кто знает этого человека, уверенно скажет: «Дэвид всегда рад помочь любому попавшему в беду». И никому не придет в голову, что тот же самый Дэвид может разбиться в лепешку, лишь бы уязвить другого. Что поделать: когда мы чувствуем обиду, ограничительные рамки нашей морали могут растягиваться практически бесконечно. А Дэвид к тому же еще и невероятно творческая личность, в чем вы сейчас убедитесь. Вот песня, которую он написал (ее можно петь на мелодию «The Sounds of Silence» в исполнении Пола Саймона и Артура Гарфанкела[30]):
Итальянская история креативной мести
Когда мне было 17 лет, а моему двоюродному брату Йоаву 18, мы отлично провели лето, дикарями путешествуя по Европе. Мы знакомились с людьми, видели красивые города, ходили по музеям — это было замечательное приключение для двух неутомимых подростков.
Наш маршрут начинался в Риме, проходил через всю Италию и Францию и заканчивался в Великобритании. Когда мы покупали молодежные проездные билеты в римском офисе железнодорожной компании Eurail, кассир дал нам ксерокопию карты европейских железных дорог; черной шариковой ручкой он отметил на ней путь, который нам предстояло проделать. Кассир сказал, что мы можем использовать наши билеты в любое время на протяжении двух месяцев, но путешествовать можем только по маршруту, отмеченному им на карте. Он прикрепил карту к чеку, подтверждавшему, что билеты оплачены, и отдал нам. Мы были уверены, что ни один контролер не отнесется всерьез к этому странному комплекту документов, однако кассир заверил нас в том, что больше ничего не понадобится. Так и вышло.
Насладившись видами Рима, Флоренции, Венеции и других итальянских городов, мы провели несколько ночей на берегу озера в окрестностях Вероны. Однажды утром мы проснулись и поняли, что кто-то покопался в наших рюкзаках: их содержимое было разбросано по берегу. После тщательного осмотра мы обнаружили, что нашу одежду и даже мою фотокамеру не тронули. Не хватало только запасных кроссовок Йоава. Мы сочли бы это пустячным происшествием, если бы не одно «но»… Мать Йоава (моя тетя Нава), бесконечно мудрая женщина, решила подстраховать нас на тот случай, если кто-то вздумает украсть наши деньги, и спрятала несколько сотен долларов в запасных кроссовках сына. Обстоятельства сыграли с нами злую шутку.
Собрав вещи, мы решили пройтись по городу — вдруг увидим на ком-нибудь кроссовки Йоава, — а заодно обратиться в полицию. Местные полицейские почти не говорили по-английски, и было довольно сложно объяснить им суть преступления: что украдены кроссовки, что это серьезная потеря, поскольку под стелькой одной из них были спрятаны деньги… Неудивительно, что кроссовки Йоава так и не нашлись. Это нас разозлило. Мы сочли произошедшее вопиющей несправедливостью и решили, что Европа осталась нам должна.
Примерно через неделю после этого инцидента мы решили, что в дополнение к другим пунктам нашего маршрута хотим еще побывать в Швейцарии и Нидерландах. Мы могли бы купить новые билеты на поезд, но, помня об украденной обуви и о том, что помощи от итальянской полиции мы не дождались, решили творчески подойти к имевшимся у нас возможностям. При помощи такой же черной ручки, как у кассира, продавшего нам билеты, мы нарисовали на своей карте другой путь. Он тоже вел во Францию, а затем Великобританию, но пролегал через Швейцарию. Теперь на карте были отмечены два возможных маршрута: первоначальный и наш, дополненный. Предъявляя карту кондукторам, мы не слышали от них ни одного замечания, касавшегося нашего творчества, а потому продолжали дорисовывать альтернативные пути движения на протяжении еще нескольких недель.
Этот прием срабатывал до тех пор, пока мы не оказались в поезде, идущем в Базель. Швейцарский кондуктор проверил билеты, нахмурился, покачал головой и вернул их нам.
— Вам нужно купить отдельный билет для этой части вашего путешествия, — сообщил он.
— Сэр, но вы же видите, — вежливо ответили мы, — Базель как раз по пути.
Мы показали ему на карте измененный маршрут.
Кондуктор был непреклонен:
— Извините, но вам придется заплатить за билеты до Базеля, или я буду вынужден попросить вас сойти с поезда.
Мы продолжали спорить:
— Все проверяющие принимали наши билеты без возражений!
Кондуктор пожал плечами и снова отрицательно покачал головой.
— Сэр, прошу вас, — взмолился Йоав, — если вы позволите нам добраться до Базеля, мы подарим вам кассету с музыкой великой американской группы Doors.
Кондуктора не обрадовало это предложение (возможно, он не любил Doors), тем не менее он согласился. «Хорошо, — сказал он. — Вы можете ехать до Базеля».
Мы так и не поняли, признал ли он в конце концов нашу правоту, оценил наш благородный жест или просто сдался. После того случая мы перестали рисовать новые линии на своей карте и вскоре вернулись к первоначальному маршруту.
Оглядываясь назад и оценивая наше нечестное поведение, я склонен объяснить его глупостью, присущей юному возрасту. Вместе с тем я понимаю, что это объяснение — не единственное. Полагаю, было несколько факторов, которые заставили нас вести себя подобным образом и считать свои действия вполне допустимыми.
Во-первых — и я в этом уверен, — легкость, с которой мы следовали новым, нами же придуманным правилам[31], объяснялась тем, что мы впервые очутились в другой стране. Если бы мы как следует задумались над своими поступками, то поняли бы, насколько серьезную ошибку совершаем. Но мы вообразили, что, изменяя маршрут на карте, действуем в рамках обычной для Eurail процедуры. Во-вторых, потеря нескольких сотен долларов и кроссовок Йоава заставила нас думать, что отомстить Европе и вынудить ее отдать нам долг — это нормально. В-третьих, наша поездка была приключением, и, возможно, наш авантюрный настрой отразился и на морали. В-четвертых, оправдывая свои действия, мы убеждали себя в том, что не причиняем никому серьезного вреда. В конце концов, мы всего лишь нарисовали несколько дополнительных линий на листе бумаги. Поезд в любом случае шел по своему пути. Кроме того, вагоны никогда не бывали заполненными до отказа, значит, мы ни у кого не отнимали место. Было и еще одно оправдание: покупая билеты, мы могли выбрать другой маршрут — за те же деньги. И если эти разные маршруты с точки зрения Eurail ничем не отличались (потому что стоили одинаково), то какая разница, когда именно мы захотели изменить свой путь? (Не исключено, что таким же образом оправдывают свои действия люди, оформляющие покупку акций задним числом.) Наконец, часть оправданий была связана с физической природой самого билета. Кассир дал нам всего лишь ксерокопию карты с нарисованным от руки маршрутом, и внести в него изменения было физически просто. А поскольку мы делали это в точности как сам кассир (то есть проводя линии на листе бумаги), простота физических действий быстро трансформировалась в моральную легкость, с которой мы приняли решение смошенничать.
Размышляя обо всех этих факторах, я понимаю, насколько велика наша способность оправдывать себя и насколько часто в повседневной жизни мы прибегаем к рациональным объяснениям своих поступков. Мы обладаем невероятной способностью дистанцироваться — самыми разными способами — от мыслей о том, что нарушаем правила. Особенно когда связь между нашими действиями и ущербом, который они нанесли другим людям, не прямая, а опосредованная.
Департамент обманщиков
Пабло Пикассо как-то сказал: «Хорошие художники копируют, великие — воруют». Человечество никогда не испытывало недостатка в изобретательных умах, охотно пользующихся чужими идеями. Уильям Шекспир черпал их в классических греческих, римских, итальянских и прочих исторических источниках, создавая прекрасные пьесы. Даже Стив Джобс однажды похвастался, что корпорация Apple, как и Пикассо, не стеснялась красть великие идеи.
Эксперименты, о которых я рассказывал до сих пор, предполагали, что изобретательность может являться направляющей силой мошенничества. Нам было интересно, можно ли, повысив степень креативности нескольких людей, добиться и повышения уровня их нечестности. Именно этот вопрос и стал предметом нашего следующего эмпирического исследования.
Мы с Франческой решили проверить, удастся ли повысить уровень мошенничества участников, принудительно настроив их на более креативный лад (такое состояние психологи называют «прайминг», или «фиксирование установки»). Представьте, что вы один из участников и вам предложили пройти «точечный тест». Вы начинаете с пробного раунда, за который не получаете никакого вознаграждения. Прежде чем вы перейдете к этапу, на котором принятые решения будут оплачиваться (в соответствии с вашим выбором), мы просим вас выполнить еще одно задание: нужно закончить предложения (это «магическое» упражнение меняет привычный образ мыслей участников и заставляет их проявить креативность). Из 20 наборов слов, представленных в случайном порядке (например, «небо», «такое», «почему», «голубое» и «сегодня» — всего пять слов), нужно составить грамматически правильные предложения (используя по четыре слова из каждого набора, например «Небо сегодня такое голубое»). Задание существует в двух вариантах (но вы об этом не знаете). Первый — креативный: 12 из 20 предложений включают в себя слова, связанные с креативностью («изобретательный», «оригинальный», «новаторский», «затейливый», «воображение», «идеи» и т. д.). Второй вариант — контрольный: ни в одном из 20 предложений нет слов, связанных с креативностью. Наша цель состояла в том, чтобы подстегнуть воображение участников, настроить их на творческий лад, превратив в некое подобие Альберта Эйнштейна или Леонардо да Винчи, с помощью слов, ассоциирующихся с креативностью. Некоторые испытуемые работали с первым вариантом задания, остальные — со вторым, не меняющим привычный для них образ мыслей.
Закончив составлять предложения (и не имея представления о том, с каким вариантом работали), вы возвращаетесь к «точечному тесту». Однако на этот раз вы получаете за него настоящие деньги: полцента за выбор левой стороны и пять центов за выбор правой.
Что показал эксперимент? Повлияла ли стимуляция творческого настроя на моральность участников? Результаты обеих групп в задании с точками (без вознаграждения) практически не отличались. Однако после того, как участники проделали упражнение по составлению предложений, все изменилось. Как мы и ожидали, участники, подвергшиеся «обработке» с помощью слов, связанных с творчеством, намного чаще выбирали кнопку «больше справа» (ответ с более высокой оплатой), чем представители контрольной группы.
Итак, мы выяснили, что креативный настрой способствует мошенничеству. На последнем этапе нашего исследования мы решили узнать, каково соотношение между креативностью и мошенничеством в реальных условиях. Мы обратились в крупное рекламное агентство и попросили сотрудников ответить на несколько вопросов, связанных с моральным выбором. Например, «Насколько вероятно, что вы укажете в командировочном отчете лишние расходы?», «Какова вероятность, что вы сообщите начальнику о прогрессе в работе, даже если вовсе к ней не приступали?» или «Насколько вероятно, что вы унесете домой канцелярские принадлежности, которыми пользуетесь на работе?». Мы также спросили, в каком отделе они работают (бухгалтерия, копирайтинг, обслуживание клиентов, дизайн и так далее). Наконец, мы попросили руководителя рекламного агентства оценить, какой уровень креативности требуется от представителя каждого подразделения.
Итак, мы собрали информацию о базовых моральных принципах каждого работника, знали, в каком подразделении трудится каждый из них, каков уровень креативности, ожидаемый руководством компании от каждого департамента. На основе полученных данных мы рассчитали степень моральной гибкости сотрудников различных отделов и выяснили, что она напрямую зависит от уровня креативности, требуемого для работы. Дизайнеры и копирайтеры имели самые высокие показатели моральной гибкости, а бухгалтеры и счетоводы получили самые низкие оценки. Судя по всему, те из нас, у кого в описании должностных обязанностей присутствует слово «креативность», чаще дают зеленый свет нечестному поведению.
Темная сторона креативности
Мы привыкли к тому, что креативность всячески превозносится и считается двигателем социального прогресса. Мы стремимся к ней — не только отдельные личности, но и компании и целые сообщества. Мы чествуем новаторов и изобретателей, завидуем людям с оригинальным мышлением и с сожалением качаем головой при виде человека, неспособного творчески мыслить.
Все это вполне объяснимо. Креативность улучшает нашу способность бороться с проблемами, она открывает двери к новым подходам и решениям. Именно креативность позволила человечеству изменить окружающий мир (временами даже к лучшему). Благодаря ей были изобретены системы канализации и водоснабжения, солнечные панели, небоскребы и нанотехнологии. Хотя нам еще предстоит пройти долгий путь, мы уже сейчас можем поблагодарить креативность за многие достижения. Мир был бы куда более унылым без таких творческих людей, как Эйнштейн, Шекспир и да Винчи.
Но это лишь часть истории. Да, креативность позволяет находить новые оригинальные пути для решения сложных проблем. И она же помогает нам обходить существующие правила и законы и трактовать информацию в наших интересах. Задействуя креативное мышление, мы с легкостью находим решения, благодаря которым волки оказываются сыты, а овцы целы, или придумываем истории, в которых выглядим героями, а не злодеями. Если причина нечестности — наша способность думать о себе как о высокоморальных людях, в то же время извлекая пользу из мошенничества, креативность помогает придумывать убедительные истории: благодаря им люди врут еще больше, но считают себя кристально честными.
Сочетание позитивного аспекта и пользы креативности, с одной стороны, и темных ее проявлений — с другой ставит нас в затруднительное положение. Мы нуждаемся в креативности и жаждем ее, но сознаем, что в определенных обстоятельствах она может оказывать негативное влияние. Как говорит в своей книге «Простофили, аферисты и те, кто посередине» (Suckers, Swindlers and an Ambivalent State) историк Эд Баллайзен, мой коллега и друг, каждый раз, когда бизнес преодолевает новые технологические барьеры, будь то изобретение почтовых услуг, телефона, радио, компьютера или ипотечных ценных бумаг, нечестность тоже оказывается в выигрыше. Прогресс расширяет границы — и технологий, и обмана. Только после того, как возможности, эффекты и ограничения новых технологий оказываются тщательно изучены, мы можем определить, когда использование нового инструментария будет во благо, а когда — принесет вред.
Например, Эд в своей книге рассказывает, что сразу после создания почтовой службы США люди пользовались ею для продажи несуществующих товаров. Потребовалось время для того, чтобы разобраться с проблемой. В итоге почтовое мошенничество привело к появлению ряда законодательных мер, которые в наши дни обеспечивают высокое качество и эффективность почтовых услуг и доверие к ним. Если взглянуть на технологическое развитие с этой точки зрения, мы должны быть благодарны некоторым особенно креативным мошенникам за кое-какие изобретения и движение общества по пути прогресса.
Итак, что в остатке? Очевидно, есть смысл и дальше принимать на работу креативных людей, развивать изобретательность в себе и поощрять ее в других. Но важно понимать, каковы связи между креативностью и нечестностью, и не создавать ситуации, в которых творческие люди могут подвергнуться искушению применить свои навыки для обмана.
Кстати, не помню, писал ли об этом: я считаю себя исключительно честным и очень творческим человеком.
Глава 8. Мошенничество как инфекция, или Вирус нечестности
Читая лекции об иррациональном поведении, я довольно много времени провожу за границей и, естественно, часто летаю самолетами. Один их моих маршрутов включал полет из Северной Каролины, где я живу, в Нью-Йорк, затем в Сан-Паулу (Бразилия), в Боготу (Колумбия), Загреб (Хорватия), Сан-Диего (Калифорния) и обратно в Северную Каролину. Несколько дней спустя я полетел в Остин, штат Техас, затем в Нью-Йорк, потом в турецкий Стамбул, в Камден, штат Мэн, после чего направился (в полном изнеможении) домой. Преодолевая эти расстояния, я получил бесчисленное количество оскорблений и душевных травм, связанных с прохождением таможенных досмотров и попытками найти потерянный багаж. Но все это сущая ерунда по сравнению с неудобствами, которые я испытываю, если заболеваю во время своих поездок. Поэтому я всегда стараюсь избежать риска подхватить инфекцию.
Во время одного трансатлантического перелета я готовился к выступлению на тему конфликта интересов. У человека, сидевшего рядом, похоже, была сильная простуда. Уж не знаю, что послужило причиной: его болезнь, моя боязнь подцепить какую-нибудь заразу, невозможность заснуть или пришедшие мне в голову ассоциации — я представил, как крошечные зловредные микробы летят от моего соседа ко мне и обратно, — но я задумался о сходстве процессов распространения инфекции и корпоративной нечестности.
Как я уже говорил ранее, крах Enron пробудил во мне интерес к явлению корпоративного мошенничества, и он укреплялся с последующей волной скандалов, связанных с Kmart, WorldCom, Tyco, Halliburton, Bristol-Myers Squibb, Freddie Mac, Fannie Mae, финансовым кризисом 2008 года и, разумеется, деятельностью компании Bernard L. Madoff Investment Securities. Со стороны кажется, что число финансовых скандалов возрастает. Связано ли это с улучшением механизмов выявления нечестного и незаконного поведения? Или причина в том, что моральный компас вышел из строя и уровень нечестности действительно вырос? А может быть, мошенничество — это своего рода инфекционная болезнь, заражающая все больше игроков корпоративного мира?
Гора использованных бумажных салфеток рядом с моим соседом росла, а я задумался о том, можно ли заразиться «инфекцией аморальности». Если уровень нечестности в обществе действительно растет, значит ли это, что он распространяется подобно инфекции, вирусу или бактерии, передаваемым через наблюдение или прямой контакт? Есть ли связь между этим подобием инфекции и проявлениями обмана и нечестности, которые мы все чаще наблюдаем? И если связь существует, можно ли выявить «вирус» на ранних этапах и не дать ему причинить еще больший вред?
Эта идея показалась мне крайне интригующей. Добравшись до дома, я сразу же погрузился в поиски информации о бактериях и узнал, что их количество безгранично — живущих в наших телах, на них и вокруг. Я узнал, что до тех пор, пока количество вредоносных бактерий достаточно мало, мы легко справляемся с ними. Проблемы возникают, когда их становится так много, что это приводит к нарушению естественного баланса, или в случаях, когда особенно вредный штамм прорывается через оборонительную систему наших организмов.
Справедливости ради, едва ли я был первым, кто подумал об этой взаимосвязи. Реформаторы тюремной системы в XVIII и XIX веках верили, что преступники, как и больные, должны содержаться в отдельных и хорошо проветриваемых помещениях, чтобы избежать заражения. Разумеется, я не провожу настолько прямые аналогии. Маловероятно, что витающие в воздухе миазмы способны превратить обычных людей в преступников. Однако я подумал, что природный баланс социальной честности может быть нарушен, если мы находимся в непосредственной близости к мошеннику. Возможно, наблюдение за проявлениями нечестности людьми, находящимися рядом с нами, может оказаться более «заразным», чем в тех случаях, когда эти люди не оказываются в непосредственной близости к нам или не влияют на нашу жизнь. (Достаточно вспомнить лозунг антинаркотической кампании 1980-х: «Я научился этому, глядя на тебя». Реклама предупреждала: «У родителей, употребляющих наркотики, вырастут дети, также употребляющие наркотики».)
Не забывая о пришедшей в голову метафоре, я задался вопросом об интенсивности воздействия «инфекции» и о том, каким должен быть уровень мошенничества, чтобы пошатнуть нашу собственную систему координат. Когда мы видим коллегу, выносящего из офиса ручки и карандаши, приходит ли нам сразу же мысль о том, что это замечательная идея и нужно последовать его примеру? Думаю, нет. Как и в случае с ростом количества болезнетворных бактерий, процесс должен проходить по нарастающей, медленно и скрытно. Возможно, когда мы наблюдаем чей-то обман, микроскопическое впечатление остается внутри нас, и мы становимся чуточку хуже. В следующий раз, становясь свидетелями неэтичного поведения, мы наносим своей морали еще один удар и становимся все более уязвимыми по мере того, как растет количество воздействующих на нас «микробов аморальности».
Несколько лет назад я купил автомат по продаже напитков и порционных продуктов, подумав, что он будет интересным инструментом в экспериментах с ценообразованием и скидками. На протяжении нескольких недель мы с Ниной Мазар использовали аппарат для наблюдений за тем, что может произойти, если дать покупателям вероятностную, а не постоянную скидку. Мы загрузили в автомат упаковки с несколькими видами леденцов и настроили машину таким образом: некоторые леденцы можно было купить с 30 %-ной скидкой при обычной цене один доллар; приобретая другие, покупатели получали возможность поучаствовать в лотерее — у них был 70 %-ный шанс заплатить полную сумму (один доллар) и шанс 30 % получить все свои деньги обратно (то есть не заплатить ничего). Если вам интересны результаты эксперимента, сообщу: с помощью вероятностной скидки мы почти утроили обычные продажи. Использование вероятностной скидки — тема для отдельной беседы, а вот мысль о том, что покупатель может получить обратно свои деньги, привела нас к идее об изучении еще одного способа мошенничества.
Как-то утром я установил вендинговой автомат рядом с одним из учебных корпусов MIT, предварительно назначив нулевую цену на каждую упаковку леденцов. На информационной панели, обращенной к покупателям, по-прежнему было указано, что упаковка леденцов стоит 75 центов. После того как студенты кидали в аппарат монеты и делали выбор, машина выдавала леденцы и возвращала деньги. Мы также разместили на автомате хорошо заметное объявление с номером телефона, по которому нужно было позвонить в случае поломки устройства.
Неподалеку от автомата с ноутбуком на коленях расположилась наша ассистентка. Притворившись, что работает, она фиксировала действия людей после того, как те, немало удивившись, получали бесплатную упаковку леденцов. Наша помощница выявила два типа поведения. Во-первых, люди обычно брали по три упаковки конфет. Получив первую бесплатно, они хотели проверить, получится ли фокус во второй раз (разумеется, так и было). Многие переходили к третьей попытке. Больше трех раз не пробовал никто. Разумеется, покупатели вспоминали случаи из прошлого, когда машина, получив деньги, ничего не давала взамен: вероятно, они думали, что на этот раз им попался щедрый автомат, который пытается улучшить свою карму.
Второе, что мы обнаружили: более половины людей, получив конфеты бесплатно, начинали смотреть по сторонам в поисках друзей. Увидев знакомого, они приглашали его принять участие в аттракционе невиданной щедрости. Это заставило меня подозревать, что, когда мы занимаемся чем-то сомнительным, вовлечение в этот процесс друзей помогает нам оправдать собственные спорные поступки. Если друзья пересекают границу морали вместе с нами, не кажутся ли нам собственные действия более социально допустимыми? Возможно, я перегибаю палку с этим допущением, но нам действительно проще жить, когда наши поступки соответствуют социальным нормам тех, кто нас окружает.
Заразительное мошенничество в классе
После экспериментов с вендинговым автоматом я начал замечать проявления инфекционного характера мошенничества и в других местах, в том числе и в своем классе. Несколько лет назад в начале семестра я спросил у 500 студентов, посещавших мои занятия по поведенческой экономике, многие ли из них уверены в своей способности внимательно слушать лекцию, одновременно используя компьютеры для посторонних занятий (общение в Facebook, просмотр электронной почты и т. д.). К счастью, большинство из них ответили, что не в состоянии эффективно выполнять несколько действий одновременно (и это правда). Затем я спросил, у кого из них достаточно самоконтроля, чтобы не заглянуть в ноутбук, если он будет стоять перед ними открытым. Руки подняли считаные единицы.
И тут я оказался перед выбором: запретить использование компьютеров (которые, само собой, очень удобны для заметок) в моем классе или разрешить, но с ограничениями, позволяющими бороться с дефицитом самоконтроля. Как настоящий оптимист, я попросил студентов поднять правую руку и повторять за мной: «Я никогда, никогда, никогда не буду во время занятий использовать свой компьютер для посторонних дел, не связанных с обучением. Я не буду читать или отправлять электронные письма; не буду заходить в Facebook или другие социальные сети; не буду использовать интернет для поиска информации, не относящейся к этому учебному курсу».
Студенты повторили эти слова за мной, и я был очень доволен собой — как оказалось, недолго.
Время от времени я показываю своим студентам видеоматериалы, позволяющие проиллюстрировать мою мысль, изменить динамику занятия и переключить внимание аудитории. Обычно в таких случаях я иду к задним рядам и смотрю видео вместе со студентами. Такая позиция, помимо прочего, позволяет мне видеть изображения на экранах студенческих компьютеров. В течение первых недель семестра на мониторах были материалы, связанные с темой занятия. Но с течением времени на экранах, как грибы после дождя, стали появляться никак не связанные с учебным процессом картинки, лента новостей Facebook или окно программы для работы с электронной почтой.
Вспоминая об этом, я думаю, что одной из причин, заставивших студентов нарушить свои обещания, была темнота, сопровождавшая видеотрансляцию. Свет в помещении был выключен, и каждый раз, когда студент использовал ноутбук для посторонних занятий (пусть даже на одну минуту), это видели все. Очевидно, нарушение правил одним из них заставляло всех остальных тоже вести себя неправильно. Я обнаружил, что клятва помогала лишь в самом начале процесса, но оказалась недостаточно сильной для того, чтобы противостоять социальным нормам, сформировавшимся после наблюдения за неправильным поведением других[32].
Паршивая овца
Выводы о причинах нечестного поведения студентов и размышления о природе социальной инфекции, которым я предавался на высоте 10 000 метров, были, конечно, лишь догадками. Чтобы получить более обоснованное представление о заразном характере мошенничества, мы с Франческой Джино и Шахаром Айялом (преподавателем Междисциплинарного центра в Израиле) решили провести несколько экспериментов в Университете Карнеги‒Меллона, где в то время работала Франческа. Мы предложили участникам пройти матричный тест (в упрощенной версии) в условиях, которые сильно отличались от стандартных. Вместе с листом бумаги, на котором были нарисованы матрицы, участнику вручали конверт с 10 долларами (восемь банкнот по одному доллару и четыре монеты по 0,5 доллара). Такое изменение в процедуре оплаты означало следующее: по окончании эксперимента участники должны были забрать причитающуюся им сумму, оставив в конверте то, что не заработали.
Участники контрольной группе, у которых не было возможности мошенничать, по истечении времени тестирования подсчитывали количество правильно решенных матричных задач и брали из конверта причитавшуюся им сумму. Затем они передавали лист с решениями и конверт с оставшейся суммой наблюдателю: тот проверял ответы, пересчитывал деньги в конверте и отпускал студента с его заработком восвояси. Пока все шло нормально.
Участники эксперимента «с уничтожением» получали другие инструкции. Инструктор говорил: «Подсчитав правильные ответы, уничтожьте лист с записями, вернитесь на место и возьмите из конверта заработанную сумму. После этого можете быть свободны. На выходе положите конверт с оставшимися деньгами в ящик у двери». Затем он давал команду начать работу над тестом и погружался в чтение книги (демонстрируя тем самым, что за испытуемыми никто не наблюдает). Через пять минут он объявлял, что время истекло. Студенты откладывали карандаши, подсчитывали количество правильных ответов, уничтожали лист с записями, брали деньги и выходили из комнаты, бросив конверт с оставшейся суммой в ящик у двери. Мы не сильно удивились, когда обнаружили, что участники эксперимента «с уничтожением» заявили о большем количестве решенных задач, чем студенты контрольной группы.
Этот тест стал отправной точкой для следующего эксперимента, результаты которого интересовали нас куда больше: мы хотели изучить социальный компонент мошенничества. Мы снова обратились к группе, действовавшей в условии «с уничтожением» (то есть имевшей возможность подтасовать результаты), но добавили социальный элемент. Что, если бы наши участники могли наблюдать за кем-то, беззастенчиво мошенничающим у них на глазах? Эдаким потенциальным Берни Мейдоффом?[33] Стали бы они сами мошенничать в большей степени?
Представьте, что вы — участник этого эксперимента. Вы сидите за столом и слушаете инструкции. Наконец звучит команда: «Приступайте!» Вы погружаетесь в работу, пытаясь решить как можно больше задач и получить как можно больше денег. Проходит минута, а вы еще бьетесь над первой матрицей. Часы тикают.
Один из участников, высокий худой блондин, встает и произносит, глядя на инструктора: «Я закончил. Что мне делать дальше?»
«Невозможно, — думаете вы. — Я даже одну задачу не решил!» Остальные участники тоже смотрят на молодого человека с недоверием. Очевидно, он блефует. Никто не может решить 20 матричных задач менее чем за минуту.
«Уничтожьте свой лист с ответами», — говорит инструктор. Парень так и поступает, а затем спрашивает: «Я решил все задачи, поэтому мой конверт для денег пуст. Что мне с ним делать?»
«Если возвращать нечего, — бесстрастно отвечает экспериментатор, — положите пустой конверт в ящик и можете идти». Студент благодарит, машет всем рукой и выходит из комнаты с улыбкой на лице и полным карманом денег. Какой была бы ваша реакция, доведись вам наблюдать эту сцену? Вы будете возмущены тем, что парень явно смошенничал и ушел безнаказанным? Измените собственное моральное поведение? Станете мошенничать больше или меньше?
Возможно, вам будет немного легче смириться с этой картиной, если я скажу, что роль беззастенчивого мошенника сыграл студент по имени Дэвид, которого мы наняли специально. Мы хотели выяснить, приведет ли наблюдение за возмутительным поведением Дэвида к тому, что участники последуют его примеру, подхватив «вирус аморальности», и сами начнут мошенничать.
Вот что мы обнаружили. Участники из группы с «условием Мейдоффа» заявили о решении в среднем 15 из 20 задачек, что было на восемь матриц больше, чем у контрольной группы, и на три матрицы больше, чем у группы «с уничтожением». Короче говоря, участники эксперимента с «условием Мейдоффа» платили себе примерно в два раза больше, чем им причиталось.
Подведем итог.
Результаты интересные, но они не объясняют, почему участники эксперимента с «условием Мейдоффа» мошенничали больше, чем другие. Возможно, те, кто наблюдал за представлением Дэвида, быстро оценивали свои шансы и говорили себе: «Если он смошенничал и ушел безнаказанным, значит, я могу сделать то же самое, не рискуя быть пойманным». Будь дело в этом, пример Дэвида повлиял бы на анализ рисков и результатов других участников. Им убедительно продемонстрировали: мошенничать можно, и без последствий. (Это суть теории ПМРП, описанной в главе 1 «Тестирование простой модели рационального преступления».)
Возможно также, что действия Дэвида стали сигналом для других участников: такой тип поведения является социально приемлемым или как минимум возможным. В повседневной жизни мы постоянно смотрим на других, оценивая, какое поведение приемлемо или неприемлемо. Нечестность может проявляться в случаях, когда социальные нормы, определяющие приемлемое поведение, недостаточно ясны, а поведение других — в данном случае Дэвида — меняет наше представление о том, что правильно, а что нет. С этой точки зрения рост мошенничества, отмеченный в группе с «условием Мейдоффа», мог быть вызван не рациональным анализом рисков и результатов или выгоды, а новой информацией и пересмотром допустимых границ морали.
Чтобы понять, какая из двух версий лучше объясняет рост мошенничества в группе с «условием Мейдоффа», мы провели еще один эксперимент, с другим набором социально-моральных факторов. Мы хотели выяснить, будут ли участники мошенничать больше, когда риск быть пойманными полностью исключен, но и очевидного примера мошенничества перед глазами нет. Мы попросили Дэвида вновь поработать на нас, однако на этот раз он появился на сцене раньше. Когда экспериментатор объяснял условия тестирования, Дэвид вдруг перебил его. «Прошу прощения, — громко сказал он, обращаясь к инструктору, — учитывая сказанное, могу ли я просто сообщить вам, что решил все задачи, и уйти с деньгами? Нормально ли это?» Помолчав несколько секунд, тот ответил: «Вы можете делать все, что считаете нужным». По вполне очевидным причинам мы назвали эту часть эксперимента «условием с вопросом». Услышав подобный диалог, участники теста поняли, что могут обмануть экспериментатора без каких-либо негативных последствий. Что бы сделали вы, окажись на их месте? Обманули наблюдателя? Проанализировали риски и поняли, что можете безнаказанно уйти с деньгами? Вы же слышали, как экспериментатор произнес «Делайте, что считаете нужным», правда?
Давайте посмотрим, помогут ли новые обстоятельства понять, чем руководствуются участники эксперимента. Студенты увидели живой пример мошеннического поведения и получили новую информацию двух типов. С одной стороны (это касается анализа рисков и выгоды), наблюдая за Дэвидом, выходившим из комнаты с максимальной суммой, участники осознавали, что у мошенничества не будет негативных последствий. В то же время для каждого из них действия Дэвида были недвусмысленным намеком на то, что окружающие считают вполне допустимым мошенничать в ходе эксперимента. Поскольку и то, и другое справедливо для группы с «условием Мейдоффа», мы не могли в точности сказать, был ли рост мошенничества вызван переоценкой результатов анализа рисков и последствий либо социальными сигналами, либо двумя факторами вместе.
И здесь нам очень помогло новое «условие с вопросом», в котором присутствовал лишь первый элемент (связанный с расчетом рисков и последствий). Когда Дэвид задал вопрос, а инструктор подтвердил, что мошенничество не только возможно, но и не будет иметь никаких последствий, участникам стало ясно: обманув, они ничего не потеряют. Более того, «условие с вопросом» изменило понимание возможных последствий происходящего (притом что фактически никто из участников не делал ничего предосудительного). Будь уровень мошенничества в этих условиях таким же, что и в «условии Мейдоффа», можно было бы сделать вывод: и там, и там ключевую роль в повышении уровня мошенничества сыграла информация об отсутствии негативных последствий обмана. В то же время, если бы уровень мошенничества в «условии с вопросом» оказался значительно ниже, чем в группе с «условием Мейдоффа», вывод был бы иным: фактором, приводящим к увеличению обмана в «условии Мейдоффа», является социальный сигнал — осознание того, что люди из твоей социальной группы считают допустимым мошенничать в подобных ситуациях.
Какими, по вашему мнению, оказались результаты эксперимента? В группе с «условием с вопросом» участники заявили, что решили в среднем по 10 задач, то есть на три матрицы больше, чем в контрольной группе (что было неправдой). Однако это было на две матрицы меньше, чем в эксперименте «с уничтожением», и на пять матриц меньше, чем в группе с «условием Мейдоффа». Иными словами, после того как экспериментатор сообщил Дэвиду, что тот волен делать все, что посчитает нужным, уровень мошенничества снизился. Если бы участники руководствовались исключительно соображениями рационального анализа рисков и выгоды, результат был бы противоположным! Таким образом, мы получили основания для следующего предположения: узнав о том, что аморальное поведение возможно (допустимо), люди начинают размышлять о собственной морали (как в эксперименте с 10 заповедями и кодексом чести, описанном в главе 2 «Поправка на хитрость: некогда скучать») и, как следствие, ведут себя более честно.
Хотя сами по себе результаты оказались многообещающими, мы хотели получить более очевидное подтверждение идеи о том, что мошенничество может быть социально заразным явлением. Так в эксперименте появилось новое условие, которое можно было бы сформулировать фразой «свой свояка видит издалека», иными словами, дресс-код.
Мы прибегли к тому же приему, что и в эксперименте с «условием Мейдоффа»: вскоре после начала теста актер вставал, объявлял, что решил все задачи, и т. д. Однако имелось одно важное отличие: на нем была футболка Питтсбургского университета.
Тут необходимы некоторые пояснения. В Питтсбурге есть два престижных учебных заведения: Питтсбургский университет и Университет Карнеги‒Меллона. Как и во многих аналогичных случаях, когда два высших учебных заведения расположены в непосредственной близости одно от другого, они соперничают на протяжении десятилетий. Именно этим духом здоровой конкуренции мы и решили воспользоваться, чтобы подтвердить нашу гипотезу о мошенничестве как социальной инфекции.
Эксперимент проводился в Университете Карнеги‒Меллона, и все участники были студентами этого вуза. В группу с «условием Мейдоффа» Дэвид пришел в белой футболке без надписей и джинсах. Создавалось впечатление, что он учится в Университете Карнеги‒Меллона, как и все остальные. Однако для эксперимента с новым условием, которое мы назвали «условие Мейдоффа-чужака», Дэвид надел сине-золотую футболку Питтсбургского университета. Так он показывал остальным, что является для них чужаком из другой социальной группы.
Логика эксперимента была той же, что и в «условии с вопросом». Мы предположили: если рост мошенничества, отмеченный в «условии Мейдоффа», был вызван тем, что Дэвид смог безнаказанно обмануть наблюдателя и остальные участники поняли, что могут сделать то же самое, было совершенно не важно, в майку какого вуза одет Дэвид. Информация о том, что явный обман не имеет отрицательных последствий, никак не была связана с одеждой. В то же время, если рост мошенничества в группе с «условием Мейдоффа» был вызван изменением социальных норм, позволившим участникам считать, что мошенничество вполне допустимо в рамках их социальной группы, очевидно, что фактором влияния была принадлежность актера именно к этой социальной группе (студенты Университета Карнеги‒Меллона), а не другой, конкурирующей (студенты Питтсбургского университета). Таким образом, решающим элементом нашей экспериментальной «конструкции» была футболка Дэвида, выступавшая в роли связующего социального звена. Будут ли студенты Университета Карнеги‒Меллона копировать поведение Дэвида, одетого в футболку конкурирующего вуза, или воспротивятся его влиянию?
Вот что мы увидели. Когда мошенничество было возможно (условие «с уничтожением»), но Дэвид не сообщал об этом публично, студенты заявляли, что решили в среднем по 12 задач, то есть на пять больше, чем в контрольной группе. Когда Дэвид, одетый в белую футболку, являлся частью группы с «условием Мейдоффа», другие ее участники заявляли, что решили около 15 задач. Те студенты, в присутствии которых Дэвид задавал вопрос о возможном обмане и получал утвердительный ответ, заявили о том, что решили по 10 задач. Наконец, в «условии Мейдоффа-чужака» (когда Дэвид был одет в футболку Питтсбургского университета) студенты, ставшие свидетелями его мошенничества, заявили о решении лишь девяти задач. Они все равно обманывали нас, приписав себе в среднем на две матрицы больше по сравнению с контрольной группой, но это было на шесть матриц меньше по сравнению с условием, в котором они воспринимали Дэвида как часть своей социальной группы (то есть студентов Университета Карнеги‒Меллона).
Вот как выглядели полученные результаты:
В совокупности эти результаты не только доказывают, что мошенничество широко распространено, но и подтверждают его способность заражать других. Кроме того, уровень мошенничества растет, если обман совершается на наших глазах. Представляется, что воздействие окружающих нас социальных сил может быть разным. Когда обманщик принадлежит к нашей социальной группе, мы идентифицируем себя с ним и, как следствие, полагаем, что мошенничество социально приемлемо. Однако, если мошенник — «чужак», нам сложнее оправдать свои неправомерные поступки, и мы ведем себя более этично, стремясь дистанцироваться от аморальной личности и ее окружения.
Проще говоря, результаты эксперимента показывают, что окружение оказывает серьезное влияние на то, как люди оценивают допустимые границы своего поведения, особенно в отношении возможного мошенничества. Если мы видим, что другие члены нашей социальной группы переходят эти границы, вполне вероятно, мы тоже откалибруем внутренний моральный компас и примем их поведение за модель для подражания. И если такой человек — авторитет для нас (один из родителей, начальник, учитель или кто-то, кого мы уважаем), вероятность, что мы последуем его примеру, увеличивается.
Сделаем это вместе!
Одно дело — группа студентов, обкрадывающая родной университет на несколько долларов (хотя и такой вид обмана может стремительно разрастаться), и совсем другое — узаконенное мошенничество, укоренившееся на корпоративном или государственном уровне. Когда несколько представителей организации нарушают закон, они заражают окружающих, а те, в свою очередь, других и т. д. Думаю, именно это происходило и в Enron в 2001 году, и на Уолл-стрит до 2008 года, и во многих других случаях.
Несложно представить такой сценарий: известный банкир по имени Боб, работающий в Гигантбанке, занимается неприглядными делами: он завышает стоимость некоторых финансовых продуктов, переносит убытки в отчетность следующего года и зарабатывает на этом немалые деньги. Другие банкиры из Гигантбанка узнают об этом. Они идут обедать и за мартини и стейками обсуждают действия Боба. За соседним столиком сидят финансисты из Великанбанка. Молва разносится все шире.
Вскоре банкирам становится ясно, что Боб — не единственный, кто занимается подтасовкой цифр. Считая Боба «своим», частью общего банковского круга, они постепенно начинают воспринимать совершаемые им мошеннические действия как норму, приемлемое поведение, которое можно оправдать идеями «сохранения конкурентоспособности» и «максимального увеличения доходов акционеров»[34].
Рассмотрим другой сценарий: один банк использует государственные субсидии для выплаты дивидендов своим акционерам (или просто держит деньги на счетах, не занимаясь кредитованием). Вскоре руководители других банков начинают считать такие действия допустимыми. Довольно просто ступить на скользкую дорожку. И именно это происходит ежедневно.
Разумеется, сфера банковских услуг не единственная, где возникают такие проблемы. Они встречаются везде, даже в органах государственного управления, например в конгрессе США. Один из примеров разрушения подрыва социальных норм связан с деятельностью так называемых Комитетов политического действия (PAC). Они были созданы около 30 лет назад для того, чтобы конгрессмены могли собирать деньги для своих партий и расходовать их на проведение избирательных кампаний и реализацию других политических задач. Средства поступают в основном от лоббистов, корпораций и других групп, имеющих особые интересы; максимальная сумма, которую можно внести, выше, чем пожертвования в пользу индивидуальных кандидатов. Нет ограничений и на расходование этих средств (если не считать необходимости уплаты налогов и предоставления отчетов в Федеральную избирательную комиссию).
Как вы можете представить, члены конгресса США взяли за правило расходовать средства фондов PAC на финансирование деятельности, не связанной с выборами: на оплату труда нянь, сидящих с их детьми, ресторанных счетов, поездок на горнолыжные курорты Колорадо и т. д. Менее половины всех сумм, собранных PAC, поступает в распоряжение политиков, принимавших непосредственное участие в выборах. Остальное обычно тратится на «привилегии»: накладные расходы, оплату труда персонала и т. д. По словам Стива Хенна из шоу Marketplace, транслируемого Национальным общественным радио США, «PAC смогли превратить процесс сбора средств в увлекательнейшее занятие».
Чтобы справиться с ненадлежащим расходованием средств PAC, первый же закон, принятый конгрессом в 2006 году, сразу после выборов, был направлен на ограничение средств, бесконтрольно расходуемых конгрессменами. По новым правилам они были вынуждены публично оглашать информацию о том, куда были направлены средства PAC. Однако — вполне предсказуемо — эта законодательная инициатива ни к чему не привела. Уже через несколько недель после принятия закона конгрессмены принялись вести себя столь же безответственно, как и прежде: некоторые тратили деньги PAC на стрип-клубы, организацию вечеринок и т. д., не пытаясь создать даже видимость законопослушания.
Как такое возможно? Очень просто. По мере того как конгрессмены наблюдали за весьма сомнительными способами расходования средств PAC их коллегами-политиками, коллективные социальные нормы менялись к худшему. С течением времени стало принято считать, что средства PAC можно тратить на любые виды личной и «профессиональной» деятельности, и в наши дни неправомерное расходование средств PAC вызывает не больше удивления, чем человек в костюме с галстуком. Как сказал Пит Сешенз (конгрессмен-республиканец от Техаса), отвечая на вопрос о нескольких тысячах долларов, потраченных в казино в Лас-Вегасе: «Я уже не понимаю, что считать нормой».
Принимая во внимание противостояние внутри конгресса, вы можете вообразить, что подобные негативные социальные веяния не выходят за рамки той или иной политической партии: если правила нарушает демократ, его поведение повлияет только на других демократов, а плохое поведение республиканца повлияет лишь на республиканцев. Однако мой (хотя и ограниченный) опыт работы в Вашингтоне дает основания предполагать: когда этого не видят представители средств массовой информации, действия демократов и республиканцев (невзирая на колоссальные идеологические различия) имеют гораздо больше общего, чем принято думать. Это создает условия, в которых неэтичное поведение любого конгрессмена может выходить за пределы партийных рамок и оказывать влияние на представителей других партий.
РЕФЕРАТЫ НА ЗАКАЗ
Если вы не знаете, в мире существуют так называемые essay mills — компании, единственная цель которых состоит в написании сочинений и курсовых для старшеклассников и студентов (разумеется, за плату). Конечно, сотрудники этих фирм утверждают, что стремятся помочь студентам в создании оригинальных работ, однако такие названия сайтов, как eCheat.com («Электронное мошенничество»), говорят сами за себя. (Кстати, был период, когда лозунг eCheat.com гласил: «Это не мошенничество, это сотрудничество».)
Многие преподаватели обеспокоены деятельностью таких компаний и их влиянием на качество обучения. Впрочем, не имея опыта работы с ними, не зная, насколько они хороши или плохи, сложно сказать, стоит ли всерьез волноваться на их счет. Поэтому мы с Эйлин Грюнейзен (руководителем моего исследовательского центра в Университете Дьюка) решили проверить, как работают такие компании. Мы заказали у них несколько типичных для колледжей курсовых работ, выбрав тему — внимание, сюрприз! — «Мошенничество».
Вот как было сформулировано наше задание:
Когда и почему люди мошенничают? Рассмотрите социальные обстоятельства, связанные с нечестностью, и дайте вдумчивую характеристику такому явлению, как мошенничество. Рассмотрите разные формы мошенничества (в личной жизни, на работе и т. д.) и опишите, какое обоснование каждому из них дает сложившаяся социальная культура обмана.
Работа, которую мы заказали, объемом 12 страниц, должна была соответствовать требованиям, предъявляемым студентам университетского курса социальной психологии, и стандартам Американской филологической ассоциации (АФА) и содержать не менее 15 ссылок на научные работы. Срок выполнения — две недели. С нашей точки зрения, это был довольно простой и стандартный запрос. Компании потребовали с нас предоплату в размере от 150 до 216 долларов.
То, что мы получили через две недели, можно описать одним словом — «бессмыслица». Лишь несколько работ имитировали стиль АФА, зато вопиющие ошибки мы нашли в каждой из них. Цитаты с ошибками, список источников ужасен — одни ссылки устарели, другие приводили на сомнительные источники (новости в интернете, блоги и т. д.). Некоторые ссылки вообще никуда не вели. Что касается качества изложения, авторы, по всей видимости, очень плохо знали английский язык и не понимали, что такое структура реферата. Они перескакивали с одной темы на другую, часто заменяли развернутое повествование обычным списком, в котором перечислялись виды мошенничества, или приводили примеры, никак не связанные с основной темой. Среди прочих неувязок и нестыковок попадались вот такие «шедевры»:
«Знахари-мошенники. Знахарство бывает разное. Существует безвредное целительство, когда лекари-обманщики и колдуны делают предсказания, обещают устранить порчу, возврат жены/мужа и все такое. Мы читаем газеты и улыбаемся. Но в наши дни немногие верят в колдунов».
«Если те значительные средства, которые выделяются на исследования обмана, существующего в учебных заведениях, — следствие стремления преподавательского состава снизить уровень обмана, ожидается, что такое мировоззрение ляжет основным компонентом изменений основополагающих принципов школьных аудиторий».
«Слепая вера в любовь, лояльность, ответственность и честность партнеров ассоциируется с доверчивыми и наивными людьми прошлого».
«Будущие поколения должны научиться на ошибках прошлого и развить чувство гордости и ответственности за свои действия».
Закончив читать, мы вздохнули с облегчением: не настал еще тот день, когда студент сможет получить высокую оценку за работу, созданную на такой «фабрике рефератов». Более того, мы пришли к заключению, что студенты, попытавшиеся купить такой реферат, поняли бы, что напрасно потратили деньги, и впредь не стали бы прибегать к услугам этих компаний.
Однако история на этом не заканчивается. Мы выложили купленные нами рефераты на сайт , с помощью которого можно проверить текст на плагиат. Оказалось, что половина работ была по большей части скопирована из курсовых, написанных ранее. Мы решили принять меры и попросили вернуть нам деньги. Несмотря на веские доказательства, которыми нас обеспечил сайт, исполнители продолжали настаивать на том, что не занимались плагиатом. Одна компания даже пригрозила судебным иском: ее представитель заявил, что свяжется с деканом Университета Дьюка, чтобы предупредить его о моей деятельности. Стоит ли говорить, что мы не вернули ни цента?
Вывод: преподавателям не стоит (по крайней мере пока) слишком переживать из-за подобных организаций. Технологическая революция еще не способна эффективно решить эту задачу, и у студентов пока нет иного выбора, кроме как самостоятельно писать курсовые работы (или мошенничать старым добрым способом, пользуясь рефератами других студентов, написанными в предыдущем семестре).
Однако меня беспокоит сам факт существования «фабрик рефератов» и сигнал, который они подают студентам: мошенничество существует открыто, на системном, государственном уровне и оно будет сопровождать их не только во время обучения, но и после выпуска.
Как вернуть себе этическое здоровье?
Идея о том, что нечестность может передаваться от одного человека к другому через социальное «заражение», заставляет нас по-другому относиться к ее сдерживанию. В целом мы склонны воспринимать незначительные нарушения как ничтожные и малозначимые. Сами по себе «мелкие грешки» — действительно пустяк, но, накапливаясь внутри человека, группы людей или целого общества, они сигнализируют о том, что вести себя неправильно — это нормально. С этой точки зрения важно понимать: эффект от индивидуального неправомерного действия может выйти за рамки единичного проявления нечестности. Передаваясь от человека к человеку, нечестность действует очень медленно, исподтишка, но с разрушительным эффектом. По мере того как «вирус» мутирует и передается от одного человека другому, создается новый кодекс поведения, менее этичный. Даже если это происходит незаметно и плавно, результат может быть катастрофическим. Такова настоящая цена даже самых незначительных актов мошенничества. Именно по этой причине мы должны быть несгибаемы в своем стремлении избегать даже небольших нарушений.
Что можно сделать? Подсказка: в 1982 году в журнале Atlantic была опубликована статья Джорджа Келлинга и Джеймса Уилсона, описывающая «теорию разбитых окон». Авторы предложили новый способ поддержания порядка в криминально неблагополучных районах, и он не был связан с увеличением числа полицейских на улицах. Келлинг и Уилсон утверждали: если люди видят в своем районе здание с давно разбитыми окнами, у них появляется искушение разбить стекла, оставшиеся целыми, нанести зданию еще больший урон, разрушить все вокруг. Возникает цепная реакция. Основываясь на своей теории, исследователи предложили простую стратегию для предотвращения вандализма: решать проблемы, пока они не стали масштабными. Если вы сразу замените разбитое стекло (или устраните результат неправомерного поведения), вероятность того, что другие потенциальные нарушители начнут вести себя неподобающим образом, уменьшится.
Хотя «теорию разбитых окон» сложно подтвердить или опровергнуть, ее логика весьма убедительна: мы не должны недооценивать и прощать незначительные преступления, поскольку это может лишь усугубить ситуацию. Этот тезис особенно важен для тех, кто всегда в центре внимания: политиков, государственных служащих, знаменитостей и руководителей компаний. Может показаться несправедливым, что мы заставляем их придерживаться более высоких стандартов. Однако если мы согласны с тем, что публично наблюдаемое поведение оказывает большее влияние на зрителей, значит, неправильное поведение публичных персон может иметь негативные последствия для общества в целом. И наоборот: знаменитости зачастую подвергаются более легкому наказанию за свои проступки, чем обычные люди. И это дает обывателям основание считать, что в таких проступках и незначительных преступлениях нет ничего плохого.
Хорошая новость: у «моральной инфекции» есть положительная сторона и мы можем использовать ее в своих интересах, рассказывая о людях, которые смогли противостоять коррупции. Достаточно вспомнить о Шэрон Уоткинс из Enron, Колин Роули из ФБР и Синтии Купер из WorldCom. Они боролись с должностными нарушениями, широко распространившимися в их организациях, и в 2002 году журнал Time назвал их «людьми года».
Проявления честности крайне важны для нашего чувства социальной морали. И хотя они вряд ли займут первые строчки в новостях, надо помнить: если мы осознаем риск заражения общества инфекцией мошенничества, то должны признать и важность публичного освещения выдающихся актов высокоморального поведения. Чем больше ярких примеров достойного поведения мы будем видеть вокруг, тем легче нам будет различить, что похвально, а что недопустимо, и в конечном итоге улучшить свою жизнь.
Глава 9. Мошенничество в коллективе: почему две головы не всегда лучше одной
Если вам доводилось работать в какой-нибудь организации, вы знаете, что командная деятельность занимает значительную часть вашего времени. Многие экономические решения принимаются в процессе сотрудничества. Деятельность большинства компаний в США основана на коллективном подходе, а более половины всех сотрудников американских компаний практически ежедневно участвуют в групповой работе. Попробуйте сосчитать количество встреч, совещаний и коллективных проектов, в которых вы принимали участие в течение последних шести месяцев, и вы быстро поймете, как много времени они занимают. Групповая работа также играет огромную роль в процессе обучения. Например, большинство тестов для американских студентов программы MBA предполагает решение задач в группе.
В целом люди склонны верить, что работа в группах оказывает позитивное влияние на результат и повышает качество принятых решений. (На самом деле множество исследований показало, что бывает и наоборот. Однако эта тема заслуживает отдельного изучения.) Принято считать, что сотрудничество имеет куда больше плюсов, чем минусов. Оно укрепляет дух товарищества, позволяет избежать скуки и помогает извлечь немало пользы из обмена новыми идеями; в результате заинтересованность сотрудников повышается и они работают эффективнее. Сплошные преимущества!
Несколько лет назад, читая лекции студентам, я рассказывал им о некоторых своих исследованиях, связанных с конфликтами интересов (глава 3 «Ослепленные собственной мотивацией»). После занятия одна студентка (буду называть ее Дженнифер) сказала, что обсуждение задело ее за живое. Она вспомнила о довольно неприятной ситуации, произошедшей несколькими годами ранее, когда она работала сертифицированным бухгалтером в крупной финансовой компании.
Дженнифер рассказала, что ее работа состояла в подготовке годовой отчетности и других документов, призванных информировать акционеров о состоянии дел в их компаниях. Как-то раз начальник попросил команду Дженнифер подготовить отчет для ежегодной встречи акционеров одного из крупнейших клиентов компании. Для выполнения задания необходимо было изучить всю финансовую отчетность клиента и сделать вывод о его финансовом положении. Задание было очень ответственным, и Дженнифер со своей командой усердно трудилась над тем, чтобы финальный отчет получился не только подробным, но и честным и реалистичным. Она старалась выполнить работу безукоризненно, избегая таких распространенных приемов, как завышение прибыли или перенос убытков на следующий отчетный период. Закончив, Дженнифер отдала черновой вариант отчета начальнику, ожидая — с немалым беспокойством — его реакции.
В этот же день Дженнифер получила отчет обратно. Приложенная к нему записка гласила: «Мне не нравятся эти цифры. Прошу вас собраться всей командой и подготовить скорректированную версию к следующей среде». Цифры могли не понравиться боссу по разным причинам, и Дженнифер не понимала, что он имел в виду. Более того, если цифры «не нравятся», это не значит, что они неверны: о возможных ошибках не было ни слова. В голове Дженнифер роились вопросы: чего он от нее хотел? Насколько сильно должны отличаться показатели — на полпроцента, один, пять? Кроме того, она не понимала, кто будет нести ответственность за сделанные ею «улучшения». Если бы поправки оказались слишком оптимистичными, кого впоследствии за это могли бы обвинить: ее или начальника?
Работа профессионального бухгалтера часто связана с неоднозначными ситуациями. С одной стороны, она регламентирована четкими правилами. Но существует еще и свод рекомендаций с расплывчатым названием «Общепринятые принципы бухгалтерского учета» (GAAP), рекомендуемых к исполнению всеми бухгалтерами и финансистами. Эти рекомендации, в сущности, развязывают бухгалтеру руки. Они носят настолько общий характер, что один и тот же финансовый отчет можно интерпретировать совершенно по-разному (а еще есть материальная заинтересованность, которая позволяет «правильно» трактовать рекомендации). К примеру, одно из правил, «принцип честности», гласит, что отчет должен «добросовестно» отражать финансовое состояние компании. Звучит хорошо, однако определение «добросовестность» крайне расплывчато и невероятно субъективно. Разумеется, далеко не все (в жизни или бухгалтерском учете) поддается точной количественной оценке, однако использование слова «добросовестность» вызывает множество вопросов. Допустимы ли недобросовестные, вероломные действия бухгалтера?[35] К кому относится эта «добросовестность»? К людям, управляющим компанией? Тем, кто хочет, чтобы финансовые отчеты убедительно свидетельствовали о прибыльности бизнеса (что приводит к увеличению бонусов и компенсаций)? Или добросовестными должны быть инвесторы? Или те, хочет получить объективное представление о положении дел в компании?
В дополнение к характерной для любой финансовой отчетности запутанности и сложности задания Дженнифер заполучила еще одну проблему — давление со стороны ее босса. Она добросовестно (с ее точки зрения) выполнила работу и вдруг осознала, что ее просят обойти существующие правила. Начальник хотел, чтобы финансовое положение компании-заказчика выглядело более радужным. Взвесив «за» и «против», Дженнифер пришла к выводу, что ее команде следует подчиниться. В конце концов, приказ исходил от начальника, который куда больше ее самой знал и о бухгалтерии, и о работе с клиентами, и о том, чего ожидает заказчик в данном случае. Хотя Дженнифер с самого начала отнеслась к работе с максимальной дотошностью и усердием, ей пришлось вновь вернуться к изучению графиков и пересмотру показателей, чтобы подготовить новый отчет, «лучше прежнего». На этот раз босс остался доволен.
Услышав эту историю, я задумался о рабочей обстановке Дженнифер и о том, какое влияние оказали на ее окончательное решение приказ босса и командные условия работы. Дженнифер оказалась в довольно типичных для офисной жизни обстоятельствах, но особенно примечательным для меня было вот что: факт мошенничества имел место в условиях работы в команде, и это сильно отличалось от всего, что мы изучали прежде.
Во всех наших экспериментах решение — обмануть или нет — принимал каждый участник в отдельности (даже если в тот момент он находился под влиянием нечестных поступков окружающих). Однако в ситуации Дженнифер в процесс были вовлечены несколько человек, как часто бывает в любой профессиональной сфере. Дженнифер понимала, что ее действия повлияют не только на нее и начальника, но и на других сотрудников. В конце года они проходили аттестацию как команда, поэтому от решения Дженнифер зависели их премии, бонусы и карьерные перспективы.
Я задумался о том, какой эффект оказывает коллективный труд на уровень индивидуальной честности. Когда мы работаем в команде, мы обманываем больше? Или меньше? Иными словами, какое воздействие оказывает на честность коллективная работа — благоприятное или разрушающее? Этот вопрос напрямую связан с темой предыдущей главы («Мошенничество как инфекция, или Вирус нечестности»): можно ли «заразиться» мошенничеством от окружающих? Стоит отметить, что социальная «заразность», или взаимовлияние, и социальная зависимость — разные явления. Одно дело наблюдать за нечестным поведением других и менять на основании этих наблюдений собственные представления о том, что является нормой. Совсем другое — если от наших действий зависит финансовое благополучие окружающих.
Представьте, что вы работаете над коллективным проектом. Необязательно ловить мошенников за руку: вы и сами знаете, что от небольшой корректировки правил выиграют все. Вы испытаете облегчение, совершив неправедный поступок, если будете знать, что и другие люди получат от этого выгоду? История Дженнифер дает основания предполагать, что работа в команде может заставить нас отойти от своих моральных принципов. Можно ли считать это общим правилом?
Прежде чем перейти к соответствующим экспериментам и выяснить, как влияет на мошенничество коллективный труд, вернемся на шаг назад и подумаем о возможном позитивном и негативном воздействии групп и команд на нашу склонность к обману.
Бескорыстное мошенничество: цена коллективизма
Рабочая среда — сложный социальный комплекс, в котором задействовано множество сил. Некоторые из них, вероятно, создают больше возможностей для мошенничества и увеличивают склонность отдельных членов коллектива к обману: те понимают, что их действия могут пойти на пользу людям, которые им нравятся и о которых они заботятся.
Вспомним случай с Дженнифер. Предположим, она была лояльна и ей нравилось, что она может сказать это о себе. Предположим, что ей нравились ее начальник и коллеги и она искренне хотела им помочь. Можно предположить, что и просьбу начальника она выполнила не по эгоистичным причинам, а заботясь о благополучии босса и из глубокого уважения к коллегам. С ее точки зрения, «плохие» цифры могли отрицательно повлиять на отношение заказчика и руководства компании к ее непосредственному начальнику и коллегам. Другими словами, забота о команде заставила Дженнифер поступить нечестно.
В основе этого импульса лежит то, что ученые называют общественной полезностью. Это понятие описывает присущую всем людям иррациональную способность сострадать: она заставляет нас заботиться о других и помогать им при каждом удобном случае (пусть и в ущерб себе). Разумеется, все мы заинтересованы действовать в собственных интересах, но еще мы хотим приносить пользу окружающим, особенно тем, кто нам небезразличен. Такой альтруизм мотивирует нас помогать незнакомым людям: заменить лопнувшую шину или вернуть найденный на улице бумажник, устроиться добровольцем в благотворительную организацию, одолжить деньги другу и т. д.
Склонность заботиться об окружающих порой вынуждает нас вести себя менее честно в ситуациях, когда неэтичное поведение может принести пользу другим. В подобных обстоятельствах мы готовы рассматривать мошенничество как проявление альтруизма: подобно Робину Гуду, мы нарушаем правила, потому что мы хорошие люди, заботящиеся о благосостоянии окружающих.
Вы под наблюдением! Возможные преимущества командной работы
Во второй книге диалога «Государство» Платон рассказывает о пастухе по имени Гиг, который нашел кольцо, позволяющее ему стать невидимым. Получив этот дар, пастух встает на преступный путь. Он направляется в королевский дворец, соблазняет королеву и подговаривает ее убить мужа, чтобы сесть на престол вместо него. Платон размышляет, способен ли кто-то из живущих на Земле людей удержаться от соблазна и не воспользоваться той властью, которую дает умение становиться невидимкой. Отсюда возникает другой вопрос: правда ли, что единственная сила, которая удерживает человека от правонарушений, — страх, что его увидят? К этой же теме спустя пару тысячелетий после Платона обратился Джон Толкин в своем «Властелине колец». На мой взгляд, история, рассказанная Платоном, отлично иллюстрирует, как работа в коллективе подавляет нашу склонность к обману. Другие члены команды выступают в роли контролеров. Зная, что за нами наблюдают, мы, возможно, проявляем меньше склонности к нечестным поступкам.
Хорошо продуманный эксперимент, который провели Мелисса Бейтсон, Дэниел Неттл и Гилберт Робертс (все из Ньюкаслского университета), подтвердил эту гипотезу: ощущение, что вы находитесь под наблюдением, само по себе является достаточным для предотвращения неправомерных действий. Эксперимент проходил в университетской столовой факультета психологии. Там есть отдельная зона, где преподаватели и сотрудники факультета могут за умеренную плату налить себе чай, кофе и молоко. Над столом висит объявление, призывающее тех, кто воспользовался услугой, положить деньги в специальный контейнер, так называемый «ящик честности». В течение 10 недель организаторы эксперимента украшали это объявление разными картинками, менявшимися каждую неделю. Половину из этого срока входящие в столовую видели на объявлении изображения цветов, в другие дни — изображения глаз, смотревших прямо на посетителей. В конце каждой недели исследователи вынимали деньги из контейнера и подсчитывали сумму. И вот что они обнаружили: коробка никогда не оказывалась пустой, но в те недели, когда вместо цветов с объявления на посетителей «смотрели» глаза, в ней оказывалось в три раза больше денег.
Подобно другим открытиям в поведенческой экономике, результаты этого эксперимента оказались неоднозначными. Негативная сторона состояла в том, что даже работники факультета психологии — которые уж точно должны понимать, что к чему, — пытались улизнуть, не заплатив. Но и есть позитивная сторона: даже мнимого ощущения того, что за ними наблюдают, было достаточно, чтобы сотрудники вели себя честнее. Эксперимент также доказывает, что тотальный контроль в стиле оруэлловского Большого Брата совсем не обязателен: в борьбе за повышение уровня честности куда более тонкие намеки на слежку будут весьма эффективны. Кто знает? Возможно, если бы в кабинете начальника Дженнифер висела предупреждающая надпись, дополненная изображением внимательно смотрящих глаз, он вел бы себя по-другому.
Анализируя случившееся с Дженнифер, мы с Франческой Джино и Шахаром Айялом задались вопросами: как проявляется нечестность в командной среде? Позволяет ли надзор снизить уровень мошенничества? Могут ли социальные взаимосвязи в группе увеличить степень альтруизма и нечестности? И если обе эти силы действуют в противоположных направлениях, какая из них окажется более мощной? Чтобы пролить свет на эти вопросы, мы снова обратились к своему любимому матричному тесту. Включив в него основное контрольное условие (при котором смошенничать не представлялось возможным) и условие «с уничтожением» (допускавшее мошенничество), мы добавили новый элемент, связанный с групповым воздействием.
Приступая к процессу изучения эффекта группового поведения, мы не хотели давать участникам возможность обсудить их стратегию или завести друзей. Поэтому ввели в эксперимент новое условие: участники не должны быть знакомы или как-то связаны друг с другом. Мы назвали его «условие отчуждения». Предположим, вы — один из участников этого эксперимента. Как и в условии «с уничтожением», вы сидите за столом и решаете матричные задачи. По истечении пяти минут вы подходите к измельчителю для бумаг и уничтожаете листок со своими ответами.
А теперь добавим элемент сотрудничества. Инструктор сообщает, что вы являетесь частью команды из двух человек и что каждый из вас получит половину общего дохода команды. Вам дают квитанцию для получения денег: она синего или зеленого цвета, а в правом верхнем углу указан номер. Вас просят пройтись по комнате и найти человека с квитанцией другого цвета, но с тем же номером в правом верхнем углу. Вы находите своего партнера, садитесь рядом, после чего каждый указывает на своей квитанции количество правильно решенных задач. Здесь же, на квитанции, вы указываете и результат партнера, после чего складываете оба числа и получаете итоговую сумму. Закончив, вы вместе подходите к экспериментатору и протягиваете ему обе квитанции. Поскольку листы с вашими ответами к этому моменту уже уничтожены, он не может проверить точность ваших результатов, поэтому верит вам на слово, выдает деньги, и вы делите полученную сумму пополам.
Как вы думаете, будут люди в такой ситуации мошенничать больше, чем в индивидуальном эксперименте «с уничтожением»? Вот что мы выяснили: когда участники поняли, что не только они сами, но и кто-то другой извлекает пользу из их нечестности, они не просто завысили свои результаты, но пошли еще дальше, заявляя, что решили на три задачи больше, чем в случаях, когда мошенничали только для себя. Этот результат приводит нас к следующему выводу: люди подвержены слабости под названием «бескорыстное мошенничество» даже в тех случаях, когда человек, извлекающий пользу из их неправильного поведения, едва им знаком. Как ни печально, даже у альтруизма есть темная сторона.
Это еще не все плохие новости.
Выявив негативный аспект работы в команде (заключающийся в том, что люди склонны мошенничать в большей степени, когда кто-то еще, пусть даже незнакомый, может извлечь пользу из их бесчестности), мы решили обратить свои взоры на возможные позитивные аспекты коллективизма и выяснить, что произойдет, когда участники команды наблюдают друг за другом. Представьте, что вы сидите в комнате с другими участниками и случайным образом составляете пару с человеком, которого раньше никогда не видели. К счастью, ваш партнер — дружелюбная молодая женщина. Прежде чем заговорить с ней, вы должны решить все задачи. Вы — игрок номер один, поэтому начинаете первым. Вы решаете первую задачу, вторую, третью… Все это время девушка наблюдает за вашими успехами и неудачами. По прошествии пяти минут вы молча откладываете карандаш, а соседка хватается за свой. Она решает задачки, а вы наблюдаете. Наконец время вышло; вы вместе идете уничтожать свои листы с записями. Потом вы фиксируете результаты на платежной квитанции, подсчитываете общий балл и идете получать гонорар — не произнеся за все это время ни слова.
Каким был уровень мошенничества на этом этапе эксперимента? Нулевым. Несмотря на присущую всем людям склонность к мошенничеству, которую мы неоднократно отмечали, несмотря на ее рост в тех случаях, когда окружающие тоже извлекали выгоду из нечестных действий, обман полностью прекратился в условиях неотступного наблюдения.
Итак, наши эксперименты выявили наличие двух сил, действующих при работе в команде: альтруизм заставляет людей мошенничать больше в тех случаях, когда другие участники команды тоже могут извлечь пользу от их нечестности; прямой надзор способен снизить уровень нечестности и даже полностью ее устранить. Учитывая, что обе силы присутствуют в нашей жизни одновременно, возникает вопрос: какая из них возобладает в стандартных условиях группового взаимодействия?
Для ответа нам нужно было создать экспериментальные условия, максимально соответствующие тем, в которых участники оказываются в повседневной жизни. Вероятно, вы заметили, что в ходе первых двух экспериментов участники практически не вступали в контакт. В реальной жизни коллективные обсуждения или дружеская беседа — неотъемлемая и важная часть сотрудничества. Мы учли это, планируя наш следующий эксперимент. На этот раз участникам разрешалось знакомиться, общаться и заводить друзей. Мы даже снабдили их списком вопросов, которые они могли задавать друг другу, чтобы скорее установить контакт. После этого они по очереди наблюдали за тем, как их партнер решает задачи.
Увы, но в этих условиях мошенничество вновь подняло свою уродливую голову. Участники эксперимента утверждали, что правильно решили в среднем по четыре задачи. Альтруизм ведет к росту нечестности, прямой надзор — к ее уменьшению. Но всякий раз, когда группа людей оказывается в условиях, допускающих общение и взаимодействие (даже если за ними пристально наблюдают), тяга к бескорыстному мошенничеству оказывается сильнее всевидящего ока.
ДОЛГОСРОЧНЫЕ СВЯЗИ
Большинство из нас склонно думать, что чем дольше мы общаемся со своими врачами, бухгалтерами, финансовыми советниками, юристами и так далее, тем сильнее они будут заботиться о нашем благосостоянии и, следовательно, будут ставить наши потребности выше собственных. Вот пример: представьте, что вы получили врачебное заключение. Вы больны (не смертельно); есть два метода лечения. Первый — интенсивная дорогостоящая терапия. Второй состоит в том, чтобы немного подождать и посмотреть, как будет развиваться болезнь и как ваш организм будет на нее реагировать (в медицине такая выжидательная тактика называется «динамическое наблюдение»). Однозначного ответа на вопрос, какой из вариантов подходит вам больше, нет; очевидно, что дорогостоящее лечение предпочтительнее для кошелька вашего доктора. А теперь представьте, что лечащий врач настаивает на интенсивной терапии и вы должны приступить к процедурам не позднее следующей недели. Вы последуете его совету? Или вспомните все, что знаете о конфликте интересов, отвергнете его рекомендации и начнете искать другого врача, чтобы выслушать и его мнение? В подобных ситуациях люди часто склонны верить своим постоянным советчикам (и чем дольше мы с ними знакомы, тем сильнее верим). Если мы пользуемся услугами своего врача или юриста уже много лет, неужели он не заботится о нас с каждым годом все больше? Разве не будет он смотреть на ситуацию нашими глазами и давать нам хорошие советы?
Действительность может оказаться иной. Чем дальше, тем чаще наш советчик (услуги которого мы оплачиваем) невольно или осознанно начинает руководствоваться собственными интересами. Мы с Джанет Шварц (преподавателем Тулейнского университета, которая вместе со мной присутствовала на ужине с торговыми представителями) и Мэри Фрэнсис Люс (преподавателем Университета Дьюка) решили разобраться в этом вопросе, искренне надеясь на то, что по мере укрепления связей между клиентами и поставщиками услуг последние начинают больше заботиться о благе своих клиентов и меньше — о своем собственном. Однако мы обнаружили обратное.
Мы проанализировали результаты нескольких миллионов стоматологических процедур за 12 лет. Особое внимание обращали на случаи, когда пациентам ставились пломбы, и на то, из чего они были сделаны: из серебряной амальгамы или белого композитного материала. Дело в том, что серебряные пломбы дешевле, прочнее и служат дольше. Композитные пломбы дороже, чаще требуют замены, но выглядят более эстетично. Когда дело касается передних зубов, эстетика часто берет верх над практичностью и белые пломбы предпочтительнее. Однако для менее заметных задних зубов больше подходят серебряные пломбы.
Мы обнаружили, что примерно в 25 % случаев пациентам на коренные зубы ставили красивые дорогостоящие белые композитные пломбы, а не более функциональные и прочные серебряные. Скорее всего, в этих случаях стоматологи принимали решение в своих интересах (цена пломбы и частота последующих обращений), а не в интересах пациента (меньше расходы, меньше вероятность повторного визита).
Но и этого, похоже, было недостаточно. Мы обнаружили, что тенденция значительно сильнее проявляется в случаях, когда пациенты давно знакомы со своими дантистами (это справедливо и для других врачебных процедур). Есть основание сделать вывод: чем комфортнее врачу общаться с пациентом (по мере их сближения), тем чаще он рекомендует процедуры, руководствуясь собственными финансовыми интересами. В свою очередь, пациенты с большей готовностью следуют советам врача, поскольку многолетние отношения выработали в них доверие к мнению «своего» специалиста[36]. Подытожим: очевидно, у многолетних постоянных отношений между пациентами и врачами множество преимуществ. В то же время мы должны помнить, что за эти отношения нам порой приходится платить.
Итак, вот что мы узнали о мошенничестве в коллективе:
Но подождите, есть кое-что еще! В одном из наших экспериментов выгоду от преувеличенных результатов извлекали и сам обманщик, и его партнер. Выступая в роли обманщика и приписав себе один лишний правильный ответ, вы получаете половину дополнительного платежа, а вторую половину — ваш партнер. Разумеется, с финансовой точки зрения это менее выгодно, чем получить всю сумму одному, но вы все равно оказываетесь в выигрыше.
Чтобы изучить бескорыстное мошенничество в его абсолютном проявлении, мы добавили еще одно условие: когда выгоду от каждого акта мошенничества получал только партнер, а не сам участник, совершивший обман. И что же мы выяснили? Как оказалось, альтруизм — действительно сильный мотивирующий фактор. Когда мошенничество совершалось по сугубо альтруистическим мотивам, а сами обманщики не получали от своих действий никакой выгоды, уровень мошенничества увеличивался.
Почему? Думаю, когда мы собираемся извлечь пользу из собственной нечестности в компании с другим человеком, мы руководствуемся целым комплексом мотивов, и эгоистичных, и альтруистических. И наоборот, когда другие люди (и только они) получают выгоду от нашего мошенничества, нам гораздо проще оправдать свой неблаговидный поступок, списав все на альтруизм. В результате мы еще сильнее ослабляем свои моральные «тормоза». В конце концов, если мы делаем что-то ради других, не становимся ли мы похожи на Робина Гуда?[37]
Наконец, стоит подробнее рассказать о работе контрольной группы в наших экспериментах. Тестируя каждое из условий (индивидуальный и групповой тесты «с уничтожением», работа в группе друзей, тесты на альтруизм и пр.), предоставлявших участникам возможность мошенничать, мы не забывали о контрольной группе, участники которой не могли прибегнуть к обману (они не уничтожали свои результаты, а отдавали их инструктору). Сверив полученные данные, мы смогли ответить на вопрос: влияет ли природа сотрудничества на результаты? Оказалось, что во всех контрольных группах результаты были примерно одинаковыми. Что это значит? Судя по всему, коллективный труд далеко не всегда приводит к улучшению результатов и росту эффективности; по крайней мере не в той мере, как принято считать.
Разумеется, мы не можем выжить без помощи окружающих. Совместный труд — важная часть нашей жизни. Но ясно и другое: работа в коллективе — палка о двух концах. С одной стороны, это интересно, повышает лояльность и мотивирует. С другой стороны, она предоставляет больше возможностей для мошенничества. В итоге (и это очень грустно) оказывается, что люди, которые больше других заботятся о своих коллегах, в конечном счете чаще обманывают. Разумеется, я не призываю к запрету коллективного труда, сотрудничества и заботы друг о друге. Но мы должны признать: за коллективизм и привязанность, возможно, придется заплатить.
Парадокс совместной работы
Если работа в команде увеличивает вероятность нечестного поведения, как с этим бороться? Первый очевидный ответ: усилить надзор. Именно так чаще всего реагируют правительственные регулирующие органы на неподобающее поведение корпораций. Например, крах компании Enron привел к возникновению новых правил в отношении корпоративной отчетности, известных как закон Сарбейнса‒Оксли, а финансовый кризис 2008 года заставил правительство разработать еще более широкий набор ограничений (основой для которых стали реформа Додда‒Франка и закон о защите прав потребителей), призванных усилить контроль в финансовой сфере.
Нет сомнений в том, что надзор может быть полезен, но лишь до определенной степени. Результаты наших экспериментов наглядно показали: само по себе усиление контроля не может полностью побороть нашу способность оправдывать собственную нечестность. Особенно когда окружающие могут извлечь выгоду из нашего неправомерного поведения (не говоря уже о высоких финансовых затратах, связанных с осуществлением контролирующих мер).
Вместо того, чтобы вводить новые и новые правила и ограничения, в некоторых случаях стоит уделить больше внимания самой природе коллективного труда и изменить ее. Интересное решение проблемы было не так давно реализовано в крупном международном банке; автором идеи стал мой бывший студент по имени Джино. Чтобы дать сотрудникам кредитного отдела возможность работать, не опасаясь роста мошенничества внутри команды (например, накрутки ценности выданных кредитов, позволяющей улучшить показатели прибыльности в краткосрочной перспективе), Джино разработал уникальную систему контроля. Он сообщил своим коллегам, что за их деятельностью по рассмотрению кредитных заявок и предоставлению кредитов будет следить группа специалистов, привлеченных со стороны. «Контролеры» были никак не связаны с сотрудниками банка в социальном смысле и не заинтересованы в том, чтобы оказывать им содействие. Для большей уверенности в том, что обе группы не вступают в контакт, Джино разместил их в разных зданиях.
Я пытался получить от Джино информацию, которая позволила бы оценить успешность этого подхода, но вмешались банковские юристы. Поэтому я так и не узнал, сработал ли метод и как сотрудники банка отнеслись к новым условиям работы. Могу лишь подозревать, что у нововведения были хотя бы какие-то положительные стороны. Скорее всего, рабочие встречи в отделе перестали носить неформальный характер и доставлять работникам банка удовольствие. Вероятно, обстановка, в которой принимались коллективные решения, стала более напряженной, и, разумеется, внедрение этого метода потребовало значительных расходов. Тем не менее, по словам Джино, появление объективного анонимного контролирующего органа оказало позитивное влияние на корпоративную этику и мораль и финансовые результаты в целом.
Ясно, что наскоком решить проблему мошенничества в условиях работы в группе не получится. Совокупность выводов, к которым мы пришли после проведенных экспериментов, может иметь большое значение для организаций, особенно если принять во внимание преобладание коллективных форм организации труда в современной профессиональной сфере. Вряд ли кто-то будет спорить: осознание того, насколько глубоко нечестность укоренилась в обществе и насколько сложно с ней бороться, может ввести в депрессию. И все же, изучая опасности, которые таит в себе коллективный труд, мы можем эффективнее бороться с нечестностью.
Глава 10. Полуоптимистичный финал: люди врут реже, чем могли бы!
Читая эту книгу, вы поняли, что честность и нечестность базируются на комбинации двух очень разных типов мотивации. С одной стороны, мы хотим получать от мошенничества пользу (это рациональная экономическая мотивация). С другой, хотим продолжать думать о себе как об идеальных представителях человеческого рода (психологическая мотивация). Может показаться, что одновременное достижение этих двух целей невозможно: за двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь. Однако разработанная нами теория поправочного коэффициента дает основания предполагать: людям это вполне по силам благодаря свойственной им гибкости в поиске рациональных обоснований их поступков. До тех пор, пока мы мошенничаем «в малых дозах», нам удается усидеть на двух стульях, пожиная плоды бесчестности и сохраняя самоуважение.
Как мы убедились, определенные факторы — деньги, которые можно заработать, и вероятность быть пойманным — влияют на человека в значительно меньшей степени, чем кажется. Но есть и другие силы (и их влияние гораздо значительнее): моральные маркеры, отложенная финансовая выгода (когда от получения денег нас отделяет несколько шагов), конфликт интересов, моральное истощение, подделки, напоминания о ложных достижениях, креативность, наблюдение за нечестными действиями других людей, забота об участниках своей команды и т. д.
Хотя целью описанных в книге тестов было изучение нечестности, важно помнить: большинство участников наших экспериментов — довольно приятные люди, студенты престижных университетов, которые наверняка впоследствии займут важные посты, будут обладать властью и оказывать влияние на других. Это совершенно не те люди, которые обычно ассоциируются с мошенничеством. Они такие же, как мы с вами, как большинство людей на нашей планете, и это означает, что каждый из нас вполне способен совершить мошенничество, пусть даже и не в крупных размерах.
Мои слова могут прозвучать пессимистично, но такова реальность: да, человеческие существа в общем и целом более моральны, чем заявляют создатели различных экономических теорий, — но это лишь одна сторона медали. С точки зрения исключительно рациональной теории ПМРП люди мошенничают не так уж часто. Задумайтесь, сколько раз за последние дни у вас была возможность смошенничать без опасения попасться. Например, ваш коллега оставил кошелек на столе и надолго ушел на деловую встречу. Или незнакомец в кафе попросил вас присмотреть за его ноутбуком, а сам пошел в туалет. Или кассир в магазине забыл просканировать одну из ваших покупок, или вы увидели на безлюдной улице велосипед без замка. В этих ситуациях вы должны были, следуя теории ПМРП, присвоить себе деньги, компьютер или велосипед (не говоря уже о неоплаченных продуктах). Тем не менее мы, не задумываясь, проходим мимо большинства таких возможностей. Что означает: у нас есть все предпосылки для успешной борьбы за собственную моральную устойчивость.
Как насчет «настоящих» преступников?
За время наших экспериментов тестирование прошли тысячи людей. Порой мы сталкивались с обманщиками, которые упорно старались максимально заработать на своем участии в тестах. Ни один из участников матричного теста не заявил о том, что решил 18 или 19 из 20 задач. Однако время от времени мы получали уверения том, что правильно решены все 20. Так говорили люди, которые, проанализировав возможные риски и свою выгоду, приняли решение получить максимальное вознаграждение. К счастью, таких было немного, и, поскольку они являлись скорее исключением, чем правилом, мы потратили на них лишь несколько сотен долларов (нас это не обрадовало, но могло быть хуже). В то же время тысячи и тысячи участников приписывали себе «лишь» несколько правильно решенных задач. Таких было очень много, и мы потеряли тысячи и тысячи долларов — куда больше, чем отдали тем, кто врал по-крупному.
Думаю, понесенные нами финансовые потери отражают уровень социальной нечестности в целом. Считаные единицы готовы воровать в больших объемах. Зато многие хорошие люди мошенничают по чуть-чуть, тут и там: округляя количество оплачиваемых часов работы, преувеличивая размер потерь в заявлениях на выплату страхового возмещения, рекомендуя пациентам лечебные процедуры, без которых можно обойтись, и т. д. Свои способы мошенничать по мелочам есть и у организаций. Подумайте о компаниях, которые выдают кредиты и постепенно без объективных причин поднимают процентную ставку. Или изобретают всевозможные виды скрытых комиссий и штрафов, условно называемые «способы улучшения доходности». Подумайте о банках, которые замедляют обработку чеков, чтобы попридержать наши деньги лишние день-два, или начисляют заоблачные проценты за просроченную задолженность и снятие наличных в банкомате. Все это означает одно: нужно не только обращать пристальное внимание на вопиющие случаи неправомерного поведения, но, что важнее, препятствовать небольшим, но вездесущим проявлениям нечестности, с которыми мы все постоянно сталкиваемся (в роли нарушителя или жертвы).
Несколько слов о культурных различиях
Я много путешествую по всему миру и частенько прошу людей, которых встречаю в своих поездках, рассказать о честности и морали в их странах. Это позволило мне понять, как на проявления нечестности влияют культурные различия: региональные, национальные или корпоративные.
Если вы росли за пределами США, задумайтесь: ваши сограждане мошенничают больше или меньше американцев? Я задавал этот вопрос жителям разных стран и вот что обнаружил: многие абсолютно убеждены, что в их стране уровень мошенничества выше, чем в Америке (за исключением — вполне предсказуемым — жителей Канады и Скандинавских стран).
Понимая, что это лишь субъективные впечатления, я заинтересовался, насколько далеки были их суждения от истинного положения дел. Для того, чтобы изучить культурные различия, мы прежде всего должны были уравнять финансовые стимулы. Если бы за каждый правильный ответ мы всегда платили участникам экспериментов денежный эквивалент одного доллара, в одной стране это оказалось бы огромной суммой, а в другой — совершенно незначительной. Мы решили взять за основу стоимость известного во всем мире товара, например гамбургера из McDonald’s. Таким образом, за каждую правильно решенную матричную задачу участники получали вознаграждение, равное четверти цены гамбургера, купленного в ресторане этой сети в их городе или регионе. Такой подход предполагал, что люди, отвечающие за ценовую политику McDonald’s, знают, какова покупательская способность в том или ином регионе, и учитывают ее, устанавливая розничные цены на свою продукцию.
Однако потом мы решили использовать другой подход и воспользоваться так называемым «пивным индексом». Мы проводили свой эксперимент в барах; вознаграждение за каждую решенную — со слов участников — задачу равнялось четверти цены пинты пива (мы были уверены в том, что испытуемые трезвы, поскольку приглашали принять участие в тесте лишь тех, кто только что вошел в бар и еще не успел сделать заказ).
Поскольку я вырос в Израиле, мне было особенно интересно узнать, как оценивают уровень мошенничества в стране сами израильтяне (должен признаться: я искренне подозревал, что они врут больше, чем американцы). Выяснилось, однако, что в матричных тестах мои соотечественники мошенничали с той же частотой, что и жители США. Мы решили проверить, как поведут себя представители других национальностей. Ширли Ван, одна из моих китайских коллег, была убеждена в том, что китайцы обманывают чаще, чем американцы. Но и они продемонстрировали тот же уровень нечестности, что израильтяне. Франческа Джино, родом из Италии, утверждала, что «самые-самые» мошенники — это итальянцы. «Приезжай в Италию, и мы покажем тебе, что такое настоящее мошенничество», — как-то произнесла она со своим непередаваемым акцентом. Но она тоже ошибалась. Мы получили одинаковые результаты в Турции, Канаде и Великобритании. Выходит, что уровень мошенничества примерно одинаков во всех странах (по крайней мере в тех, где нам удалось провести свои тесты).
Как же объяснить тот факт, что эксперименты не выявили никаких значительных расхождений в уровне нечестности между различными странами и культурами? Притом что каждый отдельно взятый человек убежден: где-то мошенничество процветает, а где-то встречается реже. Как соотнести полученные результаты с очевидно несовпадающими объемами коррупции в разных странах, культурах и на разных континентах? Полагаю, здесь нет противоречий, и вот почему. Собранные нами данные подтверждают: мошенничество действительно существует и носит глобальный характер. Но и культурные различия говорят о том же.
Наш матричный тест существует вне культурного контекста. Он не является неотъемлемой частью социальной или культурной среды. Значит, он отражает базовую человеческую способность сохранять моральную гибкость и трактовать ситуации и действия в своих интересах, не очерняя самих себя. В то же время наша повседневная деятельность тесно вплетена в сложный многокомпонентный культурный контекст, двояко влияющий на уровень нечестности. Он может выводить те или иные действия и поступки за пределы «морального поля» — и возвращать их обратно. А может менять поправочный коэффициент таким образом, что он становится приемлемым в том или ином обществе и определенной сфере деятельности.
Возьмем, к примеру, плагиат. В американских университетах к нему относятся очень серьезно, но в других странах он воспринимается как своего рода игра, в которую студенты играют с преподавателями. Плохо, если учащегося ловят за руку; само по себе нечестное действие воспринимается менее негативно. В некоторых обществах не одобряют такие нарушения правил, как уход от налогов, связь на стороне, незаконное скачивание компьютерных программ или переход улицы на красный сигнал светофора — даже если на дороге нет ни одной машины… А в других к ним относятся нейтрально или даже считают проявлением удальства.
Разумеется, нам еще многое предстоит узнать о влиянии культуры на мошенничество: как социологических факторов, помогающих сдерживать нечестность, так и общественных сил, которые способствуют развитию нечестности и коррупции.
P. S. Должен отметить, что в ходе межкультурных экспериментов нам все же удалось выявить одно значительное расхождение. Однажды участниками нашего с Рашелью Баркан теста стали посетители бара в Вашингтоне; туда часто заходят сотрудники конгресса. Другой тестовой площадкой оказался бар в Нью-Йорке, на этот раз с завсегдатаями в лице банкиров с Уолл-стрит. Именно там и обнаружились культурные различия. Как вы думаете, кто мошенничал больше: политики или банкиры? Я ставил на политиков, но результаты показали обратное: уровень мошенничества среди банкиров был в два раза выше. (Прежде чем вы снимете подозрения со своих знакомых политиков и начнете подозревать своего банкира, примите во внимание: политики, участвовавшие в тестировании, были начинающими — в основном клерки из конгресса. Так что им еще есть куда расти и развиваться.)
МОШЕННИЧЕСТВО И НЕВЕРНОСТЬ
Разумеется, ни одна книга о мошенничестве не будет полной без пары слов о прелюбодеянии и хитроумных уловках, сопутствующих внебрачным связям. Для многих людей мошенничество и неверность практически синонимы.
Неверность лежит в основе одного из самых захватывающих развлечений. Если бы знаменитые прелюбодеи наших дней, такие как Лиз Тейлор, принц Чарльз, Тайгер Вудс, Брэд Питт, Элиот Спитцер, Арнольд Шварценеггер и другие, не обманывали своих мужей и жен, многие таблоиды и прочие информационно-развлекательные издания оказались бы на грани банкротства.
С точки зрения теории поправочного коэффициента неверность отлично иллюстрирует едва ли не все свойственные нечестности черты, о которых мы говорим в этой книге. Для начала она олицетворяет поведение, которое никак не связано с анализом рисков и возможностей. Подозреваю также, что склонность к неверности во многом зависит от способности оправдать себя в своих же глазах. Начав с малого (например, с поцелуя), мы открываем дорогу силам, которые могут со временем привести к более серьезным последствиям. На способность находить оправдание неверности может повлиять и пребывание вне привычной обстановки (например, в командировке или туристической поездке), когда социальные правила и нормы не кажутся очевидными. Творческие люди — актеры, художники, политики (известные своей склонностью к неверности) — легко и непринужденно плетут небылицы, уверяя окружающих в том, что такое поведение вполне нормально, а иногда и желательно. Наконец, как и во многих случаях проявления нечестности, неверность зависит от действий других людей. Тот, чьи друзья или родственники имели романы на стороне, скорее всего, тоже подвергнется разлагающему влиянию.
Учитывая сложность, неоднозначность и социальную значимость неверности, вас может удивить отсутствие в этой книге соответствующей главы и мое решение ограничить обсуждение столь интригующей темы одним абзацем. Проблема в нехватке данных. Я предпочитаю делать выводы, оперируя цифрами, полученными в ходе собственных экспериментов. Проведение тестов, изучающих проявления неверности, вряд ли возможно, а их результаты в силу очевидных причин крайне сложно измерить. Это означает, что пока нам остается лишь гадать о том, что происходит в этой области человеческих отношений.
Следующий шаг
Итак, нечестность окружает нас со всех сторон. В 1873 году об этом написал поэт, скрывавшийся под псевдонимом Apoth E. Cary:
Как мы убедились, на мошенничество способен каждый. Мы виртуозно владеем искусством рассказывать истории о том, почему, даже обманывая, мы не считаем себя нечестными или аморальными. Более того, у нас нет иммунитета к вирусу мошенничества; один бесчестный поступок — и мы, скорее всего, уже не сойдем с этого пути.
Что же делать? Масштабный финансовый кризис предоставил нам великолепную возможность для изучения человеческих слабостей и той роли, которую играет иррациональность в нашей жизни и в обществе в целом. В ответ на это рукотворное бедствие мы сделали несколько шагов навстречу примирению со своими иррациональными тенденциями и начали переоценивать свое отношение к современному рынку. Храм рациональности зашатался. Теперь мы лучше понимаем природу иррациональности и потому должны принять все меры к тому, чтобы избежать подобных кризисов в будущем. Если мы этого не сделаем, значит, мы не усвоили полученный урок.
MEMENTO MORI
Сравнивая античные времена и современную банковскую систему, можно найти много общего. Но главное, что их связывает, — это, пожалуй, выражение memento mori. В период расцвета Древнего Рима его полководцы, одержавшие множество важных побед, любили демонстрировать свои трофеи. Восседавших на троне победителей, одетых в пурпурно-золотые церемониальные тоги, с лавровыми венками на головах и раскрашенными алой краской лицами, рабы проносили через весь город. Их поздравляли, им возносили хвалу, ими восхищались. Однако у церемонии был еще один неотъемлемый элемент: несколько раз в течение дня к генералу-победителю подходил раб и, не давая тому впасть в гордыню, шептал ему на ухо: «Memento mori», что означает «Помни о том, что ты смертен».
Если бы я отвечал за современную формулировку этой фразы, то, возможно, выбрал бы вариант «Помни о том, что ты можешь ошибаться» или даже «Помни о своей иррациональности». Как бы ни звучала эта фраза, признание своих недостатков может стать важным первым шагом на пути к принятию верных решений, созданию лучшего общества, совершенствованию государственных структур.
Таким образом, наша следующая задача состоит в том, чтобы найти более эффективные и практически применимые методы борьбы с нечестностью. Бизнес-школы включают в свою программу курсы этики, компании заставляют сотрудников посещать семинары по корпоративной культуре, правительства заявляют о политике рассекречивания информации. Любой сторонний наблюдатель быстро поймет, что подобные действия ни к чему не приведут. Результаты экспериментов, описанных в этой книге, дают основания предполагать: подобное «латание дыр» обречено на неудачу по очень простой причине — оно не учитывает психологию нечестности. Все новые методы или процедуры, разработанные, чтобы предотвратить мошенничество, направлены против определенного набора действий и мотиваций, требующих изменения. Обычно эти методы основаны на убеждении в том, что поведение людей соответствует модели ПМРП. Но, как мы уже видели, эта простая модель имеет мало общего с теми силами, которые действительно влияют на мошенничество.
Если мы по-настоящему заинтересованы в сдерживании мошенничества, какие меры следует предпринять? Надеюсь, к этому моменту вам уже стало ясно: для сдерживания нечестности прежде всего нужно понять, почему люди ведут себя непорядочно. Начав с этого, мы сможем найти более действенное лекарство. Например, зная, что люди в целом хотят быть честными, но подвержены искушению извлекать пользу из своих нечестных действий, можно порекомендовать им пользоваться в момент искушения маркерами-напоминаниями (которые, как мы видели, на удивление эффективны). Понимание механизма конфликтов интересов и того, как сильно они влияют на нашу жизнь, помогает осознать: нужно изо всех сил избегать подобных конфликтов или контролировать их действие. Также необходимо понять, какую роль в развитии нечестности играют факторы окружающей среды и степень умственного и физического истощения. И, разумеется, как только мы поймем, что нечестность «социально заразна», то сможем воспользоваться уроками «теории разбитых окон» для борьбы с этой напастью.
Кстати, у нас уже есть множество социальных механизмов, как будто специально созданных для того, чтобы настраивать наш моральный компас и противостоять эффекту «Какого черта?». Некоторые обряды и церемонии — католическая исповедь, праздник Йом-Киппур, Рамадан, Шаббат — дают нам возможность собраться с мыслями, остановить саморазрушение и перевернуть страницу. (Если вы не религиозны, подумайте о новогодних праздниках, днях рождения, смене работы или разрыве романтических связей как об альтернативных возможностях для «перезагрузки».) Не так давно мы начали новую серию экспериментов, призванных оценить эффективность различных методов «моральной перезагрузки» (в том числе нерелигиозной формы покаяния). Первые результаты показывают, что они могут оказаться весьма эффективными в противодействии эффекту «Какого черта?».
С социологической точки зрения религия способна помочь обществу противостоять потенциально разрушительным тенденциям, в частности склонности к нечестному поведению. Религия и религиозные обряды напоминают людям об их моральной ответственности: вспомните хотя бы еврея с цицит из главы 2 «Поправка на хитрость: некогда скучать». Мусульмане используют специальные четки (тасбих, или мисбаха), с помощью которых они по нескольку раз в день вспоминают 99 имен Аллаха. Ежедневная или исповедальная молитва («прости меня, Господи, ибо я согрешил»), практика искупления грехов в индуизме (праяшчитта) и бесчисленное множество других религиозных напоминаний оказывают примерно такое же воздействие, что и 10 заповедей в нашем эксперименте.
Учитывая эффективность этих подходов, стоит подумать о создании похожих, пусть и не связанных с религией, механизмов в бизнесе и политике. Возможно, мы должны обязать государственных служащих и бизнесменов приносить присягу, следовать кодексу чести или даже время от времени просить прощения. Не исключено, что подобные светские версии покаяния и мольбы о прощении помогут потенциальным обманщикам обратить внимание на собственные действия, начать жизнь с чистого листа и строго следовать нормам морали.
Одной из самых интригующих форм «перезагрузки» я считаю ритуалы очищения, традиционные для некоторых религиозных сект. Одна из таких сект — Opus Dei, тайное католическое общество, члены которого подвергают себя болезненной процедуре самобичевания плеткой-девятихвосткой. Не помню, почему мы начали обсуждать деятельность Opus Dei, но в какой-то момент Йоэль Инбар (преподаватель Тилбургского университета), Дэвид Пизарро, Том Гилович (оба из Корнеллского университета) и я задались вопросами: выражается ли в самобичевании и других схожих ритуалах стремление человека к самоочищению? Можно ли избавиться от ощущения «неправильности» содеянного, наказав себя? Поможет ли боль, которую мы сами себе причиняем, добиться прощения и начать все сначала?
Приняв во внимание болезненный метод, взятый на вооружение в Opus Dei, мы решили провести эксперимент, заменив плетку ее более современной и менее кровавой версией — электрошокером. Мы просили некоторых участников эксперимента, пришедших в нашу лабораторию в Корнеллском университете, написать о том, когда в последний раз они испытывали чувство вины. Другие должны были написать о тех случаях, когда им было грустно (это тоже негативная эмоция, но с чувством вины она не связана). Наконец, третью группу участников мы попросили вспомнить случай из жизни, который не вызвал у них ни положительных, ни отрицательных эмоций. Когда задание было выполнено, мы просили студентов принять участие еще в одном эксперименте, в ходе которого они должны были нанести себе удар электрическим током.
Подключив запястье участника к специальному устройству, мы объясняли, как регулировать мощность электрического разряда и какую кнопку нажимать, чтобы получить болезненный удар. Установив регулятор на минимальный уровень, мы просили участника нажать на кнопку, затем увеличивали мощность, снова проверяли воздействие — и так до тех пор, пока испытуемый не заявлял, что больше не может переносить боль.
Мы были не такими садистами, как может показаться: нам было интересно, насколько далеко продвинутся участники по шкале боли и в какой степени боль, которую они себе причиняют, зависит от условий эксперимента. Что еще важнее, мы хотели узнать, заставляет ли воспоминание о прошлой вине прибегнуть к самоочищению через боль. Оказалось, что в группах с условиями «нейтральное воспоминание» и «печальное воспоминание» уровень боли, которую причиняли себе участники, был почти одинаковым и довольно низким. Это означает, что негативные эмоции сами по себе не вызывают желания причинить боль. Однако люди из группы «воспоминание, связанное с чувством вины» были намного больше расположены к тому, чтобы наносить себе болезненные удары током.
Разумеется, этот эксперимент не означает, что мы одобряем методы, применяемые в Opus Dei. Однако его результаты показывают, что очищение через страдания, вызванные самобичеванием, является еще одним способом справиться с ощущением вины. Возможно, осознать собственную ошибку и принять физическое наказание за нее — хороший способ попросить прощения и начать жизнь с чистого листа. Я пока не готов рекомендовать этот подход для повсеместного использования, но, думаю, было бы интересно опробовать его на некоторых известных политиках и бизнесменах — просто для того, чтобы понять, работает ли он.
Еще об одном светском и значительно более элегантном примере «перезагрузки» мне рассказала женщина, которую я встретил на научной конференции несколько лет назад. Ее сестра жила в Южной Америке. Однажды сестра узнала, что ее домработница время от времени крадет из морозильника немного мяса. Это не сильно обеспокоило хозяйку (гораздо больше ее расстроил тот факт, что иногда в холодильнике оказывалось слишком мало мяса и не из чего было приготовить ужин), но принять какие-то меры было необходимо. Сначала она повесила на морозильник замок. Затем сказала домработнице, что, по ее мнению, кто-то из слуг время от времени крадет мясо, а потому она решила оставить только два ключа от морозильника — один для нее самой, второй для домработницы. Эта женщина даже увеличила своей служанке жалованье, компенсируя таким образом возросшую ответственность. С появлением новой роли, с новыми правилами и в условиях дополнительного контроля воровство прекратилось.
Думаю, этот подход сработал по нескольким причинам. Подозреваю, что привычка домработницы к воровству развивалась примерно так же, как и привычка к мошенничеству, которую мы обсуждали выше. Возможно, все началось с одного небольшого проступка («Я возьму совсем маленький кусочек мяса»), но после первой кражи совершить вторую оказалось намного легче. Заперев морозильник и наделив служанку дополнительной ответственностью, хозяйка дала ей возможность «перезагрузить» свою честность. Думаю, ключ стал важным фактором, повлиявшим на отношение домработницы к ситуации и позволившим сформировать новые социальные нормы честности в этом доме. Более того, поскольку теперь морозильник можно было открыть только с помощью ключа, любой акт кражи становился преднамеренным, требовавшим подготовки и усложнявшим последующее оправдание этого поступка. Нечто похожее происходило в одном из наших тестов, когда мы вынуждали участников преднамеренно двигать курсор в нижнюю часть компьютерного экрана, чтобы увидеть подсказки к ответам (глава 6 «Самообман»).
Итак, чем активнее мы будем разрабатывать и принимать на вооружение подобные методы, тем большего успеха добьемся в сдерживании нечестности. Это непросто, но вполне осуществимо.
Важно отметить: достичь критической точки и получить шанс на «новую жизнь» можно и на глобальном уровне. Пример: южноафриканская Комиссия по установлению истины и примирению. Цель ее деятельности состояла в том, чтобы обеспечить переход от политики апартеида, на протяжении десятилетий подавлявшей черное большинство населения страны, к новой жизни и демократии. Как и в других случаях, когда ненадлежащие действия прекращаются, возникает пауза, а затем начинает происходить что-то новое, цель работы комиссии была связана с примирением, а не отмщением. Я уверен: комиссия не смогла уничтожить все напоминания о годах апартеида — о таком болезненном явлении нельзя забыть окончательно, а оставленные им шрамы никогда не исчезнут. Однако деятельность комиссии является примером того, что признание неправомерного поведения и просьба о прощении могут стать шагами в правильном направлении.
Подводя итоги, имеет смысл обобщить, что мы узнали о нечестности в глобальном смысле и как можем воспользоваться полученными знаниями. От главы к главе мы узнавали о существовании рациональных сил, которые, как нам кажется, управляют нашим нечестным поведением (хотя на самом деле это не так). Существуют и силы иррациональные: они, по нашему мнению, никак не связаны с бесчестным поведением, но на самом деле играют в нем важнейшую роль. С неспособностью понять, какие силы задействованы в процессе, а какие — нет, мы сталкиваемся постоянно, принимая важные решения; о ней же свидетельствуют многочисленные исследования в области поведенческой экономики.
С этой точки зрения нечестность — убедительное свидетельство нашей склонности к иррациональности. Она носит всеобъемлющий характер; мы не можем инстинктивно понять, каким образом она на нас влияет; и, самое главное, мы не в состоянии увидеть ее в себе.
Хорошая новость состоит в том, что мы не одиноки перед лицом своих слабостей, в том числе и нечестности. Как только мы поймем, что именно является причиной нашего далеко не оптимального поведения, нам будет легче его контролировать и добиваться лучших результатов. В этом заключается истинная цель социологии, и я уверен, что в будущем нас ждут еще более важные и интересные открытия.
Глава 11. Размышления о религии и (не)честности
Вот уже несколько лет, обедая или ужиная в ресторанах, я спрашиваю официантов, есть ли у меня, по их мнению, возможность поесть и уйти, не заплатив. Порой в ответ они с подозрением просят меня предъявить кредитную карту, однако намного чаще делятся со мной своими соображениями. Например, я узнал, что мог бы пойти в туалет, а затем выйти через боковую дверь, не дожидаясь, когда мне принесут счет. Или я мог бы достать кошелек, сделать вид, что заплатил наличными, и уйти как ни в чем не бывало.
Вооружившись советами о том, как поужинать, не заплатив ни копейки, я стал задавать другой вопрос: как часто возникают такие ситуации? Все без исключения ответили, что такого почти никогда не случалось, несмотря на реальные шансы получить бесплатную еду и избежать наказания. Это доказывает, что, даже имея весьма выгодную для нас возможность вкусно поесть, не оплатив счет, мы действуем в рамках моральных ограничений, вынуждающих нас игнорировать подобные соблазны.
Сравним эту ситуацию со случаями незаконного скачивания музыки. Иногда я спрашиваю своих студентов, есть ли в памяти их компьютеров пиратские музыкальные файлы, и почти все дают утвердительный ответ, и не важно, узнают ли об этом их друзья или родители. В чем же разница между незаконным скачиванием файлов и неоплатой ресторанных счетов?
Очевидно, что возможность быть пойманным — не главное: и в одном, и в другом случае такая вероятность очень мала. О строгости наказания речь тоже не идет: если кто-то поймает вас на том, что вы не заплатили по счету в ресторане, всегда можно сослаться на забывчивость. А вот в музыкальной индустрии вряд ли кому-то покажется убедительным оправдание в стиле «извините, я просто забыл». По большому счету мы воздерживаемся от неправильного поведения не потому, что боимся быть пойманными, и не из-за строгости наказания. Скорее, это связано с чувством вины: мы вступаем в прямой контакт с работниками ресторана, и это активирует наши внутренние механизмы самоконтроля и нашу совесть.
Хорошая новость состоит в том, что моральный компас есть у каждого. А вот и плохая: мы не можем рассчитывать на то, что совесть будет защищать нас постоянно и без дополнительных усилий с нашей стороны. Как же поддерживать моральный компас в рабочем состоянии? Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к мудрости предков.
Чему нас учит религия
Возможно, вы заметили, что в этой книге я часто привожу примеры из области религии. Я упоминал религиозные традиции, когда описывал эксперимент, связанный с изучением влияния 10 заповедей на уровень нечестности; рассказал о человеке, носившем цицит, что вынудило его отказаться от запретного плотского удовольствия (глава 2 «Поправка на хитрость: некогда скучать»). Мы говорили о том, как религиозные обряды и церемонии способствуют «перезагрузке» морального компаса и противодействию эффекту «Какого черта?» (глава 10 «Полуоптимистичный финал: люди врут реже, чем могли бы!») и о связи между принятой в секте Opus Dei практикой самобичевания и острым чувством вины, возникшим у наших испытуемых (там же). Зачем я это делал?
Ответ таков: религии есть что рассказать о борьбе за честность и нравственность. Не исключено, что мое стремление почерпнуть новые идеи в религии — следствие возраста и духовной зрелости (по мере взросления некоторые люди становятся более религиозными). Однако независимо от причины и веры — или неверия — в Бога, содержание этой книги можно рассматривать в более широком смысле, как отражение человеческой мысли и мудрости. И это даст нам возможность пролить свет на понятия честности и нечестности; понять, какое место они занимают в обществе.
Пояснение к вышесказанному…
Какие же уроки, имеющие отношение к теме нечестности, мы можем извлечь из религии? Прежде чем углубиться в изучение этого вопроса, должен пояснить: обращаясь за примерами к религиозным книгам, я отдаю себе отчет в том, что существует множество различных толкований священных текстов. Я не эксперт в области религии; мои познания в целом довольно ограниченны: я что-то знаю об иудаизме и в меньшей степени о христианстве. Меня не однажды упрекали в этом после выхода книги «Предсказуемая иррациональность: Скрытые силы, определяющие наши решения»: в ней я перечислил 10 заповедей в форме, принятой Римско-католической церковью, и забыл упомянуть о других версиях (не говоря уже о моральных нормах, принятых в других религиях). Если мои формулировки будут отличаться от тех, к которым вы привыкли, надеюсь, вы закроете на это глаза и все равно сможете извлечь пользу из этих примеров. Всех неиудеев и нехристиан заранее прошу о прощении и терпимости.
Социология и религия
С точки зрения социологии религию можно представить не только как набор специфических представлений о Боге, но и как свод инструкций и правил поведения. В этом смысле религиозные принципы играют важную «путеводную» роль: они направляют людей, побуждают их к действиям, которые помогают нам сосуществовать и руководствоваться долгосрочными целями, а не краткосрочными эгоистичными интересами[38].
В древних религиозных текстах много говорится о проблемах, над которыми бьются современные социологи. Приведу пример того, как религия относится к одному из главных различий между социальной психологией и неоклассической экономикой. Речь идет об ответе на вопрос «следуют ли наши предпочтения за действиями или, наоборот, действия следуют за предпочтениями?». Экономисты утверждают, что нашим поведением управляют предпочтения. Мы осознаем, что нам нравится, а затем, на основе этих стабильных предпочтений, принимаем решения и совершаем покупки. Психологи (и специалисты в области поведенческой экономики) считают, что направление причинно-следственной связи порой может измениться на противоположное, то есть наши действия могут управлять нашими предпочтениями (или как минимум влиять на них). К примеру, когда мы что-то строим, сам акт строительства заставляет нас больше любить свое творение.
Что говорят на этот счет религии? Иудейский религиозный трактат «Санхедрин» с благодарностью воспринимает идею обратной связи, которую обеспечивает самосигнализация: «Человеку всегда следует обращаться к Торе и ее заповедям, даже без искренней веры, поскольку лицемерное поведение все равно приведет к праведности». Средневековый раввин Аарон Галеви из Барселоны развил эту идею[39]:
Знай же, что человек формирует себя сам — своими поступками. Чувства и мысли людские — плоды их поступков, добрых или злых. Даже дух законченного злодея, чьи помыслы денно и нощно обращены к греху, пробудится, если он приложит старания и станет прилежно заниматься изучением Торы и исполнением заповедей — пусть даже из небескорыстных побуждений! Такой человек сразу начнет меняться к лучшему (и обещано [нашей святой Торой], что со временем корыстное служение приведет к бескорыстному). Добрыми делами бывший злодей умертвит в себе злое начало, ибо дела определяют стремления сердца.
[Но верно и противоположное]: если бы совершенный праведник, чистосердечный и искренний, чьи помыслы обращены лишь к Торе и заповедям, стал изо дня в день поступать недостойно — к примеру, если бы царь обязал его принять должность, вынуждающую поступать дурно, и тем заставил непрерывно творить зло — рано или поздно наступил бы день, когда в сердце его не осталось бы ничего от былой праведности, только злодейство. Ведь, как мы уже упоминали, общеизвестно и доказано: человека формируют его поступки.
Обращаю ваше внимание: я очень рад, что в этом тексте главная роль в формировании предпочтений (то есть в процессе, который является проявлением концепции «самосигнализации») отводится поведению.
Мне как ученому-экспериментатору было приятно узнать, что мой излюбленный метод изучения происходящего вокруг — а именно проведение экспериментов — упоминается в Библии. К примеру, в главе 6 Книги судей Гедеон просит Господа: «Если я обрел благодать пред очами Твоими, то сделай мне знамение, что Ты говоришь со мною»[40]. Цель эксперимента Гедеона — выяснить, действительно ли с ним разговаривал Господь и действительно ли тот хотел, чтобы Гедеон возглавил восстание, или это был просто голос в его голове. В первую ночь Гедеон разложил на земле овечью шерсть и попросил Господа сделать так, чтобы утренняя роса оказалась только на шерсти, а земля вокруг оставалась сухой. На следующую ночь Гедеон захотел убедиться в том, что случившееся не было случайностью или следствием определенных погодных условий. Он придумал контрольное условие и попросил Господа сделать обратное: сохранить шерсть сухой, но намочить окружавшую ее землю. Увидев, что оба условия выполнены, Гедеон убедился в том, что Господь действительно на его стороне, и поднял восстание.
Конфликт интересов: уроки из Библии
Первая глава Книги пророка Даниила буквально напичкана примерами, имеющими непосредственное отношение к социологии. Совсем не это мы ожидаем увидеть во вступительной части книги, наполненной символами, фантазиями и пророчествами.
Книга пророка Даниила начинается с событий VI века до нашей эры, когда вавилонский царь Навуходоносор создавал свою огромную азиатскую империю. Желая снизить риск мятежей среди завоеванных им народов, он искал пути решения потенциальной проблемы. Подобно новому директору, занявшему свой пост после слияния компаний, Навуходоносор изгонял из страны огромные группы людей. В то же время он задумывался о способах ассимиляции тех, кто жил на границах империи. Для израильтян он придумал стратегию, основанную на мотивации.
Оккупировав часть Святой земли, Навуходоносор решил создать конфликт интересов среди еврейской элиты. Он позвал во дворец самых умных и красивых израильских юношей (в том числе и Даниила) и попытался завоевать их лояльность с помощью материальных стимулов. Он угощал их блюдами с царского стола и распорядился, чтобы опеку над молодыми людьми осуществлял один из его главных помощников. В течение трех лет молодые евреи изучали вавилонский язык и литературу. Впоследствии лучшие представители израильской молодой элиты должны были стать государственными чиновниками, работающими на империю как полноценные представители власти, а не рабы.
Подношения разного рода — проверенный временем способ добиться лояльности. Им пользуются торговые представители фармацевтических компаний, продавцы косметики, лоббисты, мужчины, потерявшие голову от женской красоты. Подарки влияют на наши чувства двояко: они меняют наши ощущения и заставляют нас нажимать внутреннюю кнопку «Ответить взаимностью!». Как вы помните из главы 3 «Ослепленные собственной мотивацией», участникам эксперимента больше нравились картины из той галереи, которая неявным образом их подкупала. Когда у нас есть предписание быть объективными и мотив для того, чтобы таковыми не быть, обычно побеждает пристрастность — даже если мы думаем, что этого не произойдет. Подарки и знаки внимания очень влияют на наши предпочтения и лояльность.
Если бы молодые иудеи в вавилонском дворце были такими же, как мы все, дары Навуходоносора — яства и вина, не говоря уже о престиже, — могли бы смягчить их отношение к вторжению войск царя в Святую землю. Они могли и не заметить, что их чувства и уровень лояльности изменились. А свое отношение к Навуходоносору, которое раньше было другим, объяснили бы собственной рассудительностью и кажущейся любезностью халдеев.
Впрочем, необъективность юношей, возникшая под влиянием заботы и хорошего к ним отношения, была не единственным козырем Навуходоносора. Царь, по всей видимости, надеялся повлиять и на их семьи. Возможно, он хотел поразить воображение израильтян теми роскошными подарками и знаками внимания, которыми он осыпал их сыновей. Если бы родители увидели, как царь заботится об их детях, возможно, они и сами поддались бы искушению. Представьте, как сложно ненавидеть человека, который невероятно мил и добр к вашим детям, особенно если они отвечают ему взаимностью.
Примечательно, что не все поверили в щедрость Навуходоносора. Даниил и три его друга (Анания, Мисаил и Азария) оказались лучшими учениками, однако в Библии нет никаких свидетельств того, что они пользовались особым благоволением царя (подобно современным менеджерам, играющим в гольф или загорающим на яхте в компании своего босса). Считая, что должны оставаться преданными израильтянам, они решили не есть мясо и не пить вино, которое посылал им царь. Отказавшись от еды и вина, четверо молодых людей отказались и от искушения, связанного с конфликтом интересов. Не позволив себе изменить отношение к Вавилону (а позднее и Персии), они сохранили верность еврейскому народу и своей религии. Даже после трех лет обучения эти четверо продолжали отвергать дары Навуходоносора.
Когда стало ясно, что Даниил — идеальный кандидат для продвижения в высшие эшелоны власти, его враги приняли закон, согласно которому в течение 30 дней нельзя было поклоняться или молиться никому, кроме царя. Разумеется, Даниил не послушался. Врагам не составило труда поймать его за молитвой своему богу, и юношу наказали, бросив в яму с голодными львами. Однако, как повествует притча, он чудесным образом спасся, выйдя из ямы целым и невредимым. Эта история может послужить уроком для всех, кто время от времени испытывает искушение, столкнувшись с конфликтом интересов.
История Даниила и его друзей показывает, как противостоять конфликту интересов: изо всех сил пытайтесь отказаться от подарков, способных повлиять на ваши суждения. Если вы не можете отказаться от обеда, за который платит кто-то другой, помните, что это может быть попыткой изменить ваше мышление и поведение. А если вы оказались в ситуации, где конфликт интересов неминуем, заранее расставьте приоритеты и убедитесь, что вы о них помните и им следуете.
Во многих религиях есть четко сформулированные правила, объясняющие, как справляться с подобными проблемами. На пути к обладанию собственностью мы вступаем в социальные и коммерческие отношения. По мере того, как меняется наш статус и финансовое благосостояние, возникают новые социальные обязательства, а с ними — новые искушения и конфликты интересов. Религиозные лидеры, будь то католики, буддисты или представители других конфессий, обладают большой властью, и для того, чтобы полностью избавиться от конфликтов интересов, они порой вынуждены полностью отказываться от любого имущества, вступая в должность.
За сотни лет до рождения Даниила Моисей предупреждал, что конфликт интересов способен изменить видение человека: «Даров не принимай, ибо дары слепыми делают зрячих и превращают дело правых». Всем, кто пережил финансовый крах 2008 года, стало очевидно, почему проблема конфликта интересов должна рассматриваться на государственном уровне. Крупные суммы денег искажают объективность людей; мы должны заранее распознавать опасность сомнительных финансовых инструментов. Но даже после кризиса, после того, как мы ясно поняли, какие разрушительные силы действуют на финансовых рынках, лоббисты все так же препятствуют созданию новых, более эффективных методов регулирования.
Невинная ложь в мире компромиссов
Лично для меня самый важный (и, пожалуй, менее всего усвоенный) религиозный урок, имеющий отношение к этой книге, состоит в признании того, что обман необходим нашему обществу — до определенного предела. Вы наверняка слышали такие слова: жизнь не бывает просто черной или белой. Принимая решение, мы изучаем множество доводов «за» и «против», и все они беспорядочное перемешаны, образуя единую массу всех оттенков серого цвета. Наша мотивация, даже самая благородная, часто противоречит мотивации других людей.
Отличный пример — история Авраама и Сарры (Бытие 18:1–14). У этой милой библейской пары не было детей, хотя Господь несколько раз говорил Аврааму, что у них с Саррой потомков будет больше, чем они смогут сосчитать. Бог подтвердил свое обещание даже после того, как супруги вышли из детородного возраста.
Подслушав разговор Бога с Авраамом, Сарра только усмехнулась: весьма сомнительно, что у них могут быть дети — ее муж слишком стар, да и она не девочка.
Господь услышал смех Сарры и передал ее слова Аврааму, слегка исказив их смысл: «Отчего это рассмеялась Сарра, сказав: „неужели я действительно могу родить, когда я состарилась“? Я благословлю ее и дам тебе от нее сына… которого родит тебе Сарра в сие самое время на другой год».
Некоторые богословы трактуют этот эпизод следующим образом: по их мнению, вместо того, чтобы подчеркнуть неверие Сарры в способности Господа, Бог защитил Авраама от ее истинных мыслей о том, что муж слишком стар для продолжения рода. Дав Аврааму свою трактовку причин смеха Сарры, Господь сознательно не упомянул о ее насмешках над возрастом и мужской силой супруга. Напротив, складывалось впечатление, что Сарра не верит во всемогущество самого Господа. Короче говоря, Бог соврал. Зачем?
По мнению знаменитого средневекового раввина Раши, эта история — о том, что честности иногда бывает слишком много. Полная откровенность порой способна нарушить мир в семье. Подобно Богу в истории об Аврааме и Сарре, мы должны время от времени ставить во главу угла семейную гармонию, а не абсолютную честность (замечательный пример логического обоснования).
Я обсуждал эту трактовку писания с главным раввином Великобритании Джонатаном Саксом, и тот согласился с мнением Раши. По словам Сакса, эта история демонстрирует необходимость выбора приоритетов в условиях конфликта ценностей. «Общечеловеческих ценностей много, — сказал он. — Честность — одна из них. А еще одна — мир в семье. Однако, как это ни печально, не все человеческие ценности сопоставимы в каждый момент времени и в любых обстоятельствах. Что происходит, когда они вступают в противоречие? В иудаизме принято считать, что мир в семье порой важнее абсолютной честности» (здесь я должен отметить, что раввин Сакс сказал и другое: мы не должны относиться к нечестности как к пустяку, даже если речь идет о лжи во спасение или ради сохранения семейной идиллии).
Живший в XVIII веке философ Иммануил Кант имел совершенно другое представление о нечестности. Кант выдвинул знаменитую идею о неуместности любых компромиссов, когда речь заходит о честности. Кант верил, что честность — признак рациональности, а рациональность — основа человеческого достоинства. Один критик попытался опровергнуть суждения Канта, предложив ему следующий сценарий: представьте, что кто-то хочет убить вашего друга и вы прячете приятеля в своем доме. Предполагаемый убийца спрашивает, не в вашем ли доме прячется его жертва. По мнению Канта, даже в этой ситуации следовало сказать правду[41].
Впрочем, реальность такова, что почти все мы — за исключением Иммануила Канта и немногих людей, похожих на него? — готовы признать: в обществе нечестность в малых дозах является важным амортизирующим фактором. Считаные единицы уверены, что на вопрос «Дорогой, как я выгляжу в этом платье?» нужно отвечать правдиво. Если мы не лжем себе, когда речь заходит о собственной нечестности, то должны признать: взаимодействуя с окружающими, мы часто прибегаем к невинной «лжи во спасение» и не хотим общаться с теми, кто постоянно вываливает на нас всю правду. В сущности, мы хотим, чтобы окружающие время от времени слегка привирали, но в наших интересах. Без подобных социальных тонкостей наши отношения очень быстро изнашиваются. Невинная ложь помогает сохранить социальные связи и является одной из основных причин, по которым наши отношения с правдой так сложны.
Альтернативный взгляд на 10 заповедей: не дай властям предержащим соврать
Изучая восьмую заповедь[42] (Исход 20:16), которая запрещает людям лжесвидетельствовать, я пришел к интересному заключению. Мне всегда казалось, что в заповеди говорится о лжи как таковой. Однако я ошибался. Речь идет о лжи умышленной.
Посмотрим правде в глаза: если бы нам пришлось составлять список поступков, которые люди не должны совершать ни при каких условиях, мало кто упомянул бы дачу ложных показаний. Тем не менее 10 заповедей запрещают подобные действия. Кроме того, во Второзаконии 19:15–21 описана ситуация, в которой судьи начинают сомневаться в свидетеле. Текст гласит: судьи должны тщательно изучить показания свидетеля. Если свидетельство было ложным — далее следует четкая инструкция — «сделайте ему то, что он умышлял сделать брату своему… и так истреби зло из среды себя; и прочие услышат, и убоятся, и не станут впредь делать такое зло среди тебя».
Когда я впервые прочитал эту заповедь, мне показалось, что она не вполне точно описывает истинную суть лжи и нечестности. Еще я счел ее необоснованно подробной. Подозреваю, многие легко согласятся с утверждением, что лжесвидетельство не равнозначно убийству или воровству. Вам очень неприятна мысль о том, что вы могли бы солгать в суде? Почему лжесвидетельству уделяется столь пристальное внимание? Почему и в 10 заповедях, и в современной правовой системе, строго карающей этот грех, дача ложных показаний перевешивает другие возможные проявления нечестности?
Одно простое объяснение состоит в том, что ложные показания могут оказаться губительными для невиновных: их могут сурово наказать или даже приговорить к смерти («Да, ваша честь, именно моя бывшая жена зарезала этого невинного человека»). Но, будь это основной причиной, того же эффекта можно добиться и с помощью заповеди, запрещающей ложь в целом.
Если мы задумаемся об уникальной природе лжесвидетельства, то поймем: подобные действия невероятно опасны на самых разных уровнях. Прежде всего лжесвидетельство в суде — это публичный акт. А как показал эксперимент с «паршивой овцой» в главе 8 «Мошенничество как инфекция, или Вирус нечестности», даже если очевидный и вопиющий обман совершает один-единственный человек, другие представители той же социальной группы начинают считать его поведение социально приемлемым. Вот почему нечестность, демонстрируемая публично, в форме дачи ложных показаний в суде, может быстро поднять общий уровень обмана на новую высоту. Именно поэтому предотвратить ее — более важная задача, чем борьба с проявлениями нашей персональной нечестности.
Второе объяснение (и оно кажется мне более обоснованным) состоит в том, что ложь в суде мешает добросовестному управлению государством. Разумеется, ненадлежащая работа властных структур шокирует меньше, чем убийство, совершенное с особой жестокостью. Но она подрывает доверие, которое мы испытываем — и должны испытывать, если хотим, чтобы они функционировали должным образом — к общественным институтам. Если руководитель крупного банка, обманувший своих клиентов и акционеров, уходит от возмездия, почему бы мне не заявить, что мой телевизор сгорел сам по себе, а не из-за неправильной эксплуатации? И почему я вообще должен платить налоги? И так далее. Именно поэтому последствия таких преступлений против социальных институтов могут иметь сокрушительный эффект, ослабляющий главенство закона и порядка в обществе.
Учитывая все эти причины (угроза для невиновных, публичная нечестность и необходимость правильной работы государственных структур), я склонен верить, что заповедь, запрещающая лжесвидетельство, очень важна. Она не содержит запрет на ложь в целом, но соблюдение этой заповеди необходимо для здоровья общества.
Правила важны
Беседуя с раввином Саксом, я как-то спросил: «Какую из 10 заповедей выбрать, если мне вздумается следовать лишь одной из них?» В сущности, мой вопрос был в другом: какая заповедь важнее всех остальных? Как вы думаете, что он ответил? Не сотвори себе кумира? Не убий?
Ответ раввина оказался для меня неожиданностью: главной заповедью он считал соблюдение Шаббата. «Если вы проведете этот день в отдыхе и размышлениях, — сказал он, — следовать остальным заповедям станет гораздо проще». По всей видимости, он пришел к той же мысли, что и социологи: наши моральные мышцы и эго могут уставать до полного истощения, поэтому отдых и «перезагрузка» моральной энергии очень важны (глава 4 «Почему мы ошибаемся, когда устаем»).
Библия начинается с описания того, как Господь сотворил мир. Это заняло несколько дней. Сначала он создал свет, потом землю, морских существ, растения и т. д., а закончил сотворением наземных животных и людей. Покончив со всеми этими делами, Господь оставил седьмой день для совершенно иного — для отдыха. Это и был первый Шаббат.
Шаббат — время для людей и для земли. В сущности, Бог указал на то, что каждый седьмой день должен быть днем отдыха, когда люди не должны заниматься приготовлением пищи, торговлей, сельским хозяйством или переноской грузов. Каждый седьмой год поля должны оставаться невспаханными и незасеянными, чтобы земля отдыхала. Соблюдение Шаббата стало одной из 10 заповедей, которые Господь начертал на каменных скрижалях, переданных Моисею: «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай, и делай всякие дела твои; а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему».
Влияние Шаббата на людей, соблюдающих его, разнообразно. Прежде всего он дает возможность остановиться и поразмышлять. Мы можем вспомнить, чем занимались всю неделю, определиться с планами на ближайшие дни, подумать, в чем состоят наши истинные ценности. Можем сосредоточиться на своем далеко не идеальном поведении, которое — не будь субботы — осталось бы без внимания, и избежать потенциальной угрозы для собственной морали.
Еще одним проявлением стимулирующей природы Шаббата, благодаря которой люди стремятся соблюдать и другие заповеди, является восстановление нашей моральной энергии. Не секрет, что к концу дня или недели люди частенько расслабляются (например, напиваются) и выпускают на свободу скрытые желания, которые тщательно подавляли, пока сидели в тесных офисах. Такое поведение мы наблюдали в ходе эксперимента «с истощением», проведенного вместе с Николь Мид, Роем Баумайстером, Франческой Джино и Морисом Швейцером (глава 4 «Почему мы ошибаемся, когда устаем»). Напомню: участники теста начинали мошенничать чаще, когда получали более сложное задание. Это дало нам основания предположить, что в повседневной жизни истощение может буквально уничтожить нашу личность. Таким образом, «истощение эго», как мы называем этот изматывающий эффект, влияет не только на решения, которые мы принимаем — будут ли они хорошими или плохими. От него зависит, будем ли мы поступать по совести.
Шаббат может благотворно влиять на мораль и с точки зрения самоконтроля и соблюдения правил. Принимая то или иное решение, мы устаем морально. Необходимость делать выбор изрядно усложняет нашу жизнь. Чем больше решений мы принимаем, тем слабее самоконтроль. Что может освободить людей от этого бремени? Правила. Шаббат — не только возможность отдохнуть. Присущие ему правила и ограничения делают этот день непохожим на все остальные. Соблюдение правил снимает накопившееся напряжение, поскольку за рулем на время оказывается кто-то другой (в данном случае Бог), а у вас появляется возможность поспать на пассажирском сиденье.
Если вы не соблюдаете Шаббат, как это делают ортодоксальные евреи, вы даже не догадываетесь о всех существующих ограничениях. В Шаббат ортодоксы не водят машины и не ездят в них, не готовят еду, не занимаются коммерческой деятельностью, не должны включать или выключать свет. Самые религиозные даже используют салфетки вместо туалетной бумаги, потому что не имеют права что-нибудь разорвать или разрезать.
Разумеется, соблюдение этих правил требует подготовки. Но и существенно упрощает процесс принятия решений: что надеть и что съесть, работать или нет, чем заняться: посмотреть телевизор, ответить на электронные письма или провести время с детьми… Раввин Элияу Десслер, живший в первой половине XX века, как-то сказал: правила (он называл их «точками принятия решения») — это мечи и щиты, которые мы используем, сражаясь за мораль. По его словам, люди, соблюдающие Шаббат, не тратят моральную энергию, решая, чем заняться в этот день и нужно ли соблюдать правила. Эти решения уже были приняты Господом, и нам нужно лишь следовать им без вопросов и сомнений, то есть без душевных страданий и переутомления.
Но способны ли мы на самом деле снизить степень истощения своего эго? Действительно ли соблюдение правил помогает справиться с искушением? На этот вопрос попытались ответить Рувен Дар, Флоренсия Стронгуин, Рони Маруани, Мейр Крупски и Ханан Френк, проведя очень интересное исследование. Ученые обратились к ортодоксальным евреям, которые были заядлыми курильщиками, и попросили тех день за днем фиксировать свое настроение и интенсивность желания закурить. Испытуемые должны были записывать свои ощущения ежедневно: 1) в обычные дни, когда они курили не больше и не меньше, чем обычно; 2) в дни, когда исследователи просили их воздержаться от курения (это не было прямым запретом, но курильщики обычно соглашались); 3) в Шаббат, когда курение запрещено религиозными правилами. Ученые пытались найти ответ на вопрос: способны ли жесткие правила уменьшить искушение и снизить потребность курильщиков в самоконтроле?
Представьте, что вы — один из участников этого эксперимента. В какие дни вы будете испытывать максимальную и минимальную тягу к курению? Предположим, что единственный фактор, от которого зависит ваше желание закурить, — время, прошедшее после того, как вы затушили предыдущую сигарету. В этом случае ваше настроение и потребность в курении будут одинаковыми в дни «воздержания» (в обычный день, когда вас попросили не курить, и в Шаббат). Можно также предположить, что ваше «никотиновое вожделение» будет минимальным в те дни, когда вы курите как обычно. Но что, если вы — ортодоксальный еврей? Помогут ли строгие правила Шаббата испытать меньшее искушение и меньшую потребность в самоконтроле в день, когда вы не курите по религиозным причинам?
Какими оказались результаты эксперимента? По словам участников, их ощущения в Шаббат и в другие дни сильно различались. В Шаббат им хотелось курить намного меньше, чем в обычный день без сигарет. Даже в те дни, когда они могли курить без ограничений, их потребность в сигаретах уменьшилась. Любопытно, что именно Шаббат, а не сам процесс курения повлиял на это в большей степени!
Разумеется, не следует полностью доверять данным, которые участники сообщают о себе, особенно когда дело касается нарушения социальных или моральных правил. Однако тот факт, что курильщики — по их словам — испытывали меньшую тягу к курению в Шаббат, не может не вызывать интерес.
На основании вышесказанного можно предположить, что правила, лежащие в основе многих мировых религий, помогают нам справиться с искушением. Или, как сказано в молитве «Отче наш», они помогают «не ввести нас во искушение, но избавить нас от лукавого». И это справедливо в отношении не только спонтанных, но и отсроченных решений. Когда мы вынуждены делать выбор в условиях отсутствия правил, которые могли бы задать нужное направление, ничто не происходит автоматически: в каждое из наших решений надо вложить определенную энергию. Запас моральной энергии истощается, и мы становимся более подвержены искушению. Но когда есть правила, особенно жесткие, количество решений, которые нам нужно принять, уменьшается, и у нас остается намного больше моральной энергии. Разумеется, этот принцип применим ко всем правилам, религиозным и нерелигиозным, до тех пор, пока они ясны и помогают снизить бремя выбора.
Не знаю, как вы, но лично я, хотя и не особенно стремлюсь впустить в свою жизнь еще больше строгих правил, интуитивно верю: они способны помочь нам регулировать наше поведение (вспомним «золотое правило нравственности»: относись к другим так, как хочешь, чтобы другие относились к тебе). Когда мы думаем о том, каким правилам нужно следовать, стоит спросить себя: а что определяет полезность того или иного правила? Прежде всего они должны подсказать нам план действий. К примеру, для участника общества «Анонимные алкоголики» (AA) план действий предполагает выбор периода времени, в течение которого человек не будет употреблять алкоголь: час, день, неделя, месяц и т. д. Идея в том, чтобы двигаться к цели поэтапно, шаг за шагом.
Правила должны быть точными, чтобы мы всегда могли понять, соблюдаются они или нет. Представьте, что участникам AA разрешено выпивать полстакана алкогольных напитков в день. Какого размера будет этот стакан? А что произойдет, если они начнут пить «авансом», выпивая больше сегодня и обещая уменьшить дозу на следующей неделе? Столкнувшись с такими размытыми правилами, участники быстро окажутся в неблагоприятной ситуации. И наоборот: однозначная формулировка — никакого алкоголя, никогда — позволяет легко понять, соблюдается правило или нет.
Наконец, еще одно условие для выбора правил поведения: они должны вести к чему-то более глубокому и важному. Если ограничение задано произвольно (например, занимайтесь физкультурой по полчаса три раза в неделю; съедайте по два яблока в день; суточная потребность в калориях — не более 2000), само правило и его нарушение не будут иметь особого смысла. Но если правила ведут к общению с другими людьми («мы делаем это вместе»), к серьезной цели («именно так поступают хорошие люди») или к вере (в божьи заповеди), нарушать их становится сложнее, и происходит это намного реже. В случае с «Анонимными алкоголиками» участники должны уступить некой «высшей силе».
Допустим, у вас есть вполне конкретное правило: по субботам или воскресеньям вы не пользуетесь электронными устройствами или не курите. При этом вы уверены, что, соблюдая это правило, следуете более высокой цели. Полный запрет облегчит вашу задачу, придерживаться намеченного плана станет проще. Кроме того, как только вы пройдете точку, в которой нужно было делать выбор — курить или не курить, — ваши действия (или бездействие) станут привычкой, и решения будут приниматься без усилий. Вам будет легче справляться и с другими искушениями: перееданием, отправкой текстовых сообщений в тот момент, когда вы находитесь за рулем автомобиля, и т. д. Если следовать этой логике, Шаббат в любых его проявлениях поможет вам стать лучшей версией себя. Не уверен, что так будет всегда, но попробовать стоит.
Помоги ближнему своему… не лгать
Что общего между кулинарным искусством, фальшивыми волосами на руках и плохими родителями?
Ответ на этот вопрос не связан с телевизионными реалити-шоу. Все вышеперечисленное использовали Иаков и его мать Ревекка, чтобы перехитрить родственников и сделать Иакова наследником.
Семья Иакова оказалась вовлеченной в своеобразную «гонку вооружений», основанную на предательстве и мести. Исаак, Ревекка и их сыновья не просто лгали друг другу; они придумывали сложные схемы с маскировкой и подражанием и умело пользовались состоянием близких, когда те находились под воздействием сильных эмоций.
В большинстве случаев одной из движущих сил мошенничества является эгоизм — но не в истории Иакова и Ревекки. Здесь причиной нечестного поведения стало желание действовать во благо любимых.
У Исаака, сына Авраама и Сарры, и его жены Ревекки было два сына-близнеца. Исав родился первым и обладал необычной внешностью. Библия описывает его как человека с телом, полностью покрытым рыжими волосами. Его близнец Иаков родился сразу же после Исава, держа брата за пятку. Хотя между рождением обоих прошло лишь несколько минут, старший сын, согласно традиции, наследовал от родителей практически все их имущество и получал особое благословение отца. Родители относились к сыновьям по-разному: Исаак больше любил Исава (Библия намекает, что отцу нравились его кулинарные таланты), а Ревекка — неудачника Иакова.
С годами Исав, необычный волосатый ребенок, стал обычным взрослым человеком с густым волосяным покровом. Он взял в жены двух хеттеянок, которых его родители ненавидели. Исаак старел и, если бы не произошло ничего экстраординарного, должен был передать свое имущество и благословение Исаву и его наследникам. Иаков и Ревекка решили воспользоваться долгими отлучками Исава (который часто уходил на охоту), чтобы обмануть Исаака и передать наследство младшему сыну.
Однажды, вернувшись домой после охоты, Исав застал Иакова за приготовлением похлебки из красной чечевицы. Исав был очень голоден: ему казалось, что он умрет, если немедленно не поест. И тут Иаков выступил с необычным предложением: он даст Исаву миску похлебки, а тот откажется от своего наследства в пользу брата. Был ли Исав глуп как пробка или сыграло роль «истощение эго», но он согласился. «Я умираю от голода, — сказал он. — Что мне в этом первородстве?» Голод и усталость лишили его остатков самоконтроля.
История на этом не заканчивается. Думая, что умирает, Исаак — к тому времени окончательно ослепший — решил дать Исаву свое особое пророческое благословение. Он призвал сына, чтобы пообщаться наедине, но Ревекка узнала о его намерениях. Исаак попросил Исава приготовить особое кушанье и принести его, когда сын придет за благословением. Исав согласился и отправился на поиски дичи. В его отсутствие за дело взялась Ревекка. Она приготовила то же самое кушанье, которое, как она знала, хотел отведать Исаак. Затем взяла лохматые козьи шкуры и обмотала ими руки и шею Иакова, рассчитывая, что слепой Исаак примет его за Исава. После чего она отправила сына к Исааку. Так Иаков получил благословение отца.
Когда Исав обнаружил, что Иаков обманом лишил его права первородства и отцовского благословения, то разозлился настолько, что захотел убить брата. Но у Ревекки уже был план, который позволил бы Иакову почувствовать себя в безопасности и отстоять свою победу. Еще до того, как Исав вернулся домой, она сказала Исааку, что жены старшего сына выводят ее из себя: «Если и Иаков возьмет себе в жены местную женщину, такую вот хеттеянку, как эти, то зачем мне и жить?» Поэтому Исаак отправил Иакова на поиски новой жены в далекие земли. Это путешествие оказалось достаточно долгим для того, чтобы Исав умерил свой гнев и немного смягчился — в полном соответствии с планом Ревекки.
Однако отвлечемся от мыслей об очевидном кризисе отношений в этой семье и зададимся вопросом о родительской безучастности. Разве не должны родители стремиться к тому, чтобы их дети поступали правильно, вне зависимости от того, кто из них родился первым? В этой истории Ревекка, пытаясь помочь любимому сыну, переворачивает идею первородства с ног на голову. Почему она так делает, чего добивается?
Мы часто думаем о родителях как о надсмотрщиках, забывая об их эмоциональных обязательствах перед детьми, и наоборот. В случае с Ревеккой налицо конфликт между ее ролью матери, воспитавшей Иакова и Исава, и желанием помочь Иакову, с которым, по ее мнению, обошлись несправедливо. Возможно, вы помните: когда мы добавили в наши тесты социальный элемент как один из факторов, влияющих на наше поведение, уровень нечестности вырос (глава 5 «Почему ношение подделок известных брендов заставляет нас мошенничать больше»). «Общественная полезность» — вот что может объяснить загадочное поведение Ревекки. Этот термин социологи используют для описания свойственного людям стремления заботиться о других, даже если такая забота приводит к истощению наших собственных моральных ресурсов. Не приходится сомневаться: общественная полезность зачастую делает наш мир лучше (достаточно вспомнить о благотворительных фондах, работе волонтеров и т. д.). Но в то же время она помогает оправдать мошенничество, ложь или более ужасные вещи, если они совершаются во благо окружающих нас людей.
Вспомним главу 9 «Мошенничество в коллективе: почему две головы не всегда лучше одной», в которой мы с Франческой Джино и Шахаром Айялом изучали аспекты бескорыстного мошенничества. Мы обнаружили, что само знание о том, что окружающие получат пользу от наших действий, подталкивает людей к мошенничеству. Множество людей (от религиозных лидеров до тех, чье влияние на других невелико) лгали во имя своей религии. Даже понимая, что их поведение аморально, они оправдывают свои действия тем, что совершают их во благо других. Альтруизм — очень мощное логическое обоснование. Вот и у Ревекки были вполне обычные человеческие причины, пусть и не вполне рациональные, помочь любимому сыну. Как бы то ни было, история этой семьи являет собой прекрасный пример коллективного мошенничества.
Подводя черту
В Библии можно найти немало историй, имеющих непосредственное отношение к темам, которые я затронул в этой книге. Можно вспомнить Закхея, который покаялся и смог начать жизнь с чистого листа (этот пример связан с темой главы 1); Авраама с его не вполне невинной ложью (поправочный коэффициент из главы 2); историю о том, как Даниил и его друзья справились с конфликтом интересов (глава 3). Шаббат помогает нам соблюдать божьи заповеди (глава 4), а пример блудницы Раав показывает, как один благородный поступок может полностью изменить жизнь человека и вызвать череду других праведных дел (глава 5). Вспомним о самообмане и идолопоклонстве (глава 6); об изобретательном царе Соломоне и социальных связях, вынуждавших его мошенничать все больше и больше (главы 7 и 8); о коллективном мошенничестве Иакова и Ревекки (глава 9) и т. д.
В чем же смысл поиска связей между библейскими историями и исследованиями человеческой честности? Я вижу как минимум две причины. Первая — это возможность разработать практические методы поддержания и повышения уровня честности в обществе. Вторая — глобальные уроки, которые преподает нам религия.
Один из таких уроков состоит в том, что моральные напоминания, правила, привычки и готовность начать все сначала помогают людям чуть дольше оставаться на стезе добродетели. Принимая это во внимание, можно только предполагать, является ли шагом в правильном направлении тенденция, хорошо заметная в некоторых регионах Европы и Северной Америки: люди становятся более духовными, но менее религиозными. Лично я считаю, что у духовности немало преимуществ, но в том, что касается снижения уровня нечестности, людям нужны конкретные и ясные правила, соблюдение которых должно в идеале приводить к более высокой цели. Было бы здорово, живи мы по принципу «относись к другим так, как хочешь, чтобы другие относились к тебе». Но это правило носит слишком общий характер, без конкретного плана действий, поэтому вряд ли оно может быть достаточно эффективным. Возможно, нам стоит поставить иную цель: рост духовности, сопровождающийся четко сформулированными правилами, которые будут определять принципы поведения людей в повседневной жизни. Сможем ли мы установить такие правила и окажутся ли они эффективными — вот в чем вопрос, важный и интересный.
Об уроках религии применительно к честности можно рассуждать и с точки зрения хронологии. Есть временной период до того, как у нас появляется возможность смошенничать, период, во время которого мы получаем эту возможность, и период после того, как возможность нам представилась. Какой из трех отрезков времени лучше всего подходит для того, чтобы нажать на моральный тормоз?
В современном мире законности и логики общество использует карательный подход, цель которого — отбить у нарушителя желание вести себя плохо. Соответственно, мы склонны концентрироваться лишь на том, что может произойти с нами после того, как у нас появилась возможность смошенничать. Именно поэтому самый распространенный метод борьбы с теми, кто набирает текстовые сообщения, находясь за рулем автомобиля, — высокие штрафы (например, в штате Северная Каролина, где я живу, штраф весьма внушителен и составляет 500 долларов). Где-то наказанием за торговлю наркотиками и другие преступления является длительный срок тюремного заключения; в некоторых странах убийство карается смертной казнью.
Этот подход основан на логике ПМРП, о которой мы говорили в главе 1 «Тестирование простой модели рационального преступления». Мы верим, что потенциальные преступники будут мыслить рационально, задумываясь о перспективе подвергнуться серьезному наказанию, если будут пойманы (что произойдет, разумеется, уже после того, как преступление будет совершено). Мы думаем, что они взвесят все «за» и «против», прежде чем перейдут к активным действиям, и примут тщательно обдуманное решение: возможные выгоды не стоят тех последствий, с которыми им придется столкнуться.
Совершенно ясно, что такой подход к снижению уровня преступности не очень эффективен. Угроза штрафов не привела к тому, что люди перестали отправлять текстовые сообщения, управляя автомобилем. Угроза тюремного заключения не остановила бутлегеров или других преступников.
Религиозный подход совершенно иной. Религия предполагает воздействие в период до мошенничества и в период, в течение которого у нас появляется возможность сжульничать. В первую очередь религия пытается повлиять на наш образ мыслей еще до того, как мы подверглись искушению, применяя для этого моральное воспитание и — не стоит об этом забывать — чувство вины. Базовый принцип такого подхода: если мы хотим обуздать нечестность, нужно задуматься о просвещении и настройке морального компаса, а не угрозе наказания постфактум (хотя и на ее счет многие религии высказываются вполне однозначно). Кроме того, религия пытается воздействовать на человеческое мышление и собственно в момент искушения, создавая множество моральных маркеров-напоминаний. Главная идея здесь вот в чем: мы должны поддерживать свой моральный компас в рабочем состоянии, своевременно корректируя его настройки. Только в этом случае он будет работать наиболее эффективно.
Итак, что же нам делать? Хорошая новость заключается в том, что моральный компас есть у каждого из нас. А вот и плохая: не стоит думать, что наши совесть и мораль будут защищать нас постоянно и без каких-либо усилий с нашей стороны. Обществу необходимо понять, как «встроить» моральный компас в наших детей и как поддерживать в рабочем состоянии свой собственный. Сможем ли мы полностью избавиться от плохого поведения? Скорее всего, нет, но я уверен, что мы сможем добиться больших успехов и значительно улучшить нынешнюю ситуацию.
Благодарности
Писать книги о научных исследованиях представляется мне весьма стимулирующим занятием, которое приносит огромное удовлетворение. Но еще большее удовольствие я ежедневно испытываю от работы с потрясающими учеными, моими друзьями. Они наполняют мою жизнь новыми идеями, придумывают эксперименты, выясняют, что и как работает, пытаются разобраться в полученных результатах. Описанные в этой книге исследования представляют собой продукт изобретательности и усилий моих коллег (биографические справки об этих прекрасных людях приведены далее), и я благодарен им за возможность совместных путешествий по стране нечестности и изучения этого важного и крайне интересного вопроса.
Кроме того, я благодарен социологам в целом. Мир социальных наук — замечательное место, в котором постоянно рождаются новые идеи, собираются данные, опровергаются или подтверждаются теории. Каждый день я узнаю что-то новое от коллег и думаю о том, как много еще не знаю (краткий список информационных источников и материалов для дополнительного изучения можно найти в конце этой книги).
Это уже третья моя книга, и кто-то может подумать, что я точно знаю, что делаю. Но реальность такова, что я не смог бы добиться многого, если бы не помощь других людей. Я искренне благодарю Эрин Аллингэм, которая помогала мне писать эту книгу; Бронуин Фраер и Джулианн Ворм, благодаря которым мои мысли обрели ясность; Клэр Воштэд, проделавшей свою часть работы с любезностью и юмором, несвойственными редакторам; Элизабет Перрелле и Кэтрин Байтнер, наполнявших меня энергией и спасавших от стрессов и тревог. Спасибо команде литературного агентства Левина и Гринберга, помогавшей мне всеми возможными способами. Спасибо Эйлин Грунейзен за ее многочисленные предложения и замечания: некоторые из них были вполне обоснованными, другие заставили меня улыбнуться. Я благодарен Ане Якубек, Софии Куи, Кейси Кинцер. Огромное спасибо человеку, выполнявшему функцию запоминающего устройства, дополнительной пары рук и моего второго «я», — Меган Хогерти.
И наконец, что бы я делал без своей любимой жены Суми? Моя жизнь порой бывает суматошной из-за присущего мне трудоголизма, и всегда быть рядом может только очень особенный человек. Суми, когда я сегодня доберусь до дома, обязательно перетащу коробки на чердак. Но вообще-то я могу задержаться, поэтому лучше завтра. Хотя знаешь что? Я точно сделаю это в выходные. Обещаю.
Список соавторов
Эйлин Грунейзен
Эйлин присоединилась к моей исследовательской команде вскоре после того, как я начал работать в Университете Дьюка. С тех пор она — наш главный источник энергии и вдохновения. Не знаю, было ли это частью ее плана, но со временем я обнаружил, что завишу от нее все сильнее и сильнее. Мы с Эйлин вместе работали над множеством тем, каждая из которых была по-настоящему интересной и инновационной. Эйлин заведует лабораторией в Центре передового послезнания, и я надеюсь, что она будет сотрудничать со мной еще многие годы.
Айелет Гнизи
Я встретил Айелет много лет назад на пикнике, организованном нашими общими друзьями. Она сразу произвела на меня приятное впечатление, и с годами мои добрые чувства к ней лишь укрепились. Айелет — прекрасный человек и отличный друг, поэтому довольно странно, что мы решили вместе поработать над изучением таких вопросов, как недоверие и месть. Впрочем, что бы ни заставило нас обратиться к этой теме, наше сотрудничество оказалось крайне полезным и с научной, и с личной точки зрения. Айелет преподает в Калифорнийском университете в Сан-Диего.
Дэвид Пизарро
С Дэвидом мы повстречались на летнем выездном семинаре Стэнфордского университета. Мы занимали соседние офисы, которые разделяла тонкая перегородка, и тогда я впервые познакомился с рэп-музыкой. Спустя какое-то время я даже полюбил ее, а Дэвид оказался очень любезен и поделился со мной своей коллекцией (не знаю, насколько это было законно). На протяжении следующих лет я провел много времени в обществе Дэвида, постоянно узнавая что-то новое и подпитываясь от него энергией. Надеюсь, так будет и впредь. Сейчас Дэвид преподает в Корнеллском университете.
Эйнав Махарабани
С Эйнав мы познакомились во время одной из моих поездок в Израиль. Она была студенткой-старшекурсницей, которая только начала работать с Рашелью Баркан. Я был впечатлен сочетанием интеллекта, вежливости и упорства, которое делает ее замечательным сотрудником. Эйнав работает в компании Abilities Solution — уникальной организации, которая занимается трудоустройством в высокотехнологичные компании людей с физическими недостатками.
Франческа Джино
Франческа представляет собой редкое сочетание доброты, заботы, эрудиции, креативности и стиля. Она также обладает бесконечной энергией и энтузиазмом, а количество проектов, в которые она вовлечена постоянно, обычный человек порой не успевает реализовать за всю жизнь. Франческа — итальянка, то есть одна из тех людей, с кем так приятно разделить хорошую трапезу и достойное вино. Я был невероятно опечален ее решением переехать из Северной Каролины в Бостон. Франческа преподает в Гарвардском университете.
Джанет Шварц
Мне повезло: я смог убедить Джанет проработать со мной несколько лет в Центре передового послезнания. Джанет особенно интересуется проявлениями иррациональности в сфере здравоохранения (а их там немало). Вместе с ней мы изучали темы питания, диет, конфликтов интересов, экспертных заключений и советов; обсуждали, какие подходы нужно применять для того, чтобы заставить людей заботиться о своем здоровье. Джанет очень чутко воспринимает окружающий мир, она потрясающий рассказчик, любит посмеяться над собой и друзьями. Джанет преподает в Тулейнском университете, но душой по-прежнему в нашем центре.
Лиза — яркий и веселый человек. У нее фантастическое чутье на хорошую еду, идеи для исследований и модные тренды. Эти качества делают ее не только отличным сотрудником, но и прекрасным партнером в походах по магазинам. Помимо изучения этичности поведения, она интересуется искусством ведения переговоров. И хотя мне не приходилось проводить с ней переговоры, не сомневаюсь, что проиграл бы вчистую. Лиза готовится к защите кандидатской диссертации в Гарвардском университете.
Мэри Фрэнсис Люс
Мэри Фрэнсис получила кандидатскую степень в Университете Дьюка за несколько лет до меня, а затем вернулась в университет в качестве преподавателя (опять-таки за несколько лет до меня). Понятно, что она превратилась для меня в отличный источник советов и на протяжении многих лет помогала мне и поддерживала во всех начинаниях. Несколько лет назад она стала деканом, и я очень надеюсь — в интересах моих и университета, что на этот раз не пойду по ее стопам. Мэри Фрэнсис преподает в Университете Дьюка.
Морис Швейцер
Морису интересно практически все, что его окружает, и к каждому новому проекту он приступает с широкой улыбкой на лице и огромным любопытством. На протяжении многих лет Морис рассказывает мне о том, как хорошо играет в сквош. Я очень хочу лично в этом убедиться, но боюсь, что он окажется лучше меня. Морис — источник мудрых советов во всем, что касается работы, семьи и жизни в целом. Он преподает в Пенсильванском университете.
Макс Базерман
Макс прекрасно осведомлен практически обо всем, что имеет отношение к исследованиям, политике и личной жизни. У него всегда найдется пара интересных и неожиданных мыслей. Некоторое время назад я обнаружил, что многие из его студентов решают собственные проблемы и принимают решения, спрашивая себя: «Как в этой ситуации поступил бы Макс?» Я неоднократно пользовался этим методом и готов подтвердить его эффективность. Макс преподает в Гарвардском университете.
Майкл Нортон
Майк представляет собой удивительную смесь гениальности, самоуничижения и саркастического юмора. Он обладает уникальным взглядом на окружающий мир и считает интересной почти любую тему. Майкл постоянно полон идей, а его аргументы всегда эксцентричны, неожиданны, глубокомысленны и конструктивны. Я воспринимаю каждый исследовательский проект как путешествие, и в компании Майка меня всегда ждут невероятные приключения, невозможные ни с кем другим. Майкл преподает в Гарвардском университете.
Николь Мид
Я познакомился с Николь, когда она была студенткой-старшекурсницей Университета штата Флорида. В тот вечер я читал лекцию, было уже совсем поздно, и мы слегка перебрали с выпивкой. Я хорошо помню, что был весьма впечатлен идеями, которыми мы обменивались, и в какой-то момент спросил Николь, действительно ли она считает эти идеи хорошими или во всем виноват алкоголь. Она убедила меня, что выпивка ни при чем, и, думаю, так оно и было. С тех пор у Николь появилось много других хороших идей, она преподает в Школе бизнеса и экономики Католического университета Лиссабона в Португалии.
Нина Мазар
Нина приехала в MIT всего на несколько дней, чтобы получить отзыв о своей исследовательской работе, а осталась на целых пять лет. Все это время мы с огромным удовольствием работали вместе, и я очень ей доверяю. Для Нины не существует препятствий, а ее готовность принять любой вызов позволила нам провести несколько сложных экспериментов в сельских районах Индии. Многие годы я надеялся, что Нина никогда нас не покинет, но, увы, все хорошее рано или поздно заканчивается. Она преподает в Университете Торонто, а в альтернативной реальности Нина — дизайнер высокой моды в Милане.
Он защищал кандидатскую диссертацию в MIT через год после того, как я пришел туда преподавать, и стал первым «моим» студентом. Выступая в этой роли, Он очень мне помог: я окончательно понял, чего жду от студентов и какими должны быть отношения между преподавателями и учащимися. Он невероятно умен и обладает впечатляющим набором навыков и умений. Если этот человек чего-то не знает, пробел устраняется за пару дней. С ним всегда приятно работать и проводить время. Он преподает в Калифорнийском университете в Сан-Диего.
Рашель Баркан
С Рашелью мы подружились много лет назад, будучи студентами-старшекурсниками. На протяжении многих лет мы обсуждали возможность участия в совместных исследовательских проектах, но реализовать мечту смогли только после того, как Рашель приехала преподавать в Университете Дьюка, где провела год (как оказалось, кофе очень способствует превращению идей в действия). Мы получили огромное удовольствие от совместной работы и добились больших успехов, осуществив несколько проектов. Рашель невероятно компетентна, умна и проницательна, и я очень хотел бы проводить с ней больше времени. Она преподает в Университете имени Давида Бен-Гуриона в Негеве (Израиль).
Рой Баумайстер
Рой уникален: в нем живут философ, музыкант, поэт и внимательнейший наблюдатель. Его интересы безграничны, а образ мыслей зачастую ставит меня в тупик. Лишь по прошествии времени я осознаю мудрость его суждений и еще долго размышляю о том, какие удивительные мысли приходят в его голову, — и часто с ними соглашаюсь. Рой — идеальный компаньон для путешествий и исследований. Он преподает в Университете штата Флорида.
Скотт Маккензи
Скотт присоединился к работе Центра передового послезнания, будучи исполненным энтузиазма студентом Университета Дьюка. Он легко сходится с людьми и обладает врожденной способностью побуждать их делать то, что ему нужно (в том числе участвовать в наших исследованиях). Когда пришло время выбирать тему для его собственного исследовательского проекта, Скотт решил, что будет изучать мошенничество в гольфе; благодаря ему я многое узнал об этой благородной игре. Скотт работает консультантом.
Шахар Айял
С Шахаром нас познакомили общие друзья; чуть позже мы встретились снова; он тогда готовился к защите диссертации под руководством еще одного моего друга. После получения им кандидатской степени наши пути, личные и профессиональные, вновь пересеклись, и Шахар провел несколько лет в Центре развитого послезнания в качестве постдока. За эти годы мы лучше узнали друг друга и даже мыслить стали одинаково. С Шахаром очень приятно работать и общаться, и я надеюсь, что впереди у нас годы совместных исследований. Шахар преподает в Междисциплинарном центре в Израиле.
Том Гилович
Будучи студентом, я попал на презентацию, которую проводил Том, и был поражен его умом и креативностью. Том обладает уникальной способностью задавать вопросы — и находить ответы — в самых неожиданных областях. Например, он обнаружил, что спортивным командам, участники которых носят форму черного цвета, чаще назначают пенальти. Он опроверг миф о том, что некоторые баскетболисты удачливее других. А еще доказал, что игроки НБА промахиваются чаще, если уверены, что право на штрафной удар получили незаслуженно. Я всегда хотел быть похожим на Тома. Он преподает в Корнеллском университете.
Йоэль Инбар
Мы познакомились, когда Йоэль учился у Тома Гиловича и Дэвида Пизарро. Тогда же начали работать вместе. Йоэль — воплощение современного хипстера, модный, но чудаковатый; он обладает глубокими знаниями в области современной инди-музыки (вы вряд ли когда-либо слышали названия этих групп) и так же хорошо разбирается в операционных системах UNIX. Он изучает брезгливость во всех ее проявлениях и является настоящим докой в поиске все новых и новых способов вызывать у людей отвращение (с помощью сомнительных розыгрышей и специальных игрушек). Йоэль преподает в Тилбургском университете в Нидерландах.
Зое преисполнена изобретательности и доброты. Разговаривать с ней — все равно что гулять по парку с аттракционами: знаешь, что будет весело и интересно, но совершенно не представляешь, куда тебя заведут ее комментарии. Зое любит жизнь и всех людей вокруг, и в ней идеально сочетаются исследователь и настоящий друг. Зое — постдок в Йельском университете.
Библиография и дополнительные источники
Ниже приводится перечень материалов, на которых основано содержание этой книги, а также список источников, рекомендуемых для дальнейшего изучения материала.
Введение. Почему изучать нечестность так интересно
Библиография
Харфорд Т. Логика жизни, или Экономика обо всем на свете. — М.: BestBusinessBooks, 2011.
Глава 1. Тестирование простой модели национального преступления (ПМРП)
Библиография
Джером Д. Трое в лодке, не считая собаки. — М.: АСТ, 2017.
Jeff Kreisler, Get Rich Cheating: The Crooked Path to Easy Street (New York: HarperCollins, 2009).
Eynav Maharabani, «Honesty and Helping Behavior: Testing Situations Involving Temptation to Cheat a Blind Person», master’s thesis, Ben-Gurion University of the Negev, Israel (2007).
Nina Mazar, On Amir, Dan Ariely, «The Dishonesty of Honest People: A Theory of Self-concept Maintenance», Journal of Marketing Research (2008).
Nina Mazar, Dan Ariely, «Dishonesty in Everyday Life and Its Policy Implications», Journal of Public Policy and Marketing (2006).
Глава 2. Поправка на хитрость: некогда скучать
Библиография
Nina Mazar, On Amir, Dan Ariely, «The Dishonesty of Honest People: A Theory of Self-concept Maintenance», Journal of Marketing Research (2008).
Lisa Shu, Nina Mazar, Francesca Gino, Max Bazerman, Dan Ariely, «When to Sign on the Dotted Line? Signing First Makes Ethics Salient and Decreases Dishonest Self-Reports», working paper, Harvard Business School NOM Unit (2011).
Дополнительные источники
Jason Dana, Roberto A. Weber, and Jason Xi Kuang, «Exploiting Moral Wiggle Room: Behavior Inconsistent with a Preference for Fair Outcomes», Economic Theory (2007).
Christopher K. Hsee, «Elastic Justification: How Tempting but Task-Irrelevant Factors Influence Decisions», Organizational Behavior and Human Decision Processes (1995).
Christopher K. Hsee, «Elastic Justification: How Unjustifiable Factors Influence Judgments», Organizational Behavior and Human Decision Processes (1996).
Maurice Schweitzer and Chris Hsee, «Stretching the Truth: Elastic Justification and Motivated Communication of Uncertain Information», The Journal of Risk and Uncertainty (2002).
Глава 2Б. Гольф
Дополнительные источники
Robert L. Goldstone and Calvin Chin, «Dishonesty in Self-report of Copies Made — Moral Relativity and the Copy Machine», Basic and Applied Social Psychology (1993).
Robert A. Wicklund, «The Influence of Self-awareness on Human Behavior», American Scientist (1979).
Глава 3. Ослепленные собственной мотивацией
Библиография
Daylian M. Cain, George Loewenstein, and Don A. Moore, «The Dirt on Coming Clean: The Perverse Effects of Disclosing Conflicts of Interest», Journal of Legal Studies (2005).
Ann Harvey, Ulrich Kirk, George H. Denfield, and P. Read Montague, «Monetary Favors and Their Influence on Neural Responses and Revealed Preference», The Journal of Neuroscience (2010).
Дополнительные источники
James Bader and Daniel Shugars, «Agreement Among Dentists’ Recommendations for Restorative Treatment», Journal of Dental Research (1993).
Max H. Bazerman and George Loewenstein, «Taking the Bias Out of Bean Counting», Harvard Business Review (2001).
Max H. Bazerman, George Loewenstein, and Don A. Moore, «Why Good Accountants Do Bad Audits: The Real Problem Isn’t Conscious Corruption. It’s Unconscious Bias», Harvard Business Review (2002).
Daylian M. Cain, George Loewenstein, and Don A. Moore, «When Sunlight Fails to Disinfect: Understanding the Perverse Effects of Disclosing Conflicts of Interest», Journal of Consumer Research (in press).
Carl Elliot, White Coat, Black Hat: Adventures on the Dark Side of Medicine (Boston: Beacon Press, 2010).
Глава 4. Почему мы ошибаемся, когда устаем
Библиография
Mike Adams, «The Dead Grandmother/Exam Syndrome and the Potential Downfall of American Society», The Connecticut Review (1990).
Shai Danziger, Jonathan Levav, and Liora Avnaim-Pesso, «Extraneous Factors in Judicial Decisions», Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (2011).
Nicole L. Mead, Roy F. Baumeister, Francesca Gino, Maurice E. Schweitzer, and Dan Ariely, «Too Tired to Tell the Truth: Self-Control Resource Depletion and Dishonesty», Journal of Experimental Social Psychology (2009).
Emre Ozdenoren, Stephen W. Salant, and Dan Silverman, «Willpower and the Optimal Control of Visceral Urges», Journal of the European Economic Association (2011).
Baba Shiv and Alexander Fedorikhin, «Heart and Mind in Conflict: The Interplay of Affect and Cognition in Consumer Decision Making», The Journal of Consumer Research (1999).
Дополнительные источники
Roy F. Baumeister and John Tierney, Willpower: Rediscovering the Greatest Human Strength (New York: The Penguin Press, 2011).
Roy F. Baumeister, Kathleen D. Vohs, and Dianne M. Tice, «The Strength Model of Self-control», Current Directions in Psychological Science (2007).
Francesca Gino, Maurice E. Schweitzer, Nicole L. Mead, and Dan Ariely, «Unable to Resist Temptation: How Self-Control Depletion Promotes Unethical Behavior», Organizational Behavior and Human Decision Processes (2011).
C. Peter Herman and Janet Polivy, «A Boundary Model for the Regulation of Eating», Research Publications — Association for Research in Nervous and Mental Disease (1984).
Walter Mischel and Ozlem Ayduk, «Willpower in a Cognitive-Affective Processing System: The Dynamics of Delay of Gratification» in Hand-book of Self-regulation: Research, Theory, and Applications, edited by Kathleen D. Vohs, Roy F. Baumeister (New York: Guilford, 2011).
Janet Polivy, C. Peter Herman, «Dieting and Binging, A Causal Analysis», American Psychologist (1985).
Глава 5. Почему ношение подделок известных брендов заставляет нас жульничать
Библиография
Francesca Gino, Michael I. Norton, and Dan Ariely, «The Counterfeit Self: The Deceptive Costs of Faking It», Psychological Science (2010).
Дополнительные источники
Dan Ariely and Michael L. Norton, «How Actions Create — Not Just Reveal — Preferences», Trends in Cognitive Sciences (2008).
Roy F. Baumeister, Kathleen D. Vohs, and Dianne M. Tice, «The Strength Model of Self-control», Current Directions in Psychological Science (2007).
C. Peter Herman and Deborah Mack, «Restrained and Unrestrained Eating», Journal of Personality (1975).
Глава 6. Самообман
Библиография
Zoe Chance, Michael I. Norton, Francesca Gino, and Dan Ariely, «A Temporal View of the Costs and Benefits of Self-Deception», Proceedings of the National Academy of Sciences (2011).
Дополнительные источники
Ziva Kunda, «The Case for Motivated Reasoning», Psychological Bulletin (1990).
Danica Mijovicґ-Prelec and Dražen Prelec, «Self-deception as Self-Signalling: A Model and Experimental Evidence», Philosophical Transactions of the Royal Society (2010).
Robert Trivers, «The Elements of a Scientific Theory of Self-Deception», Annals of the New York Academy of Sciences (2000).
Глава 7. Изобретательность и нечестность: все мы фантазеры
Библиография
Edward J. Balleisen, «Suckers, Swindlers, and an Ambivalent State: A History of Business Fraud in America», manuscript.
Shane Frederick, «Cognitive Reflection and Decision Making», Journal of Economic Perspectives (2005).
Michael S. Gazzaniga, «Consciousness and the Cerebral Hemispheres», in The Cognitive Neurosciences, edited by Michael S. Gazzaniga (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1995).
Francesca Gino and Dan Ariely, «The Dark Side of Creativity: Original Thinkers Can Be More Dishonest», Journal of Personality and Social Psychology (2011).
Ayelet Gneezy and Dan Ariely, «Don’t Get Mad, Get Even: On Consumers’ Revenge», working paper, Duke University (2010).
Richard Nisbett and Timothy DeCamp Wilson, «Telling More Than We Can Know: Verbal Reports on Mental Processes», Psychological Review (1977).
Yaling Yang, Adrian Raine, Todd Lencz, Susan Bihrle, Lori Lacasse, and Patrick Colletti, «Prefrontal White Matter in Pathological Liars», The British Journal of Psychiatry (2005).
Дополнительные источники
Jesse Preston and Daniel M. Wegner, «The Eureka Error: Inadvertent Plagiarism by Misattributions of Effort», Journal of Personality and Social Psychology (2007).
Глава 8. Мошенничество как инфекция, или Вирус нечестности
Библиография
Nicholas A. Christakis and James H. Fowler, Connected: The Surprising Power of Our Social Networks and How They Shape Our Lives (New York: Little, Brown, 2009).
Чалдини Р. Психология влияния: Как научиться убеждать и добиваться успеха. — М.: Эксмо, 2012.
Francesca Gino, Shahar Ayal, and Dan Ariely, «Contagion and Differentiation in Unethical Behavior: The Effect of One Bad Apple on the Barrel», Psychological Science (2009).
George L. Kelling and James Q. Wilson, «Broken Windows: The Police and Neighborhood Safety», The Atlantic (March 1982).
Nina Mazar, Kristina Shampanier, and Dan Ariely, «Probabilistic Price Promotions — When Retailing and Las Vegas Meet», working paper, Rotman School of Management, University of Toronto (2011).
Дополнительные источники
Ido Erev, Paul Ingram, Ornit Raz, and Dror Shany, «Continuous Punishment and the Potential of Gentle Rule Enforcement», Behavioural Processes (2010).
Глава 9. Мошенничество в коллективе: почему две головы не всегда лучше одной
Библиография
Melissa Bateson, Daniel Nettle, and Gilbert Roberts, «Cues of Being Watched Enhance Cooperation in a Real-World Setting», Biology Letters (2006).
Francesca Gino, Shahar Ayal, and Dan Ariely, «Out of Sight, Ethically Fine? The Effects of Collaborative Work on Individuals’ Dishonesty», working paper (2009).
Janet Schwartz, Mary Frances Luce, and Dan Ariely, «Are Consumers Too Trusting? The Effects of Relationships with Expert Advisers», Journal of Marketing Research (2011).
Дополнительные источники
Francesca Gino and Lamar Pierce, «Dishonesty in the Name of Equity», Psychological Science (2009).
Uri Gneezy, «Deception: The Role of Consequences», American Economic Review (2005).
Nina Mazar and Pankaj Aggarwal, «Greasing the Palm: Can Collectivism Promote Bribery?» Psychological Science (2011).
Scott S. Wiltermuth, «Cheating More When the Spoils Are Split», Organizational Behavior and Human Decision Processes (2011).
Глава 10. Полуоптимистичный финал: люди врут реже, чем могли бы!
Библиография
Rachel Barkan, Dan Ariely, «Worse and Worst: Daily Dishonesty of Businessmen and Politicians», working paper, Ben-Gurion University of the Negev, Israel (2008).
Yoel Inbar, David Pizarro, Thomas Gilovich, Dan Ariely, «Moral Masochism: Guilt Causes Physical Self-punishment», working paper (2009).
Azim Shariff, Ara Norenzayan, «Mean Gods Make Good People: Different Views of God Predict Cheating Behavior», International Journal for the Psychology of Religion (2011).
Дополнительные источники
Keri L. Kettle, Gerald Haubl, «The Signature Effect: How Signing One’s Name Influences Consumption-Related Behavior by Priming Self-Identity», Journal of Consumer Research (2011).
Deepak Malhotra, «(When) Are Religious People Nicer? Religious Salience and the ‘Sunday Effect’ on Pro-Social Behavior», Judgment and Decision Making (2010).
Примечания
1. Ira Glass, «See No Evil», This American Life, National Public Radio, April 1, 2011.
2. «Las Vegas Cab Drivers Say They’re Driven to Cheat», Las Vegas Sun, January 31, 2011, -cheat.
3. A. Wazana, «Physicians and the Pharmaceutical Industry: Is a Gift Ever Just a Gift?» Journal of the American Medical Association (2000).
4. Duff Wilson, «Harvard Medical School in Ethics Quandary», The New York Times, March 2, 2009.
5. K. J. Winstein, «Inflated Credentials Surface in Executive Suite», The Wall Street Journal, November 13, 2008.
6. Anne Morse, «Whistling Dixie», The Weekly Standard (blog), November 10, 2005.
7. Geoff Baker, «Mark McGwire Admits to Steroids Use: Hall of Fame Voting Becoming a Pain in the Exact Place He Used to Put the Needle», .
9. Steve Henn, «Oh, Waiter! Charge It to My PAC», Marketplace, July 21, 2008, and «PACs Put the Fun in Fundraising», Marketplace, July 22, 2008.
10. Steve Henn, «PACs Put the Fun in Fundraising», Marketplace, July 22, 2008.
11. Dennis J. Devine, Laura D. Clayton, Jennifer L. Philips, Benjamin B.
Dun-ford, and Sarah P. Melner, «Teams in Organizations, Prevalence, Characteristics, and Effectiveness», Small Group Research (1999).
John Gordon, «Work Teams: How Far Have They Come?» Training (1992).
Gerald E. Ledford, Jr., Edward E. Lawler III, and Susan A. Mohrman, «Reward Innovations in Fortune 100 °Companies», Compensation & Benefits Review (1995).
Susan A. Mohrman, Susan G. Cohen, and Allan M. Mohrman, Jr., Designing Team-Based Organizations: New Forms for Knowledge Work (San Francisco: Jossey-Bass, 1995). Greg L. Stewart, Charles C. Manz, and Henry P. Sims, Team Work and Group Dynamics (New York: Wiley, 1999).
12. 1Bernard Nijstad, Wolfgang Stroebe, and Hein F. M. Lodewijkx, «The Illusion of Group Productivity: A Reduction of Failures Explanation», European Journal of Social Psychology (2006).
13. ADA Council on Scientific Affairs, «Direct and Indirect Restorative Materials», The Journal of the American Dental Association (2003).
15. Левит из Барселоны. Сефер га-хинух. Книга наставления. — М.: Книжники; Лехаим, 2014.
16. Rabbi Eliyahu Eliezer Dessler, Letter from Eliyahu (Bnei Brak: Sifriati [Gitlers] LTD, 2002).
17. «Craving to smoke in orthodox Jewish smokers who abstain on the Sabbath: a comparison to a baseline and a forced abstinence workday», Reuven Dar, et. al. Psychopharmacology (2005) 183: 294–299.
Над книгой работали
Переводчик П. Миронов
Редактор Ю. Миронова
Главный редактор С. Турко
Руководитель проекта М. Красавина
Корректоры Е. Аксёнова, О. Улантикова
Компьютерная верстка А. Абрамов
Дизайн обложки Ю. Буга
Примечания
Ответ на этот вопрос дала целая череда корпоративных скандалов, последовавших за крахом Enron. — Здесь и далее, за исключением специально оговоренных случаев, прим. авт.
Харфорд Т. Логика жизни, или Экономика обо всем на свете. — М.: BestBusinessBooks, 2011.
В большей степени, чем нечестности, эта книга посвящена вопросам рациональности и иррациональности. Хотя тема нечестности привлекательна и значима сама по себе, важно помнить, что это всего лишь один из компонентов интересной и занимательной человеческой натуры.
Те из вас, кто читал книгу «Поведенческая экономика: Почему люди ведут себя иррационально», уже знакомы с историями, которые я рассказываю здесь и в главе 2 «Поправка на хитрость: некогда скучать».
X означает количество задач, которые, по утверждению участников, были решены правильно.
Понятие «трагедия ресурсов общего пользования» относится к ситуации, в которой отдельные люди, действующие в собственных эгоистичных интересах, в конечном итоге истощают общие ограниченные ресурсы — даже если в долгосрочной перспективе это вредит всем, включая их самих.
Рассуждая о моральных напоминаниях, важно иметь в виду: со временем люди привыкают к тому, что регулярно подписывают кодекс чести, и напоминания теряют свою эффективность. Вот почему я думаю, что правильный подход состоит в том, чтобы просить людей составлять их собственную версию кодекса чести: ее будет куда сложнее подписать, не задумавшись при этом о морали, и человек будет вести себя более этично.
Сказано в Торе (Бемидбар, 15): «Говори сынам Израиля и скажи им, чтобы они делали себе цицит (кисти) на краях одежд своих во всех поколениях своих и вставляли в цицит края (одежды) лазурную нить. И будет она у вас в цицит, и, глядя на нее, вы вспомните все заповеди Всевышнего и исполните их, и не будете следовать сердцу вашему и очам вашим, которые влекут вас к блудодеянию». — Прим. ред.
Несколькими годами позднее я и сам подвергся проверке со стороны Налоговой службы США, получив болезненный, но очень интересный опыт. Не думаю, что это было как-то связано с описанной выше встречей.
Я подозреваю, что люди, которые очень не любят правительство или страховые компании, все равно будут мошенничать, хотя и реже или с меньшим размахом (и это может стать предметом будущих исследований).
Вспомните, как часто, попав в сомнительную ситуацию, люди просят совет не для себя, а для «друга».
Когда я был подростком, рядом со мной взорвался ящик с пиротехникой. В результате я получил обширные ожоги III степени, впоследствии мне пришлось пройти через целую серию хирургических операций. Я подробно рассказывал об этом в своих предыдущих книгах «Предсказуемая иррациональность» и «Позитивная иррациональность».
Пожалуй, самым ярким свидетельством влиятельности фармацевтических компаний является тот факт, что мой инсайдер настаивал на сохранении его имени в тайне, так как боялся попасть в их черный список.
Это был первый раз, когда я столкнулся со столь высокой почасовой оплатой. Я был крайне заинтригован тем, что начал рассматривать многие свои решения с точки зрения «количества рабочих часов». Я посчитал, что час такой работы позволяет мне поужинать в дорогом ресторане, а проработав несколько часов, я смогу купить новый велосипед. Полагаю, это интересный способ по-новому оценить, что нам стоит, а что не стоит покупать. Думаю, что в будущем изучу этот вопрос подробнее.
Фраза из поэмы Горация, превратившаяся в афоризм; обычно переводится как «лови момент», «живи настоящим» или «будь счастлив в эту секунду» и трактуется как призыв проживать каждый день с удовольствием, не откладывая полноценную жизнь на потом. — Прим. пер.
Разумеется, рынок подделок не ограничивается Чайна-тауном или всем Нью-Йорком. Набрав силу за последние 40 лет, в наши дни этот феномен превратился в огромный бизнес. И, хотя изготовление подделок считается преступлением во всем мире, строгость наказания варьирует от страны к стране, как и отношение людей к приобретению такой продукции (подробности — в статье Фредерика Бальфора «Fakes!», BusinessWeek, 7 февраля 2005 г.).
Горностай (англ.). — Прим. ред.
Слухи об этой посылке быстро распространились по университету, и я стал пользоваться популярностью у местных модников.
У вас может возникнуть вопрос: есть ли разница в поведении в случаях, когда мы получаем подделку в дар или когда покупаем ее сами? Он пришел в голову и нам, после чего мы провели еще один эксперимент. Оказалось, что никакой разницы нет: люди больше склонны к обману, являясь обладателями подделки — вне зависимости от того, как они ее получили.
В некоторых авиакомпаниях пассажиры проходят на посадку группами. Например, сначала пассажиры бизнес-класса, за ними пассажиры с детьми, потом те, у кого место в первых рядах эконом-класса, и т. д. — Прим. пер.
У вас может возникнуть вопрос, осознают ли люди негативные последствия использования подделок. Мы провели соответствующее исследование и выяснили: они ничего об этом не знают.
Ариели Д. Предсказуемая иррациональность: Скрытые силы, определяющие наши решения. — М.: Альпина Паблишер, 2019.
Формат вечеринок. На классической вечеринке такого рода каждый участник встречается с представителями противоположного пола и беседует с каждым или каждой из них в течение непродолжительного времени (несколько минут). Затем каждый участник отмечает в специальной карточке, с кем из собеседников хочет продолжить общение. Если интерес взаимный, участники получают контактную информацию для связи друг с другом. — Прим. пер.
Один из главных героев фильма (в исполнении Кевина Спейси) изображает из себя частично парализованного калеку, однако впоследствии оказывается главой преступного клана (без всяких признаков увечья). — Прим. пер.
Мы использовали вопросы вместо стандартного матричного теста, поскольку предполагали, что они скорее вызовут у испытуемых чувство уверенности в себе («я так и знал»), приводящее к самообману.
Эта история была рассказана ассистентом Кубрика Энтони Фревином и опубликована в журнале Stop Smiling, а затем легла в основу фильма «Быть Стэнли Кубриком», в котором роль Конуэя исполнил Джон Малкович.
На самом деле я не имею ничего против Ford Taurus. Я уверен, что это хорошая машина, просто в своих мечтах я представлял себя за рулем совсем другого автомобиля…
Абигнейл Ф. Поймай меня, если сможешь. Реальная история самого неуловимого мошенника за всю историю преступлений. — М.: Бомбора, 2017.
Ариели Д. Позитивная иррациональность: Как извлекать выгоду из своих нелогичных поступков. — М.: Альпина Паблишер, 2019.
Речь, конечно же, идет об оригинальном англоязычном варианте. — Прим. пер.
Подозреваю, что нечестность и путешествия взаимосвязаны. Путешествуя, мы сталкиваемся с новыми правилами и не всегда точно знаем, как их следует трактовать. А еще мы оказываемся в непривычном для нас окружении.
С моей стороны было бы умнее заставлять студентов произносить клятву перед началом каждой лекции; возможно, когда-нибудь я так и сделаю.
Американский бизнесмен, бывший председатель совета директоров фондовой биржи NASDAQ. Основатель фирмы Bernard L. Madoff Investment Securities LLC. В 2008 году был обвинен в создании, возможно, крупнейшей в истории финансовой пирамиды. Приговорен судом Нью-Йорка к 150 годам тюремного заключения. — Прим. ред.
Подозреваю, что компании, которые ставят во главу угла идею максимального увеличения доходов акционеров, могут использовать этот слоган для оправдания самых разных нарушений — от финансовых до юридических. Тот факт, что доход руководителей привязан к цене акций, возможно, усугубляет их приверженность этой идее.
Другое весьма расплывчатое правило имеет замысловатую формулировку «принцип благоразумия». Следуя ему, бухгалтеры не должны приукрашивать действительность.
Осознают ли стоматологи субъективность своих рекомендаций? Понимают ли пациенты, что вынуждены расплачиваться за свою лояльность? Так или иначе, проблема существует.
На основании результатов этого эксперимента мы предположили, что людям, чья работа связана с идеологией (например, членам политических партий или некоммерческих организаций), легче других переступить моральную черту — ведь они помогают другим и действуют во благо.
Разумеется, за многие столетия люди совершили немало кровавых злодеяний, следуя своим религиозным убеждениям. Однако я предпочел бы сосредоточиться на том, как религия связана с аспектами честности и нечестности, а также на положительных уроках, которые мы можем извлечь из религиозного опыта.
Заповедь 16, «Сефер га-хинух», или «Книга наставления» (приписывается раввину Аарону Галеви из Барселоны, жившему в XIII веке).
Смотрите также книгу «Позитивная иррациональность: Как извлекать выгоду из своих нелогичных поступков» (глава 11 «Уроки нашей иррациональности: Зачем нужен тест»).
Из работы «On a Supposed Right to Lie Because of Philanthropic Concerns».
В некоторых конфессиях и религиях эта заповедь считается девятой.

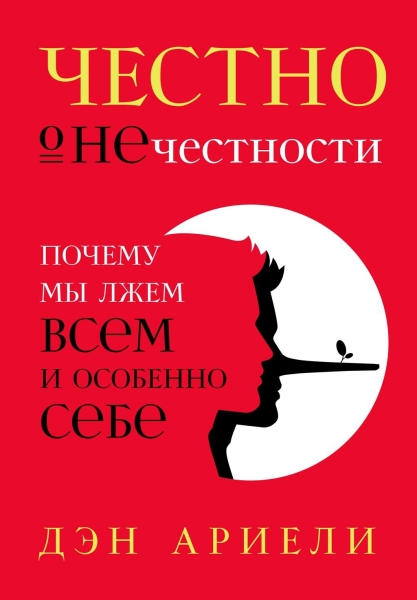
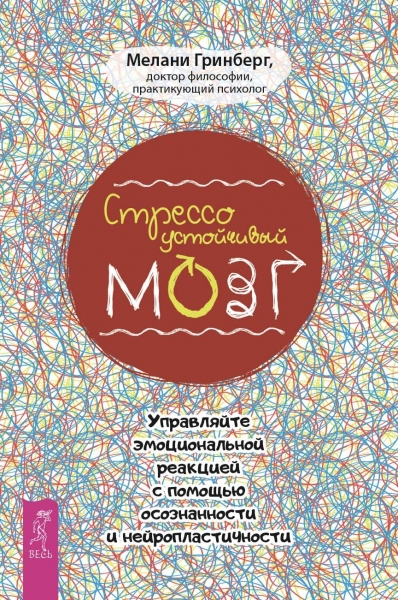


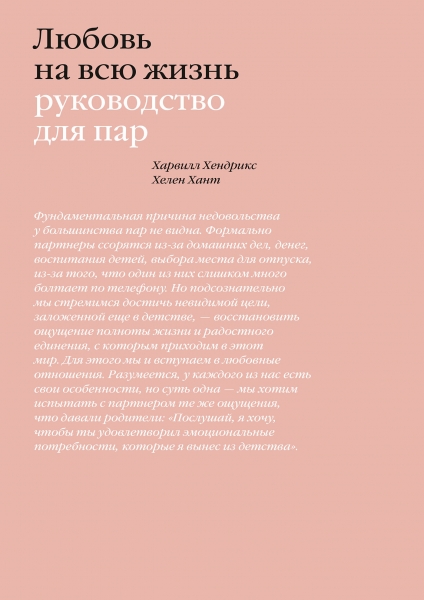
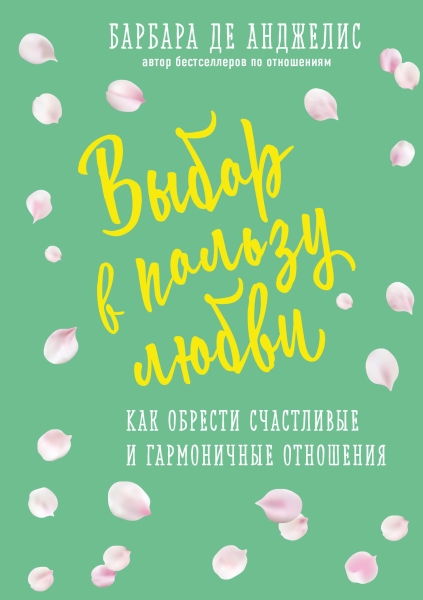
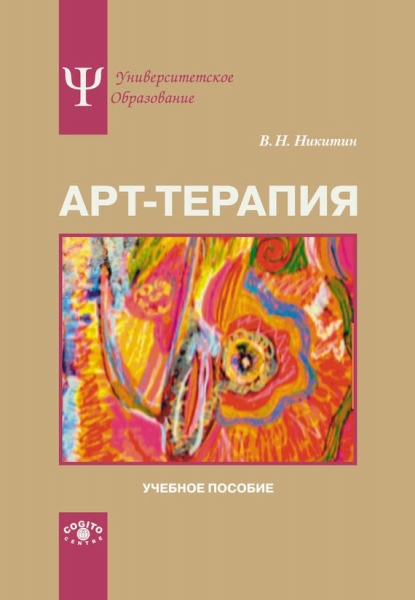
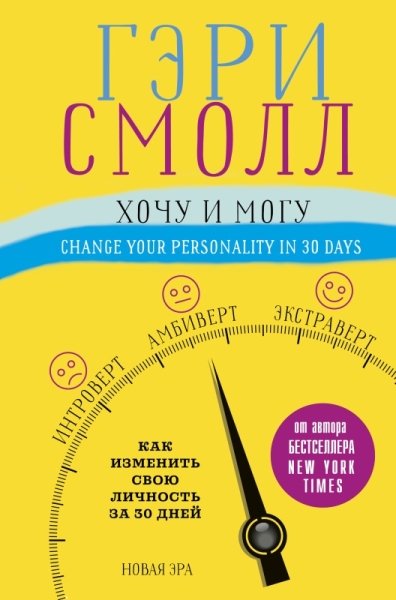


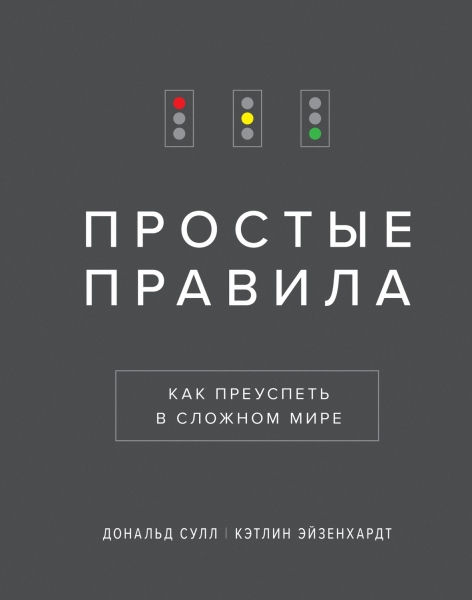
Комментарии к книге «Честно о нечестности. Почему мы лжем всем и особенно себе», Дэн Ариели
Всего 0 комментариев