О некоторых сюжетных источниках «Капитанской дочки»
Александр Осповат
Москва — Лос-Анджелес
На интересующую нас тему Пушкин высказался дважды. 25 октября 1836 г., отвечая на запрос П. А. Корсакова, цензурировавшего «Капитанскую дочку» (КД) для проектировавшегося отдельного издания, он сообщал:
ОсповатРоман мой основан на предании<,> некогда слышанном мною, будто бы один из офицеров, изменивших своему долгу и перешедших в шайки Пугачевские<,> был помилован императрицей по просьбе престарелого отца, кинувшегося ей в ноги. Роман, как видите, далеко ушел от истины[1].
Как уже давно установлено, в письме Корсакову содержится весьма осторожный (если не сказать — закамуфлированный) намек на «анекдот о разрубл<енной> щеке», конспективная запись которого сохранилась в черновике «Замечаний о бунте». Его главные фигуранты — известные буяны елизаветинской эпохи Алексей Орлов и разрубивший ему щеку в трактирной драке Александр Шванвич; когда переворот 1762 г. возвел первого на вершину власти, второй «почитал себя погибшим», однако граф Орлов обошелся с ним по-приятельски, а позднее даже «выпросил» у Екатерины II «смягчение приговора» Шванвичу-сыну, «по малодушию» примкнувшему к Пугачеву (IX: 479—480)[2]. Аналогичная развязка предусматривалась в заключительных пунктах второго и третьего набросков плана КД (1832—1833)[3]:
<…> Шв<анвич> привозит сына в П<етер>Б<ург>. Ор<лов> выпрашивает его прощение (Там же).
К лету или осени 1836 г. относится набросок недописанного предисловия к КД:
Анекдот<,> служащий основанием повести<,> нами издаваемой, известен в Оренбургском краю.
Читателю легко будет распозна<ть> нить истинного происшествия, проведенную сквозь вымыслы романические. А для нас это было бы излишним трудом. Мы решились написать сие предисловие с совсем другим намерением.
Несколько лет назад тому назад в одном из наших Альманахов напечатан был (VIII: 928; последняя фраза не закончена и зачеркнута).
Дискуссия по поводу этого фрагмента ведется до сих пор. Согласно точке зрения, закрепленной авторитетом Ю. Г. Оксмана, речь здесь идет о разных формах бытования одного и того же источника, путь к реконструкции которого подсказан в оборванном указании на альманашную публикацию оренбургского «анекдота». Начиная с 1930‑х гг. его содержание восстанавливается по сопоставлению с новеллой А. П. Крюкова «Рассказ моей бабушки», увидевшей свет в Невском альманахе на 1832 год (С.‑Петербург, 1832; подпись: А. К.).
Представление о тематическом единстве пушкинского наброска было оспорено рядом исследователей. На их взгляд, этот фрагмент распадается на две части (границей служит концовка второго абзаца: Мы решились написать сие предисловие с совсем иным намерением), развернутые в стороны разных источников — устного, т. е. оренбургского «анекдота», и письменного, т. е. «Рассказа моей бабушки». В рамках такого подхода выдвинуты две гипотезы относительно содержания искомого «анекдота»: Петер Бранг склонен соотнести его с историей о молодом Шванвиче[5], а Ю. Д. Левин[6] усматривает ключ для расшифровки в повести французского литератора Лекуэнта Делаво (Lecointe de Laveau), одновременно появившейся в оригинале и в русском переводе: Dmitri et Nadejda, ou le Chateau d’Oural (Moscou, 1808); Дмитрий и Надежда, или Замок на берегу Урала (Москва, 1808).
Констатируя наличие мотивной переклички между этой повестью и КД (ср.: «Что, ваше благородие?» — сказал смеясь Пугачев. <… > Как думаешь, не послать ли за попом, да не заставить ли его обвенчать племянницу? Пожалуй, я буду посаженным отцом… — VIII: 356), Ю. Д. Левин не ограничился предположением о знакомстве Пушкина с произведением Лекуэнта Делаво. По мнению исследователя, близость предисловных формул, использованных в пушкинском наброске и в переводе «Дмитрия и Надежды» («Сей роман основан на анекдоте, и, соединя в нем вымысел с истинною Историею, цель моя была сделать его занимательнейшим»[7]), свидетельствует о том, что оба автора опирались на «один и тот же» устный источник. Это — распространенный оренбургский анекдот «о Пугачеве и молодых влюбленных», который «Пушкин несомненно слышал <…> когда собирал материалы для своей „Истории Пугачева“»[8].
В пользу предложенного чтения говорит тот факт, что повесть Лекуэнта Делаво, обратившая на себя внимание Ю. Д. Левина, есть не что иное, как перелицовка назидательного рассказа («анекдота») из русской жизни, принадлежащего перу Бакуляра д’Арно (Baculard d’Arnaud) — писателя, имевшего довольно широкую аудиторию в последнюю треть XVIII в., но вошедшего в историю литературы прежде всего благодаря своей феноменальной плодовитости[9]. Текст, который мы имеем в виду, был опубликован в 1785 г., в составе очередного тома одного из его многочисленных авторских сборников, под заголовком «Великодушный поселянин» («Le paysan généreux»).
В плане изучения генезиса КД «Великодушный поселянин» представляет гораздо больший интерес, нежели «Дмитрий и Надежда». Во-первых, у Бакуляра д’Арно функции устроителя брака влюбленной пары распределены между Пугачевым и Екатериной II (издававший свою повесть в России, Лекуэнт Делаво, сообразуясь, по-видимому, с литературным этикетом и применяясь к цензурной практике, не вывел императрицу в числе действующих лиц, делегировав ее полномочия «правительству», фигурирующему, впрочем за сценой). Во-вторых, la jeune Prescavia — в отличие от Надежды — сирота, лишившаяся отца (и братьев) при захвате мятежниками родового имения. Наконец, героиня французского «анекдота» сама, без поддержки окружающих, проделывает путешествие в резиденцию Екатерины II, где апеллирует к высочайшей милости.
Этот последний мотив позволяет увидеть в Прескавье литературный прототип т. н. Параши-Сибирячки — «неустрашимой русской путешественницы» Прасковьи Луполовой (Лупаловой), история которой, расцвеченная в преданиях и беллетристических переложениях, снискала исключительную популярность в первой трети XIX в.[11]
Фактическая основа этой истории такова. У офицера Григория Луполова, в 1798 г. разжалованного за некое преступление (казнокрадство?) и сосланного в Ишимскую округу (Тобольская губерния), — есть дочь Прасковья («девушка так себе, очень недурна лицом, честная и рукодельница»). Она просит родителей отпустить ее в Петербург, чтобы исходатайствовать отцу прощение. После долгих уговоров двадцатилетняя Прасковья пускается в путь «с одним рублем, с образом Божией Матери и с родительским благословением»; преодолев долгий и опасный путь, она достигает цели 5 августа 1804 г. В столице Прасковья находит благотворителей; ее прошение попадает в руки Александру I, который изрекает виновному помилование (27 декабря 1804 г.), а его дочери жалует 2000 рублей (12 апреля 1805 г.). Вскоре после того, во исполнение ранее принесенного обета, Прасковья удаляется в Десятинский девичий монастырь; там она и умирает в 1809 г.[12]
В 1815 году вышла повесть Ксавье де Местра «La jeune Sibérienne» (1815; в позднейших русских переводах — «Молодая сибирячка»), начинающаяся с упрека в адрес предшественницы, которая окрасила подлинную историю в романтические цвета. Его героиня — Прасковья Луполова (Prascovie Lopouloff), напротив того, описана по житийным образцам: мысль просить о помиловании отца, малороссийского дворянина (родившегося в Венгрии), храбро воевавшего с турками и по неизвестным причинам сосланного в Тобольскую губернию, озаряет ее во время молитвы, и на всем долгом пути она руководилась горячим, доходящим до аффекта религиозным чувством. Покровительство столичных филантропов открывает Прасковье доступ в кабинет императрицы-матери (Марии Федоровны), куда она является в своей обычной одежде и не интересуясь принятым в этой ситуации этикетом[16]. Ободрив просительницу, императрица-мать вскоре приводит ее в покои царствующей четы; Александр I дарит девушке 5000 рублей и велит пересмотреть приговор, вынесенный ее отцу. После того, как помилование было получено, Прасковья, приняв пострижение в Киеве, отправилась в нижегородский монастырь.
Даже этот беглый обзор позволяет детализировать давнее наблюдение Л. И. Поливанова о сходстве «известного рассказа» о Параше-Сибирячке и заключительных сцен КД, варьирующееся в работах современных авторов[18]. В повести де Местра (и сочинении Сергея Глинки) заслуживает внимания появление на сцене фигуры императрицы-матери, на встречу с которой героиня «Юной сибирячки» идет в своем обиходном платье (ср.: — И как же вам ехать в дорожном платье? <…> Камер-лакей объявил, что государыне угодно было, чтоб Марья Ивановна ехала одна, и в том, в чем ее застанут — VIII: 373); в романе Коттен — политический характер преступления, совершенного отцом Елизаветы, а также то обстоятельство, что, направляясь в Петербург, она случайно попадает именно в то место, где находится монарх (ср.: Марья Ивановна благополучно прибыла в Софию и, узнав, что Двор находился в то время в Царском Селе, решилась тут остановиться — VIII: 371). Сама же царскосельская тема КД отзывается новому сюжетному повороту в ‘Парашином тексте’, получившему развитие в ряде историй о хожениях ко Двору, предпринятых в Александровскую эпоху по примеру реальной или книжной Сибирячки[19].
В середине 1810‑х гг. некий крестьянин, явившийся «в бедном рубище» из Оренбурга для того, чтобы подать прошение вдовствующей императрице Марии Федоровне, «услышал слово благости из священных уст ее»; Федор Глинка, описавший этот эпизод со ссылкой на аналогичный прием, оказанный императрицею «известной добродетельной девице Лупаловой», включил его в главу о Павловске, резиденции Марии Федоровны: возвращаясь с прогулки, она застает «у крыльца палат людей, которые пришли или взглянуть на государыню, или поклониться, или повергнуть к стопам ее челобитные свои»; «<в> будни вход всякому открыт: тут не по платью встречают»[20].
Вместе с братом она отправилась в Царское Село, «любимое местопребывание императора Александра Павловича. <…> Мы слышали, что государю подают просьбу в саду во время прогулки его по тем аллеям, которые и зимою очищались как летом. К нам подходили разные господа, вероятно, полицейские чиновники, и спрашивали, не хотим ли мы подать просьбу государю, и советовали не делать этого, потому что государю это всегда бывает неприятно. <…> Мы так долго ходили, что я начала уже терять надежду на счастливую встречу…» Наконец, они увидели «стройный, почти юношеский стан и прекрасное, полное приветливости лицо государя» (несмотря на то, что «было очень холодно, более 15 градусов», он гулял «без шинели, в одном гвардейском мундире»). Император «не допустил» Ишимову упасть на колени, выслушал ее и сказал: «А! Я не могу принять Вашей просьбы здесь, потому что если я приму у Вас, то мне надобно будет принять у 500. Но вот тут близко есть почтовая контора в Софии, отдайте эту просьбу там, и я получу ее». Когда на следующий день брат Ишимовой отнес пакет в софийскую контору, выяснилось, что император уже трижды посылал за ним. «Через несколько времени объявлено было, что отцу моему вместо Соловецкого монастыря дозволяется жить в городе Архангельске»[23].
В основных своих чертах ‘Парашин текст’ сложился как раз к моменту появления другой (и сразу ставшей чрезвычайно популярной) вариации архетипического сюжета ‘Путешествие к властелину за правдой/милостью’. Это — роман Вальтер Скотта «Эдинбургская темница» («The Heart of Mid-Lothian», 1818; французский перевод, озаглавленный «La prison d’Edimbourg», — 1821; русский перевод с французского — 1825).
Действие происходит в 1730—1740‑х гг. Ради спасения своей сестры, не без оснований осужденной на смертную казнь, Джини Динз, молодая шотландская провинциалка, добирается до Лондона; получив неформальную аудиенцию у жены Георга II, королевы Каролины (благодаря хлопотам герцога Аргайла и в его присутствии), она силой простосердечного красноречия склоняет собеседницу на свою сторону.
Близость сценарных схем «Эдинбургской темницы» и КД[25] проявляется во множестве перекличек на разных уровнях — мотивном (в Лондоне Джини Динз останавливается у своей заботливой родственницы, которая, однако, узнает о затеянной интриге post factum), предметно-топографическом (не сменившая, по рекомендации Аргайла, свою обычную одежду, Джини едет с ним в Ричмонд-парк, любимую резиденцию королевы) и текстуальном, причем вплоть до буквального цитирования: «Our business is, I think, ended for the present <…>, said the Queen»[26]; Государыня <…> сказала с улыбкою: <…> Дело ваше кончено (VIII: 273). Еще одна параллель вальтер-скоттовского романа и КД попала в поле зрения совсем недавно.
В этом фрагменте находят «интертекстуальное подтверждение»[30] дразнящей гипотезе М. С. Альтмана о том, что Марья Ивановна, внимательно выслушав подробные рассказы Анны Власьевны о распорядке дня Екатерины II, заранее наметила свой маршрут и, появившись ранним утром около памятника в честь побед П. А. Румянцева с уже заготовленным прошением, сразу догадалась, кто была дама, сидевшая на скамейке[31].
Сопоставление соответствующих фрагментов приводит нас к иному выводу. Как кажется, именно отсутствие у Джини Динз абсолютной уверенности в том, что она беседует с королевой, мобилизует ее импровизационные ресурсы — речь девушки, чередующая обращения «Madam» и «my Leddy», уснащается целым набором риторических приемов, более уместных в проповеди, нежели в мольбе, обращенной непосредственно к монарху или его супруге. (Не случайно первая реакция королевы касается не сути поступившей просьбы, а ее оформления: «This is a eloquence»[32].) Аналогичным образом рисуется и линия Марьи Ивановны: предупрежденная рассказами Анны Власьевны, она надеется увидеть императрицу на скамейке у памятника Румянцеву; в общении же с дамой в белом утреннем платье возникает эффект неполной идентификации, который в решающий момент выведен на поверхность текста:
— Ах, неправда! — вскрикнула Марья Ивановна.
— Как неправда! — возразила дама, вся вспыхнув (VIII: 372).
Примечания
Пушкин. Полное собрание сочинений (Москва-Ленинград: Издательство АН СССР, 1949), т. XVI, стр. 177—178. Далее все ссылки на это издание (Т. I—XVI; Л., 1937—1949) даются в скобках после цитаты (римскими цифрами обозначается том, арабскими — страница).
Как установил Р. В. Овчинников («Записи Пушкина о Шванвичах», Пушкин. Исследования и материалы. Том XIV (Ленинград, 1991), стр. 240—245), из всех сюжетных звеньев этого «анекдота» фактическую основу имеет лишь пьяная драка «лейб-кампанца» Александра Шванвича и сержанта Семеновского полка Алексея Орлова. В ходе же следствия и суда по делу Пугачева никто не хлопотал перед императрицей в пользу Михаила Шванвича (приговор, вынесенный ему московской Комиссией, был утвержден без изменений), а граф А. Г. Орлов вообще не имел такой возможности, поскольку в конце 1774 — начале 1775 г. охотился за самозванной княжной Таракановой в Италии.
Последовательность планов уточнена в статье: Н. Н. Петрунина, «К творческой истории „Капитанской дочки“», Русская литература, 1970, №2, стр. 79—82.
P. Brang. Op. cit., S. 18—19.
См.: Ю. Д. Левин, «Неизвестная параллель к „Капитанской дочке“ Пушкина», Россия, Запад, Восток. Встречные течения К 100-летию со дня рождения академика М. П. Алексеева (С.‑Петербург. Наука, 1996), стр. 326—331.
Дмитрий и Надежда, или Замок на берегу Урала. Российская новость, соч. Г. Делаво. Пер. с франц. (Москва, 1808), ч. 1, стр. IV.
Ю. Д. Левин. Указ. соч., стр. 330—331.
Даже в тщательно составленном библиографическом указателе трудов Бакуляра д’Арно, приложенном к двухтомной монографии об этом писателе, не нашлось возможности учесть все прозаические публикации, так что некоторые авторские сборники (в том числе и цитируемый ниже) описаны здесь только по их титульному заголовку — R. L. Dawson. Baculard d’Arnaud: Life and Prose Fiction (Studies on Voltaire and Eighteenth Century. Vol. 142) (Banbury, Oxfordshire : Voltaire Foundation, 1976). II, р. 672.
<F. T. Baculard d’Arnaud,> Délassements de l’homme sensible, ou anecdotes diverses. Tome cinquieme, Dixieme partie (<Paris, 1785>), p. 318—333.
Связь двух этих сюжетных линий отметил Ю. В. Готье в примечании к публикации послания Блен де Сенмора великой княгине Марии Федоровне от 20 августа 1785 г., где пересказывается «анекдот» Бакуляра д’Арно. См.: Литературное наследство. Том 29/30 (Москва, 1937), стр. 236, 238, 256.
См.: Д. Бантыш-Каменский. Словарь достопамятных людей Русской земли <…>. В пяти частях (Москва, 1836), ч. III, стр. 222—224; Ив. Вологдин, «Параша-Сибирячка», Русская Старина, 1873, №5, стр. 727.
Ряд первых публикаций на эту тему перечислен в статье: Е. С. Ивашина, «„Путешествие“ как жанр русской литературы конца XVIII — первой трети XIX века (к специфике изучения)», Культурологические аспекты теории и истории русской литературы (Москва, 1978), стр. 55, примеч. 14.
Прозрачная аллюзия Potowsky — Potocky эксплицирована в примечании к посмертной публикации повести: Œuvres complètes de M‑me Cottin (Paris, 1823), t. IX, p. 184.
Ibid., p. 166—167.
Xavier de Maistre. Nouvelles (Genève: Slatkine, 1984), p. 216.
См.: А. С. Пушкин. Сочинения. С объяснениями их и сводом отзывов критики. Издание Л. Поливанова для семьи и школы (Москва, 1887), т. IV, стр. 240; Т. П. Савченкова, «Судьба Параши Луполовой в историко-культурном контексте пушкинской эпохи», Гуманитарные исследования. Ежегодник (Омск, 1998), вып. III, ч. I, стр. 91—98; М. А. Тахо-Годи, «„Капитанская дочка“ Пушкина и „Молодая сибирячка“ Ксавье де Местра», Дарьял №4 (2004). Электронная версия: -online.ru/2004_4/taho-god.shtml).
Это явление, весьма любопытное в целом ряде отношений, никогда не подлежало обследованию. Сколько нам известно, первой из тех, кого вдохновил прецедент, созданный Прасковьей Луполовой, была ее тезка — «девица Прасковья Савченкова». В конце 1808 или начале 1809 г. она явилась «пешком из Сибири» в Петербург «для исходатайствования свободы отцу ее»; «в знак благоволения к сему ее подвигу» император повел возвратить «оного Савченка на прежнее жительство» (Князь А. В. Лобанов-Ростовский, «Повеления Александра I — князю Алексею Борисовичу Куракину», Русская Старина, 1877, №12, стр. 672.
Федор Глинка. Письма к Другу, содержащие в себе: Замечания, мысли и рассуждения о разных предметах <…> (С.‑Петербург, 1816), ч. I, стр. 111—113. Указав на этот текст, М. В. Строганов («Из комментариев к „Евгению Онегину“ и „Капитанской дочке“», А. С. Пушкин и русская литература (Калинин, 1983), стр. 129—130) поспешил объявить его основным источником пушкинских сведений о Прасковье Лупаловой.
П. Сумароков. Обозрения царствования и свойств Екатерины Великия (С.‑Петербург, 1832), ч. II, стр. 84—85.
См., напр., в мемуарах Софи Шуазель-Гуфье (Державный Сфинкс. Евграф Комаровский; Роксандра Эдлинг; София Шуазель-Гуфье; Петр Вяземский (Москва, 1999), стр. 362—363, 366) и в воспоминаниях лекаря Александра I Д. К. Тарасова (Русская Старина, 1871, №12, стр. 637—638).
Параллель рассказа Ишимовой и соответствующего фрагмента из главы XIV КД дополнительно подсвечена мотивом почтового двора в Софии.
«The two scenes have too much in common to leave it in doubt that the Scott episode was Pushkin’s model in unusually deliberate and immediate way» — D. Davie. The Heyday of Sir Waller Scott (London: Routledge & Paul, 1961), p. 14. Впервые эта параллель была отмечена еще в 1875 г. в рецензии на английский перевод КД. См.: P. Debreczeny. Op. cit., р. 331, note 35.
The Waverley Novels by Sir Walter Scott (New York, 1875). Vol. 12, p. 218—219.
Ibid., p. 195—196.
Ibid., p. 200.
Ibid., p. 221. Курсив в подлиннике.
А. К. Жолковский, «Очные ставки с властителем: Из истории одной „пушкинской“ парадигмы», Пушкинская конференция в Стэнфорде (1999). Материалы и исследования (Москва: О. Г. И., 2001), стр. 379.
См.: М. С. Альтман, «Читая Пушкина», Поэтика и стилистика русской литературы. Памяти академика Виктора Владимировича Виноградова (Ленинград: Наука, 1971), стр. 117—118.
The Waverley Novels by Sir Walter Scott. Vol. 12, p. 218.


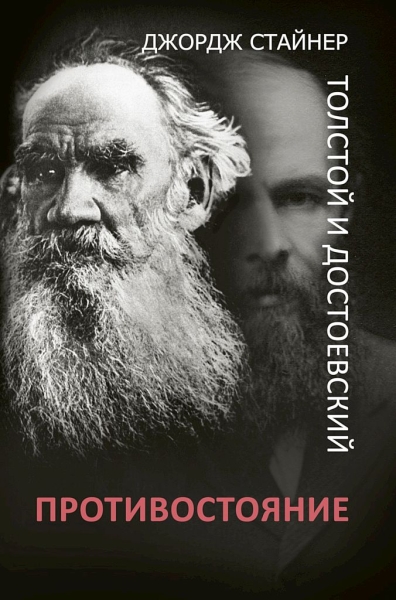


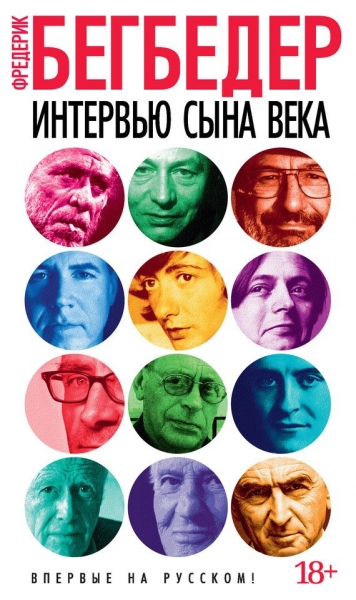
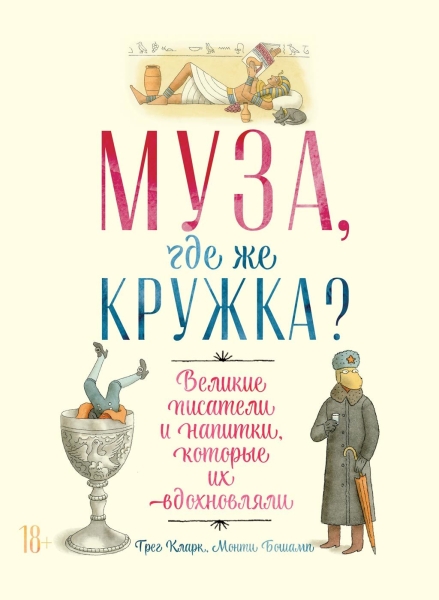
Комментарии к книге «О некоторых сюжетных источниках «Капитанской дочки»», Александр Львович Осповат
Всего 0 комментариев