Линн Гарафола Русский балет Дягилева
Елизавете Яковлевне Суриц посвящаю
Lynn Garafola
DIAGHILEV’S BALLETS RUSSES
Перевод с английского Марины Ивониной и Олега Левенкова
На обложке: Афиша, созданная французским художником-графиком Б. Виллемо (1911–1989) к выставке «Дягилев: Русский балет», проходившей в Национальной библиотеке Франции с 17 мая по 29 июля 1979 года.
© Бернар Виллемо, УПРАВИС, 2021
© 1989 by Lynn Garafola
© Ивонина М. Ю., перевод на русский язык, 2021
© Левенков О. Р., наследники, перевод на русский язык, 2021
© Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2021
Предисловие к русскому изданию
Возможность представить читателю русское издание моей книги «Русский балет Дягилева» – большая честь для меня. В 2009 году весь балетный мир отмечал столетие первых выступлений прославленной дягилевской труппы. Концерты, выставки, симпозиумы и спектакли отдавали дань искусству, которое Дягилев воплотил в жизнь, и открытым им талантам. Пусть из балетов, созданных его труппой, ныне продолжают исполняться не более дюжины, дягилевское наследие остается жизнеспособным. Несмотря на то что остальные постановки канули в Лету, разделив судьбу, которой удалось избежать лишь малому числу балетов, идеи, лежащие в их основе, остаются актуальными и художественно плодотворными.
Эти идеи составляли кредо Дягилева – хотя сам он вряд ли использовал бы это слово. Он нес их с собой из Петербурга в Париж, из одной гастрольной поездки в другую; они диктовали его выбор, был ли он юным денди, зачинателем «Мира искусства», или солидным барином, проницательным руководителем Русского балета. С самого начала он верил в то, что высокое искусство обладает силой, достигающей глубины души и способной передать индивидуальные чувства артиста зрителям. С ранних лет он был исключительным энтузиастом, чья любознательность не знала границ. Его жизнь можно представить себе как постоянный поиск, в котором процесс создания искусства занимал, наверное, более важное место, чем художественный результат. Он верил, что искусство – многогранный феномен, оно может принимать бесчисленные формы и звучать разными голосами, – возможно, именно поэтому его хореографы так сильно отличались друг от друга, а приглашенные им художники и композиторы представляли столь разные течения модернизма. Он верил в мастерство, в изысканность и доверял своему вкусу, определяя эстетику каждой стороны Русского балета, какой бы незначительной внешне она ни была. Он жил ради искусства и сделал искусство образом жизни. Притом что форма искусства, которой он посвятил последние двадцать лет своей жизни, была предельно эфемерна, он всегда относился к ней как к делу высшей степени серьезности и необходимости – и этот урок мы должны помнить.
Дягилев был глубоко русским человеком. Его родословная уходит корнями в Центральную Россию, в Пермь и Бикбарду, где находилось летнее имение его семейства. Он вырос на просторах России, в окружении ее лесов, ее народного искусства и обычаев, в эпоху упадка российского дворянства, чьи исчезающие богатства он прославил на грандиозной выставке портретов 1905 года. «Единственный возможный национализм, – писал он в “Основах художественной оценки”, своем раннем эссе, опубликованном в “Мире искусства”, – это бессознательный национализм крови»[1]. И начиная с самого названия – «Русский балет» – созданная Дягилевым труппа была, по крайней мере отчасти, осознанно национальным проектом, пусть даже быстро утратила всякую связь с российским правительством и никогда не выступала в России. Действительно, именно Русский балет и его постановки изменили повсеместно распространенное восприятие балета как французского или итальянского искусства, представив его как искусство преимущественно русское. В годы перед Первой мировой войной никто не прилагал столько усилий к тому, чтобы привлечь зрителя к русскому искусству, как Дягилев. Он познакомил Запад с несколькими русскими операми, начиная с «Бориса Годунова» (который в его антрепризе был поставлен дважды), и обратился к музыке Римского-Корсакова при постановке балетов. Он также явил миру шедевры Стравинского, ставшего его открытием и «первым сыном», в которых Россия предстала в разнообразных обличьях – народной сказки, старинной уличной ярмарки, жестокого скифского обряда. Во время Первой мировой войны он инициировал постановку неопримитивистских балетов с оформлением Натальи Гончаровой и Михаила Ларионова, которые ослепляли публику яркими красками и стилизованными картинами русской народной жизни, прекрасно сочетавшимися с музыкой Римского-Корсакова и Лядова.
После войны путь Дягилева, как и Стравинского, лежал в стороне от России. Но даже в эти годы, когда новый репертуар труппы, казалось, всецело принадлежал Западу, Россия время от времени возникала в нем – приходя чаще всего через воспоминания. Говоря о «Женских хитростях» Чимарозы, которые Дягилев поставил в 1920 году как оперу-балет, он приписывал происхождение этой постановки временам пребывания композитора в России в начале 1790-х. «История увенчивается свадьбой, – объяснял он в интервью лондонскому “Обзерверу”, – и когда дело доходит до женитьбы, то последняя строчка либретто гласит: “А теперь у нас будет русский балет”». Так среди мелодий итальянской оперы появилась «Камаринская», под которую обычно танцевали на русских крестьянских свадьбах[2]. Россия скрыто присутствовала в балете «Зефир и Флора» (1925), современном прочтении античного мифа на музыку «третьего сына» Дягилева Владимира Дукельского, молодого эмигранта, который под псевдонимом Вернон Дюк позже сделал успешную карьеру на Бродвее. Композитор так вспоминал об истоках балета в своих мемуарах «Паспорт в Париж»: «Дягилев сказал мне, что хочет иметь балет, где классика сочеталась бы с русскими мотивами – как он выразился, балетные пачки – с кокошниками. Сергей Павлович… обожал… русскую “классическую” живопись… и особенно крестьянок Венецианова… – их одежду, которая представляла собой нарядное смешение крестьянских головных уборов с представлением русских помещиков об античных одеяниях. У этих помещиков были свои театры… и их излюбленным занятием было наблюдать на сцене своих новых фавориток – Дуняш и Параш, – которые, помимо своего простонародного очарования, приобретали божественные черты Флоры или Психеи»[3]. «Ода» (1928) также была попыткой передать современный взгляд на русское прошлое. Источником вдохновения для этой постановки была ода Ломоносова на восшествие на престол императрицы Елизаветы. В балете киноэффекты и неоновое освещение использовались для изображения упомянутого в оде северного сияния. (По словам композитора этого балета Николая Набокова, двоюродного брата известного писателя, ходили слухи, что Дягилев был «праправнуком одного из внебрачных детей императрицы»[4].) Не было постановки более русской, чем «Свадебка» Стравинского (1923), как утверждал Дягилев, защищая балет от нападок лондонской прессы. «Можно сказать, что “Свадебка” – это неосуществленная мечта Мусоргского. Я уверен, что никакая другая постановка не представляет Россию более полно. Наконец, я сам русский и знаю, что говорю; и возможно, недаром этот балет был посвящен мне». В «Свадебке» была заключена та «человеческая красота», которая «объединяла “Бориса Годунова” с поэзией Шекспира»[5].
Притом что Дягилев был глубоко русским, он являлся величайшим космополитом. В эссе для «Мира искусства», которые он писал в двадцатилетнем возрасте, уже заметен масштаб его мыслей, легко пересекавших границы стран и веков. Еще до 1917 года он стал экспатриантом, который лишь изредка бывал в России, гражданином мира. Он побывал на трех континентах (хотя ненавидел морские путешествия), а домом ему служила бесконечная вереница гостиничных номеров. Его вторым языком был французский, но, если верить Вернону Дюку, он неплохо говорил и по-английски, хотя часто предпочитал притвориться, будто не понимает его. Дягилев обладал энциклопедическими познаниями в музыке и гордился своим знакомством с новыми композиторами и новыми произведениями повсюду, где ему приходилось бывать. Он обожал Италию и питал любовь к Испании, передавая свои чувства через балеты, являвшиеся подлинными вехами его биографии.
Дягилев не любил Соединенные Штаты, но его занимала – и не раз – идея создания американского балета, о чем наиболее ярко свидетельствует его интервью в «Бостон сандей пост». Это было в 1916 году, когда слово «революция» еще не вызывало в воображении картин политического мятежа и насильственной смены режима. «В те дни мы все были революционерами, – говорил он музыкальному критику Олину Доунзу, – когда боролись за дело русского искусства, а сам я лишь чудом избежал того, чтобы участвовать в революции иным способом, чем с помощью живописи и музыки… Мы начали с того, что поставили под вопрос и ниспровергали каждое устоявшееся явление… и мы нашли свою публику» – вот в чем состоял его совет американцам. «Дорогой господин, в Америке полно искусства – зрелого и своеобразного. Единственная проблема – в том, что Америка его не знает… Они пытаются подражать Европе точно так же, как мы в России столько лет упорно копировали ее». Как и все прочие, кто приезжал в Нью-Йорк, Дягилев восхищался жизнью и «бесконечным многообразием красоты» ночного Бродвея[6].
Несмотря на сложное отношение Дягилева к революции, которая сломала жизни и карьеры столь многих дорогих ему людей, он не отказался от идеи художественных преобразований и не стал отождествлять достижения советского искусства с политическим триумфом большевизма. Он по-прежнему оставался бесконечно открытым новому, и в его репертуаре можно обнаружить продолжающуюся связь как с советскими, так и с эмигрировавшими деятелями искусства, порой даже в течение одного сезона. Откуда бы ни происходили идеи, лежащие в основе постановок, больше всего он ценил в них постоянное стремление к эксперименту. Именно это вывело его на путь поиска, который вызвал столько потрясений в узком кругу его художников и придал ему способность преображаться, подобно фениксу, всякий раз после того, как он извлекал лучшее из очередного хореографического периода. Английские критики, такие как первый биограф Дягилева Арнольд Хаскелл, сокрушались по поводу его тяги к экспериментам, обвиняя его в 1920-е годы в «лихорадочной погоне за новизной» и в безнадежных попытках сохранить «контакт с молодым поколением и новыми идеями»[7]. Тем не менее в эстетическом подходе Дягилева видна определенная последовательность, которая опровергает его обвинения в художественном оппортунизме, даже если он временами и был ему свойствен, как это было в случае, когда он заменил оформление для постановки «Ромео и Джульетты» 1926 года, выполненное Кристофером Вудом, на сюрреалистическую живопись Макса Эрнста и Миро – притом что только друзья английского художника могли поставить под сомнение мудрость дягилевского решения. Он был уверен, что искусство в своей основе субъективно и что значение искусства кроется в созвучии взглядов художника и зрителя. Он изложил эту теорию в «Мире искусства», в эссе «Основы художественной оценки», и никогда не отступался от нее. В его защиту свидетельствует то, что тридцатью годами позже молодая англичанка, посетившая лондонскую премьеру «Свадебки», сказала ему, что «хотя она не совсем поняла спектакль, она почувствовала что-то такое, чего не испытывала никогда в жизни»[8].
В том же эссе в Дягилеве проявился и «революционер», который отождествлял свое поколение с теми, «которые бесстрашно боролись против принятых в их время взглядов»[9]. Он придерживался этой позиции нонконформизма до конца жизни. И действительно, последнее из опубликованных им заявлений – письмо редактору «Таймс», вышедшее лишь за месяц до его смерти, – содержало проникновенную защиту недавней премьеры «Блудного сына» Баланчина (1929), обвиненной лондонскими критиками в излишнем атлетизме. «В пластических исканиях Баланчина, – утверждал он, – гораздо менее акробатики, чем в последнем “па-де-де” в “Свадьбе Авроры”»[10]. Дягилев любил парадоксы и остроумные словесные обороты, которые придавали его кредо экспериментатора легкость эпохи джаза. В 1926 году в статье Беверли Николс в газете «Скетч» приводятся два его высказывания: «Величайшая доблесть артиста – в его неверности» и «Артист заканчивается в тот момент, когда он знает, что будет делать в следующий раз»[11]. Такая антисентиментальность и готовность периодически менять свой художественный облик не устраивала его коллег, которые «отживали» век своей полезности и оказывались отторгнуты Дягилевым, исключены из среды, которая была творческим центром их жизней. Но эта готовность двигаться вперед, невзирая на боль и гнев, которые вызывало у других его поведение, была основой психологической маскировки Дягилева и ключом к его последовательным художественным перевоплощениям. Дягилев никогда не оглядывался назад, но всегда нес свое прошлое с собой. Оно было для него хранилищем воспоминаний, отложенных до дня, когда они подскажут ему идеи замечательных новых работ. Его заставляли двигаться вперед эта перспектива и осознание того, что его «искания, кажущиеся сегодня… опасными, станут необходимыми завтра»[12]. Эта убежденность в необходимости «делать работу», как сказали бы сегодняшние танцовщики, более чем любая из его постановок, является для нас значимым наследием Дягилева, и именно поэтому он остается нашим современником уже спустя век после рождения Русского балета.
От научного редактора
Перевод книги Diaghilev’s Ballets Russes американского исследователя Линн Гарафолы на русский язык стал возможен благодаря ее щедрому разрешению.
В работе над переводом нам с М. Ивониной оказали помощь Елизавета Суриц, Виолетта Майниеце, Олег Брезгин, Александр Ласкин, Карен Хьюитт, Евгения Илюхина, сотрудники Дома С. П. Дягилева – и конечно, на наши многочисленные вопросы отвечала сама автор.
Монография содержит огромное количество названий, которые мы даем в тексте на русском языке с указанием оригинального названия, за исключением тех, которые получили устойчивый перевод в отечественной литературе.
Библиографический список автора приведен без изменений. Процитированные в нашем издании источники, написанные на русском языке или имеющиеся в переводе, указаны в примечаниях. Имена собственные, когда это возможно, приведены в устоявшейся транскрипции.
Предисловие к американскому изданию
История балета XX века не знала труппы, которая оставила бы в ней столь же глубокий и влиятельный след, как Русский балет Дягилева. Он просуществовал всего двадцать лет – с 1909 по 1929 год, – но за эти два десятилетия успел превратить балет в живое, современное искусство. Русский балет создал первые образцы классики XX века: «Шопениана», «Жар-птица», «Петрушка», «Послеполуденный отдых фавна», «Весна священная», «Парад», «Свадебка», «Лани», «Аполлон Мусагет», «Блудный сын», – которые живут на сцене и по сей день. В этой труппе были взлелеяны выдающиеся хореографы XX столетия Михаил Фокин, Вацлав Нижинский, Леонид Мясин, Бронислава Нижинская и Джордж Баланчин, благодаря творчеству которых Русский балет определял развитие хореографии вплоть до 1970-х годов. Русский балет породил самые выдающиеся в XX веке союзы танца с другими видами искусств: содружества с композиторами – такими, как Игорь Стравинский, Клод Дебюсси, Морис Равель, Сергей Прокофьев; и художниками – такими, как Пабло Пикассо, Наталья Гончарова, Андре Дерэн и Анри Матисс. Из танцовщиков, прошедших школу этой труппы, вышли преподаватели и балетмейстеры, продолжившие ее дело в столицах и провинциальных городках многих стран Запада. И сверх того – как будто всего этого было мало! – труппа воспитала несметное число поклонников балета, предшественников его современной массовой аудитории. Не будь Русского балета, история балета XX века сложилась бы совершенно иначе.
Истоки дягилевской труппы лежат в России – на родине ее первых танцовщиков и всех ее хореографов, как, впрочем, и многих композиторов и художников-декораторов. Тем не менее Русский балет никогда не выступал в России, а с 1909 года вообще не имел со своей страной никаких официальных связей. Труппа была детищем Запада, начиная с названия (она и называлась по-французски – Ballets Russes). Париж стал городом ее рождения, Виши – ее угасания, а между ними ей служили домом подмостки трех континентов. Существование в постоянных странствиях глубоко повлияло на труппу и не раз меняло ее облик. Однако даже в «юные годы» ее работы не были похожи на постановки, преобладавшие в российском репертуаре. В петербургском Мариинском театре в то время господствовали балеты Мариуса Петипа – многоактные произведения, такие как «Спящая красавица», «Раймонда», «Баядерка». А в репертуаре Русского балета с момента образования труппы и до 1914 года особое положение занимали одноактные драмы и лирические миниатюры Михаила Фокина – так называемый новый балет, существовавший лишь на периферии официальной танцевальной культуры России.
Таким образом, с самого начала отход от официального балета стал и краеугольным камнем, на котором труппа создала свой неповторимый облик, и ее raison d’être – причиной ее бытия, стоящей за круговертью постоянных преобразований. В репертуаре труппы оставили след многие ипостаси модернизма: символизм, примитивизм, кубизм, футуризм, конструктивизм, неоклассицизм, бесчисленное множество других «измов», сменявших друг друга на творческом горизонте того времени. В течение двадцати лет Русский балет, казалось, был вовлечен в постоянные эксперименты, результатом которых явилось расширение выразительных возможностей балетного театра. Это коснулось всего: сюжета, выбора танцевальной лексики, стиля хореографии, сценического пространства, музыки, оформления сцены, костюмов и даже внешнего вида танцовщиков – на всем отразился поиск новых форм. Идеи, вдохновлявшие эти поиски, часто заимствовались из других видов искусств, не связанных с танцем – живописи, авангардных спектаклей и особенно из «новой драмы», революционизированной такими новаторами сценического мастерства, как режиссеры Константин Станиславский и Всеволод Мейерхольд. Не все из этих экспериментов оказались плодотворными, многие просуществовали не более сезона. Но в целом все они способствовали освобождению балета от бремени XIX столетия.
И тем не менее хореографы Русского балета никогда полностью не порывали с достижениями прошлого. Его наследие почти всегда присутствовало в их творчестве, каким бы новаторским оно ни было. Во все двадцать лет существования труппы основами ее профессионального языка оставались па, комбинации и средства художественного воздействия классического балета. Именно их ежедневно оттачивали артисты в своих танцевальных классах, и именно на них опирались в своем творчестве даже самые радикально настроенные хореографы труппы. Наряду с языком классического танца они заимствовали из прошлого еще одно – идею о том, что источником смысловой наполненности танца является движение. В отличие от многих современников хореографы Русского балета никогда не отвергали самой сути классического танца. Они пытались избавиться лишь от груза условностей, ставших непременной частью классического балета конца XIX века. Подобно многим писателям того времени, стремившимся к выявлению живой литературной традиции, эти хореографы боролись за переосмысление классического наследия, столь необходимого для нового века. Этим самым они подготовили почву для триумфа неоклассицизма середины XX столетия – стиля, впервые появившегося в 1920-е годы.
Но влияние Русского балета ощущалось не единственно в области хореографии. 1920, 1930 и 1940-е годы стали свидетелями рождения многих новых балетных трупп, по большей части позаимствовавших у Русского балета не только вдохновение, но и, по меньшей мере, некоторые черты их облика. Среди них были разнообразные гастролирующие коллективы русского балета, унаследовавшие магическую притягательность и репертуар своего прославленного предшественника и распространившие их по всем частям света. В Англии такими последователями стали Вик-Уэллс Балле (впоследствии Королевский балет Англии), Балле Рамбер и труппа Маркова—Долин – все они основаны ветеранами Русского балета. В США это были Балле Тиэтр (современный Американ Балле Тиэтр), в первые годы существования выступавший главным пропагандистом основных постановок Русского балета, а также Нью-Йорк Сити Балле, чей художественный руководитель Джордж Баланчин был последним собственным хореографом труппы. К этому перечню можно добавить еще несколько трупп, существование которых оказалось не столь продолжительным: Театр танца Брониславы Нижинской, труппа Иды Рубинштейн, Балле Интим Адольфа Больма, а также такие известные коллективы, как Парижская опера и Театр Колон в Буэнос-Айресе, которые с появлением в них выходцев из Русского балета получили новый творческий импульс. То, что сегодня искусство балета процветает и развивается во всех уголках земного шара, – во многом заслуга Русского балета.
На протяжении всего своего существования эта труппа была центром притяжения ярких, талантливых, исключительных личностей. Но одна фигура возвышалась над всеми остальными – Сергей Дягилев, выдающийся импресарио, руководивший Русским балетом с первых дней его возникновения до самой своей смерти в 1929 году, с которой прекратила существование и труппа. Это был человек железной воли и чрезвычайно тонкого вкуса, обладавший энциклопедическими знаниями и страстной любознательностью, – своеобразный Наполеон от искусств – и вместе с этим личность масштабов эпохи Возрождения. Он родился в России в 1872 году и уже к тридцати годам достиг известности. Его часто называли дилетантом – и действительно, в молодые годы он пробовал себя во многих сферах деятельности. Но при всем этом его первые начинания были уже не чем иным, как шагами к возрождению русского искусства, и стали ему прекрасной школой, пригодившейся в будущем.
Отец Дягилева, кадровый военный, видел будущее сына на поприще гражданской службы. Но у самого Дягилева были другие планы, хотя он, следуя воле отца, изучал юриспруденцию в Санкт-Петербурге. Он записался в консерваторию, намереваясь стать композитором. Однако оказалось, что он не настолько одарен, чтобы это намерение могло осуществиться, и Дягилев отказался от этой мысли, даже не предполагая, какое значение для успеха его будущей карьеры будет иметь опыт ученичества в консерватории. С середины 1890-х годов его интересы сосредоточились главным образом на сфере изобразительных искусств. Он занимался критикой и коллекционированием, организовав при этом первую из целой серии выставок, бросавших вызов всеобщему – свойственному времени – увлечению реализмом. Но самым выдающимся его предприятием стал петербургский журнал, который он основал в 1898 году и издавал до конца его существования в 1904 году.
Для России журнал «Мир искусства» был тем же самым, что «Желтая книга»[13] для Англии – глотком свежего воздуха в застойной атмосфере искусства того времени. Главным критерием для «Мира искусства» являлась красота, что принималось в штыки российскими критиками. Журнал поддерживал художников, чье творчество бросало вызов методам и целям главенствующей школы реалистической живописи. С самого начала «Мир искусства» был ориентирован на Запад, в нем публиковались материалы и иллюстрации, которые знакомили русскую общественность с художниками, работавшими в манере символизма и постимпрессионизма. Интересы журнала были чрезвычайно разносторонними. Хотя в первую очередь он был посвящен современному искусству, на его страницах большое внимание уделялось искусству России прошлых веков, и этот интерес к прошлому достиг своей вершины в 1905 году, когда Дягилев организовал грандиозную выставку портретов XVIII века, оказавшуюся его последним крупным проектом в России. Журнал занимался и литературной деятельностью, при этом основное внимание точно так же уделялось всему новому: в нем публиковались произведения известных писателей-символистов и статьи, содержавшие резкую критику казенных художественных заведений страны. К началу 1900-х годов «Мир искусства» был центром обширного движения, способствовавшего переменам практически во всех сферах искусства.
Хотя движущей силой «Мира искусства» был Дягилев, журнал был коллективным творением. Вместе с Дягилевым работали его старые друзья, включая тех, кто впоследствии вошел в состав художественного «ядра» Русского балета. Особое положение среди них занимали художники Александр Бенуа и Лев Бакст, нашедшие свое истинное призвание в качестве театральных художников и положившие начало неповторимому стилю труппы в таких постановках, как «Клеопатра», «Шопениана», «Шехеразада» и «Петрушка». Их дружба с Дягилевым зародилась в начале 1890-х годов и за десятилетие превратилась в тесное профессиональное сотрудничество. Вместе с ним они работали над выпуском «Мира искусства» и вслед за ним перешли в Императорские театры – финансируемую государством структуру, куда в 1899 году Дягилев получил выгодное назначение на пост чиновника по особым поручениям при директоре театров. Их первым начинанием в Императорских театрах – и одновременно первым опытом работы в театре вообще – стала постановка балета «Сильвия». Эта постановка так и не увидела свет, но работа над «Сильвией», в которой принял участие целый ряд художников «Мира искусства», стала опробованием того метода совместного творчества, который будет положен Дягилевым в основу деятельности Русского балета.
Бакст и Бенуа получили затем еще несколько театральных заказов, а Дягилев занимал свою должность всего лишь два года. Его отставка – результат бюрократической интриги, осложненной его собственным своеволием, – означала для него конец гражданской карьеры. Но лишь революция 1905 года, окончательно уничтожившая всякую надежду на преобразование художественной бюрократии в стране, заставила Дягилева обратить свой взгляд за границу. В 1906 году он организовал в Париже огромную выставку русской живописи, а в следующем году – ряд концертов русской музыки. В 1908 году на сцене Парижской оперы он впервые за пределами России показал постановку «Бориса Годунова», а год спустя организовал оперно-балетный сезон, ставший неофициальным дебютом труппы Русский балет.
Исследования, посвященные истории Русского балета, почти всегда начинаются с рассказа о Дягилеве и его друзьях-художниках, сопровождавших его в поездке из Петербурга в Париж. Эта книга также начинается с событий, происходивших в российской столице. Однако открывают ее другие герои, и события излагаются в ней с иной точки зрения. Русский балет был прежде всего танцевальной труппой, и хотя хореография занимала далеко не первое место в дягилевской иерархии искусств, именно она придала всему его проекту неповторимые черты. Михаил Фокин никогда не принадлежал к кругу деятелей «Мира искусства» и до начала подготовки к сезону 1909 года имел лишь шапочное знакомство с большинством представителей этого круга. Более того, с самого начала его творческий путь складывался иначе. Истоком его творчества было не чувство неудовлетворенности реализмом, а осознание того, что балет конца XIX столетия был не способен передать современное понимание красоты и индивидуальное поэтическое видение мира. Раскол в Санкт-Петербургском Императорском балете, инициатором которого были Фокин и те, кто последовал за ним, – вот та естественная отправная точка для книги, где Русский балет рассматривается как прародитель всего современного балета.
Преобразования, начатые Фокиным, были продолжены его преемниками в труппе Дягилева. Вместе с Нижинским балет сделал шаг к модернизму; благодаря Мясину он вступил в союз с футуризмом; с Нижинской он вобрал в себя абстрактный метод конструктивизма; с Баланчиным – слился с неоклассическим идеализмом. При каждом из этих хореографов репертуар труппы менялся, и менялось само видение современности. И тем не менее все они подчинялись требованиям, которыми руководствовался и Фокин, – тому, что балетное искусство должно принимать во внимание мир, в котором оно существует, и выражать индивидуальный взгляд художника на этот мир. Главы, которые составляют первую, вступительную часть книги, посвящены исследованию творчества этих хореографов с точки зрения упомянутых требований, в них представлена попытка проанализировать в каждом случае истоки их творчества и лежащую в его основе идеологию.
Не менее захватывающей, чем повествование об этой художественной революции, является сага о выживании труппы в сложных финансовых условиях. Русский балет был огромным театральным организмом, неким подобием бродячего цирка, объединявшего танцовщиков, музыкантов, композиторов, художников, аккомпаниаторов-репетиторов, гримеров и рекламных агентов. Такой труппе всегда непросто удержаться на плаву, и несколько раз за свою двадцатилетнюю историю она лишь чудом не уходила на дно. В отличие от полностью финансируемых правительством Императорских театров, эта труппа родилась в среде рыночных отношений, и с самых первых дней существования ей приходилось изыскивать деньги. Дягилев выпрашивал и брал в долг, вынужден был торговаться с антрепренерами и распродавать имущество, когда касса была пуста. Часто решения, которые он принимал, были лишь «латанием дыр», компромиссом с обстоятельствами, позволявшим труппе выжить и при этом сохранить лицо. За свою двадцатилетнюю жизнь Русский балет сменил множество обличий. Хотя основным источником существования труппы был балет, в ней было поставлено около двадцати опер. В Лондоне она выступала на подмостках мюзик-холла; в Монте-Карло обосновалась в местном оперном театре. Порой превращалась просто в странствующую труппу, а в иные времена напоминала экспериментальную студию или лабораторию. Сменяющие друг друга обличья касались всех сторон жизни труппы. От этого зависело, кто оплачивал счета и какое жалованье получали танцовщики; этим определялись размеры труппы и география гастролей. Это также влияло на репертуарную политику и на взаимоотношения между создателями спектаклей, на положение танцовщиков и хореографов. Чаще, чем можно себе представить, творческая деятельность Русского балета отражала его статус как сложного экономического предприятия. Этот аспект истории труппы, до сих пор не получавший должного освещения, послужил темой для второй части данной книги.
На протяжении двадцати лет Русский балет привлекал в театр многочисленных зрителей. Никогда еще со времен романтизма 1830-х и 1840-х годов балет не собирал такого огромного количества поклонников. Аудитория была замечательной не только с точки зрения ее численности. До появления Русского балета считалось, что балет – зрелище для детей и стариков. Однако благодаря Дягилеву балет превратился во времяпрепровождение для избранных. На его спектакли приходили люди состоятельные и знаменитые – члены королевских семей и известнейшие люди эпохи, чьи имена постоянно мелькали в светских хрониках того времени. Были среди зрителей и писатели, художники, композиторы и коллекционеры – интеллектуальная и художественная элита, которую до той поры редко привлекали балетные спектакли. Дягилев создавал свою публику и в других кругах общества: так, в послевоенном Лондоне наряду с интеллектуальными сторонниками балета на спектакли приходили и простые люди – завсегдатаи мюзик-холлов. Состав сегодняшней балетной аудитории во многих смыслах был определен Русским балетом.
Зрительская аудитория Дягилева создала широкий культурный контекст для его труппы. Она влияла на ее общественный и – в значительной мере – художественный облик. Во времена, когда реклама делала еще только первые шаги, Русский балет пользовался огромной популярностью в той социальной среде, где формировались вкусы публики. Зрители Дягилева приводили на спектакли своих друзей, нанимали танцовщиков для выступлений на частных вечеринках, надевали на балы-маскарады костюмы в стиле постановок Русского балета. В печати труппу превозносили на все лады, и можно было по пальцам пересчитать те журналы мод и светской хроники, которые игнорировали ее знаменитостей. Интеллектуальные журналы того времени – даже те, которые редко помещали материалы о балете, – также не обходили труппу своим вниманием, хотя тон их статей был несколько иным. Русский балет оказывал влияние на моду, искусство, развлечения. Но и они, в свою очередь, наложили свой отпечаток на труппу – от костюмов танцовщиков до содержания хореографии. В целом в каждый отдельно взятый период облик Русского балета отражал социальный состав его аудитории. Роль различных слоев зрительской аудитории Дягилева в формировании постоянно развивающейся идеологии, лежавшей в основе его деятельности, – тема третьей, заключительной части книги.
Эпоха Русского балета, вероятно, описана подробнее, чем любой другой период в истории танца. Тем не менее мы впервые попытаемся взглянуть на эту труппу в целостности – представить ее искусство, охарактеризовать ее как антрепризу и рассмотреть ее публику. Эта задача не только побудила меня искать ответы на новые вопросы в уже знакомых источниках, но и привела в архивы Парижа, Монте-Карло, Нью-Йорка, Беркли, Сиракуз и Принстона, к которым ранее не обращались исследователи деятельности Дягилева.
В этой книге также впервые пересматриваются основные положения так называемой британской школы историков Русского балета, которая возникла в 1930-е годы. Труды представителей этой школы, и прежде всего Сирила У. Бомонта и Арнольда Хаскелла, заложили основы современного дягилеведения и открыли первоисточники, которые остаются незаменимыми по сей день. Однако с течением времени трактовки, предлагаемые данной школой, не получили развития. В многочисленных работах Ричарда Бакла, ведущего современного исследователя деятельности Дягилева, Русский балет предстает либо как связующее звено в некоей последовательности, ведущей от Русского балета к Королевскому балету Англии, либо как полностью независимая труппа, на которую не влияли ни искусство, ни идеи современной ей эпохи. Бакл вскрыл новые факты, но не сумел дать им соответствующую интерпретацию. Кроме того, он усердно избегал применения новейших подходов в социальной истории, балетной критике и идеологии феминизма, которые оживили американское балетоведение и без которых появление этой книги было бы невозможным.
История, рассказанная ниже, весьма продолжительна, многообразна и населена. Она начинается в России конца XIX века и заканчивается в Западной Европе эпохи джаза. Она включает в себя политические и художественные революции, а также Первую мировую войну. Ее действующими лицами являются мужчины и женщины самых разных кругов общества, разного стиля жизни – такие непохожие друг на друга личности, как леди Кунард, законодательница лондонского высшего света; Эдвард Бернейз, отец современных рекламных технологий; Анатолий Луначарский, советский комиссар просвещения, и Отто Кан, финансировавший армии союзников во время войны. Исполины модернизма – Пикассо, Стравинский, Джойс и Пруст – присутствуют здесь наряду с танцовщиками и хореографами, чьи имена стали легендой. В этой книге представлены и люди, чьи судьбы менее известны, – Василий Киселев, работавший вместе с Фокиным в самом начале его карьеры и отправленный в психиатрическую лечебницу за активное участие в забастовке танцовщиков 1905 года, а также Дорис Фэйтфул, подавшая от имени нескольких танцовщиков жалобу на нищенское жалованье во время одного из турне труппы по Америке. Они тоже появляются на страницах этой книги, вплетая прозу своих жизней в общий ход событий. История Русского балета – это и их история. Она принадлежит им в той же степени, что и самым ярким личностям той эпохи.
I Искусство
1 «Освободительная эстетика» Михаила Фокина
9 января 1905 года бастующие рабочие с окраин Санкт-Петербурга собрались у Зимнего дворца для подачи царю петиции «от лица всего трудящегося класса России» о прекращении войны с Японией и принятии «мер против гнета капитала над трудом». Главными лозунгами петиции, которые спровоцировали трагедию, вошедшую в историю как «Кровавое воскресенье», были право на самоопределение, свобода личности и осуждение чиновничества[14].
В последовавшие месяцы призывы к гражданской свободе и независимости дошли от рабочих кварталов Петербурга до самых привилегированных культурных учреждений царской России. В феврале произошла забастовка студентов Петербургской консерватории. «Некоторые из требований студентов весьма обоснованны», – писала мать студента консерватории Сергея Прокофьева. И далее:
Они просят, чтобы ежемесячно ставились оперные спектакли с участием студентов: певцов, дирижеров и полного состава оркестра, где студенты играли бы на инструментах, на которых учатся… Они просят библиотеку, повышения уровня академических занятий и вежливого обращения со стороны служебного персонала и преподавателей. Например, говорят, что [Леопольд] Ауэр бьет студентов смычком по голове. Нынешнюю ситуацию можно сравнить с надвигающейся бурей, когда воздух становится тяжелым и трудно дышать[15].
В марте, на гребне волны протеста, Николай Римский-Корсаков, открыто выражавший свои либеральные убеждения в прессе, был уволен с должности директора консерватории, в результате чего ее покинули также Александр Глазунов и Александр Бенуа. Сорок студентов были отчислены, а после того как премьера «Кощея Бессмертного» Римского-Корсакова в театре Веры Комиссаржевской превратилась в политическую демонстрацию, царь запретил постановку в Императорских театрах произведений этого «революционного» композитора[16].
Консерватория стала не единственным учреждением искусства, которое всколыхнули события 1905 года. Осенью забастовка разразилась в Императорском балете. Конечно, на фоне общей революционной панорамы забастовка танцовщиков представляла собой лишь незначительный эпизод. Тем не менее она оказала крайне значительное влияние как на само возникновение Русского балета, так и на его эстетику. В таком виде искусства, где идея приобретает форму лишь в самом исполнителе, подбор состава труппы, соответствующего видению хореографа, выполняет необходимую художественную функцию. Забастовка в Мариинском театре возымела именно такой эффект: она превратила инакомыслящих членов труппы в инициаторов хореографического раскола – и главных действующих лиц Русского балета 1909 года. Бастующие избрали двенадцать делегатов, которые выступили с их требованиями, и по меньшей мере трое из этой дюжины – Михаил Фокин и балерины Анна Павлова и Тамара Карсавина – стали в будущем звездами дягилевской антрепризы. Даже тщательно оберегаемых студентов Петербургского театрального училища коснулись «бесконечные разговоры о забастовках и мятежах», вспоминает учившаяся в те смутные дни балерина Елена Люком. В октябре учащиеся выступили с нешумным протестом, о котором Владимир Теляковский, директор Императорских театров, так записал в своем дневнике: ученики «собрались на совещание без разрешения для обсуждения своих нужд». Одним из присутствовавших на этом необычном митинге, где требовали «улучшить обучение, ввести специальные занятия по гриму, разрешить… старшим учащимся носить собственную обувь и крахмальные воротнички и манжеты под форменной курткой», был Вацлав Нижинский[17].
Забастовка выявила недовольство, усилившееся из-за кризиса в руководстве и художественного упадка, который последовал за золотым веком Императорского балета 1890-х годов (именно в это десятилетие долгая карьера Мариуса Петипа в Мариинском театре достигла своей творческой вершины, и именно тогда появились такие классические постановки, как «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Раймонда» и «Лебединое озеро»). Многие из требований бастующих были экономическими: повышение заработка, право голоса в вопросах формирования бюджета, пятидневная рабочая неделя. Но так же как и в консерватории, ключевые разногласия касались вопросов искусства. Танцовщики требовали права на выбор режиссеров – штатных руководителей труппы, которые отвечали бы за репетиции и выступали представителями руководства в повседневных взаимоотношениях с танцовщиками, а также просили о возвращении к своим обязанностям Петипа, его ассистента Александра Ширяева и педагога Альфреда Бекефи, незадолго до этого уволенных из театра по политическим причинам. То, что личность Петипа, который руководил Императорским балетом четыре с лишним десятка лет и придал завершенный облик русскому классическому балету, столь явно фигурировала в дебатах, демонстрирует, до какой степени искусство и политика переплетались в Мариинском театре. Как объясняла Карсавина своей матери, не одобрявшей ее действий, целью танцовщиков было «поднять уровень искусства на должную высоту… Мы намерены потребовать право на самоуправление, право избрать свой комитет, который станет решать… вопросы творчества… намерены покончить с бюрократизмом в организационных делах»[18].
Ключевым для революции 1905 года было слово «свобода». Оно означало принцип личной свободы в общественной, культурной, равно как и экономической, жизни. У танцовщиков и других работников Императорских театров забастовка вызвала чувство сопричастности общим художественным устремлениям, сродни той, что объединяла художников вокруг дягилевского журнала «Мир искусства». «Помните, – обратился режиссер – участник забастовки[19] к своей драматической труппе, когда был опущен занавес в Александринском театре – собрате Мариинского, – мы боремся за почетную свободу. Еще совсем недавно русский актер был рабом»[20]. Утверждение политического единства подразумевало трансформацию художественного и общественного сознания восставших.
Вопреки сказанному в воспоминаниях Карсавиной, жизнь в Императорском балете после событий 1905 года так и не вошла в привычное русло. Для расследования беспорядков была создана комиссия, и, несмотря на официальную амнистию, Петр Михайлов и Валентин Пресняков, возглавлявшие забастовку танцовщиков, были уволены, а еще один из активных ее участников – Василий Киселев – был отправлен в психиатрическую лечебницу. (Очевидно, его пребывание там не оказало долговременного влияния на него как танцовщика, поскольку он, как и Пресняков, принимал участие в постановках первых сезонов Русского балета.) Иосиф Кшесинский, брат Матильды Кшесинской, prima ballerina assoluta Мариинского театра и бывшей возлюбленной царя Николая II, также был уволен за участие в забастовке, хотя, благодаря связям сестры при дворе, смог сохранить пенсию. Даже Павлова, ярчайшая звезда молодого поколения, получила от барона Владимира Фредерикса, всемогущего министра двора, осуществлявшего контроль над Императорскими театрами, предупреждение о последствиях, которые ее ожидают, если она не воздержится от дальнейшего участия в смуте. «Многие принимавшие участие в “бунте” были позднее уволены без особой причины, – вспоминала Бронислава Нижинская, – не получали хороших ролей или очень медленно продвигались по службе»[21]. Эти репрессии, безусловно мягкие по царским меркам, тем не менее усилили раскол между взбунтовавшимися и оставшимися верными руководству.
Дальнейшая поляризация уже расколовшейся труппы подготовила почву для «исхода» талантливых танцовщиков, что фактически привело к оттоку молодого поколения из Императорского балета. Начиная с 1907 года танцовщики Мариинского театра стали все чаще поглядывать за границу в поисках ангажементов. В 1907–1908 годах Адольф Больм и Павлова совершили ряд выездов за рубеж, в том числе на гастроли по Скандинавии, которые завершились в Берлине и повсюду имели оглушительный успех. Больм также стал партнером Лидии Кякшт в ее первом выступлении в Эмпайр Тиэтр в Лондоне в 1908 году, а Карсавина танцевала в столице Англии весной 1909 года, всего за несколько месяцев до парижского дебюта Дягилева. Другие танцовщики левого фланга труппы вскоре последовали за ними: Георгий Кякшт (брат Лидии), Людмила Шоллар и сестры Бекефи выступали в Лондоне в 1909–1910 годах, так же как и Ольга Преображенская, балерина со стажем, танцевавшая в Парижской опере в 1909 году. (Дабы не быть превзойденной, Матильда Кшесинская, первая из традиционалистов, организовала несколько выступлений в Опере, там же, где в 1908 году состоялся показ Дягилевым «Бориса Годунова».)
Зарубежные выступления были привлекательны с точки зрения гонорара, но еще сильнее в них притягивала редкая возможность работать вне условий бюрократии и художественного застоя Императорских театров. Больм писал:
В театрах Петербурга и Москвы много таких, как мы, тех, кто жаждет посвятить свое искусство иным, лучшим целям. Мы беспомощны, потому что руководство нашего театра крайне реакционно. Мы не осмеливаемся открыто критиковать его. Нам даже не позволено выступать с предложениями. Петипа умер. [Он скончался в 1910 году. ] Балетмейстеры по-прежнему используют то, что он создал, но они утратили его дух. После свободы гастролей такая атмосфера вызывает удушье[22].
В этих словах Больм выражает страсть к искусству и веру в его высокое предназначение, которыми были движимы молодые идеалисты Русского балета.
Как и все государственные учреждения, Мариинский театр представлял собой общество в миниатюре, где политика, общественные отношения и художественные задачи были неразрывно связаны. Революционный импульс породил отклик на все эти стороны существования танцовщиков. Он предопределил отношение к «старой классической технике», которую олицетворяли Кшесинская и главный режиссер Императорского балета Николай Сергеев, и к карьеризму, столь характерному для этих хранителей традиций. Он политизировал даже само стремление к новым творческим подходам в искусстве танца и обострил необходимость в групповых творческих усилиях, которая в будущем выразится в создании Фокиным актерского ансамбля. И он же усилил критический настрой по отношению к «приклеившимся к искусству», как Фокин назвал чиновников, которые осуществляли контроль над казной Императорских театров и тем самым вынуждали его самого и его коллег-единомышленников к тому, чтобы искать себе работу за пределами мира бюрократии[23]. Идеалы 1905 года не только изменили ход мысли и стиль поведения молодого поколения танцовщиков Мариинского театра, но и повлияли на образный мир ранней хореографии Фокина. В темах и структуре его первых балетов прослеживались устремления его бастовавших собратьев, слившиеся с утверждением либеральной идеологии.
Становление Михаила Фокина как хореографа совпало по времени с революцией 1905 года и выявило как общественные, так и художественные противоречия, породившие беспорядки в Мариинском. Как и прочие, кто возглавлял забастовки, Фокин был связан с Гребловской школой имени Гоголя, благотворительным учреждением, которое танцовщики основали и поддерживали и которое стало центром собраний левого крыла труппы[24]. Фокин явно противостоял Александру Крупенскому, консервативному главе петербургской конторы Императорских театров, и на шестичасовом митинге 15 октября 1905 года, где бастующие танцовщики и представители администрации вели язвительные дебаты, открыто назвал Сергеева «шпионом дирекции». Сергеев, который позднее, в 1920-х и 1930-х годах, завоевал прочную славу на Западе благодаря постановкам «Жизели», «Лебединого озера» и «Спящей красавицы», сыграл весьма неприглядную роль в событиях 1905 года. Карикатура того времени, озаглавленная «Плоды балетной забастовки», изображает его машущим петицией танцовщиков над поверженной Ольгой Преображенской, которую сечет розгами скелетообразный экзекутор на глазах у Крупенского и Теляковского[25].
Хотя Фокин не воздерживался от критики Императорского балета в художественном и административном отношении еще до революции, события именно того беспокойного времени побудили его к действиям. В период с февраля 1906 года по март 1909-го он поставил по меньшей мере две дюжины балетов и танцевальных номеров: такая плодотворность удивляет, особенно если учесть, что до этого времени на его счету было лишь три постановки. Практически все без исключения работы осуществлялись не для Мариинского театра, а в более свободной атмосфере выпускных концертов училища и благотворительных вечеров, немалую часть которых хореограф организовал сам. В этих случаях Фокин мог выбирать, с кем ему работать, и мог надеяться на то, что и получил, – «полное взаимопонимание и энтузиазм»[26]. Его первая значительная работа «Виноградная лоза» была создана по предложению коллег-танцовщиков и поставлена в рамках благотворительной акции для Гребловской школы в начале 1906 года. Подобранный Фокиным состав исполнителей состоял почти целиком из мятежников Мариинской труппы: так, вина в спектакле олицетворяли Павлова, Карсавина, Кякшт и жена хореографа Вера Фокина. С участием «представителей левого крыла» проходили все его послереволюционные спектакли, поставленные для профессиональных танцовщиков, – «Умирающий лебедь», «Эвника», «Шопениана» (в ее различных версиях), «Павильон Армиды», «Египетские ночи» и Bal poudré, – причем почти во всех постановках танцевали Павлова и Карсавина. В оригинальной версии «Карнавала», ставшей завершением цикла его собственных постановок, начавшегося с революцией, выступили не только Карсавина, но и трое из возглавлявших забастовку: Альфред Бекефи (также танцевавший в Bal poudré), Александр Ширяев и Василий Киселев.
Особенно близко в те годы Фокин общался с Петром Михайловым. В своих мемуарах хореограф описывает встречу у него дома в конце 1907 года, где собрались Бенуа и другие художники «Мира искусства» и где Михайлов по просьбе Фокина зачитывал бумагу «о необходимости слияния мира художников с балетом, о новом пути, на который вступил балет, о тех возможностях, которые открываются в обновленном балете для работы художников и музыкантов и т. д.». С изложенными взглядами, добавляет Фокин, он был «совершенно согласен»[27]. Существование такого вольнодумного сообщества говорит о безграничной преданности его участников новым идеям. С одной стороны, оно указывает на то, что происхождение фокинского художественного раскола сложным образом переплеталось с политическими событиями 1905 года, с другой – на то, что влиятельное содружество Дягилева уходит корнями в сообщество художников, сформированное этими событиями и появившееся на основе ранних начинаний Фокина. В этой «бодрящей» атмосфере «все чувствовали, – писал хореограф, – что создается новое дело, что рождается новый балет»[28].
Хотя Петипа пользовался огромным уважением в среде танцовщиков Императорского балета, поколение, достигшее зрелости в начале XX века, его художественные достижения уже относило к прошлому. «Постановки, создававшиеся после “Спящей красавицы”, становились все длиннее и длиннее», – вспоминает Карсавина, известнейшая исполнительница спектаклей Фокина, которая, однако, прекрасно владела и репертуаром Петипа:
Сюжет был только нитью, на которую нанизывались многочисленные баллабили. Хотя хореографическое мастерство никогда не изменяло Петипа… он терял из виду… внутреннюю мотивацию танцев… «Синяя Борода» [например] (1896)… содержала несколько танцевальных номеров, весьма слабо связанных с сюжетом. Они представляли собой картины сокровищниц Рауля Синей Бороды в то время, когда их посещала его седьмая жена Изора… В одной из них танцующие ножи, вилки, ложки и тарелки сами по себе оказывались поводом для танцевальной сцены… сводя классический танец к абсурду. На самом деле балет «Синяя Борода» имел все черты рождественской пантомимы или французского ревю…[29]
Сомнения Фокина по поводу художественных традиций Мариинского театра возникли у него еще в начале карьеры профессионального танцовщика:
Когда я играл мимическую роль, то имел вид, соответствующий изображаемой эпохе, но когда танцевал классику, то выглядел как первый танцовщик, то есть «вне времени и вне пространства» <…> я чувствовал, что это нелепо, но такова была традиция. <…> Чем более исторически были точны костюмы у мимистов… <…> тем глупее, мне казалось, выглядели среди них мы, «классики» <…> с розовыми ногами, в коротких юбочках, имеющих вид раскрытого зонтика[30].
В 1904 году, в самый канун революции, Фокин предложил Теляковскому либретто «Дафниса и Хлои». Черновому наброску сценария этого двухактного балета он предпослал вводную заметку, где объяснялись принципы, которые предполагались к соблюдению при постановке. Написанные в форме пожелания, эти принципы представляют собой самую раннюю из художественных деклараций Фокина. Он писал:
Пришло время осуществить эксперимент в постановке греческого балета в духе эллинского века. Балетмейстеры не должны совершать подобной ошибки: ставить танцы для русских крестьян в стиле Людовика XV или… сочинять танцы в манере русского трепака к французскому сюжету. Зачем повторять одну и ту же ошибку, ставя древнегреческие сюжеты: заставлять греков танцевать на французский манер?[31]
Фокинский призыв к аутентичности был как неотъемлемой частью его эстетики, так и средоточием большинства его недовольств, связанных с Императорскими театрами. С самого начала его идеалы представляли собой идеалы натуралиста: искусство должно воплощать расу, момент и среду – как в известном высказывании Тэна, – а не твердо следовать классическим установлениям:
Поскольку жизнь в разные эпохи различна и различны жесты людей, то танец, отображающий жизнь, должен варьироваться. Египтянин времен фараонов совершенно не похож на маркиза восемнадцатого столетия. Пламенный испанец и флегматичный житель Севера не только говорят на разных языках, но и используют различные жесты, которые никто не изобретал, но которые породила сама жизнь[32].
В наши дни натурализм утратил былую популярность, и зачастую мы говорим об этом наукообразном отпрыске реализма с пренебрежением. Однако в свое время натурализм являлся живительным течением, которое стремительно относило художника к реальному миру трущоб, шахт, публичных домов и бульварных театров, сообщая ему эмпирические методы ученого и внушая, что искусство есть средство социальных преобразований. Хотя Фокин остерегался заходить слишком глубоко, с ранних лет его пытливый ум вырывался далеко за пределы Театральной улицы. В каникулы он каждый день совершал походы в Эрмитаж и срисовывал статуи и картины из его богатейшей коллекции. В период кризиса, наступившего после его дебюта как танцовщика, он вдоль и поперек исходил Петербург, посещая уроки живописи, изучая анатомию, рисование углем и маслом, и проводил много времени, погрузившись в книги по искусству. «Мне надо было много учиться, чтобы попасть в Академию, – писал он позднее, – что отныне стало моей мечтой»[33].
Кроме живописи, его помыслами владели музыка и путешествия. Он ездил по разным уголкам России, удаленным от Петербурга, и за границу. В первую свою поездку, выехав из столицы в вагоне третьего класса, он посетил Москву, Нижний Новгород, увидел Волгу, Каспийское море и Кавказ; во второй раз побывал на землях Древней Руси – в Киеве, в Крыму; следующее путешествие привело его в Будапешт, Вену, в Италию. Увиденное там оживило истории, хранившиеся в его памяти. Казалось, что у могучей Волги стоит Стенька Разин, готовый бросить в волны свою возлюбленную персидскую княжну, а в Бахчисарае «фантастическое, царственное великолепие» «Тысячи и одной ночи» смешивалось с пушкинскими строками. Сокровищами Венеции, Флоренции, Рима, Помпеев Фокин «наслаждался, упивался и в то же время приходил в отчаяние», что его мозг «не успевает ни полностью воспринять, ни удержать в памяти все виденное»[34]. Везде, где бы он ни был, он встречал танцевальные образы. С Кавказа привез воспоминание о легкой, гордой походке черкесов; из Италии – множество открыток и репродукций картин, изображающих танец, которые положили начало его богатой коллекции ритуальных и фольклорных материалов.
Вернувшись домой, Фокин стал сотрудничать с музыкальными кружками, которые стремились удовлетворить возросший в обществе интерес к русской народной музыке. Он играл на мандоле с профессионалами из Мариинского театра и на балалайке на концертах для заводских рабочих, а также выступал вместе с ансамблями, исполнявшими русскую фольклорную музыку на народных инструментах. В ходе этого, как он выразился сам, «дилетантского музицирования» он научился обращаться с партитурами и даже сочинять – в степени, достаточной для того, чтобы оркестровать целые произведения для своих выступлений. Это не только научило Фокина глубже понимать музыку, но и хорошо дало понять, какое воздействие может оказывать музыка на слушателей. Когда изысканная публика была до слез растрогана песней волжских бурлаков «Эй, ухнем!», это поразило его силой, с какой живое искусство может воздействовать непосредственно на чувства. Он нашел в этом подтверждение тезиса Толстого о том, что сущностью всякого истинного искусства является «передача чувства, заражение им зрителя»[35]. До сих пор он представлял это лишь теоретически, но теперь этот тезис стал частью его художественного кредо, как, впрочем, и другое высказывание Толстого: искусство принадлежит широким массам, а не «узкому кругу балетоманов», которые посещают Мариинский театр. Это убеждение еще больше окрепло после чтения Фокиным политической литературы – Петра Кропоткина, Михаила Бакунина, Августа Бебеля и Фердинанда Лассаля, с трудами которых его познакомили сосланные из России социалисты, встреченные им в Швейцарии[36].
Все это наложило глубокий отпечаток на мировоззрение Фокина. С самого начала хореографической карьеры его работы были наполнены острым чувством истории. Он был убежден, что сюжет, период и стиль в балете должны соответствовать времени и месту сценического действия, что акту творчества должны сопутствовать эмпирические наблюдения и исследования, что выразительность рождается из соответствия изображения и реальности. Под эгидой истории Фокин и начал свое наступление на балетные условности.
Со времен романтизма реализму в балете принадлежало заслуженное место, однако он существовал скорее как дополнение к классическим традициям, в рамках двойственности, отличавшей все грани постромантического стиля. Двойственность эта выражалась в структуре изложения сюжета (мимические сцены – эпизоды чистого танца), в танцевальной манере («характерный» или народный танец – академический танец), в стилистике жестов (пантомимные – символические), в костюмах (исторически точные костюмы – балетные пачки), даже в обуви танцовщиков (сапоги и мягкая обувь – пуанты). Все эти проявления двойственности, впервые оформившиеся в систему в 1830-х годах, с течением века становились все более условными. Для Фокина они были проклятием.
Вместо двойственности Фокин добивался полного единства выразительных средств. Перед ним открывались две перспективы: либо обойтись без реализма, либо отойти от классики. Как показала практика, в большинстве случаев он выбирал второй путь. Но даже в работах, выполненных в классическом стиле – «Шопениане» с ее ранними версиями, «Прелюдах» и «Эросе», – он включал хореографический материал в исторический контекст. Как красноречиво выразился Андрей Левинсон, «обостренная чувствительность»[37] Фокина указывала ему на то, что классика состоит не в создании вневременных образов, но в воссоздании стиля, ассоциирующегося с романтической эпохой, раем первозданной чистоты для хореографа. Более поздние приобретения века – виртуозность, акробатика, игра на публику – виделись ему причиной художественного упадка в балете.
Если реализм выступил фундаментом здания фокинской поэтики, то этнография обеспечила его строительным материалом. В работах Петипа характерные танцы придавали хореографии живую плоть, наделяли ее историческими особенностями, а свойственная им телесная динамика и интенсивность эмоций были весьма созвучны представлениям Фокина. К концу столетия тем не менее стилизация стала подрывать как полнокровность народных танцев, так и их подлинную близость к фольклорным истокам. Александр Ширяев писал:
Будучи последователем классического балета, Петипа пришел к характерному танцу именно от него, а не от народных танцев. Сарацинский танец в Раймонде основан на классических движениях pas de basque и ballonnée, испанский панадерос в том же балете – также на pas de basque, индийский танец в Баядерке – на grand battement и так далее… Какими бы внешне блестящими и впечатляющими ни были характерные танцы Петипа, более справедливо рассматривать их как вариации классического танца на народные темы, а не как действительно народные танцы, даже в чисто театральном смысле[38].
Часто использовались пуанты и прыжковая техника классического танца (обычно это касалось китайского, японского и других «экзотических» стилей). Временами черты одного национального танца встречались в другом, особенно частым было смешивание испанских и итальянских форм. Несмотря на то что венгерские и польские танцы достигли «высокого сценического развития», отражая, в частности, наличие в Императорской труппе танцовщиков этих национальностей, другие, писал Фокин, «исказились до неузнаваемости»[39]. К рубежу веков характерный танец представлял собой лишь прикрытые нарядными одеждами национальные стереотипы.
Фокин восстановил жизнеспособность различных «диалектов» танца, которые, казалось, зачахли. Основываясь на живых образцах, он создал то, что получило наименование genre nouveau[40], форму, независимую от академической традиции и связанную исключительно с национальными и этническими стилями танца[41]. В период между 1906 и 1918-м – годом, когда он покинул Мариинский и окончательно обосновался на Западе, – Фокин также часто обращался к этому неиссякающему источнику. В «Виноградной лозе» Мария Петипа, чтобы показать дух венгерского вина, танцевала жгучий чардаш. В 1906 году появились также две постановки в испанском стиле – «Севильяна» и «Испанский танец», премьера которых прошла вместе с «Виноградной лозой». В 1907 году он впервые использовал в работе материалы, собранные в поездках. Хотя «Эвника» была поставлена в античном стиле, винный мех из овечьей шкуры, вдохновивший Фокина на идею танца с бурдюками, представлял собой предмет домашнего быта на Кавказе. В том же году он поставил первую версию «Шопенианы», grand ballet в миниатюре, в котором две классические композиции – Ноктюрн и Вальс – шли в обрамлении сцен характерного танца. Балет открывался блестящим Полонезом, бальным танцем, созданным, как писал Фокин, «в период расцвета польской шляхты»[42]. Третья картина – Мазурка Шопена – представляла собой свадьбу в польской деревне. Пятой и завершающей сценой была Тарантелла, где Фокин стремился «передать подлинный характер народных плясок», которые он «изучил особенно на острове Капри»[43]. Хотя Тарантелла была (как и другие характерные танцы) исключена год спустя из последующей, классической версии балета, ее постановка ознаменовала собой новый этап фокинского подхода к фольклорному материалу. Впервые он экспериментировал, «оглядываясь на танцы народа среди природы»[44], определяя свой идеал как симфонию, созданную из живых форм. Вновь и вновь Фокин совершенствовал свой метод. При постановке «Тамары» для Русского балета в 1912 году он создавал неистовые, бурные танцы для этой грузинской легенды на основе своих кавказских воспоминаний. Балет «Стенька Разин», премьера которого состоялась на благотворительном концерте в Мариинском театре в 1915 году, начинался картиной на берегах Волги, напоминавшей о первом путешествии Фокина по Центральной России. На следующий год все в том же Мариинском театре он представил публике «Арагонскую хоту», сюиту из испанских танцев, на которую его вдохновила поездка в Андалузию в 1914 году. В этой постановке он приложил все усилия не только к тому, чтобы воспроизвести ритм, па и характерные черты иберийских танцев, но и к тому, чтобы передать «веселье и радость, так свойственные подлинной народной пляске»[45].
Над этими балетами Фокин работал прежде всего как этнограф, применяя натуралистические методы для изучения ныне живущих народов. Имея дело с прошлым, он вел точно такие же исследования, тщательно разыскивая в библиотеках и музеях следы ушедших цивилизаций. Замысел «Дафниса и Хлои» возник из античного романа Лонга, замысел «Эвники» – из либретто, написанного по роману Генрика Сенкевича «Камо грядеши?»; «Шопениана» и «Карнавал» были вдохновлены эпизодами из жизни композиторов, их написавших[46]. Однако литература была лишь отправной точкой: в Танце трех египтянок из «Эвники» Фокин старался скопировать профильные положения и угловатость линий с древних фресок и барельефов. Он одел трио в облегающие туники и парики, соответствующие эпохе, велел покрыть тело темной краской и с помощью грима удлинить глаза для сходства с египетскими изображениями. Этот танец стал предшественником балета «Египетские ночи», поставленного в 1908 году и включенного под названием «Клеопатра» в парижский репертуар Русского балета год спустя. Профильные положения и плоские ладони сохранялись теперь на протяжении всего балета, а эффект угловатости пластики стал преобладать в расположении групп. В ходе постановки Фокин погрузился в изучение Древнего Египта и в свободное время забегал в Эрмитаж, где окружал себя посвященными Египту книгами. На постановку Танца со змеей, который он создал для Павловой, его вдохновила репродукция, найденная во время блужданий по музею. Для балета «Синий бог», поставленного для Русского балета в 1912 году, он занимался схожими исследованиями. В угловатых положениях рук и ног, ладонях, обращенных кверху, и согнутых пальцах танцовщиков отразилось влияние на Фокина индусской скульптуры.
Временами, однако, воображение заменяло в его методе «археологию». «Шехеразада», которая потрясла Париж в 1910-м, была полностью ориентальной фантазией. «Танцовщица с босыми ногами, – писал он позже, – танцующая главным образом руками и корпусом… как это было далеко от балетного Востока того времени!»[47] В равной степени созданными воображением были и «Половецкие пляски», поставленные для оперы Бородина «Князь Игорь» и показанные Дягилевым в 1909 году. При их подготовке Фокин оказался в затруднении. Его исследования ни к чему не привели: о древнем племени половцев достоверно ничего не было известно. После долгих размышлений и сомнений он начал сочинять: «Я верил, что если половцы танцевали и не так, то под оркестр Бородина они должны танцевать именно так»[48]. Фокин несколько преувеличил вклад своего воображения: его «Половецкие пляски» имели значительное сходство с созданным ранее дивертисментом в хореографии Льва Иванова, долгое время работавшего ассистентом балетмейстера у Петипа. (Николай Рерих, создававший оформление для постановки, в свою очередь столкнулся с проблемой поиска необычного стиля одежды: в его эскизах смешивались характерные черты якутских и киргизских национальных костюмов.)
Genre nouveau отличался от характерных танцев как верностью историческим источникам, так и яркой эмоциональностью. Но не только это отделяло его от предшественников. Неотъемлемым от фокинского этнографического метода было признание разнообразия народов и многоликости их культур – вера в то, что плюрализм будет править в лучшем из возможных миров. В противоположность этому, русский балет XIX столетия обладал одновременно имперским и империалистическим видением. В нем нашли законченное театральное выражение идея обширной и разрастающейся Российской империи и поддерживавшая ее идеология панславизма. Одной из постановок, которую Александр Бенуа в детстве смотрел «с неостывающим интересом», была «Роксана, краса Черногории». Впервые исполненная в 1878 году – лишь месяцы спустя после того, как русская армия освободила Черногорию от ненавистных турок, – она была «ознаменованием увлечения русского общества идеей освобождения славян на Балканах»[49]. Другой популярный балет, «Конек-Горбунок», противопоставлял русского крестьянина, ставшего царем, омерзительному распутному хану. Поставленный в 1864 году, когда генерал Черняев начал наступление на ханство в Туркестане, балет заканчивался грандиозным националистическим финалом. «В глубине сцены, – вспоминал Бенуа, – появлялся новгородский памятник тысячелетия России, а перед ним на сцене дефилировал марш из народностей, составляющих население Российского государства и пришедших поклониться Дураку, ставшему их властелином. Тут были и казаки, и карелы, и персы, и татары, и малороссы, и самоеды»[50]. Фокинский genre nouveau содержал собственный политический подтекст: это становится ясным из той яростной критики, которая появилась в 1911 году в реакционной газете «Новое время». Статья М. О. Меньшикова обличала Фокина как еврея (кем он в действительности не был) – а следовательно, как художника, которому чужда исконная российская культура. В качестве свидетельства автор привел постановку «Половецких плясок», где прославлялись варварские половцы, а не русские христианские воины[51].
До встречи с Александром Бенуа в 1907 году Фокин редко общался со своими будущими сотрудниками. Несмотря на это, родство между их произведениями было заметным. Хотя «краеугольным камнем “Мира искусства”» стал в общих чертах оформившийся символизм[52], художники, собравшиеся вокруг журнала, в своей программе провозглашали выход за пределы чистого эстетизма. Действительно, пусть даже они отрицали утилитаризм художников-реалистов, известных как передвижники, в творчестве дягилевских художников довоенной поры обнаруживалось влияние прежней школы: оно проявлялось в их очарованности национальными мотивами и в стремлении изображать сюжеты в их детальном соответствии месту и времени.
Как и Фокин, многие художники вступили в пору зрелости во время подъема неонационалистских настроений, охвативших Россию в конце столетия. Практически всех затронуло стремление оживить исконные формы искусства, а многие участвовали в объединениях художников, основанных Саввой Мамонтовым в Абрамцеве и княгиней Марией Тенишевой в Талашкине. Там возникли мастерские прикладных искусств в духе британского движения Arts and Crafts (Искусства и ремесла), где производились мебель, вышивка, игрушки и другие изделия русских народных промыслов, продававшиеся в Москве и Санкт-Петербурге. Обоим объединениям принадлежали обширные коллекции народного и древнеславянского искусства, уникальные собрания, вдохновлявшие художников на изучение легендарного и исторического прошлого. И в обоих сообществах художники, не удовлетворенные ограниченностью академического искусства, нашли себе конгениальное окружение, общество равновеликих единомышленников, совместно с которыми они могли вести исследования и творить.
Княгиня Тенишева, представительница Петербурга, ранее других установила отношения с будущими художниками дягилевского круга. В 1895–1899 годах Бенуа служил в качестве куратора ее коллекции живописи и графики, в то время как Иван Билибин начиная с 1898 года обучался в ее художественной студии под руководством Ильи Репина, величайшего из живущих представителей русского реализма. После 1893 года, когда она приобрела в собственность Талашкино, поместье стало местом летних встреч различных групп художников и интеллектуалов: среди тех, кто посещал Талашкино в 1890-е годы, были Федор Шаляпин, Александр Головин, Константин Коровин, Николай Рерих и Дмитрий Стеллецкий – все они впоследствии принимали участие в дягилевской театральной антрепризе. Более того, в 1898 и 1899 годах княгиня оказывала финансовую поддержку изданию «Мира искусства».
Вклад Тенишевой в предысторию Русского балета был значительным, но деятельность Мамонтова в этом смысле оказалась гораздо важнее: в оперной труппе, выросшей из любительских постановок в Абрамцеве в 1870-х и начале 1880-х, исследователи усматривают музыкальный и художественный прообраз первоначальных Русских сезонов Дягилева. В 1896–1899 годах Московская частная русская опера (так Мамонтов переименовал «Русскую частную оперу Кроткова», основанную им в 1885 году) стала центром провозглашения национализма в оперном искусстве: за этот недолгий период здесь были поставлены не менее одиннадцати произведений русских композиторов. Репертуар включал в себя оперы «Орлеанская дева» Чайковского, «Жизнь за царя» Глинки, «Юдифь» Александра Серова, «Аскольдова могила» Алексея Верстовского, однако в большинстве своем он состоял из произведений руководителя объединения «Могучая кучка»[53]. Николай Римский-Корсаков действительно занимал главенствующее положение в мамонтовской труппе – не только в Москве, где дирекция труппы располагалась в театре Солодовникова, как раз напротив Большого театра (один из примеров того, как географическое расположение оказывается символом положения художественного), но и в Санкт-Петербурге, куда труппа часто наносила визиты. В эти годы было представлено пять работ Римского-Корсакова: «Иван Грозный» («Псковитянка»), «Садко», «Снегурочка», «Майская ночь», «Моцарт и Сальери», – а также его редакции опер Мусоргского «Борис Годунов» и «Хованщина». Все оперы, за исключением «Снегурочки» и «Моцарта и Сальери», были впоследствии показаны Дягилевым, так же как и отдельные сцены из «Юдифи»[54]. Даже расширяя репертуар, Дягилев придерживался направления, заданного Мамонтовым. Так, наряду с «Русланом и Людмилой» Глинки, «отца русской оперы», был поставлен и «Князь Игорь» Бородина, также принадлежавшего к «Могучей кучке». Представляя публике Стравинского с его первым балетом «Жар-птица», написанным в 1910 году, Дягилев видел его в роли наследника неонационалистской короны Римского-Корсакова.
Музыка, однако, не была единственной сферой, в которой политика Мамонтова оказалась своеобразным прецедентом для Русского балета. Художники собирались в Абрамцеве на протяжении более двадцати лет, и с самого начала Мамонтов ориентировал их таланты на театральное дело. Цикл опер, поставленный его труппой в конце 1890-х годов, представлял целую плеяду художников из числа будущих сотрудников Дягилева. Крупнейшими из них были Константин Коровин, главный театральный художник Мамонтова, Александр Головин, Валентин Серов[55]. Подобно передвижникам, они избрали предметом своего искусства темы русской жизни и российского прошлого. Но, в отличие от предшественников-реалистов, они окружили этот материал аурой красоты, столь чуждой утилитаристскому духу прошлого поколения. Открытые западным веяниям, они использовали новые приемы, наполняли композиции движением и воплощали сюжеты с виртуозной техникой живописи и богатством цвета. В период с 1896 и до 1899 года, когда Мамонтов оказался под следствием по обвинению в растрате, его студия создала декорации и костюмы для более десятка опер. Несмотря на то что работы числились за отдельными художниками – Коровин был автором «Садко», Серов – «Юдифи», Михаил Врубель – «Моцарта и Сальери», – в действительности они были плодом совместного творчества. Речь идет не только об интенсивном взаимном обмене идеями: часто некоторые художники выступали как в качестве авторов эскизов (к примеру, Врубель создал костюм морской царевны для «Садко»), так и в роли мастеров, писавших декорации: позднее их стали отдельно обозначать в афишах. Такой метод совместной работы, как и практику использования художников-станковистов вместо профессиональных декораторов, Дягилев стал применять с первых дней.
Кроме того что работа Коровина, Головина и Серова предопределила подход Дягилева к технической стороне постановки, она также привнесла в его антрепризу русский дух. В 1908–1910 годах эти трое подготовили декорации, а в некоторых случаях и костюмы, для спектаклей «Борис Годунов» (Головин), «Пир» (Коровин), «Юдифь» (Серов), «Иван Грозный» (Головин), «Руслан и Людмила» (Коровин), «Ориенталии» (Коровин) и «Жар-птица» (Головин). В 1911 году Серов также создал просцениумный занавес в духе персидских миниатюр, который сопровождал увертюру Римского-Корсакова к «Шехеразаде», а двумя годами позже Головин оформил возобновление «Ивана Грозного». Все эти усилия были логическим продолжением неонационалистских настроений, шедших из Абрамцева, и стали точкой сближения со сходно мыслящими художниками из Петербурга – Билибиным, Стеллецким, Рерихом, Бакстом и Бенуа, – также участвовавшими в некоторых из постановок. Тем не менее «русскость» с самого начала не поддавалась строгому определению: она имела оттенок ориентализма, который был общим знаменателем для России и Востока в понимании Парижа. Даже в Абрамцеве между национальным материалом и экзотикой проходила очень тонкая грань. Действительно, для самых разных художников России конца XIX века Россия и Восток представлялись в воображении чем-то сходным. Для империи, через которую тянулась Транссибирская железная дорога и на чьей земле были Бухара, среднеазиатский священный город мусульман, Бахчисарай и Одесса, «иным» в культурном отношении был скорее не Восток, а Запад. Формирование представления о России как исторически и этнически незападной стране, ставшее ключевым элементом в идеологии довоенной дягилевской антрепризы, было еще одним из проявлений наследия Мамонтова[56].
Для Льва Бакста и Александра Бенуа, ведущих творческих фигур у Дягилева в предвоенный период, приверженность русской национальной тематике не была первостепенной. Они отвергали славянское наполнение неонационализма, сохраняя присущий ему эмпирический и исторический метод.
В случае с Бакстом его связь с передвижниками очевидна. Она возникла в середине 1880-х годов, когда, будучи студентом Петербургской академии художеств, он познакомился с Михаилом Нестеровым, Виктором Васнецовым и Валентином Серовым, художниками круга Абрамцева. Серов, который некоторое время учился в академии у Репина, стал близким другом Бакста. Работы последнего, выполненные в конце 1880-х – начале 1890-х, с такими названиями, как «Пьяный факельщик» («Бредущий с похорон»), «Отчаяние» («Самоубийца»), «Супруги» («Мезальянс»), продолжали передвижническую традицию верности социальной правде, совмещая в себе реалистическое изображение действительности с интересом к наиболее мрачным ее сторонам. В 1890-е годы Бакст постепенно отходил от этой эстетики. В этом, в частности, проявилось его знание новых тенденций в живописи, приобретенное в Париже, куда он часто ездил и где периодически жил до 1899 года. Не меньшее значение имел его возросший интерес к природе. Как Фокин несколько позднее, Бакст в это переходное для него десятилетие покинул студию, рисуя пейзажи с натуры, делая наброски сцен деревенской жизни или запечатлевая изменяющиеся картины неба, а также написал первые из целой серии замечательных портретов. В 1897 году, застав свою возлюбленную в объятиях другого, он уехал в Северную Африку, и это путешествие обозначило для него начало увлечения Ближним Востоком, колыбелью ориентализма, столь ярко представленного в его работах для Русского балета. Поездка десять лет спустя в Грецию и знакомство с греческой, арабской и тюркской культурами произвели на него столь же неизгладимое впечатление.
Тем не менее, как и у Фокина, в основе бакстовского воображения лежал интеллектуальный акт – историческая реконструкция времени и места. Задолго до того как он получил свой первый заказ у Дягилева, он применил свои энциклопедические знания об искусстве прошлого при создании более чем полудюжины постановок, главным образом в Императорских театрах. Работая над «Сердцем маркизы» (1902), своим первым театральным опытом, и «Феей кукол» (1903), он вдохновлялся европейскими стилями XIX века, в частности немецким стилем бидермейер, к которому обратился также в «Карнавале» (1910), «Видении Розы» (1911) и «Бабочках» (1914). При постановке «Ипполита» (1902), «Эдипа в Колоне» (1904) и «Антигоны» (1904), аттических трагедий или пьес на их основе, он не стал дополнять современные костюмы греческими деталями, что было тогда распространено в театральной практике, а вместо этого предложил реконструировать классические древнегреческие костюмы, как делал и позже – в балетах «Нарцисс» (1911), «Дафнис и Хлоя» (1912), «Послеполуденный отдых фавна» (1912). Его костюмы для «Саломеи» (1908) в исполнении Иды Рубинштейн были созданы в восточном духе, предвосхищая экзотику «Клеопатры» (1909), «Шехеразады» (1910), «Тамары» (1912) и «Легенды об Иосифе (1914). Как отмечал Чарльз Майер, в основе всех этих постановок лежали глубокие знания из разных сфер художественной культуры, обогащенные и личными наблюдениями – как те, которые художник приобрел в 1912 году за несколько недель пребывания на Кавказе, когда готовился к постановке «Тамары»[57]. Такое углубленное погружение в историю диктовалось не теоретическими устремлениями. Для Бакста, как и для Фокина, изображение реальности в свете вновь обретенного знания, а не в духе общепринятых условностей было актом нововведения и освобождения. Натурализм, очищенный от его прогрессистской идеологии, был шагом вперед, способом увидеть нечто радикально новое. Как и другие художники с периферии Европы, Бакст открыл для себя подлинную реальность намного позже, чем представители парижского центра.
Что касается Александра Бенуа, то он руководствовался в творчестве сходными убеждениями. Однако истоки стремления Бенуа, сына Петербурга и внука Парижа, к аутентичности лежали в более глубоком прошлом. В центре его одержимости прошлым были три исторических момента: grand siècle[58] Версаля, воплощение французской цивилизации эпохи классицизма; Петербург времен Петра, истинно римская экспансия на болотистые северные земли, осуществленная актом колоссальной воли; и готическая Центральная Европа, выписанная в сказках Гофмана. Для Бенуа искусство представляло собой акт, посредством которого настоящее осознает необходимость оживления прошлого. Он с маниакальным усердием рисовал Версаль и Петербург, словно мог, воссоздавая их памятники, воскресить породившие их цивилизации – но понимал, что картины, выражающие тоску по этим цивилизациям, лишь свидетельствуют об их гибели. Уже в самых первых театральных работах Бенуа прослеживается влияние его серьезных увлечений. В «Мести Купидона», поставленной в Эрмитажном театре одноактной опере, где Бенуа дебютировал в качестве театрального художника, он опирался на свое убедительное знание XVIII века. В показанной в 1903 году Мариинским театром «Гибели богов» он обращался к средневековому космосу вагнеровской древнегерманской мифологии. А когда в 1907 году Николай Дризен и Николай Евреинов выразили желание воссоздать театральные формы Средневековья и испанского золотого века, именно Бенуа выступал в качестве художественного и исторического консультанта их Старинного театра. В его трудах – как научных, так и публицистических, – равно как и в томах его выдающихся воспоминаний, память выступает объектом глубокого поклонения. Обрисованные в деталях события прошлого отправляют читателя в путешествие назад во времени. Весьма типично то, что журнал, который Бенуа издавал в 1907–1916 годах, носил почти прустовское название – «Старые годы»[59].
Бенуа, будучи пассеистом, нашел в лице романтика Фокина идеального товарища по работе. Хореограф писал об их первой встрече осенью 1907 года, которая привела в итоге к созданию «Павильона Армиды»:
Мы говорили о том, что нас обоих волнует, увлекает. Ушли в волшебный мир, в сады очаровательной Армиды. С первой встречи обозначилось то взаимопонимание, которое привело к стольким художественным радостям, к стольким победам.
Бенуа повел меня на мост под самый потолок. Голова кружилась и от высоты, и от радости. Под ногами у меня расстилалась декорация – роскошный павильон Армиды. Счастливый момент![60]
«Павильон Армиды» с оформлением в стиле рококо был по сердцу художнику. Он бесконечно суетился над костюмами а-ля Людовик XIV, подолгу подбирая цвета для тесьмы или кружевные вставки: успех работы в его понимании был неразрывно связан с воссозданием исторического колорита. Менее чем через четыре месяца Фокин и Бенуа работали вместе над постановкой Bal poudré, пантомимой в стиле арлекинады XVII века. За «Шопенианой» 1909 года, вызвавшей у них равный эмоциональный подъем, в 1911-м последовал «Петрушка», их четвертая совместная работа – и вторая постановка на тему комедии дель арте. Наполненные прустовскими деталями, оба балета в поисках утраченной чистоты взывали к прошлому: первый – посредством романтических литографий, второй – через призму воспоминаний. Как и Бакст, Бенуа видел в верности образам эпохи способ передачи эмоциональной и поэтической правды.
Защита Фокиным сценического реализма оказалась глубоко созвучной историческим устремлениям художников круга «Мира искусства». Более того, она, безусловно, ставила его работу в один ряд с новаторскими начинаниями в драматическом театре, и прежде всего с реформами Константина Станиславского в Московском Художественном театре. В «Русском театре от Империи до Советов» Марк Слоним говорит об «археологически-историческом реализме», ставшем известным благодаря прославленной труппе Станиславского, «одной из наиболее важных тенденций» из тех, что способствовали изменениям в русской театральной жизни начала XX столетия:
Станиславский применял один и тот же метод исследования и реконструкции во всех исторических пьесах, будь то «Венецианский купец» или «Юлий Цезарь». При постановке последней он поехал вместе с актерами в Рим и позже воссоздал на московской сцене узкие улочки, Форум и живописную южную толпу города Цезаря. Такое же путешествие труппа совершила на Кипр, когда готовилась к постановке «Отелло». Чтобы публика могла осознать, насколько серьезной была подготовительная работа, показ новых спектаклей сопровождался соответствующими выставками. Так, зрители, пришедшие на «Юлия Цезаря», могли ознакомиться в фойе с русскими переводами Шекспира и увидеть подлинные предметы римской эпохи – монеты, оружие, а также картины и гравюры[61].
Как и Фокин, Станиславский рассматривал стиль как создание исторической иллюзии, основанной на прямом наблюдении реальности, совмещенном с исторической реконструкцией.
Первый петербургский сезон Московского Художественного театра, основанного в 1898 году, состоялся тремя годами позже. Фокин был среди публики[62]. Таким образом, он открыл для себя ранние постановки Станиславского именно в ту пору, когда происходило его художественное становление и когда ему нужно было, по его собственному убеждению, искать новые способы творческой самореализации. Семья Фокина также была связана с театром. Его брат Владимир стал известным актером; другой брат, Александр, организовал Троицкий театр миниатюр (в котором его жена, солистка Мариинского театра Александра Федорова, появлялась как прима-балерина)[63]. Хотя Фокин не упоминает об этом, эпохальные постановки Станиславским пьес Ибсена и Чехова определенно оставили след в его юношеском воображении. Свойственные им артистизм и убедительное воспроизведение времени и места, должно быть, внушили ему представление о будущих возможностях, о той силе воздействия, которой может обладать искусство в его высшей форме. Эти постановки продемонстрировали образцы стилистического единства, построения драматического действия и психологической достоверности, нашедших отражение в раннем творчестве Фокина.
Между труппой Дягилева и Московским Художественным театром существовало множество связей, о которых редко упоминают в исследованиях по истории Русского балета.
Бенуа «любил наш театр, знал его», – писал Владимир Немирович-Данченко, вместе со Станиславским основавший знаменитую труппу. В 1909 году, на высшей точке сотрудничества с Дягилевым, Бенуа вступил в тесный союз со Станиславским, став художником и сорежиссером его театра. Он сыграл заметную роль в полемике, которая разразилась в 1910 году вокруг постановки «Братьев Карамазовых» Немировича-Данченко, и, по распоряжению Станиславского, участвовал в составлении открытого ответного письма наиболее суровому критику пьесы – Максиму Горькому. Два года спустя Бенуа присоединился к труппе не только в качестве художника, но и – в ряде случаев – сопостановщика[64].
Другой фигурой на пересечении интересов этих двух трупп был Александр Санин, покинувший Художественный театр в 1902 году. Санин был штатным режиссером Александринского театра и стал одним из первых, кто в Императорских театрах признал талант Фокина. В 1905 году, увидев балет «Ацис и Галатея», он попросил хореографа поставить танец шутов для драмы Алексея Константиновича Толстого «Смерть Иоанна Грозного», но эта просьба была отклонена Александром Крупенским: тот сказал Санину, что «не имеет права помимо конторы выбирать себе сотрудников»[65]. Санин в гневе покинул Александринский театр. Тем не менее в 1908 году Дягилев пригласил его руководить постановкой «Бориса Годунова», а еще через год – ставить для Парижа оперы «Иван Грозный», «Руслан и Людмила», «Юдифь», «Князь Игорь». В 1913 и 1914 годах, вновь обратившись к постановке опер, Дягилев снова позвал Санина, который подготовил спектакли «Борис Годунов», «Хованщина» и «Соловей» (последний вместе с Бенуа)[66].
Еще одним человеком на пересечении был Савва Мамонтов, чья жажда деятельности после возвращения из долговой тюрьмы – в отличие от его состояния – нисколько не уменьшилась. В 1905 году он объединил свои силы со Станиславским, став содиректором Театра-Студии, экспериментальной труппы, существовавшей при Московском Художественном театре. Под руководством Мамонтова к сотрудничеству с театром были привлечены художники, приверженные новым направлениям, – в частности, Николай Сапунов и Сергей Судейкин, ученики Коровина и Серова, присоединившихся к кругу мирискусников. В 1906 году Дягилев пригласил Судейкина в Париж в связи с организованной им в Осеннем салоне выставкой русской живописи. Через семь лет Судейкин оформил спектакль «Трагедия Саломеи» для Русского балета. Еще одним художником, близким к кругу мирискусников, который работал для труппы Дягилева после сотрудничества со Станиславским, был Мстислав Добужинский. В 1906 году он оформил «Горе от ума» для Художественного театра, а тремя годами позднее в постановке «Месяц в деревне» обратился к стилю бидермейер, который столь успешно будет использован Бакстом год спустя в постановке «Карнавала». (Влияние это не было полностью односторонним: так, Станиславский перенес действие пьесы Герхарта Гауптмана «Шлюк и Яу», поставленной в Театре-Студии в 1905 году, из средневековой Силезии во времена париков Людовика XIV – после того как посетил великолепную выставку портретов XVIII века, организованную Дягилевым в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге[67].)
Воздействие Художественного театра распространилось и на балет. В Большом театре влияние Станиславского имело значительные последствия, и началось оно почти одновременно с созданием Художественного театра в 1898 году – в тот год, когда из Мариинского театра пришел характерный танцовщик и подающий надежды хореограф Александр Горский. Возобновление им «Дон Кихота» в 1900 году было «не менее чем революционной реформой в балете», как писала историк балета Наталья Рославлева:
Влияние Художественного театра было особенно заметным в первом акте старого балета Минкуса. Вместо застывших линий кордебалета там появилась живая толпа людей, которые двигались и смеялись, продавая свои товары на базарной площади. Вместо традиционно-условных костюмов появились настоящие испанские платья[68].
Горский сформировал целое созвездие танцовщиков-актеров: Михаил Мордкин, Федор Козлов, Александр Волинин, Лаврентий Новиков, – все они впоследствии танцевали у Дягилева. Его открытием стала Софья Федорова, непревзойденная в главной роли половецкой девушки у Фокина. Станиславский, в свою очередь, приглашал Мордкина, чтобы тот обучал его актеров выразительной пластике.
Наряду со сценическим реализмом работа Фокина воплощала еще один принцип Художественного театра: отношение к ансамблю как к живому коллективу. «Новый балет… идет вперед, – говорил он в письме в лондонский “Таймс” в 1914 году, – от выразительности лица к выразительности всего тела, от выразительности индивидуального тела к выразительности группы тел и выразительности массового танца всей толпы»[69]. Слово «толпа» здесь – ключ к пониманию его формального метода и освободительного видения, пронизывавшего его работу. Устранив диагональные и прямоугольные построения, типичные для Петипа, Фокин превратил кордебалет в то, что критик Валериан Светлов назвал «собирательным артистом, проникнутым идеей и стилем постановки, живущим внутри ее и в ней взаимодействующим»[70]. В балетах Петипа кордебалет служил окружением балерины, помещая ее в рамки столь же четкие, как этикет Императорского двора; она так же всецело руководила сценой, как царь – подданными. Вокруг нее, в порядке возрастания значимости, располагались танцовщики менее высоких рангов: корифеи – группами по восемь человек; деми-корифеи – по четверо; деми-солисты – в парах; солистки и первые танцовщицы – в менее крупных ролях. В ирреальных сценах-видениях из «Баядерки» или «Спящей красавицы» расположение танцовщиков на сцене отражало существовавшую в Мариинском театре служебную иерархию.
В противовес этому, Фокин отменил всевозможные привилегии и внешние проявления рангов. В его работах балерина перестала существовать обособленно и стала сливаться со своим новым, демократизированным окружением. Даже в «Шопениане», напоминавшей о классических структурах «Жизели» и «Лебединого озера», он объединял солистов и ансамбль, позволяя солистам лишь временами – и недолго – проявлять себя на сцене индивидуально. В то же время он разбил имперские прямолинейные массовые построения Петипа, заменив их небольшими асимметричными группами, которые, перемещаясь, образовывали постоянно изменяющиеся узоры. Отмена градаций, произведенная Фокиным, имела, таким образом, два следствия: свергнув с престола королеву в «пчелином улье» Петипа, он наделил человеческими чертами «трутней», которые существовали вокруг нее.
Фокинский «освобожденный» ансамбль появился в его работах довольно рано и затем часто возникал вновь. В «Виноградной лозе» завсегдатаи кабачка и вина, которые они пили, появлялись в едином танце в финальной вакхической сцене. Эта концовка, вариант традиционной коды, стала прототипом той бешеной, бесшабашной толпы, которая бросала в восторженную дрожь зрителей довоенных фокинских постановок. По поводу «шокирующей брутальности» «Шехеразады» Арнольд Беннетт писал:
Ужас. В ошеломляющем великолепии Русского балета публика видела евнухов за работой, с турецкими ятаганами в руках. За безумной оргией последовало варварское наказание, ужасное и отталкивающее; безусловно, это был один из кровавейших эпизодов, когда-либо показанных на западной сцене. Евнухи в бешенстве преследовали хрупких и прекрасных одалисок; в одно мгновение сераль был полон телами зарубленных девушек, лежащими в самых уродливых позах смерти. И затем наступала тишина, нарушаемая лишь тяжелым дыханием палачей[71].
Толпа притягивала Фокина как средство противостояния сценической и социальной иерархии балета. Привлекали его и свойственная толпе изменчивость, заложенная в ней склонность к жестокости, выходящая за пределы эмоциональность, способность толпы к совместным действиям и чувствам. «В каждом почти балете М. М. Фокина, – писал Андрей Левинсон, – есть момент, когда все участвующие, без различия их предшествующей хореографической роли, берутся за руки и образуют длинную цепь… которая свертывается в концентрические круги и несется в темпах, все более ускоряющихся»[72]. Смерть Амуна в «Клеопатре» происходит в ходе жестокой оргии, где толпа превращается в единую извивающуюся массу. Разгул, предшествующий финальной бойне в «Шехеразаде», происходит в той же конвульсивной форме. Левинсон пишет:
И начинается тайный пир. Высоко держа над головами блюда с нагроможденными плодами, вбегают… огибая сцену широкой дугой, пестрые индусские юноши-слуги, за ними, одна за другой, непрерывной цепью следуют розовые альмеи в темно-красных чадрах, за ними зеленые – и вскоре вся сцена охвачена вихрем всеобщего хоровода, сплетающегося во все мыслимые фигуры, точно извилистая геральдическая змея[73].
В картинах стихии, необузданной, внезапным хаосом обрушивающейся на размеренную жизнь общества, Левинсон усматривает определенный подтекст этих конвульсивных оргий, которые лишь в редких случаях имеют эротический смысл. Фокинская толпа воспроизводит пароксизмы самой революции: буйство вырвавшихся на свободу масс, опьянение кровью, триумф инстинкта над разумом, освобождение индивида через коллективное действие. В отличие от Левинсона, который с недоверием относился к любым изменениям, Фокин приветствовал борьбу старого и нового: революция разрушила многое, но многое и создала. Наследие 1905 года, таким образом, не сводилось к рождению Фокина как хореографа или формированию группы его художественных последователей. Оно определило самую ткань его работ. Основываясь на принципе сценического реализма, прославленного Московским Художественным театром, он показал живую толпу как срез политической жизни общества: дух 1905 года продолжал существовать на сцене.
То, насколько Фокин был обязан Станиславскому, заметнее всего в «Петрушке» – возможно, его лучшей работе для Русского балета. В этой постановке он изобразил масленичные гулянья в Петербурге 1830-х годов со всем богатством деталей и верностью эталону прославленной толпы Станиславского в Художественном театре. Создавая это живое социальное единство, Фокин прежде всего стремился сделать незаметным участие постановщика:
Я хотел, чтобы все танцующие на масленичном гулянье танцевали весело, свободно, как будто никто им танцев не сочинял и не ставил, как будто они сами от избытка чувств и веселья пускаются в пляс, кому как бог на душу положит. Словом, чтобы ничего и не намекало на существование балетмейстера[74].
Фокин работал со своим материалом, как импрессионист, смешивая тональности движения, затем задерживал взгляд зрителя на неожиданном прыжке или жесте, который почти сразу же растворялся в общей массе. Описание Левинсоном четвертой картины передает сменяющийся поток образов, которые делают толпу столь живой и убедительной для русского зрителя 1911 года:
Тем временем на площади клубится праздничный угар, плывут, разводя руками и помавая ладонями, раскрасавицы «кормилицы» в сарафанах и кокошниках, лихо стучат каблуками ямщики в цветных поддевках, с галунами на шляпах, несутся вприсядку бойкие парнишки, ряженые со страшными рожами вмешиваются в толпу, между тем как барыни, сопровождаемые статными офицерами в треуголках и шинелях и франтами в бекешах, брезгливо рассматривают в лорнеты грубые увеселения простонародья[75].
Натурализм простирался далеко за пределы того, как Фокин распоряжался массами на сцене. Его живая толпа была прежде всего собранием личностей – кучеров, цыган, уличных торговцев, кормилиц, шарманщиков, скоморохов, – которые выходили на сцену со своими биографиями и полно очерченной индивидуальностью. Партитура «Петрушки» – второго произведения, написанного Стравинским для Русского балета, – содержала темы для десятков характеров. Костюмы Бенуа соответствовали этому музыкальному разнообразию. Он прилежно изучил моду 1830–1840-х годов, создав более сотни костюмов представителей разных социальных слоев. Его декорации были также полны реалистических деталей: карусель, прилавки с пряниками, стол с кипящим самоваром… На репетициях Фокин работал вместе с Бенуа, который подсказал ему множество реалистических деталей, благодаря которым толпа не выглядела безликой массой, а представляла собой собрание разноликих персонажей.
Подобная индивидуализация, неотъемлемая часть фокинского метода, наводит на мысль о другой параллели со Станиславским, чей театр славился как реалистической игрой актеров, так и своим ансамблем. Фокин устранил то, что Осип Мандельштам назвал «смородинными улыбками балерин» и «растительным послушанием кордебалета»[76]. Он придал человеческие, индивидуальные черты каждому из танцовщиков, превращая его в актера и назначая ему свою роль в обширной драме. В отличие от своих последователей, представителей неоклассической хореографии, Фокин был уверен, что движения сами по себе не передают сюжет. Он чувствовал, что движение выразительно лишь в той степени, в какой оно схватывает эмоциональную и психологическую правду и близко к естественности. В своем письме 1914 года в «Таймс» он назвал вторым «правилом» нового балета необходимость драматической обоснованности танца и мимики – одно из фундаментальных положений теории актерской игры Станиславского. В отличие от пантомимы, у Фокина «жизненные жесты» рук представляли собой «не замены слова, а дополнения к слову», продолжение естественных жестов, которые позволяют «услышать» то, что не было произнесено вслух. В то же самое время, распространяя понятие жестикуляции на любое движение, Фокин провозглашал «мимику всего тела»: «Человек может и должен быть выразительным весь, с ног до головы»[77].
Драматический реализм предполагал новый подход к изображению характера. Заботясь о содержании прежде, чем о форме, он ставил смысл выше метафор движения; воспроизводя характер, реализм предпочитал народные говоры кодифицированному языку научных кругов. В «Петрушке» психологическая сторона определяла пластическую образность: наивный и бесхитростный герой, интроверт, предстает «невыворотным», завернутым вовнутрь; ярко размалеванный Арап, экстраверт, – «выворотным»; Балерина, кокетливая пустоголовая Коломбина, вышагивает на пуантах, как механическая кукла. Актерская игра также отражала новую «мимику», и нет ничего удивительного в том, что фокинские танцовщики наполняли балеты той же самой жизненной силой, которую их коллеги из Художественного театра привносили в постановки Ибсена и Чехова. Из всех танцовщиков, работавших с Фокиным, его идеалу наиболее соответствовала Павлова. Она говорила критику Валериану Светлову:
За рубежом говорили, что в моем танце было «что-то оригинальное». Единственное, что я делала, – это пыталась подчинять движения тела психологическому замыслу: техническую сторону танца – я имею в виду танец per se[78] – я постаралась окутать духом поэзии, очарование которой могло бы завуалировать механику движений. Когда я танцую, я часто импровизирую, особенно когда роль увлекает и вдохновляет меня. Я беру из хореографической палитры любую краску, которая соответствует ходу моего воображения, и стараюсь довести любую мелочь до совершенства. Только так я могу создать впечатление, которое зрителю покажется новым. Насколько я знаю, в этом единственный секрет моего искусства[79].
Безусловно, натурализм был лишь одним из средств в арсенале Фокина, направленном против балетного театра XIX века. Но по целому ряду причин он занимает в нем почетное место. Будучи центральным принципом фокинской реформы, натурализм открывал классическому танцу широкий простор для смелых экспериментов. В то же время он создавал близость между балетом и бунтарскими движениями в драме, музыке и живописи. Наконец, он обозначил веху той либеральной позиции, которую Фокин считал близкой ему по духу и стимулирующей воображение.
Несмотря на это, с самого начала натурализм находился в связи с эстетикой, которая во всей остальной Европе шла ему на смену. Символизм поздно пришел в Россию, и еще позже – в российский театр. Позднее всего он пришел в балет. Однако каким бы поздним ни было его появление, оно оказало определяющее и устойчивое влияние на творчество Фокина. Символизм предлагал широкий спектр идей: темы мятущейся личности и комедии дель арте, возрождение интереса к синтезу искусств, акцент на субъективное восприятие художника; культ красоты, увлечение эротизмом, мироощущение в духе метафизики идеализма. Провозглашенные модернизмом, эти идеи рубежа веков связывали творчество Фокина с течениями в других видах искусства, которые стремились скорее преобразить реальность, чем описать ее буквально, и с экспериментами его последователей в хореографии, которые позднее завершили модернистскую революцию, инициированную им, и даже вышли за ее рамки. Наконец, символизм Фокина подготовил идеологическую почву: он выдвинул идеал индивидуализма, выступивший антитезисом общественно-групповому тезису натурализма.
Как уже было сказано, Фокин до 1907 года не имел тесных контактов с «Миром искусства». Конечно, он знал о его существовании и посетил некоторые из его выставок; по его собственному свидетельству, одноименный журнал также был ему знаком. Однако мирискусники принадлежали к другой сфере – к элите, к которой он не принадлежал ни по своему социальному статусу, ни по роду занятий. В своих мемуарах Фокин описывает первое знакомство – если можно так сказать – с Дягилевым:
Когда я только начинал свою карьеру танцора, Дягилев был чиновником особых поручений при директоре Императорских театров… Я видел Дягилева… стоящим в антракте среди группы чиновников, спиной к занавесу. Я знал, что в дирекции всегда есть молодые люди из хороших фамилий, которые сразу обходят сотни служащих в конторе чиновников и попадают на самые верхи театральной организации. Гоголь назвал этих чиновников ужасным, но метким словом «приклеиши»… этот человек казался мне принадлежащим к чиновникам, которые так много распоряжаются в театре и так много портят в балете… я с ним, кажется, ни одним словом тогда не обменивался и лишь раскланивался, как со всеми служащими в дирекции[80].
Хотя прямое влияние, должно быть, исключено, Фокин основывался в работе на идеях, ставших популярными благодаря «Миру искусства» и другим символистским журналам. Кто заронил их семена во взгляды Фокина – это другая, более загадочная история; можно предположить – по отсутствию точных упоминаний в его мемуарах, – что это происходило бессистемно и само собой: в беседах с друзьями, во впечатлениях от спектаклей «новой драмы», в отрывочном и неупорядоченном чтении. Каким бы случайным ни было его знание символизма, к 1907 году фокинские воззрения в общих чертах были сходны с воззрениями «Мира искусства». «Мы сразу тогда и спелись», – высказывался Бенуа о первой встрече с хореографом по поводу постановки «Павильона Армиды». «Он не менее, чем я, желал уберечь балет от дешевых влияний и дать своему искусству новые права на жизнь»[81].
«Мир искусства», основанный в 1898 году Дягилевым, который был издателем в течение всех шести лет его существования, занимал в России такое же место, как «Стьюдио» в Англии и «Ревю Бланш» во Франции: журнал ставил своей целью обращение образованной публики в эстетику символизма. «Программа, – замечает Джоан Росс Акочелла, – была ясно изложена с самого начала в написанных Дягилевым четырех полемических эссе, которые стали главным содержанием двух первых выпусков»[82]. В них Дягилев сформулировал свое кредо: вера в независимость и субъективность искусства; преклонение перед красотой и уверенность в ее связи с раскрытием индивидуальности художника; видение искусства как акта коммуникации между личностью художника и личностью зрителя. Щедро иллюстрированный, «Мир искусства» представил русским читателям «полную и разнообразную коллекцию» работ западных художников-символистов – представителей французской школы, движения английских эстетиков, художественной школы Глазго, австрийского Сецессиона, немецкой школы символистов, включая «Новых идеалистов» и графиков югендштиля, ар-нуво. Как и у любого журнала, у «Мира искусства» были свои фавориты: Обри Бердслей, Морис Дени и, прежде всего, Джеймс Уистлер, чьи работы украшали страницы журнала и часто становились темами эссе и заметок в разделе «Хроники искусства»[83]. Опубликованная в журнале в 1902 году статья Валерия Брюсова «Ненужная правда» распространила критику реализма и на театр. Действительно, это эссе, написанное главой молодого поколения символистов и автором одной из первых символистских пьес на русском языке («Земля», 1904), стало поворотным моментом в истории русского театра, поскольку представляло собой бескомпромиссную атаку – первую в своем роде – на методы и достижения Московского Художественного театра.
Брюсов провозглашал:
Театру пора перестать подделывать действительность. Предмет искусства – душа художника, его чувствование, его воззрение; она и есть содержание художественного произведения; его фабула, его идея – это форма; образы, краски, звуки – материал… Артист на сцене то же, что скульптор перед глыбой глины: он должен воплотить в осязательной форме такое же содержание, как скульптор – порывы своей души, ее чувствования… Помочь актеру раскрыть свою душу перед зрителями – вот единственное назначение театра[84].
Сходство с позицией Дягилева очевидно.
Символизм витал в воздухе еще с 1890-х, однако постановки символистских пьес в России относятся к новому веку. В 1903 году в Севастополе Всеволод Мейерхольд, недавно покинувший Художественный театр, поставил пьесу Мориса Метерлинка «Непрошенная». Год спустя в Москве Станиславский показал постановку этой и еще двух пьес бельгийского символиста: вечер дал критикам право говорить то, что утверждал и сам Метерлинк, – что его пьесы несценичны[85]. В 1905 году в ответ на вызов, брошенный «новой драмой», Станиславский основал Театр-Студию с Брюсовым, возглавившим «литературное бюро», и Мейерхольдом в качестве режиссера. Это предприятие, просуществовавшее менее полугода и так никогда и не открывшее своих дверей публике, оказалось неудачным. Тем не менее оно принесло свои дивиденды: при постановке метерлинковской «Смерти Тентажиля» и «Шлюка и Яу» Гауптмана Мейерхольд вышел на принцип стилизации, легший в основу его будущих спектаклей и ставший разрешением символистской головоломки. Эдвард Браун пишет:
Уроки, полученные в Театре-Студии, дали Мейерхольду тот опыт, который был необходим для достижения его будущего успеха в Петербурге и который привел к установлению новой традиции в русском театре – традиции, которой был привержен сам Московский Художественный театр и которую он вскоре продолжил серией спектаклей, апогеем которой стал «Гамлет» в постановке Гордона Крэга[86].
Перед нами не стоит задача проанализировать огромный вклад Мейерхольда в утверждение символизма в актерской игре и режиссуре. Важно то, что театральный символизм в России возник напрямую от натурализма, что это произошло всего за три или четыре года и что эти годы совпали со временем рождения Фокина как хореографа. Иными словами, он начал ставить танцы именно в тот момент, когда два противоположных течения, символизм и натурализм, начали сходиться, когда символизм, казалось, пришел на смену своему предшественнику в ходе естественного процесса развития. Немирович-Данченко однажды заметил, что Чехов «отточил свой реализм до такой степени, что тот стал символическим»[87]. Так и Фокин, очарованный реальностью, тонко видоизменял природные формы: в плоть реализма он вдохнул свою индивидуальность. В его представлениях символизм и натурализм находились не в противоборстве, а в родстве.
Точно так же, как натурализм дал обобщение целому ряду идей об устройстве общества, символизм в творчестве Фокина занял территорию, относящуюся к индивидуальности. Самоценность взгляда автора, конечно, была главным принципом символизма наряду с независимой позицией художника; столь же дорогой символизму была тема Пьеро, поэта, отвергнутого и обманутого обществом мещан. Но интерес Фокина к индивидуальному выходил за рамки формального метода: его уважение к танцовщикам как сотворцам, его повышенное внимание к их индивидуальным эмоциям, его «освобожденная» техника и столь же «освобожденное» отношение к телу танцовщика отражают видение, истоки которого лежат в социальной реальности. Это видение, выступающее одновременно за равноправие и против авторитаризма, полностью определяло все стороны жизни Фокина: его столкновения с бюрократией Мариинского театра, товарищескую атмосферу его первых постановок, его восхищение Айседорой Дункан, его либеральные воззрения. В то же время оно отражало и наличие за его спиной группы сторонников – учеников, партнеров, друзей, – которые верили в него и примыкали к нему вначале как к политическому единомышленнику, затем как к художественному лидеру. Внутри этой группы он обнаружил проявления, родственные многим сторонам его личности, а также нашел соратников по борьбе, пронизывавшей его творчество до самых последних дней, – борьбе между утверждением личностью ее индивидуального права быть и отрицанием этого права обществом.
Это противоречие яснее всего отразилось в сольных номерах, созданных Фокиным в 1905–1911 годах для его величайших исполнителей: «Умирающем лебеде» (1907), поставленном для Павловой, сцене выхода Карсавиной в «Жар-птице» (1910) и в монологе Петрушки (1911), исполненном Нижинским. Все три номера, будучи размышлениями об индивидуальности, представляют собой трагедию осведомленности; в каждом из них исполнитель приходит к осознанию конечности и беспомощности человеческого бытия. Образцовым в этом отношении был «Умирающий лебедь»: выраженное в нем чувство оказалось настолько универсальным, что неизменно вызывало рукоплескания публики в течение всех двадцати шести лет, пока Павлова исполняла его.
Сирил Бомонт, наблюдавший его множество раз, писал:
Никто из тех, кто не видел этот танец, не может представить себе, какое впечатление он производит на умы и сердца зрителей: трогательный трепет рук, медленное оседание тела, печальный взгляд и финальная поза, когда все замирает, вызывают столь глубокое и переполняющее чувство, что проходит некоторое время, прежде чем зритель становится способен выразить свой восторг посредством аплодисментов[88].
Фокинская балерина отнюдь не была первым «птичьим» персонажем, погибавшим на сцене. Однако, в отличие от Одетты в «Лебедином озере», она умирает в полном осознании собственной агонии, она ощущает постепенное угасание жизни, приближение к грани смерти. Хотя она и подчиняется судьбе, но не сдается ей; содрогания ее крыльев утверждают жизнь; они выражают некий безнадежный протест.
Соло Карсавиной в «Жар-птице» построено на сходной дихотомии, на противопоставлении борьбы и существования взаперти. Впрочем, балет имеет политический подтекст: как и опера Римского-Корсакова «Кощей Бессмертный», он представляет собой сказку о наказанной тирании. В образе Ивана-царевича Фокин превращает традиционного принца-охотника в дарителя героине не столько свободы, сколько несвободы. Весь балет в целом, по существу, построен вокруг конфликта свободы и власти, причем последняя воплощена не только в образе Ивана – будущего царя, но и в образе ужасного Кощея, свергнутого с престола народом, состоящим из заколдованных царевен, болибошек, туземцев, «вооруженных» золотым пером Жар-птицы. На свободе Жар-птица блещет силой существа, живущего во всей полноте; в неволе она выступает проявлением беспомощности индивидуальности самой по себе. Эти две ее ипостаси олицетворяют драматические события 1905 года – взлет надежд и их стремительное падение, порывы, так никогда и не осуществившиеся.
В «Петрушке», наоборот, Фокина интересует личность как социальный и психологический феномен. Вновь его протагонист взят из коллекции балетных персонажей, и вновь он интерпретирует его как экзистенциального героя. Как и другие «страдальцы» Фокина, Петрушка приходит к осознанию трагедии своей несвободы: он понимает, что его человеческая душа никогда не вырвется из клетки кукольного тела и никогда не освободится из подчинения Фокуснику под взглядом окружающей толпы; что любовь, терзающая его сердце, обречена, подобно его мужскому естеству, существовать лишь в виде бессильного желания – сколько бы он ни бился о стены клетки и ни «умерщвлял свою плоть» в знак протеста. В современной балету критике Бенуа утверждал, что «трагическая направленность» балета происходит от «самого столкновения одинокой души Петрушки с душой толпы. Вся роль [Нижинского] состояла в том, чтобы передать пафос угнетенной личности и ее беспомощные попытки сохранить свое счастье и достоинство»[89].
Петрушка, смесь Панча и Пьеро, обращался напрямую к поколению, воспитанному на ярмарочных представлениях и поэтизированных картинах комедии дель арте. Символизм высоко ценил последнюю, как и «Мир искусства» – судя по таким картинам, как «Итальянская комедия» Бенуа или «Арлекин и дама», одно из полотен Константина Сомова, изображавшим сцены с участием Арлекина и Коломбины[90]. Тем не менее большее значение для балета имело возвращение этой темы на драматическую сцену.
«Балаганчик» Александра Блока был не первой встречей Мейерхольда с материалом комедии дель арте. (В 1903 году в провинциальном Херсоне он ставил малоизвестную мелодраму Франца фон Шентана «Акробаты».) Но именно этот спектакль оставил яркий след в театральной истории. Его премьера в театре Веры Комиссаржевской вызвала бурную реакцию у публики: по словам свидетелей, «возгласы одобрения тонули в пронзительном свисте и гневных криках»[91]. «Балаганчик» предвосхитил внутреннюю драму «Петрушки» в нескольких смыслах: в образах, взятых из комедийного арсенала; в любовном треугольнике, где за сердце Коломбины бьются Арлекин и Пьеро; в противопоставлении наивности и коварства, истинной любви и притворства, поэтической проникновенности и поверхностной эмоциональности. Более того, в отношении хореографии пьеса и балет обнаруживают теснейшее сходство. Режиссура Мейерхольда «свела» персонажей к «типичным для них жестам»: Пьеро всякий раз вздыхал и взмахивал руками почти так же, как пять лет спустя будет делать Петрушка. Как кукла Нижинского, Пьеро в исполнении Мейерхольда представлял собой фигуру, граничащую с гротеском. Угловатый, язвительный и вместе с тем вызывающий глубокое сочувствие, он «не имел ничего общего, – писал один критик, – с привычными фальшиво-приторными и жалостливыми Пьеро»[92].
Фокина, должно быть, привела в восхищение игра Мейерхольда: не случайно он пригласил его в 1910 году на роль Пьеро в «Карнавале». (В своих воспоминаниях Фокин называет участие режиссера «неожиданным», и это звучит довольно странно, учитывая то, что Фокин пользовался полной свободой в выборе и приглашении исполнителей. Безусловно, энтузиазм танцовщиков по поводу постановки сильно возрос. Бронислава Нижинская писала: «“Дягилевцы-фокинисты” заволновались: все мечтали участвовать в новом балете»[93].)«Карнавал» был многим обязан «Балаганчику». Как и в пьесе Блока, там смешивались элементы комедии и реальности: среди персонажей традиционной арлекинады появлялись и гости в карнавальных масках. В обоих спектаклях преобладал иронический тон, и в обоих случаях сцена была затянута синими драпировками. Премьера прошла в ходе бала, организованного журналом «Сатирикон». В финальном танце исполнители смешивались с публикой, что весьма соответствовало известному мейерхольдовскому высказыванию того времени – «разбить рампу». (В возобновлении пьесы Блока 1908 года у Мейерхольда «Автор» озвучивал свои протесты из публики, а годом раньше в постановке «Победы смерти» исполнители в прологе выходили из глубины зрительного зала.) В довершение всего, обе постановки объединял образ Пьеро, одинокого мечтателя, который воплощал трагедию поэта среди мещанской толпы. «Стилизованные жесты» Мейерхольда, писала одна из актрис – участниц первой постановки, «были внушены ему музыкальными понятиями о создании образов; они были красноречивы, потому что… их подсказывал внутренний ритм роли»[94]. Внутренний ритм был характерен и для мейерхольдовской игры в «Карнавале».
Нижинская, выступавшая в этой роли, вспоминала:
Бесшумно преследовал Пьеро улетавшую от него бабочку. Прячась, он перебегал от одного дивана к другому, украдкой выглядывая то оттуда, то отсюда, потом неожиданно кидался за мной, я убегала со сцены, и он терял меня из виду. Пьеро казалось, что бабочка где-то на земле, он накрывал ее шапочкой и, размахивая руками, прыгал от радости. Затем ложился на пол рядом с шапочкой и осторожно, чтобы не помять нежные крылья бабочки, приподнимал ее край. Подрагивание рук Мейерхольда прекрасно передавало трепетание бабочки под шапочкой. Он был весь в волнении, ему так не терпелось близко взглянуть на это прекрасное и недоступное создание. Когда же Пьеро обнаруживал, что бабочка исчезла, что ее нет под шапочкой, взгляд его был полон такого душераздирающего разочарования, такого отчаяния! Он грустно надевал шапочку, натягивал ее на лоб, а затем, повеся голову и безвольно болтая длинными белыми руками, медленно большими шагами пересекал авансцену и исчезал[95].
На вопрос о влиянии Мейерхольда на Фокина не так легко ответить. Прежде всего, сведений об этом довольно мало. Потом, существует «прометеевский» миф, который породил сам Фокин: если верить его мемуарам, заслуга создания «нового балета» принадлежит ему одному. Однако то, что Мейерхольд и Фокин сотрудничали, – документально зафиксированный факт. Кроме «Карнавала», они вместе работали над «Саломеей» Оскара Уайльда, показанной в 1908 году в Михайловском театре, над постановкой «Орфея и Эвридики» Глюка в Мариинском театре в 1911 году и «Пизанеллой» Габриеле Д’Аннунцио, поставленной в Париже в 1913 году для Иды Рубинштейн. Более того, после 1908 года, когда Мейерхольд стал штатным режиссером Императорских театров, они с Фокиным существовали в одном и том же артистическом окружении, что давало им возможность наблюдать за достижениями друг друга. Есть основания предположить, что Фокин знал о частных постановках Мейерхольда, его камерных работах, чаще всего экспериментального толка, которые он создавал вне стен Императорских театров. Одной из них, показанной в конце 1908 года в театре при одном из актерских клубов Петербурга, был фольклорный фарс Петра Потемкина «Петрушка». Оформленный Добужинским и Билибиным, этот спектакль наверняка обратил на себя внимание Фокина – если и не напрямую, то через Бенуа, который не только лично знал Билибина и Добужинского, но и был автором критических отзывов на ряд постановок Мейерхольда тех лет[96].
В мемуарах Фокина упоминание о Мейерхольде встречается лишь однажды. Знаменательно, что хореограф говорит о нем лишь в связи с постановкой «Карнавала» и подчеркивает только его мастерство как мима, упоминая о том, что именно «Карнавал» посвятил режиссера-новатора в тайны ритмического движения[97]. Как нам известно, это не соответствует истине и в данном контексте выглядит совершенно неоправданным – как будто Фокин после долгих лет затаенной злобы наконец нашел способ уменьшить заслуги Мейерхольда. Источником этой злобы стала, надо полагать, постановка «Орфея и Эвридики» – необычный эксперимент, над которым они работали совместно, пытаясь преобразовать сцену в динамичную, многогранную конструкцию. Чтобы избежать дисгармонии между хором и кордебалетом, было принято решение – кто его предложил, мы, возможно, так и не узнаем – смешать их, отдав всю получившуюся массу под руководство Фокина. В письме Сирилу Бомонту, опубликованному в русском издании его мемуаров, он писал:
Я задумал так, при поднятии занавеса вся сцена покрыта недвижными телами. Группы в самых неестественных позах, как бы замерев в судороге, в ужасной адской муке облепили высокие скалы и свешивались в пропасти… Во время пения хора… вся эта масса тел делала одно медленное движение, один страшный коллективный жест. Будто одно невероятных размеров чудовище, до которого дотронулись, зловеще поднимается. Один жест во всю длинную фразу хора. Потом вся масса, застыв на несколько минут в новой группе, так же медленно начинает съеживаться, потом переползать. Все, изображающие теней, вся балетная труппа, весь хор мужской и женский и вся театральная школа, и сотни статистов – все это ползло, меняясь местами… Конечно, никто бы из публики не мог понять, где начинается балет, где кончается хор[98].
Фокин поставил еще несколько сцен или участвовал в их постановке, и в программке он, как и Мейерхольд, был обозначен как режиссер. Тем не менее он считал, что Мейерхольд преуменьшил степень его участия, и позднее Фокин чуть ли не утверждал, что являлся постановщиком практически всей оперы. Их разногласия стали достоянием прессы, и хотя после премьеры страсти немного поутихли, самолюбие Фокина было глубоко уязвлено. Однако куда более тяжелым для него стало прекращение сотрудничества с Мейерхольдом. (При постановке «Пизанеллы» для Иды Рубинштейн они работали вместе постольку, поскольку оба были приглашены, но это не было творческим союзом.) Разрыв с Мейерхольдом был злополучным вдвойне: Фокин в единый миг потерял своего союзника в кругах Мариинского театра и утратил тот экспериментаторский импульс, который в скором времени мог бы положить начало модернизму. Спустя менее полугода он понес еще одну, столь же болезненную, утрату. Покинув Русский балет, он расстался с балетной семьей, которая питала его хореографию с 1905 года. Около 1912 года наиболее плодотворный период в его карьере окончился.
В экзистенциальных героях Фокина нашла отражение одна из граней его понимания личности – хрупкость индивидуальной свободы и трагедия ее утраты. Другие роли прославляли иных героев: свободолюбивых личностей, живущих вне правил, принятых в обществе. Эти раскрепощенные герои – большей частью экзотические и обычно мужского пола – облекали мечту о свободе во плоть человеческих возможностей. Они превозносили силу людей, которые живут по своим инстинктам, реализуя свою истинную сущность и преступая рамки внешних приличий. Образцом такого героя был Золотой раб из «Шехеразады», станцованный Нижинским: первобытный человек, в образе которого, начиная с его появления на сцене и до последнего смертельного спазма, ярко воплощалась идея полностью освобожденной индивидуальности и ее неизбежного конфликта с обществом. Ныне «Шехеразада» кажется верхом балетной манерности. Шах, заподозрив любимую жену в неверности, уезжает из дому, чтобы испытать ее; возвращаясь, он застает гарем в разгаре оргии, а Зобеиду – в объятиях ее Золотого раба. Сверкают ятаганы – и вот уже занавес падает, закрывая сцену, полную трупов. Со времен Фокина секс уже вышел за пределы сераля. Но в 1910 году он все еще представлял собой запретный плод. Изображение вожделения и недозволенных отношений в «Шехеразаде» лишь отчасти говорило о страсти, рушащей супружеские узы. Гораздо важнее было, насколько взрывным оказался этот акт, который возвращал его участникам то, чего их лишал Шах, – свободу, тела и собственные личности любовников. Не менее смелым было изображение мужественности в лице исполнителя главной роли. Золотой раб скорее силой добивался своей госпожи, чем ухаживал за ней, скорее выставлял, чем прятал свое тело, в большей степени высвобождал свою физическую удаль, чем обуздывал ее. Фокинский первобытный раб был воплощением секса и делал на сцене то, что респектабельные джентльмены могли делать только в своих фантазиях.
Заглавная роль в «Видении Розы», также исполненная Нижинским, была построена вокруг подобной же темы: стремления мужчины, пренебрегающего устоями, недозволенно завладеть недоступной женщиной. Впрочем, в этой постановке тема секса была смягчена, идеализирована, приведена к романтике. Сераль превратился в будуар, гаремная жена – в незамужнюю дочь, агрессивный сластолюбец – в женоподобное существо в розовых лепестках. Как и в «Шехеразаде», двигателем действия служит вторжение. Как описывал Сирил Бомонт,
от его волшебного прикосновения [девушка] поднимается с кресла, чтобы соединиться с духом розы в постоянно ускоряющемся нежном вальсе. Ее высокие прыжки так грациозны, что кажется, будто и она оставила свою земную плоть. Они вместе взлетают в неподвижном воздухе, приведенные в движение магическим прикосновением его руки[99].
Девушкам из хороших семей не был позволителен легкий флирт, что делало их еще более привлекательными для эротических фантазий. Таким же недозволенным для мужчин, исключая сферу их фантазий, было явно женоподобное поведение. Мужчины, должно быть, вступали в интимные отношения, но скрывали это; в салонах и гостиных они придерживались гетеросексуальности в стиле одежды и в манерах. Нижинский открыто не следовал ни тому ни другому. Мужественный по силе своих прыжков и женственный в изящных движениях рук, он распространял вокруг себя флюиды эротического своеобразия; казался живым воплощением третьего пола, ураническим наслаждением от высвобождения своей истинной сущности.
Индивидуализм как сила, преступающая законы, был темой других мужских ролей, в частности некоторых ролей, исполненных Адольфом Больмом. Великолепный характерный танцовщик, среди мужской части довоенной труппы Дягилева уступавший по таланту только Нижинскому, Больм на сцене был воплощением стихии; его выступления наводили на мысль о звере, живущем в глубине человеческой личности, варваре, так и не прирученном цивилизацией. В постановке «Тамары» его танец обольщения в роли пленного Князя блистал силой и страстью. Бомонт писал:
Он подпрыгивает вверх, делает резкие рывки головой и так сгибает ноги под собой, что с каждым прыжком его тело становится изогнутым, как натянутый лук. Он прыгает выше и выше, его ноги топают, изгибаются и поворачиваются, все быстрее и быстрее, под бешеный стук барабанов. Царица с удовлетворением ловит его лихорадочный взгляд, наблюдает его неистовые движения. Она присоединяется к танцу, и их губы сливаются в страстном поцелуе[100].
За сценой царица и пленник совокупляются; на сцене она вонзает кинжал в его сердце. Как и в «Шехеразаде», утверждение свободы посредством запретного соития приводит к смерти.
Только «Половецкие пляски», первый балет Фокина, созданный под покровительством Дягилева, представляют собой иной случай. Там правит добродетель первобытного мужчины (в исполнении Больма), вождя половцев, и его воинов, приумножающих присущие ему героизм и волю к сопротивлению. Как и Нижинский, Больм совершал прыжки, рассеивая группы, обрамляющие сцену. «Все его существо, – пишет Бомонт, – пульсирует в наивысший момент его дикого ликования. Он постоянно кружится, прыгает вверх, вращается в воздухе и приземляется в гущу танцовщиков. Его брови изогнуты, голова запрокинута, из широко открытого рта разносится хриплый, задыхающийся вопль триумфа»[101]. В конце балета это ликование становится коллективным: ряды воинов пересекают друг друга, сотрясая воздух прыжками, землю – луками, распаляя дух хриплыми возгласами до тех пор, пока тела на сцене не превращаются в единую клокочущую живую массу. Обозреватель газеты «Ле Тан» писал в 1909 году:
Был момент, когда весь зал, увлеченный неистовством танцев восточных рабов и половецких воинов в конце «Князя Игоря», был готов встать и схватиться за оружие. Энергичная музыка, лучники, пламенные, дикие и жестокие, вся эта человеческая смесь, мелькание оружия, рук и разноцветных костюмов, казалось, на миг вскружили головы парижской публике, ошеломленной лихорадочным и безумным движением[102].
Хотя драматический реализм был излюбленным принципом Фокина, его освобожденным героям была чужда психология. С начала и до конца они оставались одними и теми же – полностью реализованными существами, чьи роли обозначали психическое пространство, где подсознание выходило из своих границ и торжествовало. Визуально это пространство тоже было обозначено, отгорожено от более широкого игрового пространства сцены, словно небольшой театр индивидуальной фантазии: в «Шехеразаде» Золотой раб внезапно появлялся из закрытых дверей в глубине сцены; в «Видении Розы» герой влетал сквозь окно будуара; в оригинальной версии «Карнавала» действующие лица входили через складки занавеса, окружавшего сцену. Во многих балетах Бакст разместил на сцене массивные вертикали – колонны (в «Клеопатре»), храмы на скале (в «Синем боге»), деревья (в «Дафнисе и Хлое»), – которые создавали одновременно и изоляцию, и тягостную атмосферу драмы. Широкий занавес, протянутый из верхнего угла сцены в «Шехеразаде», служил тому же воздействию – как и крутые, направленные вверх диагонали в «Тамаре», сходившиеся в вершине монументального треугольника. Во всех этих балетах окружение, подобно огромной руке, нависает над попирающими устои главными героями. Если массивные и всеокружающие формы Бакста символизировали общество, враждебное личным стремлениям человека, то его пространства, манящие обещанием тайных наслаждений, и его цвета – теплые, яркие, интенсивные – увеличивали эмоциональность внутренней драмы. Бакст «использовал цвета символически, – писал один из критиков, – чтобы передать эмоции или вызвать желаемую реакцию у публики»[103]. Он делал это сознательно: как художники и поэты-символисты, он искал способ соединения чувственных впечатлений с эмоциональными состояниями и мысленными образами. Бакст писал в 1915 году:
Я часто замечал, что в каждом цвете спектра существуют градации, которые иногда выражают открытость и непорочность, иногда – чувственность и даже грубость, порой гордость, порой отчаяние. Это можно почувствовать и передать публике с помощью эффекта различных оттенков. Именно это я пытался сделать в «Шехеразаде». Напротив мрачного зеленого я поместил синий цвет, полный отчаяния, – это может казаться парадоксальным. Есть оттенки красного, которые убивают, и оттенки красного, которые выражают торжество… Художник, который знает, как это использовать, и дирижер оркестра, который может привести все это в движение одним взмахом палочки, не перемешивая оттенки… может создать у зрителя точно такое чувство, какое он желает вызвать[104].
Как и Фокин, Бакст героизировал персонажа двумя путями: преувеличивая чувство, приписанное его личности, и демонстрируя его неподчинение рамкам социального окружения. Как визуально, так и хореографически это утверждение индивидуальности достигало эпических высот.
Фокин никогда не отказывался от языка балета. Но его эстетика освобождения требовала значительных изменений техники, которая отрабатывалась в классах Мариинского театра. Техника эта, в которой мягкость французской школы соединялась с бескомпромиссной виртуозностью итальянской, представляла собой самую суть искусства Петипа; ее особенности происходили из его хореографической практики и, в свою очередь, вдохновляли эту практику. К 1900 году эта связь прервалась. Поскольку созидательные силы Петипа пошли на спад, техника Императорских театров застыла на этапе его ранних шедевров: она превратилась в академический язык балета, который не терпел отступлений от своих законов. Синтаксис и лексика, бывшие для Петипа лишь средствами, стали теперь целями – в большей степени границами выразительности, чем инструментами ее создания.
С самого начала Фокин вел борьбу против академичности, от которой балет задыхался. Он сражался во имя красоты, веря, что танец – не демонстрация превосходного исполнения, а искусство поэтических образов. В 1904 году он писал:
Великая, выдающаяся особенность нового балета в том, что вместо акробатических трюков, призванных вызывать аплодисменты, и формальных выходов и пауз, нужных лишь для создания эффекта, должно быть только одно – стремление к красоте. В ритме телодвижений балет может найти способ выразить идеи, чувства, эмоции. Танец так же соотносится с жестикуляцией, как поэзия – с прозой. Танец – это поэзия движения[105].
Во имя поэзии Фокин освободил балет от обязательного требования виртуозности и от традиций, которые поддерживали это требование. Он преобразовал па-де-де, которое у Петипа имело фиксированную форму – адажио, сольные вариации и коду – в дуэт, гибкий по форме и предназначению. Отвергнув структуру Петипа, он покончил с вариациями, которые так часто служили демонстрацией хореографического мастерства; использовал па новыми и необычными способами, а также значительно дополнил устоявшийся канон поддержек. Более того, он сделал отношения партнеров подчеркнуто эмоциональными, превратив формальные соединения танцующих у Петипа в реалистичные встречи людей. В отличие от кавалера XIX века, стоявшего за балериной и на уровне талии удерживавшего ее в равновесии, танцовщики у Фокина выходили из тени своих партнерш, поддерживая их в различных контактных точках. За исключением нескольких обычных подъемов, отношение партнерства в «Шопениане» сконцентрировано в руках и кистях: первые создают образ единения пары, вторые способствуют выражению взаимного доверия. Хотя партнеры почти все время физически соприкасаются друг с другом, они остаются тем не менее на расстоянии вытянутой руки; будучи самостоятельными личностями, они стремятся друг к другу в добровольном порыве. В «Видении Розы» Фокин полностью отказался от поддержки за талию: там, в мире сновидения, тела касаются друг друга легко, как крылья бабочки. Вновь руки берут на себя бо́льшую часть веса; задействуются запястья – например, в arabesque penchée, когда партнеры соприкасаются в первый раз; при подъемах руки исчезают на уровне подмышек, будто отказываясь от своей роли в воплощении желания балерины взлететь. Если Фокин в той или иной мере использовал талию – как это было в «Жар-птице», – он превращал ее в точку манипуляции, символ попадания в ловушку. Иван-царевич стоит за своей добычей, дерзко схватив ее; она извивается, наклоняется, вертится, тянется к его рукам, надеясь отдалиться от него, чтобы они оказались в разных пространствах – каждый в своем. Противопоставляя старый и новый принципы построения дуэта, Фокин обнаруживал идеологические предпосылки каждого из них.
Нельзя сказать, чтобы Фокин полностью избегал бравурного танца. Однако он использовал его элементы скупо и нешаблонно, пытаясь любыми способами избежать того, чтобы он стал поводом для аплодисментов. Он отказался от последовательных повторов. В мужских соло из «Видения Розы» и «Шопенианы» единственное антраша заменяло серии из четырех, восьми или даже шестнадцати, какие Петипа обычно использовал в вариациях. В то же время Фокин включил бравурные па в контекст танцевальных номеров. Как в «Видении Розы», так и в «Карнавале» многочисленные пируэты и grands jetés – традиционные па мужского бравурного танца – пульсируют в череде движений: они начинаются с минимальных препарасьонов и заканчиваются в коротком плие; ни одна пауза или поза не прерывает движение фразы – и не дает публике повода разразиться аплодисментами. Отвращение Фокина к виртуозным стереотипам, переходящее в пародию, было основной темой «Петрушки», и главный удар при этом был обрушен на женский бравурный танец. Роль Балерины, по сути, символизировала то, что он презирал сильнее всего: склонность к техническим фокусам (ее вариация состояла в основном из острых échappés и мелких прыжков на пуантах, passés relevés и быстрых фуэте) и к бессмысленной демонстративности, а заодно и более мелкие огрехи: затянутые препарасьоны, нарочитую выворотность, руки венчиком, рваную фразировку – все, чего он не допускал в своей «правильной» хореографии. В «Петрушке» была и вторая пародия на балерину – Уличная танцовщица, девчонка-сорванец, исполнявшая трюки для участников карнавальных гуляний. В своих «Ранних воспоминаниях» Бронислава Нижинская, исполнявшая эту роль, прямо говорит о том, что объектом пародии была не кто иная, как Кшесинская, prima ballerina assoluta Мариинского театра, фаворитка великого князя и заклятый враг Фокина и «нового балета»:
– Ну, что же мне для вас поставить, Бронислава Фоминична? Уличная танцовщица-акробатка. Вы знаете какие-нибудь трюки? Умеете делать шпагат или быстро крутиться на одной ноге, высоко подняв другую?
Я ответила шутя:
– Михаил Михайлович, если вам требуется что-нибудь акробатическое, я станцую балеринскую часть коды из «Талисмана».
И я проделала все кабриоли и relevés на пальцах так, как их исполняла Матильда Кшесинская под громовые аплодисменты петербургских балетоманов.
– Замечательно. Именно то, что нужно, – смеясь, сказал Фокин[106].
Антиакадемичность Фокина замечательно просматривалась в том, как он использовал корпус и руки: первый был освобожден от корсета вертикальности, вторые – от смирительной рубашки округлых форм. Его целью в обоих случаях было повышение выразительности тела путем расширения его контуров, увеличения его пластичности и трехмерности его нахождения в пространстве. Эти реформы оказались революционными. Менее чем за десяток лет он изменил облик танцовщицы и заново создал ее тело. Несмотря на то что танец, особенно балетный, требует устойчивости и ловкости, подобающих гимнасту, танцовщицы XIX века постоянно затягивали себе талии. Такие педагоги, как Энрико Чекетти (который периодически вел балетный класс в труппе Дягилева в 1920-е годы), выступали за необходимость шнуровки, объясняя это тем, что корсет поддерживает спину, но были, очевидно, и другие, еще менее преодолимые причины. Одной из них была мода: до Первой мировой войны самые элегантные дамы носили корсеты. Другая причина крылась в самой балетной технике: при наклонах корпус редко отклонялся от вертикальной линии; подвижность была сконцентрирована в ногах.
Фокин, наоборот, в работе действовал смело и раскованно. Его «мимика всего тела» требовала от корпуса такой же гибкости и выразительности, как и от конечностей. Избавив женщин от корсетов, он дал свободу и талии, и спине; отказавшись от строгого следования вертикали, провозгласил красоту изогнутых линий. Фокинские перегибы назад и наклоны вперед, рывки в стороны и повороты в талии превращали тело в способную к расширению спираль. В сфере эмоций он также осваивал неизведанные территории. В то время как в «Шехеразаде» гибкость сидящих альмей была пронизана чувственностью, в «Нарциссе» вакханки взлетали с высоко поднятым коленом в экстатической пляске. Как и глубокий изгиб назад, этот скачок стал фирменным знаком Фокина, который он использовал в нескольких балетах. Эти два движения были связаны между собой: в серии хореографических набросков к «Синему богу», воспроизведенных в русском издании воспоминаний Фокина, обнаженная женская фигура выгибается назад, наклоняется вперед в скачке и затем пускается в бег с запрокинутой назад головой – это выражение ликующего, дикого динамизма[107]. Отбросив закругленные и прямоугольные формы академического стиля, Фокин использовал руки танцующего, чтобы увеличить размах его движения, открыть верхнюю часть тела и усилить общее впечатление импровизационности. «Руки, – говорил он одному из американских учеников много лет спустя, – это не рисунки на стене, а горизонты»[108]. Фокин позволил рукам танцовщика широко раскрыться наружу и над головой, позади него и впереди; он использовал руки несимметрично – не для того, чтобы обрамлять тело, но для того, чтобы придать его форме трехмерность, сделать его округлым, а не плоским. Кроме того, он настаивал, чтобы руки производили естественное впечатление, чтобы они, как зеркало души, раскрывали самую глубину чувств танцовщика и передавали эти личные эмоции зрителю.
Не меньше, чем хореография, освобождению тела служили костюмы. Как и Фокин, Бакст стремился сделать свободными спину и живот. Он одевал женщин в туники и восточные шаровары, в мягкие ниспадающие одеяния, которые высвобождали торс из сдавливающего лифа балетной пачки. В его костюмах оставались обнаженными необычные участки тела: в «Клеопатре» был виден пупок, в «Шехеразаде» – нижняя часть позвоночника; в некоторых балетах ноги выглядывали из разреза на юбке. (Груди, которые свободно выставлялись из туники на некоторых эскизах, на сцене всегда были благопристойно прикрыты.) Ноги были вдвойне обнажены, так как в экзотических и «греческих» балетах танцовщики часто выступали без трико, открывая взору публики живую плоть ноги и ее форму. Пачка, конечно, также приоткрывала тело – руки и плечи выше лифа, колени и низ ног ниже многослойной юбки. Кроме низа, впрочем, все открытые части костюма выглядели пристойно, сродни вырезам у вечернего туалета: затянутая талия и пышная юбка скрывали среднюю часть тела. Бакст обладал даром скрывать ее очень искусно, что и привлекало к ней внимание. Созданные им гаремные шаровары подчеркивали линию ягодиц, тот же эффект создавали и полотнища туники, сшитые высоко на бедрах. Силуэт «песочных часов», характерный для Belle Époque[109], уступил место естественному, ничем не стесненному телу. Свободные движения тела, таким образом, лишь увеличивали впечатление обнаженности и естественности. В отличие от пачки, которая либо стесняла тело, либо подлетала по его окружности, костюм, придуманный Бакстом, совершал движения вместе с телом, делая эти движения струящимися, свободными и широкими. Если силуэт танцовщицы Императорских театров напоминал вертикальную фигуру, заключенную в круг, то ее преемница у Фокина олицетворяла саму идею движения.
Не менее неортодоксальные костюмы Бакст создавал для мужчин. У танцовщиков также были открыты некоторые части тела. Однако, как и у балерин, тело приоткрывалось лишь избирательно и всегда пристойным образом; мужчина – герой балета соблюдал условности. На ногах у него было облегающее трико, бедра были целомудренно прикрыты театрализованным вариантом светского наряда. В императорских балетах, оформленных в античном стиле, плечи и ключицы были закрыты туниками: женщины могли оставлять их открытыми, мужчины – никогда. Бакст же придерживался удивительной свободы в создании костюмов для танцовщика, делая их либо явно открытыми, либо явно женскими. В заглавной роли «Видения Розы» Нижинский выступал в облегающем костюме, расшитом лепестками, в роли Золотого раба в «Шехеразаде» – в наряде танцующей гурии. Костюмы для балетов «Нарцисс» и «Синий бог» – с укороченной юбкой, четко обозначенной талией, выставленными напоказ ключицами и плечами – не слишком соответствовали традиционному представлению о мужественности. Даже Больм, «настоящий мужчина» в составе труппы, в роли Даркона в «Дафнисе и Хлое» выходил в свободно ниспадающей тунике, окутывавшей тело атмосферой «естественной» женственности.
В том, что Бакст «одел» столько балетов той поры в костюмы, на которые его вдохновили греческие одеяния, можно усмотреть влияние танцовщицы, упомянутой нами лишь вскользь, несмотря на то что она стала вдохновительницей создания «нового балета». Айседора Дункан впервые выступала в Петербурге в декабре 1904 года. Она вновь приезжала в начале следующего года, затем в декабре 1907-го и в апреле 1909-го – эти визиты совпадали по времени с первыми хореографическими начинаниями Фокина. Ее дебют был значительным событием: в престижном зале Дворянского собрания сидели сливки петербургского художественного и высшего общества. Два ее выступления (первая программа целиком состояла из произведений Шопена, вторая носила название «Танцевальные идиллии») имели «невероятный успех и были признаны среди танцовщиков и любителей танца сенсационными, эпохальными событиями»[110]. Как и плеяда звезд Мариинского театра, «Мир искусства» явился на ее концерт в полном составе; Бенуа высказался о ней в печати. Фокин, со своей стороны, был покорен. Дягилев, позже утверждавший, что эти двое посещали ее концерты вместе, писал, что «Фокин не на шутку увлекся ею, и влияние Дункан было изначальной основой всего его творчества»[111]. Это утверждение Дягилева стоит рассматривать скептически – и не только потому, что оно было высказано в личной переписке спустя двадцать лет после самого факта, но также потому, что к 1926 году он стал считать Фокина вышедшим из моды хореографом. (То, что спрос со стороны критиков и публики заставил его именно тогда возобновить несколько фокинских балетов, в том числе «Жар-птицу», должно быть, обострило его язвительный тон.)
Тем не менее самая суть его утверждения была верна. Фокин был поражен, и даже в самые тяжелые дни 1930-х, когда горечь помутила его рассудок, Дункан оставалась яркой звездой его юности. Как сказано в гимне шейкеров[112], «быть простым – это дар», и хотя Дункан выросла в богемной и феминистской атмосфере Сан-Франциско, природа наделила ее этой шейкеровской добродетелью, которая стала, в свою очередь, ее даром Фокину. В редкостный момент осознания ее влияния он писал:
Дункан напоминала о красоте естественных движений… [она] доказала нам, что все примитивные, обычные, естественные движения – простой шаг, бег, поворот на обеих ногах, небольшой прыжок на одной ноге – намного лучше, чем все богатства балетной техники, если в угоду этой технике нужно пожертвовать грацией, выразительностью и красотой[113].
Все эти движения появились в хореографии Фокина. В «Шопениане» и «Видении Розы» они преобразовали словарь классического танца, облегчили его фактуру и четче очертили контуры. В других балетах они проявились как характерные особенности почерка, которые то и дело фиксировались фотографами того времени. В иных постановках они стали основой, на которой Фокин выстраивал целые танцы. В «Жар-птице» девичий двор Царевны окружает влюбленных ритмичным ходом; в «Половецких плясках» пленные девушки движутся по сцене с трепетным скольжением. Фокин долгое время осуждал акробатические трюки, поставленные для того, чтобы сорвать аплодисменты публики. За этими негативными отзывами стояла возвышенная простота Дункан, открывавшая ему взгляд на то, что могло бы быть; в ее танце он видел все богатство хореографических возможностей.
Известность Дункан принесли ее стопы – босые стопы, шокировавшие публику того времени, когда приличия занимали высокое место на лестнице добродетелей. Фокину, однако, они внушили мысли о том, как можно по-новому показать и использовать основной инструмент танцевального искусства. Фокин не отказался полностью от сковывающих стопу пуантов; в ретроспективных постановках и балетах периода романтизма такая обувь была призвана придавать стопе красивую форму. Но в экзотических или греческих балетах он заменил ее сапогами, мягкими туфлями, сандалиями – и босыми ногами, как у Дункан. Освобожденная от оков обуви на пуантах, стопа перестала сохранять свою традиционно полукруглую форму. При поднятиях и скачках нога отдыхала, показывая свой естественный подъем, а при вставании на носки – упруго отталкивалась от пола.
Под влиянием Дункан он переоткрыл для себя не только значение стопы, ее дионисийское тело явило Фокину природную динамику торса. Наклоненный вперед или изогнутый назад, торс Дункан вдохновлял многих художников, которые, набросок за наброском, пытались запечатлеть его торжествующую свободу. Фокин не фиксировал своих впечатлений на бумаге, но в изгибах и переплетениях его танцовщиков явно проглядывало ее трепещущее тело. Еще одним из проявлений ее влияния были руки. Павлова, по словам новейшего из биографов Дункан, «могла бы ответить любопытствующим, что плавности движений рук в “Умирающем лебеде” она научилась у Айседоры»[114]. Несомненно, что асимметрия, которую так ценил Фокин, тоже пришла от нее, как и свобода и размах рук, столь характерные для его пор-де-бра.
Влияние Дункан ощущалось и в музыке. Первый ее петербургский концерт – программа, состоявшая полностью из произведений Шопена, – произвел на юного танцовщика неизгладимое впечатление. Этот же композитор фигурировал в программе, которую можно считать первым самостоятельным концертом Фокина, – в зале Дворянского собрания в феврале 1906 года. Какое произведение Шопена звучало в «Полете бабочек» – неизвестно, но в окончательной версии «Шопенианы» использовались «Прелюд» (опус 28, № 7) и одна из двух «Мазурок» (опус 33, № 7) из программы Дункан 1904 года. На сегодняшний день Шопен олицетворяет саму идею балетной музыки. Однако в 1900 году его произведения исполнялись лишь в концертных залах, как и музыка практически всех великих композиторов. Дерзость Дункан, которую она проявляла в выборе «высокой» музыки, была столь же скандальна, как и ее босые ноги. Имея перед собой пример Дункан, Фокин отказался от штатных композиторов, которые регулярно снабжали Мариинский театр балетной музыкой. С самого начала в его музыкальную номенклатуру вошли «серьезные» композиторы: Сен-Санс («Умирающий лебедь», 1907); Шопен («Полет бабочек», 1906; «Шопениана», 1907; «Танцы на музыку Шопена», 1908; Rêverie romantique – «Балет на музыку Шопена», 1908; «Гран-па на музыку Шопена», 1908; «Вариации», 1911; «Прелюд», 1915); Альбенис («Севильяна», 1906); Глинка («Дивертисмент – Вальс-фантазия», 1906; «Сон», 1915; «Арагонская хота», 1916); Мендельсон («Сон в летнюю ночь», 1906); Бизе («Испанский танец», 1906); Рубинштейн («Виноградная лоза», 1906); Брамс («Чардаш», 1906); Клементи (Bal poudré, 1906); Глазунов («Танец семи покрывал», 1908; «Вакханалия», 1910; «Стенька Разин», 1915); Чайковский («Времена года», 1909; «Франческа да Римини», 1915; «Романс», 1915; «Эрос», 1915; «Андантино», 1916); Шуман («Карнавал», 1910; «Бабочки», 1912); Лист («Прелюды», 1913); Балакирев («Исламей», 1912); Дюка («Ученик чародея», 1916) – если назвать исключительно тех композиторов, которые были избраны им независимо от Дягилева и руководства Императорских театров[115].
Дункан не только расширила область музыкального выбора: ее редкостная музыкальность предполагала новые способы соединения движения со звуком. Обычно балетные партитуры представляли собой мелодичные произведения, состоящие из множества частей – как писал Фокин в 1904 году, последовательности «устаревших вальсов, полек, пиццикато и галопов»[116]. Будучи юным, Фокин надеялся, что с помощью коллег-композиторов найдет выход из художественного «недомогания» Императорских театров. Но именно в характере номеров Дункан, где движения, казалось, естественно и неизбежно возникали из музыки, он обнаружил принцип, сформулированный в самом начале его карьеры: «изобретать в каждом случае новую форму движения, соответствующую сюжету и характеру музыки»[117]. Репетируя отдельные части своих балетов, он проходил фразу за фразой, настаивая на том, что движение должно дышать вместе с музыкальными паузами и заполнять их. Критик Валериан Светлов не напрасно утверждал в 1912 году, что «влияние Дунканизма на Хореографию XX века гораздо шире и глубже, чем может показаться на первый взгляд»[118].
Инициированные Дункан нападения Фокина на академические условности вышли за пределы их изначального нигилизма. Теперь это был акт очищения. Освобождая танец от шаблонных, старомодных украшений, он возвращал искусству его чистоту. В лирических композициях, главным образом основанных на небольшом количестве движений и гармоничных группах, эта вызывающая простота внушала картину человеческого взаимопонимания. Среди часто повторявшихся движений было и па-де-бурре, при котором ноги, сведенные вместе на пуантах, едва касаются пола. Это движение не требует виртуозности. Его эффект был, так сказать, психологическим: в своих невесомых перемещениях тело кажется одновременно лишенным воли и погруженным в безвременье. Почти в каждом из примеров па-де-бурре означает измененную реальность – смерть в «Умирающем лебеде», мечту в «Видении Розы», поэзию в «Шопениане», – в которой душа, освобожденная от материального, может наконец прошептать свой еле слышимый протест. Еще одно па, погружающее нас в самую суть фокинского идеализма, – арабеск. Это па конечно же было гордостью языка классического танца – утверждением живописной гармонии и равновесия. Фокин разрушил сферичность этого па; раскрытый не более чем на четверть круга, его арабеск был слегка наклонен вперед и словно тянулся к бесконечности. Статичная картина, таким образом, приобрела временное измерение: теперь это па говорило не столько о бытии, сколько о становлении; в нем получала драматическую окраску эфемерность внешнего и недолговечность чувства.
Если па-де-бурре и арабеск определяли область духовной свободы, то руки объединяли освобожденные души в видимость общности. Вновь и вновь в фокинских балетах танцовщицы выстраивались в мосты и арки, свивались и сплетались в картины общественной гармонии. Фокинские гирлянды из тел глубоко повлияли на его последователей-модернистов. В «Танцсимфонии», поставленной в Петрограде в 1923 году, Федор Лопухов в своем космическом миропорядке связывал населявшие его существа в цепь всеутверждающей человечности. Сама постановка, первый откровенно абстрактный балет, заявляла о своем происхождении от «Прелюдов», поставленных Фокиным десятилетием ранее[119]. «Иосиф Прекрасный» Касьяна Голейзовского, еще одного советского авангардиста, совершившего переход к модернизму с символистского курса, заданного Фокиным, также использовал прием плетения тел. Но истинным наследником Фокина в этом отношении был Джордж Баланчин, уловивший в формах своих предшественников сам дух, чувство райского блаженства, извечно заключенного в переплетении человеческих фигур. Для Фокина, как и для Баланчина, эти тончайшие узоры почти всегда состояли из балерин, словно только женщинам было дано пересечь границу реального и идеального. В образе соединенных в цепочки весталок Фокин воплотил надежду на общественный порядок, порожденную событиями 1905 года.
По большому счету, ви́дение и художественная практика Фокина развивались независимо от Русского балета. Это не отрицает очевидного – того, что под руководством Дягилева он создал несколько бессмертных постановок и вошел в судьбу последнего как хореограф, – однако проливает новый свет на его сотрудничество с Русским балетом и на те пути, которыми дягилевская антреприза направляла и использовала его талант. Действительно, можно поспорить о том, что Русский балет воздействовал на искусство Фокина губительно, отклоняя его от собственного курса и извлекая прибыль из этих отклонений. Ныне имя Фокина неразрывно связано с экстравагантным восточным колоритом постановок, свойственным большей части дягилевского репертуара довоенных лет. Несомненно, экзотика появилась в работах Фокина еще до Дягилева. Тем не менее до 1910 года она была лишь одним из стилей, в которых он экспериментировал. Успех «Клеопатры» – как переименовал Дягилев «Египетские ночи» для показа в Париже в 1909 году – изменил это положение. Французы жаждали экзотики, и Дягилев, поглядывая в сторону билетной кассы, угождал им. С того времени каждый год экзотические балеты – восточной или русской тематики – занимали новую позицию, а чаще и две, в репертуарном списке: в 1910 году – «Шехеразада» и «Жар-птица», в 1911-м – «Садко» и «Петрушка», в 1912-м – «Тамара» и «Синий бог», в 1914-м – «Легенда об Иосифе» и «Золотой петушок». Напротив, неоромантическое течение было практически перекрыто. На самом деле из трех балетов в этом стиле, представленных в 1910–1914 годы, лишь «Видение Розы» было поставлено Русским балетом; и «Карнавал», и «Бабочки» были впервые показаны в России. Дягилев не пожелал использовать и склонность хореографа к эллинизму. Балет «Дафнис и Хлоя», который Фокин собирался поставить еще с 1904 года, увидел сцену лишь восемь лет спустя, после того, как его постановка много раз откладывалась, и произошло – по крайней мере, по мнению хореографа – несколько деспотических попыток Дягилева «погубить» премьеру. Именно «Дафнис», в сущности, привел Фокина к окончательному разрыву с Русским балетом. (Впрочем, в 1914 году он уступил дягилевскому исключительному таланту убеждения и вернулся в труппу на ее последний предвоенный сезон.)
То, что качество работы Фокина за годы его пребывания в Русском балете упало, кажется не только очевидным, но и естественным. Ограниченный формами, которые лишь частично были созданы им самим, он стал обращаться к испытанным методам. Но ошибка состояла даже не в этом. К 1912 году экзотика сама по себе превратилась в кучу готовых рецептов. Просчитанные для того, чтобы удовлетворить падкую до сенсаций публику, эти методы не оставили хореографу ни пространства, ни повода для роста.
Вне дягилевской антрепризы Фокину удалось расправить крылья. Он сказал новое слово в Мариинском театре своей постановкой «Орфея и Эвридики», в то время как в «Исламее», переработке «Шехеразады», этого сделать не смог. «Прелюды», поставленные в начале 1913 года для труппы Павловой, были еще одним рискованным начинанием вовне. Сирил Бомонт, видевший этот балет в Лондоне, описывал его как «символическое представление вечной борьбы человека между жизнью и смертью»[120]. В балете были двое возлюбленных, собрание боттичеллиевских нимф и кортеж духов тьмы. Сюжет балета, каким бы он ни был, служил лишь подтекстом и находился на периферии абстрактного действия. В этом балете отразилось также временное увлечение Фокина эвритмией, системой движений Эмиля Жака-Далькроза, которой начиная с января 1911 года был посвящен целый ряд лекций и показов в российской столице. Андрей Левинсон, смотревший «Прелюды» в Мариинском театре, где Фокин возобновил этот балет в апреле 1913 года, объявил хореографию балета «тщеславным желанием соперничества с Далькрозом»:
Пляска местами замещена отбиванием ритма руками и ногами, акцентированным нотам отвечает энергичный топот, протяжным нотам – паузы в движении; есть и попытка передать ускорение и замедление темпа: невольная пародия на «систему» осуществлена занимательно[121].
Вышесказанное не было единственным, что сковывало Фокина при работе с труппой Русского балета. То, что Дягилев продвигал Нижинского, требовало от Фокина постановки спектаклей, рассчитанных на демонстрацию талантов звезды – протеже импресарио. Хотя Фокин довольно охотно создавал хореографию для танцовщиков-мужчин, он все же предпочитал ставить танцы для женщин. От Павловой и до Татьяны Рябушинской (прославленной балерины 1930-х) – все они способствовали проявлению его поэтического духа. Дягилев низвел женщину с былого пьедестала. Начиная с «Шехеразады», Нижинский получил приоритет перед балериной, став источником вдохновения и средоточием почти каждой из постановок. Действительно, после «Жар-птицы», изначально задуманной для Павловой, лишь в «Тамаре» главная роль принадлежала женщине. Вне дягилевской антрепризы Фокин вернулся к привычному положению. В «Семи дочерях горного короля» – еще одном из балетов для Павловой – «Прелюдах», «Эросе» и «Франческе да Римини» (два последних балета были поставлены в Мариинском театре в 1915 году, главные роли исполнили соответственно Матильда Кшесинская и Любовь Егорова) балерина вернулась в центр внимания.
Третье «отклонение» Фокина в годы работы с Дягилевым было наиболее продолжительным. В своей основе его последствия оказались трагическими, поскольку оно затронуло один из изъянов фокинского характера, что заставило его голос замолчать на пятнадцать лет. Внезапная слава может испортить художника, а вкупе с деньгами – развратить. Благодаря Русскому балету хореографический талант Фокина стал предметом потребления высшего сорта; очень скоро его ценность взлетела, принося крупную прибыль по всему Западу. Фокин был близок к тому, чтобы приравнять талант к заработку. Жажда прибыли ускорила его падение. Она привела к тому, что в 1918 году он уехал из России, когда Мариинский театр не смог удовлетворить его требования по поводу заработной платы – это решение отдалило его от танцовщиков, которые составляли саму материю его искусства, – и поселился в Соединенных Штатах, где титаны развлекательной индустрии сулили золотые горы. Подобно большинству иммигрантов, он вскоре увидел, что тротуары Америки вымощены не золотом, а обычным бетоном. Сага о его американской карьере может вызвать у читателя лишь жалость: мюзик-холльные феерии, бесконечные гастроли, выступления перед киносеансами, случайные концерты. Как художник музыкального театра он бездействовал. Лишь в 1936 году, когда Рене Блюм пригласил его работать с Балетом Монте-Карло, Фокин смог возобновить прерванную карьеру[122].
Принято считать, что именно сотрудничество – магическое слово – было ключом к успеху Русского балета. Конечно, в своем письме в «Таймс» 1914 года Фокин обозначил в качестве своего пятого и последнего «принципа» «союз танца с другими искусствами». На практике, однако, такое сочетание лишь в редких случаях возникало на почве совместной работы – если понимать ее как акт коллективного творчества. На самом деле, из всех постановок Фокина для Русского балета лишь «Жар-птица» действительно была плодом совместного труда. Остальные большей частью представляли собой сдельную работу хореографа, на которую Фокина вызывали для воплощения концепции, разработанной в узком кругу Дягилева. То, что эта сдельная работа порой выполнялась с большим вдохновением, наводит на мысль о том, что проявление единства в балете имело и другой источник, кроме совместной работы. Между Фокиным и двумя художниками, с которыми связаны его главные достижения, – Бакстом и Бенуа существовал некий ток художественного взаимопонимания, своеобразный заряд, вызывающий в каждом из них реакции примерно одного и того же порядка. Как и Бакст, Фокин наслаждался свободой чувств; подобно Бенуа, он стремился к затерянной Аркадии идеала. Целостность лучших постановок Дягилева создавалась не столько совместной работой, сколько общностью ценностей, которые разделяли участвовавшие в них художники.
Пусть даже средства создания такого «слияния» и его образцы были взяты из других источников, его название – Gesamtkunstwerk[123] – и его теоретические основы пришли из вагнерианской мысли. «Идеи, которые ассоциировались с Вагнером и его операми, оказали… величайшее влияние на отношение круга “Мира искусства” к театру», – писала историк искусства Джанет Кеннеди. В 1889 году в Санкт-Петербурге было исполнено «Кольцо Нибелунга», а в начале 1890-х Дягилев побывал на представлении «Лоэнгрина», благодаря которому стал восторженным поклонником Вагнера. К концу 1890-х Вагнер стал для членов кружка не просто великим композитором, но «величайшим из влияний на современное искусство в принципе»[124].
Вагнер представлял себе театр, где «стихийная смесь зрительных и слуховых впечатлений» образовывала бы «целостное произведение искусства». Такого идеала Gesamtkunstwerk’а, о котором «мечтал» Вагнер, как доказывал Бенуа в обзорной статье о сезоне 1910 года, кружок Дягилева достиг в своих постановках «нового балета»[125]. Насколько это близко к истине – по-прежнему предмет для споров, равно как и еще более сложный вопрос о том, может ли теоретически Gesamtkunstwerk существовать, не разрушая свойств, присущих отдельным видам искусства – его компонентам. Андрей Левинсон все довоенные годы утверждал: попытки Фокина привить балету методы, пришедшие из музыки, живописи и драмы, приведут к тому, что хореографическая составляющая сама станет подчиняться всем этим методам. (Айседора Дункан пришла к такому же заключению во время пребывания в Байрейте. «Маэстро совершил ошибку, – смело заявила она Козиме Вагнер. – Человек сначала должен говорить, потом петь, потом танцевать. Говорит мозг, думающий человек. Пение – это чувство, а танец – исступленный восторг, все увлекающий за собой. Одно невозможно совместить с другим. Musik-Drama kann nie sein[126])»[127]. Левинсон позднее утверждал, что от попытки смешения страдает каждый вид искусства:
Вместе с ненужной, внешней и малосодержательной попыткой драматизации балета, другим уязвимым местом фокинских сочинений является… преобладание живописности. Если бы заменить все действие «Шехеразады» и «Жар-птицы» умело подобранным рядом живописных картин, зритель мог бы с большим спокойствием, более глубоко воспринять необыкновенные красоты композиции и орнаментики, рассыпанные Бакстом и Головиным; иногда все бешеное движение на сцене воспринимается лишь как досадная сутолока и помеха…[128]
Левинсон был весьма несправедлив по отношению к Фокину, приписывая ему некое превосходство, которого, как мы видим, хореограф в действительности не испытывал. Преобладание визуальных эффектов в работах Фокина начиная с 1909 года отчасти можно объяснить тем, что в организации Дягилева ведущую роль играли художники. Существовало, однако, и другое побуждение к этому – одобрительные отзывы парижской публики, где роскошь и изобилие провозглашались отличительной чертой стиля дягилевских постановок. Графиня Анна де Ноай, малоизвестная поэтесса и большая поклонница Русского балета в высшем свете, так вспоминала о своих впечатлениях от «Клеопатры», образца экзотической экстравагантности в спектаклях Дягилева:
Когда я вошла в ложу, куда меня пригласили… мне показалось, что я вижу чудо, какого еще никогда не существовало. Все, что могло ослеплять, опьянять, пленять и приковывать взор, словно было собрано воедино, принесено на сцену и там процветало… На сцене Русского балета царственные особы из Индии и Китая, искусно помещенные в центр действия жестокой драмы, появлялись в окружении необыкновенной роскоши пальм, протягивавших свои листья к небесам цвета индиго. Их обильно расшитые золотые костюмы… превращали их в носителей ужасающей, сверхчеловеческой власти. Ангел, гений, триумфатор спектакля, божественный танцовщик Нижинский завладевал нашими сердцами, наполняя нас любовью, в то время как мягкие или резкие созвучия азиатской музыки довершали это ошеломляющее и роскошествующее произведение[129].
Для светской публики Дягилева такие постановки, как «Клеопатра» и «Шехеразада», знаменовали радикальный отход от сценической практики, характерной для оперной сцены того времени. Реформаторы театра, однако, не разделяли этого суждения. Журнал Гордона Крэга «Маска», писал Андрей Левинсон, верно «признал театральную новизну “русских плагиаторов” обманчивой перелицовкой старого, повапленным гробом дореволюционного театра. За пышными ризами экзотической декорации принципы сценического понимания оставались неизменными». Акцент на вещественной роскоши, главная ценность постановок вплоть до 1914 года, указывает на требования в определенном смысле коммерческого порядка. «В балете, задуманном как Gesamtkunstwerk, – писал историк театра Дени Бабле, – живопись остается живописью, и аплодируют ей как живописи. Сцена превращается в выставочный зал»[130].
«Жар-птица» и «Шехеразада» выявили недостатки вагнерианского метода в его применении к балету, хотя, по мерилам того времени, являли собой образцы художественной гармонии. Для их современников отсутствие явных стилистических несоответствий, вкупе с постоянными заявлениями Дягилева о противопоставлении художественного коммерческому, подразумевало действительное осуществление вагнеровского идеала Gesamtkunstwerk’а. Но если Вагнер дал теоретические обоснования довоенной эстетики Русского балета, диктуя ожидания просвещенной части публики, то практическое достижение этого идеала основывалось на социальных предпосылках. Организационный комитет Дягилева формировался в полуфеодальной атмосфере Императорских театров и неформальных связей некоммерческих начинаний. Этот противоречивый опыт подготовил его участников к работе в коллективе, одновременно вызвав у них стремление к созданию демократических структур, где каждый член функционировал бы как индивидуальность. Таков был коллективно-индивидуалистский импульс, который позволил бывшим мирискусникам достичь образцового взаимодействия и высокого художественного уровня, отличавших лучшие работы труппы.
Подобный импульс, безусловно, воодушевил и последователей Фокина из Мариинского театра, составивших к этому времени основу знаменитого дягилевского ансамбля. В ранних статьях о Русском балете французские критики высказывали глубокое восхищение именно этой способностью «великолепной и безымянной» труппы русских танцовщиков (фраза принадлежит критику из «Фигаро» Роберу Брюсселю) – способностью объединять свои индивидуальные таланты для единых художественных целей. Жак-Эмиль Бланш, например, считал, что артистический мир Франции страдал излишним индивидуализмом. Русские артисты, напротив, демонстрировали готовность подчинять свои личные ценности и цели стремлению к успеху целого, который рождался в совместной работе[131]. Между хореографом и танцовщиками существует особый вид близости: они подчиняются друг другу и открывают друг друга, и каждый нуждается в другом, чтобы полностью выразить себя как художник. Фокин в большей мере, чем иные хореографы, превратил акт творчества в коллективное усилие. Да, он мог внимать советам по ходу репетиции, но творил-то он из живых тел, черпал материал из своих танцовщиков и надеялся, что они смогут разгадать образность, заключенную в созданных им движениях. Соло Уличной танцовщицы в «Петрушке» появилось из импровизированной пародии Нижинской на коду в «Талисмане». Роль Бабочки в «Карнавале» потребовала от нее не меньшего воображения. Фокин лишь схематически набросал характер и движения, и с помощью Нижинского она облекла эти наброски в трепещущий образ[132]. Это сотрудничество не было односторонним. Долгий путь танцовщика к созданию образа персонажа может быть завершен только с помощью хореографа. Фокин интуитивно угадывал «душу», скрытую в еще не полностью созревшей индивидуальности танцовщика, и воплощал эту индивидуальную сущность в своей хореографии. Павлову, лучшую из балерин ее поколения в Мариинском театре, сделал легендой Умирающий лебедь, а роль Петрушки стала предсказанием трагической судьбы Нижинского. Фокин открывал – как для публики, так и для самих артистов – уникальность личности танцовщика.
По ряду причин эта важная форма сотрудничества так и не получила должного распространения. Во-первых, рождающиеся в студии предложения «попробовать это» или «оставить так» оказываются нежизнеспособными вне окончательного результата. В отличие от эскизов костюмов, которые могут существовать в нескольких вариантах, все, что выживает при постановке танца – если выживает вообще, – в итоге достигает сцены. Во-вторых, обсуждение при таком сотрудничестве основывается на посылках, исходящих от музыки и визуальных искусств. При этом танец играет свою роль, но вторичную по времени: почти всегда перспективы будущего спектакля предопределяются композитором или художником. Пренебрежению таким сотрудничеством есть и третье объяснение. Обычно принято превозносить историческое значение Фокина как балетмейстера, однако его репутация как хореографа ныне находится в упадке. Отчасти это отражает высокий класс его соперников, из которых лишь малая часть сохраняла стиль или дух своих предшественников. В большей степени, однако, это связано с влиянием Баланчина, уделявшего больше внимания па и меньше – актерской игре и предпочитавшего бессюжетные балеты повествовательным формам. Наконец, это бросает тень на тех, кто в своих стремлениях облачить Баланчина в мантию Петипа стер два десятилетия из истории балета XX века.
Эти два десятилетия стали временем модернистского бунта. Как и в других видах искусства, модернизм в балете усилил разрыв с прошлым: в поиске новых форм прежние идолы были свергнуты, заповеди – нарушены. Манифест Фокина 1904 года положил начало этой революции, пусть даже его собственные работы, сохраняя верность вдохновляющему реализму его молодых лет, остались далеки от того, чтобы ее завершить. Достижения его были многочисленны и имели значительные последствия. Он реформировал ансамбль, па-де-де и сольный танец, переопределив их функцию и создав иные их формы, адекватные новой функции. Он расширил выразительные возможности рук и корпуса. Создавая новые последовательности па и новые связующие движения, он преобразовал академический синтаксис. Во всех этих аспектах хореографической практики Фокин заложил основы для своих последователей – модернистов и неоклассиков.
Он оставил им и другое важное наследие: мысль о том, что балет может преобразовывать мир посредством субъективного ви́дения, что он в не меньшей мере, чем живопись, музыка или драма, может выражать личную и историческую правду. С самого начала работа Фокина была сконцентрирована на темах коллективного самосознания и личной свободы. Эти вопросы были не сюжетной канвой его балетов, но той диалектикой, на которой строилось их внутреннее содержание – представление об общественной и личной независимости. Этот гуманистический идеал проходил красной нитью через такие разные его работы, как «Шехеразада», «Петрушка», «Шопениана». Фокинская одержимость этими темами происходила из опыта его юности: от того, что как танцовщик он сформировался в тени абсолютизма, обитая в либеральной среде художественного сообщества и интеллигенции. Наконец, это было связано с потрясением 1905 года. Революция превратила его из мечтателя в постановщика танцев. Но этим ее влияние не ограничилось: сама движущая сила революции неотступно преследовала работу Фокина долгие годы после того, как воспоминания о событиях уже стерлись из памяти, как будто потрясение от открывшейся свободы и ее утраты оставило в его воображении нестираемое ви́дение обетованной земли, которая не может найти себе воплощения нигде, кроме искусства.
2 Поэтика авангарда Вацлава Нижинского
«Новый балет», представленный в Русском балете с 1909 по 1912 год, был созданием исключительно Михаила Фокина. Именно его постановки доминировали в репертуаре: помимо «Жизели», «Лебединого озера» и дивертисментов «Пир» и «Ориенталии», возвеличивавших стиль «старого балета», весь корпус новых работ имел авторскую подпись Фокина.
Начиная с 1912 года ситуация изменилась. В этом году Дягилев затеял дворцовый переворот – первый из целой череды, последовавшей за ним на протяжении всей истории Русского балета, – который привел к уходу Фокина из труппы. Его место было быстро занято, его искусство – так же быстро замещено. Этот переворот означал не только перемену в составе «преторианской гвардии» Дягилева: он обнаружил нетерпеливое стремление своенравного импресарио проявить себя и как творец-художник. С уходом Фокина Дягилев взял хореографические бразды правления Русским балетом в свои руки, чтобы с помощью танцовщика-протеже, ставшего инструментом для реализации его замыслов, установить концепцию нового «нового балета».
Фокин, открыв дверь модернизму, сам тем не менее не решился переступить порог. Этот радикальный шаг был сделан Вацлавом Нижинским, которого Дягилев теперь облачил в мантию преемника-продолжателя «нового балета». В отличие от Фокина, который ежегодно обеспечивал своего бывшего хозяина изрядным капиталом новых постановок, Нижинский осуществил для Русского балета всего четыре работы: «Послеполуденный отдых фавна» (1912), «Игры» (1913), «Весна священная» (1913) и «Тиль Уленшпигель» (1916). За исключением «Тиля», который исполнялся только в Соединенных Штатах и которого Дягилев никогда не видел, все были значительными вехами в хореографии: «Фавн» с его пластикой, «Игры» с их близостью к неоклассицизму, «Весна» с ее примитивизмом в пластике и общем стиле постановки. «Фавн» и «Весна» принесли Нижинскому славу и скандальную известность: демонстрация акта мастурбации в первом привела в ярость парижских столпов нравственности, вторая же спровоцировала величайший скандал в театральной истории Франции. Действительно, ни одно танцевальное произведение XX века не оставило такого продолжительного следа в памяти самой широкой аудитории, как «Весна», – и это притом что оригинал, первоначальная постановка, был практически мгновенно утрачен. Этот балет, воссозданный более чем в шестидесяти версиях, стал синонимом самой идеи модернизма.
Работы Нижинского 1912 и 1913 годов в Русском балете обозначили окончательный разрыв с традицией Мариинского театра. Балеты Фокина, ставившиеся в основном для благотворительных спектаклей, редко являлись заказами администрации театра, они тем не менее легко вписывались в понимание культурной публики Санкт-Петербурга. Работы Нижинского, напротив, принадлежали исключительно Западу. Известия о них достигали России, но, за исключением экспериментов, осуществленных его сестрой Брониславой Нижинской в послереволюционном Киеве, сами они доступа туда не имели: с Нижинским история современного балета впервые разделилась на две ветви – русскую и западную. В целом балеты Нижинского произвели первое потрясение, связанное с балетным модернизмом. Но они также подготовили, наряду с символизмом, то, что иначе как пророчеством и не назовешь: важнейший эстетический проект Русского балета – диалектику разрыва и воссоединения в отношениях с классическим прошлым.
Учитывая, что статус Нижинского как балетмейстера уже не подлежит сомнению, сами истоки его творчества остаются такой же тайной, какой они были и для его первых зрителей. Частично это происходит из-за «недостатка свидетельств»: до той поры, когда в Джоффри Балле появилась реконструкция «Весны священной», только «Фавн», доставшийся последующим поколениям благодаря возобновлению 1922 года, сделанному Брониславой Нижинской в Русском балете, выжил и сохранился на сцене. Другая сторона тайны проистекает из его собственных «показаний»: «Дневник»[133], захватывающая хроника меркнущего сознания, не дает, однако, убедительного объяснения самого его творчества. И наконец, есть загадка Нижинского-танцовщика и есть миф о нем как о человеке – настолько длительный и устойчивый, даже сенсационно-захватывающий, что отвлекает внимание от вопроса о его формировании как артиста.
Среди всех прославленных исполнителей Дягилева один лишь Нижинский превратился в легенду. Появившийся на свет в 1889 году у супружеской четы скитавшихся по провинции польских танцоров, он стал единственной и неповторимой звездой Русского балета за все время его двадцатилетнего существования. Как танцовщик он преодолевал границы, казавшиеся недоступными для человеческих возможностей, неподвластные даже превосходным виртуозам, а как актер обладал поразительной, даже патологической способностью буквально погружать свою индивидуальность в исполняемые роли. Эти качества Нижинского, способствовавшие появлению нескольких счастливейших фокинских творений, сделали его исключительно тонким интерпретатором «нового балета», и с 1909 по 1913 год он потрясал публику в ролях Золотого раба, Петрушки, Арлекина и Призрака Розы. Искусство танца сформировало лишь одну часть легенды. Как любовник Дягилева он был еще и героем гомосексуальным. Оставив Дягилева ради женитьбы на Ромоле де Пульски, что стало причиной его увольнения из Русского балета в конце 1913 года, он по-прежнему пользовался дурной славой, только теперь как перебежчик, гомосексуалист-ренегат. И сверх всего этого, безумие – шизофрения, омрачавшая сознание Нижинского в последние тридцать два года жизни, – затрудняет понимание и разумное осмысление его работы. С постоянным определением его как человека умственно отсталого, но проявляющего незаурядные способности только в одной области, или как «клоуна Господа Бога» (как он часто именовал сам себя в «Дневнике»), Нижинский стал символом наивного и трагического гения[134].
План первого балета Нижинского был составлен осенью 1910 года во время длительного отдыха вместе с Дягилевым и Львом Бакстом. К декабрю, когда все трое вернулись в Петербург, набросок общей схемы будущего «Фавна» уже существовал. Постановка, объявил Нижинский своей сестре, должна быть в стиле греческой архаики, музыка – Прелюдия к «Послеполуденному отдыху фавна» Дебюсси. Что же касается хореографии – «ничего сентиментального, ничего “сладкого”, ни в формах, ни в движениях». На квартире Нижинских, перед высоким зеркалом в гостиной, где брат использовал сестру как модель для создаваемых им поз Фавна и Нимфы, балет и приобрел свою форму. В начале 1911 года они показали фрагменты своей работы Дягилеву и Баксту. К следующей весне «хореографический эскиз» «Фавна» был готов[135].
Наряду с тем, что Нижинская видела своего брата единственным создателем балета, были и другие мнения. Арнольд Хаскелл в своей биографии Дягилева, характеризуя концепцию постановки, приписывает двухмерный принцип композиции Дягилеву и Баксту. Поскольку главным источником Хаскелла являлся Вальтер Нувель, друг и соратник импресарио на протяжении почти сорока лет, его «подлинная история» зарождения балета достойна того, чтобы быть процитированной полностью:
После поездки в Грецию Дягилев, а в еще большей степени Бакст буквально бредили недавно открытым Кносским дворцом и древнегреческой архаикой. Бакст грезил о воспроизведении всего этого на сцене. В ходе долгих бесед они искали подходящие сюжет и музыку. И наконец остановились на «Эклоге» Малларме, о существовании которой Нижинский не имел ни малейшего понятия, пока разработка сценария не была завершена, и на музыке Дебюсси. Они также решили, что этой работой дадут Нижинскому его первый шанс, но будут контролировать его до мельчайших деталей, что же касается основной идеи, то они решили сделать балет в виде движущегося барельефа, все в профиль, балет без танцев, а только с движениями и пластическими позами в профильном стиле – вдохновителем всего этого являлся исключительно Бакст[136].
Страстное увлечение Бакста искусством греческой архаики засвидетельствовано документально. Об этом говорит его поездка в Грецию в 1907 году, а также воспоминания и наброски, с которыми он вернулся в Петербург. «Что больше всего интересовало его, – писал его биограф Чарльз Спенсер, – так это минойская Греция, Микены, Кносс… и ранняя архаическая скульптура», – чьи образы вскоре возникнут в «Античном ужасе», апокалиптическом видении Древней Греции, картине, которую Бакст теперь переписал[137]. Не менее хорошо известен и интерес Дягилева к Дебюсси, которому он заказал в 1909 году балет Masques et Bergamasques. Проект этот никогда не был осуществлен, но 26 октября следующего года Дебюсси дал добро на использование его партитуры в дягилевской «хореографической адаптации» «Фавна»[138]. Бесспорно и то, что сюжет балета был инициирован Дягилевым или Бакстом.
Более проблематичным является приписывание Хаскеллом Баксту трех ключевых хореографических идей балета – принципа фриза, профильных положений и чередования движений и пластических поз. Замечание Нижинской о том, что ее брат «с самого начала, без всякой подготовки, в совершенстве владел новой техникой», подтверждает справедливость мнения Хаскелла, что, приступая к сочинению хореографии, Нижинский уже обладал ясным видением будущего балета. Если Бакст действительно был источником самых новаторских идей «Фавна», то, в свою очередь, сам собой возникает вопрос, какие источники использовал он. И здесь обычный ответ – архаическая Греция – представляется неубедительным. Безусловно, листва виноградной лозы и геометрические мотивы, которыми художник украсил туники, были главным элементом в отделке керамических изделий доклассической поры. Но с не меньшей частотой они появлялись и на черно- и краснофигурных вазах V столетия, где любой может найти те же развевающиеся одежды, ритуальные жесты и профильные положения. Вазовые росписи этого переходного периода преисполнены общественным довольством: на них много изображений сцен музыкальных празднеств, где музыканты движутся легкой походкой, их лица расплываются в улыбке. Наряду с изысканностью эти образы содержат реалистические черты: если локоть согнут, то плоть прилегающего к нему предплечья смягчает угол, если тело плоское, то складчатая туника округляет плоский силуэт – Бакст так и сделал в своих эскизах костюмов для нимф. Но там, не менее чем в греческих оригиналах, на которые он ориентировался, мы далеки от основного замысла, воплощенного в единстве телесных образов в «Фавне». На самом деле мы здесь гораздо ближе к фокинскому представлению об Аркадии, воплотившемуся в таких его балетах, как «Нарцисс» и «Дафнис и Хлоя»[139].
Композиция «Фавна», как и его идея (Хаскелл также приписывает ее Баксту) использования нетанцевальных движений, позволяющая связать их с «пластическими позами», наводит на мысль о другом – театральном источнике вдохновения. Мейерхольд вновь, и не без основания, возникает на этих страницах. Но на сей раз он появляется в новой роли: как изобретатель «статичного», или «неподвижного», театра, который стал краеугольным камнем его подхода к постановке символистской драмы. Этот стиль, впервые опробованный в «Смерти Тентажиля» (1905) и развитый при постановках 1906 и 1907 годов для известной петербургской труппы Веры Комиссаржевской, содержал в зародыше самые новаторские идеи «Послеполуденного отдыха фавна» Нижинского.
Отношение Дягилева к Мейерхольду остается незаполненной страницей в биографии импресарио. Однако с 1906 года, когда временно оставшийся без работы режиссер высказывал надежду, что, «может быть, Дягилев выстроит новый театр», и до 1928 года, когда Дягилев толковал о том, что устроит в Париже «с Мейерхольдом общий сезон» следующей весной, их пути время от времени пересекались[140]. То, что их первая точно зафиксированная встреча состоялась в 1906 году – то есть когда Мейерхольд «был увлечен искусством символизма»[141] и стремился продолжить эксперименты, начатые в Театре-Студии Станиславского, – представляется в высшей степени значительным. Это не только упрочило интерес Дягилева к театру задолго до того, как он стал продюсером, но также подтверждает его интерес к символистскому эксперименту того времени. Воздушный замок Дягилева рухнул, и вскоре он перенес свою деятельность в Париж. Но он поддерживал отношения с Мейерхольдом, который в 1910 году посещал вечера на квартире Дягилева, где собирались художники, композиторы и друзья первых Русских сезонов. Нижинский также был среди этого собрания элиты петербургской интеллигенции – единственный танцовщик (если верить его сестре), имевший такую привилегию. Молодой человек, общавшийся до того с атлетами и другими представителями спортивного мира, теперь открыл для себя мир искусства Дягилева. Нижинская слышала об этих «встречах» и отметила их влияние на брата. «Он решил, что это именно тот мир, который ему необходим, и что он может жить исключительно среди артистов»[142].
В годы, непосредственно предшествовавшие возникновению Русских сезонов, Бакст работал с Мейерхольдом не менее двух раз. Осенью 1906 года оба принимали участие в организации нового театра Комиссаржевской (для этого театра Бакст написал занавес сезона)[143]; двумя годами позже Мейерхольд был режиссером, а Бакст – художником при постановке «Саломеи» для Иды Рубинштейн. Даты, отмечающие символистский период в творчестве режиссера, полностью совпадают со временем, в которое родились наиболее бросающиеся в глаза новшества «Фавна». В постановках «Гедды Габлер», «Пеллеаса и Мелисанды» и, более всего, «Сестры Беатрисы» эти новации – двухплоскостное решение мизансцен, стилизованные позировки, ограничение действия авансценой, деперсонализированный стиль исполнения, единство художественного стиля и медленное, «многозначительное» движение – уже присутствовали в арсенале режиссера. То, что сделал «Фавн», и было переводом на балетную сцену принципов мейерхольдовского «статичного театра».
Истоком этого стиля была «Смерть Тентажиля», одна из постановок Театра-Студии 1905 года, так и не увидевшая там свет рампы, но показанная в начале следующего года в Тифлисе. Пьеса, писал режиссер, «дала в руки метод расположения на сцене фигур по барельефам и фрескам, дала способ выявлять внутренний монолог с помощью музыки пластических движений»[144]. Это было началом театра, который Мейерхольд называл «статичным», или «неподвижным», театром, так описанным Константином Рудницким:
…театра замедленных, значительных, даже многозначительных движений, театра, в котором пластика актеров призвана была давать не пластическую копию человеческих движений в реальной жизни (как это было во МХТ), но – медленную «музыку» движений, соответствующую таинственному духу пьесы. Временами… актеры вдруг замирали в неподвижности. Человеческие лица и тела в эти моменты становились как бы одухотворенными изваяниями. Режиссер впервые требовал от актеров скульптурной выразительности. Так появились живые «барельефы»[145].
Движущийся фриз вновь и вновь появлялся в постановках Мейерхольда. В «Сестре Беатрисе», одной из немногих работ этого периода, от которых сохранились фотографии, мейерхольдовские монахини, как и нимфы в «Фавне», строго стилизованы, их тела представлены нарочито плоскими, чтобы создать видимость их пребывания только в двух измерениях, жесты угловаты и подчинены общему рисунку постановки. На протяжении всей пьесы эти жесты были синхронизированы с позами героини. Мейерхольд писал:
Ритм строился из строго выработанной длительности пауз, определявшейся отчетливой чеканкой жестов. Примитивный трагизм прежде всего очищался от романтического пафоса. Напевная речь и медлительные движения всегда должны были скрывать под собой экспрессию, и каждая, почти шепотом сказанная фраза должна была возникать из трагических переживаний[146].
Если акцент на внутренний ритм, как и на медленный и «нетанцевальный» характер движения, предвосхищал «Фавна», то, в свою очередь, архаичный характер позировок в случае «Сестры Беатрисы» был вдохновлен прерафаэлитами и живописью раннего Ренессанса. В равной степени оказался предсказанным и деперсонализированный стиль актерской игры, аксиома нового театра, и использование укороченной сцены, которая ограничивала действие узкой полосой у самого края просцениума. Как и использование ритмизованного движения, это был один из нескольких технических приемов, позаимствованных Мейерхольдом из теорий Георга Фукса[147].
Мало оснований верить, что Нижинский вообще видел работы Мейерхольда этого периода, разрушавшие основы традиционализма. До мая 1907 года он жил в замкнутом пространстве Императорского театрального училища, и даже после окончания школы связь с князем Павлом Львовым, патроном спортивных состязаний и страстным болельщиком, приводила его гораздо чаще на велосипедные гонки и конные скачки, чем в драму[148]. То, что он знал о мейерхольдовском «условном театре» – термин режиссера для его символистских экспериментов, – могло прийти к нему из вторых рук, из разговоров на пляже Лидо, где Бакст писал портрет танцовщика летом 1910 года, или из бесед с Дягилевым осенью того же года, когда музыка для «Фавна» уже была выбрана. Известна история, как Бакст назначил встречу Нижинскому в греческой галерее Лувра, и танцовщик, в восторге засмотревшись на египетские рельефы этажом ниже, подвел к ним своего друга: в этом усматривается причина появления двухплоскостного принципа композиции «Фавна». Но, как подчеркивает Линкольн Керстин, Нижинский «давно был знаком с “египетским стилем” Мариинского театра», если и не из опер, как «Аида», то уж определенно из таких балетов, как «Дочь фараона» и «Клеопатра»[149]. В любом случае пластика была лишь исходным моментом. Значительно более важным для «Фавна» было единение статичных образов с темпами ритмизованного движения и стилизованными формами символистского театра. Под эгидой пары менторов первые шаги Нижинского как хореографа были сделаны по пути, проложенному Мейерхольдом, – как выполнение пророческого предначертания режиссера о том, что новый театр «приблизит возможность возрождения пляски»[150].
Ни Дягилев, ни Бакст тем не менее не появлялись в гостиной, где Нижинский начал сочинять хореографию. А ведь именно там зерна-идеи, посеянные ими, дали свои всходы, и осуществление попыток новичка, как полагали они, оказалось радикальным хореографическим заявлением, соединенным с индивидуальным видением Нижинского. Как и первые, ранние романы многих писателей, «Фавн» есть произведение о сексуальном пробуждении подростка. Начальный импульс исходил от известного монолога Малларме: фавн видит – или думает, что видит? – в отдалении группу нимф; он преследует их, теряет их, затем снова оживляет в памяти – или это только была игра воображения? – вожделение, лесбийские страсти и неутоленное желание. Только общие очертания поэмы сохранились в балете: фавн, нимфы, которые бесцеремонно вторгаются в его грезы, настроение эротического томления. Если в поэме линия между мечтой и реальностью размыта, то балет представляет эротическую тему в виде живого жизненного опыта: реальность как нимф, так и шарфа, при помощи которого Фавн удовлетворяет свое желание, бесспорна. Безусловна и его невинность, неискушенность: от полных истомы потягиваний в начале, когда он обнаруживает чувствительность частей своего тела, до прерывистых шагов, когда он преследует женщину-добычу, и удивление ее отказом от взаимности, когда он с вожделением смотрит на нее, – все это говорит о сексуальном открытии самого себя.
Если быть точными, это говорило о гетеросексуальном открытии: в «Фавне» Нижинский, спасаясь в реальности фантазии, озвучил желание, не удовлетворенное в его жизни с Дягилевым. В своей книге Ромола Нижинская описывает сюжет балета как «явление, самое обычное для любого человека: пробуждение эмоциональных и сексуальных инстинктов и реакция на них юноши»[151]. Но, несмотря на то что на поверхности произведение привлекает простотой его протагониста – получеловека, полуживотного, взгляд на гетеросексуальность саму по себе полон двусмысленностей: соблазнительность Нимфы, которая сбрасывает не одно, а три покрывала, как будто стремясь своим раздеванием нарушить самоизоляцию Фавна; стремительное неистовство их объятий, в которых он «захватывает» ее, как сказала Джоан Акочелла, «между рельсами его вытянутых рук»[152]; угроза трех возвращающихся нимф, которые издеваются над ним с язвительной усмешкой, – и грех. Среди многих навязчивых идей, гнездящихся в «Дневнике» Нижинского, есть и проститутка, или кокотка, как он называет ее, блуждающая по парижским улицам с запахом дешевых духов и обещанием греховных наслаждений, с презрением относящаяся к преследованиям скромно одетого танцовщика:
В то время, когда я жил с Дягилевым в Париже, я испытывал явную склонность к кокоткам. Дягилев говорил, что я глуп, но тем не менее я привык охотиться за ними. Я бегал по городу, чтобы найти дешевых, однако боялся быть замеченным… Но я также понимал, что поступаю ужасно. Если бы меня обнаружили, это было бы равносильно моей гибели. Как и все молодые люди, в это время я делал много глупостей. Итак, я бегал по улицам Парижа в поисках кокоток. Поскольку я хотел, чтобы девица была здоровой и красивой, это занимало у меня много времени, и иногда, проискав целые дни, я, случалось, возвращался несолоно хлебавши, так как у меня недоставало опыта. Я находил их по нескольку в день… Я использовал разные способы, чтобы привлечь их внимание: однако они мне его уделяли очень мало, потому что, не желая быть узнанным, я одевался очень просто[153].
Подобно самому Нижинскому, его Фавн нуждается в сладкоголосом призыве соблазнительницы, преследует ее хитросплетением шагов и позволяет ей ускользнуть, удовлетворяясь при этом смакованием воспоминания о ее теле – вместо того, чтобы испытать радость подлинного обладания им. Шарф, который он набрасывает на себя и на который в экстатическом финале балета изливает свое семя, тем не менее не есть просто замещение отсутствующей владелицы. В равной степени это также символизирует его победу над силками, раскинутыми Женщиной, его твердость перед соблазном ее плоти. В случае с «Фавном», где явный гомосексуалист Нижинский объявляет себя скрытым гетеросексуалом, фетишизм шарфа обнаруживает глубоко коренящуюся двойственность в подобии мужчин и женщин. Разрывающийся между силой вожделения и страхом за его возможные последствия, Нижинский предпочел спасительную гавань самоудовлетворения.
На сцене, где показ сексуальных отношений был в высшей степени условным, откровенность языка Нижинского шокировала. Его движения, лишенные виртуозности и декоративности, представляли содержание с дерзкими и откровенными формами примитивного идола. Подобные пластические решения на драматической сцене принесли Мейерхольду звание балетмейстера. Перенесенные на балетную сцену, они вызвали обвинения в покушении на общепризнанные балетные условности. Действительно, в восемь минут «Фавна» Нижинский уместил все существо балетного модернизма, завершив революцию, инициированную Фокиным.
Для Нижинского движение стало самоцелью. Он разбивал его, разбирал на части и собирал вновь, очищая каждый раз от наросшей на нем плоти. Фокин скупо использовал виртуозность, подчиняя ее выразительности. Нижинский устранил ее полностью, наряду с классической техникой, поддерживающей ее. «Фавн» вернулся к истокам. Исполнители передвигались шагами и поворачивались, опускались на колени, и был только один прыжок – все движения открывали генетические истоки балета в предельно примитивизированных значениях этих па. Фокин обнажил стопу. Но именно Нижинский освободил стопу для работы, пригвоздив ее к полу, утяжелив и используя составляющие ее части – пятку, подушечки пальцев, свод – в противоположных целях. Его торс также обращает на себя внимание: он здесь не только, как у Фокина, центр телесной выразительности, но и проявление прямизны, традиционно ассоциирующейся с выворотностью. Фокин избавил балет от аксиоматического отождествления классического стиля с выворачиванием ноги наружу. Теперь Нижинский крепко ухватился за параллельные позиции ног, которые Фокин вводил от случая к случаю, и, закрепив их линии, трансформировал эти позиции в качестве дополнения к самой эстетике выворотности.
Несмотря на то что Фокин редко говорил о рисунке, в его хореографии торжествует кривая линия. Нижинский, напротив, представляет тело как пересечение евклидовых форм – треугольников, дуг, линий, – что в равной степени служило и основой общего рисунка его ансамбля. Эти формы, порой причудливо смешанные, порой наложенные друг на друга, способствовали возникновению двойных планов и геометрических ландшафтов кубистов; они возвестили модернизм в «Фавне» и одновременно спрессовали в единый образ целую цепь повествования. Дуэт с Нимфой в «Фавне», непоследовательная смена поз, принимаемых угловатыми телами, наводит на мысль о сонме противоречивых желаний: вожделение, страх, согласие, застенчивость, увиливание, жажда господствовать и повелевать. Но углы и линии евклидовского универсума служат и другой, более важной цели. Хореография, очищенная от всего сентиментального и романтического, сужает понимание секса до голого инстинкта. Фавн Нижинского – человек лишь отчасти. Как его прародители и классические предшественники, он также наполовину животное, и это черта его собственной природы, которая выступает первой при его встрече с нимфой. В этом дуэте партнеры не касаются друг друга. Тем не менее возникает впечатление, что они соприкасаются, и почти каждый намек на контакт импульсивен и связан с насилием. Фавн вновь и вновь жаждет свою жертву, заключая ее в тиски своих сильных рук. Почти каждый раз беззвучный крик, рвущийся из гортани, раздирает его рот, словно именно там находит выход поднимающаяся из глубин лава самого сексуального возбуждения. В один из моментов, находясь сзади ее, он руками образует треугольник, будто бы символически ее обезглавливая. В этой парной группе не насилие, а остановленное движение есть цель, ибо если «Фавн» и говорит о вожделении, то более настойчиво он говорит об этом паузами с застывшими позами, устранением претензий вожделения в самом теле. Это самоотречение природы таится в самом замысле балета, ибо если геометрия стилизовала протагонистов Нижинского, то она также лишала их секса, как если бы сама форма, подобно высокой морали, становилась щитом против инстинкта.
«Игры», второй балет Нижинского, также вращался вокруг сексуальной двойственности и желания. Но варварство на сей раз предстало укрощенным, введенным в реалии современной жизни. Это произведение было задумано как последовательное продолжение «Фавна», где степень откровенности Нижинского достаточно велика. Некоторые источники считают местом рождения «Игр» Довиль; другие – парижский ресторан на открытом воздухе; вполне вероятным местом мог быть сад леди Оттолин Моррелл в Бедфорд-сквер, где в июле 1912 года Нижинский вместе с Бакстом наблюдал сумеречной порой матчи теннисистов, ставшие прообразом балета. Судя по всему, замысел «Игр» принадлежал Нижинскому, однако, как и в случае с «Фавном», и Дягилев, и Бакст оказались в роли «повивальных бабок» при создании либретто. Жак-Эмиль Бланш, модный художник-портретист и поклонник Русского балета, описал совместные усилия, предпринимавшиеся в «Савой-гриле», любимом Дягилевым заведении в Лондоне:
Шаляпин… развлекал приглашенных на обеде у леди Рипон в большом зале Савой, и я был среди гостей. Официант принес мне записку от Дягилева, я развернул ее и прочитал: «Дорогой друг, мы находимся в гриль-баре с Бакстом. Вацлав хочет видеть тебя и потолковать с тобой об одной сумасшедшей затее… он хочет, чтобы мы включились в составление “игрового” либретто, и Дебюсси написал музыку. Приходи сразу, как только встанешь из-за стола…» Вацлав рисовал что-то на скатерти, когда я появился в гриль-баре… «Кубистический» балет – который стал в конце концов «Играми» – был про игру в теннис в саду, но окружение не должно было быть романтической декорацией в манере Бакста! Здесь не должно было быть ни corps de ballet, ни ансамблей, ни вариаций, ни pas de deux, только девушки и юноши во фланелевых костюмах и ритмические движения. Группа в определенный момент изображала фонтан, и игра в теннис (с мотивами флирта) прерывалась крушением аэроплана. Что за сумасбродная идея![154]
Бланша, далекого от авангардистских пристрастий (аэроплан гораздо ближе к футуризму, чем к кубизму), удалось тем не менее убедить донести эту идею до Дебюсси, отвергшего ее, в свою очередь, как «идиотскую». Однако когда Дягилев в ответной телеграмме пообещал удвоить гонорар, композитор принялся за партитуру и управился с ней за недели – к концу августа[155].
Как много было в этом идей Нижинского? В интервью, опубликованном в «Фигаро» накануне премьеры балета, Гектор Кайюзак приводит несколько сделанных предыдущей весной замечаний танцовщика, которые показывают, насколько Нижинский был увлечен спортом:
Человек, которого я прежде всего вижу на сцене, – это современный человек.
Я мечтаю о костюме, пластике, движениях, характерных для нашего времени…
Если мы понаблюдаем, как наш современник прогуливается, читает газету или танцует танго, мы не найдем ничего общего в его жестах с жестами, допустим, фланера времен Людовика XV или монаха, разбиравшего в XIII веке манускрипты.
Я внимательно изучаю поло, гольф, теннис и убежден, что игры эти не просто полезный досуг, но и создатели пластической красоты. Из их уроков я вынес надежду, что в будущем наше время охарактеризуют стилем столь же выразительным, как и стили, которыми мы сейчас охотно любуемся в прошлом[156].
Аэроплан, с другой стороны, оказывается любимым детищем Дягилева. Знаменательно, что в письме к Дебюсси, рассуждая о его появлении в балете, он быстро переходит от первого лица множественного числа к первому лицу единственного:
Если дирижабль Вам не нравится, обойдемся без него. Я предполагал, что Бакст изобразит аэроплан на декоративном панно, которое будет передвигаться в глубине сцены, и его черные крылья создадут неожиданный эффект. Поскольку действие балета происходит в 1920 году, появление этого аппарата не может особенно привлечь внимание действующих лиц. Скорее их будет беспокоить то, что за ними могут наблюдать с дирижабля. Но, в общем-то, я на этом не настаиваю. С другой стороны, «ливень» меня тоже не удовлетворяет, и мне кажется, можно ограничиться поцелуем, после чего все трое разбегутся и скроются одним прыжком[157].
Дягилев также указывает на идею, которую Нижинский категорически не принимал, но которая совершенно очевидно восхищала Дягилева: «много pointes для всех ТРОИХ. Это – величайший секрет, потому что до сих пор мужчина никогда не танцевал на пальцах. Он был бы первым, сделавшим это, и я думаю, что это было бы очень элегантно». Дягилева никогда нельзя было заподозрить в недооценке силы воздействия новизны.
Как и в «Фавне», хореография была полностью оставлена Нижинскому. В конце сентября к нему присоединилась сестра, и вместе с другой танцовщицей, Александрой Василевской, они приступили к первым репетициям в Монте-Карло. Подобно «Фавну», «Игры» были экспериментом в области ритмизованного движения. Но если ранний балет использовал его как средство для достижения «очистительного» минимализма, то его последователь сделал ритмизованное движение стартовым моментом для построения изощренной конструкции. На этот раз двухплоскостные фризы открывали путь для скульптурных, трехмерных тел, от искусства Греции – к искусству Матисса, Сезанна, Гогена, Модильяни и Родена: альбомами с репродукциями их картин был буквально завален гостиничный номер Нижинского.
«Игры», как написала Нижинская, «предвосхищали рождение неоклассического балета»[158]. Многие па пришли из академического лексикона. При этом характерно, что они исполнялись скорее с параллельной работой стоп, чем через выворотные позиции, с руками, согнутыми в полукруг, со слегка сжатыми в кулак пальцами и загнутыми запястьями: Нижинская описывала это как новые движения и положения тела, свободные от правил классического танца. Другим истоком влияния был спорт. Grands jetés, которыми брат и сестра пересекают сцену, были исполнены с силой, по-спортивному, в то время как типичное движение этого балета – скользящие по телу взмахи рук в стороны и вверх – происходило как из гольфа, так и из тенниса. Последний стал навязчивой идеей Нижинского, и он часто отменял репетиции, чтобы посетить ближайший теннисный корт, где изучал не только пластику игроков, но и положения рук и кистей, держащих ракетки, – возможный источник согнутых локтей и собранных пальцев, которые можно увидеть на немногих сохранившихся фотографиях[159].
И еще одно влияние проникло в хореографию этого балета. Теории Эмиля Жак-Далькроза наверняка не были неизвестны Нижинскому, бесспорно посещавшему демонстрационные выступления учеников Далькроза в Петербурге начала 1911 года. В ноябре 1912 года вместе с Дягилевым он нанес первый из двух визитов в Институт Далькроза в Хеллерау. До этого времени, замечает Нижинская, ее брат «не передавал “графическим” движением каждую ноту и не считал вслух, как делал позднее, репетируя со всей труппой, когда он подпал под влияние системы Далькроза»[160]. Сам Далькроз никогда не претендовал на то, что эвритмия играет значительную роль в хореографии; он говорил, что его упражнения направлены только на развитие способностей, связанных с ритмом и координацией. Дягилев, всегда особо чувствительный к новому, в конце 1912 года, сомневаясь в том, что Нижинский справится с ритмическими сложностями «Весны священной», пригласил Мари Рамбер, преподавательницу Института Далькроза, присоединиться к труппе в качестве ассистентки Нижинского. Рамбер тесно сотрудничала с хореографом на протяжении 1913 года и, в отличие от Нижинской, находилась с ним в заключительный период репетиций «Игр», когда многое уже было сделано и когда, вероятнее всего, были добавлены ритмические причуды, вызвавшие раздражение Дебюсси после премьеры. Перси Инхем писал:
В системе Далькроза время показано движениями рук, а временные величины, т. е. длительность нот, движениями стоп и тела. На ранних этапах подготовки этот принцип ясно просматривается. Позже это может варьироваться различными способами, например, теми, которые известны как пластический контрапункт, где звучание нот представлено движениями рук, тогда как контрапункт в четвертях, восьмых и шестнадцатых дан при помощи стоп[161].
Дебюсси, увидев балет, в письме Роберу Годе резко отверг далькрозианскую «математику». Имея в виду Нижинского, композитор писал:
Этот парень складывал тридцать вторые своими ногами, подтверждая результат своими руками, и вдруг, как ударенный параличом, замирает и неодобрительно вслушивается в музыку. Это, как оказалось, называется «стилизация жестов». Как это ужасно! На самом деле – это далькрозовщина, и должен вам сказать, что я считаю мсье Далькроза одним из злейших врагов музыки! Можете себе представить, причиной какого разрушения в душе юного дикаря Нижинского стал его метод![162]
Подробности описания Дебюсси делают ясным силу воздействия – и далеко не всегда конструктивного – далькрозовских идей на хореографический метод Нижинского.
В «Играх» Нижинский продемонстрировал весь свой пыл авангардиста. Если замысел балета отдавал дань современному французскому искусству, то использованный в нем материал восходил к современным видам времяпрепровождения представителей высшего класса, предвосхищавшим основные тенденции 1920-х годов. То же произошло и с использованием материала классического танца – предвестника неоклассического возрождения следующего десятилетия. «Игры» также устремлены к les années folles[163]: как и во многих балетах 1920-х, их тема откровенно эротична.
В своем «Дневнике» Нижинский писал:
По сюжету в балете действуют трое молодых людей, которые любят друг друга. Дягилев, который любит похвалу и славу, охотно рассказывает, что этот балет – его произведение. Пусть он приписывает себе заслуги создания «Фавна» и «Игр», мне это все равно, я создавал эти два балета под влиянием «моей жизни» с Дягилевым. Фавн – это я, в то время как «Игры» показывают жизнь, о которой мечтал Дягилев: он хотел иметь двух возлюбленных мальчиков, заниматься с ними любовью и, в свою очередь, чтобы они это делали с ним. В моем балете две девушки заменяют мальчиков, а роль Дягилева исполняет молодой человек. Любовь между тремя мужчинами не может быть показана на сцене, и надо было поменять персонажей. Я бы хотел дать почувствовать всем отвращение, которое я испытывал к противоестественной любви, но не сумел завершить этот балет[164].
Публика была озадачена «Играми», но отвращения не испытала. Декорация Бакста в сочных зеленых, синих и пурпуровых тонах представляла парк по соседству с теннисной лужайкой в пору вечерних сумерек. Свет электрических фонарей пробивался сквозь летнюю листву. Потерянный мяч прокатывался по сцене. Появлялся молодой человек, ищущий этот мяч, к нему присоединялись две девушки в белых костюмах для игры в теннис:
Мяч забыт, юноша сначала флиртует с одной из девушек, потом с другой. Первая ревнует. Пока молодой человек колеблется, за кем продолжать ухаживать, девушки начинают утешать друг друга ласками. Герой решает – чем терять одну из подруг, лучше ухаживать за обеими сразу. Откуда-то в сад бросают второй теннисный мяч, и, испугавшись, девушки весело убегают. В эмоциональном плане Нижинский сделал несомненный шаг вперед[165].
Как и «Фавн», «Игры» основывались на фантазиях, связанных с соблазном. Исполнители на сцене флиртовали, заключали друг друга в объятия, разбивались на пары, менялись партнерами, танцевали для других, пристально наблюдали друг за другом, ласкали самих себя. Нижинский говорил Дебюсси, что «он представлял себе случай из современной жизни, спорт и дух современной молодежи – “les jeux de sport, les jeux de l’amour”[166]»[167]. Но «Игры» воплощают в себе нечто значительно большее, чем повествование о любовных играх или даже о любви как спортивном состязании. Мимолетный, неустойчивый выбор партнеров, подглядывание за ласками, предваряющими эротические сцены, и навязчивая самопоглощенность делают этот балет историей о всеподавляющем желании и уклонении от проблем, сопровождающих сексуальные отношения.
В центре постановки находится Юноша, вокруг которого, как мотыльки, слетевшиеся к световому пятну (один из образов, вдохновивший на сочинение балета), кружат по символическим орбитам юные девушки. Как время (сумерки), так и место (укромный уголок сада) усиливают эротические ожидания протагониста. И все-таки для героя он выглядит странно неуверенным в себе, так как все, что происходит, никогда не оказывается результатом его собственных усилий, его действия инициируются самыми разными объектами: мячом, который привел его в сад; вторым мячом, положившим конец его играм; женщинами, которые следовали за ним, привлекали его и настаивали на отношениях с ним.
На протяжении всего балета объединение сменяется разъединением, привязанность – отчуждением, каждая короткая встреча неизбежно ведет к своей противоположности – замкнутости самоуединения. Действие вновь и вновь возвращается к страстно жаждущей самости индивида, стоящего поодаль и наблюдающего за другой парой, прикасаясь при этом к той или иной интимной части своего тела – груди, талии, промежности, шеи. Даже когда они в парах – смешанных или одного пола – или свиты в тройном объятии, их взгляды отведены друг от друга, как если бы секс был разведен не только с чувствами, но и вообще с пониманием присутствия другого человеческого существа, и под пристальным взглядом это была бы просто форма самоудовлетворения. Конечно, в «Фавне» финальный жест являл это с дерзновенной прямотой. Но там женщины были, по существу, лишь проекцией эротических фантазий Фавна, в «Играх» же они предстали зеркальным отражением сложной сексуальной сущности протагониста. Можно допустить и логическое завершение этой мысли: если его неуверенность обрядила мужское начало в женские одежды, то их сила и энергия обрядили женственность в мужские одежды. Но эти женщины оказываются «мужчинами» в совершенно особом смысле: сексуальное уравнивание представляет их как сапфических женщин или мужчин «третьего пола». Их заигрывания интригуют Юношу (на одной из пастелей Валентины Гюго он изображен стоящим в стороне и внимательно наблюдающим за ними), и в то же время это возбуждает в нем ревность, и единственное решительное действие, которое он решается предпринять в балете, – положить всему этому конец. Если в начале он колебался в выборе одной из маскулинизированных женщин, то сейчас, в облике феминизированного мужчины, он предпочел их обеих. Но это решение приводит к еще большему напряжению, и, как в «Фавне», когда приближается завершающий момент, Нижинский использует объект, чтобы отвратить природу от естественного хода вещей. На этот раз его deus ex machina[168] стал случайно залетевший мяч. Испугав партнерш Юноши по игре, он спасает его желание, воскрешая в воображении замещающий объект – индивидуальные фантазии. «Игры», вторая глава эротической автобиографии Нижинского, обнаруживает – и не менее убедительно, чем «Фавн», – силу желания, двойственность сексуальной сущности и его отвращение к самим половым сношениям.
С постановкой «Весны священной» период взросления в творчестве Нижинского закончился. Он больше не использовал собственную личность в качестве субъекта своих постановок, а индивидуальные фантазии – в качестве темы для них. Пожертвовав личным, он выдвинул в центр внимания социальное – то, что отсутствовало в его прежних балетах: «Весна священная» представляла собой огромное человеческое полотно, изображение первобытного человека и его первобытного племени – и человеческого жертвоприношения, необходимого для непрерывности их существования. «Весна священная» врезалась в сознание общества своего времени сильнее, чем все прочие постановки Дягилева. Она была показана всего девять раз (включая répétition générale[169]), но эти показы сразу же сделали балет легендой. Его премьера 29 мая 1913 года стала поводом для шумной демонстрации, которая могла бы напомнить о скандале вековой давности с «Эрнани» Виктора Гюго и о том, как публика приняла вагнеровского «Тангейзера» в 1861 году. Одна изящная леди дала пощечину своему свистевшему соседу; другая назвала Равеля «грязным жидом»; отовсюду доносился свист; один композитор кричал «девкам» из шестнадцатого округа, где проживало большинство владельцев лож, посещавших спектакли Дягилева, чтобы они «заткнулись»[170]. Как своей музыкой, так и хореографией «Весна священная» порывала с Belle Époque. Не многие из представителей светской публики того времени были готовы сделать то же самое.
По иронии судьбы, произведение, вошедшее в историю искусства как символ модернизма, было порождением одного из художественных порывов XIX века – неорусского восхищения мифологическим прошлым России. Идея этого балета пришла Стравинскому весной 1910 года, когда он заканчивал работу над «Жар-птицей». «Я мечтал о картине языческого ритуала, в которой избранная для жертвоприношения дева затанцевала бы себя до смерти». Почти сразу же его мысли обратились к художнику, который в итоге создал декорации для балета. «Я хотел сочинить либретто вместе с Н[иколаем] Рерихом, – писал он в 1912 году редактору “Русской газеты” Николаю Финдейзену, – ибо кто еще смог бы мне помочь, кто лучше его знает тайну трепетного отношения наших предков к земле?»[171] В 1909 году Рерих оформил для Дягилева «Половецкие пляски» и «Ивана Грозного». Но еще задолго до этого он проявлял неподдельный интерес к этнографии и сравнительной мифологии. С начала 1890-х годов он принимал участие в археологических экспедициях в старинные русские города и вел научное исследование на тему искусства и религиозных ритуалов древних славян. Знания, не вошедшие в научные работы, нашли свое выражение в его живописи – в цикле «Начало Руси», представленном на выставке «Мира искусства» 1902 года в Москве, и созданных в конце того же десятилетия пейзажах старого Пскова, воссоздававших прошлое в духе магического реализма. В начале 1900-го он вошел в круг художников в Талашкине, где по его эскизам изготовлялась мебель в крестьянском стиле для ремесленной мастерской княгини Тенишевой, а стены в ее церкви были расписаны его фресками. В Талашкине была богатая коллекция крестьянских предметов быта и народных костюмов, а также вышивальная мастерская; и можно представить, как, встретившись в поместье в июле 1911 года, Стравинский и Рерих тщательно изучили их, чтобы составить «план действия и придумать названия танцев» для балета, который первоначально назывался «Великое жертвоприношение». Поездка пробудила воображение Стравинского. 26 сентября он писал Рериху из Швейцарии:
Я уже начал сочинять и, будучи в пылу и возбуждении, набросал вступление для дудок и «Гадания с прутьями». Музыка получается очень свежая и новая. У меня из головы не выходит картинка старухи в беличьих шкурках. Она все время стоит перед глазами, когда я пишу «Гадание с прутьями». Я вижу, как она бежит впереди группы, временами останавливая ее и прерывая ритмический поток. Я убежден, что действие должно быть протанцовано, а не показано пантомимой, поэтому я соединил «Танец девушек» и «Гадание с прутьями» – получилась гладкая связка, которой я очень доволен[172].
Для Стравинского, не меньше чем для Рериха, этнография была путем к творчеству. «Совершенно необходимо, чтобы мы свиделись, – писал он художнику накануне их встречи в Талашкине, – и договорились о каждой детали: особенно это касается постановки – нашего детища»[173]. Либретто, набросанное в ходе этого визита, облачило мечты композитора в богатые одеяния славянских мифов. Действие, как он писал Финдейзену, приобрело приблизительно такой вид:
Первая часть. «Поцелуй Земли». Эта часть содержит древние славянские танцы. «Радость весны». Оркестровое вступление – множество весенних дудок.
После этого, когда занавес поднимается, гадания, танцевальные игры, игра в похищение, танцевальная игра города на город – все это прерывается процессией «Старейшего-Мудрейшего», старца, который целует землю. Первая часть оканчивается тем, что люди, опьяненные весной, предаются диким пляскам на земле.
Вторая часть. Тайные ночные игры молодых девушек на священном холме. Одна из них жребием выбирается для жертвоприношения. Она входит в каменный лабиринт, а остальные девушки прославляют ее в диком и воинственном танце. Приходят старцы, и один, избранный, остается с ними и танцует с девушкой ее последний Священный Танец, «Великое Жертвоприношение» – это название Второй части. Старцы наблюдают за ее последним танцем, который заканчивается смертью приговоренной[174].
Этнография послужила основой для создания не только либретто, но и – не в меньшей мере – для написания музыки. Хотя Стравинский неоднократно отрицал это, «Весна священная» была «собрана, – как писал музыковед Ричард Тарускин, – из множества народных мелодий»[175]. Весенние гадания, Ритуал умыкания невест и весенние хороводы, как и вступление к первой части, заимствовали свой материал из огромной антологии литовских народных песен, собранной польским священником Антоном Юшкевичем. Другие мелодии происходили из «100 русских песен» Римского-Корсакова – собрания, опубликованного в 1877 году. Какие-то из мелодий, видимо, были зафиксированы самим Стравинским или в Талашкине, где он записал несколько народных песен со слов певца и гусляра С. П. Колосова, или в Устилуге, семейном имении на Украине, где композитор проводил каждое лето до 1914 года. Большинство из этих мелодий, замечает Тарускин, принадлежит к типу, который этнографы обозначают как «песни обрядные», то есть культовые или ритуальные. Связанные с христианскими праздниками и проводимыми в них ритуалами, они восходили к языческим временам и древним обрядам солярного культа. Так, хоровод «Ну-ка, кумушка, мы покумимся» из книги Римского-Корсакова ассоциировался с народным праздником «семик», который отмечали в четверг седьмой недели после первого весеннего полнолуния. «Обычаи и обряды Зеленой недели связаны с древним культом урожая и культом предков», – писала Татьяна Попова, которая устанавливает связь между мелодией и гаданиями, мелодией и хороводом. Тарускин отмечает: «Точное соответствие всего этого сценарию первой части “Весны священной”, и в особенности “Весенних хороводов”, очевидно»[176].
Стравинский конечно же был не первым из русских композиторов, кто использовал в творчестве фольклорный материал. Но, в отличие от Чайковского и Римского-Корсакова, которые обрабатывали свои заимствования в стиле европейской музыки, Стравинский «искал в народных песнях что-то более фундаментальное для своего музыкального языка и техники, используя их как часть собственного освобождения от той основной художественной тенденции – и даже, как оказалось, от ее полного ниспровержения»[177]. В «Весне священной» композитор абстрагировал фольклорный материал до такой степени, что его источник перестал быть различимым. Тарусин писал:
Открытия, которые я сделал по записной книжке Стравинского, особенно интересны, потому что обнаруживают лежащее в основе музыки присутствие народных мелодий, которые… не «отображены» в конечном продукте, но вплетены Стравинским в музыкальную ткань в такой мере, что, не заглядывая в его записные книжки, их присутствие невозможно было бы заподозрить. Иными словами, чтение записных книжек впервые позволяет нам быть свидетелями… обобщения стилистических элементов народной музыки, которое стало таким ярким поворотным моментом в развитии Стравинского как композитора[178].
Радикальный подход Стравинского к фольклорному материалу не отразился на декорациях Рериха. В них соблюдались принципы сценического натурализма, которые, как правило, вдохновляли сотрудников Дягилева в довоенные годы, вызывая к жизни изначальный мир через осколки древних цивилизаций и сохранившиеся предметы крестьянских ремесел. Костюмы представляли собой праздничные крестьянские одеяния – просторные рубахи из грубой шерсти, с узорами, напоминавшими традиционную вышивку. Подчеркнуто декоративные, эти узоры содержали множество эзотерических аллюзий, которые, принимая во внимание тему балета и вечный интерес Рериха к иконографии и системам ритуальных обозначений, трудно назвать неожиданными. Верховное божество «Весны священной» – Ярило, древнеславянский бог солнца. Ему в конце приносится в жертву Избранница, и к его культу очевидно относятся многие из мотивов, встречающихся в узорах на костюмах. Костюм Александра Гаврилова, писала Миллисент Ходсон, «был примечателен символами, расположенными на кайме: они похожи на лесенки, по которым катятся колеса, и все это может обозначать деревянные колеса, обвитые сухими прутьями, помещенные поверх лестниц или шестов, – их поджигают, чтобы восславить возвращение солнца»[179]. Подобранные Рерихом цвета – оранжевый для лесенки и колеса, темный аквамарин для промежутков между ступенями, – подтверждают трактовку этих символов как огненных колес. Те же цвета, отмечает исследовательница, появляются на рукаве силуэта, который может изображать Ярило. Наряду с символами огненного колеса по краям Рерих разместил на костюмах концентрические круги с расходящимися от них дугами и незамкнутыми окружностями. Этот мотив, по наблюдениям Ходсон, был перенесен и в хореографию: во втором акте девушка, избранная для жертвоприношения, стоит посреди круга молодых женщин, вокруг которого начинают сходиться старцы. Исследования Ходсон выявили и многие другие соответствия между костюмами и партерным рисунком, заставившие ее предположить, что Нижинский, который, по всей видимости, ждал появления декораций и костюмов Рериха, прежде чем начать постановку ансамблевых номеров, стремился сохранить целостность символики, характерной для ритуального искусства.
Хотя, как признает Ходсон, «вряд ли возможно доказать какую-либо связь между костюмами танцовщиков и их пластикой»[180], живопись Рериха все же внесла свой вклад в создание балета – если и не собственно хореографии, то духа, который в ней был. Нижинский объяснял сестре, для которой ставил роль Избранницы:
Теперь, когда я работаю над «Весной священной», искусство Рериха вдохновляет меня не менее, чем мощная музыка Стравинского – его картины «Идолы», «Дочери земли» и особенно картина, кажется, названная «Зов солнца». Помнишь ее, Броня?.. Предрассветный мрак, окутывающий пустынный пейзаж в фиолетовых и пурпурных тонах, одинокий луч солнца, освещающий группу людей, собравшихся на верху холма в ожидании прихода весны. Рерих много рассказывал мне о цикле картин, где он показывает пробуждение души первобытного человека. В «Весне священной» я тоже хочу воскресить дух древних славян[181].
Две декорации, подготовленные Рерихом для балета, – первая в виде холмистого пейзажа с озером и березами под облачным небом, вторая в виде вершины холма, – выполнены в том же духе магического реализма, что и упомянутый цикл его картин. Гора, возвышающаяся на заднике в первой картине, устанавливает визуальный мотив: полусферу, округлая форма которой повторяется в изображениях кустарников, скал и небольших возвышенностей, окружающих «священный холм». В его основании лежит полукруглое озеро: именно там племя собирается, чтобы проводить весенние обряды. Эта картина несет в себе – в повторах и плавности холмов – магическое воздействие, соединенное с точностью деталей, предстающих во всей их символической простоте: здесь есть и священный камень (красноватая скала), и священные березы (белые стволы под темными кронами), и священная гора. Декорации ко второй картине еще больше сужают перспективу: теперь под широким славянским небом видны лишь «заклятые камни» и магический жертвенный холм[182]. Ни насилие, ни иные черты современного мира не нарушают этот первобытный рай. Здесь царят чистота и гармония: в мире с богами, племенем, природой и самим собой, посредством воссозданного ритуала человек возвращается к духовной целостности. Этого конечно же не было в партитуре Стравинского – не было этого и в хореографии Нижинского. Роджер Фрай, английский художественный критик, был среди тех, кого поразило «расхождение» между «крайне оригинальным и формализованным стилем танца в «Весне священной» и сильно устаревшим романтизмом декораций Рериха». Было очевидно, писал он, «что и хореография, и музыка были на шаг впереди театральных художников, что они пришли к идее формального единства, которая требовала чего-то более логически продуманного, чем обычный декоративно-изобразительный подход к декорациям»[183]. В «Весне священной» неонациональное видение Рериха в полной мере было превзойдено примитивизмом, который использовали двое его соавторов.
Рерих поместил свою картину первобытного мира в воссозданное прошлое. Для Стравинского же, как и для Нижинского, это прошлое было лишь метафорой, средством для того, чтобы передать трагедию современного бытия. «Весна священная» раскрывала дикость человеческой жизни: жестокость природы, дикие нравы племени, безжалостность души. Она представляла сообщество людей как дамоклов меч, нависший над индивидуальностью, а судьбу – могущественную, атавистическую, отчужденную – как двигатель безбожной вселенной. Ко всему прочему, она показывала образ общества, где правит инстинкт, грубый инстинкт Эроса в его фрейдистском обличье – неразрывно соединенный с Танатосом. Это трагическое видение, выставляющее напоказ тьму души, привело композитора и хореографа к освоению неизведанных художественных пространств. Нижинский писал Стравинскому 25 января 1913 года:
Я очень рад тому, как все обернулось. Если работа пойдет так и дальше, Игорь, то получится нечто необыкновенное. Я знаю, какой будет «Весна священная», если все выйдет так, как мы оба хотим: это будет новое, и – для обычного зрителя – потрясающее впечатление и эмоциональный опыт. Для кого-то она откроет новые горизонты, залитые необыкновенными лучами солнца. Люди увидят новые, особенные цвета и линии. Все необычное, новое и прекрасное[184].
В руках Нижинского этнография превратилась в сырье для грандиозного модернистского замысла. Как и Стравинский, он собирал обрядовый и фольклорный материал и строил из него последовательность ниспровергающих традиционную эстетику образов. Танцовщики дрожали, тряслись, трепетали, топали ногами; резко и свирепо прыгали, кружили по сцене в диких хороводах. Временами движение переходило в непроизвольное состояние транса. «В первой картине, – писала Лидия Соколова, танцевавшая в этом балете, – была группа старцев с длинными бородами и волосами, которые жались друг к другу, дрожа и трепеща, словно они умирали от страха». В другие моменты «стихийное человеческое движение» наводняло сцену, где торжествовала анархия[185]. «Весна священная» довершила начатый Фокиным разрыв с классицизмом; она разрушила баланс, существовавший между его группами и тем, что Линкольн Керстин назвал «магией элегантной акробатики в самозарождающемся движении»[186]. Вместо этого Нижинский смоделировал биологический порядок, в котором человеческое тело становилось одновременно и орудием, и жертвой массового угнетения.
Так же как в «Играх» и «Фавне», Нижинский по-новому представил тело человека. В «Весне священной» позиции и жесты направлены вовнутрь. «Движение, – писал Жак Ривьер в “Нувель ревю франсез”, – замыкается вокруг эмоции; оно сковывает и содержит ее… Тело больше не выступает средством побега для души; наоборот, оно собирается вокруг нее, сдерживает ее выход вовне – и самим своим сопротивлением, оказываемым душе, тело становится полностью пропитанным ею…» Романтическое больше не преобладает в этой заключенной душе: прикованный к телу, дух становится чистой материей. В «Весне священной» Нижинский изгнал из балета идеализм, а вместе с ним – индивидуализм, связанный с романтической идеологией. «Он берет своих танцовщиков, – писал Ривьер, – переделывает их руки, скручивая их; он сломал бы их, если бы мог; он безжалостно и грубо колотит их тела, будто это безжизненные предметы; он требует от них невозможных движений и поз, в которых они кажутся искалеченными»[187]. В руках Нижинского замысел приобрел тоталитарную окраску. Фокинское сообщество превратилось теперь в общество, состоящее из масс, а его множество индивидуальностей – в коллектив запрограммированных особей. С самого начала Стравинский отклонил возможность использования пантомимы. Нижинский, в свою очередь, свел характеры к нескольким кратко обрисованным фигурам – старцам, девам, шаманам, отрокам, лишенным конкретных исторических черт. Примечательно, что только Избранница танцевала одна. Все остальные, как говорил Керстин, выстраивались в «кинетические блоки, сцементированные интервалами длящегося действия». В конце первой картины, вспоминала Ромола Нижинская, женщины в алых одеждах неслись в диком беге большими кругами, в то время как движущиеся массы внутри их бесконечно разбивались на небольшие группы, вращавшиеся вокруг своих собственных осей. Вторая картина, жертвоприношение Избранницы, вновь затрагивала темы социальной массы и разрушенного порядка. В начале этой сцены, писала Соколова:
Все танцовщицы стояли широким кругом, лицами наружу, а Избранница находилась внутри круга, у всех нас были носки вовнутрь, правый локоть опирался на левый кулак, а правый кулак поддерживал голову, наклоненную набок. Когда круг начинал вращаться, на определенные доли все поднимались на полупальцы, опуская правые руки и резко склоняя головы налево. Когда один круг по сцене завершался, одна из девушек, каждый раз другая, выпрыгивала из круга, а затем возвращалась обратно[188].
По мнению Ривьера, обезличенная толпа Нижинского была ключом к пониманию примитивизма «Весны священной»:
Мы присутствовали при движениях человека в то время, когда он еще не существовал как индивидуальность. Живые существа по-прежнему держатся друг за друга; они существуют в группах, колониях, в толпах; теряются в ужасном безразличии общества… Их лица лишены всякой индивидуальности. Ни разу за все время танца Избранница не показывает своего личного страха, который, должно быть, наполняет в это время ее душу. Она исполняет ритуал; она поглощена общественной функцией, и, не выказывая ни одного знака понимания происходящего, движется, будто ведомая желаниями и импульсами некоего существа, большего, чем она сама[189].
Этой первобытной вселенной руководит Молох, вернувшийся из «глубины веков», чтобы пожрать своих детей, – божество низменное, лишенное духа, это след, как и сама «Весна священная», человека на «самом его примитивном этапе», еще до зарождения мысли и сознания. Но насколько этот балет обращался в прошлое, к истокам человеческой жизни, настолько же – и этот шаг не был сделан Ривьером в исследованиях – он смотрел и в будущее: предрекал войну, в которой высвободилось зло, накопившееся в душах людей, и общество, где правит государственная машина. В этом смысле «Весна священная» оказалась предвестницей современности, ее конвейеров и масс, военных машин и уничтоженных городов вместе с невинными жителями. Если не учитывать костюмы, массы Нижинского олицетворяли одновременно и деятелей, и жертвы варварства XX века.
Хотя «Весна священная» не имела прецедентов в Париже и Лондоне, манипулирование ансамблями у Нижинского имело определенные параллели с управлением массами у Мейерхольда примерно в тот же период. За две с половиной недели до увольнения танцовщика из Императорских театров, в январе 1911 года, режиссер показал вызвавший полемику спектакль «Борис Годунов». С Федором Шаляпиным в главной роли и декорациями Александра Головина это возобновление напоминало о парижской постановке Дягилева трехлетней давности. Поскольку Мейерхольду нужно было работать быстро, он следовал в основном режиссерскому плану Александра Санина – исключая массовые сцены. В интервью «Биржевым ведомостям» Мейерхольд говорил:
Санин в своей постановке индивидуализирует толпу, у меня толпа делится не на индивидуумов, а на группы. Идут, например, поводыри с каликами перехожими – все они одна группа, публика их должна воспринять сразу, как нечто целое… Возьмите толпу бояр… Нужно ли расчленять ее на отдельных, непохожих один на другого бояр, когда они составляли одно целое раболепствующей челяди? Как только кто-нибудь возвышался над этой толпой, он непременно становился царем – Василий Шуйский, Годунов были редкие по характеру люди…[190]
Как Нижинский, Мейерхольд преобразовал ансамбль в обезличенную человеческую массу, состоящую из отдельных групп, истоком объединения которых стало насилие. В первой картине московские приставы хлестали народ, заставляя его повиноваться, со зверством, которое вызвало «патриотическое негодование» в прессе правого крыла. М. О. Меньшиков в газете «Новое время» спрашивал:
Откуда взял это господин Мейерхольд? Я думаю, что г. Мейерхольд взял приставов из своей еврейской души, а не из Пушкина, у которого (в «Борисе Годунове») нет ни приставов, ни кнутьев. Может быть, в самой действительности были и приставы, похожие на палачей, и кнутья, но неужели опера… есть перенесение грязной действительности на сцену? Господину Мейерхольду или той кучке инородцев, в чьих руках императорская сцена, видимо, хотелось с первой же картины подчеркнуть глубокое рабство, в котором (будто бы) пребывала Древняя Россия, с первой же картины вывести тогдашнюю московскую полицию, потрясающую треххвостными кнутьями…[191]
Каким бы оскорбительным ни был выпад Меньшикова, он выдает секрет провокационной политики Мейерхольда – то, как он представил массы. В мейерхольдовском «Борисе Годунове» масса – и действующее лицо истории, и ее жертва, субъект и объект в материалистическом представлении о судьбе. Нечто похожее присутствует и в «Весне священной» Нижинского, где сила судьбы, безжалостная и вездесущая, была отнята у отсутствующего бога и передана во власть человека. В этих условиях божественного отсутствия всем располагает человеческое сообщество; в его руках и секрет жизни, и сила смерти; более того, оно обладает властью над отдельным человеком. Избранница – это ось, вокруг которой вращается «Весна священная». Хотя эта роль была задумана Стравинским, она говорит непосредственно о хореографии. Как позднее писала Нижинская, работавшая вместе с братом над самыми ранними ее набросками, смертельный танец Избранницы был «собственностью» Нижинского. Подобно Золотому рабу в «Шехеразаде», Избранница испускает свой последний вздох в экстазе самопожертвования; как Петрушка, она берет на себя грехи актера, расплачивается за свою инаковость. Нижинская писала:
В «Священной пляске» я воображала, что… все замерло, словно перед бурей. Стремясь осознать первобытный ритуал, требующий, чтобы Избранница умерла ради спасения земли, я чувствовала, что мое тело должно вобрать в себя, поглотить неистовство этой бури. Сильные, резкие, самопроизвольные движения как бы противостояли стихии, когда Избранница охраняла землю от угрозы, надвигавшейся с небес. Избранница плясала, словно одержимая, так как жертвенный обряд предполагал, что она умрет, танцуя до изнеможения[192].
В «Весне священной» приносится в жертву не только Избранница. В смертельном танце героини приходит к концу и бисексуальная юность Нижинского – это было своеобразным предчувствием события, которое спустя чуть более трех месяцев после премьеры балета положит конец его отношениям с Дягилевым, – женитьбы на Ромоле де Пульски. С этого времени герои его балетов – озорной бунтарь в «Тиле Уленшпигеле», романтический Фауст в «Мефисто-вальсе», мрачный самурай в безымянном японском балете, пребывающий в поиске художник из другого безымянного балета в стиле эпохи Возрождения – будут придерживаться традиционной мужской идентичности. В редких случаях, когда границы пола размывались – в балете на музыку «Песен Билитис» и в другой постановке, где действие предполагалось в доме терпимости, – главными действующими лицами были женщины. Из всех этих проектов, задуманных во время войны, лишь «Тиль Уленшпигель» был показан на сцене. В этом спектакле, как и в «Весне священной», спаситель всего сообщества приносится у Нижинского в жертву. Но, в отличие от предыдущего балета, в «Тиле Уленшпигеле» это преподносится в понятиях классовости: в образах простонародья, которое непрерывным потоком является из лабиринтов средневекового Брауншвейга, и буржуазии, которая торжественно выходит из своих особняков. Г. Т. Паркер в бостонской вечерней газете «Транскрипт» писал:
Наступает ночь, уважаемые люди находятся у себя дома, в постели; лишь простой народ, сытый, счастливый, ликующий, опьяненный дневными действиями Тиля, заполняет площадь… они шумно приветствуют его и называют своим освободителем.
Тиля несут на плечах, словно на троне, как властелина разума, приносящего свободу, и насмешки, от которой условности и лицемерие теряют свою силу… На площади появляются инквизиторы… Тут же происходит повешение… Но стоит палачам уйти, как он вновь возвращается к жизни, к вечному существованию веселья, которое побеждает притворство, и смеха, который разоблачает ничтожество больших притязаний. В мрачной задумчивости, пророчески… народ созерцает вечное чудо[193].
По иронии судьбы, Тиль, фламандский народный герой, ближе к жертвенным богам древних мифов, чем Избранница. Ибо в отличие от Аттиса, Осириса и других мужских божеств, принесенных на алтарь европейских и ближневосточных богинь плодородия, пасхальная жертва в «Весне священной» – девушка. Ни в античных мифах, ни в славянских верованиях не было прецедента женского жертвоприношения. Лишь у мексиканских ацтеков, где девушек-рабынь и благородных дев убивали жрецы Богини Маиса, можно найти прообраз такого обряда, но создатели «Весны священной» никогда не упоминали об этом кровавом ритуале[194]. Придуманная Стравинским, стилизованная под древность Рерихом и оживленная Нижинским, Избранница была рождена началом XX века – и состояла в родстве с выдуманными мифами Уильяма Батлера Йейтса, Томаса Стерна Элиота и Зигмунда Фрейда. Действительно, труд последнего «Тотем и табу», представленный публике в тот же год, что и «Весна священная», также обращается к темам человеческого жертвоприношения – в данном случае убийства первобытного отца, а не первобытной дочери. В центре воссозданного мифа балета – наваждение времен fin de siècle[195], связанное с образом «женственного» артиста, которое было слабостью символистской литературы, живописи и драмы. Однако в «Весне священной» этот образ был смягчен; лишенный андрогинности, он принял форму «безопасного» обличья молодой девушки – традиционного балетного средства искупительной жертвы. Избранница – Жизель, примитивизированная в духе времен Золотой Орды, – прежде всего была плодом мужского плотского желания XX века.
Насколько парадоксально то, что миф «Весны священной» был не старше, чем fin de siècle, настолько парадоксален и тот факт, что ее примитивизм не имел ничего общего с африканским искусством. Конечно, африканская скульптура оказала решающее влияние на возникновение кубизма: она преподнесла современным художникам, как говорил Аполлинер, «нравственный урок»[196]. Но этот урок происходил не из Африки как таковой, а из осознания отличности: той степени, в которой подобное искусство отрицало ценности и формы, ассоциирующиеся с «цивилизацией». В этом смысле примитивизм отражал состояние сознания; определяя в большей степени психологическую сторону, чем реальный факт, он постулировал таинственное, непознаваемое Иное. Для одних это Иное выражалось в образе женщины, для других – в бессознательном, проявляющемся в творчестве детей, или в автоматическом письме. Если модернизированная Европа искала все это в экзотических странах, для европейской периферии эта «Африка сознания» обнаруживалась в их собственной национальной самобытности: у испанцев – в древнем искусстве Иберии, у русских – в древнеславянском искусстве. В этих традициях и в реалиях XX века тех стран, где они достигли расцвета, «третий мир» приобрел конкретные формы, посеяв в сознании художника воспоминания о временах отсталости. В примитивизме два этих мира сошлись и принесли модернистские плоды. Для Нижинского и его соавторов центр примитивности обнаружился в русских степях.
С появлением «Весны священной» балет переступил порог модернизма. Дягилев, использовавший бессчетные средства и обширные человеческие ресурсы, отступил от революции, которую он сам привел в движение. Уже летом 1913 года, писала Нижинская, Дягилев «разочаровался в таланте Нижинского и в его балетмейстерских способностях». Иными словами, еще до отъезда Нижинского в Южную Америку и его брака с Ромолой де Пульски Дягилев «дал ясно понять… что не намерен поручать ему постановки новых балетов». Действительно, телеграмму о том, что он уволен из Русского балета, танцовщик получил как раз тогда, когда Петербург облетел слух о том, что Дягилев и Фокин достигли полного согласия относительно участия последнего в сезоне 1914 года[197]. С восстановлением их отношений положение Нижинского внутри труппы стало несостоятельным. Можно также задаться вопросом: не отошел ли сам Нижинский от передовых экспериментаторских позиций, представленных в «Весне священной»? Хотя декорации Роберта Эдмонда Джонса к «Тилю Уленшпигелю» весьма далеко ушли от «старомодного романтизма» Рериха, сам замысел балета, который стремился, как писал Г. Т. Паркер, к «правдоподобию иллюзии времени, места и действия», скорее был ближе к «Петрушке», чем к «Послеполуденному отдыху фавна», «Играм» или «Весне священной». Наброски, приведенные в книге Ромолы Нижинской, тоже не свидетельствуют о том, что ее муж пытался продолжать творить в духе новаторской абстракции, характерной для «Весны священной». Если балет на музыку «Песен Билитис» Дебюсси напоминал о «Фавне», то «Мефисто-вальс» представлял собой «ожившего Дюрера» – средневековую историю о скупых землевладельцах, грубых крестьянах и влюбленных, не подходящих друг другу по социальному положению, а одна из последних постановок, где речь шла о юноше, искавшем истины сначала в искусстве, затем в любви, была задумана в духе высокого Возрождения[198].
Средневековая тематика «Тиля Уленшпигеля» и «Мефисто-вальса», основанная на фольклорном материале, говорит о том, что Нижинский работал в направлениях, схожих с теми, которые использовал Доктор Дапертутто (такой псевдоним носил Мейерхольд при работе вне Императорских театров). Эксперименты режиссера, осуществленные в 1912–1914 годах, были продолжением его исследования комедии дель арте и испанского театра золотого века. Одновременно с этим его очень занимала проблема движения – «самого могущественного средства театральной выразительности», как он писал в 1914 году[199]. В этих начинаниях ему помогал Владимир Соловьев, танцовщик Императорского балета, который вел класс комедии дель арте в студии, открытой Мейерхольдом в 1913 году. Кроме того, чтобы изучать приемы итальянского импровизационного театра, учащиеся студии знакомились с традициями китайского и японского театров. Именно в это время Мейерхольд заложил основы системы физических упражнений, которая в начале 1920-х годов получила название биомеханики. Эти опыты возникли из самых разнообразных источников – физкультуры, танца, акробатики, эвритмии и спорта; они развивали равновесие, гибкость и физическое совершенство[200]. Фотографии этих упражнений едва ли могут не поразить любого, кто изучал творчество Нижинского: многие из них имеют необыкновенное сходство с позами танцовщика в «Послеполуденном отдыхе фавна» и в «Тиле Уленшпигеле»; в них присутствуют то же чувство веса и та же центростремительная концентрация силы; кажется, что оба артиста стремились передать внутреннюю сущность образа через его внешние формы. Естественным образом возникает вопрос влияния, хотя слишком мало фактов, чтобы можно было проследить его направление. Вывод, который необходимо из этого сделать, уже неоднократно звучал на протяжении этой главы: творчество Нижинского, каким бы уникальным оно ни казалось западным критикам, не возникло на пустом месте, но целиком и полностью принадлежало театральной культуре своей эпохи и, в частности, времени перед Первой мировой войной, когда русские символисты очертя голову погрузились в рискованное предприятие модернизма.
Кто знает, каким хореографом стал бы Нижинский, если бы судьба распорядилась его жизнью иначе, если бы Русский балет не был почвой, направлявшей его талант, и если бы шизофрения не похоронила его творчество в тайниках расстроенного сознания? Ответы на эти вопросы лежат вне власти историка. В случае с Нижинским факты ясны. Какой-то неведомой силой в создании «Фавна», «Игр» и «Весны священной» Нижинский переступил порог модернизма. Он сделал это, используя в качестве материала свои собственные навязчивые идеи и современные эксперименты в музыке, танце и драматическом искусстве, и – что любопытно – осуществил это всего за два года: к 1913 году хореографическая революция, начатая Фокиным, завершилась. Это, впрочем, было лишь одним из достижений Нижинского. В «Весне священной» он сотворил символ XX века, итог модернизма в его наиболее провокационных и неожиданных проявлениях. Третье его наследие не менее важно: балет, как и другие виды искусства, может создавать выразительные стили, настолько же мощные, глубоко личные, живые и современные. Какими критериями ни оценивать достижения Нижинского, они бесспорно велики – и тем более велики для артиста, которому еще только должно было исполниться двадцать четыре года.
С «Весной священной» модернизм пустил корни как в хореографии, так и в музыке постановок дягилевской антрепризы. Однако эта работа, усилив образ Русского балета как колыбели эксперимента, не оказала существенного влияния на эстетику труппы в целом. Напротив, эта эстетика продолжала ассоциироваться с экзотикой и символистским наследием fin de siècle. Лишь с Первой мировой войной и встряхнувшей труппу встречей Дягилева с футуристическим авангардом Русский балет в полной мере вошел в XX век.
3 Создание балетного модернизма
Бесспорно, что «Весна священная», ставшая у Дягилева наиболее значительным событием довоенных лет, не слишком повлияла на художественную жизнь труппы в будущем. Балет, исполнение которого не насчитывало и дюжины спектаклей, исчез вместе с уходом из труппы Нижинского, даже если учесть, что десятью годами позже его сестра в «Свадебке» в некоторой степени возродила это наследство. К тому времени в Русском балете нашел себе место другой вид модернизма. Эта новая эстетика частично совпадала с принципами работы Фокина и художников «Мира искусства» – но на совершенно ином витке развития и с совершенно другими целями.
В общем и целом историки связывают датировку этого значительного художественного сдвига с премьерой «Парада». Произведение, представленное в Париже в 1917 году (прошло уже три года, как состоялся последний полномасштабный дягилевский сезон во французской столице), стало для публики знаком перемен в альянсе Дягилева с авангардом. «Парад» появился на свет с безукоризненной модернистской «родословной»: художник – Пабло Пикассо, композитор – Эрик Сати, либретто – Жана Кокто, вступительный текст к программе написал Гийом Аполлинер. Только Леонид Мясин, хореограф балета, был в тот момент величиной неизвестной, однако к началу 1920-х годов его имя станет так же неразрывно связано с модернизмом. Нетрудно понять, почему историки определяют именно эту постановку как исток модернизма в Русском балете.
Любопытно, что «Парад» появился скорее в конце, чем в начале своеобразной революции, инициированной Дягилевым на исходе 1914 года. За время, прошедшее с тех пор до 1917 года, барин уступил место прогрессивно мыслящему радикалу, беллетрист – творческой личности: когда Европа воевала, Дягилев выводил Русский балет на передовые рубежи авангарда. Естественно, что трансформация сущности его труппы проистекала из неуемной личности самого Дягилева, но он решился на этот шаг не один. Его окружала целая группа деятелей художественного авангарда, чье видение стало основой для сотворенной им антрепризы. Столпы, на которых она покоилась теперь, – футуризм, неопримитивизм и то, что я называю первоначальным модернизмом[201], – поддерживали Русский балет в 1920-е годы.
Не считая двух важных исключений (примечательно, что в обоих случаях это были искусствоведы, а не историки танца), историки Русского балета попросту игнорировали футуризм[202] – и это притом, что встреча Дягилева с этим взрывным итальянским авангардом военных времен стала важнейшим катализатором перехода к модернизму. Футуризм утверждал новые отношения между исполнителем и огромным пространством сцены, предлагал новые способы заполнения этого пространства и придания ему выразительности и провоцировал художников, жаждущих новизны, в поисках материала для работы вглядываться во все явления современного мира, включая массовые развлечения. Несмотря на то что только одна из целого ряда футуристических постановок, планировавшихся Дягилевым, была осуществлена, идеи футуристов, часто в тандеме с другими подходами и влияниями, прослеживались в послевоенном репертуаре и стали в ряде случаев определяющими моментами современного балетного стиля. Сколь глубоко сказалось их воздействие на воображении Дягилева, можно судить по забавному интермеццо в его «Ромео и Джульетте» 1926 года, когда занавес приподнимался над полом меньше чем на метр, открывая только стопы и низ ног танцующих. Одиннадцатью годами раньше Филиппо Маринетти, дуайен футуристов, использовал подобный прием в своей пьесе «Ноги» (Le Basi)[203].
Хотя футуристы уже давно вызывали у зрителей бурную – от удивления до возмущения – реакцию, их пути пересеклись с дягилевскими только в 1914 году. Первая встреча могла иметь место в Лондоне, где «Большой футуристический концерт шумов» в Колизеуме совпадал с июньским сезоном Дягилева в британской столице. Очевидно, что последовавшие затем месяцы привели его к сближению с этой мигрирующей группой и знакомству с ее акциями. Поэт Франческо Канджулло описывает вечер в «восточной» гостиной Маринетти в Милане, где Дягилев, выглядевший как «вертикальный гиппопотам», председательствовал на выступлении intuonarumori – «певцов шума», – а Стравинский играл для итальянцев свои «бешеные выходки». Композитор был очарован футуристическими «невиданными эксцентричными инструментами» и считал возможным «включить два или три из них в уже существующие дьявольские партитуры своих балетов». Дягилев, и здесь проявивший себя как импресарио, был готов представить все тридцать инструментов в «шумовом концерте» в Париже. Более того, он пошел послушать композиции другого футуриста, Франческо Прателла, и достиг с ним взаимопонимания о возможности положить на музыку стихотворение Канджулло «Пьедигротта» для последующей балетной интерпретации[204].
В феврале 1915 года Стравинский присоединился к Дягилеву для концертного исполнения «Петрушки» в Риме – события, как композитор написал своей матери, собравшего «всех» футуристов, которые его «шумно приветствовали»[205]. В этот приезд Стравинский открыл для себя скульптора Умберто Боччони, работавшего, как почти все члены группы, в различных сферах искусства, включая театрализованные представления. «Сегодня я был приглашен на чай, – написал Боччони 13 февраля, – устроенный в честь русского музыканта Стравинского. Он пожелал встретиться со мной и сделать что-нибудь с футуристическими… красками, танцами и костюмами»[206]. Стравинский был не одинок в поисках сотрудников среди футуристов. В телеграмме, датированной последними числами января, Дягилев говорит об «альянсе с Маринетти», а в письме композитору, написанном в начале марта, описывает «блестящую» идею лидера футуристов по поводу звуковой партитуры в качестве аккомпанемента к «Литургии», религиозному балету: изначально Дягилев предполагал использовать для него русские литургические песнопения, а затем решил вообще отказаться от звукового оформления и исполнять балет в тишине[207].
Несмотря на то что никто из представителей футуризма не получил официального заказа до декабря 1916 года, первые шаги дягилевской модернистской революции состоялись под эгидой футуризма. Помимо этого они совпали с годами становления Мясина как хореографа. Извлеченный Дягилевым из кордебалета Большого театра весной 1914 года, теперь он последовал за своим ментором тропой футуристов. Среди поэтов, художников, скульпторов и композиторов, в той или иной степени ставших для этой пары наставниками, интерес к представлению, к театрализованному действу был всепоглощающим. На это тратилась огромная энергия, и шумные демонстрации, сопровождавшие предъявления публике работ футуристов – литературных, визуальных, театральных, – составили красноречивую главу в истории этого движения. Более того, между 1913 и 1917 годами театральные представления стали предметом увлеченного теоретического осмысления, темой более чем десятка манифестов, касавшихся абсолютно всех составляющих искусства театра, включая танец (область, где они, однако, достигли наименьших результатов[208]), и отличавшихся неизменной оригинальностью. В этих провокационных и полных протеста документах мы находим идеи, которые стали строительными лесами эстетики Русского балета военных и послевоенных лет и которые пронизывали ранние постановки Мясина.
Среди ключевых принципов как футуристических представлений, так и модернистского кредо Дягилева лидировал антинатурализм. Манифест Маринетти «Театр Варьете», опубликованный в октябре – ноябре 1913 года, открывается раскатистым осуждением натурализма:
Современный театр (поэтический, прозаический и музыкальный) вызывает наше глубокое отвращение по причине его тупого колебания между исторической реконструкцией (пастиччо или плагиат) и фотографическим воспроизведением нашей повседневной жизни; жеманный, замедленный, рассудочный и обескровленный театр, достойный в общем и целом эпохи керосиновых ламп[209].
Маринетти направлял свою критику против верности подлинным источникам и правдоподобным страстям, предназначенным для утверждения темы в подробностях времени и места, столь типичным для довоенного Русского балета, с тем же пылом он обрушивался на психологические подходы – и это была критика как раз того, что принесли с собой на сцену фокинские герои и толпы, «вооруженные» индивидуальными биографиями. В «Футуристическом синтетическом театре» (январь – февраль 1915 года) Маринетти, Эмилио Сеттинелли и Бруно Корра продолжили обвинения в адрес театра, очарованного прошлым. Теперь уже, наряду с правдоподобием и психологизмом, были жестоко атакованы и сами проверенные временем конструкции, поддерживающие их, – сюжет, драматургическая структура и характеры. Выступая против «нудного многословия, дотошного анализа и длительного развития событий»[210] в драматургии, футуристы провозглашали театр синтетический, атехничный, динамичный и независимый: 1) стенографическая точность и краткость («Парсифаль» за сорок минут!), 2) устранение повествовательности, 3) скорость и одновременность действия и 4) формы воплощения, не претендующие на объективное воспроизведение реальности. Все эти идеи нашли место в модернистской эстетике Дягилева.
Они были связаны с целым рядом других идей, важнейшей из которых оказывалась идея механизации, особенно в отношении актерской игры. Попросту говоря, футуристическое действие и костюмировка механизировали исполнителя, подчиняя его сценическому оформлению. Майкл Керби указывает, что в манифесте 1914 года «Динамическая и синоптическая декламация»
Маринетти преобразовывает, по крайней мере в теории, все аспекты исполнительского искусства: актер должен носить обезличенную одежду… его лицо должно быть свободным от индивидуального выражения; его голос должен избегать «модуляций и нюансировки»; его движения должны быть «геометричными». Описывая использование жестов, Маринетти предлагал употреблять такие понятия, как «кубы, конусы, спирали, эллипсы и т. д.»[211].
Фортунато Деперо, которому Дягилев заказал оформление сокращенной версии «Песни соловья», намечавшейся к постановке весной 1917 года, тщательно детализировал эти принципы. Актер, писал он в «Записках о театре» 1916 года, должен разрушить свою естественную внешность преувеличенным гримом, вычурными париками, глазами, похожими на фары, ртом, уподобленным мегафону, воронкообразными ушами и механической одеждой, чтобы добиться в результате эффекта устранения каких бы то ни было индивидуальных и правдоподобных деталей. Костюмы Деперо, нарисованные к «Соловью», строго следовали его собственным предписаниям: объемные и жесткие комплекты одеяний, прочерченные в пространстве, скрывали не только тело, но и руки и лицо, в то время как геометрические выступы, подобные протуберанцам, обозначали глаза и рты. Все танцовщики, как сообщал французский еженедельник «Опиньон», должны были быть в масках. «Танцовщики, – объяснял Деперо, – таким образом освободятся от излишней характерности, кроме того, центр интереса сместится в сторону движения масс»[212]. Декорации продолжали тематику, заявленную в костюмах. На фотографии, сделанной в 1917 году в мастерской художника, можно увидеть огромные полуабстрактные подсолнухи (половинки дисков, прикрепленные углами к целым дискам) с треугольными жесткими ростками на вершине и металлические ветки, прикрепленные к стойкам. Другая фотография, вероятно с уже готовыми декорациями, изображает стилизованный футуристический сад с пальмовыми листьями, цветами и кустами, представленными в виде произвольно расположенных конусов, сегментов дуг и дисков. Для усиления яркости красок использовались лак и глазурь.
Не только внешний облик актера, но также его движения и жесты были механизированы. В «Печатном станке» (Printing Press) 1914 года, «полиграфическом балете» (по определению «летописца» футуризма Вирджилио Марчи) Джакомо Балла, художника дягилевской постановки «Фейерверка», было двенадцать деперсонализированных актеров-роботов, представлявших различные части печатной машины. Сохранились эскизы «хореографии» Балла: две пары актеров, с силой вытянув руки перед собой, качались взад и вперед, имитируя движения поршня, вращающего «колеса», образованные третьей парой, которая размахивала столь же сильно вытянутыми руками, согнутыми в запястьях под прямым углом, что напоминало перекрещивающиеся круги. Автоматы Балла еще и говорили: точнее, они «очень громко» декламировали отрывки «бессвязной болтовни», стремясь, как и музыка Луиджи Руссоло, к достижению чистого звука[213]. «Печатный станок» настолько заинтриговал Дягилева, что он даже намеревался осуществить его постановку. Марчи рассказывает:
Однажды вечером мы пришли к Дягилеву в гостиную Семенова, чтобы решить, что выбрать – «Фейерверк» или «Балет печатной машины», механистическое изобретение Балла. Для второго автор расставил нас в геометрическом рисунке и дирижировал, управляя механическими движениями и жестами, которые мы все должны были исполнять, представляя души отдельных деталей ротационной печатной машины. Мне было поручено энергично повторять слог ‘STA’ с одной рукой, по-спортивному поднятой вверх, так что я чувствовал себя как солдат на плацу. Надо ли говорить, что Балла зарезервировал для себя более изысканные слоги, звукоподражание и словесную абракадабру, и все это срывалось с его губ с неподражаемым пьемонтским «neh», в то время как бессовестный Семенов продолжал откупоривать бутылки с шампанским, превращая все представление в высокоинтеллектуальный и в высшей степени забавный гротеск[214].
Однако Дягилев предпочел не ставить «Печатный станок», он заказал его автору сценографию «Фейерверка» Стравинского. Оформление Балла к этой короткой пьесе – световое шоу, сыгранное на установке из геометрических тел, – прославляло краткость, динамизм и абстракцию – то, к чему стремился футуристический театр. Итальянский критик Маурицио Фаджоло дель Арко написал:
Балла сделал лучшее, что мог, согласовав конструкцию с пиротехническими изобретениями композитора. – Он заполнил сцену ошарашивающим нагромождением кристаллических форм, световыми лучами разного цвета, коралловыми образованиями, символами бесконечности (спиралями и бегущими световыми волнами), эмблемами света (обелиском, пирамидами, лучами солнечного и бледного лунного света), аэродинамическими символами (полетами стрижей и огненных птиц). Все это проецировалось на черный задник, подсвеченный сзади красными лучами[215].
Дягилев, как уже было сказано, принимал участие и в замысле, и в самом исполнении сложнейшей световой партитуры. Но, определенно, он уловил «сигнал», идущий от футуристов, в чьих теориях свет приобретал почти мистическое значение. «Футуристическая сценография» Энрико Прамполини, написанная в апреле – мае 1915 года, заканчивается воображаемой картиной нового светящегося театра. «В полностью реализованную эпоху Футуризма мы увидим светящуюся динамичную архитектуру сцены, созданную с помощью цветных раскаленных ламп, которая, трагически закручиваясь или просто с упоением демонстрируя себя, породит у зрителя новые ощущения и новые эмоциональные ценности»[216]. Несмотря на очарованность Прамполини «светящейся сценой» и на дружбу Дягилева со Стравинским, выбор «Фейерверка» и способа его воплощения, вполне возможно, возник из другого источника – из соединявшего разные виды искусства произведения на ту же самую музыку, которое было представлено Лой Фуллер в мае 1914 года в парижском театре Шатле. Премьера «оргии цвета, света и звука», как окрестила «Фейерверк» Фуллер, состоялась за неделю до открытия последнего довоенного дягилевского сезона[217].
Футуристическое театральное представление расширяло границы традиционных форм необычным и часто шокирующим способом. Дягилев, как законченный прагматик, сторонился тактики групповой конфронтации, но мысль о том, что доставшееся в наследство должно быть изменено, преобразовано, переоформлено, скомбинировано с другим и использовано наряду с новым материалом, находил очень близкой по духу. Футуристы прославляли театр варьете потому, что он, как писал Маринетти, был «вскормлен стремительно развивающейся действительностью», ставил публику в тупик комическими эффектами, удивляя, пробуждал воображение, обогащал программами с кинематографической проницательностью и способностью погружать «в глубины нелепого» молниеносной сменой сцен благодаря использованию чудес современной техники[218]. Влияние подобных идей на Дягилева переоценить невозможно. Послевоенная тенденция, связанная со стремлением к карикатуре, пародии и алогичным композициям, которая, как и привлечение средств из арсенала развлекательной индустрии, впервые обозначилась в годы войны, напрямую уходила корнями в теорию и практику футуризма.
Лишь один-единственный результат сотрудничества Русского балета с футуризмом достиг сцены. Однако в период между концом 1914 и весной 1917 года Дягилевым намечалось более полудюжины проектов с привлечением художников-футуристов: концерт шумов, «Пьедигротта», «Литургия», «Печатный станок», «Фейерверк», «Песнь соловья», «Зоопарк» (The Zoo) – балет Франческо Канджулло, для которого Равель согласился написать партитуру, а Деперо – создать оформление[219]. Лишь по прихоти судьбы произведением, подводящим итог футуристическим экспериментам, стал «Парад». Здесь, как подчеркнула Марианна Мартин, «на сцене присутствовал не просто Кубизм» – вопреки часто цитируемой фразе Гертруды Стайн, – но «изысканно- и очаровательно-юмористическая конфронтация между кубизмом и футуризмом и соответствующими им идеалами»[220]. «Парад» вобрал в себя многие футуристические идеи: конкретные жесты и звуки, приемы варьете, алогичную композицию, механистичность движений, конструктивистские костюмы – идеи, просочившиеся через парижский авангард и неизбежно преобразованные благодаря контакту с кубизмом.
Если Дягилев и не преобразовал Русский балет на основе принципов футуризма, то его контакты с этим направлением определенно изменили облик труппы. Он навсегда распрощался с натурализмом, драматическим повествованием, психологической мотивировкой характеров, изгнал экзотичность Бакста (по выражению Прамполини, «ассирийско-персидско-египетско-нордического» плагиатора[221]) и пассеизм Бенуа, отбросив заодно и символистскую тематику «Мира искусства». С этого времени он станет убирать свою сцену завесами, подтверждающими признание революции, произведенной кубизмом. Через Мясина, его хореографическую Галатею, он будет вносить в балет динамизм и угловатость, прокламируемые и отстаиваемые футуризмом, наряду с деперсонифицированным стилем исполнения, прерывистым повествованием и нарочитыми несоответствиями, ставшими фирменными знаками Русского балета.
Дягилев, впрочем, никогда безоглядно не отрицал прошлого – даже в эти годы увлечения модернистскими экспериментами. Напротив, в подавляющем большинстве спектаклей, многие из которых задумывались во время Первой мировой войны, но смогли быть осуществлены лишь в послевоенные 1919–1921 годы, стилистическая новизна авангарда оказалась повенчанной с традиционными балетными темами и жанрами. Из этой амальгамы старого и нового возникли гибридные формы, ставшие главными проводниками балетного модернизма: неопримитивизм и то, что я называю первоначальным модернизмом. Отзвуки экзотичности и ретроспективизма довоенных лет, эти комбинации, объединяющие эксперименты и общепризнанный материал, заложили общеэстетическую основу преображенного дягилевского репертуара, чего не сделал «Парад».
В истории становления неопримитивизма не было другой пары художников, оказавшей столь значительное влияние на Дягилева, как Наталья Гончарова и Михаил Ларионов. Спутники в жизни, эти русские авангардисты находились рядом с ним большую часть периода войны и последовавшего за ней перемирия. Они жили и работали с ним, непосредственно участвуя в создании нового модернистского репертуара. В 1915 году, когда эта пара присоединилась к артистической колонии в Швейцарии, они были уже достаточно известны Дягилеву. Картины Ларионова висели в 1906 году на выставке «Мира искусства», последней значительной акции Дягилева в России, и в том же году – позже – на Выставке русского искусства, которая стала его первым свершением в Париже. Гончарова, в свою очередь, была личностью, высокочтимой Дягилевым: заказывая ей оформление к «Золотому петушку», ставшему самым значительным событием сезона 1914 года, он впервые обращался к художнику (причем женщине-художнику), который стоял вне традиций «Мира искусства». Ее приглашение, последовавшее сразу после музыкальных и хореографических прорывов «Весны священной», обнаруживает постепенное охлаждение Дягилева к предыдущей декорационной эстетике Русского балета.
К тому моменту, как поступил заказ от Дягилева, тридцатитрехлетняя Гончарова была уже признанным лидером московского авангарда, основательницей лучизма, тесно связанной с русскими футуристами. Ее живопись 1913–1914 годов отражает широкий диапазон предреволюционного авангарда в момент его взлета: полуабстрактные лучистские композиции, в которых пересечение в пространстве лучей, исходящих от объектов, использовалось для создания новых форм; работы кубофутуристов, совмещавших пристрастие футуристов к механизмам, скорости, освещению с трактовкой твердых тел кубистами; и тип неопримитивизма, основывающегося на исконно русском фольклоре, иконописи, традициях оформления средневековых рукописных книг и наивных народных рисунках. В августе 1913 года Гончарова поразила Москву выставкой из 768 своих работ, являвшихся итогом прошедшего десятилетия. Несомненно, что именно впечатление от этой выставки вскоре привело Дягилева в ее мастерскую с предложением стать одним из постановщиков «Золотого петушка»[222].
Гончарова не раз отмечала, что подлинные истоки ее творчества лежат в детстве, проведенном в русской деревне, где она узнала крестьянские обычаи и усвоила фольклорные традиции[223]. В интервью 1959 года она описывает и другие изыскания, предпринятые для постановки «Золотого петушка»: посещение археологических музеев, где она обнаружила богатое наследие образцов крестьянского костюма и «такие сокровища, как великолепные царские и боярские перстни», а также знакомство и беседы с народными умельцами[224]. Тем не менее ни Гончарова, ни Ларионов, возобновивший знакомство с Дягилевым в это время, не рассматривали буквальное подражание фольклору как главную задачу декорационного оформления. В совместной статье они писали:
Декорации балета не должны иметь единственным намерением установить, в соответствии с либретто, время и место действия; скрупулезная историческая реконструкция того или иного стиля не есть цель, предписанная ему. Декорация, кроме всего прочего, является независимым созданием, поддерживающим дух исполняемого произведения; это есть самостоятельная художественная форма со своими собственными проблемами и собственными законами… Если [театральная] форма… не базируется на экспериментальной основе, если она не повинуется этим, не формальным, но строго художественным законам, служащим подлинному таланту, она окажется нежизнеспособной и не выдержит испытания временем[225].
Разразившаяся Первая мировая война заставила Гончарову и Ларионова вернуться в Россию. Ларионов был отправлен на фронт и вскоре был ранен. Гончарова тем временем, после успеха в Русском балете заваленная заказами, рисовала эскизы декораций и костюмов для постановки Александром Таировым пьесы Карло Гольдони «Веер» и начала работу над оперой Римского-Корсакова «Град Китеж». Летом 1915 года по приглашению Дягилева оба художника присоединились к ядру новой труппы, которую он формировал на вилле Бель Рив в Уши, швейцарской штаб-квартире труппы с мая по декабрь 1915 года.
Несмотря на то что ни Ларионов, ни Гончарова не сопровождали Дягилева в Лондоне, их присутствие рядом с ним в первые месяцы 1914 года помогает объяснить поразительный поворот в его эстетических пристрастиях, произошедший осенью того же года, и восприятие им идей футуризма. Теперь, одновременно с вызреванием плана первых гастролей труппы в Америку, они обновили свои подходы к русскому народному искусству. Под влиянием художников трактовка фольклора коренным образом изменилась: он сбросил ориентальные одежды и отказался представать как экзотика. Между 1915 и 1917 годами Ларионов и Гончарова сочинили оформление и либретто к полудюжине балетов на русскую тему, происхождение которых (или существенной их части) связано с дягилевской странствующей студией. Эти работы, все без исключения, «выбрасывали за борт» еще живые ориентальные традиции фокинского genre nouveau. Перескочив через XIX столетие, они обратились к долитературным русским истокам: православным ритуалам в «Литургии», представлениям народных потешников, известных как скоморохи, в «Шуте» и «Лисе», драматизированным обрядам в «Свадебке» и к народным сказкам в «Полуночном солнце» и «Русских сказках»[226].
В отличие от «Весны священной» Нижинского, где мифическое прошлое и реальное настоящее соединялись в извечном человеческом страхе перед неведомым, неопримитивистские балеты Ларионова и Гончаровой представляли прошлое и настоящее как индивидуальные категории опыта. К первому принадлежал крестьянский мир сказок и легенд; ко второму – модернизм, который одел все это и тем самым объединил посредством унифицирующей стилизации. Фольклор, увиденный через призму художественных форм, извлеченных из реальности в том виде, как ее буквально воспринимает художник-натуралист, стал объектом пристального рассмотрения, остроумной и ироничной выдумкой художника-примитивиста. Во временных сопоставлениях, отчуждении с помощью иронии и в далеко простирающейся стилизации неопримитивизма можно усмотреть не только ключ к изменению отношения к этнографическому материалу в те годы, но и modus operandi[227] основного модернистского подхода Дягилева.
С приходом Ларионова и Гончаровой футуризм оплодотворил все стороны декорационного искусства в балете. Перспектива уступила место плоскому изображению, иллюзия – частичной абстракции. Дуги, треугольники и окружности – нарисованные, и иногда в форме аппликаций – создавали геометрические ландшафты и интерьеры, в то время как цвета – живые, насыщенные, чистые – разрабатывали символические эффекты за счет их интенсивности и сопоставления. Костюм претерпел изменения в равной степени. В «Полуночном солнце», «Русских сказках», «Шуте» и «Лисе» Ларионов одел танцовщиков в костюмы, конструктивные особенности которых (имитированная тяжеловесность, раздутость за счет толщинок, жесткость из-за картонных подкладок) шли от футуризма. Он не только маскировал тело, но и скрывал лица с помощью геометрического грима и антропоморфных полумасок, завершая все это причудливыми головными уборами. Костюмы постоянно повторяли мотивы и цвета декораций.
Теперь центр тяжести постановок сместился с музыки в сторону художественного оформления. Дягилев, писал Ларионов, пришел к пониманию, что декорации «должны считаться одной из органичных частей» балета в сочетании с музыкой и движением[228]. Мясин в 1919 году определял положение художника как еще более значимое. Он был убежден, что в новом балетном синтезе движения и формы, хореографии и скульптуры «оба существенных начала должны быть сбалансированы, с тенденцией предпочтения скульптурному началу»[229]. Начиная с 1915 года и на протяжении всех военных лет декорационное оформление не только поддерживало музыку как органичный элемент дягилевских постановок, но и изменило положение хореографии в ходе работы. Если прежде танец являлся равным участником постановки, теперь он оказался в подчинении у художника, и задача хореографа состояла в том, чтобы повысить цену изобретений автора декораций и костюмов. В своих записках 1921 года Сирил Бомонт подчеркнул превосходящий все прочее эффект, произведенный декорациями Ларионова к «Шуту»:
Лучшей частью постановки были декорации, все остальное на порядок слабее. Декорации Ларионова, как всегда, вдохновленные русским крестьянским искусством, интерпретированные в духе кубизма, были блестящей задумкой, но контраст красок, усиленный угловатыми формами в композиции рисунка, оказывался столь живым и столь сверкающим, что почти слепил при взгляде на сцену, и напряжение не ослабевало, когда на этом фоне начинали двигаться блестяще одетые фигуры. Я должен сказать, что воздействие на глаза было столь же раздражающим, сколь и восприятие светящихся и мерцающих красок, столь характерное для первых цветных кинофильмов[230].
Эта драматическая перемена в отношениях хореографии и изобразительного искусства совпала с годами ученичества Мясина и его художественного взросления как постановщика. В отличие от подавляющего большинства хореографов, создававших свои первые работы либо подражая хореографическим образцам, как моделям, либо противореча им, Мясин осваивал основы ремесла с помощью статичных образов живописи. Действительно, впервые осознанное желание сочинить балет возникло у него осенью 1914 года, во время одного из частых посещений галереи Уффици вместе с Дягилевым, когда он рассматривал «изысканные позировки» «Благовещения» Симоне Мартини[231]. По совету Дягилева он начал работу над «Литургией», серией картин в стиле византийских мозаик и работ итальянских примитивистов. Вдохновленный «Девой Марией» Чимабуэ, он придумал для начальной сцены, «Благовещения», «ряд угловатых жестов негнущимися руками с плоскими ладонями»[232]. Эскизы костюмов Гончаровой помогли ему в разработке «Вознесения». Здесь он пытался найти в движении подобие византийским изображениям рук, их угловатым, завернутым внутрь жестам, и воспроизвести позы, сходные с кубофутуристическим изображением Христа, созданным художницей под впечатлением от иконописи.
Концепция позы – повторяющихся вновь и вновь фиксированных положений человеческого тела – определяет само существо балета. За долгое время были выработаны четкие правила представления тела, охваченного движением, публике. В «Литургии», «Полуночном солнце» и «Русских сказках», трех ранних работах, поставленных Мясиным под водительством Ларионова, поза предлагает нечто совершенно отличное от прописных правил. Вместо того чтобы быть цепью связанных движений, здесь позы стали изолированными картинами, статичными двухплоскостными образами. И так же, как поза отражает живописную модель в противоположность модели кинетической, так и ее содержание исходит скорее из источников, увиденных в живописи, чем из источников танцевальных. В «Полуночном солнце» Ларионов подчеркивал важность «подлинно деревенского стиля», зародившего в Мясине интерес и пристрастие к подлинности этнографического материала – основы ряда его лучших работ. Но Ларионов настаивал и на том, чтобы «украсить» традиционные народные танцы в этом балете «простыми, житейскими жестами»[233], – иными словами, воспользоваться приемом, повторяющим в хореографическом варианте стилизацию исходного фольклорного материала неопримитивистской живописью. Такие добавления в лексику классического танца переоформляли и его синтаксис. Ларионов в роли редактора не только наблюдал, но и участвовал в процессе постановки. И в «Литургии», и в Бабе-яге, эпизоде из «Русских сказок», он сокращал танцевальные движения, чтобы добиться «естественной простоты»[234] – еще одной хореографической параллели его модернистской практике как художника.
Влияние неопримитивизма продлилось гораздо дольше послевоенного сотрудничества Мясина с Ларионовым и Гончаровой. Действительно, новшества в работах этого периода, распространенные на другие темы, сохраняли значение основ в его хореографии 1920-х годов. Угловатость, пожалуй, была наиболее существенным знаком модернистской революции в балете. Благодаря Мясину, писал в те годы французский критик Фернан Дивуар, «изобретением в позднем Русском балете на почве танца стала заостренность углов, угловатость более или менее деформирующая, более или менее комическая и карикатурная»[235]. Мясин, под руководством Ларионова, Гончаровой и футуристов, сделал более жесткими прежде мягкие и «красивые» балетные линии. Он перекрыл дорогу открытым движениям классического танца и заменил деформированными жестами закругленность рук традиционного пор-де-бра. «Все пластичное, грациозное, свободное от угловатости изгнано, – писал Валериан Светлов в одной из многих своих статей. – Времена “хореографического тенора” Михаила Фокина, по остроумной фразе Мясина, прошли навсегда. Все движения танцовщиков короткие, угловатые, механические»[236].
Не меньше обескураживали критиков и свойственные хореографии Мясина динамизм, совмещение одновременных действий и чистое движение. В своей автобиографии он приписывает откровения динамизма углубленному изучению учебников танца доромантической эпохи, предпринятому им осенью 1916 года (в период его интенсивных контактов с футуристами, хотя сам он предпочитал не упоминать об этом). Вот как он воспринял описания танцевальной техники у Рауля Фейе и Жана-Филиппа Рамо:
Я смог оценить значение каждой детали и даже каждого мелкого жеста. Я открыл для себя, что тело включает различные, более или менее независимые, самостоятельные структурные системы, и все их надо координировать, чтобы создать единое хореографическое целое. Поняв это, я придумал отрывистые, угловатые движения для верхней части тела, в то время как ноги двигаются в традиционном академическом стиле. Такая противоположность стилей, с моей точки зрения, возможна и создает интересный контраст. Работая над вариациями, я отталкивался от записей танца XVIII века, рисуя в своем воображении новые телодвижения, исходя из ритмических возможностей и варьируя, в соответствии с природой движения, ритм и темп для того, чтобы добиться наибольшей хореографической выразительности[237].
Начиная с «Женщин в хорошем настроении» (Les femmes de bonne humeur) и Бабы-яги, эпизода из «Русских сказок» (оба балета сочинены зимой 1916/17 года), одновременность действия и скорость стали преобладающими чертами мясинской хореографии. В поисках ответа на призыв футуристов к «синтетическому» театру он сжал пьесу Гольдони до одного акта, сбалансировав действие, происходившее одновременно по обе стороны сцены, сохранив при этом все сложные ходы сюжета. В то же время он ограничил танцевальное движение, концентрируя и ускоряя его воздействие; непрерывностью усиливая его динамизм; он искал соотношение танцевального ритма с музыкальным на «научной» основе, чтобы создать хореографический контрапункт музыкальному рисунку композитора[238]. Что он сделал на самом деле – так это заменил ритмом музыкальную фразу. Андрей Левинсон писал:
Стиль Мясина можно охарактеризовать как perpetuum mobile, движение падает на каждую ноту, жест – на каждую шестнадцатую, нескончаемая суетливость, которой мы обязаны запыхавшемуся и бойкому оживлению «Женщин в хорошем настроении», сейчас его беспокойный стиль, с его упорным сосредоточением на деформированных и рвущихся линиях есть предел императиву полиритмического музыкального развития или тиранической синкопации, которую Стравинский навязывает оркестру[239].
Еще одним последствием дягилевской революции военного времени в хореографии были ясно выраженные изменения исполнительского стиля. Как мы видели, футуристическая теория возвела на пьедестал деперсонализацию. То же сделала и футуристическая практика, особенно в 1918–1919 годах, когда автоматы и куклы размером в человеческий рост – дети Супермарионеток (Übermarionettes) Гордона Крэга – распространились на футуристической сцене. В фокинских балетах танцовщиков заставляли «играть», то есть интерпретировать свои роли и украшать характер персонажа арабесками своей индивидуальности. В таком обличье спектакль оказывался близок разговору: и тот и другой имели свой шарм, были полны нюансов и чувств. Триумф механической концепции движения, оформительское искусство и иной способ создания образов вызвали к жизни новый исполнительский стиль, передающий эмоцию через обобщение, концентрацию и проецирование ее вовне из-за маски, выражающей бесстрастие. Начиная с военной поры танцовщики были вынуждены сдерживать демонстрацию своей актерской игры, лишить себя вошедшего в историю искрометного блеска легендарных исполнителей и психологической тонкости, унаследованной от Московского Художественного театра – всего того, что отличало фокинский метод создания образов. Там их просили быть самими собой, не интерпретаторами, но живым воплощением своих ролей, они не должны были разрушать стену, разделяющую сцену и зрительный зал. Модернистский спектакль изобиловал сплошными аномалиями. Отстраненность тем не менее захватывала; бесстрастность тем не менее была выразительна; деперсонализация оказывалась переполненной эмоциями. Этими противоречиями объясняется наличие в Русском балете столь многих актерских дарований – включая самого Мясина – в то время, когда деперсоназализация стала торговым знаком труппы.
Наряду с работами, вдохновленными русским народным искусством, неопримитивизм дал в военные годы толчок развитию еще одной темы. Испания, лежащая на периферии Европы, на ее самом западном краю, была схожа с Россией не только в силу монархических традиций, но и благодаря жизненности фольклорных традиций в обеих странах. Встречи Дягилева с миром Испании в 1916 и 1917 годах положили начало новому циклу постановок, восходящему к тем же военным годам: «Менины» (Las Meninas) (1916), «Треуголка» (1919), «Квадро фламенко» (Cuadro Flamenco) (1919) и оставшиеся незавершенными проекты балетов «Испания» (España) и «Триана» (Triana).
Дягилев, как писал позже режиссер труппы Сергей Григорьев, «приходил в экстаз от красот Испании». «Нас завораживали испанские танцы, бои быков, и мы сочли, что испанцы разделяют любовь русских к зрелищам. Наша привязанность оказалась взаимной. Мы стали по-настоящему популярны в Мадриде»[240]. Король Альфонсо редко пропускал спектакли, которые значили для этого самозваного «крестного отца балета» столь же много, сколь и висящие в Прадо шедевры Веласкеса, которому Дягилев отдал дань в «Менинах», первом из серии испанских балетов. Но еще более вдохновляющим, чем золотой век, оказался испанский фольклор, происходивший, как и в России, из слияния европейских и «восточных» источников и доживший до современной поры почти нетронутым. В статье 1921 года Стравинский отмечал: «Между народной музыкой Испании… и русской народной музыкой я вижу глубинную связь, которая, без сомнения, обнаруживается в их общих ориентальных истоках». «Некоторые андалузские песни напоминают мне мелодии наших русских областей, – писал он, – и будят во мне атавистические воспоминания»[241]. Танец также пробуждал воспоминания о прошлом. Русские постоянно посещали кафе, где восхищались искусством танца фламенко, и в живописи Гончаровой испанские темы сменили славянские. Никто другой не был так увлечен испанскими танцами, как Мясин, и под руководством Феликса Фернандеса, великолепного исполнителя, выходца из цыганского квартала Гранады, хореограф настолько овладел техникой стиля фламенко, что не уступал местным танцорам. При трансформации исконных оригиналов в модернистские образные структуры в «Треуголке» он следовал тем же путем, что Ларионов и Гончарова при обработке русского фольклора.
Неизвестно точно, когда Мануэль де Фалья вошел в круг Дягилева. Но похоже, что план испанского балета разрабатывался еще осенью 1916 года. В октябре мы находим обоих в Мадриде, где композитор помог Дягилеву нанять в труппу нескольких испанских танцовщиков. Определенно, синтез классических и фольклорных источников у де Фальи импонировал Дягилеву. В равной степени привлекательным для него могло быть и предшествующее театральное начинание композитора, в котором участвовал Грегорио Мартинес Сьерра, известный поэт, драматург и продюсер. Речь идет о постановке балета «Любовь-волшебница» в апреле 1915 года, которая не только приведет их к совместной работе над «Треуголкой», но и предопределит сам метод работы. Партитура де Фальи и либретто Мартинеса Сьерра для «Любви-волшебницы» включали подлинную цыганскую музыку, а также истории и легенды, рассказанные им женщиной, главой цыганского клана, которая сама же и танцевала в этой постановке. Пример оказался заразительным для Дягилева. В 1921-м он взял в труппу не только Марию Дальбасин, представительницу третьего поколения клана, но и целую группу испанских танцоров, появлявшихся в его «Квадро фламенко»[242].
Как и Мартинес Сьерра, Дягилев был увлечен идеей постановки «Ночи в садах Испании» в виде балета. Но проект уступил место «Треуголке», и Дягилев подписал контракт с де Фальей и Мартинесом Сьерра как либреттистом. Понятно, что у Дягилева не было возможности осуществить постановку так быстро, как он надеялся изначально, и в 1917 году пантомимическая версия произведения была, с разрешения Дягилева, поставлена в театре Эслава[243].
Мартинес Сьерра построил свое либретто на новелле XIX века «Треугольная шляпа» Педро Антонио де Аларкона, переработавшего, в свою очередь, популярную народную сказку в стихах «Коррехидор и мельничиха». Оба, и композитор, и либреттист, использовали танцевальные ритмы и прямые музыкальные цитаты. Пантомимная версия де Фальи была очень близка к фольклорным источникам. Вспоминая свои впечатления от первоначальной версии партитуры, Мясин писал:
Партитура Фальи с ее пульсирующим ритмом, исполняемая одиннадцатью духовыми инструментами, показалась нам очень привлекательной. Соединение в ней силы и страсти было подобно музыке местных народных танцев… Когда мы говорили об этом с Фальей, он выразил готовность с нами сотрудничать, при этом решив исключить некоторые музыкальные попурри, предназначавшиеся для танца Коррехидора, и согласившись, по предложению Дягилева, сделать более полным и сильным финал. Однако он собирался еще некоторое время изучать местные танцы и музыку, чтобы успешно воссоздать хоту и фарруку современными средствами[244].
По мере того как летом 1917 года Дягилев, Мясин, де Фалья и Феликс Фернандес неторопливо путешествовали по Кастилии, Арагону и Андалузии, логика неопримитивизма давала себя знать. Мелодии, записанные в Гранаде, танцы, увиденные при лунном свете в Севилье, добавили в копилку как композитора, так и хореографа изрядный фольклорный материал. В то же время процесс стилизации шел не останавливаясь. Соединяя танцы отдельных областей в «общенациональные» образы, Мясин накладывал движения классического танца на формы и ритмы, изученные и усвоенные им, добавляя «собственные жесты»[245]. Намерение де Фальи сплавить в единое целое музыкальные формы различных частей Испании отражает сходный процесс абстрагирования с целью обобщения. Немногие намеренные цитаты, которые сохранились в партитуре, остались здесь для достижения комического эффекта; они скорее подчеркивают фарсовый характер действия, чем указывают на качественные особенности фольклора. Как и в «Весне священной», народный мелодический материал был включен в саму структуру музыкального произведения – другими словами, и здесь присутствует эволюция, сопровождавшая основную тенденцию неопримитивизма к абстрагированию форм.
Пребывание Дягилева в Италии связало Русский балет с футуристическим авангардом. При этом, одновременно с открытием им итальянского художественного настоящего, произошло второе важное событие: переоценка доромантического прошлого. Неопримитивизм перенес акцент с недавнего прошлого России во времена, недостижимые для истории, в мир легенд и народных традиций. Интерес Дягилева к классическому наследию западных стран, где он вынужден был обитать в годы войны (1915–1917), является, по сути, схожим переосмыслением культурного прошлого. Перепрыгнув через XIX столетие, он разглядел в утраченной музыке Доменико Чимарозы, Джованни Баттисты Перголези и Доменико Скарлатти, в забытой хореографии Рауля Фейе и Жана-Филиппа Рамо, в народном искусстве комедии дель арте выражение подлинной сущности романских традиций. В этих открытиях рождался эстетический подход, сохранявший свое влияние на воображение Дягилева до середины 1920-х годов. Первоначальный модернизм соединил ретроспективную тематику традиционного оперно-балетного театра со стилистикой и техникой авангарда.
На протяжении всей жизни Дягилева два человека противоборствовали в этой сложной и противоречивой натуре: барин, властный, избалованный, деспотичный – и экспериментатор, смелый, неистовый, неустанно ищущий. Война вывела на передний план второго. Авангард дал Дягилеву наряду с техническим арсеналом творческую неустрашимость, укрепил его решимость идти собственным путем в искусстве, скорее вести за собой, чем следовать по чьим-то стопам.
Репертуар периода первоначального модернизма оказался беспрецедентным по результативности дягилевской изобретательности. Истоки представленных в нем жанров брали начало в библиотеках, на аукционных торгах и в частных коллекциях, были плодами его личных разысканий; их переработка и финальный облик – работой его воображения. В гораздо большей степени, чем Стравинский, «Пульчинелла» которого рассматривается музыковедами как поворотный пункт в переоткрытии прошлого музыкальным модернизмом, или Мясин, ставивший в 1917–1920 годах свои балеты-«пастиччо», движение в сторону интригующего слияния традиции и эксперимента определял Дягилев.
Его музыкальная библиотека, сокровищница, ставшая известной только в 1984 году, когда она была выставлена на аукционные торги[246], обнаружила всю основательность исследований, которые стояли за изобретением модернизма того периода. Среди ее богатств находятся и те, что проливают свет на генезис «Пульчинеллы», «ремейка» музыки XVIII столетия, осуществленного в 1920 году Стравинским:
Музыкальная библиотека Дягилева содержит около двадцати фрагментов музыки Перголези, большей частью – рукописные копии камерной музыки и арий из разных библиотек, в том числе из Британского музея, французской Национальной библиотеки и библиотеки Консерватории в Неаполе. Почти все они сопровождаются пометками и комментариями Дягилева, в большинстве случаев они подписаны инициалами с указанием даты и места обнаружения; некоторые из них содержат изложение мыслей… для музыки «Пульчинеллы», а также для планировавшейся постановки «Служанки-госпожи». Среди рукописей есть копии вариаций на тему гавота, использованных в «Пульчинелле»… и отрывки из «Фламинио», написанные, возможно, рукой Дягилева… Другие фрагменты опер, включая отпечатанные копии «Лизетты и Траколло» и издание «Служанки-госпожи», основательно исписаны его пометками. В добавление к этому, здесь есть обстоятельно прокомментированный Дягилевым экземпляр работы Б[енедетто] Кроче «Очерки об итальянской литературе XVII века», где главу о Пульчинелле Дягилев выделил карандашом, и книга «Неаполитанская опера-буффа» М[икеле] Скерильо, где рассматривается не только сюжет, связанный с «Пульчинеллой», но и произведения Перголези и Паизиелло; в этих последних отмечены места, и не связанные с «Пульчинеллой»[247].
Теперь Дягилев отбирал лучшие из своих находок, делая их компонентами замысла. Только после этого он обращался к композиторам-профессионалам, которые должны были скомпоновать и оркестровать их, чтобы представить публике. В книге Expositions and Developments Стравинский объяснял:
Мысль, приведшую к появлению «Пульчинеллы», подал Дягилев, когда однажды весной в полдень мы прогуливались с ним по площади Согласия: «Только не возражайте против того, что я сейчас скажу… у меня есть идея, которая вас развеселит… Я хотел бы, чтобы вы взглянули на некоторую очаровательную музыку восемнадцатого века, с целью оркестровать ее для балета». Когда он сказал, что композитор – Перголези, я подумал, что он, должно быть, спятил. Из Перголези мне были известны лишь Stabat Mater и «Служанка-госпожа», да и то потому, что я только что видел ее в Барселоне и не был в восторге, о чем Дягилев знал. Тем не менее я пообещал ему посмотреть и сказать свое мнение.
Я посмотрел и влюбился. Однако мой окончательный выбор пьес лишь частично восходил к образцам, отобранным Дягилевым, и частично к опубликованным изданиям, но прежде чем определиться с выбором музыкальных фрагментов, я занялся разработкой пьесы, приемлемой для Перголези. В качестве первого шага была зафиксирована схема действия и соответствующая последовательность пьес. Дягилев нашел в Риме книгу с сюжетами о Пульчинелле. Мы ее вместе проштудировали и отобрали несколько эпизодов. Окончательная композиция сюжета и порядок танцевальных номеров были делом Дягилева, Леонида [sic] Мясина и меня, все трое работали совместно[248].
Своему «первому сыну» Дягилев позволил гораздо больше свободы и самостоятельности в «Пульчинелле», чем он позволит Винченцо Томмазини или Отторино Респиги, итальянским композиторам, готовившим в этот период музыкальный материал для других балетов из той же эпохи. В своем выборе музыки для «Женщин в хорошем настроении» (1917) Дягилев основывался на пятистах сонатах Доменико Скарлатти, затем на двадцати пьесах менее ценимого наследия, которые, как он думал, «могли… усилить комический эффект постановки» по классической пьесе Карло Гольдони[249]. И уже только после всей этой работы он обратился к профессиональной технике Томмазини как оркестровщика. Респиги также находился под его державным контролем. Его контракт относительно оперы-балета Доменико Чимарозы «Женские хитрости», поставленной в 1920 году, оговаривал, что он сочинит все речитативы в согласии с темами композитора и полностью изменит оркестровку, добавляя танцевальные номера, согласованные с Дягилевым. Ему также была заказана «аранжировка» оперы Джованни Паизиелло «Служанка-госпожа», так никогда и не поставленной[250]. Рукопись «Волшебной лавки», незамысловатого кукольного балета, восхитившего Лондон в 1919 году, еще явственнее обнаруживает руку Дягилева. Кстати сказать, здесь возникает вопрос, который может быть задан по поводу музыкальной стороны всего периода первоначального модернизма: кто автор? Джоаккино Россини, написавший в самом начале XIX века фортепианные пьесы, на которых основана партитура? Респиги, оркестровавший ее и добавивший пригоршню связок? Или Дягилев, который отбирал музыку для балета из огромного числа композиций, урезал такты и пассажи, изменял аккорды, тональности и темпы, поправлял добавления Респиги и писал такие напоминания самому себе: «Не забыть, что все аккорды стилистически должны соответствовать старому Россини времен “Севильского цирюльника”»[251]?
Постановка «Женщин в хорошем настроении» (премьера состоялась в апреле 1917 года) стала первым из разряда дягилевских «балетов, путешествующих во времени» (по выражению Константа Ламберта). Но, несмотря на всю популярность произведения, ставшего «гвоздем программы» в послевоенном репертуаре труппы, соединившего музыку доромантического периода и мясинский хореографический сплав футуризма со стилем XVIII века, иллюзионистские декорации Бакста все-таки вынуждают определить этот балет как переходный. По существу, первоначальный модернизм был временным смещением: резкий контраст между прошлым и настоящим присутствовал в самой ткани каждого балета. Подобно «Пульчинелле», «Женщинам в хорошем настроении» и «Женским хитростям», «Волшебная лавка» восходила к старому театральному истоку – кукольному балету Йозефа Хайрайтера «Фея кукол», поставленному в Венской придворной опере (1888), а затем братьями Николаем и Сергеем Легатами в Мариинском театре (1903) и Иваном Хлюстиным для труппы Анны Павловой (1914). Поскольку Дягилев скорее перерабатывал, чем просто репродуцировал музыкальные источники, то он также трансформировал свои театральные и литературные модели: их сюжеты и характеры были разрезаны и перекомбинированы в балетах, неудержимо стремящихся к структуре дивертисмента. «Как вы правы, что изгнали литературу из хореографического произведения, – писал Дягилеву Франсис Пуленк в начале 1919 года. – Обращение к великим поэтам только доказывает это. Более того, Брак сказал мне на днях: “Не вполне ли достаточно иметь трех – хореографа, художника и музыканта? Если вам придется добавить еще и писателя, весь союз будет смят”»[252].
Отвергая идею брать за основу психологическую и историческую традицию литературы XIX века, что было важным положением футуристических представлений, первоначальный модернизм толкал балетное повествование на путь абстрагирующих обобщений.
Совмещение современной формы и традиционной темы наиболее явно проявилось в декорационном оформлении. Андре Дерэн с помощью блестящей декоративной палитры и плоской перспективы поместил «Волшебную лавку» в обстановку модернизированных 1830-х годов, отчасти устраняя ностальгию и сентиментальность, неизбежно возникающие в балетной памяти в связи с утратой буржуазного мира. Пикассо, по воле Дягилева, постепенно переместил декорации «Пульчинеллы» назад во времени. И в окончательном варианте неаполитанская улица соединила кубистскую перспективу с традиционной образностью XVIII века, став визуальной аналогией того, как Стравинский модернизировал Перголези, а Мясин «футуризировал» комедию дель арте.
Хотя премьеры этих работ состоялись в 1919–1920 годах, замысел и характерный метод их создания приходятся на годы войны. Как и непосредственно предшествовавшие им неопримитивистские эксперименты, они раскрывают способ, которым материал определенного периода может быть осовременен, модернизирован и, что более важно, переведен из тональности неоромантической сентиментальности, какую демонстрировали работы Фокина в стиле бидермейер, в тональность иронического отчуждения.
Навязчивая игра с прошлым и настоящим тем не менее обнаруживала не только оживление и интенсификацию дягилевского воображения как такового. В намеренном погружении в романское прошлое можно усмотреть попытку пережить потерю России подведением нового основания под свою антрепризу, воспользовавшись не менее животворной традицией, более того, сформированной внутри высокопрофессионального искусства классического уровня. В дневниковой записи, датированной февралем 1917 года, Чарльз Рикеттс прозорливо связывает интерес Дягилева к забытой итальянской музыке с Россией. «Дягилев, – писал он, – жаждет итальянского возрождения и русской пропаганды. Мы поссорились из-за немецкой музыки, которую он хочет подвергнуть гонениям; он намерен отправить на свалку “Карнавал”, “Бабочки” и “Видение Розы”»[253]. Россия при этом была представлена другим, более чем оригинальным способом: оба – и Паизиелло, и Чимароза – служили некоторое время при русском дворе, Респиги же, будучи молодым, играл в оркестре Мариинского и Большого театров.
Дягилевская тетрадь периода 1918–1920 годов содержит обширные выписки из прочитанного, которые свидетельствуют о признании Чимарозы композитором классической формы. Эти заметки говорят о ходе размышлений Дягилева в связи с широким кругом проблем стиля послевоенных постановок:
Чимароза воздействует на воображение длинными музыкальными фразами, объединяющими исключительное богатство с исключительной закономерностью… [Паизиелло] не внушает душе тех картин, что дают простор глубоким страстям; его эмоции едва ли возвышаются над грацией… В мире нет ничего более противоположного стилю Чимарозы, блистающему комическими живостью и яркостью, страстью, силой и весельем[254].
Естественно, что композитор стремится угодить искушенной публике, жаждущей новизны; не менее естественно, что эти произведения быстро устаревают, даже если их создали такие вдохновенные артисты [Бетховен и Россини], обманывающие сами себя той фальшивой новизной, которую они стремились внести в искусство. Поэтому часто случается, что публика обращается вновь к забытым шедеврам и по-новому воспринимает стойкое очарование красоты[255].
Ни один композитор, исключая Чимарозу, не имеет таких стройных пропорций, такой нарядности, такой веселости, такой нежности и, помимо всего, стихии, пронизывающей все эти качества и все его разнообразие, – того несравненного изящества, изящества в выражении нежных чувств, изящества в комическом, изящества в выражении страсти[256].
Ясно, что в творчестве Чимарозы и других композиторов XVIII века Дягилева привлекало превосходство стиля. История существует на перекрестье времени и пространства. Только стиль, с его способностью преобразовывать эфемерное, мимолетное, зависящее от обстоятельств в прочный материал искусства, сохраняет невосприимчивость к изменению. В то время, когда рухнули краеугольные камни европейской жизни, в изменившейся эстетике Дягилева нечто родственное классике связало многообразие влияний в единое целое. Возникшая изначально как компенсирующий ответ на потребность в устойчивом, альтернативном прошлом «классика», с ее настойчивым требованием превосходства стиля, предложила очевидный контрапункт ностальгии и сентиментальности, неотъемлемых от ретроспективного видения прошлого. Так стиль стал способом, посредством которого прошлое и настоящее были объединены, но закодированы как принадлежащие разным эпистемологическим реальностям. Современный стиль в балете, как и в поэзии, музыке, живописи, пропустил восприятие через интеллектуальный процесс иронического отстранения.
Первоначальный модернизм стал ответом на кардинальные изменения, принесенные войной, – так же как, хотя и в значительно меньшей степени, серия испанских балетов, возникшая примерно в то же время. Эти комические спектакли, балансировавшие между прошлым и настоящим, очаровывали публику в военной форме, растревоживая ее воспоминаниями об ушедшем времени покоя и порядка. В 1923–1924 годах эти сюжеты вновь возникнут в репертуаре. Но, в противоположность работам высокого модернизма, порожденным войной, в «Лекаре поневоле», «Голубке», «Искушении пастушки», «Докучных» и «Неудачном воспитании» (операх и балетах на французские темы XVIII века), навязчивая игра прошлого и настоящего проходила на чисто формальном уровне: в музыкальных «обработках» Эрика Сати, Франсиса Пуленка, Жоржа Орика и Дариюса Мийо; в декорациях Хуана Гри и Жоржа Брака и в хореографии Брониславы Нижинской. В этих поздних работах (речь о которых пойдет в следующей главе) внутреннее напряжение и скрытая трагедия уже отсутствовали.
Корни модернистской эстетики Дягилева находятся в годах с 1914-го по 1917-й. Из взаимодействия футуризма, неопримитивизма и переоткрытия романского доромантического художественного наследия возникло созвездие стилей, которое будет характеризовать послевоенный Русский балет и вдохновлять его многочисленных подражателей. Не менее сильным, чем влияние авангарда на танец, было и воздействие самого Дягилева на авангард. Успешным освоением характерных подходов художественного авангарда эпохи и слиянием их с балетной традицией представления исторического и этнического своеобразия Дягилев значительно расширил пределы модернистского эксперимента. Он сделал это, продемонстрировав способность этих новых подходов преодолевать ограниченность, изначально свойственную естественным средствам выражения, и то, что авангардистская эстетика стала приемлемой и доступной для значительно расширившегося круга зрителей.
Исключительные достижения Дягилева в эти годы лишь частично основываются на его готовности воспринять новые формальные подходы. В равной степени это отражает его способность придать труппе авангардный облик. На протяжении всего этого периода Дягилев тесно работал со своим ближайшим окружением – группой сотрудников, объединенных стремлением к радикальному театральному изменению. Ядром этой экспериментальной группы были Ларионов, Гончарова, Стравинский и Мясин. Более чем просто сотрудники, они жили и работали с Дягилевым в обстановке взаимной близости и в своих письмах обращались к нему запросто. (Напротив, для подавляющего большинства мастеров, получавших от него заказы в двадцатые годы, импресарио по-прежнему оставался официально-формальным «уважаемым другом».) Дягилевская «студия» военной поры демонстрировала неформальную коллективную структуру, разделявшую эстетику современного авангардистского движения.
Обстановка доверительных отношений близкого дягилевского окружения существовала и в период ранних балетных сезонов. Теперь же, в военную пору, целью творческого ядра стали не только сами постановки. Никогда еще в истории труппы экспериментаторство не ценилось так высоко – при этом проект мог быть отложен или вовсе отброшен сразу после того, как использованные в нем инновационные элементы были сформулированы. Только после войны, когда постановки вновь стали коммерческой необходимостью, наиболее жизнеспособные из этих экспериментов нашли дорогу на сцену.
Важно и то, что дягилевский модернистский прорыв имел место вне давления рынка. «Из всех лет, что мы странствовали с Дягилевым, – вспоминала танцовщица Лидия Соколова, – эти шесть месяцев в Швейцарии были счастливейшими». Проходили ежедневные занятия и репетиции, и в труппе, «значительно меньше прежней», танцовщики «жили в близких, товарищеских отношениях»[257]. Прививая труппе более демократический образ существования, Дягилев нивелировал различия в зарплате: все танцовщики в его маленькой, но растущей труппе получали 400 швейцарских франков в месяц. Внутри круга создателей финансовые отношения напоминали возврат к временам Абрамцева, «Мира искусства» и первых сезонов на Западе. Чтобы помочь Стравинскому содержать его большое и еще увеличивающееся семейство, Дягилев организовывал для композитора ангажементы повсюду, где появлялась его странствующая студия. В случае с Ларионовым и Гончаровой выплаты больше походили на регулярные стипендии, чем на гонорары за исполняемые на контрактной основе постановки. В начале осени 1918 года Гончарова дважды писала Дягилеву, с извинениями прося «прислать обещанные деньги»[258]. В ситуации временного бездействия законов рынка модернизм процветал в атмосфере относительного равенства, социального и экономического.
Через усвоение подлинно авангардистских экспериментов в России, Италии, Испании и Франции Дягилев придал космополитичный характер модернизму труппы, и это не ограничивалось одной лишь хореографией. Интернациональный привкус, отличавший жизнь и деятельность труппы в послевоенные годы, был отражением ее этнического состава времен войны. К июню 1918 года среди артистов, путешествовавших с Дягилевым из Испании в Лондон, русские составляли меньшую часть, а выходцев из Императорских театров было и того меньше: из 39 танцовщиков 18 были русскими (из них только 10 имели отношение к Мариинскому или Большому театрам), 12 – поляками; 4 – итальянцами, 3 – испанцами, еще были 2 англичанки и одна бельгийка. Итальянцем был и менеджер труппы Рандольфо Бароччи, женатый на Лидии Лопуховой[259]. Это «смешение народов» показывает, насколько перестала труппа быть русской антрепризой. С этого времени и впредь ее корни лежали на Западе – вросшие в сиюминутное настоящее, лишенное определенного государства.
Модернизм и космополитизм, как существенные элементы подлинного облика труппы, возникли из плавильного котла войны. Торговый знак этого модернизма, как мы уже говорили, основывался на стиле, сформированном путем отбора из различных авангардистских истоков и направленном на расширение сферы возможностей балета. Этот стиль, остроумный, ироничный, травестирующий и отстраненный, стал залогом единства произведения: он сгладил несоответствия между соперничающими текстами и ясно выраженные несовпадения места и времени, настроив их на единую волну. Кроме того, новый стиль погружал все произведение в ауру современности. Аналогично своей роли в новой теории сценического оформления, стиль стал средством сотворения целостного эстетического пространства.
Эстетика, возникшая в результате встречи Дягилева с авангардом, жизненный опыт, усиленный вынужденным разрывом с родиной и фактически неизбежной эмиграцией, и полное переосмысление принципов организации антрепризы и художественных устремлений были итогом того, что может быть названо эпохой его подлинного модернизма. Но, как это произошло в сфере дизайна, где сама природа материального изделия делала его чрезвычайно подвластным давлению рынка, модернистский стиль в балете очень скоро стал предметом торговли. В процессе послевоенного распространения он лишился устойчивости и сопротивляемости, свойственных ему во время войны, и превратился в ряд образных структур, которые можно было легко выделить и имитировать, стал продуктом для продажи, товаром. Этот товар можно «взять напрокат» и использовать в своем спектакле – так металлический каркас использовали для того, чтобы сделать модель стула современной. Легко копируемые, воспроизводимые и продаваемые, элементы модернистского стиля стали деталями для сборки на конвейере международной балетной моды.
Но теперь мы переходим из эпохи открытий, которая изменила облик балета, в совершенно другую главу в истории Русского балета. Обрубая швартовы, связывавшие его с предыдущей эпохой, fin de siècle, Дягилев направил Русский балет по мощному течению авангарда. Для Европы после перемирия созданный им блестящий синтез старого и нового подводил итог как разрыву, вызванному Первой мировой войной, так и вечным ценностям европейской цивилизации. В основном он, подобно самому существу модернизма, сливал воедино вековечные художественные традиции с радикальным обновлением форм и техники.
Ни одна эпоха не приходит к своему концу так определенно, как завершается повествование в романе. В жизни хронология исторических событий и биографий перекрещивается, смазывая различия между их концами и началами. Дягилевский период подлинного модернизма не является исключением. Но здесь история смилостивилась, обеспечив встречу, которая, если оглянуться назад, представляется фокусом всего периода, одним моментальным кадром, вобравшим в себя, зафиксировавшим самые различные мгновения. В мае 1922 года Сидни Шифф, британский литератор, писавший свои романы под псевдонимом Стивен Хадсон, был увлечен идеей организации некоего модернистского саммита, неофициальной встречи, которая позволила бы собрать вместе monstres sacrés[260] нового века: Пруста и Джойса в литературе, Стравинского в музыке, Пикассо в живописи. И он пригласил их – но не на литературный вечер, какими славился Париж, а на ужин после первого исполнения «Лисы», балета-бурлеска с пением Стравинского[261]. Несмотря на то что романист мало что имел сказать присутствовавшим (физические немощи, кажется, стали основной темой разговора), обстоятельство, что их встреча связана с дягилевским творением, демонстрирует исключительное изменение в положении Русского балета, происшедшее между 1915 и 1922 годами. Никогда впредь в XX веке балет не будет стоять так близко к авангарду, как в военные и послевоенные годы дягилевских свершений.
4 Двадцатые
В истории Русского балета не было эры более изменчивой и трудноопределимой, чем 1920-е – десятилетие проявления протеизма и внутренних взаимоисключающих противоречий. Сквозь кажущийся хаос, как представляется, проступают три направления, объединяющие и связывающие этот период. Первое, которое я назвала «модернизмом, идущим от образа жизни» (lifestyle modernism), было связано с искусством вопиющей банальности Жана Кокто. Второе – «ретроспективный классицизм», отразивший очарование французской элиты аристократической культурой grand siècle. Третье – «хореографический неоклассицизм», порожденный Брониславой Нижинской и Джорджем Баланчиным, эмигрантскими представителями советского хореографического авангарда. Часто совпадающие, иногда даже в одних и тех же произведениях, эти направления причудливо сосуществовали в дягилевском репертуаре – и вообще в балете – в течение всех 1920-х годов.
Жан Кокто уже возникал на страницах этой книги. Но сейчас мы его встречаем уже не как prince frivole[262], обивающего пороги театров, где Дягилев давал довоенные сезоны, но в качестве инженера, возводящего мост между искусством Левого берега и идеологией Правого берега [Сены], которые положили начало модернизму как стилю, идущему от самого образа жизни. Первый опыт, приведший к преображению Кокто, восходит к 1913 году и связан с «Весной священной», произведением, преподавшим поэту-денди урок его собственной непоследовательности. Он с удивлением открыл для себя, что искусство должно скорее шокировать, чем нравиться, скорее бросать вызов публике, чем искать ее расположения. Позже он писал:
«Весна» была откровением такого искусства, которое порывало с общепринятым, было антиконформистским. Это произошло, когда я узнал Стравинского, и позже, когда узнал Пикассо, тогда я понял, что бунт необходим в искусстве и что творец всегда восстает против чего-то, даже если и инстинктивно – другими словами, что дух творца есть высочайшее выражение духа противоречия[263].
Наконец-то Кокто понял, что имел в виду Дягилев своим известным требованием «Удиви меня!».
Из уютной куколки респектабельного общества вылетел… овод модернизма. Между 1913 и 1917-м, годом появления «Парада» в Парижской опере, Кокто стремительно «перепорхнул» в авангард. Сначала он сошелся с его малозначительными фигурами, а затем свел знакомство и с его львами – Пикассо, Аполлинером, Сати. Но, обхаживая своих новых друзей в искусстве, он также искал расположения у культурных авторитетов правого толка, набравших силу во Франции с началом Первой мировой войны. В ноябре 1914 года вместе с художником Полем Ирибом он основал крайне националистический, антинемецкий журнал «Остро́та» (Le Mot), который, по словам Кеннета Силвера, представлял крутой поворот для того, кто до недавних пор находился «в самом центре космополитического Парижа». Здесь «поэт предложил своим собратьям по парижскому авангарду формулу использования хитроумных ухищрений для того, чтобы проложить свой путь через бурные воды общественного мнения военных лет»[264]. Его решение сводилось к совмещению двух консервативных идей: авангард должен обуздать свой экспериментаторский пыл и исключить иностранные влияния. На самом деле, Кокто реагировал на происходящее оперативно и был осмотрителен в отношении собственных советов. В балете «Парад» и в трактате «Петух и Арлекин», опубликованном в 1918 году, он собрал, переработал и при этом упростил основные принципы футуризма – для формирования своего модернизма как стиля, идущего от образа жизни.
Вопреки претензии Кокто на оригинальность «Парад» содержал все основные идеи футуризма. Культ банальности, который, начиная с «Парада», станет определять его художественное кредо, был самым взлелеянным детищем футуристической теории театра. Он был также темой двух манифестов футуризма, хорошо известных во Франции: «Театр Варьете» Маринетти (под названием «Мюзик-холл») и «Футуристическая антитрадиция» (L’Antitradition futuriste) Аполлинера. Оба были опубликованы в 1913 году, как раз во время «линьки» Кокто, произошедшей после «Весны». Эти идеи упали на плодородную почву: в «Давиде», спектакле, задумывавшемся в 1913–1914 годах, но так и не увидевшем света рампы, в творчестве Кокто впервые появились клоуны и акробаты. В «Параде» клоунов нет, но, как и в «Давиде», действие происходит вокруг ярмарочного балагана; и своими номерами-аттракционами балет связан с мюзик-холльным представлением – мешаниной из выступлений животных, танцовщиков, акробатов, чудес фокусников и «синематографических» лент, смесью, столь привлекательной для футуристов. Если «Парад» восхвалял театральное многообразие сценически, то «Петух и Арлекин» делал это с полемическим запалом. На самом деле, этот памфлет 1918 года, посвященный Жоржу Орику, одному из группы молодых французских композиторов, известной как «Шестерка», извлекал наиболее провокационные идеи – не говоря уже о провокационном тоне – из мысли футуристов: что серьезный театр, как драматический, так и оперный, порочен и безнравственен; что популярные развлечения чисты и наивны; что романтизм и импрессионизм давным-давно устарели; что серьезное должно смиренно уступить место комическому, а изысканное – повседневному; что в руках у кино, цирка, джаза и мюзик-холла – ключи к новой театральной поэтике[265].
Несмотря на то что Кокто никогда в этом не признавался, он был в большом долгу у Аполлинера. Унесенный из жизни инфлюэнцей за два дня до наступления перемирия, поэт и критик, являвшийся лидером авангарда парижских левых, наложил неизгладимый отпечаток на произведения Кокто, и нигде это влияние не проявилось так очевидно, как в «Параде». Сравним два текста: первый – предписания Аполлинера в «Футуристической антитрадиции» по поводу достижения идеалов «Чистоты» и «Разнообразия»; второй – неопубликованные заметки Кокто, переданные в 1916 году Сати для характеристики Американской девочки в «Параде»:
Свобода Слова в Изобретении Слов…/ Звукоподражательное Описание /Абсолютная Музыка и Художественность Шумов…/ Механистичность Эйфелева Башня Бруклин и небоскребы /Многоязычие /Абсолютная Цивилизация / Эпопея Кочевничества Исследование города Искусство Путешествий и прогулок /Антикрасивость / Нескрываемый восторг от великой свободы представлений цирков, мюзик-холлов и т. д.
Титаник – …лифты – сирены Булони… радиотелеграммы через море… гудрон глянец – механизмы трансатлантических пароходов – «Нью-Йорк геральд» – динамо – аэропланы – короткие замыкания – дворцы синематеки… Уолт Уитмен – Ковбои в кожаных штанах… экспресс 199 – Индеец племени сиу… Негры, собирающие кукурузу – тюрьма – реверберации – прекрасная миссис Астор – заявление президента Вильсона – минные торпедные катера – Танго… граммофоны – пишущие машинки – Эйфелевы башни – Бруклинский мост – большие, сверкающие эмалью и никелем автомобили – …бары – мороженое … Хелен Додж… золотоискатели – плакаты – рекламные объявления – Чарли Чаплин – Христофор Колумб – металлические пейзажи – жертвы Лузитании – женщины, щеголяющие в вечерних туалетах по утрам – остров Маврикий – Поль и Вирджиния[266].
Свободная и ассоциативная, переходящая от objets trouvés («новой вещественности») механизированной современности к картинам мифической Америки, образность обоих пассажей обнаруживает их изначальное сходство. Надо сказать, что Кокто работает очень подробно, но всегда по канве, набросанной Аполлинером. (Сколько писателей независимо друг от друга могли поставить рядом Бруклин и Эйфелеву башню?) Более того, в обоих отрывках господствует стаккато в темпе скоростной стрельбы: образы словно извергаются из дула пистолета. И в смешении объектов оба текста сближаются с техникой кубистского коллажа.
Подлинный гений Кокто таился не в оригинальности идей, но в способности приспосабливать идеи авангарда к консервативным, по существу, целям. Очищенное от радикализма, его продезинфицированное искусство становится материалом, пригодным для развлечения элиты. Нигде это так не очевидно, как при обращении к общедоступному материалу. Для футуристов это было мощное оружие в их покушении на высокую культуру. Для Кокто, с другой стороны, варьете, цирк, кино и джаз – «музыка повседневности», как он определял их в «Петухе и Арлекине», – были сырьем для искусства изощренной банальности. Критики заученно толкуют о присвоении им образцов общераспространенной культуры. Однако они редко проверяют природу этого материала или характер его общедоступности; не анализируют они также намерение и способ такого «облагораживания района за счет вытеснения малоимущих». Как оказывается, «популярные источники», права на использование которых заявлял Кокто, оказывались на самом деле принадлежностью стиля времяпрепровождения и развлечений высшего класса Франции[267]. Именно там, где «пасся» весь Париж, Кокто, его самопровозглашенный авангардист, и находил материал для приготовления жидкой похлебки его развлечений.
Еще будучи ребенком, Кокто хорошо знал цирк; будучи подростком, он открыл для себя мюзик-холл. (Вместе с друзьями-лицеистами он забрасывал охапками сирени популярную актрису мюзик-холла Мистингетт.) Став юношей, отдал себя «высокому» искусству театра. Война с неизбежностью изменила многое. Погрузив во тьму большинство парижских театров и значительно сократив деятельность оставшихся, она возродила интерес к домашней стороне жизни и совсем иным способам восстановления духовных сил. Когда Кокто потерпел поражение в попытке заполучить Стравинского в список создателей «Давида», он включил некоторые из своих идей в другой отчаянный проект – «Сон в летнюю ночь». Подобно «Давиду», пьеса предназначалась для цирковой арены; она была оформлена Альбером Глейзесом, малоизвестным кубистом, и сопровождалась музыкой Сати. Однако характерное для Кокто смешение вкусов высшего света с пристрастием к общедоступным развлечениям провозглашало новую эру. Постановка, осуществленная Габриелем Астрюком, первым французским импресарио Дягилева, в качестве вклада в Фонд театральных менеджеров в поддержку инвалидов войны, была поставлена в настоящем цирке – солидном и многоуважаемом Цирке Медрано, с настоящими клоунами в ролях Основы, Дудки и Заморыша. «Сон» оказался не только репетицией «Парада», но и предшественником «Быка на крыше» Кокто, «спектакля-концерта», профинансированного графом Этьеном де Бомоном и показанного в Комедии Елисейских Полей в 1920 году: там, выступая перед публикой, пестрящей знаменитостями, братья Фрателлини и пятеро их коллег из Цирка Медрано включили общедоступные развлечения в круг времяпрепровождения всего Парижа.
Как и многие шикарные парижане, Кокто был частым гостем у Медрано в годы войны. Его визиты не сделались реже и после ее окончания. Уж если на то пошло, это стало основным занятием его повседневной жизни, постоянной принадлежностью (как домашние шлепанцы, если можно так выразиться) еженедельных встреч-обедов с «верными» – Франсисом Пуленком, Дариюсом Мийо, Жаном и Валентиной Гюго, Люсьеном Доде, Артюром Онеггером и Полем Мораном. Время от времени компания прогуливалась до ярмарки на Монмартре – отрезка бульвара с тянущимися вдоль него лавками между Плас Бланш и Плас Пигаль – или до ярмарки и места народного гулянья Фуар-дю-Трон, торговой улицы на восточной окраине Парижа. Здесь, писал позже Жан Гюго, Кокто и «его музыканты» искали и порой находили вдохновение. Гюго, оформлявший несколько постановок Кокто, начиная с «Быка», мог бы смело добавить к этому списку и художников[268].
Фильмы также увлекали тогда Кокто. Кинематограф изобрела не Первая мировая война, но именно в те годы французская элита приняла его и заболела им. С сокращением числа картин местного производства Кокто и его друзья стали смотреть и запоминать фильмы американские. Пробыв большую часть войны на фронте, Жан Гюго «пропустил… фильмы, о которых все только и говорили»: Pour sauver sa race [ «Ариец»] с Уильямом Хартом, известным под псевдонимом Рио Джим; «Приключение в Нью-Йорке» с Дугласом Фэрбенксом; «Шарло-солдат» с Чарли Чаплином. Чаплин был «лучшим», писал Кокто в 1919 году. «Он – современный Панч. Он говорит на одном языке с людьми всех возрастов и всех народов. Он владеет эсперанто смеха». Другим излюбленным жанром Кокто и его компании времен войны были вестерны, и однажды в конце 1917 года он взялся описывать себя в письме как живущего в «Техасе» или «в глухом углу Дальнего Запада»[269]. Кино появляется в его театральной практике, начиная с «Парада». Американская девочка, ставшая символом его веры, была персонажем, прямо позаимствованным с экрана: она двигалась, как кинематографический образ, и воплощала кинематографический миф – невинную голливудскую девушку. «Соединенные Штаты, – писал он в 1919 году, – породили образ девушки, заинтересованной больше своим здоровьем, чем своей красотой. Она плавает, занимается боксом, танцует, запрыгивает в мчащийся поезд – и все это без какого-либо представления о том, что она прекрасна. Если кто и восхищается многократно увеличенным на экране лицом богини, так это мы»[270].
Под руководством Кокто мясинская Американская девочка стремилась к «подлинности» своего целлулоидного прототипа. Хореограф писал:
В форменном пиджачке и короткой белой юбке она пересекала сцену чередой судорожных прыжков, широко размахивая руками. Затем она копировала шаркающую походку Чарли Чаплина, затем следовала пантомима, напоминающая «Опасные приключения Полины» – девочка прыгала на ходу в двигавшийся поезд, переплывала реку, состязалась в скоростной стрельбе из пистолета и, наконец, трагически погибала, когда тонул «Титаник». Все это искусно танцевала и мимировала Мария Шабельская, которая с истинным шармом и вкусом интерпретировала синкопированную, в ритмах регтайма музыку Сати, и завершила свой танец, изображая ребенка, играющего в песок на морском побережье[271].
Именно эти три элемента – иконография, движение, миф – стали центральными для «кинематографизированного» балета Кокто. В «Быке на крыше» (снабженном подзаголовком на английском «The Nothing Doing Bar» – «Бар не желающих делать ничего») действие происходит в американском салуне, персонажи – бармен, смешивающий коктейли, боксер-негр, курящий сигары, играющий на бильярде мальчик-негр (исполняемый карликом), букмекер с золотыми зубами, медленно пьющая элегантная женщина, две дамы в красном и полицейский – типажи экзотической Америки времен сухого закона. При постановке «Быка на крыше», в отличие от «Парада», Кокто полностью отвечал за хореографию. Его цель, лишь частично реализованная в «Параде», оставалась прежней: жизненный, повседневный жест, «преувеличенный и утрированный в танце». В «Быке», как он объяснял в опубликованном либретто, персонажи «есть движущиеся декорации. Они исполняют жесты, характерные для их ролей, в “замедленном движении”, независимо от музыки, с тяжестью передвигающегося водолаза»[272].
Реализм, однако, напоминал о себе в самой основе этого метода:
Рыжеголовая дама пересекает сцену, раздвигая клубы дыма руками, обхватывает ими шею бармена и подмигивает боксеру. Боксер встает со стула и следует за ней. Букмекер видит их, приходит в ярость, трясется от гнева, медленно подходит, снимает свою жемчужную булавку для галстука и вонзает ее в голову Негру. Негр падает. Мальчик-негр бросает свой кий, помогает боксеру подняться, сажает его на стул, обмахивает его полотенцем[273].
Не все представление было немым, бессловесным шоу. Здесь имелся «маленький триумфальный танец» для букмекера, танго для женщин, подобие танца Саломеи для рыжеголовой женщины. Для полицейского был поставлен «балет нацеливания», исполнявшийся им с «грацией балерины», в то время как бармен направлял на него свисающий с потолка вентилятор, лопасти которого сносили ему голову.
Это был первый из целой серии случаев, где Кокто пародировал классический танец. В «Новобрачных на Эйфелевой башне», показанных Шведским балетом в 1921 году, женщины в небесно-голубых пачках с гигантскими подкладными бюстами образовывали живописные группы, напоминающие «Шопениану». Жан Гюго, бывший автором костюмов и масок, писал:
Балет был карикатурой на классический танец… и заканчивался неподвижной группой, танцовщицы, те, что были на пуантах, размахивали руками, словно теряя равновесие. Соло Пляжной красавицы походило на пляску вакханки со смехотворными скачками. [Жан] Бёрлин, инкогнито, скрывшись под маской, сам танцевал эту роль несколько раз[274].
Несмотря на то что Жан Бёрлин, звезда труппы, очевидно «аранжировал» танцы, идея этого Вальса телеграмм – и характера постановки – принадлежала Кокто. Как писал Гюго, «Кокто делал все»: «Все позы действующих лиц были продиктованы им. Каждый должен был иметь свою походку: охотник, менеджер, контролер. Кокто мимировал все это сам перед актерами». Помимо Вальса телеграмм, кадрили под музыку марша Республиканской гвардии и танца Пляжной красавицы, действие продвигалось вперед посредством пантомимы. Как и в большинстве его театральных работ, Кокто заимствовал у кинематографа технику замедленной съемки и обрамляющих действие фризовых построений[275].
В центр свойственного ему видения поэтического театра Кокто ставил движение. Но, в отличие от Фокина или Нижинского, он не верил в возможность танца говорить независимо, в его способность посредством игры ритма и рисунка воплощать развернутую систему смыслов, что считал свойственным лишь слову – и в этом причина, по которой речь часто сопровождает его постановки (в случае с «Парадом» Дягилев отменил звучащий текст, к большому огорчению Кокто). Для Кокто танец никогда не был одной из форм символического языка, он признавал за ним функции лишь жестикуляции, подражания и указания. Говорят, что «Кокто расширил представление о балете – не только благодаря звуку и речи, но и благодаря новаторскому подходу к использованию движения» и что «балет стал значительно более открытой формой искусства после того, как Кокто отверг сковывающие его путы традиций и продемонстрировал подлинные возможности в истолковании нашей сегодняшней реальности»[276]. Но остается ли балет балетом, если свойственное ему молчание заменяется речью? Символический язык – имитирующими жестами? Техника классического танца – примитивной будничной походкой пешеходов? В театре Кокто классический танец оказался на положении слуги при пластическом дилетанте.
Еще два ингредиента, наряду с цирком, ярмарочными балаганами и кино, придавали пикантность «облагораживающему» популизму Кокто. Один из них – джаз. В Америке это было искусство простонародья. В Париже он с самого начала стал принадлежностью высших слоев общества. В 1918 году, в то время, когда Париж обстреливала снарядами «Большая Берта», граф Этьен де Бомон дает «большой негритянский праздник» – первый частный вечер, на котором парижане познакомились с джазом, представленным чернокожими американскими солдатами. К своему великому огорчению, Кокто пропустил этот вечер. Но по мере приближения окончания войны джаз перестал быть диковинкой. Выступавший в театре Мариньи ансамбль Луиса Митчелла «Джаз Кингз», писал композитор Нобл Сисл, покорил Париж танцевальными вечерами – и вскоре все французские мюзик-холлы обзавелись джаз-бандами[277]. В «Петухе и Арлекине» Кокто описывает сцену в Казино де Пари в 1918 году:
В качестве музыкального сопровождения был американский джаз-банд с банджо и большими никелированными трубами. Справа от небольшой группы, одетой в черное, находился бармен звуковых эффектов, сидевший в позолоченной беседке, заполненной колокольчиками, треугольниками, полочками и сигнальными рожками от мотоциклов. С их помощью он смешивал коктейли, время от времени добавляя удар металлическими тарелками, каждый раз приподнимаясь со своего сиденья, при этом позируя и бессмысленно улыбаясь. Мсье Пилсер, во фраке, худой и нарумяненный, и мадемуазель Габи Десли, похожая на большую куклу чревовещателей с хрупким фарфоровым телосложением и пшеничного цвета волосами, украшенными страусовыми перьями, танцевали в этом урагане ритмов и барабанного боя… совершенно опьяненные и ослепшие от сверкания блуждающих лучей шести прожекторов. Публика стояла и аплодировала, выйдя из оцепенения благодаря этому необычному номеру…[278]
Это только одно из многочисленных упоминаний джаза среди написанного им в 1918–1919 годы (или, по крайней мере, того, что он, как и большинство французов, ошибочно принимал за джаз). Другое упоминание, опубликованное в «Пари-Миди», сообщало о шоу для американских солдат:
Я слушал джаз-банд в Казино де Пари. В этом подобии загона повсюду были негры, расхаживающие вразвалочку, которые волновали толпящиеся группы живой плоти, дули в трубы и грохотали ударными инструментами. Танцевальные мотивы – рваные, то сталкивающиеся, то следующие в контрапунктическом проведении – время от времени вырывались на поверхность.
Душный зал, набитый накрашенными девушками и американскими солдатами, был похож на салун из фильма про Дальний Запад[279].
Притом что Кокто обнаружил для себя многое как в самом примитивизме джаза, так и в способе его физического и эмоционального воздействия (не говоря уже об откровенном эротизме черных исполнителей), он никогда не воспринимал джаз как подлинное искусство. Джаз мог стимулировать воображение и через свою «дикость» «овладевать с мужской силой», но сам по себе он просто был «душой» современного беспорядка. «Мюзик-холл, цирк, американский негритянский джаз-банд – все это питает воображение артиста, как и жизнь сама по себе… – писал он в “Петухе и Арлекине”. – Использование эмоций, возникающих из таких развлечений, ни в коем случае не является возвращением к изжитому прошлому искусства. Эти развлечения – не искусство. Они вызывают такой же эмоциональный отклик, как машины, животные, пейзажи, опасность»[280]. Популярные развлечения оказались не более как очередным острым ощущением для его изощренной восприимчивости.
Если и существовала единственная форма развлечения, вбиравшая в себя разом многие пристрастия Кокто, так это был мюзик-холл. В нем юмористы, фокусники и клоуны делили свет рампы с танцовщицами, как это позднее произойдет и в элегантных водевилях Кокто. Годы, предшествовавшие Первой мировой войне, стали эрой прославленных танцовщиков, выступавших в парижских «холлах» – таких, как Наталья Труханова, Лой Фуллер, Клео де Мероде, Рут Сент-Денис, Мата Хари, Ла Бель Отеро, Мод Аллан, Мистингетт, Габи Десли, Гарри Пилсер. Здесь были труппы синхронно работавших герлс с экзотическими английскими названиями Tiller girls или Les Sparkling Girls. Был здесь и балет. В Фоли-Бержер и Олимпии – и это отличало их от других «холлов» – были труппы, состоявшие исключительно из женщин. Живописные почтовые открытки того времени возвращают к жизни забытые образы девиц из парижского балета: Мадо Минти, с пышными бедрами, «осиной» талией, в сапогах на высоких каблуках и пряжкой на ремне в форме сердечка, она совсем не похожа на мальчика-посыльного; пара платиновых блондинок, «танцовщиц из Мариньи», обмотанных газовыми вуалями и нитками жемчуга; другая пара – дама в кружевном неглиже, ее партнер, танцовщица-травести, в трико, шотландском берете, балетных туфлях с тесемками, но на каблуках… В этих образах, столь же невинных и сдержанных, как и строчки стишков, сопровождающих эти изображения, обнаруживаются прототипы Танцующих телеграмм из «Новобрачных на Эйфелевой башне» Кокто.
Хотя развлечения оставались главным источником материала для Кокто, в его работах находили свое место и традиции лубочного рисунка. Наиболее важными из них представляются эпинальские картинки – «грубые, фольклорные, ярко раскрашенные (сначала гравированные на дереве, потом, после 1850 года, выполненные в технике литографии), изготовлявшиеся начиная с XVI столетия в Эпинале, городе в Лотарингии на востоке Франции». Приобретя популярность в годы войны, особенно среди правого крыла, эти картинки, как обнаруживает Кеннет Силвер, были для художественного становления Кокто «решающими»[281]. В «Параде», «Быке на крыше», «Новобрачных на Эйфелевой башне»
…Кокто представляет характер персонажа во многом так, как он представлен в эпинальских картинках. В «Параде» нет собственных имен, только типы: Китайский фокусник, Американская девочка, Акробат, Менеджеры; в «Быке на крыше» опять нет имен, только типажи: Женщина в платье с декольте, Рыжеголовая женщина, Бармен, Полицейский, Негр-боксер, и в «Новобрачных» – вновь человеческие архетипы: «Невеста, ласковая, как ягненок», «Тесть, богатый, как Крез», «Жених, приторный, как сахар», «Теща, хитрая, как лиса», и другие персонажи, такие как Директор Эйфелевой башни и Пляжная красавица из Трувиля[282].
«Быка» оформлял Рауль Дюфи, примыкавший одно время к фовистам и перешедший во время войны на работу в государственное бюро пропаганды, где создавал плакаты, памфлеты и брошюры для поднятия национального духа. Силвер пишет:
Была ли это его идея… или… Кокто, что персонажи «Быка» были не иначе как цитатами из эпинальских картинок – огромные головы на тоненьких туловищах почти наверняка происходили из стилизации, служившей стандартом для «Криков Парижа», где голова была предназначена для изображения крика розничного торговца[283].
Через эпинальские картинки Кокто придал своим футуристическим заимствованиям исключительно французский и определенно элитарный аромат. Как и у автоматов Деперо, лица его персонажей скрывали маски (или толстый слой грима), тела были переструктурированы костюмами, голоса деформированы мегафонами. Но там, где итальянец использовал эту технику, чтобы «футуризировать» своих персонажей, вырвать их из исторического контекста времени и места, Кокто, благодаря эпинальским картинкам, сделал как раз противоположное: он обосновал своих персонажей в парижском прошлом. При переносе из повседневного бытования на сцену тем не менее с образами произошло нечто важное: они утеряли грубоватость и непосредственность своих простонародных оригиналов. Вместо разносчиков, навязывавших свои товары на людных улицах, Кокто представил нам типы из привилегированного мира: богатых папочек, охотников за большой добычей, коллекционеров искусства, генералов, обедающих с герцогами, – развлекателей, отмытых добела и принаряженных. Наделенные первозданной наивностью и тем по-своему обаятельные, благодаря второму рождению эти образы возвращали публике романтику утраченного мира, идиллию буржуазного детства. Кокто, беря свои заимствования с левого фланга искусства, поставил их на службу политическим правым.
В 1917 году Дягилев удалил эффекты с мегафоном и «куски акустической иллюзии» – стук по клавишам пишущей машинки, азбуку Морзе, звук сирен и шум поезда – из звуковой партитуры «Парада». После этого Кокто с ним порвал. Его горечь была глубока. «Русские здесь, – писала мадам Кокто в январе 1920 года, – но Жан ходит к ним редко, из-за Дягилева, которого он не выносит, и с достаточным для того основанием». Впрочем, уже к весне восстановление дружеских отношений шло полным ходом: Кокто с Пуленком, Ориком и Люсьеном Доде присутствовали на приеме по случаю премьеры «Пульчинеллы», устроенном принцем Фироузом, персидским дипломатом и очередным любимцем высшего света. В декабре Дягилев возобновил «Парад», а в следующем году посетил «Спектакль Буфф», представленный Кокто и Пьером Бертеном в Театре Мартен, и один из первых спектаклей «Новобрачных на Эйфелевой башне». «Я знаю из достоверных источников, что Дягилев глубоко заинтересовался нашим произведением, – сообщал Кокто Рольфу де Маре, основателю и директору Шведского балета. – Он страстно желает заполучить музыку наших композиторов для музыкальных антрактов в Лондоне». В течение сезона сочинения четырех композиторов из «Шестерки» – Артюра Онеггера, Дариюса Мийо, Франсиса Пуленка и Жоржа Орика, – как и произведения шефа группы Эрика Сати, звучали в симфонических интерлюдиях, бывших неотъемлемой чертой лондонских программ Дягилева[284].
К 1922 году поэт и импресарио сошлись вновь. Влияние Кокто стало теперь совершенно очевидным. Благодаря ему «Шестерка» и Парижская школа пришли работать на Русский балет. В том году он писал Дягилеву:
Я имею кое от кого новости о Вас, и вот что я хочу сказать. Сати слишком труден, чтобы иметь с ним дело, и я затаился в ожидании нужного момента… Вы можете еще раз заплатить ему аванс, и тогда этот трюк может сработать. С. восприимчив только к деньгам… Если подобное обращение Вас оскорбляет, то лучше сделайте заказ Пуленку или Мари Лорансен – правда, у Пуленка всегда проблемы со сроками[285].
Проекты, обсуждавшиеся в этом письме, – «Лекарь поневоле» и «Лани» – далеко не сразу пришли в движение, так как Дягилев испытывал серьезные финансовые затруднения, и в 1924 году ему удалось осуществить лишь одну новую работу – «Свадебку». Но, благодаря щедротам Общества морского побережья Монте-Карло, владевшего Казино, к концу этого года несколько постановок оказались в работе. Некоторые из них были операми – старинными французскими операми, «модернизированными» музыкантами – протеже Кокто: Пуленком («Голубка»), Сати («Лекарь поневоле»), Ориком («Филемон и Бавкида»), Мийо («Неудачное воспитание»). Два балета, появившиеся в январе 1924 года, принадлежали композиторам «Шестерки» – «Докучные» на музыку Орика и «Лани», партитура которых принадлежала Пуленку. Оформлявшие эти балеты художники Жорж Брак и Мари Лорансен также были близки кругу упомянутых музыкантов, а позже, в том же году, все они будут тесно сотрудничать над балетами, показанными графом Этьеном де Бомоном в его «Парижских вечерах».
Художественное направление, заявленное во время сезона в Монте-Карло, быстро заняло главенствующее положение в дягилевском репертуаре. В июне 1924 года «Голубой экспресс» свел Мийо, Кокто (в качестве либреттиста) и Габриель Шанель, лидировавшую среди парижских кутюрье, которая уже оформила постановку «Антигоны» в 1922 году. Балет «Зефир и Флора», поставленный в 1925 году, оформлял Брак. Партитура «Матросов», новинки того же сезона, принадлежала Орику. Этот фаворит Кокто среди композиторов «Шестерки» написал музыку и к «Пасторали», самому яркому событию сезона 1926 года, в то время как Сати и Андре Дерэн, тоже бывшие сотрудники Бомона, внесли свой вклад в постановку другой премьеры 1926 года – «Чертика из табакерки». Если дягилевская труппа времен войны была похожа на странствующую студию, то в сезоны 1923–1926 годов она напоминала семейство, порожденное Кокто[286].
Объединение талантов – была лишь одна из услуг, которые Кокто оказал Дягилеву. В качестве либреттиста он приложил руку к созданию трех балетов, хотя официально за ним числится только «Голубой экспресс». Идея «Ланей» исходила от поэта во время второго счастливого периода его работы с Дягилевым. К октябрю 1922 года набросок сценария уже был готов, и Кокто рассчитывал на сотрудничество как Лорансен, так и Пуленка[287]. С этим балетом, достигшим сцены в 1924 году, модернизм как стиль, идущий от образа жизни, вновь утвердился в Русском балете.
В отличие от подавляющего большинства танцевальных постановок двадцатых годов, «Лани» выжили и сохраняются в современном репертуаре. Действие этого изысканно-модернистского балета, инспирированного Кокто, происходит в среде манекенщиц и атлетов, беспутного и вызывающего мира самой новейшей моды – легкомысленного, шикарного, небрежно отклоняющегося от принятых норм поведения. Декорации – элегантно обставленная гостиная; событие – салонная вечеринка; персонажи – хозяйка и ее гости. Костюмы, не меньше чем декорации, отмечены увлечением современной модой: у женщин – модные платья, ленты-ободки на голове, переплетающиеся нити искусственного жемчуга; у мужчин – борцовское трико, плотно облегающее тело, являвшееся в то время и костюмом для плавания. Тема этого балета пришла прямо из литературного романа двадцатых – загадки и головоломки современной любви, поверхностной и ироничной.
Многое из этого появится вновь в «Голубом экспрессе», последней работе Кокто для Дягилева. На этот раз салон станет модным пляжем; модниц и атлетов сменят девчонки и парни, ищущие себе пару или пытающиеся хотя бы заработать на своей внешности и здоровом молодом теле, которое они открывают не только солнцу, но и выставляют на продажу. Начиная с заглавия, повторяющего название поезда, уносящего парижских искателей удовольствий с Лионского вокзала к курортам Лазурного Берега, «Голубой экспресс» принадлежал целиком и полностью не только фольклору, но и мифологии моды. Здесь была теннисистка а-ля Сюзанна Ленглен, великая чемпионка Франции того десятилетия; игрок в гольф в спортивных бриджах, как у принца Уэльского; прекрасная купальщица (Жемчужина), которая появлялась из кабинки для переодевания в длинном розовом шелковом халате, наброшенном на плечи; симпатичный парень (Красавчик), исполнявший головокружительные акробатические трюки. Либретто изобиловало намеками на жизнь привилегированной части общества – от увлечения физической культурой (практиковавшейся законодателями новейших тенденций) до многочисленных деталей в реквизите и костюмах (сигареты, купальные костюмы, наручные часы, солнцезащитные очки). Костюмы Шанель вполне могли быть извлечены из гардероба ее шикарных клиенток – вязаные костюмы для плавания, резиновые тапочки (используемые женщинами для купания) и облегающие купальные шапочки, которые вскоре станут модными на шикарных пляжах. Так же как в «Быке» и «Новобрачных», либретто Кокто соединяло многие реалии моды с картинами типичного времяпрепровождения и развлечений:
Девчонки. Парни. Пляж. Парни бегают (на месте) и быстро выполняют спортивные упражнения, в то время как девчонки принимают грациозные позы с цветных почтовых открыток. Комбинация движений в момент поднятия занавеса должна напоминать своей дурашливостью опереточных хористок. (Не следует опасаться некоторой помпезности, что придаст некий стиль.) Короче, представьте себе персонажей, поющих: «Мы парни, мы парни и т. д.».
Открывается дверь кабинки для переодевания. В ней виден купальщик [Красавчик] (в купальном костюме), принимающий позы. Группа девчонок справа в грациозных позах. (Одна указывает на свою грудь, другая прижимает палец к губам, третья ложится и болтает ногами.) Иметь в виду группу, которой обычно заканчивается кадриль в Мулен-Руж. Появляются парни, разыскивающие купальщика. Они поднимают его на руки, чествуя как победителя. (Смотри фотографии боксеров, которых уносят после матча.) Парни уносят его за кулисы и возвращаются вновь. Девчонки ложатся на сцене справа. Парни выстраиваются перед кабинками в линию, один за другим, лицом к публике… Все поворачивают лица в правую кулису. Медленно, длинными шагами выходит купальщик; приблизившись к середине сцены, он разбегается и, оттолкнувшись от трамплина, исчезает в левой кулисе. Парни внимательно следят за его проходом и его прыжком, после которого все лица повернуты влево. Оркестр останавливается, прежде чем музыка повторится, и артисты сохраняют позу, которая пришлась на последнюю ноту, представляя неподвижную картину. (Между каждым оркестровым окончанием и репризой танцовщики сохраняют свои позы, как на фотографии.)[288]
Вновь и вновь Кокто стилизует действие, погружая его в сферу распространенных стереотипов. Его девчонки украшают себя позами с открыток; его парни поднимают Красавчика вверх, как на изображениях чествования боксеров-победителей; его ансамбль останавливает свое движение, как в кино. В сцене V он использует свой излюбленный прием – замедленное движение, а в сцене VI имитирует действие с фотографии, только что получившей распространение на страницах спортивных изданий:
Чемпионка по теннису появляется справа. (Ее походка, ее позы, ее танец, вся ее роль должны происходить от журнальных снимков; то же должно быть и для игрока в гольф.) Бегущие люди – ноги в воздухе – спереди; разговаривающие люди – их фотография с открытыми ртами; прыгающие люди, играющие в теннис (подачи, подбирание мячей и т. д.)[289].
В сцене IX указания Кокто становятся еще более точными:
Фуга… для теннисистки и игрока в гольф. Мимическая сцена. В то время как один из двух мимирует, другой стоит сложа руки и слушает, глядя в небо. (Оба, бок о бок, должны быть почти неподвижны, когда человек, завязывающий ботинки, поднимает голову к небу, когда женщина пожимает плечами и т. д. …) Это оживление приводит к ударам. Тот, кто их получает, должен согнуться, другой, кто их наносит, в порыве удара поворачивается на месте и т. д. (Думай о сражениях Чарли Чаплина.) Девчонки и парни снимают фильмы, делают фотографии, перематывают пленку, ведут подсчет очков и т. д. …[290]
В либретто Кокто слишком мало намеков на танец. И в самом деле, в этом балете очень мало танцев. Здесь есть «танец вокруг кабинок» в сцене V, valse dansée в сцене VII и несколько дуэтов для двух солирующих пар, причем большинство этих дуэтов перегружены пантомимой. «Спортивный дуэт» чемпионки по теннису и игрока в гольф в сцене VI, как указывал Кокто, «должен быть… ориентирован на пантомиму певцов, двигающихся по очереди (куплет за куплетом) и вступающих вместе во время припева». Только valse dansée имел танцевальный исток, при этом, что весьма типично, скорее мюзик-холльный, чем связанный с балетной сценой: акробатическое адажио было образцом, широко распространенным в то десятилетие среди профессионалов бального танца.
«Голубой экспресс» оказался последним предприятием Кокто в Русском балете, хотя модернизм, как стиль, идущий от образа жизни, оставался с Дягилевым, и ингредиенты рецепта Кокто – далеко не всегда с его прямым участием – влились в общий поток балетной жизни. Середина двадцатых в Русском балете стала временем стремительного движения в сторону осовременивания внешнего облика спектаклей. В «Зефире и Флоре» Музы были одеты в короткие модные платья и «шикарные маленькие шляпки», имевшие гораздо большее отношение к моде того дня, чем к изящным, «дымчатым» эскизам Брака. Фелия Дубровская в роли кинозвезды в «Пасторали» носила короткую юбку, спускавшуюся из-под блузки с заниженной талией, в то время как другие женщины в этом балете демонстрировали последние новинки спортивной одежды – юбки в складку и верх из джерси. Даже балеты, основанные на экзотических и исторических сюжетах, имели современные черты и детали. Камердинер в «Докучных», писал лондонский критик в 1925 году, был «одет, как на известной рекламе женских головных уборов»; двумя годами позже его коллега описывал Механического соловья в «Песне соловья» «как клоуна в красной шляпе и костюме, напоминающем хорошо известную рекламу одежды для тех, кто ремонтирует автомобили». Между тем настоящий Соловей в балете (Алисия Маркова) был облачен в «последний крик» брючной моды – пижаму. В том же году прозрачные конструкции из слюды Наума Габо и Антона Певзнера для «Кошки» напомнили корреспонденту «Скетча» «в высшей степени стилизованную кухню»[291].
Балеты такого жизнеподобного стиля занимали заметное место в репертуаре не только дягилевской, но и других трупп.
Среди почти десятка танцевальных спектаклей, представленных «Парижскими вечерами» графа Этьена де Бомона, Trois Pages Dansées (Три танцевальные страницы) были подготовлены (как сообщалось в программе)«в сотрудничестве с журналом “Вог”». В отличие от других работ сезона, имевших исключительно хореографию Мясина, Trois Pages Dansées Бомон поставил сам: это был его хореографический дебют. Естественно, хореография здесь не могла представлять собой чего-либо значительного, но с костюмами Жанны Ланвэн (за исключением жокейского комплекта одежды от Эрмес) и обувью от Перуджиа балет был определенно отлично одет – столь же элегантно, каковыми были и двусмысленные эротические ситуации, в которых, по сценарию Валентины Гюго, оказывалось трио действующих лиц[292].
Шведский балет, начиная с 1922 года ведущий инициатор балетного экспериментирования, также привносил на балетную сцену срез современной парижской жизни. «Каток» (Skating-Rink) с музыкой Артюра Онеггера оформил Фернан Леже; местом действия был каток; персонажами – «рабочие, молодые парижские белошвейки, смазливые молодые люди и другие карикатурные типажи»[293]. Хореография Жана Бёрлина черпала вдохновение из танцев апаш; стилизованные, полуконструктивистские костюмы шли от яркой одежды конькобежцев. На следующий год труппа поставила «В пределах квоты» (Within the Quota) – спектакль, дававший в декорациях фрагмент галлицизированной Американы с джазовыми мелодиями Кола Портера, пародировавшими штампованные приемы игры таперов на пианино в немом кинематографе. Поразительный задник Джералда Мёрфи, американца, обитавшего бесконечно далеко от границ Русского балета, представлял собой увеличенную фотографию первой полосы ежедневной газеты Хёрста, заполненной кричащими заголовками: «Неизвестный банкир покупает Атлантику», «Бальзам на разбитое сердце бывшей супруги», «Развязки любовной истории в суде». Сюжет, также принадлежавший Мёрфи, повествовал о мытарствах прибывшего в Нью-Йорк шведского иммигранта, его встречах с миллионершей, надменной чернокожей актрисой водевиля, девушкой из джаза, ковбоем, социалистом-реформатором и, наконец, с «любимицей всего мира», как две капли воды похожей на Мэри Пикфорд, которая чудесным образом превращает его в кинозвезду[294].
Пожалуй, самой известной «современной» постановкой шведской труппы был Relâche[295], показанный в декабре 1924 года и оказавшийся «лебединой песней» труппы. Франсис Пикабиа, автор сценария и оформления балета писал:
Relâche есть жизнь, жизнь такая, какой я ее люблю, жизнь без завтра, жизнь сегодня… Свет автомобильных фар, нити жемчуга, стройные и округлые формы женщин, реклама, музыка; мужчины в вечерних костюмах; движение, игра, чистая и прозрачная вода, удовольствие смеяться – это Relâche… Relâche гуляет по жизни под громкие взрывы смеха. Relâche есть бесцельное движение. Зачем думать? Зачем иметь установленные правила красоты и веселья?[296]
В мюзик-холле танец обычно делил программу с кино. В Relâche фильм – «Антракт» (Entr’acte) Рене Клера – впервые вписался в танцевальный спектакль:
После кинематографического пролога занавес открывает сверкающую и необычную декорацию… Там была сверкающая рампа, слепящая публику; праздно шатающийся пожарный, куривший без остановки; женщина в вечернем платье, проходившая через холл… восемь мужчин в смокингах; игры для женщины и нескольких марионеток, которые продолжались до тех пор, пока одна из марионеток не уносила ее[297].
Следуя сумасбродному параду образов (в котором ненадолго появлялись сам Пикабиа и его друзья), авторы «вели артобстрел публики» плакатами с такими провокационными строчками, как «Недовольным настоятельно рекомендуется покинуть зал» или «Здесь есть некоторые слабоумные – бедные идиоты, предпочитающие балет в Опере». Марионетки возвращались, сбрасывали верхнюю одежду и оказывались клоунами. Пожарный переливал воду из одного ведра в другое, а затем обратно. Балет – если его можно считать таковым – вызвал скандал и настоящую обиду серьезных критиков. Многие, как можно предположить, были бы счастливы занять место рядом с «бедными идиотами» в Опере[298].
Рольф де Маре покинул Шведский балет через три месяца. Модернизм как стиль, идущий от образа жизни, тем не менее продолжал процветать. Следующим летом гвоздем танцевального и оперного сезона, организованного Маргаритой Бериза, бывшей примадонной Бостонской и Чикагской опер, стал балет «Радуга» (Arc en Ciel) Жана Винера. Концертирующий пианист, специализирующийся на джазе, Винер играл в «Быке на крыше», известном ночном клубе, взявшем себе название из фарса Кокто, художественный стиль – у дадаизма, а социальную направленность – у высокой богемы. «Радуга», так же как «Бык» и «В пределах квоты», эксплуатировала образы мифической Америки. «На протяжении всего балета, стилизованного в джазовых ритмах, – писал корреспондент “Мьюзикал Америка”, – негр, играющий на банджо, стоит в углу сцены и наигрывает джаз, то мягкий и низкий, то резкий, в водевильной манере»[299]. Даже Бронислава Нижинская, явившаяся в дягилевской труппе богиней возмездия для Кокто (их конфликт мы рассмотрим позже), пала жертвой этой лихорадки. Для Хореографического Театра, камерной труппы, которую она создала вместе с художницей Александрой Экстер, после того как покинула Дягилева в начале 1925 года, Нижинская поставила три балета в современных костюмах: «Туризм» (или «Спортивное и туристическое балетное ревю» – Sports and Touring Ballet Revue) с музыкой Пуленка; «Джаз» на Регтайм Стравинского, в котором Нижинская надела национальную гавайскую юбку хула (наряду с Америкой в 1920-х Европа открыла для себя Гавайи); «Священные этюды» (Holy Etudes), абстрактный балет на музыку Баха, исполнявшийся одними женщинами, одетыми в платья с плиссированными юбками и заниженной талией. В следующем году в Театре Колон в Буэнос-Айресе она поставила «На морском побережье» (A Orillas del Mar), с костюмами «по мотивам Шанель», музыкой Мийо и спортивной темой, что подозрительно напоминало «Голубой экспресс», но уже без Кокто. Вернувшись в Париж в 1927-м, она поразила публику Оперы «Впечатлениями от мюзик-холла» (Impressions de Music-Hall), показав танцы герлс, «музыкальных клоунов» и кэк-уок в исполнении Карлотты Замбелли – этуали-долгожительницы Парижской оперы[300].
С самого начала этот стиль, инспирированный новыми жизненными явлениями, был связан с джазом. Но, за исключением «Сотворения мира» Мийо, где джазовые элементы сочетались с более развернутыми классическими формами, в немногих балетах джаз отличался хоть какой-нибудь степенью разработанности. В большинстве случаев он служил фоном, подобно костюмам для купания от Шанель, что привносило в действие балета ауру современности. Это происходило не только на балетной сцене, но и в мюзик-холлах, куда многие танцовщики и хореографы пришли работать в 1920-е годы. Такое массовое вторжение неизбежно вызвало ответную антиджазовую реакцию, проявившуюся к середине десятилетия. Борис де Шлёцер, рецензируя в «Нувель ревю франсез» в 1925 году «Зефира и Флору» у Дягилева, выразил определенное удовлетворение тем, что Владимир Дукельский (позднее, в Америке, уже как Вернон Дюк он сделает карьеру в качестве автора популярных песен) предпочел Чайковского «улице дребезжащих жестянок» (Tin Pan Alley[301]): «И на этот раз можно было ожидать эффектов, идущих от джаз-банда; слава богу, автор их избежал, и в основе “Зефира” нет и следа негроидного американизма, ставшего таким же отличительным знаком модернизма, каким еще вчера была целотонная гамма». Двумя годами позже, в обзоре дягилевского сезона, сделанном для «Крисчен сайенс монитор», коллега Шлёцера Эмиль Виллермоуз одобрительно заметил, что «“Аркейская школа”, которая развенчала и рассеяла “Группу Шести”, в значительной степени возвращается к гармонии и музыке, приятной для слуха». Об авторе «Сотворения мира» он отозвался так: «И любой может заметить, что Дариюс Мийо мудро отбросил свои дикие диссонансы и политональность, чтобы писать пьесы разумные, приятные и традиционные, как “Карнавал в Экс-ан-Провансе”»[302].
К середине десятилетия не только танцовщики привычно мигрировали между театральными и мюзик-холльными сценами, но и неудержимо стиралась сама «демаркационная линия» между ними. «Это уже установленный факт, – отмечал Жан Брён-Берти во французском ежемесячнике “Ла Данс”, – что, исходя из хореографической перспективы, театр дает нам то, что в прошлом предлагал мюзик-холл, и наоборот. “Голубой экспресс”, показанный Русским балетом, подтверждает это правило»[303]. Ему вторил Андрей Левинсон:
С «Голубым экспрессом» авангардный балет дал нам знак своего добровольного отказа от грации, своего торжественного отречения в пользу мюзик-холла. Мы восприняли это предзнаменование и покинули балет Монте-Карло ради привлекательности Олимпии… Кто знает, не имеет ли мюзик-холл намерения перед лицом банкротства и заблуждений великой оперно-балетной сцены стать прибежищем великих традиций театрального танца?[304]
Вопреки невниманию исследователей танца, главным местом балетной активизации в 1920-х и ключевым фактором в стремительном распространении балетного модернизма была коммерческая арена. Леонид Мясин мог достичь ранних успехов в Русском балете, но его художественная индивидуальность по-настоящему созрела на сцене ревю. «Того, или Благородный дикарь» (Togo or The Noble Savage), его «американоиндианский» балет для ревю 1923 года со звездой Джорджем Роби под названием «Вы будете приятно удивлены» (You’d Be Surprised), имел все задатки постановок Шведского балета: афро-бразильскую партитуру Мийо, «модерновое» оформление Дункана Гранта, Америку в качестве места действия (гостиница «Дикая кошка» в Аризоне) и набор экзотических американских персонажей – мексиканцы, негры, индейский вождь. Что представлял собой этот балет, можно только гадать. Лидия Соколова, долголетняя участница дягилевской труппы и временно покинувшая ее, находила эту постановку «настолько бедной», что едва ли могла что-то вспомнить, кроме того, что «была от шеи до пят в коричневом трико, черном парике, с африканским гримом и исполняла воинственный танец». Т. С. Элиот, с другой стороны, притом что не испытывал ничего кроме презрения к самому ревю, красноречиво назвал Мясина «величайшим из актеров, имеющихся в Лондоне». «Того» не был единственным танцевальным номером в этой «джазовой экстраваганце» в двух актах и пятнадцати сюрпризах. Там были номер под граммофон, в исполнении Нинет де Валуа, полька «Триктрак» Штрауса для Мясина и Лидии Лопуховой, «ригодон из Чайна-тауна», «балет» на музыку Шопена под названием «Элегантные дамы» (Les Elégantes) и даже вариация из «Спящей красавицы». (Подбор нетанцевальных номеров представлял такую же мешанину: Литтл Тич, Мари Леконт в одноактной комедии Робера де Флера, отрывки из «Сказок Гофмана» и Савой Гавана Банд в «подлинной сатурналии синкоп»[305].)
Двумя годами позже Мясин пришел работать к ярчайшему продюсеру Уэст-Энда Чарльзу Кокрэну, осуществив три «сцены» – «Карьера мота» (The Rake), «Венгерская свадьба» (A Hungarian Wedding) и «Крещендо» (Crescendo) – для ревю, описанного в «Дансинг таймс» как «самое замечательное “танцевальное шоу”… когда-либо представленное лондонской публике». Ревю «Продолжение танца» (On With the Dance) объединило Мясина с Ноэлем Коуардом, который, будучи либреттистом шоу, тесно сотрудничал с хореографом при создании картины бешеной жизни современного города, получившей название «Крещендо». В своих мемуарах Мясин писал:
Балет отражал реальный период и на свой манер излагал сущность начала 1920-х годов. Персонажи, включая Кинозвезду [Элис] (Делайзия), Маникюршу (Элеанора Марра), Манекенщицу (Пат Кендалл), являлись в высшей степени современными типами. В противовес женским образам мы создали мужское джаз-трио под названием «Три поросенка». Сам я исполнял Бобо – «Духа эпохи». Моя хореография была стремительной и сатиричной, гармонировавшей с партитурой – попурри, составленным из популярных джазовых мелодий, среди которых ведущая роль отводилась мотиву «Покончи со своими грехами»[306].
Мясин, в отличие от Кокто, наполнил «сцену» хореографическим движением. Фотография, возможно сделанная во время спектакля, запечатлела самую суть персонажей-типажей: Пат Кендалл в позе манекенщицы; Амелию Аллен на «мостике»; Лори Дивайн, стоящую на руках; Элеанору Марру в первой невыворотной позиции. Декорационный задник с угловатыми, абстрактными формами и словом «кафе», написанным крупными буквами, был пронзительно модерновым. Такими были и костюмы: строгие черные – для оркестра, короткие модные платья – для женщин. «Крещендо» имитировало реальность. Спектакль, однако, стремился убедить в том, что реальность – подходящий материал для танца, движения вообще. В интервью «Морнинг пост» Мясин говорил о необходимости модернизировать классический танец, чтобы он шел в ногу с XX веком:
Каждый век имеет свою собственную манеру двигаться и свои собственные стили танца, и мы не можем продолжать приспосабливать приемы нашей хореографии под предписания школы XVII, XVIII и XIX столетий. Так называемый классический стиль не соприкасается с современной жизнью. Что мы должны сделать сегодня, чтобы заставить танец быть живым, – так это перенять все, что мы можем, у итало-французской школы с ее трехсотлетней историей и перенести на то лучшее, что есть в современном джазе. Мы должны изменить направление старинной школы и путем приспособления ее канонов, ее форм и ее движений сотворить новый дух, достойно представляющий дух нашего века[307].
Модернизм, идущий от новых реалий жизни, был рожден «Парадом», впервые связавшим на балетной сцене авангардные формы с реалиями коммерческого театра. Импульс к такому альянсу исходил от футуристов; его расцвет тем не менее связан с другими деятелями культуры, список которых возглавлял Кокто, офранцузивший футуристическую формулу и, наряду с этим, притупивший ее остроту и дерзость. Пикантный, курьезный, насыщенный атрибутами современной жизни, этот новый бренд модернизма был скроен по меркам всего Парижа – или, по крайней мере, по вкусу тех, кто смаковал блюда, приготовленные Дягилевым, Рольфом де Маре и графом Этьеном де Бомоном. Начавшись «Парадом» и найдя свое продолжение в «спектаклях-концертах» Кокто, Шведском балете Маре, «Парижских вечерах» Бомона и дягилевском репертуаре после 1922 года, этот стиль совпадал с новым потребительским шиком высшего класса. Темой предыдущих страниц были преобразования в балете, хореографы которого блуждали далеко в стороне от классических традиций Мариинского театра. С этим, подсказанным жизнью, модернизмом берега отдалились настолько, что тот, от которого пустились в плавание первопроходцы, исчез из виду. Изобретенный авангардом, с презрением относившимся к прошлому, и пропагандируемый художниками, едва ли знавшими его, этот род модернизма демонстративно отвергал двойное основание классического наследия: саму технику классического танца и символическую многомерность практики, связанной с ней. Став неотличимым от других сценических зрелищ, балет утратил как свой выразительный язык, так и свой смысл.
Несмотря на то что описываемый вариант модернизма воспринимается как превалирующий стиль балета двадцатых, он представлял лишь одно направление в репертуаре труппы Дягилева. Другое направление, «ретроспективный классицизм», мало учитывается исследователями. Однако между 1921-м, годом постановки «Спящей красавицы», и 1928-м, когда Баланчин создал «Аполлона Мусагета», это направление оставило след почти на дюжине работ, отдававших дань grand siècle – эпохе, во французской истории примерно совпадающей с правлением Людовика XIV. Так же как Пикассо открыл для себя Энгра после авантюр кубизма, так и Дягилев в ходе своих футуристических экспериментов «переоткрыл» для себя величие французского классического прошлого. Осознав это, он привел Русский балет к глубоко консервативному феномену – отступлению многих художников и интеллектуалов в послевоенный период, особенно во Франции, с передовых рубежей авангардистского экспериментаторства.
Кеннет Силвер в своем увлекательном и смелом исследовании французского искусства 1914–1925 годов[308] проанализировал это отступление, выразившееся в возврате к фигуративным стилям и подчеркнуто национальным темам в качестве ответа на реакционную идеологию, которая была составной частью пропагандистских акций военного времени. Кокто, как мы видели, стоял в самом центре этой внутрикультурной перегруппировки, занимая «посредническую» позицию, позволяющую сохранять приверженность авангарду. Поворот в сторону консервативных тенденций ощущался и в музыкальном театре. Взрыв военных действий в 1914 году закрыл драматические и оперные театры, отправив молодое поколение профессионалов, от рабочих сцены до первых танцовщиков, в окопы. Поскольку война, вопреки ожиданиям, быстро не закончилась, а переползла на второй год, публика начала беспокоиться. «Нужно давать людям моральное успокоение, – сказал Жак Руше, директор Парижской оперы, корреспонденту “Мьюзикал Америка”, – и здесь ничто не может оказать больший психологический эффект, чем музыка, поднимающая дух»[309]. В 1915 году Опера начала давать утренние представления несколько раз в неделю. Эти концерты, описываемые Руше как «озвученная история драматической музыки», и благотворительные спектакли, число которых неизмеримо возрастало по мере того, как от года к году длилась война, стали идеологической основой «ретроспективного классицизма».
По контрасту с космополитическим характером довоенных программ, представления Руше военного времени были исключительно французскими и связанными с национальной историей. В порыве националистического угара немецкие композиторы были изгнаны со сцены, и публика слушала теперь Люлли, Детуша и Рамо – создателей французской оперы. Планировалось поставить также «балет-фантазию, в котором должен был быть показан Людовик XIV, сам танцевавший в балетах в молодые годы, и так называемые музыкальные ужины, развлекавшие его в зрелости». То, чему Руше платил щедрую дань, далеко не всегда оказывалось шедеврами. Исторической оправой концертов он возвеличивал аристократические и монархические традиции, связанные с grand siècle, когда Франция правила искусством, манерами и политикой всей Европы:
Мы представляем не только музыку иных времен, но также и обстановку, в которой она звучала. Репетиция «Эсфири», разыгранной дочерями из благороднейших семейств перед госпожой Ментенон; музыкальный вечер в доме Пуплиньера, покровителя Рамо; заседание Французской академии, на котором Баиф озвучивал свои оригинальные переложения на музыку ритмов поэтических строк Горация и Сафо, и концерт во дворце, в Компьене перед императорским двором[310].
Культурная ксенофобия не закончилась с наступлением мира. Одержимость классическим и монархическим прошлым Франции по мере перехода к мирной жизни только ширилась. Версальская мирная конференция породила вспышку интереса прессы к архитектуре, садово-парковому искусству, истории, а также осознание необходимости реставрировать замок, который, более чем какое-либо другое общественное сооружение, характеризовал эпоху Людовика XIV. В 1920 году в Версале распахнул свои двери Музей костюма, в следующем году в его залах можно было увидеть обширные выставки живописи Фрагонара и Ватто, а также постановку «Докучных» Мольера, в свое время предназначавшуюся для одного из празднеств «короля-солнца». Возрастал интерес к танцевальному искусству XVII и XVIII веков, и его кульминацией стала выставка в престижной галерее Шарпантье в январе 1923 года, где демонстрировались гравюры с изображением балетов, представленных при дворе «короля-солнца» и его внука Людовика XV[311].
«Спящая красавица» (точнее было бы говорить «Спящая принцесса» – так Дягилев переименовал балет Петипа) была первой постановкой, в которой проявились новые настроения. Хотя балет появился в Лондоне, он казался скроенным для Парижа, что подчеркивали многие французские критики, которые пересекали Ла-Манш ради премьеры, и многие британские критики, особенно среди интеллигенции, рассматривавшие эту постановку как измену Дягилева модернистским принципам. Более того, существовал план даже ранее премьеры привезти спектакль в Париж. 8 октября 1921 года Дягилев и Жак Руше подписали контракт, обязательным пунктом которого значился показ «Спящей красавицы» в Опере в мае следующего года[312].
Конечно, этого не случилось. Декорации и костюмы были конфискованы, и Дягилев спешно перебрался через пролив, скрываясь от преследовавших его кредиторов. Руше был в гневе. 26 апреля он писал ему:
Вместо «Спящей красавицы» Вы предлагаете показать фрагмент этой постановки – «Свадьбу Авроры». Вы понимаете, какая разница для билетной кассы будет при замене полностью новой постановки одноактным балетом… Я рассчитывал на безусловный коммерческий успех, ведь «Спящая принцесса» уже известна… по ее многочисленным показам в Лондоне грандиозными декорациями, костюмами авторства Бакста и калибром исполнителей… Решение, которое Вы предлагаете, несет сплошной урон: нет звезд, нет декораций, нет mise-en-scène…[313]
В конце концов Руше взял то, что смог получить. Премьера «Свадьбы Авроры», компиляции танцев из дворцовых актов «Спящей красавицы», с добавлением хореографии Нижинской, состоялась в самом престижном театре Франции 18 мая 1922 года. «Классический балет Мариуса Петипа, французского хореографа (1822–1910), представлен по случаю столетия со дня его рождения», – эта фраза в программе к спектаклю подчеркивала французские, классические корни балета.
Попытка Дягилева переиграть французов на их собственном поле – то есть возрождение картины величия французской монархии посредством шедевра из русского репертуара – провалилась. Однако имперская тема отнюдь не исчезла из его репертуара. Скорее наоборот: обосновавшись осенью 1922 года в своей новой штаб-квартире в Монте-Карло, зимнем пристанище для азартных игроков из числа респектабельных парижан, Русский балет стал уделять непропорционально много внимания «старому порядку», то есть временам королевского режима. В июне 1923 года, участвуя в благотворительном гала, организованном обществом «Друзей Версаля» для сбора средств на реставрацию дворцово-паркового комплекса, он поразил парижскую элиту великолепным зрелищем в Зеркальном зале – «Свадьбой Авроры», усилив для такого случая колорит эпохи процессиями и вокальными интерлюдиями. Окружающая обстановка не менее, чем размах «балета», делала его исполнителей причастными славы самого «короля-солнца». Этот «великолепный праздник» стал предвестием того, что станет для Дягилева образцом при планировании следующих программ. В 1924 и 1925 годах он осуществит постановку более полудюжины опер и балетов, использующих французские классические формы и темы. Немногие из них являлись подлинными произведениями прошлого: только «Искушение пастушки» (Les Tentations de Bergère) Мишеля де Монтеклера датировано той эпохой. Другие привносили grand siècle через произведения XIX века: «Неудачное воспитание» (Une Education Manquée) Эмманюэля Шабрие, «Филемон и Бавкида», «Голубка» (La Colombe) и «Лекарь поневоле» (Le Médicin Malgré Lui) Шарля Гуно. А иные – «Докучные» (Les Fácheux) и «Зефир и Флора» – были вновь созданными произведениями с классическими темами и названиями.
Немногие из этих работ точно повторяли оригиналы. В сознании Дягилева скорее они ассоциировались с поверхностным видением прошлого, пригодного для перестилизации современной палитрой. Чтобы сократить и переоркестровать существовавшие партитуры, он позвал Дариюса Мийо, Франсиса Пуленка и Эрика Сати. Жорж Орик, сочинивший отдельные музыкальные фрагменты для возобновления «Докучных» в 1922 году, был избран написать и балетную версию, в то время как партитуру «Зефира и Флоры» Дягилев заказал Владимиру Дукельскому. В визуальном ряду несоответствие между формой и содержанием было еще более разительным. За исключением «Филемона и Бавкиды» и «Лекаря поневоле», оформленных Бенуа, Дягилев доверил этот цикл классических работ модернистам. С участием Хуана Гри и Жоржа Брака, получивших львиную долю заказов Дягилева, это подношение монархическому прошлому с изрядной долей иронии отразило красоты авангарда.
Тем не менее эти работы никак не могут быть признаны экспериментальными. Как ничто другое, они придерживались традиционных способов изготовления оформления – живописных декораций, подчеркнуто исторических костюмов, общепринятого использования пространства сцены – всего того, от чего отказались конструктивисты и деятели Баухауса и чего сам Дягилев, по крайней мере частично, избегал во время Первой мировой войны. На самом деле, единственной связью этих постановок с авангардом являлись личности самих художников. Работа ни одного из них не была сотрудничеством в полном смысле слова. Скорее Гри и Брак оказались на положении наемных рабочих, взятых для воплощения готовой концепции Дягилева. В большинстве своем сделанное ими оформление было совершенно нетипично для их живописи, оно содержало лишь едва уловимый намек на то, что его авторы в недавнем прошлом – создатели кубизма. Будучи «визуализаторами» предуготованного замысла, они обнаружили, что сфера применения их изобретательности ограничена, что их возможности сводятся в основном к деталям и выражаются главным образом в тенденции к упрощению. Хотя оба, и Гри, и Брак, опирались на источники XVII и XVIII веков, в целом их эскизы оставались в пределах ретроспективизма. Андрей Левинсон писал:
В «Искушении пастушки» пренебрежение Гри к оптической иллюзии сводит декорацию к жесткой рамке. Его классический ум, естественно вовлеченный в очаровательные и бесполезные свободы стиля Регентства – эпохи Монтеклера, – берет за образец скорее Лебрена, чем Ватто. Розовый и фиолетовый поддельный мрамор колонн… вызывает в памяти пилястры Мансара в Зеркальном зале в Версале. Но и здесь Гри приуменьшает барочную помпезность Мансара, очертания картушей, контуры капителей до неких упрощенных формул. Нет сомнений, что Анри Беро мог бы обвинить его в янсенизме[314].
В «Искушении пастушки», как и в «Зефире и Флоре» и «Докучных» Брака, костюмы обнаруживали сходное смешение исторических и абстрактных элементов. Фасоны упрощались; края одежды заострялись для большей драматичности. В отделке возникали рельефные геометрические мотивы, вместо шляп появлялись нимбы и объемные полусферы. Вычурные парики завершали целое.
В то же время критики усматривали в костюмах многочисленные аллюзии на современную одежду. Венера, изображенная на интермедийном занавесе Брака для «Докучных», по замечанию Хоуарда Ханнея в лондонском «Обзервере», носила «поношенный пеньюар» богини, одетой по-домашнему. Эскизы костюмов к «Зефиру и Флоре» «по большей части были связаны с образцами современной моды», комментировал «Скетч». «Обзервер» оказался более обстоятельным в своей критике. Алисия Никитина – Флора была «одета в модную блузку, словно собралась прогуливаться по Елисейским Полям… Музы носили шикарные маленькие шляпки и серьги, придерживаясь моды, принятой на том единственном Олимпе, который они когда-либо знали – и который находился куда ближе к Довилю, чем к Фессалии»[315].
Если в костюмах для этих балетов исторические каноны и современные модные тенденции накладывались друг на друга, то это только выражало логику разнородности, господствующей в этом стиле в целом.
В этих работах, однако, художник и хореограф действовали изолированно, а подчас и с противоположными намерениями. В «Искушении пастушки» громоздкие декорации Гри с платформами разной высоты, казалось, больше мешают, чем помогают хореографическому замыслу Нижинской. Костюмы Брака к «Докучным» скрывали движения актеров, вынужденных их носить. «В них было очень трудно танцевать, – вспоминала Лидия Соколова. – Они были совершенно неподходящими, с тяжелыми плоскими шляпами, нависающими на глаза, и тяжелыми париками, все это придавало впечатление тяжести»[316]. При отсутствии творческого обмена хорошие идеи «уходили в песок». Среди них была и идея Брака, чтобы танцовщики исчезали на глазах у публики: все костюмы спереди соответствовали исторической эпохе, сзади же все они были коричневого цвета, и, поворачиваясь спиной, актеры должны были «раствориться» на фоне коричнево-охристого задника. Нижинская из каких-то соображений не обыграла эту задумку в своей хореографии. В результате, как заявил Кокто, «подлинным танцем в “Докучных” стала игра бежевых, каштановых и серых цветов Брака»[317]. Балеты этого периода – не плоды сотрудничества постановщиков, скорее смешиваемые в мыслях Дягилева коктейли, чей вкус и аромат создавался более художественным оформлением, чем танцем.
Ретроспективный классицизм едва ли был исключительной прерогативой Дягилева. Шведский балет, как и «Парижские вечера», также эксплуатировал французские исторические темы – впрочем, как и Парижская опера, – часто в тандеме с наиболее крикливыми и вульгарными проявлениями модернизма. Сценарий Ролана Мануэля для «Поединка» (Le Tournoi Singulier), поставленного в Шведском балете в 1924 году, черпал вдохновение из поэмы XVII века Луизы Лабэ «Спор безумия и любви». Работа была плодом модернизированной мифологии: Эрос становится жертвой Безумия в то время, как читает парижскую газету и грезит наяву о двух женщинах в боксерских трусах, играющих в гольф. В соответствии с темой, танцы Жана Бёрлина и костюмы Цугухару Фудзита сталкивали «старинный» и современный стили. Годом ранее «Парижские вечера» представили два произведения в классическом духе: «Салат», комический балет, помещенный в XVIII век, с постановочной группой, объединившей Мясина, Брака и Мийо, и «Жигу» с хореографией Мясина на музыку Баха и Генделя, в оформлении Дерэна. В «Жиге» просматривалось желание уловить дух grand siècle. Декорации Дерэна – ширма с изображением рощи, статуи и вазы, – писал Андрей Левинсон, стремились к «ироничному краткому изложению королевского, “барочного” представления». Хореография – со сверкающими заносками, быстрыми frappés и ronds de jambe sautés в заключительном па-де-труа – тоже тяготела к барочному стилю[318].
В Парижской опере танец также отдавал должное французскому прошлому. В 1924 году Фокин поставил «Сон маркизы» (Le Rêve de la Marquise), одноактный балет на музыку Моцарта, где временем действия был XVIII век. Двумя годами позже появился балет «Сидализ и сатир» (Cydalise et le Chèvrepied), возможно бывший ответом Руше на «Спящую красавицу». Эта «очаровательная вещь, изящная, как севрский фарфор, – писал Левинсон, – представляет собой игру анахронизмов и исторических парадоксов. Что важно, так это… грация увядающих вещей, их порочная и меланхолическая улыбка; не букет, а его аромат; не истинная правда, но воображаемое великолепие». Хореография Лео Стаатса, балетмейстера Оперы, менее вдохновенная, чем того требовала тема идеализированной сельской галантности, полагалась в основном на пантомиму. Но были здесь также и намеки на «Послеполуденный отдых фавна» Нижинского – в угловатых жестах и профильных позах фавнов, на «Дафниса и Хлою» Фокина – в «монологе», танцуемом и мимируемом Стираксом, и на его «Видение Розы» – в деликатно-чувственном «диалоге» стыдливой девицы и ее деревенского обожателя[319]. В 1925 году «Триумф любви» (Le Triomphe de l’Amour), придворный балет на музыку Жана-Батиста Люлли, появившийся на свет еще в 1682 году, «возвратился» в репертуар. Эта постановка с работой художника Максима Детома и хореографией Стаатса вызывала в памяти скорее дух, чем букву своего отдаленного предшественника. Наряду с прославлением классического прошлого Опера также уделяла внимание и недавнему наследию. В 1919 году «Сильвия» (с новой хореографией Стаатса) появилась вновь в Пале Гарнье; в 1924 году последовала «Жизель» (поставленная Николаем Сергеевым, бывшим режиссером балета Мариинского театра), а год спустя – одноактная версия «Ручья» (в хореографии Стаатса). Романтические пастиччо также нашли себе место в репертуаре: балет «Тальони у Мюзетты» (Taglioni chez Musette), воскрешавший в памяти музыку 1830-х годов, поставленный Стаатсом в 1920-м, и «Сюита танцев» Ивана Хлюстина – довоенные мечтания в духе «Шопенианы», восстановленные в 1922 году[320].
В целом ряде балетов этого периода, связанных с культурой и историей Франции, можно усмотреть импульс, родственный неоклассицизму, который возникнет во французской литературе и искусстве непосредственно в послевоенные годы. Я употребила слово «импульс», потому что дягилевская одержимость прошлым не распространялась на танец. Только в редких случаях, таких, как кода, придуманная Нижинской для «Докучных», и некоторые из ее танцев в «Искушении пастушки», в какой-то степени сближали хореографию с этим стилем. Однако даже здесь присутствовали пронзительно модернистские элементы: угловатые позы, неуклюжие жесты, позиции с параллельным положением ног. В «Докучных» Левинсон усмотрел также элемент пародии: танец для игроков в воланы (одной из участниц которого была Нинет де Валуа) напомнил ему насмешки Кокто над классической хореографией в «Новобрачных на Эйфелевой башне»[321]. Эти несоответствия, возможно, отразили дискомфорт Нижинской при общении с материалом. Но, поскольку со столь же раздражающим эффектом они появлялись в работах других дягилевских хореографов того периода, это наводит на мысль, что к середине десятилетия Дягилев утратил веру в способность балета освоить нечто более фундаментальное, чем присущую ему изначальную нелогичность.
Увлеченность классическим материалом в этот период имела своим истоком травму, связанную с войной и ее последствиями. В статье, опубликованной в 1924 году в «Нувель ревю франсез», Жак Ривьер говорил о кризисе романтической концепции в творчестве молодых писателей, томимых жаждой абсолюта, работающих под гнетом «радикального бессилия произвести что-либо, во что бы они поверили и что стоит хоть в чем-то выше, чем они сами, – нечто, сравнимое с творением Господа Бога»[322]. В балете тем не менее мало что можно было усмотреть от такого пессимизма. Легкомыслие, как ничто другое, стало характерной чертой искусства у Дягилева. Легкое обращение с искусством имело долгую и уважаемую историю. Но в Русском балете двадцатых легкомыслие, при том, что многое в нем угрожало высокохудожественным стремлениям, шло рука об руку с глубоко консервативными элементами. В контексте послевоенной Франции ретроспективный классицизм подразумевал нечто большее, чем вкус к мастерству, освященному традицией. Он суммировал взгляды общества, строго упорядоченного, аристократического и националистического, – последний фактор представлялся особенно существенным во времена протофашизма. Спаривание модернизма с социальными привилегиями было не только раздражающим альянсом, имевшим место в репертуаре двадцатых. В тенденциях, возникавших и исчезавших со скоростью смены сезонных фасонов одежды, балет сочетался с представлением о доступном шике, новой форме привилегий, созданной рынком; он стал «роскошным магазином», эксклюзивным салоном, задуманным, чтобы выставить в его витринах искусство разных стран с его сверкающим великолепием и тайными смыслами, понятными только посвященным[323].
Однако, по странной логике диалектических процессов, то же десятилетие, которое стало свидетелем отречения от самой идеи классического танца, оказалось причастным к ее возрождению. До недавних пор историки вели родословную неоклассицизма от «Аполлона Мусагета» Баланчина, поставленного у Дягилева в 1928 году. Затем этот отсчет перенесли на «Свадебку» и «Ланей» Нижинской, поставленных, соответственно, в 1923 и 1924 годах. Безусловно, они оказались старейшими из выживших работ, отождествляемых с неоклассицизмом, которые обнаруживают серьезное отношение к языку балета и аналитическому использованию этого языка. Однако в работах Нижинской нечто родственное неоклассицизму проявлялось даже ранее – одновременно с ее первыми модернистскими хореографическими опусами, осуществленными в России в десятые годы и в начале двадцатых. И феномен Нижинской не был уникален: элементы стиля возникали и у других советских хореографов того периода, включая Федора Лопухова и Касьяна Голейзовского. Для русского авангарда беспредметный модернизм, особенно в его конструктивистской ипостаси, по-видимому, стал главным катализатором балетного неоклассицизма.
Нижинская – не новичок на этих страницах. Однако только сейчас из вспомогательного персонажа, каким она была в предыдущих главах, Нижинская предстает как созидательница, творившая по своей собственной воле, – и это преображение тем замечательней, что она была одной из очень немногих женщин, сделавших карьеру в качестве хореографа. Решающими для ее становления были годы, проведенные в России, с 1914-го по 1921-й. Разлученная социально-политическими катаклизмами с братом, но окрыленная революционным пафосом нового искусства, она поставила свои первые абстрактные работы еще в 1919 году. Дягилев пришел к модернизму через футуризм. В случае Нижинской толчок, кажется, исходил от конструктивизма. Нижинская впервые встретила Александру Экстер, художницу-экспериментатора, стоявшую на переднем крае возникавшего конструктивистского движения, в Москве, вскоре после Октябрьской революции. Они быстро подружились и, когда Экстер открыла в 1918 году студию в Киеве (Нижинская жила там с 1916 года), стали тесно сотрудничать. Поиски Экстер в 1919–1920 годах нового типа искусства, которое было бы неизобразительным и прагматичным, отразились в экспериментах Нижинской той поры. Ее деятельность шла в двух направлениях: в хореографии Школы движения, студии, открытой ею в Киеве в 1919 году, и в теоретических размышлениях, вылившихся в трактат «Школа движения (Теория хореографии)», опубликованный в 1920 году. Как и постановки тех лет, трактат Нижинской оказался утерян. Но в родственном ему эссе «О движении и Школе движения» воспроизведены его основные идеи. Помимо прочего речь в нем идет о выразительности движения.
Конечно, концепция движения не является мыслью, неизвестно откуда возникшей в сознании хореографа. И идея Нижинской об этом представляется отчетливо конструктивистской в нескольких аспектах. С одной стороны, она откровенно использует метафоры, связанные с машинами, столь дорогими конструктивистам. С другой, она разделяет с ними мысль о движении как динамической силе, пронизывающей каждый момент работы и унифицирующей ее. С третьей, подобно конструктивистам, она анализирует форму «объективно» – что означает, что она рассматривает движение в понятиях его временных и пространственных свойств. В-четвертых, она излагает свой предмет как результат исследования, проводимого для открытия новых форм, что представляет собой экспериментальный подход, опробованный конструктивистами в постреволюционный «лабораторный период». В-пятых, она, кажется, без колебаний разделяет утопическую точку зрения конструктивистов – принимать движение за отражение бодрящего, возбуждающего начала современной жизни[324].
Наряду с идеей движения эссе Нижинской обнаруживает непоколебимую веру в классический танец. В отличие от традиционалистов (среди которых в первую очередь фигурируют Николай Легат и Аким Волынский), которые рассматривали классический танец как нечто неизменное, она воспринимает балетное прошлое как востребованное наследие. Она писала:
Современная школа сама должна расширять рамки, должна увеличивать технику до того уровня, который имеет современная хореография, отталкивающаяся от старых классических балетов… Сегодня балетные школы не дают танцовщикам необходимой подготовки для работы с новаторами в хореографии. Даже Русский балет… не создал школы, соответствующей его новаторству в театре. Танцовщики этой труппы всегда были приходящими из других театров и выученными мастерами старого стиля, которые воспитывали их в механике, слишком примитивной для требований хореографии сегодняшнего дня. Такие мастера сохраняли влияние стиля 1880–1900 годов… Бросающееся в глаза желание школы русского балета увести танцовщика от механики современного балета, чтобы лишить хореографа всех его новых свершений, кажется удивительным. В основе школы мы не видим ничего, идущего от Фокина, Нижинского и других. От хореографа, работающего для Дягилева, прежде всего требовалось отказаться от старой школы, но тем не менее расширить творческие возможности классического танца[325].
В «Свадебке» и «Ланях», созданных Нижинской для Русского балета в 1923 и 1924 годах соответственно, конструктивизм и неоклассицизм получили свое первое неоспоримое выражение на дягилевской сцене.
В 1921 году до Нижинской дошло известие о том, что ее брат помещен в психиатрическую лечебницу в Вене. Оставив студию на старшую ученицу, с матерью и двумя детьми она покинула Россию. В сентябре она присоединилась в Лондоне к Русскому балету, где полным ходом шла подготовка к возобновлению «Спящей красавицы». Двумя годами ранее, в Государственном оперном театре в Киеве, она поставила полностью «Лебединое озеро» Петипа/Иванова, которое знала по Мариинскому театру. Несмотря на это, позже она писала:
Решение Дягилева поставить «Спящую принцессу» оказалось для меня полным сюрпризом, поскольку это казалось отрицанием незыблемой «религии» балета, как он его понимал, и его стремления к созданию нового балета… Я начала мою первую работу полная внутреннего протеста. Я только что вернулась из революционной России, и, после многих моих постановок там, возобновление «Спящей принцессы» казалось мне полным абсурдом, скатыванием в прошлое, ничтожной затеей. Естественно, что то, чего я хотела и к чему рвалась, – так это возвратиться к прежним тенденциям балета Дягилева… в котором я воспитывалась с ранней юности…[326].
В дополнение к репетированию балета, восстановленного Николаем Сергеевым, который вывез из России записанные партитуры «Спящей» и других балетов Петипа, Нижинская внесла в постановку собственную хореографию: согласно печатной программе, «действенную сцену» и танцы в сцене охоты во втором акте, вариацию Авроры в том же акте и сказки – «Синяя Борода», «Шехеразада» и «Иванушка-дурачок и его братья» (позже «Три Ивана») – в третьем акте. Она также поставила четвертую волшебную сказку, «Фарфоровые принцессы», и предположительно вариацию Феи, добавленную Дягилевым в прологе[327]. Каковы бы ни были ее опасения, она все выполнила замечательно. Сирил Бомонт подвел итог ее вкладу:
Несколько лет прошло с тех пор, как Нижинская появилась в труппе Дягилева. Это позволяет серьезно поверить в то, что она пришла, чтобы напомнить, что она не менее значительна как артист, чем ее брат. Она также выдающийся хореограф, что она и показала постановкой дополнительных танцев в третьем акте [известном теперь как второй акт] и сказками: «Синяя Борода», «Шехеразада» и «Иванушка-дурачок»[328].
Для Нижинской, однако, хореография значила гораздо больше, чем просто постановка танцев. Подобно ее сестрам, танцовщицам-модернисткам, и ее братьям-экспериментаторам, она рассматривала всю постановку как «неотчуждаемую зону» хореографа. Чрезвычайно важно, что облик дягилевских балетов в двадцатые годы отражал видение их художников. В «Свадебке», однако, все пошло по-иному: хореограф, увеличивая свою постановочную инициативу, подчинил оформление танцу. Нижинская имела очень точное представление о том, как должен выглядеть балет, что стало причиной ее столкновения с Дягилевым. В 1922 году они вдвоем посетили мастерскую Натальи Гончаровой, художницы, избранной им для оформления балета. Позже Нижинская писала:
Там было не меньше восьмидесяти эскизов, все великолепно нарисованные, с яркими красками, театральные и по-русски богатые. Как мужчины, так и женщины были в тяжелых костюмах, длинные одеяния женщин волочились по полу, головы украшались высокими кокошниками, мужчины – с бородами, все в тяжелой обуви, сапогах и туфлях на массивных каблуках… Тело – инструмент танцовщика; облаченное в такой костюм, оно утрачивает способность к движению, как скрипка, вложенная в чехол. Эскизы Гончаровой показались мне полной противоположностью музыке Стравинского, да и моему хореографическому замыслу. Выйдя из мастерской Гончаровой, Сергей Павлович обратился ко мне: «Вижу, Броня, вы абсолютно спокойны. Я надеюсь, что костюмы для “Свадебки” вам понравились».
«Честно говоря, – ответила я, – сами по себе эти костюмы великолепны и, может быть, были бы хороши в русской опере, но совершенно непригодны для любого балета, особенно для “Свадебки”. Они никоим образом не отвечают ни музыке Стравинского, как я ее слышу, ни тому, как я уже вижу “Свадебку”».
«Стравинский и я, однако, – возразил Дягилев холодно, – одобрили костюмы Гончаровой. Так что, Броня, я не даю вам постановку “Свадебки”».
«Прекрасно, Сергей Павлович, – был мой ответ, – это как раз то, что я хотела сказать – при таких костюмах я не могу сочинять хореографию для этого балета»[329].
Дягилев отложил проект до следующей весны, когда он неожиданно объявил, что намеревается показать балет в Париже. Удивительно, но теперь он дал Нижинской полную свободу. Она снова выдвинула условия: «Здесь не должно быть никакой красочной живописности напоказ… Я предполагала, что костюмы будут предельно простыми, как и все остальное». Дягилев кивнул и заказал новое оформление Гончаровой[330]. Нижинская мыслила себе работу в чисто конструктивистских понятиях. Декорации были серо-голубыми с одним только абрисом окна, чтобы избежать монотонности. Были также скамейки для родителей, а в четвертой картине – платформа, с которой они и новобрачные смотрели сверху вниз на буйное веселье своих гостей. Костюмы также были строгими: коричневые передники и белые блузки у женщин; коричневые брюки и белые косоворотки у мужчин – обобщенные образы повседневной деревенской одежды. Мрачные, однообразные, неиндивидуализированные костюмы, подобно мужчинам и женщинам, носившим их, создавали впечатление безликой крестьянской массы. На самом деле, костюмы имели поразительное сходство с пролетарской одеждой, использованной Мейерхольдом в «Великодушном рогоносце», обозначившем начало конструктивизма в театре в 1922 году, и группами «Синей блузы», распространившимися в России в большом количестве в первой половине двадцатых годов. Нижинская предпочитала для костюмов голубой – цвет распространенной грубой хлопчатобумажной ткани для рабочей одежды – коричневому, но уступила желанию Гончаровой. Коричневый, как чувствовала художница, подчеркивал сходство людской общности этого балета с землей[331].
Андрей Левинсон, в своей ядовитой рецензии на балет, определил хореографию Нижинской как «марксистскую». В частности, он обвинил ее в пренебрежении личностью ради массы: в «поглощении танцовщика» толпой, писал критик, она «сровняла с землей» свое искусство[332]. «Свадебка», на самом деле, оказалась предсказанием утраты индивидуальности как таковой. Невеста с женихом и пары их родителей не имеют влияния на свою судьбу; безвольные, они – жертвы высшей силы. Внутри обезбоженного универсума этого балета рок представлен пластической архитектурой, которая расшифровывает тему социального предопределения. Нижинская собирает свой ансамбль в человеческие пирамиды, сомкнутые фаланги, курганы, клинья – монолиты, ужасные, как крестьянские обычаи старой Руси, где дочь отрывали от матери и выдавали замуж. «Весна священная» также была построена на образе толпы, была трагическим произведением и, как теперь становится ясно, предшественницей и предсказательницей «Свадебки». Но Нижинская пошла намного дальше ритуальных построений своего брата. Полностью абстрактная, ее пространственная архитектура придает танцу беспредметные формы конструктивизма. Такими формами изобилуют записные книжки и рисованные схемы Нижинской того периода. Начерченные на разграфленной бумаге, эти схемы абсолютно геометричны, как если бы пространство сцены представляло собой замкнутый квадрат, заполненный абстрактными формами. Часто встречаются закругленные фигуры – сегменты круга, дуги, петли, сферы. В других случаях они приобретают форму клиньев, треугольников и квадратов, что идет прямо от полотен Малевича или Татлина. Некоторые из этих форм возникают в скоплениях человеческих масс «Свадебки».
Эти образования масс обнаруживают влияние конструктивизма и иным образом. Движение долго являлось одним из основных «ингредиентов» русского авангардистского театра. В ранние советские годы режиссеры, такие как Мейерхольд, свободно заимствовали движения из арсенала гимнастики, как поступали и группы Синей блузы, которые сделали «акробатический» и «физкультурный» танец важной составляющей своих скетчей. Пирамида, которой завершается «Свадебка», имела массу советских аналогий: от «оратории» «Синей блузы» – драматической формы, в конце которой актеры выстраивались в симметричные фигуры, изображавшие символы (звезда) или моделировавшие производственные объекты, – и до биомеханического упражнения Мейерхольда «построение пирамиды», которое могло включать нескольких актеров и завершаться комплексом башен[333]. Кто знает, как много других поразительных конфигураций этого балета имеют свои корни в связанных с движением экспериментах первых советских режиссеров?
Притом что «Свадебка» не была сюжетным произведением, она содержала повествовательные элементы. «Вы помните первую сцену? – спрашивал Дягилев. – Мы в доме невесты, она сидит на большом русском стуле, на сцене, сбоку, ее подруги расчесывают ей волосы и заплетают косы…» – «Нет, Сергей Павлович… стул не нужен, расчесывания не нужно, а гребня и подавно»[334]. Нижинская безжалостно очистила балет от повествовательности, как и от «русско-боярского» колорита. В результате появилось обобщенное произведение, в котором названия четырех картин – Благословение Невесты, Благословение Жениха, Проводы Невесты и Свадебный Пир – обозначали, по сути, чисто хореографическое содержание. Нижинская позже описывала конфликт с Дягилевым, произошедший из-за либретто:
В моем театре в революционном Киеве в 1920 году мои первые работы – «Двенадцатая рапсодия», «Мефисто-вальс» Листа – были «без либретто». Дягилеву такая идея не нравилась… «[Это] не балет, – он обычно говорил, – это какая-то абстрактная идея, симфония. Это мне чуждо». Он не был готов к отказу от самой идеи литературного либретто для балета. Однако в противовес этому, с большими усилиями, я смогла внести мои идеи о форме балета, как я их себе представляла, в постановки, осуществленные с Дягилевым. Эти мои балеты… исходили из отрицания литературного либретто, имея в своей основе чистую танцевальную форму, соединенную с новым видом композиции. «Свадебка» была первой работой, где либретто было внутренней темой для чистой хореографии; это был хореографический концерт[335].
В то же время «Свадебка» обнаружила новое и бесспорное движение в сторону обновления классического танца как актуального наследия, что впоследствии станет кредо Нижинской. Большинство движений этого балета принадлежало традиционному классическому лексикону. Почти все они, однако, были искусно изменены. В первой картине, где подруги манипулируют многометровыми косами невесты, символизирующими ее невинность, стопы танцовщиц перекрещиваются и возвращаются в исходное положение быстрыми па-де-бурре, причем акцент пуантов направлен в пол, главным оказывается острый удар вниз, а не подъем коленей вверх. Ее намерением, говорила Нижинская, было вызвать ассоциацию с процессом плетения. Но эта движенческая перкуссия передает также боль и насилие, сопровождающие половое сношение, в которое вступят брачующиеся, удалившиеся на постель перед финальным опусканием занавеса – действие, являющееся кульминацией всего праздничного дня. Критик Эдвин Дэнби видел балет в 1936 году, когда он был возобновлен Нижинской в Русском балете Монте-Карло полковника де Базиля. Он писал:
Удивительно, сколь мало движений-мотивов использовано и присутствуют только наиболее ясные группировки и переходы от одной группы к другой, служащие тому, чтобы разрядить ритм. То, что все эти движения-мотивы должны быть с акцентом в пол, ведет к такому интересному результату, что танцовщики, которым гораздо ближе другое направление, делают эти движения с удивительной непосредственностью; так, что прыжки кажутся выше; что, сверх того, «пуанты» получают особый смысл и жесткость (почти в форме чечетки)… и, затем, эта направленность движений в пол придает сгруппированным телам значение большее, чем просто декоративное, а условной пирамиде в конце – эффект героических усилий, преодоления реальной трудности[336].
Вновь и вновь Нижинская «заземляет» воздушное: прыжки скорее сдаются перед тяжестью притяжения, чем бросают ей вызов; тела, собранные в массы, изогнуты, как от столетнего непосильного труда. Фокин использовал руки, чтобы раскрыть тело. Нижинская, напротив, использует их, чтобы держать тело под контролем. Такой несвободой тела Нижинская придает индивидуальный смысл всеобщей социальной трагедии этого балета.
Приверженность классическому танцу в «Свадебке» проявляется наиболее очевидно в использовании пуантов. Ранние модернисты имели тенденцию к устранению «пальцев»: не такова Нижинская. Как подчеркнул Дэнби, она придает им «особую значимость», используя «выстукивания сродни степу» и «жесткость», которые противоречат обычному их применению. Но это только поверхностный слой достигнутого Нижинской. В балете метафора пуантов важна так же, как и сама их техника. Действительно, начиная с романтизма женственность, воплощенная в возвышающем подъеме на пальцы, являлась центральной темой балета. «Свадебка» бросила вызов этой идеологии. Балет говорил скорее о мужской силе и женском страдании, чем о женственности; стучащие пуанты, «мужские» в своей неудержимости, разыгрывали, если можно так выразиться, драму сексуального проникновения. На протяжении всего балета хореография и впрямь стремится к «безгендерному» языку. Мужчины и женщины исполняют одинаковые па и наделяют эти па одними и теми же качествами. В руках Нижинской различия полов не имеют отношения к хореографическому воплощению судьбы.
Как и у брата, искусство Нижинской было обращено к глубоко личным навязчивым мыслям. В его случае здесь нашли отражение двусмысленности сексуальной сущности; в ее – получила выражение изначальная трудность с установлением различия между полами. Это не говорит о том, что Нижинская была феминисткой. Но все же тот пессимизм, с которым она рассматривает гетеросексуальные физические отношения, не говоря уже о самом браке, наводит на мысль, что в работе над «Свадебкой» присутствовало нечто родственное феминистскому пониманию. Вглядимся в обстоятельства ее жизни того периода: недостатки, связанные с внешностью (в чем ее обвиняли критики); положение разведенной (она выгнала мужа, после того как узнала, что его возлюбленная беременна), содержащей двух малолетних детей и престарелую мать; тот факт, что она выполняла мужскую работу; женоненавистничество близкого круга Дягилева. В ее описании этого балета вопросы пола выдвигаются на первый план:
Действие «Свадебки» происходит в крестьянской семье в старой России. Я видела драматизм свадебных церемоний тех времен в судьбах невесты и жениха, так как выбор сделан их родителями, у которых они находились в полном подчинении, и тут не могло быть и речи о какой-то взаимности чувств. Девушка вообще ничего не знала о своей будущей семье, как и о том, что ее ждет. Она была принадлежностью не только своего мужа, но и его родителей. Возможно, что она, после любви и заботы в отчем доме, могла оказаться в своей новой, грубой семье никем – разве что полезным дополнительным работником, лишней парой рук. Душа невинной в смятении – она должна сказать «прощай» своей беззаботной юности и своей любящей матери. Со своей стороны, молодой жених не может предположить, что за жизнь принесет ему близость с молодой девушкой, которую он едва ли знает, если знает вообще. Как могут такие души ликовать и веселиться на брачной церемонии; они глубоко погружены в свои мысли… С самого начала я видела «Свадебку» именно так[337].
В «Ланях», созданных через шесть месяцев после «Свадебки», тема соотношения полов получит выражение в эротической и аналитической форме. Здесь Нижинская на самом деле с треском взломает гендерные стереотипы классического балета, превратив произведение о шике двадцатых в критику сексуальных нравов. Этот балет, как мы уже говорили, своим возникновением обязан Кокто, автору первоначального сценария. В балете была мелодичная музыка Пуленка, были пастельные декорации Мари Лорансен – фаворитов дягилевского круга. Таких персонажей без труда можно было найти в модной среде: блистательные молодые девицы, похожие друг на друга, как манекенщицы Шанель; жиголо; хозяйка салона; пара молоденьких лесбиянок; пара, занятая эротической игрой. Событие – домашняя вечеринка (отсюда английское название балета – House Party) – было в равной степени признаком светской жизни.
Если декорации для «Свадебки» были асексуальными, то для «Ланей» (другой перевод названия с французского – «Милочки») они были чувственно женственными. Балет начинался в мареве розового света. Игровой занавес в типичных для Лорансен пастельных тонах – серых, голубых, оранжево-розовых, розовато-лиловых – изображал женщин в дезабилье, вписанных в круг с животными-любимцами – лошадьми и ланями: сцена, полная эротических ассоциаций. Задний план добавлял присутствие мужского начала: голубой холм с выступающим фаллическим острием на розовом фоне. Костюмы повторяли эротизированную палитру декораций. Ансамбль женщин был одет в розовое; мужчины и Гарсон (Garçonne) – в переводе с французского девчонка-сорванец, «холостячка», «неженственная» девушка – в синем. Софа, место эротических игр в балете, также была синей. Говорили, что Дягилев выбрал Лорансен для «Ланей» потому, что ее искусство представляло «то же двусмысленное смешение невинности и порока», как и балет[338]. Он не предвидел лишь того, что «неумеренная и асоциальная» Нижинская (его слова) превратит постановку в изображение порока во всем разнообразии его форм[339].
«Лани» использовали множество запретных тем – нарциссизм, вуайеризм, эротическая власть женщины, кастрация, лесбиянство – с прямотой, ранее не виданной на балетной сцене. Одиннадцатью годами ранее, в «Играх», во втором изложении своей эротической автобиографии, Нижинский открыл эту тему для обсуждения. Но там, где его балет обнажил страдание мужчины, не уверенного в своей сексуальной сущности, «Лани» выразили пессимизм женщины, испытавшей неприязнь в отношениях с мужчиной. Для Нижинской секс был товаром, тщательно упакованным и выставленным на продажу в эротическом универсальном магазине, шикарном салоне, где происходило действие балета. В этом серале женщины любуются сами собой, выставляя напоказ привлекательные колени, стройные ноги, соблазнительные плечи. Соперничество – их привычное дело. «Посмотри на меня», – как будто воркуют они. Но это бесполезно, так как, видимо, мужчины, которых они ищут, отсутствуют. В конце концов мужчины появляются, но какие! – три поигрывающих мускулами атлета, больше очарованные своими достоинствами, чем девушками, пытающимися их завлечь. Не то чтобы атлеты Нижинской были совершенно невосприимчивы к женскому очарованию. Здесь есть загадочная Девушка в синем, чья холодность возбуждает мужскую страсть в те моменты, когда она позволяет завоевывать себя. И еще здесь есть Хозяйка, главенствующая фигура, испытывающая удовольствие от общения со всеми троими. Только две юные девушки в сером – простодушные лесбиянки – сторонятся этой «гонки с преследованием». Обособившиеся от любовных пар и троек этого балета, они привносят ту самую «взаимность чувств», упомянутую Нижинской в качестве брачного идеала.
В известной мере все балеты есть спектакли о выступлении на публике и о производимом на нее эффекте. Нижинская доводит это до логического завершения, представляя нам критику нарциссизма и вуайеризма, замещающих занятия сексом. Вновь и вновь она использует руки, чтобы привлечь внимание к эрогенным зонам тела: ее манекенщицы вышагивают с одной рукой на плече; Девушка в синем касается рукой лица или, стоя в арабеске, кладет обе руки на бедра. Атлеты, в свою очередь, поднимают руки над головой, как чемпионы-штангисты. Более того, на протяжении всего балета танцующие пристально рассматривают друг друга, затем направляют взгляды в публику, находясь в позах, полных соблазна и неутоленного желания: на балетной сцене редко можно было увидеть взгляды, столь откровенно обнажавшие сексуальные устремления. Эти взгляды выносили на поверхность эротический характер спектакля самого по себе и пронизывали даже самые каноничные формы само́й балетной структуры. В па-де-де Нижинской, например, партнеры рассматривают вариации друг друга не стоя сбоку, как обычно принято, но на виду у публики. Здесь, как и во время флирта Хозяйки с атлетами, Нижинская использует бравурный танец для разжигания интереса «покупателя», выставляя сексуальный товар на продажу.
Перераспределение территорий, принадлежащих разным полам, в то десятилетие определенно было устойчивой темой моды в одежде, как и в искусстве. Но Нижинская пошла дальше, чем любой другой ее танцевальный современник. Если те просто пародировали балетные стереотипы, то она взламывала сам код разделения полов в классическом балете – условности языка, стиля и формы, традиционно определявшие мужское и женское начало. В «Свадебке» пуанты использовались, чтобы имитировать насилие брачного ритуала. В «Ланях», напротив, ироничное использование пуантов связывает хорошо знакомые танцевальные приемы с наиболее расхожими формами женского поведения вообще. Кордебалет Нижинская заставила ходить на пальцах «на полном подъеме», и эта «ходьба» стала балетным эквивалентом походки манекенщиц во время дефиле – умышленной, деланой, притягательной. Но у этого па, смысл которого самоочевиден, была долгая история, если иметь в виду бесчисленные вариации Петипа, где балерины бегали, подскакивали на одной ноге и прыгали на пальцах, демонстрируя «колоратуру пуантов». Искусственность гарцующей походки Нижинской вкупе с самолюбованием намекала на то, что женственность ее очаровательных девиц исключительно поверхностна, что она – лишь еще одно ухищрение, подобное макияжу, детально разрабатывавшееся в течение длительного времени мужчинами и не являющееся врожденной женской собственностью. Мужской танец она рассматривает в таком же «деконструктивном» ключе. В антре трио атлетов исполняет антрашасисы и двойные туры в воздухе – постоянные атрибуты виртуозного мужского танца. Но вместо того, чтобы использовать их так, как делал Петипа, с нарастанием, она заставляет танцовщиков выдерживать паузу после каждого па, выставляя напоказ их претенциозность. Мужчины, словно бы говорит она, это павлины, их мужественность – только напыщенная поза. К тому же культуристы, одетые ею в одинаковые костюмы, танцуют всегда в унисон, представленные как клоны, бездумные соглашатели. Она развела биологические основания для разделения полов и социальную реальность их сексуальной идентичности с мастерством и ловкостью, тем более замечательными, что проделано это при помощи канонических форм балета.
В отличие от большинства хореографов-современников Нижинская опровергала мысль о том, что биология неизбежно определяет судьбу. В «Ланях» по крайней мере два ее персонажа – Хозяйка и Гарсон (Девушка в синем) – пересекают границы пола: обе они – женщины, ведущие себя как мужчины. Наиболее интригующей из этих двоих оказывается Хозяйка (ее роль исполняла сама Нижинская) – сильная, решительная женщина, охотящаяся за сексуальными партнерами. Как и мужчины, эта «пчела-матка» танцует в мягких мужских балетных туфлях, а не на пуантах. И танцует она тоже как мужчина: ее полетные прыжки и заноски – «обязательное блюдо» мужской хореографии. Контраст между подчеркнутой женственностью ее аксессуаров (высокое страусовое перо, нити жемчуга а-ля Шанель, длинный мундштук с папиросой) и подобием исполняемых ею танцевальных структур мужским – один из приемов балета, ниспровергающих стереотипы: Хозяйка есть мужчина, заключенный в тело женщины. Не менее дерзкой и вызывающей оказывается Девушка в синем, которая, при своей мальчишеской привлекательности, относится к гетеросексуальному альянсу, как опытная женщина легкого поведения. Ее выход, па-де-бурре по кругу, задает тон последующему дуэту – холодному, бесстрастному и механистичному. Па-де-де, сочиненное Нижинской, базируется на традиционных канонах. В нем есть адажио с «обводками» и демонстрацией устойчивости в арабеске, пара вариаций и кода, венчающаяся позой на плече, перекликающейся с адажио в картине «Теней» из «Баядерки» и па-де-де из «Щелкунчика». «Вы выводите на сцену мужчину и женщину, и это уже сюжет», – сказал однажды Баланчин. В великих балетах XIX века таким сюжетом была романтическая любовь, соединение мужчины и женщины в образе согласия чувств и мыслей. «Лани», напротив, разводят внешние признаки любви с ее подлинной сущностью. В большинстве дуэтов партнеры даже не обмениваются взглядами. Они проходят все фазы любовных игр, но остаются полностью разъединенными – это секс без единения. При показе любви, разведенной с общепринятыми представлениями, Нижинская также подчеркивает стилизованный эротизм балерины: ее бесстрастную, подавляющую красоту, магию самодостаточной техники, властный характер и изощренные уловки. Девушка в синем – скорее даже не мальчишка, из соображений пристойности представленный девчонкой, а балерина старой школы, затесавшаяся на вечеринку трансвеститов, или же переодетый мужчина, оказавшийся на самом деле женщиной.
Трудные поиски Нижинской, связанные с традиционным представлением о женственности, обнаруживали себя в ее работах вновь и вновь. При постановке «Петрушки», например, она изменила смысл роли Балерины. Если Фокин в оригинале высмеивает в этой роли самодовольный показ пустой виртуозности, то Нижинская понимает эту роль как абсолютно гротесковый образ женственности. Собственная исполнительская карьера Нижинской предлагает не одну гендерную аномалию. В том столетии, в котором уже редко можно было увидеть женщин, выступающих в амплуа травести, Нижинская исполнила несколько мужских ролей, большинство из которых сочинила сама. Первый случай произошел по настоянию Дягилева. Тем не менее мысль взять на себя роль брата в «Послеполуденном отдыхе фавна», роль, создававшуюся при помощи ее собственного тела, полагает нечто большее – а именно: с самого начала карьеры хореографа ей пришлось вселиться в тело Нижинского, чтобы изжить его творчески; ей буквально нужно было стать братом, чтобы стать самой собой. Возобновление «Фавна» состоялось в 1922 году. Двумя годами позднее она заменила Станислава Идзиковского в роли Лизандра, танцмейстера в «Докучных». В 1930-е годы, намного позже того, как она покинула Русский балет, она сочинила для себя две мужские роли: Педролино в «Ревности комедиантов» (Les Comédiens Jaloux, 1932) и заглавную роль в «Гамлете» (1934). В это десятилетие она также создавала для себя блестящий маскулинизированный образ: на нескольких портретах Нижинская во фраке а-ля Дитрих. За кулисами она в не меньшей степени, чем на сцене, издевалась над противопоставлением полов. Полно иронии то обстоятельство, что недвусмысленный образ женственности, возникающий в «Ланях», ассоциируется с девичеством. Дружба девушек в сером безыскусственна, нежна, искренна. Финал их дуэта приводит к пониманию: такое проявление чувств имеет в мире взрослых определенное название, и название далеко не симпатичное. К моменту наступления коды эти двое присоединяются к толпе гарцующих кокеток. Можно почувствовать, что подлинной травмой жизни Нижинской был процесс становления женщиной, и это происходит с Невестой в «Свадебке»: она осознает, что тепло материнских рук сменяется неопределенной опорой в лице мужа, и обнаруживает, что лишается всего, что люди считают истинно женскими качествами – грации, очарования, красоты. Только настоящая женщина могла создать «Лани».
Третьей значительной постановкой Нижинской для Дягилева стал «Голубой экспресс». Но в данном случае она оказалась «связанной» сотрудничеством с человеком совершенно других воззрений. Кокто, как и Нижинская, был увлечен вопросами пола, о чем можно судить по его блистательному эссе о Барбетте, американском воздушном гимнасте, выступавшем в женском наряде. Взгляд Кокто на женщин был, однако, скептическим. «В творце, – писал он в “Петухе и Арлекине”, – всегда, по необходимости, есть мужчина и женщина, и женщина почти всегда невыносима»[340]. Нет ничего удивительного в том, что работа над «Голубым экспрессом» оказалась нелегкой. На самом деле, постановочный процесс был отягощен страданиями с обеих сторон. Закулисная драма началась с первой репетиции, на которой Кокто отсутствовал. Он писал Дягилеву в феврале 1924 года:
Самое лучшее мне было бы подождать вас и вернуться вместе с вами. Узнайте у Нижинской ее мнение обо мне. Я не двинусь без того, чтобы быть уверенным, что она собирается слушать меня, так как смехотворные дипломатические игры бесполезны. Я вовсе не настаиваю, чтобы мое имя появилось в программе в качестве режиссера… но, в обмен на это, я настаиваю на том, чтобы быть услышанным[341].
Нижинская последовала некоторым указаниям Кокто. Гимнастический привкус, которого он и хотел добиться, имели танцы, усеянные кувырками, стойками на руках и подъемами с бросками тел, так же как и ее пластические изобретения, включавшие движения, заимствованные из плавания и других видов спорта. Но она внесла и некоторые корректировки. Па-де-де для играющих в теннис, например, ушло от комического флирта и переросло в любовный дуэт, был также добавлен ряд сюжетных моментов для прояснения либретто. Все шло нормально до тех пор, пока труппа не прибыла в Париж для последних репетиций. Кокто, впервые увидевший балет, был в негодовании: Нижинская извратила его замысел. Что произошло в последующие дни, мы, вероятно, теперь уже никогда не узнаем. По свидетельству Бориса Кохно, он вмешивался вновь и вновь, прерывая репетиции высокомерным тоном и заменяя пантомимными сценами танцы, сочиненные Нижинской. Однако Антон Долин, ради которого Кокто и задумывал этот балет, настаивал на том, что Кокто хотел больше танцев, по крайней мере для него. Нижинская же, когда он, Долин, сидел в своей артистической уборной перед началом спектакля, все еще давала руководящие указания актерам[342].
Возможно, оба свидетельства справедливы. Однако Кокто, мнивший себя хореографом, никогда не питал настоящей любви к танцу. Что его пленяло, так это спектакль жеста, движение как непроизнесенная речь. Нижинская, в свою очередь, кажется, не имела большой любви к мужскому телу, или, уж если касаться этой темы, к мужчинам вообще. Конечно, она сочиняла для них хореографию, но не в ее правилах было создавать что-то особо возвышающее их таланты, что традиционно делали Кокто и Дягилев для миловидных юношей, привлекавших их взгляды. Исследователи Кокто имеют обыкновение утверждать, что акробатизм и ироничное использование форм классического танца в «Голубом экспрессе» исходили исключительно от него: ничего из этого, утверждают они, не было ранее в работах Нижинской[343]. Но это явное нежелание видеть того, что существует в ее хореографии: гимнастической стихии, которая проявляется столь явно в архитектонических конструкциях «Свадебки», иронии по отношению к классическим формам, которой отмечены все узловые танцевальные моменты «Ланей». В одном из эпизодов «Голубого экспресса» Долин делал двойной пируэт, уходил в кувырок и затем прыгал на «рыбку» – это была комбинация-отражение одной из ряда блистательных кульминаций свадебного па-де-де из «Спящей красавицы», которой Кокто, что следует особо подчеркнуть, не видел. В «Быке на крыше» и «Новобрачных с Эйфелевой башни» он пародировал балетный танец, но делал это, используя поверхностные, бросающиеся в глаза признаки. Только Нижинская имела достаточные технические средства – не говоря уже о ее аналитическом уме, – чтобы извлекать иронию из языка и традиций самого классического танца. Только Нижинская могла изобрести комбинацию «пируэт – кувырок – рыбка», посредством которой Долин приземлялся, подобно транссексуальной Авроре, на руки Дезире, одетого как принц Уэльский.
Неоклассицизм в постановках Нижинской 1920-х годов представлялся как явление, побочное модернизму. Частично это отразилось в «упаковке» ее хореографии, обертке, которая идентифицировала «Свадебку» с неопримитивизмом, а «Лани» и «Голубой экспресс» – с модернизмом как стилем, идущим от образа жизни. В большинстве своем непонимание значимости достигнутого Нижинской отражает ограниченность западных критиков, не знакомых с советскими танцевальными тенденциями. (Исключением являлся Андрей Левинсон, покинувший Советскую Россию в 1919 году, но он был таким противником экспериментаторства, что его суждениям вряд ли можно полностью доверять.) Игнорируя ожесточенные споры, происходившие в Москве и Петрограде, немногие могли понять характерные особенности работ Нижинской или занимали срединное положение между послереволюционными «футуристами», стремившимися покончить с балетом полностью, и «реакционерами», желавшими «заморозить» его (по ее собственному выражению) в той форме, в которой он пребывал в 1890-е годы. Немногие улавливали и оценивали ее аналитическое отношение к классическим формам: если западные критики ничего не знали о Лопухове и Голейзовском, то, за исключением горстки британских критиков, чуть больше они знали и о Петипа. Только в последние несколько лет вклад Нижинской в развитие неоклассицизма, замалчиваемый в течение половины столетия, получил всеобщее признание.
Нижинская покинула Русский балет в январе 1925 года. Тому было несколько причин, в том числе неприятности, которые она испытала в связи с постановкой «Голубого экспресса» (когда Дягилев принял сторону Кокто в предпремьерной драме), и желание создать собственную труппу. Появление молодого хореографа, угрожавшего занимаемой ею позиции в труппе, также сыграло свою роль. Юный Джордж Баланчин, присоединившийся к Русскому балету осенью 1924 года, являл собой приток свежих сил. Всего лишь двадцати лет от роду, он уже имел за плечами целый ряд работ. К 1923 году его экспериментальные постановки позволили ему появиться на обложке журнала «Театр» и встать в оппозицию к таким несгибаемым консерваторам, как Аким Волынский. В следующем году с маленькой группой, громко величавшей себя «Ведущими танцовщиками Русского государственного балета», он отправился на гастроли в Германию. Группа, в которую вошли Александра Данилова, Николай Ефимов и Тамара Жевержеева, решила остаться на Западе и поначалу спаслась ангажементом в Лондоне. Там, в Эмпайр Тиэтр, их увидели Долин и Кохно и сообщили Дягилеву, постоянно занятому поиском талантов, о «ведущих танцовщиках», тем более что среди них оказался еще и хореограф. Телеграмма от импресарио, настигшая артистов в Париже, приглашала их на просмотр уже на следующий день. Не позднее чем через неделю все четверо участников советской группы присоединились к Русскому балету.
Сегодня, когда имя Баланчина стало синонимом неоклассицизма, мы не должны забывать, что начинал он как модернист. На самом деле, в его работе для Дягилева в 1920-е годы проявились многие наиболее характерные и чаще всего подвергавшиеся критике направления того десятилетия. С самого начала карьеры Баланчина на Западе критики отмечали засилье акробатизма в его работах. На «прямую связь с низким мюзик-холльным акробатизмом» указывал Андрей Левинсон в связи с постановкой «Песни соловья» (1925), первого балета Баланчина для Дягилева. «Пастораль», поставленная в 1926 году, также напрашивалась на подобные комментарии. Ее сюжет, отмечал анонимный рецензент «Таймс»,
дает возможность представить новое гимнастическое направление, которое совершенно напрасно, как я думаю, упорно осваивает труппа. Упражнения на этот раз были разработаны господином Баланчиным. Следует признать, что многие из них искусны, особенно танец для господина Славинского и дуэт для господина Лифаря (телеграфист) и госпожи Фелии Дубровской (звезда). Они были забавно и блестяще исполнены. Правда и то, что они похожи на акробатические танцы, уже несколько лет закрепившиеся в мюзик-холле: здесь можно обнаружить и легкую пародию, а техническая сторона исполнения, особенно у госпожи Дубровской, была замечательной[344].
Левинсон, описывая некоторые из этих «упражнений», заметил, что они расширяют технические возможности па-де-де:
Месье Баланчин может гордиться собственными дополнениями к полученному наследству. Его пародия на классическое па-де-де… обновляет сам жанр. Курьезное адажио с юмором использует «преувеличенно» длинные линии… мадемуазель Фелии Дубровской; développés, проходящие над головой кавалера, подобные хореографическому шлепку, и обводка, когда танцовщик поворачивает Звезду за ее икру, представляют собой искажения, которые весьма забавляют[345].
Источник этих «искажений» представляет предмет особого рассмотрения. Конечно, в послереволюционные годы советские хореографы, включая Голейзовского и Лопухова, творчеством которых восхищался юный Баланчин, использовали акробатические элементы – высокий подъем ног, необычные поддержки – для расширения возможностей хореографии. На Западе, однако, эксперименты в этой сфере были устремлением коммерческой сцены. Там можно найти шпагаты, «колеса» и подъемы над головой в экспериментальных балетах Лопухова; «мостики» и стойки на руках в постановках для ревю Мясина; недопустимо близкое друг к другу расположение партнеров в дуэте и высокий подъем ног в ранних концертных номерах Баланчина.
Работы Баланчина отражают и другое превалирующее направление двадцатых годов. Начиная с «Парада», критики фиксировали ощутимые изменения в структуре многих балетов. Все чаще и чаще они замечали движение от драматического повествования к коротким наброскам сюжета и тенденцию к разделению танцевальной ткани спектакля на «номера» – типичную особенность мюзик-холла и ревю. «Здесь опять, – писал критик о “Чимарозиане” Мясина 1924 года, – не было сюжета, а была только серия разрозненных номеров – па-де-труа, па-де-сис, тарантелла и т. д. …» «Чертик из табакерки», поставленный Баланчиным в 1926 году на музыку Эрика Сати, был «во всем повторением “Парада”, – сокрушался Валериан Светлов, один из восторженных почитателей Русского балета, находивший теперь мало поводов для высокой оценки последних работ. – Это было бы простейшим и самым естественным делом на свете – соединить два балета в один, дав некоторым артистам первого несколько мюзик-холльных номеров из второго: “Клоун”, “Черная балерина”, две “Белые балерины” и двое “Носителей облаков”». Левинсон также обратил внимание на эту особенность: крестьянский танец и бурлескный парад солдат в «Барабау», другом балете Баланчина 1926 года, были чепухой «в духе стремительно сменяющих друг друга скетчей “Летучей мыши”». Упомянув знаменитое эмигрантское кабаре, Левинсон пошел дальше. «В целом дягилевская программа этого года, – писал он, – смахивала на “рождественское ревю”»[346].
Дягилев, под влиянием футуристов, упростил и облегчил повествование, что вовсе не означало, будто он отрекся от него. Как писала Бронислава Нижинская в 1930-е годы, Дягилев «не был готов отказаться от самой идеи литературного либретто». И на самом деле, все его работы двадцатых годов имели сюжеты, – правда, слабые и плохо связанные с хореографией, которую именно они и должны были порождать. «Сюжет незначительный и недостаточно ясно изложен», – писал критик «Таймс» по поводу «Пасторали». Светлов вторил ему в рецензии на «Матросов», поставленных Мясиным в 1925 году: «Балет “Матросы”, строго говоря, и не балет вовсе, а “сцены из жизни”, или состязание в матросских плясках, или даже серия мюзик-холльных номеров, лишь слегка связанных с сюжетом. Да и сюжет на самом деле трудно усмотреть, если таковой и имеется». «Кошку» Баланчина 1927 года, тема которой была позаимствована из басни Эзопа о женщине, превращенной в кошку, постигла та же участь. «Возможности сюжета были использованы скудно, – писал Левинсон. – В той же степени и хореография… не имела ясного отношения к замыслу сценария». Сценарии всех этих трех балетов разрабатывал Борис Кохно, секретарь Дягилева и участник большинства постановок двадцатых годов. Но импульс, похоже, исходил от самого Дягилева. Судя по его советам Джону Олдену Карпентеру, американскому композитору, которому в 1924 году он сделал заказ на балет о современном городе, можно предположить, что импресарио давно распрощался с формулой Gesamtkunstwerk’а как модели драматургического единства. «Пишите музыку, – говорил он Карпентеру, – без оглядки на сюжет или действие»[347].
В годы, на которые пришлось взросление Баланчина, Дягилев, кажется, разрывался между двумя противоборствующими тенденциями: имея тягу к «чистым» танцевальным формам, он сохранял тем не менее приверженность идее повествования. Находясь в центре такого художественного противоречия, он принимал компромиссное решение, выпуская на сцену сюиты танцев («Квадро фламенко» и «Чимарозиану»), носившие буквально такое жанровое определение, объединенные жалким подобием сюжета. В этих гибридных формах ничто не было ни полностью абстрактным, ни полностью предметно-изобразительным, повествование явилось лишь предлогом, средством, навязывающим видимость ситуации, позволяющей нанизывать цепочки дивертисментов. В 1928 году «Таймс» писала:
«Боги-нищие» (The Gods Go A-Begging), являются пасторалью XVIII века, в которой структурно-формальный элемент, естественно, господствует. Здесь есть, однако, незамысловатый сюжет, необходимый, чтобы оправдать название и согласовать с поэтической идеей соответствующие движения. Идут приготовления к сельскому празднику, fête champêtre; мы видим пастуха, прибившегося к обществу знатных кавалеров и дам; дамы проявляют к нему явную симпатию, но он предпочитает скромное очарование простой служанки; гнев благородного общества, вызванный таким категорическим отказом, угасает при обнаружении, что эта пара низкого происхождения – боги, переодетые нищими[348].
«Матросы» – соответственно, матросский балет – и «Барабау», основанный на тосканской народной колыбельной, следовали той же схеме. Сценарий первого, созданный Кохно под руководством Дягилева, был «до крайности лаконичен, – писал Сергей Григорьев. – Дягилев настаивал, что зрителям надоели сюжеты и нравились только танцы… Несомненно, в “Матросах” было много танца и мало сюжетного действия. Разнообразие обеспечивалось сменой сцен, а также живой и динамичной хореографией Мясина». «Барабау» Баланчина, премьера которого, как и премьера «Матросов», состоялась в 1925 году, тоже был просто нашпигован движением – «буйным деревенским весельем, – как излагал это один разочарованный английский критик, – между остановившимся на привал отрядом солдат и деревенскими девчонками». Если в середине двадцатых и существовало произведение, где наиболее ярко проявилась бессмысленность балетного сценария, так это был «Триумф Нептуна» (The Triumph of Neptune), пантомима в двенадцати картинах, навеянная кукольным театром Викторианской эпохи. Балет, поставленный Баланчиным, был переполнен «английским танцевальным фольклором» (по фразе благосклонно настроенного Левинсона): «сентиментальные» контрдансы, полька уличных плясунов, шотландский рил для богини Британии, матросская джига, флинг и хорнпайп. Был там и волшебный балет (напомнивший Светлову вальс снежных хлопьев из старой постановки «Щелкунчика» в Мариинском), старомодные чудеса машинерии и сюжет, скомпилированный Сачеверелом Ситуэллом, о двух отважных путешественниках – журналисте и британском моряке. Однако, несмотря на то что «Триумф Нептуна» восхитил британскую публику (и даже встретил положительный отклик у Светлова и Левинсона), его сценарий был сплошным нагромождением событий. «Неблагоприятная оценка, – писал лондонский журнал “Квин”, – связана с тем, что эта шутка совсем не стоит усилий, затраченных на нее, с ее двенадцатью картинами и ее многочисленными, сбивающими с толку персонажами и их костюмами». Вместе с тем критик поспешил добавить, что «эта громоздкость и тяжеловесность… придают балету подлинно британский вкус и аромат»[349].
И все-таки уже в самых первых работах Баланчина для труппы Русского балета прослеживались явные предвосхищения неоклассицизма. В «Барабау», постановке, которая заставила Сирила Бомонта усомниться в мудрости Дягилева при выборе Баланчина в качестве балетмейстера, Серж Лифарь в роли Офицера исполнял классическую вариацию, стилизованную в воинском духе. Бомонт изменил свое мнение после «Триумфа Нептуна», премьера которого состоялась в декабре 1926 года. Он писал:
Для этого балета Баланчин временно отказался от своих модернистских экспериментов… Танцы, всегда простые и эффектные, включали классические композиции, которые были поэтичны в своих изящных линиях и строгой красоте.
Я имею в виду, в частности, картины, названные «Заоблачная страна» и «Замерзший лес», дававшие возможность для танцев в традициях чисто академического балета… В «Замерзшем лесу» – известном шутникам – рабочим сцены как «Уиган ночью» – был летающий балет, в котором искусные танцоры соединялись в группы, держа в руках гирлянды цветов, и, безразличные к закону земного притяжения, путешествуя по воздуху, образовывали живые и постоянно изменяющиеся узоры…[350]
Это уже Баланчин, которого мы знаем. Менее знаком он нам как создатель «Кошки» (1927), конструктивистского варианта басни Эзопа, прославлявшего физическую красоту семи мужчин. Бомонт писал:
Нечто бодрящее и освежающее возникало при взгляде на эти тренированные, хорошо сложенные, загорелые тела… прыгающие, изгибающиеся, переплетающиеся и в финале образующие выразительную группу… Был и запоминающийся момент, когда [Серж] Лифарь появлялся на триумфальной колеснице, образованной его товарищами. Трое юношей стояли на одной линии, двое задних сгибались вперед так, что Лифарь мог поставить колено на спину каждого из них; центральный юноша держал свои руки за спинами товарищей, чтобы удерживать колени Лифаря. Один из трех юношей, стоящих впереди, поднимал руку вверх, чтобы Лифарь мог за нее держаться, за запястье его другой руки, вытянутой вперед, держались его компаньоны с боков. Вся группа объединялась двумя юношами в заднем ряду, ухватившись за ремни тех, что были впереди. Лифарь, вознесенный на вершину этой триумфальной колесницы, в полном блеске своей красоты, казалось, символизировал Триумф Молодости[351].
Этот момент, зафиксированный на одной из наиболее часто воспроизводимых фотографий, показывает Лифаря как блистательного бога, что, благодаря Баланчину, стало неотъемлемой составляющей артистического облика танцовщика. Но этот образ также наводит на мысль о том, о чем редко говорится при рассмотрении ранней хореографии Баланчина, – о влиянии Нижинской. Мало того что пирамида, описанная Бомонтом, напоминает финальную картину «Свадебки», но и в гимнастическом принципе, на который он также указывает, и в использовании групп в качестве элементов для архитектурной конструкции, засвидетельствованном на другой фотографии, чувствуется знакомство с балетом Нижинской[352]. «Свадебку» на самом деле можно было видеть в период постановки «Кошки». Возобновленная в Париже к сезону 1926 года, «Свадебка» появлялась в четырех из двенадцати программ и была также исполнена семь раз в Лондоне. Принимая во внимание большой состав исполнителей (около сорока танцующих) и сравнительно небольшой состав труппы (около пятидесяти человек), можно предположить, что и сам Баланчин принимал участие в этом балете. Сходные элементы проявились также и в «Блудном сыне» (Le Fils Prodigue), поставленном в 1929 году, который стал последним сезоном Дягилева. Здесь вновь лексика балета включает гимнастический и механистический элементы, в то время как рисунок движений, особенно у кордебалета, отражает конструктивистский подход к использованию масс. Узнаваемая восприимчивость к конструктивизму, свойственная Баланчину, проявляется и в па-де-де – шокирующем изображении эротической властности женщины.
Из всех работ Баланчина, сделанных для Русского балета, «Аполлон Мусагет» (Apollon Musagète), известный позже под коротким названием «Аполлон» (Apollo), оказался самой значительной. «События “Аполлона”, – написал Бернард Тейпер, – просты, сжаты и наводят на ассоциации: Аполлон рожден, открывает и проявляет свои творческие силы, наставляет трех муз в их искусствах и затем восходит с ними на Парнас. Темой становится творчество само по себе – творчество Аполлона, энергичное и решительное, но при этом светоносное и вдохновенное»[353]. Став поворотным пунктом в жизни Баланчина, когда он, как отмечал позже, в первый раз позволил себе «не использовать все свои идеи без разбора», «Аполлон Мусагет», наряду со «Свадебкой» и «Ланями», является ранним блестящим образцом неоклассицизма.
Однако, в отличие от балетов Нижинской, постановка Баланчина являлась сплавом неоклассицизма с другими «классическими» идеями. Одной из них был идеализм: уподобление искусства вневременному Парнасу духа. Второй была неоортодоксия, важная тенденция 1920-х годов, когда многочисленные художники и интеллектуалы отходили от атеизма ради истины религиозной веры. «В “Аполлоне Мусагете”, – пишет Анри Прюнье, один из значительнейших музыкальных критиков эпохи, – классичность Стравинского не была больше позой, как ранее; чувствовалось, что она отвечает глубочайшей потребности сердца и ума»[354]. Борис Шлёцер в «Дайал» также связывал неоклассицизм произведения с духовными источниками:
«Аполлон»… обнаруживает у Стравинского жажду самоотречения, его потребность в чистоте и спокойствии души… Чего этот покой и ясность стоили ему, мы можем понять из длинного ряда его предшествующих работ, гневный динамизм которых может показаться, по сравнению с «Аполлоном», тщетным волнением и беспокойством. Чего мы должны ожидать от Стравинского сейчас, при достижении им зрелости и полном раскрытии его гениальности? Какой будет его следующая работа?.. Логично предположить, что после «Аполлона» он даст нам «Мессу»[355].
Наряду с идеализмом и неоортодоксией этот балет выразил и далеко отстоящий от них ретроспективный классицизм. Мы склонны забывать, насколько в ином обличье балет, известный нам сегодня и являющийся продуктом неоднократных пересмотров Баланчина, предстал публике 1928 года. Прежде всего в нем были декорации. Андре Бошан, художник-примитивист, которого парижские арт-дилеры рекламировали как преемника Анри Руссо, не был удачным выбором для этого проекта, и его эскизы – огромный многокрасочный букет цветов в сцене рождения и скалистый подъем с колесницей, запряженной четверкой лошадей в основной сцене, – казались совершенно чуждыми метафизической теме балета. Дягилев сделал заказ Бошану, надеясь устранить, как он выразился, фальшивый эллинизм. Однако сам же он одел Лифаря в наряд бога, короткую подпоясанную тунику и мягкие туфли с переплетающимися вокруг икр лентами, имитирующими сандалии. Но костюмы были далеки от стилистического единства. Музы носили пачки с розовато-лиловыми лифами, в то время как в апофеозе Лето и богини, окружавшие ее при рождении Аполлона, стояли в длинных туниках а-ля Дункан. Здесь уж было «путешествие во времени» в полном смысле слова[356].
Столь же диссонирующими были и моменты, связанные с традициями французского классицизма. Колесница, медленно спускавшаяся с небес, чтобы забрать Аполлона и его подруг на Парнас, была навеяна финальными прославлениями XVIII века, заметил Сирил Бомонт[357]. Это столетие присутствует также в аллегорическом истолковании темы и выборе мифологического сюжета: и то и другое напоминает обычаи французской оперы-балета, не говоря уже о подходах, разрабатывавшихся в ранних постановках у Дягилева. Все эти условности прежних времен лишь частично присутствуют, как рудиментарные остатки, в современных постановках «Аполлона». Тем не менее наряду с музыкой они подчеркивают «классицизм» оригинала, связывая возвращение Баланчина к Петипа с тенденциями, чуждыми хореографии как таковой.
Кроме того, в отличие от «Свадебки» и «Ланей», «Аполлон Мусагет» собрал воедино различные устремления того времени к классическим ценностям. И при таком объединении балет незаметно изменил свои идеологические основы. До этого хореографический неоклассицизм оставался политически нейтральным феноменом. Теперь, примирившись с идеей социального порядка и религиозной ортодоксии, он оказался погружен в достаточно консервативную ауру. Ретроспективный классицизм, в свою очередь, также выиграл от этого альянса: «вневременная» форма теперь маскировала разновременность событий этого жанра, что нигде не было столь очевидно, как в неоклассических эпопеях Сержа Лифаря в Парижской опере в 1930-е годы. Это вовсе не значит, что хореография Нижинской того же десятилетия или Баланчина 1940-х и 1950-х годов – прежде всего в цикле его «черно-белых» балетов, начиная с «Четырех темпераментов», – вычеркнула из неоклассицизма, господствовавшего в те годы, все следы его основного содержания. Просто изначальная взрывная сила неоклассической идеи в хореографии – ее, если можно так выразиться, модернизм – показала путь к выражению художественного и социального порядка. Неоклассицизм пришел, чтобы скорее определить отношение к прошлому, чем обозначить видение будущего, – упорядочить прошлое, устраненное модернизмом. В идеологии священного порядка и идеализма, которые за десятилетия, последовавшие за «Аполлоном Мусагетом», стали идентифицироваться с неоклассицизмом, можно усмотреть продолжение линии наследия, изначально отвергаемого Дягилевым.
Систематизируя постановки, осуществленные у Дягилева между 1922 и 1929 годами, невозможно избежать ощущения переходного характера подавляющего большинства из них. Немногие стремились к постоянству балетного канона, немногие претендовали на то, чтобы предложить критический комментарий современной жизни, немногие внушали чувство открывавшейся бездны. Комментируя «ультрамодернистский соус», в котором Кокто «приготовил» собственную версию «Антигоны», Жид противопоставил свою веру в бессмертие искусства видению модернизма молодым человеком, ограниченным кругозором сегодняшнего дня:
Нет ничего более чуждого мне, чем такое понимание модернизма, влияние которого любой почувствует в каждой мысли и каждом решении Кокто. Я не утверждаю, что он не прав, когда верит в то, что искусство свободно дышит только в своих новейших проявлениях. Но тем не менее единственная вещь, занимающая меня, – какое же поколение не поддастся этому убеждению? Я не стремлюсь быть своей эпохой, я стремлюсь превзойти ее[358].
За исключением «Ланей», где Нижинская, независимо от сценария, постаралась выразить свои собственные представления, все шедевры среди дягилевских балетов двадцатых – «Свадебка», «Аполлон Мусагет» и «Блудный сын» – отрицали буквальное уравнивание модернизма со скоротечными формами современности в понимании Кокто.
Худшие работы Дягилева тем не менее демонстрировали разрыв внутренних связей и упадок веры в возможности искусства нести смысл на каком-либо уровне. Критики говорили о циничном злоупотреблении мифом и аллегориями в балетах «Зефир и Флора», «Кошка» и даже в «Блудном сыне», где расчетливая переинтерпретация буквы и духа оригиналов подавалась в исключительно современном наряде. По структуре, как мы уже отмечали, многие балеты оказались приближены к типичным сценарным наброскам современных ревю. Но они были такими набросками и в другом отношении. В них хоть и содержались многие детали современной жизни, но сама реальность воспроизводилась лишь косвенным путем. Многие балеты на самом деле оказывались изображениями современной жизни через призму других театральных форм. «Парад», который более изобразил анонс представления, чем сам был представлением, предвосхитил такие последующие балеты, как «Ромео и Джульетта», «Пастораль» и «Триумф Нептуна». Первый из них изображал репетицию балета и занятия в классе; второй совмещал в себе репетицию и процесс съемки художественного фильма; третий, поставленный в кукольном театре Викторианской эпохи, был жанровой пьесой в стиле традиционных детских пантомим. Пьеса внутри пьесы – это был высокочтимый театральный прием того времени, который мог быть тонким нюансом, либо усиливать драматический смысл. В этих балетах, однако, прием есть уловка формы, резонирующая внутри замкнутого круга текста и никогда не прорывающаяся наружу. Подобно набору китайских коробочек, находящихся одна внутри другой, эти балеты утверждают замкнутость и исключительную саморефлексию универсума, не касающуюся ничего, кроме самых поверхностных связей широкой сферы человеческих отношений.
Солипсизм, на самом деле, скрыто присутствовал в самом методе преобразований, которым пользовался модернизм, в его навязчивой переработке тем, жанров и типологий. Модернист переделывал реальность не начиная с азов, а лишь создавая пастиччо или глоссарий к существующему тексту. В некотором роде искусство всегда подражательно. Но традиционно художник полагает свою задачу в переосмыслении действительности, что понималось прямо, даже если выражалось через готовые формы. Модернист, с другой стороны, формирует свое искусство внутри замкнутого круга указаний, который только случайно открывается в широкий мир. Смысл становится изменчивым процессом сам по себе, доступным лишь посвященным, имеющим ключ к шифру. В лучшем случае такое избранничество отражает модернистский иронический взгляд на социальный микрокосм, его отчужденность, избранную или каким-либо способом исходящую от сил, формирующих его жизнь. В худшем случае, однако, это формирует некий сорт снобизма, поскольку границы такого дискурса заключают лишь самую узкую часть публики. Первая ситуация характеризует модернизм Дягилева во время и сразу после окончания Первой мировой войны, когда художественный продукт стал единственным фактом в универсуме приливов и отливов. Второе описание фиксирует дягилевский подход в течение почти всех 1920-х годов.
Стили балетного театра двадцатых не умерли со смертью Дягилева в 1929 году. Они выжили в некоторых ранних работах Фредерика Аштона, в спектаклях Иды Рубинштейн и созданиях Сержа Лифаря для Парижской оперы. Но 1930-е годы стали также и свидетелями реакции, направленной против моделей и формул Дягилева – с появлением грез, лирики, простора фантазии, прежде всего в постановках Баланчина и Аштона, в новой значительности, которую приобрел танец балетного спектакля, и в возобновлении интереса к классическому танцу. Подобно «Аполлону Мусагету», «Ода», поставленная Мясиным в 1928 году, и «Бал», сочиненный Баланчиным годом позже, ускоряли развитие этих процессов (да и сам Дягилев планировал возобновление «Жизели» в 1930 году). Но они также фиксировали изменения в художественном настроении, принесенном частично сюрреалистами, частично – молодым поколением законченных классицистов и частично – восходящим национализмом преемников дягилевского наследия. Времена изменились и в другом смысле. С приходом фашизма и наступлением экономической депрессии аура потребительского шика, окружавшая Русский балет, выглядела намного менее привлекательной.
К 1930 году революция, инициированная Фокиным двадцать пять лет тому назад, завершилась. Эта революция, как мы уже говорили, происходила вне стен академии: она совершалась на перекрестке, где балет встретился с другими искусствами. Именно отсюда хореографы черпали запас своих идей, чтобы предложить их танцу. И если результаты оказывались разными, то сами эксперименты почти всегда были полезными. Все вместе они ввели балет в XX век. Мы склонны думать об изменениях в искусствах, чья история обычно пишется как хроника существования общественных институтов, как о естественно случающихся явлениях. Но в балете, жизнь которого регулируется академией, ничто не может быть столь противоестественным, как изменение. История Русского балета определенно подтверждает этот трюизм. Однако она подтверждает и нечто противоположное: способность академии вобрать в себя изменение. Если модернизм временами и угрожал разрушить балет, то в конечном счете он обновил его, дав способность выжить и продолжить существование как плодотворная художественная сила.
II Антреприза
5 Русские истоки
Для историков балета всегда было обычным делом говорить о балетной антрепризе вскользь, противопоставляя ее самому искусству хореографии. Порой они рассуждают о меценатах и ссылаются на финансовые отчеты, но такой подход крайне редко можно назвать серьезным. В то же время вряд ли балет был бы возможен без денег. Безусловно, танцовщики все так же обливались бы по́том у станка, и многим из них удалось бы найти возможность продемонстрировать свой талант публике. Однако как особый вид музыкального театра, как масштабное зрелище, соединяющее в себе музыку, танец и художественное оформление, балет вполне мог бы и исчезнуть.
История показывает, что балет процветал лишь в те времена, когда состоятельные люди – короли, знать и просто меценаты – щедро вкладывали в него свои средства. Бесспорно, случалось – так было в 1830–1840-х годах в Англии, – что частная антреприза поддерживала и даже развивала искусство. Но, как показала практика, это случалось редко и длилось относительно недолго. В коммерческой сфере балет почти всегда существовал в форме трупп, наскоро организованных вокруг гастролирующей звезды, или трупп мюзик-холла, подобных тем, что существовали в парижском Фоли-Бержер или лондонском Эмпайр Тиэтр. В обоих случаях целью было не само искусство, а развлечение публики.
Русский балет был уникален во многих отношениях, и не в последнюю очередь тем, что представлял собой частную антрепризу, которая сделала своей задачей составить конкуренцию лучшему на то время балетному коллективу и даже превзойти его в художественном плане. Создать балетную труппу с нуля совсем не легко; создать организацию, способную к длительному продуктивному существованию, – еще сложнее. Сделать и то и другое в мире коммерции – почти чудо. Такое «почти чудо» Дягилев совершал снова и снова в течение двадцати лет. Посмотрим, как ему это удавалось.
В основе этой истории лежат деньги – подсчет купюр и монет, позволяющих удерживать труппу на плаву. Но, безусловно, деньги – далеко не вся история. Поиск денег, равно как и их расходование, связан с необходимостью делать выбор и устанавливать отношения. Редко бывает, чтобы решения принимались с учетом одной лишь итоговой цифры, а последствия этих решений оказывались бы исключительно экономическими. Почти всегда то, как мы получаем и как тратим деньги, несет на себе отпечаток социальной действительности. В случае с Русским балетом эта действительность оказывала неизбежное влияние на художественную сторону дела. В общем и целом взаимодействие экономических и общественных сил – то, что можно назвать политической экономией труппы, – помогает понять ключевые моменты в ее истории: изменения в репертуаре и стиле работы, в статусе танцовщиков и хореографов, – а заодно и стратегию, которой Дягилев следовал, чтобы обеспечивать и поддерживать положение труппы в западном театральном мире. Впрочем, политическая экономия Русского балета имела особенности, не сводившиеся к экономической специфике. В более широком смысле история дягилевской антрепризы представляет собой образец существования искусства в условиях рынка. Русский балет, возникший из «любительской» культуры Серебряного века и полуфеодального мира Императорского театра, за двадцать лет существования испытал на себе все стороны влияния капитализма – от присущей ему свободы в начале до полной неопределенности в конце. Если Русский балет положил начало художественным тенденциям, которые доминировали в балетном искусстве еще долгое время после смерти Дягилева, то история труппы как социального и финансового образования имела свои последствия, которые ощущаются до сих пор.
В отличие от художественной истории Русского балета, которая началась в Петербурге, история его антрепризы имеет точку отсчета в Москве – в среде влиятельных купеческих кланов, которые в последние годы XIX века своим покровительством пытались повлиять на ситуацию, сложившуюся в российской культуре. Мы уже упоминали одного из ярчайших представителей этой гильдии покровителей – Савву Мамонтова, владельца железных дорог, который основал художественный кружок в имении Абрамцево и создал первую в России частную оперную труппу[359]. Теперь мы встретимся с его собратьями – Морозовыми, Третьяковыми, Щукиными, Алексеевыми, Бахрушиными, Боткиными, Терещенко, Рябушинскими, – подобно ему, создавшими свои империи, переориентировавшие российскую полуфеодальную экономику на реалии современного мира.
Этот класс доморощенных капиталистов долго привлекал внимание исследователей[360]. Возникший из крепостных крестьян и религиозных диссидентов – староверов, скопцов и иудеев, – за XIX столетие он переместился с периферии российского общества к его экономической верхушке. Купцы-капиталисты проложили первые в России железные дороги, построили первые текстильные фабрики, сахарные заводы, создали чайные империи и основали банки, чем окончательно привели страну к промышленному перевороту. Подобные предприятия приносили владельцам немалый доход, и те благодарили удачу, щедро расточая принесенные ею блага. Обладая гражданским самосознанием, они финансировали благотворительные учреждения, открывали больницы, библиотеки, школы и музеи. Однако наиболее существенным их вкладом было то, что они делали, будучи исключительными меценатами, увлеченными искусством и обладавшими передовыми взглядами: плоды их деятельности мы и сегодня можем видеть в российских музеях. Из купечества вышли величайшие коллекционеры России рубежа XIX–XX веков: Павел Третьяков, в чьей галерее были выставлены полотна русских художников и легендарная коллекция икон XV века; Сергей Щукин, в московском доме которого висели панно Матисса и шедевры Пикассо; Михаил Рябушинский, чей особняк был богат холстами Ренуара, Дега и Писсарро; Иван Морозов, коллекционировавший картины Боннара, Вюйара и Сезанна; его брат Михаил, собиравший работы Мане, Гогена и Ван Гога; Алексей Бахрушин, интересовавшийся всем, что связано с театром; Дмитрий Боткин, собравший исключительную коллекцию испанской живописи.
Коллекционирование, однако, не было единственным видом купеческого меценатства. Не менее важной оказалась финансовая поддержка молодых российских художников, главным образом тех, кто не подчинялся канонам и традициям академического и салонного искусства. Первыми, кто воспользовался щедростью купцов (в данном случае Третьякова и семьи Терещенко), были передвижники, массовый исход которых из Российской Императорской академии искусств в Санкт-Петербурге произошел в 1863 году. Они объявляли истинным предметом русского искусства российскую действительность со всеми ее «проклятыми проблемами» крестьянства, городского рабочего класса, коррупции в церкви, положения женщины в обществе – то есть те сюжеты, которые объединяли живопись эпохи реализма с критической мыслью социал-демократов, какими были Николай Чернышевский и Александр Герцен. Поколение художников конца 1870-х – 1880-х годов рассталось с мыслью об искусстве как средстве политических преобразований. Тем не менее интерес к крестьянским ремеслам, который поддерживало неонациональное движение того времени, в некотором роде предполагал критический подход как к академическому стилю, так и к дворянским ценностям. Как и реализм, неорусские тенденции пользовались значительной поддержкой купечества. Многие строили дома в древнерусском стиле; Третьяков выстроил целую галерею, получившую его имя. Сергей Морозов снабжал экспонатами московский Музей кустарных изделий, щедро поддерживал деревенских ремесленников. Мы уже говорили о деятельности Мамонтова, центром которой стало имение Абрамцево.
Обычно такая поддержка распространялась на искусство, обладающее явным национальным колоритом, однако в 1890-х и начале 1990-х годов купечество стало все больше вкладывать средства в те направления, которые были близки западным стилям. Ярким примером этой смены вкусов может послужить покровительство Мамонтова таким художникам, как Михаил Врубель, Константин Коровин, Валентин Серов. Коровин был к тому же одним из первых фаворитов Ивана Морозова, в чьей обширной коллекции русской живописи, наряду с работами будущих модернистов – Михаила Ларионова, Натальи Гончаровой, Марка Шагала – были также картины Врубеля и Исаака Левитана. Еще одним коллекционером, поддерживавшим возникавшее тогда движение модернистов, был Николай Рябушинский, который продвигал новоявленный московский авангард на выставках (среди них знаменитый салон «Золотое руно», 1908) и на страницах журнала «Золотое руно», основанного им же двумя годами ранее. Как справедливо заметил Владимир Немирович-Данченко, один из основателей Московского Художественного театра, «купечество выставляло напоказ свое стремление к культуре и цивилизации»[361].
В 1892 году Третьяков пошел наперекор замыслу Александра III, желавшего приобрести его коллекцию для Русского музея в Санкт-Петербурге: коллекционер, будучи уже в возрасте, передал свою галерею в собственность Московской городской думы. Этот инцидент, когда простой человек бросил вызов – и весьма успешный – Царю Всея Руси, иллюстрирует идеологию купеческого меценатства в целом. С самого начала купечество избрало своей целью оспорить культурную гегемонию властей. Обладавшие прогрессивными и ярко выраженными национальными взглядами, либеральные по своим убеждениям, приверженцы демократии в общественной жизни, купцы-меценаты выдвинули непреодолимую – и первую в России – альтернативу традиционной художественной практике. Государство больше не было единственным источником образования (посредством академии), единственным инициатором контроля качества (посредством дипломов и конкурсов), и даже не было основным источником финансирования (осуществлявшегося путем заказов). Теперь, благодаря купеческому предпринимательству, возникла и стала процветать сфера интересов, независимая от государства и дворянства, состоявшего у него на службе. В этот мир в конце 1890-х годов и шагнул Сергей Дягилев.
Этот молодой денди с седой прядью в густых черных волосах уже был на пути к успеху, когда Мамонтов и художники из его кружка посетили выставку скандинавских живописцев, организованную Дягилевым в 1897 году[362]. К двадцати пяти годам у него за плечами уже был ряд достижений: статьи, музыкальные сочинения, выставки, диплом юридического факультета. Но необходимо заметить, что именно эта встреча стала поворотным пунктом в жизни Дягилева-любителя, окончательно направившим его на стезю антрепренерства. «Дягилев, – пишет его биограф Арнольд Хаскелл, – был в полном восхищении Мамонтовым»[363]. Это восхищение открыло устремленному к Западу петербуржцу глаза на художественные богатства Москвы, познакомило со многими художниками, чьи имена звучали в его проектах в последующие пятнадцать лет; привило стремление к сотрудничеству и, по большому счету, привело к театру. Можно сказать, что благодаря Мамонтову любитель искусства стал создателем художественных империй. В конце 1890-х годов петербургский кружок Дягилева превратился, благодаря его стараниям, в «Абрамцево на Неве» и, подобно своему московскому прототипу, должен был бросить вызов официальному искусству царизма во имя свободной художественной деятельности.
Чтобы лучше понять происходившее, вернемся в 1890 год, когда Дягилев переехал из Перми в столицу, чтобы прославиться. Хотя его послали в Петербург записаться на юридический факультет и получить, таким образом, доступ в высшие эшелоны гражданской службы, не лишенный дерзости юноша с большими связями желал прежде всего стать композитором. Почти сразу же он завел знакомства с подающими надежды эстетами – Александром Бенуа, Львом Бакстом, Дмитрием Философовым, Вальтером Нувелем и Константином Сомовым, рука об руку с которыми прошел первый этап своего жизненного пути. Кружок друзей, которые собирались на чаепития и подписывались на журналы по искусству, позднее превратился в дискуссионное общество («Невские пиквикианцы»), где рассуждали о музыке, живописи и литературе и где сформировался микрокосм тех «кабинетов», в которых велись дела Русского балета.
Этот небольшой кружок, история которого была пересказана множество раз[364], был, несомненно, уникальным на фоне других подобных сообществ, возникавших среди представителей образованного меньшинства той эпохи. Его участники просвещали и развлекали, влияли на развитие личного и общественного образа мысли. Значителен был и их вклад в художественную жизнь: они создавали пространства, где привилегированные любители, чье положение не позволяло им сделать профессиональную карьеру, могли выступать или представлять свои работы. В подобной форме состоялся и вечер, который бесповоротно положил конец музыкальным амбициям Дягилева. В присутствии многочисленных «членов Пиквикского клуба» Дягилев и одна из его теток исполнили написанный им дуэт, который его друзья безоговорочно осудили[365].
Большинство кружков существовало исключительно на общественных началах. Тем не менее некоторым удалось расширить сферу своей деятельности и стать полупрофессиональными публичными предприятиями. В последние десятилетия XIX века такое преобразование произошло в России с тремя любительскими кружками. Первым был кружок Мамонтова, положивший начало первой частной оперной труппе в стране. Другой кружок, связанный с именем Константина Станиславского, позднее стал Московским Художественным театром. Третьим таким кружком было общество «Невских пиквикианцев». Спустя чуть более десятилетия после приезда Дягилева в Петербург кружок оказался в центре постоянно растущей сети, деятельность которой была связана с многообразными сторонами петербургской культурной жизни. Наиболее важным из его начинаний был «Мир искусства» – журнал, основанный Дягилевым в 1898 году, редактором которого он был в течение шести лет, до конца его существования. Среди других видов деятельности кружка было общество, которое организовывало выставки (также известное как «Мир искусства») и существовало до 1910 года, а также общество, устраивавшее концерты – «Вечера современной музыки», которое начиная с 1901 года представляло российской публике современных композиторов и их произведения. Семь лет спустя, когда Дягилев показал «Бориса Годунова» в Парижской опере, «пиквикианцы» обратились к искусству театра.
Между антрепризами Мамонтова, Станиславского и Дягилева было много общего. Все три выросли на основе любительской деятельности и зависели от купеческого покровительства, все приобрели профессиональный статус на коммерческой почве и, наконец, все демонстрировали стиль управления, организационные структуры и общественные отношения, характерные для коммерческого предприятия. В деловой сфере предприниматели тогда еще придерживались идеологии более ранних эпох. Историк Томас Оуэн отмечает, что в XX веке «личные сделки, основанные на взаимном доверии», были обычной практикой, и многие предприниматели считали идеальными такие экономические отношения, при которых не делается различия между работодателем и работником[366]. Такой стиль ведения дел был явно антибюрократическим и антииерархическим; он основывался на личных взаимоотношениях, которые противопоставлялись отношениям, где посредником служили власти, и при таком стиле каждый участник дела рассматривался независимо от социальных категорий или экономических функций.
В искусстве, как и в коммерческих делах, семья была ключевым понятием купеческого предпринимательства. «Безумство» Мамонтова (как пренебрежительно отзывались петербуржцы о его оперной труппе) начиналось как семейное дело. Одним из родственников – зрителей и участников домашних представлений, затеянных Мамонтовым в 1879 году, – был Константин Алексеев, сын владельца золотоканительной мануфактуры, позже взявший сценический псевдоним Станиславский. «Чаще всего, – писал он в автобиографии, – шли пьесы собственного создания [Мамонтова]. Их писал сам хозяин или его сын; иногда знакомые композиторы выступали с оперой или опереткой». Зрителями были сочувствующие родственники и друзья, собиравшиеся со всей Москвы, чтобы смешивать краски, шить костюмы и мастерить бутафорию для этих «прославившихся спектаклей»[367]. После смерти Мамонтова режиссер вспоминал первое из этих представлений – композицию из музыки и живых картин на темы из русской литературы. Вечер закончился примечательно: бог искусства, когда его римская тога зацепилась за помост, предстал в финале совершенно обнаженным. Постепенно эти домашние театральные затеи приобретали все более профессиональный характер. В 1883 году для первой предпринятой им оперной постановки – «Виндзорские насмешницы» в русском переводе – Мамонтов нанял небольшой оркестр из Московской консерватории. На следующий год он представил оперную версию собственной пьесы «Алая роза». Хотя ее успех трудно назвать безоговорочным (по словам Сергея Третьякова, спектакль длился шесть часов), постановка стала «значительным событием для музыкального мира Москвы»: это была новая опера (на музыку Н. С. Кроткова) с участием молодых певцов (многие из них были студентами консерватории) и оформлением Виктора Васнецова и Василия Поленова – двух наиболее известных современных российских художников[368]. В 1885 году Мамонтов пригласил Кроткова для совместной работы в частной оперной труппе, базировавшейся в Москве.
Задуманная как коммерческое предприятие (хотя конечно же она так никогда и не достигла полного самообеспечения), оперная труппа Мамонтова стремилась бросить вызов Императорским театрам, где спектакли были очень слабыми – как по репертуару и подбору актеров, так и по художественным качествам. Мамонтов предпочитал произведения российских авторов (редко исполнявшиеся на императорской сцене), в которых выступали молодые русские актеры (остававшиеся в тени иностранцев) и с «художественными» декорациями (созданными профессиональными художниками, а не специально обученными декораторами). На первом этапе существования труппы, окончившемся в 1892 году, была воплощена лишь малая часть из этих предпочтений: из-за недостатка стойкого интереса к русскому репертуару и нехватки опытных молодых певцов Мамонтов был вынужден приглашать французских и итальянских исполнителей и ставить в угоду массовому зрителю такие спектакли, как «Кармен», «Аида», «Травиата». Тем не менее в значительной мере его цели осуществились в 1896–1902 годах, когда превратившийся в импресарио антрепренер представил готовой к новым впечатлениям публике «образцовые постановки» произведений русского оперного репертуара, которые потрясли воображение Дягилева и его соратников и обеспечили Мамонтову место в истории оперного искусства[369].
У Московского Художественного театра была похожая «домашняя» предыстория: фактически его началом стали балеты, цирковые номера и кукольные представления, которые «ставили» дети семейства Алексеевых в своей московской гостиной. В 1877 году отец Станиславского построил театр в их загородном имении в Любимовке, и именно там состоялся официальный «дебют» молодого актера. В 1880-х годах Станиславский играл исключительно на любительской сцене – в Абрамцеве, в Любимовке, в частном театре Секретарева, устроенном его бывшим учителем. Однако постепенно стиль его игры и его отношения с публикой изменились. К середине 1880-х Алексеевский кружок, как теперь называли себя Станиславский и его семья, перестал быть исключительно домашним предприятием. О его постановках писали в газетах – это было одним из свидетельств того, что кружок исполнял ту же функцию, какую исполняли многие любительские труппы, которые – по меньшей мере в Москве – «мечтали обойти монополию Императорских театров в области драмы»[370]. Кружок распался в 1888 году. Ему на смену пришло Общество искусства и литературы – подобно своему предшественнику, оно было любительским. К этому времени репутация Станиславского как новатора и опытного профессионала удостоилась внимания серьезных театралов. В 1898 году совместно с драматургом Владимиром Немировичем-Данченко он основал Московский Художественный театр – свою первую профессиональную труппу и первое коммерческое предприятие.
Как и Частная русская опера Мамонтова, Художественный театр никогда не мог полностью обеспечивать себя сам. С первых же дней он существовал как жизнеспособное художественное сообщество лишь благодаря покровительству купцов. «Добрым ангелом» труппы был Савва Морозов. Текстильный магнат, он вложил сотни тысяч рублей в партию социал-демократов, укрывал большевиков в своем загородном поместье, поддерживал Максима Горького и завершил свою жизнь самоубийством в 1905 году. Кроме радикальных убеждений, Морозов также имел неподдельную любовь к русской драме. Неудивительно, что первым спектаклем, который он поддержал, был «Царь Федор Иоаннович» Алексея Толстого – историческая пьеса, запрещенная цензурой на протяжении тридцати лет. В 1902 году, благодаря щедрости Морозова, Художественный театр обрел постоянное пристанище – здание, принадлежавшее ранее купцу Лианозову. На реставрацию ушло 300 000 рублей[371].
Как и Мамонтов, Морозов вкладывал в свое предприятие не только деньги. Он лично следил за постройкой нового театра и жил, как писал Станиславский, «в маленькой комнате рядом с конторкой среди стука, грома, пыли и множества забот по строительной части». Особое внимание он уделил вращающейся сцене, какие были в то время редкостью даже на Западе, и следил за тем, чтобы в Художественном театре было самое современное световое оборудование. Позже, в 1929 году, Станиславский вспоминал рампу как «лично изготовленную» Морозовым[372]. «Добрый ангел» отнюдь не был аристократом-бездельником.
Сглаживание классовых различий было неотъемлемой чертой подобного покровительства, и существует множество свидетельств дружелюбия и духа сотрудничества, свойственных купеческому ведению дел. Художник Виктор Васнецов описывал «маленькую дружную художественную семью в Абрамцеве» как сообщество, где «творческий порыв Возрождения и Средних веков вернулся к жизни». «Я так люблю их, – писал Валентин Серов своей невесте в 1884 году, – а они любят меня… Я стал чувствовать себя членом семьи». Еще одним взлелеянным в Абрамцеве художником стал Михаил Врубель. Детям Мамонтова, позировавшим ему, было наказано, чтобы они сохраняли все наброски и черновики, которые Врубель выбрасывал[373]. В храме искусства Станиславского требовали такого же уважения к актерам. Однажды Станиславский прочел режиссеру Михаилу Лентовскому целую лекцию по сценической этике:
Вы – руководитель организации, чей долг – наставлять, обучать и просвещать общество, а актеры – ваши ближайшие культурные союзники. Давайте не будем забывать об этом и будем разговаривать с ними не так, как с проститутками и рабами, а как с людьми, достойными их высокого именования[374].
С коллегами по сцене Станиславский всегда обращался в высшей мере обходительно. По замечанию одного из его актеров, он придавал «огромную важность общему тону, который был свойственен нашим репетициям и выступлениям»[375]. В Художественном театре у каждого актера была собственная артистическая уборная, а когда по инициативе Морозова труппа была реорганизована в товарищество на паях, большинство актеров было включено в число пайщиков.
Своей устремленностью к полноправному сотрудничеству эти предприятия представляли собой разительную противоположность Императорским театрам. Федор Шаляпин, присоединившийся к оперной труппе Мамонтова в 1898 году после неудачного опыта работы в Мариинском театре, так вспоминал свою жизнь «под крылом самодержавия»:
Мне противно было ходить в театр из-за отношения начальства к артистам… когда директор являлся за кулисы, артисты вытягивались пред ним, как солдаты, и пожимали снисходительно протянутые им два директорских пальца, слащаво улыбаясь… Однажды режиссер сделал мне строгое замечание за то, что я в Новый год не съездил к директору и не расписался в «книге визитов». Но мне казалось унизительным выражать начальству почтение через швейцара… Было и еще немало мелочей, которые очень тяготили меня. Я перестал гордиться тем, что считаюсь артистом Императорских театров[376].
Лишь когда Шаляпин вступил в труппу Мамонтова, он почувствовал себя «как дома». Здесь «отношения между актерами были намного проще, и – возможно, что еще важнее – они были искренними». Царило чувство равенства, и когда госпожа Винтер, административный директор труппы, устроила один из своих «интересных и воодушевляющих вечеров», была приглашена вся труппа[377].
Такая атмосфера дружеского сотрудничества была характерна и для дягилевского кружка. Создание «Мира искусства» привлекло большую часть «пиквикианцев». Весной 1898 года Вальтер Нувель писал:
Все мои вечера я теперь провожу у Сережи [близкие друзья называли Дягилева уменьшительным именем Сережа]. Журнал нас эксцитировал, эмустировал, и мы все принялись за него с жаром. Каждый день происходят горячие дебаты. Вот что меня теперь интересует. Быть может, это мелко и низко (!), но оно есть, и я не могу и не буду насиловать свою личность. К более высоким интересам (!) я перейду тогда, когда почувствую к тому естественную, настоятельную, непреодолимую потребность[378].
Александр Бенуа принимал участие и в другой области работы кружка – не над «Миром искусства», а над балетом «Сильвия», который – в порядке отступления от незыблемых традиций – князь Сергей Волконский, директор Императорских театров, поручил оформить «чужакам» из круга Дягилева:
Дягилев примчался домой, где обнаружил всю «редколлегию» сидящей за традиционным пятичасовым чаепитием. Мы были настолько убеждены, что сейчас должны заниматься «Сильвией», что приступили к чаепитию лишь после того, как несколько часов проработали над набросками к постановке. Кто-то занял столовую, другие трудились в Сережином кабинете, и даже по задним комнатам были разбросаны эскизы и наброски. Я… только что набросал план декораций для первого акта; Лансере занимался третьим… Коровин работал над второй картиной второго акта; Баксту доверили создание пещеры Ориона и почти всех костюмов; даже Серов так увлекся общей творческой горячкой, что сочинил чудесный образ древнего сатира…[379]
Постановка «Сильвии» так никогда и не была завершена. Однако благодаря этому заказу метод создания постановок в гостиной кружка – Бенуа упоминает пантомиму на сюжет «Дафниса и Хлои» и музыкальную драму на темы из Гофмана[380] – стал профессиональной стратегией. «Сильвия» унаследовала все характерные черты мамонтовских постановок – от «домашней» атмосферы, в которой продвигалась работа, до разделения одного задания между несколькими художниками. Однако этот несостоявшийся проект предвосхитил и «совещательный» стиль подготовки ранних дягилевских постановок на Западе, начиная с «Бориса Годунова», в создании которого в качестве оформителей и декораторов участвовало не менее восьми художников. Валериан Светлов, член дягилевской «комиссии» 1909 года, так описывал ее работу, в которой наряду с художниками принимали участие и любители:
Совсем иначе делается это в новом, «дягилевском» балете. Собираются художники, композиторы, балетмейстеры, писатели и вообще люди, стоящие близко к искусству, и сообща обсуждают план предстоящей работы. Предлагается сюжет, тут же детально разрабатывается. Один предлагает ту или иную подробность, пришедшую ему в голову, другие или принимают, или отвергают ее, так что трудно установить, кто является настоящим автором либретто в этом коллективном творчестве. Конечно, тот, кто предложил идею произведения; но поправки, разработка, детали – принадлежат всем. Затем коллективно обсуждается характер музыки и танцев… Вот почему является единство художественного замысла и исполнения[381].
В среде танцовщиков также царил неформальный стиль общения. Бенуа писал:
Репетиции были настоящим волшебством. С самого начала установилась атмосфера дружеского и активного сотрудничества. Какое завораживающее зрелище представлял собой театральный зал, когда молодежь, не занятая на сцене, стремилась увидеть спектакль… Это во многом напоминало первую репетицию «Павильона [Армиды]» в Императорском училище, но атмосфера здесь была совсем другой. В императорской école de danse была строгая официальная обстановка… Здесь… не было ни капли бюрократии или официоза, наши встречи были очень неформальными и радостными[382].
Атмосфера подлинного профессионализма и общих устремлений царила во всей труппе. Бронислава Нижинская, тогда еще танцовщица кордебалета, вспоминала о «настоящей взаимопомощи», которая возникла между танцовщиками:
Мы старались помочь друг другу, указывали на ошибки и пытались вместе исправить их… Мы, более молодые артисты, пытались внушить своим старшим товарищам, что обычай надевать на сцену собственные украшения… может повредить художественному облику спектакля. К нашей радости, они с готовностью согласились с этим[383].
Для артистов, воспитанных в лоне императорских учреждений, вызов, брошенный студией Дягилева, – назовем его экспериментальные попытки этим термином, взятым у Станиславского, – оказался неожиданным и рискованным. Подвижная по структуре, гибкая в направлении развития, дягилевская студия предлагала непреодолимо привлекательную альтернативу бюрократии и конформизму императорского искусства. Бенуа провел в Императорской академии художеств лишь несколько месяцев, но этот опыт повлиял на всю его жизнь. С тех пор у него сохранилось, как писал он сам, «[отвращение] к миру канцелярщины, которая как будто намертво привязалась к искусству», от чего «любой вид “государственной службы” стал [казаться] совершенно невыносимым»[384]. Эту глубокую антипатию к миру официального искусства, в который, добавляет Бенуа, ему пришлось войти «по материальным соображениям», по меньшей мере частично, разделял и Дягилев. В переходные периоды – например, во время Первой мировой войны – он полностью переформировал свою труппу, превратив ее в студию, где социальные различия были нивелированы, и работа стала вестись коллективно. То, что Русский балет распался после смерти Дягилева, свидетельствует о том, насколько сильна была идея студии в его представлениях: он никогда бы не уступил давлению тех, кто стремился внести бюрократию в работу его труппы.
Опыт любительских кружков Мамонтова и Станиславского привнес некоторое коммерческое начало в работу студии. Помимо прочего, это преобразование привело к переосмыслению самого понятия профессионализма. В России профессионализм традиционно определялся мнением государства: в области визуальных искусств это было мнение Императорской академии художеств, самой крупной и престижной художественной школы в стране. При этом образование не было единственной функцией академии. Кроме обучения, она также предоставляла студентам финансовую поддержку и – что было крайне важным в стране, поделенной на полуфеодальные «сословия», – определенное социальное положение. Финансовая поддержка позволяла им ездить за границу, а получив благодаря академии официальный статус, выпускник мог устроиться на государственную службу[385]. В сфере музыки положение артиста тоже зависело от его отношений с государством. По сути, еще в 1860-е годы (когда была основана консерватория) музыкант, если он не был закреплен за театром или школой, не имел признанного положения в российском обществе. Так, Антон Рубинштейн, будучи в зените своей славы концертного исполнителя, официально считался «купцом второй гильдии», как и его отец[386].
Не имея гражданского чина и официального статуса профессионального музыканта, Рубинштейн являлся аномалией в системе сословий – он был «свободным художником». Это выражение использовал Бенуа, говоря о Коровине и Головине – художниках, которые, выйдя из мамонтовского кружка, в конце 1890-х получили работу в Императорских театрах[387]. Их появление в кругах «профессиональных» художников было значительным событием, знаком того, что «гильдия» утратила свою, когда-то повсеместную, власть. Как Коровин, так и Головин были общепризнанными талантами, однако их творческий опыт накапливался в частной сфере, а их достижения хранились в анналах имения Абрамцево и частной оперы Мамонтова. Уже в 1860-х купеческая поддержка позволяла вольным художникам не зависеть от государства. Но только с выходом мамонтовского кружка в коммерческую сферу – путем постановки опер – неофициальные артисты смогли получить доступ в официальные театральные учреждения, основной источник рабочих мест. По существу, частная сфера стала рассматриваться как основа профессиональной подготовки, где артисты нарабатывали опыт, а бюрократы выискивали таланты. Таким образом, последние подспудно признавали существование свободных артистов, а значит, и вытекающее из него представление о том, что достижения определяют профессиональный статус артиста и стандарты его профессиональной работы в большей степени, чем ранг. Эта свобода имела и экономическую сторону. Перед тем как Шаляпин ушел из Мариинского театра в труппу Мамонтова, он зарабатывал скромные двести рублей в месяц. Мамонтов утроил это жалованье и согласился выплатить вместо певца штраф за разрыв контракта с Императорскими театрами. Спустя три года и после серии успешных выступлений Шаляпин вернулся в свою бывшую труппу уже звездой[388]. Тот факт, что его стали высоко ценить и в коммерческой сфере – как дома, так и за рубежом, – практически разрушил императорскую монополию. Таким образом, статус свободного артиста подразумевал новый вид экономических отношений. Отныне артисты могли продавать свой труд и делать это по цене, определенной законом спроса и предложения. Впервые они стали артистами на капиталистическом рынке искусства. В этом смысле, как и во множестве других, Мамонтов предвосхитил тот тип отношений, который Дягилев позже сделает общепринятым.
Начиная с «Мира искусства» дягилевская антреприза демонстрировала социальную динамику «купеческой» студии. Тем не менее с самого начала между плюрализмом, составлявшим официальную идеологию кружка, и подавляющей силой дягилевской личности существовало определенное напряжение. Это напряжение было характерно не только для дягилевского кружка и поэтому не может быть приписано лишь особенностям психологии самого Дягилева. В большей степени оно создавалось самой сущностью студии: с одной стороны, причиной была организация студии вокруг единственной движущей силы, с другой – отсутствие структур, позволяющих вносить изменения в ее работу (что приводило к постоянным конфликтам). В руках такого человека, как Дягилев, Мамонтов или Станиславский, студия превращалась в арену, где демократические порывы сталкивались с устремлениями просвещенного деспота.
Для Дягилева, как и для Станиславского, между подобной «просвещенной деспотией» и современной театральной практикой существовала прямая связь. В статье «Новое в Московском Художественном театре», одной из нескольких статей об этой труппе, написанных Дягилевым для «Мира искусства», он соотносил художественный риск Станиславского с его властным мнением как режиссера:
Главное значение Московского Художественного театра заключается в том, что он может «дерзать» на такие подвиги, за которые дорого расплатился бы всякий другой, менее популярный и авторитетный инициатор иногда очень рискованных затей. Этому театру не только всё простят, но и постараются поверить в искренность и серьезность его начинаний, как бы экстравагантны они ни были[389].
В другой статье, «Еще о “Юлии Цезаре”», Дягилев воздал хвалу дисциплине труппы, поскольку, как он писал, актеры Станиславского были способны объединить разнообразие своих индивидуальностей в единую картину. Их заслуга, продолжал Дягилев, состоит именно в том, в чем их упрекают, а именно в переносе «центра тяжести театрального дела с личного творчества артистов… на власть техники»[390] – иными словами, на саму постановку. Его хвала Станиславскому и Московскому Художественному театру предвосхищала его собственные достижения в качестве продюсера. В то же время она подразумевала, что дягилевское видение театрального единства было куда более прозаично, чем видение вагнерианцев: вместо того чтобы приписывать достижение этой целостности некоему полумистическому Gesamtkunstwerk’у, он видел в нем результат работы «постановщика-деспота», как Станиславский называл себя, вспоминая свою режиссерскую практику 1890-х – начала 1900-х годов[391]. Хотя сам Станиславский позднее отвергал такое представление о режиссере, Дягилев остался ему верен.
Купеческое ведение дел стало для Дягилева образцом организационного подхода к своему предприятию, а деньги купцов помогали его обеспечить. В 1898 году Мамонтов вложил 5000 рублей – около 30 процентов капитала – в то, чтобы начать выпуск «Мира искусства». На следующий год, с упадком его финансовой империи и прекращением покровительства княгини Тенишевой в 1900 году (что было спровоцировано появлением карикатуры, где она была изображена в виде коровы, которую доит Дягилев), для журнала наступил серьезный финансовый кризис. Эту брешь попытались закрыть два других купца-мецената: Илья Остроухов, коллекционер, входивший в состав руководства Третьяковской галереи и состоявший в близких отношениях с кругом Мамонтова, и Сергей Боткин, еще один коллекционер, который приходился зятем Павлу Третьякову, родственником Льву Баксту, двоюродным братом Сергею Щукину и был близким другом бывших «пиквикианцев». Остроухов и Боткин коллекционировали произведения художников «Мира искусства» и помогали в организации выставки русского искусства, организованной Дягилевым в Париже в 1906 году. Кроме того, Боткин являлся членом «организационного комитета» Дягилева в 1909 году[392].
Пусть даже правительство оказало поддержку выставке в Париже, этого было недостаточно, чтобы оплатить все счета. По словам Нувеля, Дягилев собрал в Москве 30 000 рублей. Возможно, немалую часть этих денег внесли Владимир Гиршман и его жена, московские нувориши, временно остановившиеся в столице Франции, которых Бенуа называл «меценатами» выставки. Гиршман, «гладковыбритый рыжеусый банкир», представил на выставку четырнадцать произведений, в большинстве своем созданных художниками «Мира искусства». Он также входил в состав комитета покровителей, как и многие другие из обеспечивших выставку – Боткин, Иван Морозов, Алексей Хитрово, барон Владимир фон Мекк, Р. Востряков, князь Владимир Аргутинский-Долгоруков, граф Дмитрий Бенкендорф и Бенуа, составивший черновой вариант каталога. В приглашении на открытие выставки графиня де Греффюль, одна из трех почетных членов руководства выставки, описала эту группу покровителей как «включавшую в себя основных коллекционеров из Петербурга, Москвы и Киева». И действительно: наряду с известными московскими фамилиями здесь можно было увидеть имена петербургских коллекционеров, связанных с «Миром искусства»: Аргутинский, о котором Бенуа отзывался как о «друге и товарище» кружка; долгое время поддерживавший «Мир искусства» Бенкендорф, бывший ученик Бакста; фон Мекк, основатель и основной поручитель недолго просуществовавшего Общества современного искусства, которое занималось организацией выставок и специализировалось на разработке интерьеров. Предположительно они, как и Гиршман, пополнили банк выставки[393].
Многие из них продолжали помогать Дягилеву и после того, как выставки перестали быть центральной частью его деятельности. В 1908 году Бенкендорф, Хитрово и один из Морозовых стали участниками группы, поддержавшей постановку «Бориса Годунова». Аргутинский лично стал поручителем при получении в последнюю минуту займа в английском банке, позволившего Дягилеву завершить подготовку к сезону 1909 года. Весной 1910 года он вновь пришел на помощь Дягилеву, подписав вексель сроком на три месяца для покрытия тысячи фунтов, взятой в долг у друга матери Нувеля. Немногим позже, когда обещанная правительством субсидия внезапно была отменена, Аргутинский и Александр Ратьков-Рожнов, еще один заимодавец времен выставки 1906 года и муж кузины Дягилева Зины Философовой, совместно подписали краткосрочный вексель на требуемую сумму[394].
Этот подсчет, хоть он и неполон, ясно демонстрирует: к 1906 году Дягилев находился в самом центре национальной сети коллекционеров. Традиционно культурные отношения между Москвой и Петербургом были прохладными. Оба города не особо контактировали друг с другом и не испытывали интереса к доморощенному стилю своего соперника – утонченного и глядящего на Запад (в случае с Петербургом) или энергичного и глубоко русского (как Москва). Одна из задач «Мира искусства» была в том, чтобы устранить этот раскол и объединить две школы под единым национальным знаменем. Благодаря разносторонним вкусам Дягилева и его способности распознать талант журнал имел огромный успех. Конечно, две школы сохранили свои различия. (Более того, за эти годы они еще более отдалились друг от друга.) Но теперь каждая из них обратила на себя внимание всей страны и обрела коллекционеров вне своего родного города. В отличие от прочих московских меценатов такие коллекционеры, как Гиршман и Михаил Рябушинский, обратились к творчеству петербургских художников. Оба приобрели работы Бакста и Сомова (Гиршман – также картины Добужинского и Лансере), а среди произведений, представленных ими для выставки 1906 года, были холсты из обоих городов. «Значение “Мира искусства”, – пишет историк искусства Джанет Кеннеди, – состояло не только в том, что он принес западное искусство и западные идеи в Россию, но и в том, что он способствовал обмену идеями внутри страны, то есть между Петербургом и Москвой»[395]. Это особенно заметно в отношении коллекционирования, где журнал (и организованные им выставки) помог устранить региональную ограниченность, существовавшую прежде. Национальная сеть, созданная Дягилевым, представлена как образцовая в книге Бенуа «Русская школа живописи», вышедшей в 1904 году. Эта книга содержит репродукции работ из коллекций Гиршмана, фон Мекка, Остроухова, великого князя Владимира (возглавлявшего комитет, покровительствовавший Дягилеву, в 1906–1908 годы), барона Гинцбурга (дягилевского «доброго ангела» в годы перед Первой мировой войной) и самого Дягилева[396]. Это и было ядро той сети коллекционеров, которая поддерживала деятельность Дягилева на Западе у самых ее истоков.
Серия концертов русской музыки, организованных Дягилевым в Парижской опере в 1907 году, привлекла новых покровителей. Одним из них, что неудивительно, стал богатый петербургский любитель музыки Николай Гильзе ван дер Пальс, спонсор концертов Зилоти и автор по крайней мере двух книг о Римском-Корсакове. По словам Арнольда Хаскелла, Гильзе вложил в концерты 1907 года 10 000 рублей. На следующий год он способствовал постановке «Бориса Годунова», и оба этих года был членом дягилевского Комитета по устройству концертов[397]. Гильзе был не единственным директором Русско-Американской компании резиновых изделий, вложившим средства в дело Дягилева: двое других – Густав Гейзе и Макс Нейшеллер – также приняли в этом участие, чем последний заслужил себе место в комиссии по постановке «Бориса Годунова». Еще одним из поддержавших Дягилева в сезоне 1908-го, пусть и не удостоенным чести быть членом комиссии, стал известный миллионер, бакалейщик Елисеев, чей магазин на Невском проспекте представлял собой нечто подобное лондонскому Fortnum and Mason[398]. Парижский импресарио Дягилева Габриель Астрюк говорил, что в основе антрепризы 1909 года были обещания Дягилева собрать 300 000 франков с «российских капиталистов». Часть этих денег – как утверждают, 10 000 фунтов – поступила от таинственного г-на К., главы галошного производства, чью мечту прославить свое имя, писал Бенуа, «разгадал Д., проницательный, но беспринципный финансовый советник Дягилева». (Давления со стороны влиятельной личности – как считают некоторые, подобной благодетелю Дягилева великому князю Владимиру, – было достаточно, чтобы глава торгового дома, учрежденного более века назад, начал претендовать на право считаться благородным[399].)
Участие бакалейщиков и производителей галош в оказании финансовой поддержки первым проектам Дягилева на Западе было свидетельством тех изменений, которые претерпело частное покровительство. Будучи ценителями, московские магнаты превозносили искусство; некоторые из них и сами были художниками; став меценатами, они желали разделить со своими подопечными сам акт творения. Морозов, к примеру, работал осветителем в постановках Художественного театра, удивляя экспертов своими умениями. (В этом он опередил Дягилева – еще одного «любителя-осветителя».) Мамонтов приложил руку ко всем сторонам работы театра. Он проводил много времени с Шаляпиным, стараясь повлиять на его вкус, сформировать его художественные взгляды, помогая ему отыскать ключ к той или иной роли – как позднее будет делать Дягилев со своими протеже[400]. Некоторые из покровителей Дягилева были глубоко вовлечены в его антрепризу. В Екатерининский зал, где Фокин проводил репетиции с танцовщиками к сезону 1909 года, Аргутинский и Боткин приходили наблюдать за их работой, а в перерывах ели вместе с ними их скромную пищу[401]. В отличие от тех, чья поддержка длилась уже долгое время, новые покровители Дягилева обычно нигде не присутствовали. За исключением, возможно, Гильзе ван дер Пальса, с которым Дягилева познакомил Нувель, все они были вне сети друзей и товарищей по художественной деятельности, которые сопровождали Дягилева в его предприятии, итогом которого стал Русский балет. Покровительство этих меценатов было безличным. Оно было также и корыстным, предполагалось, что деньги бакалейщиков и производителей галош принесут им некий доход: упоминание в прессе, признак благородства, указание крупным шрифтом в программе гала-концерта. Такие акции предопределяли экономические отношения между покровителем и его подопечным. С погружением Дягилева в мир западного капиталистического рынка подобные отношения стали обычным явлением.
Вкладывая средства в российское искусство в конце XIX – начале XX века, купцы тем не менее не оказывали влияния на способ существования высокой культуры в России. Отчасти это объяснялось происхождением купеческого покровительства от филантропических порывов староверов. Станиславский упоминал обычай Мамонтова удивлять посетителей «мыслью, что религия приходит в упадок, и искусство должно занять ее место». Еще одной гранью мамонтовского учения была его «народность». Порой он называл свою труппу «Народной оперой», а в 1897 году организовал воскресное утреннее представление «Орфея и Эвридики», которое было бесплатным для школьников, составлявших большую часть аудитории. «Театр, – сказал он однажды, – не развлечение для богачей… а школа, откуда чистое и высокое искусство идет в народ»[402]. Купеческая филантропия раздавала то, что было накоплено купеческими предприятиями. Но это было не единственной чертой этого сословия. В бесконечном потоке денег, благодетельства и советов, который купцы изливали на русских артистов, казалось, отсутствовало одно – та деловая хватка, благодаря которой были построены заводы, банки, мельницы и железные дороги, сделавшие возможной такую щедрость. Немалая доля иронии в том, что класс, который заложил основы российского капитализма, не смог применить свой финансовый гений в делах искусства. Как мы уже говорили, ни Московский Художественный театр, ни Частная опера Мамонтова никогда не могли полностью обеспечивать себя и никогда не были полностью коммерческими. Конечно, здесь продавали билеты и платили гонорар артистам, но их продолжительное существование зависело от щедрости покровителей: их положение на рынке было довольно шатким. Таким образом, постановки и их создателей в конце концов поглотило государство, которое, по меньшей мере в культурной сфере, имело практически неограниченные ресурсы. Историки говорили о «тесном союзе», существовавшем «между автократией и капитализмом» в годы упадка имперского режима. В художественном отношении, как и во многих других, частный сектор скорее был надежным подспорьем государства, чем равным ему партнером[403].
Неудача купеческого класса в его попытках породить учреждения, способные создавать образцы высокой культуры на постоянной, самоподдерживающейся основе, не оставила артистам – особенно связанным с театром – достойного прибежища вне сферы официального искусства. Для Бенуа «государственная служба» была «невыносимой», но, как и многим из его друзей, ему часто приходилось устраиваться на подобную работу. Дягилева, деятеля, не располагавшего собственными средствами, в этой ограниченной частной сфере ждал еще больший дефицит возможностей. Ему неизбежно приходилось искать высокую политическую протекцию и экономические ресурсы для масштабных проектов. В поисках альтернативы он и его коллеги обратились к единственным организациям, которые могли все это предоставить, – к императорским учреждениям.
Автократия в России была не только на уровне монарха – она была везде. Она подобно осьминогу протянула свои щупальца в те заповедные места, какие в Западной Европе уже давно были переданы в частный сектор или под руководство профессионалов. В области культуры тождество «государства» и «царя» было особенно явным. Такие организации, как Императорская академия художеств и Императорские театры, существовали как департаменты под юрисдикцией императорского двора. Средства на них предоставлялись Императорской канцелярией, иными словами, из собственного царского кошелька, а руководили этими учреждениями родственники императора или аристократы, лично им назначенные. Любые культурные институты, будь то Императорские академии или Императорские концертные залы, существовали как феодальные поместья Царя Всея Руси.
Пусть даже Дягилев и его друзья не принадлежали к придворным кругам, но они выросли под сенью государства. Бенуа происходил из семьи придворных архитекторов; его брат Леонтий – тоже архитектор – стал ректором Академии художеств. Бакст и Сомов, чей отец курировал отдел живописи в Эрмитаже, несколько лет учились в Академии художеств, которую Бенуа также посещал в 1887–1888 годах. И Дягилев, и его кузен Дима Философов окончили юридический факультет Санкт-Петербургского университета (высшее образование также было в государственной юрисдикции), а в 1898 году Дягилев окончил курс в консерватории. Более того, клан Дягилевых – Философовых имел свою историю государственной службы. Отец Дягилева много лет служил офицером в самом элитном кавалерийском полку, а его сводные братья были кадетами. Связь Философовых с государством была еще более тесной. Отец Димы занимал должность прокурора в Военном суде, а его кузен Дмитрий Философов в 1906 году стал министром государственных имуществ[404].
Художественное образование члены кружка начали получать в кругу семьи, в музыкальных постановках, кукольных спектаклях и поэтических вечерах, которые были основным досугом дворянских семей того времени. Когда в 1890 году Дягилев приехал в Петербург, он привез с собой в качестве «багажа» действительно хорошие музыкальные знания. Бенуа писал:
Мачеха Сережи была особенно увлечена музыкой. Елена Валерьяновна, урожденная Панаева, была сестрой известного певца и дочерью странного, экстравагантного старого джентльмена, разорившегося на постройке совершенно безобразного театра для частной оперы в Петербурге. Отец Сережи, как говорили, тоже был отличным певцом и часто пел в кругу родственников и друзей…[405]
Каким бы изысканным ни было домашнее музицирование, оно блекло перед спектаклями Императорского оперного театра. Там царила роскошь, поражавшая глаз пышными декорациями, волшебными сценическими эффектами, множеством певцов, танцовщиков и статистов. В 1921 году Бакст с восторгом вспоминал о том, как впервые увидел «Спящую красавицу», поставленную в Мариинском тридцать один год назад:
Незабываемый спектакль! Я попал на три часа в волшебный сон, опьяненный феями и принцессами, великолепными дворцами, утопающими в золоте, очарованный старой сказкой. Я словно качался на волнах ритмов, ослепительного потока живительных и прекрасных мелодий… В тот вечер, думается мне, мое призвание было предопределено[406].
Публика Мариинского театра в значительной степени была отражением государства, которое обеспечивало его работу. Бакст, увидевший шедевр Петипа лишь благодаря тому, что друг – помощник режиссера – дал ему пригласительный билет, прекрасно помнил это собрание: «разряженные гвардейские офицеры», «блистающие драгоценностями дамы в вечерних платьях», «красные кафтаны и белые чулки придворных, украшенные имперскими орлами». Анатолий Чужой, балетоман довоенных лет, описывал зрителей Мариинского в менее ярких красках: «На балет ходили одни и те же люди, спектакль за спектаклем. Если какая-нибудь публика и была тем, что называют одной большой семьей, то это была аудитория балета Мариинского театра». Действительно, среди зрителей было довольно мало людей, не связанных с императорским двором. Двор же, по словам Чужого,
был довольно обширным учреждением. В начале этого века в Петербурге существовало девятнадцать разных дворов: царский, двор вдовствующей императрицы и дворы семнадцати великих князей. Вместе с семьями царя, великих князей, придворных… родственниками сановников, министрами и т. д. и т. п. двор включал в себя несколько тысяч человек. Кроме того, существовали Конвой Его Величества, гвардейские отряды и морская гвардия. Иностранные посольства с их многочисленными служащими также были близки к двору, и, наконец, имелись аристократические клубы… Теперь, если мы примем во внимание, что из всех театров Петербурга и его окрестностей балет показывали только в Мариинском, вмещавшем около двух с половиной тысяч зрителей, и что весь балетный сезон состоял из пятидесяти представлений, на сорок из которых действовали абонементы, – становится ясным, что оставалось немного мест для тех людей, кто… не относился ко двору, гвардии, правительству, прессе или самому театру[407].
Сколь яростно ни критиковали Дягилев и его коллеги художественную политику Мариинского театра (особенно после назначения Владимира Теляковского директором в 1902 году), последний оказал на них неизгладимое влияние. Высокие профессиональные стандарты, характерные для первых знаменитых постановок Русского балета, были крепко усвоенным наследием Мариинского. Другим его наследием было убеждение, что балет принадлежит музыкальному театру, причастен высокому оперному искусству. Это означало, что, пока Дягилев находил средства (и даже когда ему это не удавалось), постановки были масштабными, а оформление – достойным в той степени, какая только была возможна: он всегда старался довести Русский балет до уровня крупной оперной организации. В Мариинском театре балет был неразрывно связан – как внешне, так и по сущности – с наследственной аристократией. На Западе Дягилев призвал на сторону балета иную, не менее влиятельную элиту – аристократию, обладавшую вкусом и средствами. Наконец, от Мариинского театра был унаследован миф о том, что Русский балет был преемником императорского искусства, который Дягилев сознательно подпитывал еще долгое время после того, как его труппа прекратила практически все связи с Императорскими театрами.
В сентябре 1899 года – прошло менее года после начала издания «Мира искусства» – Дягилев поступил на государственную службу. Его назначение на должность помощника директора Императорских театров по особым поручениям, которую он занимал в течение двух лет, стало для него роковым событием. Впервые у него появилось поле деятельности, адекватное его таланту, энергии и свойственным ему амбициям. Но, кроме того, он обнаружил бюрократию, полную интриг, увязшую в рутине и смотревшую на эти его качества с недоверием. Поначалу, впрочем, все было прекрасно. Князь Сергей Волконский, в июле назначенный директором (он сменил на этом посту своего дядю Ивана Всеволожского), был хорошо знаком с кругом «Мира искусства» и поддерживал его; несмотря на то что он не имел особых склонностей к административной деятельности, художественные симпатии Волконского совпадали с мнением его нового помощника. В 1900 году Дягилев получил свое первое поручение: руководить выпуском «Ежегодника Императорских театров». Раньше это был скромный отчет о событиях прошедшего года. Под управлением Дягилева «Ежегодник» стал грандиозным édition de luxe[408], выдающимся как по разнообразию и изобилию содержания, так и по качеству репродукций и техническому совершенству печати. К работе над «Ежегодником» было привлечено большинство мирискусников. Бенуа написал статью об Александринском театре; Бакст занимался ретушью фотографий; Лансере рисовал заголовки. Среди приложений были программы, оформленные Сомовым, и оригинальная литография Серова. Бенуа писал:
Каждая страница услаждала глаз. Было приятно даже просто разглядывать шрифт, разметку страницы, то, как распределены иллюстрации. Сами иллюстрации были отобраны со вкусом и великолепно оттиснуты с безупречных печатных форм[409].
«Ежегодник» (как и надеялся Дягилев) произвел сенсацию в обществе, которое до этого смотрело на «Мир искусства» как на «причуду дерзких юнцов-“декадентов”». По наблюдению Бенуа, его появление «вызвало… изменение общественного мнения в пользу Дягилева»:
Наконец-то появилось то, что не в чем было упрекнуть; даже злейшие враги Сережи были вынуждены признать, что это издание было первым в своем роде в России – до этого никогда не выходило подобной книги, тем более по инициативе государственных учреждений, где всегда ведущую роль играла официальная рутина[410].
Издание «Ежегодника» не было единственным явлением, где сказалось влияние «Мира искусства». Под руководством Волконского свободные художники получили свои первые театральные поручения: Аполлинарий Васнецов – «Садко» и «Евгения Онегина», Бакст – «Сердце маркизы», Бенуа – «Месть Амура». Для Бакста и Бенуа эти постановки стали первыми из целой серии заказов для императорской сцены. С 1902 (когда состоялась премьера «Сердца маркизы» в Эрмитажном театре) по 1908 год Бакст полностью оформил не менее трех постановок («Ипполит», 1902; «Фея кукол», 1903; «Эдип в Колоне», 1904) и создал костюмы, декорации и программы к нескольким другим[411]. Бенуа, которому руководство благоволило в меньшей степени, подготовил оформление к «Гибели богов» (1902) и «Павильону Армиды» (1907). С назначением в 1901 году Владимира Теляковского на место Волконского в число декораторов Императорских театров вошли также свободные художники Головин и Коровин.
Если «Ежегодник» стал триумфом, то следующее императорское поручение Дягилеву завершилось катастрофой. Обстоятельства, сложившиеся вокруг печально известной «Сильвии», заслуживают более подробного упоминания – не только потому, что они привели к окончанию карьеры Дягилева в Императорских театрах, но и потому, что это был прецедент, повторявшийся в его отношениях с руководством и в дальнейшем – с не менее плачевным итогом. Лео Делиб долгое время был одним из любимых композиторов «пиквикианцев», и теперь, когда у Дягилева было место в Мариинском театре, члены кружка жаждали поставить один из его балетов. Поскольку «Коппелия» уже была в репертуаре, они выбрали «Сильвию». В январе 1901 года Волконский дал Дягилеву карт-бланш на создание образцовой постановки этого произведения. Бенуа писал:
Эта новость была встречена с большой радостью, и мы сразу же начали распределять работу. Было решено пригласить двоих братьев Легатов в качестве балетмейстеров, поскольку они были наиболее перспективными из всех молодых танцовщиков; на роль Сильвии мы назначили О. О. [Ольгу] Преображенскую, которой мы бесконечно восхищались… Никому в голову и не пришел вопрос, возможна ли такая комбинация независимо работающих внештатных художников внутри организации, где так сильна бюрократия[412].
Хотя Волконский предоставил Дягилеву полную свободу, спустя несколько дней он изменил свое решение. Причина была ясна: коллеги Волконского возражали против того, чтобы возлагать всю ответственность за постановку целиком на плечи одного человека, не состоящего в рядах постоянного руководства. Волконский пришел к Дягилеву и попросил его – в качестве дружеского жеста – официально отказаться от участия в постановке: Дягилев может провести всю работу, но формально она должна была бы быть приписана администрации театра. Бенуа пишет:
В этот момент Дягилев уже крепко вцепился зубами в добычу. Он очень решительно настаивал на том, чтобы за ним оставили уже данные ему полномочия, и очень скоро разговор… приобрел явно нелюбезный тон. Потеряв контроль над собой, Дягилев даже прибег к определенному шантажу. Он заявил Волконскому, что если у него отберут «Сильвию», он откажется опубликовать следующий «Ежегодник»… Волконский, естественно, вышел из себя… перешел на тон и манеры высшего по положению… приказал Дягилеву продолжать работу над «Ежегодником», а если Дягилев не послушается, обещал потребовать его отставки[413].
В коридорах власти неожиданно закипела бурная деятельность. Туда-сюда ходили письма. Посредники пытались примирить стороны. Великий князь Сергей Михайлович, стремившийся сменить в должности Волконского, подстрекал Дягилева твердо стоять на своем, обещая – в качестве последней надежды – обратиться к императору. Когда он сделал это, Николай II произнес весьма загадочные слова: «На месте Дягилева я бы не уходил». Тем временем генерал Рыдзевский, заместитель министра двора и личный враг Дягилева, подсунул царю приказ о немедленной отставке Дягилева. Царь подписал приказ, затем пересмотрел свое решение, но беда уже случилась. Согласно третьему пункту «Устава о службе гражданской» Свода законов Российской империи Дягилев получил то, что называлось «волчьим билетом»: он навсегда лишился права поступления на государственную службу. Со временем он получил номинальную должность в Министерстве двора, и ему продолжали платить жалованье вплоть до 1917 года, но его официальная карьера закончилась. С этого времени он должен был идти своим путем[414].
Такой поворот дел не помешал Дягилеву создавать прочные связи внутри императорской семьи и даже сохранять благосклонность самого царя. Хотя росчерк пера последнего и решил судьбу Дягилева в деле с «Сильвией», Николай II продолжал субсидировать «Мир искусства». На самом деле, с 1900 года, когда, по просьбе Серова (который в то время писал его портрет), царь согласился вкладывать в журнал 10 000 рублей ежегодно, и до 1904 года, когда Русско-японская война вынудила его прекратить выплаты, журнал был обязан своим существованием царской щедрости. Александр Танеев не был членом царской семьи, но его близость к императорской фамилии делала его полезным союзником. Танеев был композитором – обычно его музыку называли «тусклой» и «посредственной» (Бенуа утверждал, что тот был «полностью лишен таланта»). Но он имел личный доступ к царю, будучи начальником собственной Его Величества канцелярии (через которую проходила вся личная переписка царя) и отчимом Анны Вырубовой, фрейлины, которая познакомила царицу с Распутиным. Именно благодаря добрым услугам Танеева Дягилев получил синекуру, которая в какой-то степени компенсировала неприятности, связанные с его отставкой из Императорских театров. Танеев сделал финансовый вклад в сезон исторических концертов 1907 года (вместе со своей Второй симфонией), и по настоянию Дягилева его имя появилось на изготовленных по этому случаю афишах, рекламных объявлениях и программах[415].
Самым главным покровителем Дягилева в императорских кругах был вовсе не царь, а его дядя. Великий князь Владимир был давним и искренним другом мирискусников. Он доверил художественное воспитание своих детей Баксту, часто приобретал экспонаты на выставках «Мира искусства» и, к неудовольствию консерваторов, открыто превозносил дягилевских «декадентов». Будучи президентом Императорской академии художеств, великий князь Владимир был, по собственным словам Дягилева, влиятельным союзником:
…Высокообразованный человек, который не намеревался жертвовать слишком многим во имя искусства, но при этом играл очень важную роль в развитии российской культуры. Все художественные учреждения страны были отданы под его контроль, и он управлял ими, вдохновлял и поддерживал искусство в самых разнообразных формах[416].
Он питал к Дягилеву большую личную привязанность и разделял, как это делали немногие из Романовых, его восхищение национальным оперным репертуаром. (В автобиографических записках Дягилев вспоминал, как царица, узнав, что он ставит «Бориса Годунова», смогла лишь сказать: «Вы не могли найти что-нибудь менее скучное?»[417].) Великий князь Владимир, напротив, был «действительно рад и горд тем, что идея, которую он – практически без единомышленников – воспринял с таким пониманием и для воплощения которой в жизнь он сделал так много, привела к такому исключительному успеху»[418]. Вклад князя в начинания Дягилева не ограничивался только моральной поддержкой. В 1901 году он открыл двери академии третьей выставке «Мира искусства», а семью годами позже дал дорогу в Эрмитаж выставке костюмов «Бориса Годунова», предшествовавшей премьере оперы в Париже. Он разрешил поставить свое имя во главе списков покровителей и ссылаться на него при переговорах в коридорах власти. Он также давал Дягилеву деньги: более того, великий князь Александр Михайлович описывал своего кузена как «первого из тех, кто финансово поддерживал Дягилева»[419]. Со смертью великого князя Владимира весной 1909 года Дягилев утратил и друга, и покровителя в высоких кругах.
В сети, раскинутой Дягилевым для сохранения связей в годы после его отставки, оказался и третий великий князь. Николай Михайлович был самым эрудированным и широко мыслящим из Романовых – и самым подходящим кандидатом на место руководителя выставки, увенчавшей дягилевскую карьеру в России. Арнольд Хаскелл назвал Историко-художественную выставку русских портретов в 1905 году в Таврическом дворце «великим подведением итогов» – результатом проникновения Дягилева в забытое русское искусство XVIII века. В 1902 году Дягилев напечатал первый из трех запланированных томов о живописи того времени – блестящий труд о Дмитрии Левицком, принесший его автору Уваровскую премию Академии наук. Дягилев так и не написал остальных двух томов. Но в стенах Таврического дворца он раскрыл их содержание тысячами портретов, скульптур, бюстов, акварелей, миниатюр и рисунков, собранных со всех концов страны. Помогавший ему Бенуа дивился тому неистовству, которое двигало Дягилевым, той энергии, терпению и упорству, которые он проявлял. С дягилевской выставки, писал художник и критик Игорь Грабарь, «начинается новая эра изучения русского и европейского искусства XVIII и первой половины XIX века»:
Вместо смутных сведений и непроверенных данных здесь впервые на гигантском материале, собранном со всех концов России, удалось установить новые факты, новые истоки, новые взаимоотношения и взаимовлияния в области искусства. Все это привело к решительным и частью неожиданным переоценкам, объяснявшим многое до тех пор непонятное и открывавшим новые, заманчивые перспективы для дальнейшего углубленного изучения[420].
Царь оказал выставке свою «августейшую поддержку» и, в окружении семьи и свиты, нанес официальный визит на церемонию ее открытия. Это произошло вскоре после «Кровавого воскресенья», и в то время члены царской династии, столь гордо изображенные на портретах, с осторожностью передвигались по улицам. Для многих жителей Петербурга Таврический дворец стал местом отдыха от беспорядков тех смутных дней. Одной из тех, кто часто ходил туда, была тетка Дягилева. Его мачехе она писала:
Ты, конечно, чувствуешь и переживаешь то же, что и мы, тяжелое, жуткое настроение… Вот почему я не пишу, но часто мысленно с тобой, и вот в настоящую минуту села тебе писать под впечатлением метаморфозы духа, которая меня, конечно временно, подняла на небеса, высоко-высоко от земли… Я была на выставке в Таврическом дворце. Ты не можешь себе представить, нет, ты не можешь себе вообразить, что это такое! грандиозное, не поддающееся описанию! Я была вся в этом мире, который мне ближе настоящего[421].
Однако, несмотря на толпы людей, стекавшиеся на выставку Дягилева, его самая значительная цель не была достигнута. Теперь, когда Императорские театры были закрыты для Дягилева, такой целью стал музей. Еще в 1901 году он высказывал в «Мире искусства» свои идеи по поводу создания национальной галереи. Четыре года спустя он заложил фундамент подобного музея в заброшенном Таврическом дворце. Одно время казалось, что удача на его стороне. Сущность любой революции заключается в изменениях – даже если эта революция оказывается умеренной, как это было в 1905 году. Хотя «Мир искусства» и ранее высказывал множество претензий в адрес цитаделей имперской культуры, лишь в суматохе этого года появилась возможность предъявить их в полной мере. 15 сентября Дягилев предпринял серьезную атаку на Владимира Теляковского и руководство Императорских театров в газете «Русь». Теляковский жаловался на недостаток новых интересных пьес и опер. Дягилев ответил, что Теляковскому стоит винить в этом только себя: не имея художественной политики, ему вряд ли следовало ожидать появления новых талантов:
До возникновения Художественного театра не существовало драматургов – Чехова и Горького… Без И. А. Всеволожского не было бы ни Спящей красавицы, ни Пиковой дамы… Интересно спросить, чего бы мы лишились, если бы не было нынешней дирекции? Волшебного зеркала?[422]
Два месяца спустя, когда Россия по-прежнему пребывала в революционных конвульсиях, Дягилев представил министру образования докладную записку, в которой предлагались значительные изменения в организации художественной жизни страны. Выступая за перевод Академии художеств и Императорских театров из ведения Министерства двора в ведение Министерства образования, он взывал к новому правительству с просьбой предпринять радикальную программу реформ:
В дни наступающих реформ и реорганизации ведомств и министерств крайне существенным является вопрос художественной жизни страны и распределение деятельности художественно-административных органов. Вопрос этот, кажущийся с первого взгляда недостаточно существенным в сравнении с великими реформами, касающимися государственного строя, тем не менее неизбежно должен возникнуть в одном из первых собраний Государственной думы… Те реформы, которые уже десятки лет тому назад проведены на Западе, реформы художественного образования, театрального дела, музеев и хранилищ, организации выставочных дворцов, охраны памятников старины, художественных обществ, наконец, материального положения людей, работающих на этом поприще, – не коснулись России[423].
К сожалению, этот залп аргументов оказался холостым. Несколько месяцев спустя началась реакция. Формально страна стала конституционной монархией, однако на деле самодержавие сохраняло свои полномочия. План Дягилева представлял собой прямую атаку на барона Владимира Фредерикса, полномочного министра императорского двора. Атака эта не ослабила его власти, а реванш, время которого наступило в 1906 и 1907 годах, лишь укрепил положение Фредерикса, равно как и Теляковского. Последний был протеже Фредерикса, в некотором смысле его «приемным племянником», и одним из многочисленных гвардейцев, назначенных им на должности в придворной бюрократии. Политические маневры, которые Дягилев проводил осенью 1905 года, могли стать лишь причиной усиления вражды со стороны министерства[424].
Тем не менее с 1906 по 1908 год звезда Дягилева продолжала восходить. Интрига, затеянная с целью прекратить государственное финансирование его деятельности, провалилась. Позднее Дягилев настаивал на том, что «никогда не получал ни единой копейки от русского правительства». Выясняется, однако, что получал не только копейки, но и рубли – тысячи рублей. Так, суммы, взятые из казны, покрыли огромную разницу между расходами на выставку 1906 года в Осеннем салоне (300 000 рублей) и принесенным ею доходом (ничтожными 25 000). Концертный сезон в Парижской опере на следующий год и постановка там же в 1908 году «Бориса Годунова» проводились также при поддержке государства, чей вклад был, по словам сторонника Дягилева Мишеля Кальвокоресси, «огромным». Анализ бюджета на 1909 год, произведенный Габриелем Астрюком, содержит упоминание о 50 000 франков в разделе государственных субсидий, а князь Петр Ливен и Матильда Кшесинская в своих воспоминаниях говорят о суммах, насчитывавших от 30 000 до 71 000 франков[425]. Подготовка «Бориса Годунова» заставила Дягилева бегать из одной государственной инстанции в другую. 2 мая 1907 года он напоминал Римскому-Корсакову:
Не забывайте, мне нужно убедить великого князя Владимира в том, что наше начинание полезно с национальной точки зрения; министра финансов – что оно прибыльно в экономическом отношении; и даже директора театров – в том, что оно принесет выгоду Императорским театрам. И еще многих, многих других![426]
Императорская щедрость, однако, проявилась не только в финансовой поддержке. Множество бесценных произведений искусства, выставленных в 1906 году, были взяты в императорских дворцах: иными словами, их дал в аренду сам император. Для постановки «Бориса Годунова» руководство Императорских театров предоставило Дягилеву «всяческую поддержку, которую можно пожелать». (Учитывая сильную взаимную неприязнь, существовавшую между ним и Теляковским, это сотрудничество можно считать исключительным.) Он писал:
Хор был позаимствован из Большого театра в Москве, и артисты, приглашенные [к участию], были лучшими… Что касается закулисья, то из Москвы была приглашена целая команда плотников – рабочих сцены, которой руководил К. Ф. Вальц, кудесник театральной иллюзии тех времен. Оркестром дирижировал Ф. М. Блуменфельд, ныне директор Киевской консерватории[427].
В своих воспоминаниях Дягилев забыл сказать о двух вещах: об оркестре и группе танцовщиков, выступавших на польской сцене. Они тоже были приглашены из Императорских театров. На следующий год, благодаря влиянию великого князя Владимира, Дягилев получил «необходимое разрешение от царя… отобрать труппу из числа танцовщиков Императорского балета». В 1908 и 1909 годах репетиции проходили в собственном театре царя в Эрмитаже – это было еще одним из даров покровителя Дягилева. Действительно, более позднее утверждение великого князя Александра Михайловича о том, что, благодаря щедрости его зятя Николая II, Дягилев был «включен в список финансируемых театров», не так далеко от истины. Несмотря на вложения частного капитала, дягилевские гастрольные выступления имели все отличительные черты императорского предприятия[428].
Поддержка такого уровня была не просто знаком личной благосклонности или высокого положения Дягилева в глазах императора. Обильное финансирование было обусловлено более далеко идущими планами, некоей международной культурно-политической игрой, в которой Дягилев (как сегодняшний балет Большого театра) был лишь одним из множества игроков, вовлеченных в сферу финансов и дипломатии. 16 апреля 1906 года международный банковский консорциум, в котором участвовали преимущественно английский и французский капитал, предоставил крупнейший заем из когда-либо осуществленных правительством Николая II. Эта сделка не только спасла Россию от финансового краха, но и позволила власти восстановить авторитет после разрушительной войны с Японией и революции 1905 года. Во Франции существовала оппозиция этой сделке, но дипломатическая ситуация показала необходимость ее совершения: стране был необходим союзник на Восточном фронте Германии. Опасавшееся возобновления русско-немецких дружественных отношений и обеспокоенное соглашением между Россией и Великобританией (подписанным в 1907 году), французское министерство иностранных дел воспользовалось крайней потребностью России в деньгах. Министерство финансов, в свою очередь, выгодно представило этот заем в парижской прессе[429].
Ранние зарубежные начинания Дягилева совпали, таким образом, с критическим моментом в российской финансовой и политической дипломатии. Поощряемые царем, они подтверждали, что его власти удалось избежать экономического и династического краха. Свидетельствовали об обновлении обязательств, существующих между двумя союзниками, и постоянстве их дружбы. Для образованного населения они означали жизнеспособность русского искусства и существование национального наследия, не уступающего наследию любого европейского государства. Кроме всего этого, действия Дягилева стали символическим подтверждением статуса России как влиятельной силы: далекий северный гигант, представленный в стенах Гран-Пале и на сцене Оперы, оказывался равным своему союзнику.
С самого начала высокая миссия Дягилева была встречена в парижских дипломатических и правительственных кругах с одобрением. В 1906 году двое из трех почетных членов комиссии по поддержке его проекта заняли посты в правительстве: А. Нелидов, российский посол во Франции, и Дюжарден-Бометц, заместитель французского министра изящных искусств. Нелидов был не единственным русским дипломатом, публично связавшим свое имя с именем Дягилева. Выставка в Париже, писал Бенуа, имела «значительную и крепкую поддержку» посольства, как и все предприятия Дягилева вплоть до 1910 года[430]. Посольство использовало свой авторитет и для влияния на прессу. В апреле 1909 года, например, «джентльмен», действовавший «от имени посольства», попросил издателя газеты «Ле Тан» вставить благожелательную заметку о предстоящем балетном сезоне. Таинственный проситель сказал также, что такая заметка будет «весьма приятна великим князьям»[431]. Более того, значительные суммы гарантийного капитала для сезона 1909 года были собраны благодаря банковским и финансовым связям Артура Раффаловича, влиятельного финансового агента российского правительства в Париже. Среди поручителей были барон Генри Ротшильд, чья банковская фирма имела долгую историю инвестиций в России; Андре Бенак, управляющий директор Banque de Paris et des Pays-Bas, руководитель так называемой христианской группы банков, которая участвовала в предоставлении займа 1906 года (фирма Ротшильда отказалась от участия из-за прошедшей незадолго до этого в России волны погромов); Базиль Захаров, родившийся в Турции финансист русского происхождения, чьи предприятия в сферах кораблестроения, нефтедобычи и производства оружия сделали его одним из богатейших людей на земле. Среди прочих поручителей круга Раффаловича были граф Исаак де Камондо и Генри Дойч де ла Мерт. Такая поддержка в кругах, близких к посольству, свидетельствует о тесной – и официальной – связи дягилевской антрепризы с российским правительством, которая просуществовала до весны 1910 года, когда «царя, – пишет Ливен, – убедили в том, чтобы он приказал всем российским посольствам отказывать в любой поддержке дягилевскому предприятию». Титул, который Дягилев указывал при подписании контрактов в 1909 году, – «атташе личной канцелярии Его Величества Российского Императора» – позволял французам, в том числе его собственному импресарио, убедиться в том, что он ведет дела под официальным мандатом[432].
Следовавшие один за другим дягилевские триумфы подтвердили важность политики культурного экспорта. Но Дягилев недолго пожинал плоды своих связей в императорских кругах. Уже в июне 1909 года Пьер Гёзи, высокопоставленное лицо в Парижской опере, к которому Дягилев обращался за поддержкой, отмечал в частной переписке: «На будущий год не будет официального Русского сезона в Париже. Это ясно выраженная воля российского императорского двора и великих князей». Следующей весной Дягилев столкнулся с открытой враждебностью и презрением в кругах посольства[433].
Будучи экспортером имперской культуры, Дягилев, в сущности, имел монополию в сфере выставочной и музыкальной деятельности. Тем не менее в балете у него появился соперник – звезда, которой удавалось сохранять имперский престиж и при этом не обивать бюрократических порогов. Триумфальные гастроли Анны Павловой 1908 и 1909 годов в Северной и Центральной Европе финансировались руководством Мариинского театра, которое взяло на себя большинство расходов, предоставило большую часть костюмов и разрешило использовать имя театра: в 1908 году труппа из двадцати танцовщиков гастролировала под названием «Императорский балет из Мариинского театра»[434]. Благосклонность Императорских театров объяснялась не только выдающимся талантом Павловой. На протяжении нескольких лет она жила под покровительством барона Виктора Дандре, состоятельного человека, которому принадлежали значительные владения на Балтике и обширное поместье в Полтаве. Связи с Прибалтикой, деловой инстинкт и консервативный художественный вкус Дандре привели его к сотрудничеству с бароном Фредериксом, который предполагал устроить его на должность в Императорских театрах еще в то время, когда Дягилев служил под руководством Волконского. Утверждают, что Дягилев подал Дандре идею о возможности организовать балетную труппу вокруг Павловой. Также предполагают, что Фредерикс и Дандре втайне планировали гастроли Павловой в 1908 году с финансовой поддержкой царя и Совета великих князей, которые стали бы балетным звеном в цепочке «политико-культурных жестов», способствующих укреплению англо-французского соглашения 1904 года[435].
Насколько эти сведения правдивы, теперь можно только догадываться. Тем не менее существуют достаточные доказательства в пользу того, что со смертью великого князя Владимира весной 1909 года барон Фредерикс стал одним из первых лиц в интриге, результатом которой стали отстранение Дягилева и разрыв связей между его зарубежной антрепризой и императорским двором. У Дягилева было много врагов в императорских кругах – от покровителя Кшесинской великого князя Сергея Михайловича (который якобы «вел запись событий» первых гастролей Павловой) до самого царя. (Утверждают, что Николай II сказал одному из Философовых, кузенов Дягилева, что «он боится, что не сегодня завтра [Дягилев] сыграет с ним какую-нибудь злую шутку».) Волконский писал о неприязни, которую вызвали в Императорских театрах высокомерные манеры Дягилева, и существуют предположения, что гомосексуальность Дягилева стала одной из причин не только его отставки, но и явной антипатии к нему Фредерикса. Дягилевская стратегия поиска финансирования также вызывала удивление. Великий князь Владимир, возможно, не возражал против того, чтобы антреприза прославляла имена щедрых производителей галош, но его вдова отвергла даже саму мысль об этом – и отказалась помогать Дягилеву после смерти мужа. «Во многом из-за методов, которыми Дягилев добывал деньги, – позднее говорил Йозеф Паже-Фредерикс со слов его двоюродного дедушки, – государство не оказывало ему поддержки»[436].
Труппа, собранная Дягилевым для его первого парижского сезона, по выбору состава исполнителей и своей художественной направленности отражала стремления левого крыла Мариинского театра. После 1905 года и сам Дягилев мог восприниматься как либерал, особенно в императорских кругах. Его главный покровитель в то время – великий князь Николай Михайлович – пользовался репутацией радикала и был известен в среде элитных гвардейских отрядов под прозвищем «Филипп Эгалите». Министром образования, к которому Дягилев обратился с докладной запиской в 1905 году, был граф Иван Толстой, исполненный благих намерений идеалист, потерявший должность, когда правительство графа Витте ушло в отставку в 1906 году. Либерал Толстой симпатизировал идеям Дягилева и разрешил добавить свое имя в состав комитета, покровительствовавшего выставке в Париже[437]. Различие политических убеждений вполне могло усилить личную неприязнь архиконсервативного министра императорского двора.
Считалось, что именно Павлова была той звездой, вокруг которой существовала труппа периода 1909 года. На самом деле, однако, это было далеко от истины. «Вундеркиндом» этого сезона оказался Нижинский. Этот новый Вестрис, своей славой обязанный Дягилеву, не только ослабил лидирующие позиции Павловой, но и, будучи публичным знаком сексуальных предпочтений Дягилева, вызвал немалый испуг при дворе[438]. (Типичным примером дягилевского фаворитизма стала замена в последнюю минуту «Жизели», с балериной в заглавной роли, на «Шопениану» и «Пир» на гала-концерте в Парижской опере 19 июня 1909 года[439].) Не считая немногочисленных выступлений в качестве приглашенной артистки в Лондоне в 1911 году, Павлова больше не участвовала в антрепризе Дягилева. Паже-Фредерикс утверждает: Дягилев именно ее уходом позже «объяснял то, что ему не удавалось получить от Фредерикса дальнейших субсидий от царя»[440].
Конечно, в противоположность Дягилеву, Павлова продолжала пользоваться благами Императорских театров. Время от времени она возвращалась танцевать в Мариинский театр. В 1910 году императорское правительство «одолжило» продюсерской организации Макса Рабинова (получив залог $ 250 000) труппу, которая принимала участие в первых американских гастролях Павловой. Действительно, в ноябре 1915 года в американской прессе обсуждался «проект сотрудничества» между «Русской Императорской оперной труппой» и Бостонской Гранд-опера, с которой в то время выступали Павлова и ее труппа[441]. После 1912 года, когда проблемы с законом, отчасти усугубленные Дягилевым, вынудили Дандре покинуть Россию, он связал свою жизнь с жизнью Павловой, став ее менеджером и супругом[442]. Какие бы «надежды на реабилитацию в высших кругах» ни таил Дягилев, они не нашли отклика у императорского двора[443].
К 1909 году царский режим стал справедливо видеть в успехе зарубежной антрепризы Дягилева прямой вызов своей монополии в культуре. Тем не менее попытки развалить его дело не удались, поскольку к тому времени Дягилев приобрел связи, средства и опыт выживания на иностранном рынке даже без поддержки государства. В его кошелек потекли капиталы банкиров, коммерсантов и частных покровителей; артисты, разочаровавшиеся в Императорских театрах, охотно последовали за ним; публика в Париже уже ждала новых постановок. К 1909 году Дягилев собрал средства, необходимые для независимой балетной труппы.
Ансамбль, столь восхитивший парижскую публику в 1909 году, совершил больше, нежели просто продемонстрировал искусство участников балетного раскола в Мариинском театре. Используя одновременно наследия государственного и купеческого ведения дел, эта труппа d’occasion[444] дала начало новой и жизнеспособной форме антрепризы. С началом первого дягилевского saison de danse[445] в театре Шатле русский балет вышел на международный рынок.
6 Вступление в рынок
Когда Дягилев привез свою труппу в Париж, никто не мог предсказать ожидавшего ее успеха. Невозможно было предвидеть и ту последовательность событий, которая два года спустя увенчалась рождением Русского балета. Оглядываясь назад, тем не менее можно заметить, что создание труппы и та форма, которую она приобрела как антреприза, не были совсем уж неожиданными – и то и другое кажется скорее логичной реакцией на условия балетного рынка, который был отчасти создан самим Дягилевым. За период с 1909 по 1914 год его труппа перестала быть придатком Императорских театров либо протеже коммерсантов-благотворителей. Теперь она сама стала обширным коммерческим предприятием, сложная организация которого – и еще более сложная финансовая система – отвечала требованиям закона спроса и предложения.
Не Россия, а Запад дал приют такому предприятию – на рынке оперно-балетного театра. Там Дягилев отыскал импресарио, которые занимались рекламой его сезонов, выступали поручителями при постановке по меньшей мере нескольких его спектаклей, а также привлекали к ним внимание влиятельной публики – зрителей золотого века оперы. Погружение Дягилева в этот мир направлял один из выдающихся импресарио той поры. Продюсер, издатель, искатель талантов и основатель Театра Елисейских Полей Габриель Астрюк пребывал на парижских перекрестках международного мира музыки, будучи важной фигурой в стремительно развивающейся там индустрии развлечений. Его записи, хранящиеся в Нью-Йоркской публичной библиотеке и Национальном архиве Франции, свидетельствуют о необыкновенно широком спектре его деятельности в 1903–1913 годы, когда его звезда воссияла над Ville des Lumières[446], а затем угасла в тени банкротства. Среди тех, с кем он переписывался, были величайшие певцы, композиторы и импресарио тех времен, а музыкальные и театральные проекты, осуществленные им, вошли в историю. Среди них организованная в 1907 году постановка – впервые во Франции – «Саломеи» Рихарда Штрауса, в которой состав исполнителей был приглашен из Германии и за дирижерским пультом появился сам композитор; триумфальный первый визит в Метрополитен-оперу тремя годами позже; фестивали, посвященные Моцарту, Бетховену и Берлиозу, а начиная с 1907 года – почти все Русские сезоны Дягилева. Утверждение, что почти к каждому из важных музыкальных или театральных событий Парижа в 1905–1913 годы приложил руку этот продюсер, едва ли можно назвать преувеличением[447].
Хотя сезон 1909 года был ярким художественным триумфом, в финансовом отношении он стал катастрофой. Дохода от продажи билетов едва хватило на то, чтобы возместить разницу между расходами на постановку и средствами, добытыми из российских источников, и Дягилев остался в огромных долгах – 86 000 франков – перед Астрюком. Благодаря посредничеству последнего один из французских поручителей этого сезона вложил 10 000 франков. Другая, менее альтруистическая сделка, также устроенная Астрюком, обнаружила, что им руководили в первую очередь соображения, не связанные с финансовой стороной дела. Продажа по договорной цене в 20 000 франков всех дягилевских декораций и костюмов импресарио Раулю Гинцбургу была нацелена на то, чтобы устранить в лице Дягилева художественного соперника. Гинцбург, в течение долгих лет руководивший Оперой Монте-Карло, в свою очередь, поспешил поставить собственную версию «Ивана Грозного», использовав костюмы и декорации, приобретенные у «русского выскочки»[448].
Будучи капиталистом от искусства, вряд ли Астрюк не подозревал о новых путях получения прибыли, появившихся на почве успеха Дягилева. Действительно, в течение месяцев, последовавших за сезоном 1909 года, он искал возможностей монополизировать рынок и взять на себя эксклюзивную роль продюсера, представляющего русский балет на Западе. В этот период он зондировал почву в Петербурге, ища сведения о положении Дягилева. 2 августа 1909 года он написал балерине Матильде Кшесинской, чьи отношения с Дягилевым были особенно напряженными, обратившись с вопросом, когда она сможет найти время, чтобы прокомментировать события прошедшего сезона. «Мне стало известно, – писал он также, – что месье Дягилев недавно договорился о том, чтобы провести сезон в Парижской опере в будущем году. Знаете ли Вы об этом, и интересует ли это Вас?»[449]
Поскольку русская труппа должна была выступать в Опере в те же вечера, когда Астрюк представлял Метрополитен-оперу в театре Шатле, дягилевский ангажемент подвергал серьезному риску звездные планы Астрюка на сезон 1910 года. «Меня беспокоит одна небольшая деталь, – писал он, не скрывая гнева, Эмилю Эноку. – Русский, с которым я вел дела в прошлом сезоне, нагло замышляет вернуться в Париж в этом году и пытается соперничать со мной». В конце осени Астрюк начал действовать, задавшись целью дискредитировать Дягилева в глазах его потенциальных покровителей на сезон 1910 года и лишить его эксклюзивного доступа к танцовщикам Императорского балета. В середине ноября он призвал на свою сторону великого князя Андрея, возлюбленного Кшесинской и заклятого врага Дягилева и его антрепризы. На следующий день после этого разговора Астрюк обратился к барону Фредериксу с просьбой разрешить ему предоставить отчет о деятельности Дягилева в ходе прошедшего Русского сезона. В этом документе, составленном с учетом лишь его собственных интересов, он детально описывал частые случаи невыполнения Дягилевым контрактных обязательств и утверждал, что его поведение «скомпрометировало во Франции доброе имя администрации Императорских театров». Документ оканчивался требованием, чтобы министр императорского двора отозвал свое «официальное разрешение» у «“импресарио-любителя”, чья репутация в Париже была так сильно испорчена»[450]. В своем желании изжить конкуренцию на западном рынке представителей русского балетного искусства Астрюк был беспощаден.
В это же самое время он вел длительную переписку с одним из петербургских импресарио на тему альтернативной балетной антрепризы, намеченной на лето 1910 года. Его сообщником был Борис Шидловский, балетный критик одной из небольших петербургских газет и супруг Юлии Седовой, ведущей солистки Императорского балета, которую Дягилев безуспешно пытался пригласить в 1909 году. Рассчитывая на кампанию в российской прессе, которая дискредитировала бы Дягилева и таким образом лишила его возможности собрать средства на постановки для сезона 1910 года, Шидловский предлагал организовать труппу во главе с Седовой и бывшим партнером Павловой Адольфом Больмом (чьим амбициям исполнителя и хореографа Дягилев не желал идти навстречу), включив туда и других артистов, которые были «недовольны» теми «мелкими ролями», которые доставались им в балетах у Дягилева. Он предлагал ангажировать эту компанию для выступлений в оперных балетах и дивертисментах в течение сезона, когда будет выступать Метрополитен, – и тогда, если дягилевская антреприза в последнюю минуту потерпит крах (что он полагал возможным), объединить две труппы и чередовать программы русского балета с выступлениями итальянской оперы в Шатле[451].
24 декабря Дягилев подписал с Парижской оперой контракт на 100 000 франков. К середине февраля 1910 года он выплатил свой долг Астрюку и выкупил часть костюмов и декораций, проданных Гинцбургу прошлым летом[452]. Была достигнута договоренность с Астрюком, согласно которой спектакли Русского балета должны были чередоваться с выступлениями Метрополитен-оперы. Он также согласился, чтобы Музыкальное общество Астрюка занималось анонсами и рекламой предстоящего сезона. Хотя планы разрушения дягилевской монополии в сфере, внезапно ставшей желанным источником дохода, в конечном счете провалились, они свидетельствуют о том, до какой степени в антрепризу Русского балета к концу 1909 года вмешалась рыночная конкуренция.
Сезон 1910 года в Парижской опере упрочил положение Дягилева среди импресарио-конкурентов. Имея в репертуаре семь балетов, он вновь продемонстрировал свою организаторскую стойкость. Ему удалось не только повторить художественный успех предыдущего сезона, но и показать, что он может достичь его без излишних проблем с кредиторами. Как и предсказывал Астрюк, доход уменьшился в сравнении с прошлым сезоном – с 522 000 до 398 887 франков. Однако, невзирая на меньшую прибыль, Дягилев смог покрыть расходы в 1 210 000 франков, представлявшие, по его собственным оценкам, полную стоимость всей антрепризы 1910 года[453].
Часть нехватки прибыли была покрыта доходом от сезонов в Берлине и Брюсселе до и после парижского ангажемента. Другие суммы поступили от покровителей из России. Среди них были Савва Морозов, М. А. Калашникова, барон Дмитрий Гинцбург и Николай Безобразов. Безобразов, член совета Министерства торговли и промышленности, и Виктор Дандре, более того, выступили поручителями при займах в Русском банке и в Société Mutuel Crédit соответственно. С французской стороны имена графини де Шевинье, графини де Беарн и, прежде всего, маркизы де Ганэ назывались в Петербурге в качестве дягилевской grand appui financier[454][455].
Тем не менее, сколько бы покровителей ни удалось привлечь Дягилеву, сама суть балетной экономики требовала финансовой организации на более систематической основе. На западном театральном рынке частная труппа, стремившаяся к величию императорской сцены, могла выжить лишь как антреприза, обслуживающая международную оперную сеть.
Переговоры Дягилева с влиятельными директорами оперных театров и импресарио в период с апреля по декабрь 1910 года стали ключевым этапом в создании Русского балета. Завершившиеся составлением ряда черновых контрактов, они создали экономическую перспективу для существования постоянной труппы. В конце июля – начале августа предварительные соглашения были достигнуты с Джулио Гатти-Казацца, управляющим директором Нью-Йоркской Метрополитен-оперы, и с Томасом Квинланом, управляющим оперной труппой Томаса Бичема в Лондоне. Пять месяцев спустя схожий контракт был составлен с господами Парадосси и Кансельи из Театра Колон в Буэнос-Айресе[456]. Три этих документа, при создании которых Астрюк выступал как посредник Дягилева, обеспечивали долгосрочные ангажементы труппы на сезоны 1911/12 и 1912/13 годов. Эти контракты представляли собой нечто большее, чем заказы на выступления в определенном «зале». Организации, подобные Метрополитен, имели влияние в самых различных сферах музыкального предпринимательства. Как продюсеры они формировали вкус публики, и в то же самое время, будучи театральными агентами, имели доступ к прибыльным гастрольным маршрутам. Если под контролем Бичема были самые престижные театры музыкального мира Лондона, то Театр Колон был законодателем театральных стандартов в Бразилии и Аргентине. Наибольшей властью обладала Метрополитен, открывавшая различным труппам двери оперных и других профессиональных театров не только на большей части территории Соединенных Штатов, но и в Канаде, на Кубе и в Мексике. Начало независимой труппы Дягилева основывалось на его связях среди влиятельных лиц оперного рынка.
Пусть все эти контракты были в конечном счете пересмотрены, они заложили необходимую базу для постоянной организации. Осенью 1910 года Дягилев начал нанимать танцовщиков для своей труппы. В те же месяцы он получил разрешение от Клода Дебюсси на «хореографическое переложение» его Прелюдии к «Послеполуденному отдыху фавна» и заказал партитуру «Синего бога» Рейнальдо Гану. В декабре, как извещал Дягилев Метрополитен через посредничество Астрюка, «troupe excellente est formée»[457], и Нижинский начал создавать первые наброски к «Послеполуденному отдыху фавна»[458].
В годы, предшествовавшие Первой мировой войне, Дягилев был в дружеских отношениях с руководством признанных европейских оперных театров. Его труппа регулярно выступала на льготных условиях на сценах Парижа, Брюсселя, Берлина и Монте-Карло, где с 1911 года он организовал резиденцию труппы для репетиций в зимний период. В противоположность итальянской полувековой традиции «экспортировать» балетмейстеров и танцовщиков, в начале 1911 года в Ла Скала были поставлены «Шехеразада» и «Клеопатра», на премьеры которых были специально приглашены Фокин и Ида Рубинштейн – это стало одним из многих знаков того, что дягилевский репертуар вышел на международный уровень[459]. Несмотря на эти связи, однако, престижные театры не столько подвергались влиянию русской труппы, сколько предоставляли ей место для выступлений. Работая в угоду традиционному вкусу и своей привычной публике, они не желали отождествлять себя с дягилевской «маркой» художественной новизны и продвигать ее. Более того, во всех этих театрах были собственные балетные труппы, которые, уступая по уровню, препятствовали длительным объединениям с приглашенным соперником.
В большой степени успехи Дягилева в попытках вывести свою труппу на оперный рынок того времени связаны с работой импресарио, которые действовали вне основной – субсидируемой – части театров. Новички в мире господствовавших традиций, такие как Габриель Астрюк и сэр Томас Бичем – первый был сыном раввина, второй – внуком производителя лекарственных препаратов, – или такие, как Оскар Хаммерштайн и Макс Рабинов в США[460], приобрели свою марку, создавая альтернативные организации, которые должны были угодить постоянно растущей части публики, жаждавшей новизны. Космополиты по вкусам и кругозору, они были антрепренерами, вдохновленными религией высокой культуры, которые обнаружили во внезапно появившейся труппе из российских степей воплощение своих художественных идеалов, ориентированных на новое, отражение своего маргинального статуса и путь к тому, чтобы узаконить свое социальное и профессиональное положение. Необычным сочетанием роскоши и артистизма, нововведений (за исключением работ Нижинского) внутри допустимых границ символизма и ар-нуво и традиционных профессиональных стандартов Русский балет довоенного времени был необыкновенно притягателен для его осведомленных поклонников.
Связи Дягилева с этими независимыми личностями музыкального мира были подобны браку по расчету, выгодному обеим сторонам. Для таких импресарио, как Астрюк и Бичем, ставшие продюсерами большинства довоенных дягилевских сезонов в столицах Франции и Англии, гастролирующая труппа, которая дублировала постановочные функции, характерные для престижных оперных театров Запада, стала финансовой необходимостью. Как выяснил Бичем в конце 1910 года, когда его первое, сроком в двенадцать месяцев, предприятие по постановке опер в Ковент-Гарден завершилось, подобные попытки лишь «приносили беду», даже при значительной финансовой поддержке (исходившей в данном случае от Бичема-старшего)[461]. Оглядываясь в прошлое с высоты примерно десятилетнего опыта продюсерской работы, он писал:
Мне стало совершенно ясно то, о чем я подозревал и раньше, а именно то, что без поддержки государства или муниципальных властей первоклассная оперная организация никогда не смогла бы существовать на постоянной основе, – отдельные сезоны как сейчас, так и раньше могли приводить к напрасным тратам… Но учреждение, которое нанимает лучших из имеющихся певцов, музыкантов, танцовщиков, механиков, продюсеров и художников-декораторов, с коммерческой точки зрения невозможно и недоступно по средствам одному человеку, если только он не мультимиллионер. Новейшая история, увы, еще не породила такого необычного явления, как мультимиллионер, который действительно серьезно интересуется музыкой[462].
Перспективы выживания постоянного театра были столь же мрачными – этот урок Астрюк получил на собственном печальном опыте, когда построил и вскоре же потерял великолепный Театр Елисейских Полей. Роскошный первый сезон, включавший показы балетов, французской и русской оперы, премьер «Весны священной» в постановке Нижинского и «Пизанеллы» Иды Рубинштейн, окончился банкротством. В те времена, когда в порядке вещей были оркестры из семидесяти-восьмидесяти музыкантов (в «Весне священной» было задействовано более девяноста инструментов) и когда в балете, как и в опере, обширную сцену заполняла огромная труппа и целая армия статистов в роскошных костюмах, расходы делали невозможными подобные постановки на регулярной основе вне финансируемых учреждений.
В этом и состояла причина привлекательности труппы Дягилева, которую можно было нанять вместе с готовым репертуаром. По оговоренной цене театры пожинали плоды чьих-то чужих инвестиций, рассчитывая на то, что увеличившееся число зрителей покроет их плановые и внеплановые расходы. Уникальность дягилевской антрепризы, впрочем, дорого обходилась импресарио: как сообщают, один вечер выступлений в течение коронационного сезона 1911 года, когда труппа дебютировала в Лондоне с составом из 100 танцовщиков и 200 статистов, стоил тысячу фунтов стерлингов[463]. Дягилев мог идти на любые сделки, поскольку в этот довоенный период у него была возможность диктовать свои условия и ему не нужно было отчитываться за доходы билетной кассы. В отличие от послевоенных контрактов труппы, где оплата чаще всего высчитывалась в процентах от дохода с продажи билетов с указанием гарантированной минимальной платы за выступление, в довоенных контрактах Дягилева обычно оговаривался постоянный гонорар за спектакль – 400 фунтов в случае первоначального контракта с Бичемом и 24 000 франков во время сезона на Елисейских Полях в 1913 году[464]. Как примадонны мирового класса, которые к началу XX века вытеснили доморощенные таланты с оперных сцен, труппа Дягилева перемещалась из театра в театр, представляя собой одновременно звездный балетный ансамбль и «оружие» ведущих оперных импресарио того времени.
Постоянные гастроли были той ценой, которую Дягилев платил за независимость. Это необходимое условие существования на рынке в XX веке определило стратегию поведения балетных трупп, которые не финансировались государством. Более того, эта линия поведения имела свои эстетические последствия – как благоприятные, так и неблагоприятные – для развития труппы в целом. В своем «Художественном письме» в газету «Речь» от 25 июня 1911 года Бенуа озвучил их для петербургской публики:
Но можно ли ожидать дальнейшего постоянного… развития в тех условиях, в которых существует дягилевская антреприза, – в условиях гастролирующей труппы? Верно говорят, что величайшие театры возникают в среде странствующих актеров, и на самом деле, во многих отношениях особая психология бродячего театра приводит даже к особому творческому подъему; такие труппы вынуждены учиться простоте, а значит, и предельной выразительности средств. Это превосходная тренировка. Но при всем этом… лишь оседлый образ жизни ныне может и дальше двигать антрепризу Дягилева по пути совершенствования, охраняя ее от элемента случайности, с которым она пока вынуждена считаться. Только в оседлых, привычных условиях, при изобилии времени, постановки могут быть пересмотрены вне необходимости идти на компромисс – особенно это касается сценической стороны спектакля, осуществления театрального действия. В странствующем театре вы каждый миг рискуете чем-то существенным – и поэтому никогда не сможете полностью отшлифовать постановку[465].
В интервью, опубликованном в Монтевидео в газете «Эль Диа», Нижинский подробно описал психологические сложности жизни в дороге: безликость гостиниц, печаль от того, что на каждый новый театр можно взглянуть лишь мельком, во время работы, сквозь призрачный свет рампы. «В вечной спешке, мы живем подобно Вечному Жиду… Вечному Жиду, который странствует в спальном вагоне»[466].
Ни Астрюк, ни Бичем не ограничивали свое участие в дягилевской антрепризе одной лишь продажей билетов. В 1912 году Дягилев нанял оркестр Бичема, который после двух сезонов в Ковент-Гарден знал репертуар труппы как свои пять пальцев, на двухмесячные гастроли в берлинском Кролл Театре. Для лондонского оркестра Бичема трудно было найти что-то более выгодное, чем дебют в музыкальной столице Германии при таких благоприятных условиях. В тот же год Бичем выплатил Дягилеву авансом 950 фунтов; вместо обычного гонорара за выступления Дягилев согласился принять 25 % от общей суммы доходов с вычетом затрат на зарплату оркестру, освещение, рекламу и другие нужды[467]. Более того, в 1913–1914 годах оба импресарио стали поручителями при нескольких постановках труппы. Их вклад в основном сконцентрировался на оперных спектаклях. В своих воспоминаниях Бичем писал:
Я был убежден, что современному положению оперы в Лондоне был жизненно необходим какой-то новый приток яркой оригинальности, – было невозможно не заметить неослабевающую популярность балета, и можно было представить себе, что решением проблемы может стать еще одна полностью русская организация. Тогда я оставил свою должность в Ковент-Гарден, попросил Дягилева провести переговоры о приезде оперной труппы из Императорского театра Санкт-Петербурга, включая певцов, хор, новые декорации и костюмы – на самом деле все, кроме оркестра, – и арендовал театр Друри-Лейн. Таким образом, на лето 1913 года я оказался в положении соперничества с театром на противоположной стороне улицы, которое я должен был бы занять двумя годами ранее, если бы выполнил свой прежний план, как было задумано[468].
Хотя своей славой Дягилев обязан балету, его довоенные сезоны проходили на фоне оперы. Опера не была лишь промежуточной ступенью, на которой он добился своего первого театрального триумфа, – не проходило и сезона без того, чтобы его труппа не делила площадку и даже программу выступления со своим «сестринским» искусством. В 1913–1914 годах, впрочем, опера перестала служить лишь обрамлением балетной труппе: она занимала в репертуаре еще больше места, чем в 1909 году, – притом что и тогда играла огромную роль. Этот факт, совпавший по времени с периодом экономической неустойчивости труппы, говорил о растущей уверенности Дягилева в будущих крупных вложениях капитала, исходивших от музыкальных импресарио.
Хотя исключительное право на то, чтобы привезти русскую оперу в Лондон в 1913 году, взял на себя Бичем, фактически расходы понес Астрюк. На главные события первого сезона Театра Елисейских Полей – возобновление «Бориса Годунова» и парижскую премьеру «Хованщины» – Астрюк, по его собственным подсчетам, потратил «700 000 франков на земле царей»: «Одни только боярские одеяния стоили 150 000 франков!» Для продюсера на грани банкротства это был акт экстравагантного расточительства или же полного безумия. Позже Астрюк сдал костюмы и декорации в аренду Дягилеву. Премьеры опер в Лондоне состоялись под эгидой организации Бичема во время летнего сезона в Королевском театре Друри-Лейн. Когда Астрюк заявил о банкротстве, Бичем приобрел обе постановки за 40 000 франков, а затем продал «Бориса Годунова» Парижской опере. Торговля оперным имуществом принесла доход всем, кроме человека, который его оплатил[469].
Когда империя Астрюка пала, Бичем занял образовавшуюся брешь. Более дальновидный, чем его французский конкурент, он использовал дягилевское безденежье, чтобы заложить основы собственного предприятия. Согласно контракту, подписанному в середине марта 1914 года, он ссудил Дягилеву сумму аванса, которую последний соглашался выплатить Рихарду Штраусу, чьи оперы Бичем продвигал долгое время, и либреттисту Гуго фон Гофмансталю за исключительные права на показ «Легенды об Иосифе». Величина суммы (100 000 франков) и дата перечисления (чуть ли не за два месяца до премьеры) свидетельствуют о напряженной ситуации, в которой находился Дягилев, в то время как условия сделки (выплата частями в течение сорока восьми часов после каждого выступления) обнаруживают заинтересованность Бичема в том, чтобы компенсировать свои вложения деньгами или товаром. «Легенда об Иосифе» бесследно исчезла из репертуара дягилевской труппы, что наводит на подозрения, что долг так и не был выплачен и постановка осталась в собственности организации Бичема. Эту точку зрения подтверждает еще один пункт соглашения – обещание Дягилева предоставить к 28 мая 1914 года «полный комплект декораций… необходимых для показа оперы, известной под названием “Иван Грозный”», – «свободный от всех выплат» и с гарантией, «что они [Дягилев и его компаньон барон Дмитрий Гинцбург] являются его полноправными владельцами»[470].
В этом сезоне 1914 года в Друри-Лейн, который открылся «Кавалером розы» Штрауса и «Волшебной флейтой» Моцарта, Дягилев «обещал показать» в Лондоне четыре новые оперы. Такая договоренность, отмечал Сергей Григорьев, была достигнута год назад с сэром Джозефом Бичемом, отцом Томаса и поручителем его музыкальных предприятий. К зиме 1914 года подготовка оперной части программы, которая, кроме «Ивана Грозного» Римского-Корсакова, содержала его же «Майскую ночь», «Князя Игоря» Бородина, «Соловья» Стравинского и возобновление «Бориса Годунова», шла полным ходом, что наводит на мысли о притоке крупных денежных сумм в дягилевский кошелек. Напротив, балетный репертуар представлял серьезную проблему. Даже с дорогой и престижной «Легендой об Иосифе» балетная программа оставалась слабой, «Бабочки» и «Мидас» Фокина были лишь старыми постановками, поданными под новым соусом. («Бабочки» были поставлены в России двумя годами ранее.) Лишь «Золотой петушок», балет Римского-Корсакова, поставленный как opéra dansé[471], вызвал учащение пульса у его сотрудников, которые «в муках искали тему для нового балета»[472].
Этот творческий тупик, означавший, что основная работа воображения перешла с балетов на оперу, говорил о кризисе в управлении дягилевской организацией в целом. В чем состояло будущее Русского балета – в опере, в танце или сочетании того и другого? Если бы в фокусе был балет, где брала бы труппа средства на новые постановки? Из новых спектаклей, поставленных для сезона 1914 года, большая часть никогда больше не исполнялась труппой Дягилева. Это было связано не только с эстетическими переменами, произошедшими в военные годы, но и с тем фактом, что часть из этих постановок перешла в полную собственность организации Бичема. Мы уже упоминали приобретение «Бориса Годунова» и «Хованщины» у Астрюка и положения контракта, где говорилось об «Иване Грозном». На самом деле, во время войны и нескольких лет после нее Бичем показал возобновления всех трех спектаклей вместе с «Князем Игорем», поставленным для его собственной труппы. То, что костюмы работы Бенуа и декорации для «Соловья» тоже перешли к Бичему, также подтверждено документально[473]. Вполне вероятно, что «Золотой петушок», поставленный танцовщицей Серафимой Астафьевой для организации Бичема в 1918 году, «Майская ночь» и «Мидас» не избежали той же участи. По условиям соглашения о показе «Легенды об Иосифе» Бичем имел право на «объединение с заемщиками… при постановке» русских балетов и опер в англоговорящих странах. Вкупе со свидетельствами о долгах Дягилева многие детали сезона 1914 года говорят о том, что, не случись войны, антреприза Дягилева вполне могла бы стать совместным предприятием с «Оперными сезонами сэра Томаса Бичема».
Вне сомнения, все финансирование Дягилева приходило через импресарио. Довоенные субсидии поступали и из других источников, таких как частные покровители, которые по традиции финансировали постановки вне официальной сферы, и банки, предоставлявшие краткосрочные ссуды. Противопоставление этих источников лишний раз подчеркивает противоречие между образом, который дягилевская антреприза имела у публики, и реальным положением дел. В то время как мифотворцы труппы использовали именитых покровителей, чтобы воскресить утраченные к тому времени связи с Императорскими театрами и царским двором, финансы труппы оставались, что было гораздо прозаичнее, в руках влиятельных посредников.
Вряд ли возможно установить, в каких объемах благотворители оказывали материальную поддержку Дягилеву. Скрытность в отношении денег всегда отличала наиболее богатых, и, когда дело доходило до их чековых книжек, покровители Дягилева являли образцы осмотрительности. По словам биографа принцессы Эдмон де Полиньяк, она была «одним из главных благодетелей Дягилева и оставалась ему самой надежной опорой до самой его смерти в 1929 году», хотя размер ее вложений установить и невозможно. «В первое десятилетие она довольствовалась крупными пожертвованиями в фонд его труппы, оставляя всю художественную сторону ему на откуп. Однако позднее, наряду с обычными вложениями, она стала финансировать постановки отдельных спектаклей. Таким образом, будучи вовлечена в дело финансово, она могла быть уверена, что никогда не пропустит появлявшихся у него работ». Мися Серт, еще одна давняя подруга Дягилева, неожиданно возникла с векселем на тысячу франков в тот момент, когда взбешенные костюмеры и прочие кредиторы требовали платы – в последнюю минуту, когда уже нужно было поднимать занавес[474]. В целом, однако, все они – Ага Хан, графиня де Греффюль, леди Кунард и подобные им благотворители из элиты, чья щедрость воспринималась как нечто само собой разумеющееся, – прилагали большие усилия в общественной сфере: уговаривали друзей брать ложи на сезон, организовывали престижные благотворительные вечера, давали приемы после премьер или же устраивали зрелищные праздники, в которых участвовали звезды труппы.
Маркиза Рипон и, в меньшей степени, графиня де Греффюль оказали Дягилеву даже бо́льшую услугу, чем просто повлияли на финансовых агентов, работавших на ниве музыкального театра по всему миру. «Самая преданная английская поклонница труппы» леди Рипон имела связи в Ковент-Гарден: ее муж был неизменным членом дирекции. Графиня де Греффюль также обладала влиянием за кулисами. Во время своего пребывания в Соединенных Штатах в 1910 году она оказала воздействие на Отто Кана, председателя совета директоров Метрополитен-оперы – как раз в то время, когда переговоры Дягилева с Гатти-Казацца никак не сдвигались с мертвой точки[475]. Пусть даже ее усилия ни к чему не привели, они свидетельствуют о существенных изменениях в той роли, какую играло покровительство в предвоенные годы. Когда именитые жертвователи не могли или не желали финансировать антрепризу, их покровительство все же способствовало созданию благоприятного отношения к ней в обществе и служило средством доступа к влиятельным художественным учреждениям и агентам-посредникам.
Тенденция к финансовому посредничеству как основной функции покровительства ясно проявилась в том, что в 1910 году Дягилев назначил барона Дмитрия Гинцбурга содиректором антрепризы. Известный коллекционер и дилетант в области искусства, Гинцбург унаследовал крупнейшее еврейское банковское предприятие в Российской империи. Банк Гинцбурга имел филиалы в Париже, партнеров в Гамбурге, Берлине и Франкфурте и входил в число важнейших банков Европы. Гинцбург вложил не менее 2000 рублей в дягилевский сезон 1909 года и все время своего пребывания в должности содиректора выписывал чеки на текущие расходы. В 1913 году он стал одним из основных кредиторов труппы, при этом на 25 мая сумма в 12 500 франков еще не была ему возвращена. Основное преимущество его пребывания в окружении Дягилева состояло, однако, в прочном финансовом положении и репутации его семейства: когда контракты подписывались совместно с бароном Гинцбургом, кредиторы получали гарантию того, что ссуды и авансы будут возвращены[476].
Несмотря на помощь покровителей и усилия импресарио, годы с 1912 по 1914-й были отмечены для Русского балета большими финансовыми трудностями. Благодаря успешным сезонам деньги потекли в кассу Дягилева, но капитал, необходимый для постановки новых балетов, в отличие от опер, никак не удавалось собрать. В течение года после начала существования независимой труппы ее финансовое положение стало критическим, и Дягилев, остро нуждавшийся в деньгах для подготовки сезона 1912 года, вновь прибег к краткосрочным банковским ссудам. Мы помним, что в 1909 году они стали спасением. В 1912 же году ссуды обеспечили средства на проведение сезона, в который состоялся дебют Нижинского как хореографа.
Остается неизвестным, какую точно сумму занял Дягилев у «Бранде и K°» в начале 1912 года. Однако ясно, что сумма эта была внушительной – приблизительно 300 000 франков, что в три раза превышало французский гарантийный капитал, собранный в 1909 году. Заем был организован через фирму, располагавшуюся неподалеку от штаб-квартиры Астрюка, и был ассигнован на покрытие расходов, возникших в связи с проведением сезонов в Париже и Берлине. Долг подлежал возврату 3 августа 1912 года, и с самого начала Дягилеву не удавалось осуществлять выплаты по установленному графику[477]. Когда труппа вернулась в Париж в 1913 году, он все еще оставался неуплаченным. Около 20 % суммарного дохода труппы за исключительно успешный сезон, проведенный в Театре Елисейских Полей, пошло на выплату прошлогоднего «аванса». Согласно документам, сохранившимся в архивах Астрюка, Дягилеву было выплачено 528 000 франков за ангажемент (22 спектакля, по 24 000 за каждый), из которых Бранде получил в общей сложности 104 000 франков (8000 за каждое из тринадцати представлений). До ликвидации задолженности тем не менее все еще было далеко. На июнь 1914 года невыплаченными оставались 176 595 франков, и 4 июня часть собственности труппы, включая ящики с костюмами и декорации дворца в венецианском стиле из «Легенды об Иосифе», были опечатаны в коридорах Парижской оперы – накануне отправки в Англию к лондонскому сезону труппы. Прочие кредиторы из числа изготовителей рекламы и реквизита – господа Баленкур и Дюпон, господин Жало из дома Беллуар-Жюмо, потребовавший вернуть ему гирлянды из плюща и задники, и театральное агентство «Леон Жю и K°» – действовали схожим образом[478]. По-видимому, долги были выплачены, так как нет свидетельств того, что в Лондоне демонстрировались усеченные версии постановок. Как Дягилеву удалось в последнюю минуту собрать 188 606,25 франка, остается тайной, и существует большое искушение предположить, что к этому приложил руку Бичем. Если он действительно выручил Дягилева в этот момент, то постановки «Соловья», «Золотого петушка» и «Легенды об Иосифе» вполне могли быть платой за его щедрость.
Какой бы ни была точная сумма дягилевской задолженности, ее величина заставляла задуматься о способности труппы к выживанию. Своим наперсницам леди Рипон и Адди Кан Дягилев признавался в опасениях, что труппа близка к краху. «Было несколько встреч леди Рипон Дягилевым поводу балета для Нью-Йорка, – телеграфировала Адди Кан своему мужу Отто из Лондона 18 июля 1914 года. – Очень настаивают труппа должна ехать Америку этой зимой срочному поводу слишком сложно телеграфировать которого сильно зависит существование организации. Дягилев желает даже провести 10 спектаклей Нью-Йорке Бруклине часть утренних и несколько Филадельфии, Бостоне, Чикаго просто, чтобы сохранить состав труппы». Месяц спустя, когда в Европе разразилась война, Гинцбург предложил отправиться в Нью-Йорк для обсуждения деталей будущих гастролей русской оперы и русского балета – это служит знаком того, какую нужду имел Дягилев в тот момент в срочном вливании американских долларов[479].
За период с 1909 по 1914 год Дягилев превратил балет из развлечения, к которому относились с пренебрежением, в искусство, ценимое за красоту и выразительность. Могли ли даже поклонники балета в 1909 году подозревать, какая неудержимая воля стояла за его щегольским фасадом – воля, которая за краткий промежуток в пять лет породила два десятка балетов и около десятка опер? Перед лицом практически непреодолимых трудностей Дягилев воскресил свою антрепризу после финансовой катастрофы ее первого сезона, создав уникальную в европейской балетной истории труппу: это было грандиозное антрепренерское начинание, осуществленное во имя красоты, воображения и художественного вкуса. Многие искали возможности перехватить его место на передовой линии продвижения русского искусства. Сделать это им, однако, не удалось, потому что лишь в многогранной личности Дягилева совмещались творческий порыв художника и знание рынка, присущее импресарио. В его подходе к искусству и к антрепризе с точки зрения объединения усилий разных творческих индивидуальностей, как и в интуитивном понимании того, как использовать рынок в традиционных целях высокого искусства, и заключался его замечательный гений.
Несмотря на это, даже Дягилеву не удалось избежать изменений внутри самой труппы, вызванных духом рынка. Рынок привнес иерархию в положение танцовщиков и в их отношение к художественной работе, превратив артистов и их творчество в подлежащий оценке продукт. В систему рангов танцовщиков труппы рынок внес новое разделение труда, в основе которого – как в недавно установившейся системе оперных звезд – был не ранг, а деньги. А добавив некоторый фетишизм в отношения между артистами, рынок разрушил атмосферу студии, на которой зиждилось сотрудничество, характерное для начала труппы.
Впечатляющий успех Русского балета пробудил по всему Западу вкус к новому русскому балетному искусству. Очень скоро образовался балетный рынок, на котором спрос заметно превосходил предложение. Внезапно артистов, даже не слишком востребованных в Мариинском театре, стали осаждать предложениями магнаты индустрии развлечения.
За исключением привилегированного меньшинства из тех, кто носил статус балерины (в 1909 году столь высокого ранга были удостоены лишь Матильда Кшесинская, Ольга Преображенская, Анна Павлова и Вера Трефилова), танцовщики Мариинского театра имели небольшой заработок. Если годовое жалованье Павловой с момента назначения ее балериной выросло до 3000 рублей, то большинству ее коллег платили лишь часть этой суммы. Опять же, все артисты балета, кроме балерин и первых танцовщиков, не имели большого выбора, где, в каких спектаклях и насколько часто танцевать. Переходы артистов между театрами Москвы и Петербурга происходили по прихоти императорских бюрократов, не менее деспотическим мог быть и подбор актерского состава. Других возможностей выходить на сцену было немного. В 1911 году Нижинская писала: «В Мариинском театре я выступала раз десять за сезон, а в Монте-Карло я участвую во всех балетах и танцую четыре раза в неделю. Там я легко справлялась со всем, что мне поручали, а в балетах Фокина для меня много нового…»[480]
Хотя время после революции 1905 года было отмечено первой волной отъезжающих на Запад, в общем и целом артисты балета оставались преданы Императорским театрам. Пусть даже многим приходилось давать уроки танцев богачам, чтобы обеспечить заработок, позволявший кормить семью, привилегия работы в качестве артиста Императорских театров более чем компенсировала все ее недостатки. Даже скромно одаренный ребенок, принятый однажды на содержание Императорского театрального училища, мог надеяться на достойное положение в жизни. Окончание училища означало поступление в Императорский балет и круглогодичное жалованье до возраста тридцати пяти лет, после чего артист получал пожизненную пенсию. Были и другие преимущества, включая льготы при поступлении в училище для детей и других родственников артистов. Действительно, к началу XX века артисты Императорских театров превратились в царской России в отдельную, пусть и неофициальную, касту. Поскольку внутри трупп часто заключались браки, а также ввиду прочих обстоятельств, типичных для жизни людей театра, многие из танцовщиков пришли к Дягилеву из семей, создавшихся в тесно переплетенных между собой кругах Большого и Мариинского театров.
Само существование дягилевской антрепризы представляло собой определенную форму соревнования, которая оказывала свое влияние на экономический, социальный и художественный статус артистов. Однако с триумфом 1909 года за труппу стали сражаться театральные менеджеры, желавшие извлечь выгоду из новообретенного откровения русского балета и готовые дорого заплатить за привилегию стать его представителями. «Эти люди получают необыкновенные предложения, – писал парижский театральный агент Эрколь Альфреду Моулу, директору лондонского театра Альгамбра 23 июля 1910 года. – Они искушены этими предложениями, и поэтому, естественно, их гонорары много выше, чем были хотя бы год назад». Продюсерам Эрику Вольхейму и Освалду Столлу, как писал Эрколь пять дней спустя, «стоило бы надеть смирительные рубашки и приложить лед к головам – они делают рынок невозможным. Понятно, что, раз в жизни, как на бирже, все основано на спросе и предложении, люди, которые ползают на коленях перед русскими танцовщиками и предлагают им ангажементы на блюдцах с золотой каемочкой, тем самым вынуждают их запрашивать неслыханную плату…». Не имея возможности заполучить ни балет Дягилева, ни даже труппу, возглавляемую Фокиным, театр Альгамбра пригласил балет из Москвы. Ансамбль возглавила выступавшая во втором дягилевском сезоне Екатерина Гельцер; за это она получала 90 фунтов стерлингов в неделю – гонорар, более чем в два раза превышавший сумму в 40 фунтов, которая была предложена Лидии Кякшт, когда она стала прима-балериной Эмпайр Тиэтр в 1908 году[481].
Кроме лондонских мюзик-холлов, существовали и другие коммерческие сцены, где дягилевским артистам сулили золотые горы. В конце сезона 1910 года ряды труппы несколько поредели из-за того, что некоторые танцовщики отправились, чего раньше не случалось, в гастроли по водевильным площадкам Америки. Среди них была восемнадцатилетняя Лидия Лопухова, «беби-балерина» труппы, чей успех в Париже и Лондоне вызвал несколько привлекательных предложений с той стороны Атлантики. Ее письмо от 22 июля 1910 года Александру Крупенскому, главе петербургской дирекции Императорских театров, где она просила разрешения на два месяца отсутствия, передает тягостную театральную атмосферу того времени:
Многоуважаемый Александр Дмитриевич!
…Ваша ко мне доброжелательность дает основание рассказать, что со мной случилось: благодаря успеху в Берлине и Париже ко мне начали появляться разные агенты, приглашающие меня в разные города и разные страны; предложения были очень соблазнительны, но я всем отказывала, помня, что всем, чего я достигла, я должна быть обязана школе и Вам, которого я еще до сих пор не поблагодарила, что меня произвели в корифейки… И вот можете себе представить, что со мной сделали. Окружили со всех сторон, убедили, я подписала контракт в Нью-Йорк. На другой же день я одумалась, я плакала, Бог знает, что я бы дала, чтобы этого не случилось, тоска меня гложет, я не хочу ехать никуда, но агенты, как церберы, над моей душой, да и последствия неисполнения контракта были бы для меня ужасны… Я прошу Вас дать мне отпуск[482].
Крупенский дал юной корифейке разрешение на отъезд, а заодно и увеличил ей зарплату. Этого оказалось недостаточно, чтобы удержать ее в Мариинском. Той же осенью вместе со своим братом Федором Лопуховым (будущим хореографом) и будущим партнером Анны Павловой Александром Волининым она выехала в первый из многочисленных туров по Америке, задержавших ее там на шесть лет. Для танцовщицы, о которой «Петербургская газета» отзывалась как о «совершенно неизвестной», 4000 рублей в месяц были предложением, от которого она вряд ли смогла бы отказаться[483].
Как и Лопухова, многие русские танцовщики остерегались Дягилева и Европы. Пока танцовщики, отобранные Дягилевым, совершали ежегодные марши из Петербурга в Париж, импресарио расхищали казавшуюся бездонной копилку талантов Императорских театров. К 1911–1912 годам не менее трех конкурирующих ансамблей самостоятельно гастролировали по Америке. Подавляющее большинство входивших в эти тесно переплетенные группы, создавшиеся вокруг Анны Павловой, ее бывшего партнера Михаила Мордкина и Гертруды Гофман, первой женщины среди продюсеров танца на Бродвее, составляли танцовщики Императорских театров, уже побывавшие в составе дягилевской труппы, которая стала своеобразным «турникетом» на входе в разрастающийся мировой балетный рынок. Как и их конкуренты в Европе, они использовали такие подсказанные дягилевской антрепризой названия, как «Русский сезон» или «Русский Императорский балет», а сами танцовщики именовали себя «артистами Императорского балета», даже если это уже было и не так[484].
За исключением Павловой, дебютировавшей в Метрополитен-опере в Нью-Йорке, все эти русские танцовщики приспосабливали свое искусство к требованиям коммерческой сцены. Они не столько использовали новые возможности преподнесения балета публике, сколько блистали своим мастерством на фоне выступлений акробатов, певцов и фокусников, которыми в основном потчевали зрителей водевили и мюзик-холлы. Взяв за основу одноактные балеты и дивертисменты Дягилева, они извлекали отдельные танцы из классического и современного репертуара и представляли их как абстрагированную суть драматических ситуаций. Как явно показала карьера Павловой, успех у публики свидетельствовал об умении танцовщика устанавливать немедленный контакт со зрителем – независимо от качества хореографического материала.
В 1911 году, когда труппа Дягилева впервые начала выступать как независимая организация, он столкнулся с острой нехваткой кадров. Утечка танцовщиков на коммерческую сцену, как и возвращение участников сезонов в Мариинский театр, происходившее каждую осень, угрожала стабильности труппы. Впервые Дягилеву пришлось набрать большое число танцовщиков не только из Императорских театров Москвы и Петербурга. Восполнить ряды труппы помогли Большой театр Варшавы, частная московская школа Лидии Нелидовой, студия Евгении Соколовой в Петербурге и театральные школы в Лондоне. Чтобы поддерживать технический уровень и обеспечить стилистическое единообразие в танце, Дягилев пригласил из Петербурга авторитетного педагога Энрико Чекетти. Однако, несмотря на принятые меры, вопрос кадров оставался решенным не до конца, и в 1911 году Дягилев пошел на крайние меры – буквально нанял бродячую труппу русских характерных танцовщиков. За десять танцовщиков и двух танцовщиц из труппы Молодцова он согласился платить их импресарио 88 000 франков в год – для его кошелька это было тяжелое и продолжительное бремя. В течение парижского сезона 1913 года Дягилев выплатил не менее 60 000 франков, или около десятой части от всего ожидаемого дохода. В тот же сезон, напомним, он выплатил 104 000 франков по давно просроченному займу у Бранде[485].
Подобно Мамонтову, Дягилев хорошо платил своим артистам. Поначалу он делал это, чтобы переманить их из Императорских театров и компенсировать им утерю гарантий, связанных с работой, а в дальнейшем – чтобы оставаться конкурентоспособным в ситуации постоянного повышения зарплат в коммерческой сфере. Большая часть документов о размере заработной платы в труппе Дягилева содержит лишь фрагментарные записи. Многие контракты, особенно контракты главных танцовщиков, остаются скрытыми от исследователей где-то в частных архивах – к этому привели многочисленные спекуляции воспоминаниями о Русском балете, которые начались с 1960-х годов[486]. Тем не менее из дневниковых записей Дягилева 1910 года и одного из контрактов, случайно ставшего всеобщим достоянием, можно извлечь примерное представление о заработке участников труппы и сравнить их с гонорарами танцовщиков Мариинского театра и коммерческой сцены.
Весной 1909 года, по воспоминаниям Нижинской, танцовщики Императорского балета «говорили только об этом замысле… За эти выступления кордебалетные танцовщики должны были получить не менее тысячи франков (375 рублей, больше нашего полугодового жалованья). Многие артисты подходили ко мне и просили поговорить с Вацлавом, замолвить за них словечко у Дягилева»[487]. В 1910 году заработки существенно возросли. За ангажемент, который начинался с репетиций в апреле и заканчивался в середине июля с последним парижским выступлением труппы, танцовщики получили сумму, большую, чем весь их годовой заработок в Мариинском театре. Вот примеры таких сравнений[488]:
Переход Дягилева с сезонной деятельности труппы на постоянную и возросшая зависимость от денег, необходимых для удержания ее участников, упрочили тенденцию к повышению заработной платы танцовщиков. В одном из контрактов, который был подписан 10 февраля 1911 года с неопытным танцовщиком М. В. Гулюком, оговаривалось годовое жалованье в 8000 франков на период 1911–1912 годов и 10 000 франков в 1912–1913 годы. 15 декабря 1912 года Хильда Бевике, первая из английских танцовщиц дягилевской труппы, была нанята на испытательный срок в два с половиной месяца за 750 франков в месяц, при этом руководство труппы оставляло за собой право продлить свое приглашение на год. В начале 1913 года Хильда Маннингс, которую Дягилев впоследствии переименовал в Лидию Соколову, присоединилась к труппе на сходных условиях. Эти начальные заработки, размер которых в течение года доходил до 9000 франков, более чем в два раза превышали жалованье танцовщиков кордебалета в Парижской опере[489].
Доверяя свой жребий Дягилеву, артисты лишались гарантии занятости, прав на получение пенсии и других привилегий Императорских театров. Однако до начала войны вся ненадежность их положения еще не была столь явной. Напротив, труппа Дягилева довоенных лет наслаждалась всеми благами лучшей как среди субсидируемых, так и среди коммерческих организаций балетного мира. Правда, в размере выплачиваемого жалованья Дягилев не мог конкурировать с зарплатами, которые получали в мюзик-холлах, по крайней мере самые известные исполнители. Тем не менее он предлагал своим танцовщикам краткосрочные гарантии: круглогодичный контракт с полным содержанием в период летнего отпуска и репетиций, а также уверенность в том, что его артисты не останутся на мели посреди сезона, как это было в труппе Мордкина (которая развалилась в ходе гастролей по югу Америки). К тому же в довоенные годы не случалось, чтобы Дягилев исключал кого-то из танцовщиков из своей платежной ведомости, что происходило позже, в 1920-е годы, когда на труппу обрушилась тяжкая необходимость сократить в целях экономии число танцовщиков.
Годы перед войной принесли весьма высокие доходы и императорским танцовщикам, выступавшим на Западе. В небольшой срок рынок свел на нет различия в рангах, выработанные в течение двух прошлых веков. Балетоманы, друзья в высших кругах и начальствующие бюрократы внезапно были сброшены со счетов. Широкий спектр возможностей, открывшихся благодаря рынку, означал свободу – свободу гастролировать и выступать согласно своему желанию, свободу ставить танцы исходя из побуждений своего личного видения, свободу чувствовать возросший общественный престиж танцовщика вне учреждения, подверженного делению на касты. Если самые первые балетные труппы состояли из крепостных, то лишь с выходом балета на рынок в XX веке русский танцовщик стал свободным как артист и как личность[490].
В студийной атмосфере первых сезонов труппы Дягилев совершенно не признавал ранговой иерархии, свойственной Мариинскому театру. Собирая труппу в 1909 году, он оставил без внимания Матильду Кшесинскую, царствовавшую в то время prima ballerina assoluta, избрав вместо нее Павлову, и приглашал в большей степени последователей Фокина, чем строгих приверженцев традиции Мариинского. Дягилев выдвинул в первые ряды талантливых артистов и дал сольные роли танцовщикам кордебалета. Вновь и вновь он предпочитал талант рангу, упорную работу – политике фаворитизма.
Однако внутри общества талант существует не в вакууме. В условиях рынка все чаще и чаще стал ставиться знак равенства между талантом и его денежным выражением. Билетная касса превратилась в средство измерения успеха, в козырь, который танцовщик имел при переговорах с театральным руководством, – но также и в показатель, по которому руководство оценивало танцовщика. Рынок создал собственную иерархию успеха; устранив титулы, он создал иные классы танцовщиков, граница между которыми определялась исключительно в денежном выражении. К 1910 году в труппе начало складываться новое разделение труда – система рангов, альтернативная системе Императорских театров, жертвой которой стало столько же танцовщиков, сколько было ею возвышено. Однако в списках состава дягилевской труппы на 1910 год нет ни малейшего указания на ранги корифеев, солистов или первых танцовщиков. Имена артистов приведены вместе с их «ценой» – чаще всего встречаются цифры в пределах 2000–2500 франков, реже указанное жалованье достигает от 3000 до 5500 франков. Нижинский, Павлова, Карсавина и Фокин, однако, стоят особняком: с жалованьями от 10 000 до 25 000 франков они представляют собой ядро новой, «звездной» иерархии Дягилева, что говорит о растущем неравенстве между более и менее высокооплачиваемыми танцовщиками[491].
Эта новая система была не просто реакцией на закон спроса и предложения. То было неотъемлемым условием вступления Дягилева в оперно-балетный рынок, где звезды обоих полов запрашивали громадные гонорары за каждое отдельное выступление в качестве приглашенного артиста международного класса. Еще в 1906 году Шаляпин получал 6000 франков за каждое исполнение «Мефистофеля» в Парижской опере. Три года спустя Дягилев выплатил ему 55 000 франков за участие в Русском сезоне 1909 года – на 15 000 франков больше, чем все гонорары выступавших в сезоне солистов балета вместе взятые, и лишь на 5000 франков меньше, чем суммарная зарплата всего кордебалета. К 1913 году его заработок за исполнение шести спектаклей «Бориса Годунова» возрос до 50 000 франков, которые Дягилев должен был полностью перевести на его счет за шесть месяцев до сезона в Театре Елисейских Полей[492].
Подобно Шаляпину, Нижинский и Карсавина стали ключевыми фигурами зарубежных программ, чье присутствие специально оговаривалось в контрактах. Они участвовали почти в каждой программе, зачастую даже в трех балетах за вечер, и Дягилев инициировал постановки, построенные вокруг их особенных дарований. Их имена и фотографии стали обычным явлением в журналах мод и театральной прессе. Своеобразные Шаляпин и Нелли Мельба балета, они вращались в высших кругах и получали астрономические суммы, выступая вне своей труппы. За исполнение на частной сцене в июле 1912 года «Видения Розы» с Нижинским и Карсавиной и па-де-труа, в котором также танцевала сестра Нижинского Бронислава, Дягилев запросил не менее 12 000 франков, или половину среднего гонорара за одно представление для всей его труппы[493].
В мае 1914 года – спустя лишь несколько месяцев после того, как его отношения с Дягилевым прекратились, – Нижинский заключил трехгодовой контракт с Жаком Руше, недавно назначенным на должность директора Парижской оперы. За сезон длиной в четыре месяца, в течение которых Нижинский должен был выступить не более тридцати раз, он должен был получить 90 000 франков, или 3000 франков за одно выступление. Ему также был предоставлен «совещательный голос» при выборе, какой новый балет будет поставлен в сезоне[494].
Пусть даже никто из звезд дягилевской труппы, включая Нижинского, так и не приблизился к Шаляпину по своей рентабельности, звездная иерархия в труппе все же значительно способствовала непрерывно растущей стоимости постановок. Дягилев не только платил своим звездам не скупясь (в случае с Нижинским оплата за работу приобрела форму роскошного образа жизни), но и часто нанимал приглашенных артистов – таких как Павлова, Кшесинская, а также Карлотта Замбелли, этуаль Парижской оперы, – выплачивая им гонорары, не уступавшие гонорарам первоклассных певцов. За планируемый петербургский сезон 1912 года (который был отменен из-за пожара в Народном доме) Дягилев должен был выплатить Замбелли 20 000 франков за семь выступлений с репертуаром, включавшим в себя «Жизель», «Видение Розы», «Жар-птицу» и еще один балет, название которого не было указано. Это было сравнимо – и в лучшую сторону – с ангажементом, заключенным на следующий год с Марией Кузнецовой, известной русской оперной певицей, которая должна была исполнить как минимум семь спектаклей «Бориса Годунова» и «Ивана Грозного» за 1500 и 2500 франков соответственно за каждое выступление[495].
Зависимость от звезд усилилась также в связи с укреплением в 1911 году взаимодействия с организацией Бичема. Для осеннего продолжения Коронационного сезона в Ковент-Гарден Дягилев добавил к списку балерин Кшесинскую и Павлову. На следующий год – год огромного займа у Бранде – в репертуаре труппы произошел значительный перевес в сторону произведений именитых французских композиторов: Дебюсси, Равеля, а также Рейнальдо Гана – пусть не великого композитора, но фаворита салонной публики. Когда в 1913–1914 годах Дягилев вернулся к постановке опер и пригласил Шаляпина и другие дорогостоящие таланты, финансовое положение труппы заметно ухудшилось.
В условиях рынка денежное выражение получала не только личность танцовщика, но и хореография, в которой он представал перед публикой. Впервые сами танцы стали уникальной и ценной собственностью, за право обладания которой соперничали театральные директора. С превращением хореографической оригинальности в рыночный продукт потребления положение постановщика танцев значительно изменилось.
Традиционно балетмейстер вплетал свое дарование в общую ткань работы оперного театра, где он не только ставил балеты и танцевальные номера в операх, но и исполнял множество других функций: был танцовщиком, педагогом, репетитором и администратором. Теперь, когда весь мир открылся балетмейстеру как потенциальный рынок для его умения ставить танцы, он мог продавать свой талант постановщика независимо от прочих своих умений, на условиях, которые выдвигал сам. В испытаниях деньгами, которые навязывал рынок, сформировался современный хореограф – свободный артист, работающий наравне с независимыми художниками, поэтами, певцами и композиторами.
Головокружительный взлет Фокина от неизвестности к славе в 1909–1914 годы ознаменовал переход от балетмейстера к хореографу. «Радикал» в рядах Мариинского театра, за два года он стал постановщиком, охотно сотрудничавшим со «студией» Дягилева, знаменитостью, полностью осознающей, чего она стоит как в финансовом, так и в художественном отношении. Для Дягилева триумф сезона 1910 года означал жизнеспособность труппы на постоянной основе. Для Фокина же успех того года повлек за собой начало блестящей и многогранной карьеры. С 1910 по 1914 год из танцовщика, лишь несколько лет назад придумывавшего выпускные номера, костюмы для которых брались из пыльных закромов Мариинского театра, он превратился в успешного постановщика танцев. Во многом благодаря западным достижениям Фокина руководство театра повысило его до должности штатного балетмейстера. В качестве балетмейстера, первого танцовщика и хореографа труппы Фокин служил Дягилеву до начала войны – не считая краткого перерыва в 1912–1913 годах, когда эта роль досталась Нижинскому. Его деятельность распространялась и на другие сферы. Летом 1910 года ходили разговоры о том, что он затмил Дягилева, привезя в Лондон труппу из тридцати трех танцовщиков (где его жена Вера Фокина выступала в ранге балерины) на сезон длиной в месяц. В начале 1911 года он поставил «Шехеразаду» и «Клеопатру» для театра Ла Скала, а в июле следующего года Отто Кан и Макс Рабинов обсуждали в оживленной переписке возможность привезти его в Нью-Йорк на совместный сезон с Максом Рейнхардтом. Его карьера свободного хореографа достигла своего пика в 1912–1913 годах, когда Павлова и Ида Рубинштейн делали ему заказы на постановку балетов и танцев для своих антреприз[496].
За все эти достижения Фокин требовал и обычно получал «большие деньги». За месячный сезон в Лондоне он запрашивал 5000 фунтов стерлингов (126 000 франков). За ангажемент в Ла Скала ему выплатили 18 000 франков и вдобавок оплатили дорожные расходы. Финансовые требования Фокина к человеку, который сделал ему имя на Западе, были ничуть не меньше. В записях Дягилева Фокин возглавлял список ведущих исполнителей труппы с жалованьем в 25 000 франков[497]. Внезапное богатство вскружило ему голову. Недовольство «непомерными претензиями» Фокина, как Гатти-Казацца назвал его требование в 1910 году гонорара в 30 000 долларов за участие в качестве балетмейстера в планируемом Дягилевым турне по Америке, распространилось и на его нефинансовые запросы: Фокин настаивал, чтобы его жене, рядовой классической танцовщице, давали исполнять роли балерин. К 1911 году у него появилась неприятная привычка выдавать за свои собственные изобретения то, что было плодом коллективной работы. В случае с постановкой 1911 года в Мариинском «Орфея и Эвридики» он публично преуменьшил роль Мейерхольда в создании спектакля, что ускорило конфликт с режиссером, о котором вскоре заговорили в прессе. «С Фокиным вообще теперь трудно разговаривать, – отмечал в своем дневнике Теляковский, – до того он зазнался – не отдавая себе отчета, что если новое в балете и существует и развилось, то только благодаря Головину и Коровину»[498]. Принимая во внимание историю взаимоотношений Теляковского с Дягилевым, вряд ли стоит удивляться тому, что директор Императорских театров полностью умалчивает о конкурирующей антрепризе. Тем не менее его наблюдения указывают на высокомерие, которое с тех пор стало заметной чертой характера Фокина и придавало особую окраску его замечаниям о конкурентах.
Денежные требования Фокина, как и его щепетильность в вопросе авторских прав, свидетельствовали о существенных изменениях в его отношении к своей работе. За краткий срок в два года гордость за созданное уступила место гордости за имеемое: отныне Фокин смотрел на свою работу взглядом собственника. Его собственническое отношение, однако, не соответствовало реальному положению дел: в отличие от композиторов, писавших для Дягилева, Фокин не имел права собственности на свои постановки. «Карнавал», «Видение Розы», «Жар-птица», «Шехеразада» и другие спектакли, поставленные Фокиным для Русского балета, были личной собственностью одного лишь Дягилева, и, как бы часто они ни исполнялись, хореограф не мог притязать на защиту авторских прав или на отчисления от спектаклей[499]. Горечь, вызванная тем, что его лишили того, что он считал своим по праву, рефреном звучит в воспоминаниях Фокина. То, что он приравнивал защиту авторских прав к получению дохода от своих работ, свидетельствует о том, в какой степени оригинальность хореографии стала для него продуктом, готовым для сбыта на рынке.
Обладая правом собственности на балеты Фокина, Дягилев имел и вытекающее из этого право вносить изменения в хореографию (как он делал с костюмами и декорациями), однако в целом он соблюдал их художественную целостность. Если танцовщики по небрежности изменяли какие-либо па или если финансовая ситуация не позволяла нанимать толпы статистов, Дягилев прилагал все усилия, чтобы сохранить стиль и движения балета в первоначальном виде. Более того, сталкиваясь при возобновлении постановки с проблемой утраты памяти и отсутствия хореографической нотации, он отвергал ее традиционные решения, стараясь восстановить первоисточник. Какими бы напряженными ни были отношения между Фокиным и Дягилевым, последний никогда не делал «после Фокина» других постановок его балетов. В декабре 1923 года он писал Жаку Руше, директору Парижской Оперы, по поводу предложенного им возобновления «Дафниса и Хлои» в фокинской хореографии:
Нижеследующим подтверждаю и гарантирую, что я имею абсолютное право, которое, более того, никогда не оспаривалось, исполнять все балеты, которые месье Фокин поставил для меня; и в настоящем случае речь идет не о том, чтобы поставить «Дафниса» заново, а о том, чтобы восстановить некоторые пассажи, которых часть артистов моей труппы уже не помнят.
Поскольку месье Авелин был последним, кто работал над этим балетом с месье Фокиным, я подумал, что будет верным обратиться к Вам и к нему с тем, чтобы представить хореографию в превосходном состоянии и таким образом действовать в интересах самого месье Фокина, поскольку именно его имя появится на программке в качестве имени автора упомянутой хореографии[500].
Хотя Дягилев больше не следовал хореографическому методу Фокина, он признавал, что аутентичность и верность оригиналу были уникальным для рынка искусства XX века торговым знаком. Такая забота о точности воспроизведения, подобно ценности «подлинных» отпечатков с негатива фотомастера, говорит не только о художественной честности Дягилева, но и о том, в какой степени понятие подлинности являлось детищем эпохи механического воспроизведения. Фокин, следуя традиции балетмейстеров прошлых веков, вновь и вновь ставил версии своих прежних работ на всем протяжении своей карьеры; именно Дягилев положил начало одержимости подлинностью, столь характерной для современного художественного рынка.
Неприкрытое отождествление Фокиным денег и искусства, его способ мышления в категориях собственности оказались необходимым условием формирования современного хореографа. Но нужен был еще один «ингредиент». Искусство постановки танца само по себе должно было быть введено в условия новой системы балетных звезд. Начиная с Нижинского, по образцу, который позднее будет использоваться вновь и вновь (хотя не всегда с равным успехом), Дягилев формировал хореографов из числа звезд, воспитанных внутри труппы. Поступая так, он придавал и таланту, и личности постановщика рыночный статус исполнителя. Благодаря Дягилеву балетмейстер стал на рынке звездой хореографии, и специализированное, квалифицированное мастерство позволяло ему выходить за пределы принадлежности к конкретному учреждению.
Освобождение хореографа от должности балетмейстера лежит в истоках и другого важного новшества дягилевской эпохи – радикального изменения в понимании стиля. Традиционно стиль в балете означал особую манеру, воспитанную какой-либо школой или системой тренировок. Прежде всего он знаменовал превосходство учреждения над индивидуальностью, объективного метода выразительности над субъективным. Однако «Послеполуденный отдых фавна» и «Весна священная» в постановке Нижинского коренным образом изменили этот тип отношений. Видение этих работ возникало полностью из воображения хореографа, видение, которое предопределяло не только их темы, структуру и рисунок движения, но и такие важные элементы, как техника, позировки и манера подачи, обычно восходящие к «школе». Такое видение, одновременно субъективное по происхождению и универсальное в применении, стало основой, на которой зиждется современное понимание стиля – в поэзии, живописи, литературе или музыке. Тот факт, что создание Нижинским осенью 1910 года первых набросков к «Послеполуденному отдыху фавна» произошло одновременно с переговорами Дягилева о создании независимой труппы, не стоит считать простым совпадением. Радикальное новшество этих работ не могло обрести свою форму внутри бюрократической структуры Императорских театров. Для них были необходимы раздолье времени, лояльность и финансовая поддержка, которые мог обеспечить лишь Дягилев. Рождение современного хореографа произошло в контексте капитализма.
Рыночные отношения сказались на жизни всех артистов труппы Дягилева – не только на работе танцовщиков и хореографов. Конкуренция вбила клин между сотрудниками, отдалив друг от друга давних товарищей – теперь им приходилось бороться за имена, влияние и положение в труппе. Различия в мировоззрении и разная степень художественной восприимчивости часто сеяли раздор среди бывших мирискусников. Но если в прошлом дружеских уз было достаточно, чтобы утихомирить разбушевавшееся эго, то теперь, когда на карту были поставлены такие крупные суммы, прежние дружеские обычаи потеряли вес. Творческие перспективы и размер вознаграждений больше не зависели от неформальной системы поддержки, исходившей от русских почитателей. Об успехах и поражениях свидетельствовали билетные кассы, а признание публики обещало прибыльную работу в будущем. Райский сад совместной работы, существовавший в первые два балетных сезона Дягилева, был утерян вовсе не из-за внезапной склонности импресарио к манипуляции или его садистскому наслаждению в продвижении одного артиста за счет его коллег, даже если они сами помогали ему в этом. Его разрушила внутренняя логика рынка, которая создала новую комбинацию условий для художественного самоутверждения. Назначение Бакста художественным руководителем труппы вместо Бенуа в 1910 году говорит о начале нового разделения труда внутри группы сотрудников, точно так же как ссоры по поводу авторства той или иной идеи, возникавшие в ходе коллективного творчества, указывают на новое, собственническое отношение к творческой работе. То, что за несколько лет отношения Стравинского и Дягилева перешли от дружбы к ссорам на почве финансов, очерчивает полный круг кардинальных изменений в совместной работе, вызванных новым экономическим климатом. Из отношений, которые основывались на общности идей и воззрений и были скреплены узами сходства и дружбы, сотрудничество превратилось в процесс составления контрактов.
Попытка взглянуть на довоенную историю Русского балета с точки зрения рыночных отношений ни в коем случае не бросает тень на блестящие художественные достижения той поры. Возможно, она даже возвышает их в наших глазах, позволяя оценить всю подоплеку дягилевской антрепризы, вопреки которой они достигли своего расцвета. Конкуренция, наряду с новой звездной иерархией и превращением многих аспектов искусства танцовщика в продукт потребления, возникла внутри Русского балета как реакция на социально-экономические условия Запада. Дягилев не изобретал их и не желал их появления. Как и его финансовые сделки с импресарио и банками, все это отвечало нуждам дня, а не осуществлялось по заранее намеченному плану. Вместе с тем все эти явления создали прецеденты, которые, в свою очередь, повлияли на дальнейшее развитие истории дягилевской труппы.
Рассуждая здраво, можно было бы ожидать, что труппа Дягилева потерпит крах, пытаясь пересадить отступнический русский балет на совершенно инородную почву Запада. Однако одной лишь удачей или волей судьбы невозможно объяснить, почему этого не случилось. Русский балет обязан своим успехом тому, что Дягилев обладал интуитивным чувством рынка, пониманием тех его возможностей, которые ведут к освобождению, и – прежде всего – осознанием того, как можно манипулировать рынком, чтобы он мог служить традиционным целям высокого искусства.
7 Подписываясь под модернизмом: американское интермеццо
Войска, прошедшие летом 1914 года по территориям Бельгии и северной части Франции, отсекли Европу от ее непосредственного культурного прошлого. Очень скоро космополитические настроения общества Belle Époque, привычные для него развлечения, его манеры и его искусство – рухнули. Финансовые короли вкладывали капиталы в военное снаряжение, дамы из высшего света устраивали благотворительные акции в пользу сирот и раненых. Война опустила занавес Оперы и еще пары десятков парижских театров, отправив артистов в траншеи, в лагеря военнопленных и на кладбища. Для Дягилева и его Русского балета Лондон, Париж, Брюссель, Берлин, Вена и Монте-Карло стали лишь воспоминаниями о гастролях, которых больше не было.
В период с1915 по 1917 год Дягилев пересмотрел эстетические основы Русского балета. Однако искусство было не единственным аспектом антрепризы, в котором в эти годы произошли изменения. Мировая война и революция в России имели экономические последствия, затронувшие все стороны жизни труппы. Вплоть до 1914 года Дягилев расходовал и перерасходовал средства, рассчитывая на то, что «добрые ангелы» своевременно явятся на помощь, а наличные деньги и кредиты материализуются в последнюю минуту. Пусть Дягилев не был богачом, он не был ни в коей мере и бедным, и можно предположить, что казна труппы пополнялась и из его личных доходов, которые до 1915 года регулярно поступали из России[501]. Пока его состояние росло – а до 1914 года оно постоянно увеличивалось, – экономическое положение Русского балета никогда не было полностью безнадежным.
Когда Первая мировая война и Октябрьская революция свергли царские короны, дягилевская антреприза лишилась своей финансовой опоры. Эти события положили конец гастролям в странах Европы, воевавших между собой, перекрыли приток капитала из России и сделали невозможным контакт с покровителями и продюсерами. Иной, не столь великий человек наверняка опустил бы руки перед лицом неизбежности. Но в эти годы безустанных художественных экспериментов Дягилевым, казалось, руководил не только созидательный гений, но и сверхчеловеческое стремление к выживанию. Несмотря на все препятствия, он заново создал труппу, быстро привел ее в необходимую форму и отправил на территорию, которую в более спокойные времена и не подумал бы завоевывать. Парадоксально, но львиная доля капитала, который дал Дягилеву возможность воскресить труппу и возобновить ее репертуар, пришла из нью-йоркской Метрополитен-оперы. Не менее парадоксальным, если оглянуться назад, было и то влияние, которое оказали на саму труппу два совместных тура с Метрополитен. Под покровительством этой «знатной оперной дамы» экономическая и социальная динамика Русского балета стали подчиняться логике рынка. Непрочность его положения, возникшая в эти годы, сохранялась долгое время после того, как труппа покинула берега Америки, равно как и другое явление той поры – эксплуатация человеческих ресурсов труппы. Оба этих явления вывели труппу на путь, весьма далекий от духа сотрудничества, царившего в творческой студии Дягилева. Танцовщики Русского балета дорого заплатили за привилегию подписаться под модернизмом.
Планы первых американских гастролей – пятнадцатинедельного ангажемента, который начался в январе и завершился в апреле 1916 года, – возникли, по иронии судьбы, во время первой встречи Дягилева с футуристами в Милане. Там 10 октября он подписал с директором Метрополитен Джулио Гатти-Казацца контракт, позволивший продолжить эксперименты студии в Уши. Согласно статье 24 этого документа Дягилев получил аванс в 30 000 долларов, который должен был выплачиваться в семь частей, ежемесячно, и первая часть подлежала выплате в дни его прибытия в Швейцарию, которое произошло первого мая. Вместе с 15 000 долларов на покрытие расходов в ноябре, декабре и январе, когда труппа начала репетиции, эти наличные выплаты позволили Дягилеву несколько месяцев пользоваться творческой свободой, не стесненной необходимостью показывать спектакли. Сверх того, на протяжении гастролей Метрополитен согласилась платить Дягилеву 13 500 долларов в неделю (из которых он должен был покрывать все расходы по платежной ведомости и вернуть полную сумму аванса), а также компенсировать затраты на проезд пятидесяти танцовщиков и транспортировку имущества труппы – костюмов, декораций и реквизита[502].
В последующие месяцы обязательства Метрополитен увеличились в своем объеме. Размер недельной выплаты возрос до 15 750 долларов в неделю, а к контракту был добавлен еще один пункт, согласно которому Дягилеву полагалась «половина чистого дохода от ангажемента». С приближением отъезда от Генри Рассела, агента Метрополитен, отвечавшего за проводы труппы в Европу, посыпались беспокойные телеграммы, умолявшие о новых авансах. «Переведите январскую выплату Дягилеву немедленно, – телеграфировал он 15 декабря, – или разрешите мне выдать ему деньги авансом. Наличные расчеты должны произойти завтра. Иначе Дягилев потерпит крах». На Рождество Рассел запросил дополнительные 40 000 франков, необходимые, в частности, на покрытие долга Дягилева в 15 000 франков перед его парижскими ателье за поставку новых костюмов для «Шехеразады» и «Жар-птицы», заказанных к американским гастролям[503].
Метрополитен оказала и еще одну услугу Дягилеву. Используя свой огромный престиж, а также с помощью графини де Греффюль, леди Рипон, герцога Альбы и даже закулисных маневров короля Испании Метрополитен провела переговоры об освобождении Нижинского и его семьи из-под домашнего ареста в Будапеште. Отто Кан, председатель совета директоров Метрополитен и крупнейший заимодавец союзнических войск, сыграл в этих попытках решающую роль благодаря своему влиянию в высших правительственных кругах. «Из Вены… – так начиналась телеграмма, полученная им 7 февраля 1916-го от Роберта Лансинга, государственного секретаря США. – Цитирую. Удалось получить обещание правительства разрешить Нижинскому и жене немедленно отправляться в Нью-Йорк при получении от Вас телеграммы с личной гарантией возвращения в страну [Австро-Венгрию] незамедлительно после окончания ангажемента Метрополитен-оперы. Нижинские могут отправляться сразу, как только я передам Ваше согласие правительству. Конец цитаты». К 28 февраля освобожденный Нижинский был в Берне[504].
Но вместо того чтобы положить конец затруднениям Метрополитен, освобождение танцовщика повлекло за собой новую серию переговоров: Нижинский потребовал крупных сумм денег, которые оперный театр своевременно предоставил ему через Генри Рассела[505]. К тому же, прибыв в Америку, Нижинский поставил Метрополитен в неловкое положение – быть посредником между ним и его бывшим любовником. При этом Джон Браун, коммерческий директор Метрополитен, выступил гарантом при подписании письма-соглашения о том, что Дягилев обязуется выплатить Нижинскому разницу в 75 000 франков (13 000 долларов), которую он был должен последнему по условиям «компромисса», достигнутого в Лондоне в мае 1914 года через посредничество сэра Джорджа Льюиса. Дягилев также обязался выплачивать по 1000 долларов за каждый из одиннадцати спектаклей, которые Нижинский должен был исполнить в Нью-Йорке, – сумму, далеко превосходившую 3000 франков, которые он должен был бы получить в Парижской опере, если бы не началась война[506].
Организация освобождения Нижинского вряд ли была актом альтруизма со стороны Метрополитен, не было это и заискиванием перед Дягилевым. Отто Кану присутствие суперзвезды было необходимо не только для того, чтобы усилить труппу в художественном отношении, но и для того, чтобы оправдать ожидания публики, вызванные масштабной рекламной кампанией, запущенной за несколько месяцев до гастролей. Еще одно из любопытных совпадений, которые делают историю Русского балета столь захватывающей, состояло в том, что тем молодым человеком, который отвечал за эту кампанию, был не кто иной, как Эдвард Бернейз – племянник Зигмунда Фрейда и будущий отец современных public relations. Этот опыт открыл глаза на мир тогда еще неопытному агенту по рекламе:
Работая с Музыкальным бюро Метрополитен, я научился многому; но больше всего мне дало то время, когда я отвечал за работу с Русским балетом Дягилева в 1915, 1916 и 1917 годах. За эти три года я узнал о жизни намного больше, чем все то, чему в последующие годы меня научили политика, книги, романтические увлечения, супружество и отцовство. Я никогда не представлял себе, что межличностные отношения участников одной группы могут быть настолько запутанными и сложными, полными средневековых интриг, запретной любви, ошибочно направленной страсти и агрессии. Но пока все это происходило, я принял это как часть увлекательной работы. Этот опыт оставил глубокий след в моей жизни, подготовив меня к тому, чтобы понять и научиться переносить всяческие капризы мужчин и женщин, живущих в собственных мирах[507].
Поскольку Метрополитен не могла сама заниматься рекламой такой крупномасштабной акции, как гастроли Русского балета, она передала эту задачу своему Музыкальному бюро, которое с гениальным предвидением назначило Бернейза своим главным представителем в прессе. «Еще ни один проект не был так хорошо подготовлен в отношении продвижения и рекламы», – писала тридцать лет спустя Аделла Прентисс Хьюз[508]. Основываясь на том, что он называл «предчувствием и интуицией», Бернейз развернул крупномасштабную изощренную кампанию, которая рекламировала балет, во-первых, «как новую форму искусства, соединение нескольких видов искусств; во-вторых, в плане его обращенности к особым кругам публики; в-третьих, в плане его прямого влияния на жизнь Америки, на вид и цвет американской продукции; и, в-четвертых, за счет его исключительных личностей». Завалив редакции журналов, воскресных приложений, музыкальных и дамских отделов ежедневных газет «стопками статей и фотографий, нацеленных на их читательскую аудиторию», убеждая «производителей выпускать продукты, вдохновленные цветом и внешним видом декораций и костюмов Бакста и [организуя] их демонстрацию и рекламу в универсальных магазинах и других торговых точках по всей стране»[509], Бернейз вызвал такой интерес публики к первым гастролям, что он превзошел всякие ожидания.
Большая часть этой «шумихи», как он сам называл месяцы интенсивной рекламы по всей стране, была сконцентрирована на первых лицах труппы – Нижинском, Карсавиной и Дягилеве. Из этих троих лишь Дягилев прибыл к нью-йоркской пристани 12 января 1916 года. Бернейза не смутили известия о беременности Карсавиной и все еще продолжавшемся пребывании Нижинского под стражей – он был полон решимости подготовить почву для их замены, предполагая, что «блестящие описания одного танцовщика с русской фамилией… могут подойти и для любого другого»[510]. Он достал змею из зоопарка в Бронксе и обвил вокруг Флоры Ревай в костюме из «Шехеразады» – благодаря этому трюку изображения этой неизвестной танцовщицы стали предметом обсуждения во время семейных завтраков; он размещал повсюду интервью и яркие описания звезд, которые никогда не выступали с Русским балетом в Европе. Дягилев, должно быть, был поражен контрастом между изящной европейской рекламой и тем, как современные средства массовой информации в Америке втягивали в коммерцию артистов, сценические образы и художественные идеи.
Хотя первый тур с Метрополитен дал Дягилеву возможность восстановить труппу, некоторые стороны этого контракта предвосхищали атмосферу еще более жесткой конкуренции, которая сложилась в послевоенный период. Когда Русский балет перестал быть чем-то совершенно новым, Дягилев пошел на договоренность, что в 1914 году соберет труппу, количество участников которой в два раза превзойдет размер, оговоренный в черновом контракте с Метрополитен 1910 года, при этом недельный гонорар за выступления составит лишь на 270 долларов больше. Ослабление позиции Дягилева при переговорах отразилось и в другом. По контракту 1910 года предполагалось пятьдесят выступлений за два с половиной месяца, при условии не более шести спектаклей в неделю; напротив, соглашение 1914 года – в версии августа 1915-го – требовало, чтобы труппа давала семь спектаклей в неделю при общей длительности ангажемента в пятнадцать недель, при этом хотя бы раз в неделю танцовщики должны были выступать и в утреннем, и в вечернем спектакле. Если в довоенные годы положение Русского балета позволяло Дягилеву придерживаться в качестве основы для контрактов условий, принятых в мире оперы, теперь акцент был сделан на увеличении количества спектаклей.
Экономика вторглась и в другие стороны дела. По стандартам сегодняшнего дня труппа из пятидесяти человек считается большой. Однако ансамбль из пятидесяти танцовщиков, пересекший Атлантику в 1915–1916 годах, был лишь тенью самого себя в прошлом, миниатюрной версией огромных «славянских кавалькад», которые Дягилев раньше привозил на Запад. Для гала-спектакля Коронационного сезона в Королевском оперном театре – первого выступления Дягилева в столице Великобритании – в Лондон отправился состав из сотен человек: 100 танцовщиков, 200 статистов, а также певцов. В 1914 году это число было не менее впечатляющим. Для парижского сезона Дягилев сформировал труппу из двадцати ведущих танцовщиков, одиннадцати солистов оперы, кордебалета численностью в сто человек и хора из Большого театра[511].
С тех пор масштаб постановок изменился. Прежние стандарты были понижены. Сравнивая нью-йоркскую постановку «Шехеразады» с парижским оригиналом, фотограф барон де Мейер говорил о художественных последствиях подобного урезания в целях экономии:
«Шехеразада», как она была показана в Нью-Йорке… была лишь исполнением в минорной и пониженной тональности той ошеломляющей, приводящей в замешательство оргии, которую мы видели ранее в Париже, – где множество танцовщиков, казалось, кружилось в неистовом безумии. Теперь это множество свелось к восьми баядеркам, восьми негритянкам, шести разносчикам фруктов и полудюжине солистов.
Несомненно, определенный дух и атмосфера сохраняются и в нынешних спектаклях труппы. Сами по себе постановки слишком хороши, а музыка слишком прекрасна, чтобы не оставить самых превосходных впечатлений, но для любого, кто, как и я, присутствовал на премьере в Париже, «Шехеразада» – исключая тот факт, что Нижинский по-прежнему иногда исполняет созданную для него роль Раба, – слабая постановка, и временами она даже далека от того, чтобы доставлять удовольствие[512].
Сложности продолжились во время вторых американских гастролей, когда труппа – впервые в своей истории – стала восприниматься исключительно в денежном отношении: как приносящее доход имущество, которое предоставило бы Дягилеву и его сотрудникам средства для дальнейших экспериментов. Контракт 1914 года требовал присутствия Дягилева в Соединенных Штатах; документ 1916 года этого не требовал[513]. В конечном счете Отто Кан, намереваясь любой ценой утихомирить звезду труппы, полностью отстранил Дягилева. В ответ на это Дягилев разделил Русский балет на две части – костяк, оставшийся с ним в Европе, и большой ансамбль, вернувшийся в Америку под протекцией Балета Метрополитен, дочерней труппы оперного театра, через которую осуществлялись финансирование, руководство и организация поездок Русского балета в рамках этого тура[514]. Схожее разделение произошло и летом 1917 года, когда на время четырехмесячных гастролей по Бразилии, Уругваю и Аргентине Дягилев вверил труппу Сергею Григорьеву и Рандольфо Бароччи, бывшему ассистенту Генри Рассела, ставшему супругом Лидии Лопуховой. Такая стратегия, дававшая возможное разрешение проблеме финансирования дальнейшей постановочной деятельности, необыкновенно привлекала Дягилева. Действительно, иллюзии, которые он питал по поводу постановки в 1921 году «Спящей принцессы», состояли в том, что она оправдает долгосрочное предприятие по добыче денег, в котором была занята большая часть труппы, в то время как узкий круг танцовщиков имел возможность заниматься экспериментами.
«Дягилева не особенно печалила перспектива на время расстаться с труппой, – писал Григорьев о вторых гастролях с Метрополитен. – он понимал, что непрерывные переезды во время американского турне… не позволят ему в течение предстоящей зимы работать над новыми постановками. С другой стороны, оставшись в Европе с Мясиным и еще несколькими исполнителями, он мог планировать новый репертуар»[515].
У Дягилева был повод для оптимизма, так как контракт гарантировал ему, вдобавок к авансу в 20 000 долларов, полученному перед отъездом труппы в Америку 8 сентября 1916 года, еще и 9000 долларов за каждую неделю двадцатинедельного ангажемента и половину чистого дохода от гастролей. Метрополитен брала на себя все организационные и дорожные расходы, оплату работы оркестра, а также выплату гонорара Нижинскому, составлявшего 60 000 долларов, и расходы на две новые постановки – «Тиль Уленшпигель» и «Мефисто-вальс», обе в хореографии Нижинского. Финансовые обязательства Дягилева сводились к предоставлению заработной платы танцовщикам, дирижеру, главному машинисту сцены и отвечавшим за поездку Станиславу Дробецкому и Бароччи[516].
К несчастью для Дягилева, гастроли потерпели фиаско. Несмотря на благоприятные в целом отзывы критиков и выступления большей частью в престижных театрах, Метрополитен понесла убытки в четверть миллиона долларов. Ее цель «получать от шести до семи тысяч долларов за спектакль» оказалась иллюзорной. В Форт-Уорте доход упал аж до 767 долларов; за одну только первую неделю декабря потери составили около 15 000 долларов. Большую часть ответственности за эту катастрофу несло руководство Метрополитен – из-за политики высоких цен, на которой оно настаивало, некомпетентных антрепренеров, избегавших работы с редакторами местных газет, и общей неспособности оценить, какую нагрузку может выдержать рынок в Вичите и Такоме. Но часть вины лежит и на Нижинском, который колебался по поводу программы до тех пор, пока не прошли все сроки размещения рекламы в прессе, и чья неспособность выдерживать график выступлений не раз давала владельцам билетов право требовать компенсаций. К огорчению местных руководителей, он часто отказывался появляться в программе больше одного раза, или соглашался быть не более десяти минут, если в программе был балет «Видение Розы». «Только подумайте, – жаловался Уилл Гринбаум, директор театра Валенсия в Сан-Франциско, Музыкальному бюро Метрополитен, – просить 5 долларов за такое представление, какие вы даете у нас в некоторые вечера, – и подумайте о том, какие спектакли давала у нас Павлова за 2,50 доллара и как эта необыкновенная миниатюрная женщина работала. Девять раз в неделю и все время на сцене». И конечно же «Мефисто-вальс» Нижинского, который по плану должен был в ноябре войти в репертуар в Сан-Франциско, так и не был осуществлен[517].
Нижинский был не единственной известной фигурой труппы, с которой возникли проблемы. Оставаясь верной своей политике – продвигать европейских звезд в ущерб местным талантам[518], – Метрополитен-опера в период с июля по сентябрь 1916 года шла на все, чтобы заполучить балерину из России. Действуя через посредничество капитана Филиппа Лидига, агента союзнических войск, который возглавлял американский госпиталь в Петрограде и служил особым ассистентом в посольстве, Метрополитен удалось пригласить на десятинедельный сезон Маргариту Фроман и Ольгу Спесивцеву, за что каждая должна была получить по 30 000 франков (что составляло более 500 долларов в неделю) с оплатой расходов на дорогу[519]. Хотя, по-видимому, Метрополитен уступила Спесивцевой привилегию исполнять лишь четыре спектакля в неделю, ни та ни другая русская танцовщица не была готова к суровым условиям гастролей по всей стране. (Типичным примером изнурительного расписания был график выступлений труппы на неделю, начинавшуюся с 13 ноября: понедельник – Вустер; вторник – Хартфорд; среда – Бриджпорт; четверг – Атлантик-Сити; пятница и суббота – Балтимор.) Фроман начала пропускать выступления, и к 8 сентября, когда труппа прибыла в Вичиту, Эрнест Хенкель, нью-йоркский финансовый директор тура, стал считать, что было «очень мало пользы в том, чтобы возить этих двух девочек по стране» и что они должны «уехать в конце третьей недели декабря, в Омахе». Фроман и Спесивцева оставили труппу в Сан-Франциско; их уход тем не менее был лишь одним из многих признаков того, что в целом Метрополитен начала туже затягивать пояс, пытаясь предотвратить худшие последствия уже ставшей очевидной катастрофы. В конце ноября Хенкель предложил отказаться от одного из железнодорожных вагонов, бывших в распоряжении труппы; спустя еще несколько недель он заговорил о том, чтобы уволить двух музыкантов и передать Дробецкому заработок двух русских женщин, ездивших с труппой в качестве сопровождающих[520].
Метрополитен не только урезала свои расходы, но и сократила перечисления Дягилеву. В начале января он жаловался, что Метрополитен была ему должна 37 500 долларов из тех 108 000, что должны были быть выплачены на тот момент. 11 февраля он телеграфировал одновременно Хенкелю и Роулинсу Коттене, члену совета директоров Метрополитен, находившемуся в Париже, чтобы на его счет немедленно перевели 47 000 долларов. «Задержка выплат непростительна. Мне нужно срочно осуществлять платежи». Позднее в том же месяце он начал оказывать дипломатический нажим на Метрополитен, используя в качестве посредника российское посольство в Риме; к тому времени, заявлял он, сумма долга выросла до 75 000 долларов[521].
Из записей нам известно, что между 22 декабря 1916 года и 19 февраля 1917-го Метрополитен поручила отделу внешней торговли отделения National City Bank на Уолл-стрит выплатить Дягилеву напрямую или через Дробецкого 51 500 долларов. По-видимому, часть этой суммы пошла на зарплату труппе (22 500 долларов были переданы Дробецкому, находившемуся на гастролях), и, несомненно, крупная сумма перешла в карманы дягилевских кредиторов. Но наверняка у этой январско-февральской паники была и другая причина, а именно: обязательства, которые Дягилев только что взял на себя для постановки «Фейерверка», «Парада» и «Песни соловья», которые должны были стать главными событиями программы его весенних сезонов в Париже и Риме. В ноябре и начале декабря Дягилев оформил соглашения с Джакомо Балла (о декорациях для «Фейерверка») и Фортунато Деперо (о декорациях для «Песни соловья»); 11 и 12 января он заключил предварительные контракты с Пикассо и Сати (по поводу «Парада»). 12 января Морис Равель согласился взяться за безымянный пока что балет вместе с Франческо Канджулло. В это же время шла работа над другими постановками, такими как «Женщины в хорошем настроении» и мини-балеты «Баба-яга» и «Кикимора». Одним из факторов, способствовавших отмене «Песни соловья» и проекта с Равелем, вполне могло быть непредвиденное уменьшение дохода от американских гастролей[522].
Теоретически тех средств, которые поступали от Метрополитен, должно было хватить на покрытие расходов по обе стороны Атлантического океана. На практике же вышло иначе. Когда Дягилев нанимал артистов в Риме, его труппа фактически умирала от голода в Америке. 4 декабря Р. Дж. Херндон, отвечавший за гастроли Метрополитен, докладывал из Хьюстона:
Дягилевская группировка не ударила пальцем о палец для того, чтобы помочь своей труппе дожить до тех пор, пока Дягилев не прикажет банку выплатить деньги… Кордебалету едва ли хватало денег на то, чтобы выжить, у большинства из них не было ни цента, чтобы поесть. Я давал им небольшие суммы из собственного кармана. Дробецкий и Бароччи отправили Дягилеву несколько язвительных телеграмм – как они мне объясняли, с вопросами, неужели он желает видеть труппу умирающей от голода и в бедности, раз не переводит в банк деньги, чтобы они могли получить наличные?.. Не знаю, что они будут делать сегодня вечером. Я слышал, что они обратились к Гесту, чтобы он перечислил им тысячу долларов, иначе гастролям придет конец[523].
К тому времени, как труппа приехала 11 декабря в город Талса, ситуация вновь ухудшилась. Херндон писал:
Труппа живет на свои последние средства, поскольку Лопухова, Монтё, Ревай и Больм отдали все деньги, которые были в их распоряжении, и если деньги не поступят в Канзас-Сити, я не думаю, что труппа сможет поехать дальше[524].
Деньги, видимо, все же появились, поскольку труппа довела гастроли до конца. Этот эпизод, однако, показал, насколько американский опыт предвосхитил тенденции, которые преобладали в истории труппы в 1920-е годы. В Америке, которая очаровала европейских мыслителей своего времени как место рождения «фордизма» и научного менеджмента, «пролетаризация» и ее последствия для Русского балета стали заметны в первую очередь. Труппа не только приблизилась по уровню производительности к коммерческим театрам, но прежде всего сам труд танцовщиков стал источником производственного капитала дягилевской антрепризы. Это произошло не только из-за отдельных долгов, не выплаченных в срок. Выплата жалованья, которого едва хватало на пропитание артистов, позволяла Дягилеву перераспределять средства на финансирование новых постановок в Европе. Но даже когда заработная плата выдавалась танцовщикам, ее хватало лишь на покрытие расходов на содержание труппы в дорогостоящей Америке. В ноябре Дорис Фэйтфул писала из Новой Англии Отто Кану от своего имени и от имени еще шести танцовщиц кордебалета (все они зарабатывали 33–34 доллара в неделю):
Я пишу от лица нескольких девушек и от своего собственного. Это касается наших зарплат – мы хотели бы знать, не могли бы вы ходатайствовать перед господином Дягилевым по этому поводу. Для нас совершенно невозможно жить на те деньги, которые мы получаем, – не считая уже тех, кому нужно поддерживать родителей. Когда мы приезжаем в какой-нибудь городок, нам приходится бегать в поисках дешевого жилья (с тяжелыми чемоданами), потому что мы не можем платить за дорогие отели. Нам очень неудобно беспокоить Вас нашими личными проблемами, но у нас нет связи с Дягилевым. Кажется таким бессмысленным, что каждое пенни, которое мы получаем и которое зарабатываем тяжким трудом, расходуется – мы не можем ничего скопить на случай болезни и т. д. Список зарплат прилагается[525].
Возможно, это демократический воздух Соединенных Штатов придал им мужества, чтобы обратиться к человеку, чей инвестиционный дом только что ссудил правительству Франции 50 000 000 долларов. Возможно, просто все дело было в том, что с каждой остановкой в ходе гастролей по Новой Англии чемоданы с тренировочной одеждой и обувью на пуантах становились все тяжелее. В любом случае эта картина – понижение заработка на фоне постоянно растущих цен – предвосхищала положение, в котором танцовщики Дягилева пугающе часто оказывались после войны.
Пусть потери от вторых гастролей разрушили надежды на то, что Метрополитен окажется постоянным источником капитала (излишне пояснять, что театр предпочел не использовать этот вариант при гастролях 1917–1918 годов), намерения Дягилева были ясны: он рассчитывал пустить на свои авангардные эксперименты средства, собранные с преданных его труппе зрителей и организаций, число которых к тому времени возросло, так как географические границы рынка, по сравнению с довоенными, расширились. Различие между «элитарным» и «массовым» в отношении как характера постановок, так и настроения и вкусов публики, было для Дягилева новым.
До войны высшие слои общества не играли большой роли в формировании идеологии труппы. Они не определяли ни содержания, ни стиля постановки, ни основной аудитории, на которую она была рассчитана. Все это определялось оперным театром, который ориентировал западные работы Дягилева на социальные и художественные взгляды haute bourgeoisie[526]. Переход к модернизму изменил это положение дел, переместив идеологический центр труппы в артистическую среду Парижа. Именно оттуда теперь появлялось большинство сотрудников Дягилева и большинство зрителей, составлявших ключевую часть его публики. Вне этой части существовала grand public[527], которая покупала билеты, аплодировала и выносила критические отзывы, но ее мнение мало кого интересовало. Разделение между теми, кого Дягилев считал элитой, и остальной его публикой очень скоро стали отмечать, в частности, в Англии, где еще в 1919 году Ли Генри говорил о «болоте своеобразного культа… которое возникло вокруг труппы Дягилева»[528]. Это переопределение Дягилевым элиты как элиты, обладавшей прежде всего вкусом, а не только материальным благополучием (пусть даже они часто шли рука об руку), как и разделение постановок труппы на «элитарные» и «общедоступные», произошло оттого, что во время войны он пересмотрел цели, структуру и способ финансирования Русского балета.
К началу 1918 года – четвертого года войны – даже необыкновенная изобретательность Дягилева не помогала найти работу для труппы. «Мы были в Лиссабоне более трех месяцев и в конце этого периода не получали денег вообще: Дягилеву было нечем нам платить, – писала Лидия Соколова об этих беспросветных днях. – Тех денег, которые еще были в труппе, на всех не хватало, и в конце концов мы все жили в кредит». Впервые в своей истории Русский балет оказался в затруднительном положении, из которого его спасли лишь своевременно запланированные гастроли по крупным и провинциальным городам Испании. Но все гастроли когда-нибудь заканчиваются, и весной 1918 года доходы Дягилева пошли на спад. В Мадриде Соколова, в страхе, что ее больная дочь умрет, прибежала в гостиничный номер Дягилева; тот достал из шкафа маленький кожаный мешочек и высыпал из него на кровать кучку медных и серебряных монет из разных стран: «все деньги, что у него остались»[529]. Он отдал Соколовой серебряные монеты; она отыскала доктора; ребенок выжил. Вскоре после этого пришла телеграмма с разрешением на то, чтобы труппа отправила декорации и прочее имущество через Францию в Великобританию, где ее уже ждал ангажемент в лондонском театре Колизеум.
На этом самая страшная глава в истории труппы подошла к концу. В художественном плане военные годы полностью ввели Русский балет в XX век. В финансовом отношении они сделали то же самое, пусть даже модернизация – по одному из самых больших парадоксов дягилевской истории – исходила от такой организации, прекрасно помнящей о прошлом, как Метрополитен.
8 Эра танцевального бума
5 сентября 1918 года, после перерыва более чем в четыре года, Русский балет вернулся в Лондон, возглавив программу варьете театра Колизеум. Для Дягилева, который раньше отвергал все предложения выступлений в «холлах», каким бы известным или престижным ни был театр, ангажемент в Колизеуме был знаком регресса, приметой резких изменений – и не в лучшую сторону – театрального климата в городе, ставшем вторым в судьбе его труппы. Энтузиасты радушно встретили «блудного сына», но, кроме них, в Лондоне труппу ожидал всплеск активности, который поставил под сомнение превосходство Русского балета как поставщика танцевальных спектаклей. Военные годы были тяжелыми, но эпоха после перемирия, начавшаяся в 1918-м и завершившаяся в 1922 году, в конечном счете оказалась ничуть не легче. После небольшого глотка воздуха в самом ее начале, когда Дягилеву удалось возместить часть своих потерь, конкуренция стала подрывать неколебимое когда-то положение труппы и привела ее на грань полного краха. Взрыв балетной активности по обе стороны Ла-Манша раздвинул горизонты пространства для выступлений, затронув даже те места, которые раньше для многих оставались недоступными. Танцовщики труппы Дягилева порой пользовались этим, но сложившаяся ситуация породила также и кладезь новых талантов, претендовавших на их место в свете рампы. Поначалу лишь немногие из них обладали школой или опытом, достаточными, чтобы выступать на одном уровне с дягилевскими танцовщиками со стажем. Тем не менее шли двадцатые годы, и найти работу становилось все сложнее, так что к труппе, несмотря на ее шаткое положение, присоединялись новички. С возвращением Русского балета в русло европейского искусства капитализм снял маску освободителя. Перед Дягилевым и его танцовщиками открылся рынок с его безжалостной логикой, который они не могли контролировать и на который не могли полагаться в попытках добиться экономического и художественного благополучия.
«Лондон спас меня», – говорил Дягилев дирижеру Эрнесту Ансерме в 1919 году[530]. Импресарио не сильно преувеличивал: шестнадцать месяцев, с сентября 1918 по декабрь 1919 года, его труппа выступала в Лондоне, что стало рекордной продолжительностью ее выступлений в одном и том же городе. Это был не первый и не последний случай, когда перемена места чудесным образом помогала Дягилеву восстановить свои средства, однако впервые подобное чудо произошло с ним в сфере массового искусства. В период с 1918 по 1922 год Русскому балету давали приют мюзик-холлы Уэст-Энда. В коммерческих театрах Дягилев нашел средства на постановки и массовую публику, которые облегчили для него последствия экономических потрясений 1917–1918 годов.
В эти годы, как сообщил в 1922 году Раймонд Мортимер читателям журнала «Дайал», «Лондон стал балетоманом»[531]. Но прежде всего этой операцией по спасению руководил один, вполне конкретный, житель Лондона. Сэр Освалд Столл был магнатом массовых развлечений, который «сделал себя сам», выбравшись из провинциальных мюзик-холлов на вершину национальной империи. В 1904 году он построил театр, ставший флагманом этой спасательной операции. Роскошно оснащенный Колизеум, ныне ставший домом для Английской национальной оперы, привлек духовенство и жителей пригородов на Сент-Мартинс-Лейн – для многих это был первый выход в один из многочисленных лондонских «холлов». На сцене, как и в зале, Столл стремился следовать высокому стилю. Грубые выражения были запрещены; непристойности осуждались. И всегда среди акробатических номеров, представлений с животными и выходов чревовещателей присутствовали облагораживавшие их выступления артистов из признанных театров: «Сумурун» Макса Рейнхардта в исполнении его немецкой труппы; «Гензель и Гретель» оперной труппы Бичема; «большой футуристический концерт шумов», сопровождаемый комментариями Маринетти на итальянском языке; и, наконец, самый большой успех Столла – Сара Бернар, которая с 1910 года неоднократно появлялась с отрывками из своих лучших ролей. «Собор епархии Столла», как выразился один из местных остряков, не отказался и от показов балета[532]. Еще задолго до 1918 года танцовщики, в том числе из труппы Дягилева, появлялись на его подмостках: Тамара Карсавина – в 1909 и 1910 годах (с сокращенной версией «Жизели»), Федор и Алексей Козловы – в 1912 году (в варианте постановки «Шехеразады»), Аделина Жене (в «Камарго») в 1912 году, а два года спустя – вместе с Александром Волининым в спектакле «Роберт-Дьявол».
Столл не был единственным организатором зрелищ довоенных лет, который действовал исходя из убеждения, что хорошее искусство, должным образом представленное, может принести приличные деньги, даже если его показывать по доступным ценам. В импорте талантов из России ему составили конкуренцию Альфред Батт и Альфред Моул: первый в 1910 году привозил в Палас Анну Павлову и Михаила Мордкина; второй организовывал гастроли Екатерины Гельцер, Василия Тихомирова и Александра Горского (который поставил The Dance Dream) в 1912 году. Лидия Кякшт, партнером которой был Адольф Больм, дебютировала в 1908 году в Эмпайр Тиэтр – на родине викторианского балета. Еще одним историческим событием стал показ полной версии «Лебединого озера», осуществленный в 1910 году в Ипподроме труппой императорских танцовщиков во главе с Ольгой Преображенской. В канун Первой мировой войны программа Колизеума отражала растущую тенденцию к облагораживанию, которое превращало викторианский театр-варьете в место, хотя бы частично связанное с высоким театральным искусством.
Под руководством Столла, скромно державшегося в тени, Русский балет погрузился в мир массовой культуры – сначала в театре Колизеум (с 5 сентября 1918 года по 29 марта 1919-го), затем в театре Альгамбра (с 30 апреля по 30 июля 1919-го). С антрепризой Столла соперничали другие театральные деятели Уэст-Энда: Батт, представлявший труппу в Эмпайр Тиэтр (с 29 сентября по 30 декабря 1919-го), и Чарльз Кокрэн, продюсер более современного типа (о нем мы расскажем ниже), который привез труппу в Театр Принца (с 26 мая по 30 июля 1921-го). С премьерой «Спящей принцессы» в Альгамбре 2 ноября 1921 года Столл вновь оказался на стороне Дягилева. Но на этот раз было куда меньше поводов для того, чтобы вознести ему хвалу: в отличие от прошлого дягилевского сезона в этом же театре, когда балет «Волшебная лавка» заставил Лондон «закатить глаза от удовольствия»[533], классическая постановка Петипа потерпела фиаско. Балет перестали показывать 4 февраля 1922 года, когда Дягилев, увязший в долгах, начал бить отход на другую сторону Ла-Манша.
Таким образом, исключая период выступлений в Ковент-Гарден летом 1920 года, все театры и продюсеры, с которыми работал Дягилев после войны, принадлежали исключительно к сфере массовых развлечений. Подобное явление, свидетельствовавшее о стесненном положении Дягилева, в не меньшей мере отражало стремительные изменения в экономике стран, где выступала его труппа. Эти изменения, сделавшие невозможными те формы поддержки, которые периодически вклинивались между требованиями рынка и необходимостью выживания труппы, как никогда серьезно подвергли Дягилева риску, связанному с жизнью в сфере коммерции. Первая мировая война нанесла удар как по финансам Европы, так и по ее населению. Она «форсировала внезапные и непосредственные экономические перемены, – писал историк Пол Томпсон, – которые не только изменили жизнь отдельных людей… но и предопределили послевоенный уровень жизни в целом». Великобритания была не единственной страной из победивших в войне, которая вышла из нее, «пожалуй, чуть менее богатой»[534]. Во Франции также были заметны признаки относительного обнищания, которое усугубили инфляция, экономический спад, новые налоговые требования и социальные волнения, пришедшие вместе с заключением мира. Хотя эти перемены затронули все слои общества, они нанесли значительный ущерб прибыли и сбережениям банковских и финансовых кланов, к которым принадлежали традиционные покровители Дягилева. Во Франции «размеры наследств, оставленных в 1925 году, лишь в два раза превышали номинальную стоимость наследств в 1913 году, несмотря на то что франк упал в стоимости за эти годы в три-пять раз»[535]. Экономическое давление установило новые ограничения и для учреждений, субсидируемых государством, таких как Парижская опера, вынуждая их вносить изменения в ход работы, урезать расходы и изыскивать новые способы увеличения прибыли. В России, более того, победа большевиков в единый миг вычеркнула те источники дохода, рабочей силы и покровительства, которые косвенно подпитывали Дягилева и его сотрудников с момента создания Русского балета. «Мое состояние пропало, – говорил Дягилев Ансерме. – До войны я мог потерять 120 000 франков за один сезон в Лондоне, зная, что у меня будет возможность найти новые источники в России… Теперь больше нет высокопревосходительств, нет великих князей. За один год я оказался должен миллион. Лондон спас меня, но я не богат, и все, что я могу сделать, – это выполнить свои обязательства»[536]. Все, что когда-либо удерживало Русский балет от крайних проявлений изменчивости рынка, осталось в прошлом.
Возвращаясь после войны в Европу, Дягилев не мог полагаться и на тех импресарио, которые продвигали и финансировали его более ранние начинания. Империя Астрюка, как мы уже говорили, пришла в упадок перед Первой мировой войной. К 1921 году его Театр Елисейских Полей обанкротился, и прежний индивидуалист, продолжавший продюсировать торжественные события, в том числе премьеры престижных фильмов, стал директором административной службы ежедневного финансово-экономического бюллетеня «Радио»[537]. Что касается Бичема, он покинул своего коллегу, который прежде был залогом его успеха; пусть даже русская опера – и главным образом постановки, изначально осуществленные Дягилевым, – была основой его осеннего сезона «Большая опера по-английски» в 1919 году в Ковент-Гарден. На следующий год они на короткое время объединили усилия для проведения «Международного сезона большой оперы», который стал единственным послевоенным появлением дягилевской труппы в Королевском оперном театре. Этот сезон отличался не столько успехом, сколько нездоровой атмосферой. Афиши особо подчеркивали то, что балетные программы были «организованы Сержем Дягилевым»: это говорило о давней неприязни между бывшими партнерами, которую отмена Дягилевым в последнюю минуту заключительного спектакля отнюдь не смягчила.
Последствия этого сезона, впрочем, выходили далеко за рамки личного соперничества. В 1913 году Русский балет стал тем подводным рифом, из-за которого потерпела крушение театральная империя Габриеля Астрюка. В 1920 году «большие потери, произошедшие во время… длительного сезона зарубежной оперы и русского балета», заставили Оперную труппу сэра Томаса Бичема выйти из дела[538]. Дягилев, вне зависимости от того, какую глубокую неприязнь он питал к своему бывшему «доброму ангелу», наверняка осознавал те последствия, которые повлечет за собой провал Бичема: в Европе прежняя система частной оперной антрепризы исчерпала себя.
Уязвимость труппы в этот период усилило и еще одно явление – значительное возрастание балетной активности, которое ослабило довоенное преимущество Дягилева в борьбе за публику и художественное влияние. Этот всплеск активности в разросшемся числе трупп, площадок, стилей и исполнителей, – спровоцированный настоящей «манией» танцевальных вечеринок, которую подгоняло массовое увлечение джазом, – значительно расширил рынок танца, в частности в Лондоне и в Париже – двух танцевальных столицах того времени. Значение этого «бума» для труппы Дягилева тем не менее было двойственным. Конечно, он стимулировал интерес публики к балету, но в то же самое время разрушил уникальность, на которую труппа притязала до войны. Теперь артисты, художественная практика и учреждения, которые ранее были прерогативой Русского балета, оказались в распоряжении пары десятков конкурирующих антреприз.
Вызов превосходству Дягилева как главного покровителя театрального авангарда бросили двое богатых «любителей», чьи антрепризы в 1920–1924 годах с разной степенью успеха пытались подражать модернистскому подходу и студийному методу работы Русского балета. Самым крупным из подобных начинаний был Шведский балет Рольфа де Маре, который, с первых своих выступлений в Театре Елисейских Полей в октябре 1920 года и до роспуска труппы четыре года спустя, стремился – и небезуспешно – оттеснить Русский балет с передовых позиций парижского художественного мира. «Спектакли-концерты», которые показывал в 1920 году граф Этьен де Бомон (первый из них включал в себя «Быка на крыше» Кокто), и недолго просуществовавшие «Парижские вечера» 1924 года тоже были нацелены на то, чтобы воспроизвести дягилевский модернистский «рецепт», добавив яркий французский аромат к его эклектической смеси балетных и театральных номеров. Как и Русский балет, эти антрепризы строились на «сотрудничестве». Их звездами, как в балете «Парад», были композиторы и художники парижского авангарда, а в присущих им отношениях мецената и хореографа повторился гомосексуальный архетип дягилевской труппы. Репертуар, дух сотрудничества и стиль работы этих антреприз несли на себе «русский» отпечаток – то же можно было сказать и об их публике. Как Шведский балет, так и «Парижские вечера» привлекли к себе образованную публику избранных кругов, которую впервые вывел на балетную орбиту спектакль «Парад»[539].
Если упомянутые театральные предприятия, располагавшиеся в Париже, бросали вызов ведущей роли Дягилева в качестве поставщика балетного модернизма, то различные эмигрантские начинания эксплуатировали элементы довоенной эстетики его труппы для того, чтобы обеспечить себе нишу в послевоенной панораме. Павлова, не меньше чем Дягилев обеспокоенная проблемой выживания, вернулась в Европу в конце 1919 года с труппой из сорока с лишним танцовщиков и с репертуаром, продолжавшим использовать наследие Мариинского театра и черты неоромантического и экзотического стилей, получивших распространение благодаря Фокину. Труппа Павловой, составлявшая конкуренцию Русскому балету как самой долго выступающей балетной антрепризе, безусловно уступала своему сопернику по техническому совершенству и общему художественному уровню. В ее постановках, однако, присутствовала верность традиционному видению классического балета, которой не было в замысловатой хореографии Мясина и которая продолжала привлекать зрителей в театры.
Октябрьская революция и последовавшая за ней гражданская война вынудили многих русских артистов искать себе пристанища на Западе. Среди них было много танцовщиков: состав артистов балета Мариинского театра в 1919–1920 годах сократился с более чем двух сотен человек до ста тридцати четырех. Результатом этого стало распространение в последующие десять лет театральных антреприз, которые с разной степенью успешности разрабатывали экзотическую и неопримитивистскую жилу дягилевского репертуара. В начале 1920 года Наум Митник, импресарио из Швейцарии, обратился к Жаку Руше, директору Парижской оперы, с запросом на полтора миллиона франков, нужных для того, чтобы гарантировать создание оперно-балетной труппы из талантливых русских эмигрантов. Начинание Митника остановилось на стадии написания писем, но его предложение предвосхитило появление таких эмигрантских предприятий, как Русский романтический балет Бориса Романова, который гастролировал по Центральной и Западной Европе в начале и середине двадцатых годов, «Русские сезоны» Марии Кузнецовой в Театре Фемина и «Летучая мышь», перенесенное из Москвы кабаре под руководством Никиты Балиева, которое стало основным соперником Русского балета при приглашении артистов-эмигрантов. Еще одна труппа, возникшая на горизонте, была собрана Идой Рубинштейн, первой исполнительницей ролей Клеопатры и Зобеиды у Дягилева, которая начиная с 1918 года поставила ряд экзотических спектаклей, в том числе оформленных Бакстом, в Парижской опере. В ее труппе «Балет Иды Рубинштейн», первое выступление которой состоялось в 1928 году, было несколько «выпускников» труппы Дягилева, в том числе хореограф Бронислава Нижинская, которая и сама организовала недолго просуществовавший авангардистский ансамбль Хореографический театр, после того как покинула Русский балет в 1925 году[540].
Эти ансамбли тем не менее представляли собой лишь часть балетной деятельности эмигрантов. Как ясно видно из театральных колонок газет и со страниц «Дансинг таймс», русские танцовщики стали основными участниками популярных развлечений, и прежде всего на сцене лондонского Колизеума. В этом театре в 1917 году Лидия Кякшт исполнила одноактную версию «Тщетной предосторожности», а Карсавина три года спустя – главную роль в пантомиме сэра Джеймса Барри «Истинная история о русских танцовщиках». На протяжении нескольких лет Карсавина часто появлялась на подмостках Колизеума, равно как и Мясин, Лидия Лопухова, Николай Легат, Станислав Идзиковский и еще пара десятков бывших дягилевцев после того, как их пути с «большим Сержем» разошлись – в это десятилетие такое происходило все чаще и чаще[541].
Другие мюзик-холлы соперничали между собой, стараясь показать иностранные и отечественные балетные таланты лондонской публике. Тем же путем следовали и ревю, особенно принадлежащие к изысканной марке Чарльза Кокрэна. В этих роскошных постановках среди прочих номеров был представлен и танец во всех его многообразных современных формах, в том числе мини-балеты в постановке звезд хореографии, таких как Мясин. По обе стороны Ла-Манша ревю выводили в главных ролях первоклассных танцовщиков, которые подвизались в модных стилях – русском, испанском и модернистском, – введенных Дягилевым. В июле 1922 года анонимные авторы в колонке «Парижские заметки» журнала «Дансинг таймс» писали: «Лаура де Сантельмо – последняя и не худшая из длинного списка испанских танцовщиц, которых импортировала Олимпия. А русские танцовщицы встречаются так же часто, как ежевика в теплое время года»[542].
Европейский танцевальный «бум» 1920-х годов привел не столько к созданию новых балетных ансамблей, сколько к преобразованию уже существующих в соответствии с новыми целями. В Англии это явление было характерно прежде всего для коммерческой сферы, где повышение уровня мюзик-холльных программ и распространение ревю значительно расширило возможности для выступления классических танцовщиков. А с постановкой Кокрэном в конце 1924 года сокращенной версии «Коппелии» для постоянных клиентов вечернего клуба в Трокадеро балет превратился чуть ли не в разновидность кабаре[543].
По другую сторону Ла-Манша сложилась несколько иная ситуация. Под руководством Жака Руше балетная труппа, которая базировалась в Парижской опере, субсидируемой правительством, приступила к проведению весьма запоздалой реформы[544]. Повысились требования к технике; в репертуар вошли новые постановки, в части которых просматривалось русское влияние; в спектаклях были заняты русские этуали. В период, когда правительство не проявляло особенной щедрости, такая политика «русификации» была одной из мер руководства Оперы, направленных на то, чтобы увеличить доход и восстановить пострадавшую репутацию театра. Другой мерой было обновление национального репертуара, главным знаком которого стала организация фестиваля французского балета в 1922 году и возобновление «Жизели» с Ольгой Спесивцевой в главной роли двумя годами позже. Если классический танец оставался по большей части привязанным к субсидируемым учреждениям, то другие виды танца получали на концертной и коммерческой сцене все большее распространение. Действительно, в течение двадцатых годов Париж стал Меккой для исполнителей всех видов танцев: они толпами стекались в комплекс из трех театров на улице Матиньон, где в 1913 году прошла премьера «Весны священной». Как и Колизеум, Театр Елисейских Полей стал основным центром танца. Именно там в октябре 1920 года состоялся дебют Шведского балета, который вновь открыл театр, не функционировавший с 1914 года. Затем его широкая сцена стала пристанищем для Павловой и Русского балета, так же как и франко-шведской антрепризы Маре, в то время как менее крупные залы предлагали публике концертные выступления и даже регулярные танцевальные вечера, даваемые по пятницам. (В 1924 году находящийся под муниципальным контролем Театр Гетэ-Лирик открыл собственный séance des danses[545] – это было еще одним подтверждением популярности Терпсихоры в столице Франции.) С ноября 1923 года Театр комедии на Елисейских Полях стал местом проведения публичных лекций-демонстраций Андрея Левинсона, русского по происхождению – крупнейшего представителя парижской балетной критики. Книга Левинсона «Танец сегодня» (Danse d’aujourd’hui), отражавшая его разносторонние интересы и изысканный вкус, описывает богатую танцевальную культуру, сформировавшуюся в Париже в эти années folles[546][547].
Как рост танцевальной активности, так и смешение жанров внутри многих театров и других заведений сыграли двойственную роль в судьбе Русского балета. До 1918 года места, где обычно выступала труппа Дягилева, подтверждали высокий статус труппы, ограждая ее от конкуренции с антрепризами, имевшими «более низкую» художественную значимость. Послевоенные годы резко поставили под вопрос такое разделение: в это время сложилась тенденция к однотипности программ, рассчитанных как на элитную аудиторию, так и на массового зрителя, обострявшая конкуренцию на обоих краях театрального спектра. Если до войны лишь труппа Павловой чередовала выступления в театрах со спектаклями в мюзик-холлах, теперь многие ансамбли поступали так же – начиная с самого Русского балета. С 1918 по 1922 год труппа Дягилева выступала во многих театрах по обе стороны Ла-Манша – от таких популярных залов, как Колизеум и Гетэ-Лирик, до элитных сценических площадок – Ковент-Гарден, Парижская опера и Театр Елисейских Полей. За ними последовали труппа Лой Фуллер, Шведский балет и более десятка других спектаклей, включая «Быка на крыше» Кокто, который Столл привез из Театра Елисейских Полей в рамках ангажемента в Колизеуме в 1920 году. Более того, сам облик всех этих учреждений в течение 1920-х годов претерпел радикальные изменения. Опера, которая испытывала все большую нехватку средств, расширила спектр своей деятельности с учетом того, что рассматривалось как удовлетворение «массового вкуса»[548]: среди таких усилий по привлечению публики были постановки Иды Рубинштейн и Лой Фуллер, ставшие к этому времени постоянной частью парижского общественного и театрального пространства, премьеры престижных французских фильмов (в том числе «Наполеона» Абеля Ганса) и французский танцевальный фестиваль 1922 года. В Королевском оперном театре в Лондоне произошло еще более значительное приспособление к вкусу большинства: в 1922 году он был взят в аренду Уолтером Уангером, голливудским руководителем «Юнайтед артистс», и стал «суперкинотеатром», где показывали такие образцы кинематографической классики, как «Три мушкетера» и «Атлантида», под аккомпанемент Лондонского симфонического оркестра. Дирижер Юджин Гуссенс был не единственным из бывших участников предприятия Дягилева, кого пригласил Уангер. Чтобы «поддержать притягательность шоу», Уангер ангажировал Мясина, Лопухову и других дягилевских звезд, сидевших без работы, для выступления перед началом сеанса – этот ход предвосхищал последовавшее изменение в политике театра, превратившее его в ревю. Театр Елисейских Полей претерпел похожую метаморфозу: бывший в двадцатые годы «домом для большого балета и других художественных постановок высочайшего уровня», к середине десятилетия он стал модным мюзик-холлом под руководством Рольфа де Маре. По иронии судьбы, именно здесь бывший директор Шведского балета показал в 1925 году спектакль «Негритянское ревю» (Revue Negre), сделавший Жозефину Бейкер парижской знаменитостью[549].
Таким образом, пока мюзик-холлы повышали уровень своих представлений, чтобы соперничать с учреждениями высокого искусства, элитные учреждения заимствовали программы у мюзик-холлов. Это явление, происходившее одновременно с изменениями в самой сущности театральных форм, ставило под вопрос «кастовые» различия, связанные с индивидуальными художественными стилями. Если в 1914 году Дягилев находился на вершине коммерческой пирамиды, теперь его труппа заняла место среди многочисленных конкурирующих антреприз в театральном континууме, расширившемся и изменившем форму в условиях послевоенного рынка.
О том, насколько новый экономический климат стеснял труппу в финансовом отношении, можно судить по положениям контрактов Дягилева с Парижской оперой в 1919–1921 годах. Эти документы, по которым гонорар за одно выступление во время ангажементов 1919 и 1920 годов составлял 12 000 франков, а во время летнего сезона 1922 года – 14 000 франков, свидетельствуют о том, что, даже без учета инфляции, с 1913 года рентабельность труппы уменьшилась примерно вполовину. С резким падением франка в 1919–1920 годах и увеличением в четыре раза цен с 1913 по 1919 год снижение реального дохода оказалось еще более существенным. Введение сдельной системы оплаты представляло собой значительное расхождение с довоенным подходом. По условиям своих прежних соглашений, Дягилев просто снимал театр и его оборудование за определенную плату: в весенний сезон 1914 года она составляла 100 000 франков за десять выступлений[550]. Все доходы билетной кассы причитались in toto[551] продюсеру (после вычета налогов), и такое соглашение, что очевидно, было на руку Дягилеву. При новой системе все доходы, превышавшие оговоренный гонорар, оставались во владении Опера. Хотя труппа никогда не выступала в Париже так же часто (один спектакль в день здесь оставался нормой), как в Соединенных Штатах или даже в Англии, цель Руше – увеличить доход Опера – все же проявлялась различными способами. Примечательно не только то, что в черновом контракте, составленном в апреле 1919 года, была указана сумма гонорара за одно выступление на 2000 франков меньшая, чем в окончательном варианте контракта (нужда научила Дягилева изящному искусству торга), но и то, что в ходе переговоров число оркестровых репетиций уменьшилось с двадцати двух до пятнадцати, а хор был полностью упразднен. Контракт от октября 1921 года, в котором оговаривался премьерный показ «Спящей принцессы», «Мавры» Стравинского и «Свадебки» следующей весной, возложил на Дягилева еще большую финансовую ношу. Хотя он и получал дополнительные 2000 франков за выступление, в его обязанности теперь входило обеспечить репертуар певцами и значительно увеличить труппу для исполнения классического балета Петипа.
То, в какой степени ухудшилось положение Дягилева в сравнении с конкурентами, можно оценить при сравнении вышеописанных условий с условиями контракта Лой Фуллер с Опера в июле 1922 года. Если Дягилев должен был получать 14 000 франков за полновечернее балетное представление с участием певцов, балерин, премьеров и полного профессионального состава, Фуллер платили 4000 франков за труппу из двадцати танцовщиков-любителей, осветительный персонал и сорокапятиминутный «фантастический балет»[552]. Как позднее оказалось, в 1922 году не были показаны ни «Спящая принцесса», ни «Свадебка» – к большому огорчению Руше. В апреле 1922 года он писал Дягилеву:
Вместо «Спящей принцессы», большого, полновечернего балета, вы предлагаете показать фрагмент этой постановки – «Свадьбу Авроры». Вы понимаете, какая разница для билетной кассы будет при замене полностью новой постановки одноактным балетом… Я рассчитывал на безусловный коммерческий успех, ведь «Спящая принцесса» уже известна… по многочисленным показам в Лондоне великолепием постановки, грандиозными декорациями, костюмами авторства Бакста и калибром исполнителей… Решение, которое Вы предлагаете, несет сплошной урон: нет звезд, нет декораций, нет mise-en-scène… Кроме «Петрушки», у нас больше нет большого балета: ни «Шехеразады», ни «Жар-птицы», одни только короткие постановки, требующие многочисленных репетиций и рассчитанные на искушенного зрителя… Стоимость этих постановок настолько велика, что я должен быть уверен в значительных доходах от продажи таких дорогих билетов. Поэтому вы должны понять мое беспокойство по поводу изменения программы, которое вызовет изменение в коммерческой стороне дела, последствия которого я и пытаюсь оценить[553].
Другие признаки сокращения прибыли можно увидеть в резком уменьшении фактического дохода от тех независимых сезонов этого периода, информация о которых сохранилась. В театре Гетэ-Лирик в мае 1921 года доходы кассы составили в среднем 26 921 франк за выступление. В вечер открытия, когда состоялась премьера «Шута» Прокофьева и «Квадро фламенко», доходы достигли значительной суммы в 36 462 франка. Несколько дней спустя они упали до 14 258 франков, что, несомненно, говорит о конкуренции со стороны Шведского балета, выступавшего в это время в Театре Елисейских Полей. В реальном исчислении эти цифры означали существенный спад в сравнении со средней цифрой в 40 670 франков в течение сезона 1914 года в Опера[554]. В противовес этим убыткам продуктивность труппы, однако, резко повысилась. Следуя практике коммерческой сцены (в мюзик-холлах труппа давала по двенадцать спектаклей в неделю), Дягилев спрессовал короткий сезон из восьми выступлений в семь дней, подняв таким образом общий недельный заработок труппы до более чем 215 000 франков.
Из Гетэ-Лирик труппа отправилась в лондонский Театр Принца. В этом двухмесячном сезоне на стороне Дягилева оказался продюсер, совсем не похожий на Столла. В лице Чарльза Кокрэна, выдающегося «шоумена», Русский балет нашел наставника, в котором блистательное чувство рынка совмещалось с гениальными способностями к продвижению художественного товара – эти качества в двадцатые годы заставляли многих говорить о его стильных ревю. В отличие от Дягилева, Кокрэн не церемонился со знатными лицами и не призывал снобов, чтобы собрать аудиторию. Он взял курс на широкие массы. Как и Столл, Кокрэн придерживался умеренных цен на билеты; но, в отличие от него, подавал балет как модное событие. Это был первый случай в истории, когда в европейской рекламе труппы можно было различить почерк современного копирайтера. Строгие сообщения о репертуаре и составе исполнителей ушли в прошлое. Лондонская реклама труппы приобрела навязчивый характер, проявлявшийся во всем – от пятидюймовой колонки газетных заметок, которые последовали за премьерой «Квадро фламенко», до рекламных объявлений, называвших «Весну священную» «величайшим достижением русского балета»[555]. Под руководством Кокрэна каждое выступление становилось событием: реклама сообщала о присутствии на сцене композиторов (и Стравинского среди публики), о «возвращении» Лидии Лопуховой (она «исчезла» из рядов труппы двумя годами раньше); о лондонском дебюте «знаменитого русского тенора» Дмитрия Смирнова, который пел в антрактах; а также о первых в сезоне исполнениях уже известных балетов и даже музыкальных произведений, звучавших во время симфонических интерлюдий.
Навязчивая реклама повлияла на общественное мнение: впервые со времен 1914 года упоминания о Русском балете появились в рубрике «протокольных мероприятий королевского двора» газеты «Таймс». Но, как показывают отчеты за период с 21 по 29 июля, в финансовом отношении она не помогла. Документы свидетельствуют не только о поразительном уменьшении общего дохода (284 фунта стерлингов, или 17 324 франка, за выступление) в сравнении с цифрами выступлений в Гетэ-Лирик – они также демонстрируют, сколь малая часть этих денег попала в распоряжение Дягилева. Из 1752 фунтов стерлингов, полученных от первых семи выступлений, не менее 1250 представляли «долю» Кокрэна. Что касается последних двух, доля продюсера составляла 50 %. После вычета сумм, выданных авансом, Дягилев получил в целом 514 фунтов стерлингов, или 57 фунтов за выступление – этого было мало даже для того, чтобы покрыть расходы по выплатам. В своих воспоминаниях Кокрэн указывает, что за сезон он потерпел убытки в 5007 фунтов стерлингов. Если прибавить эту цифру к «доле», предположительно выплаченной в течение девятинедельного сезона, получается, что аванс Кокрэна составлял 16 257 фунтов. Немногие могли вложить такую сумму в театральное предприятие; еще более немногие могли выдержать потерю 30 % своих вложений. Русский балет способствовал выходу Астрюка и Бичема из бизнеса. Теперь, когда бухгалтерские книги Кокрэна были испещрены красными чернилами, он тоже удалился от дел[556].
Цифры говорят прежде всего о том, насколько тонким был волосок, на котором держалось выживание Русского балета после войны. На протяжении этих лет Дягилев балансировал на рискованной грани между банкротством и самообеспечением: этот акробатический трюк оставлял мало возможностей для экспериментов и не давал шансов уцелеть при падении. Из балетов, которые оставили след в памяти публики после войны, ни один не претендовал на создание новых эстетических основ. От «Парада» до «Шута» практически все новые постановки Дягилева основывались на прорывах военного времени. Это явление отчасти воздает должное огромной созидательности прошлых лет. С другой стороны, оно говорит о нехватке средств, которая теперь не позволяла Дягилеву вновь осмелиться осваивать художественную неизвестность.
Объем финансовых обязательств Дягилева можно оценить исходя из суммы гарантии самых амбициозных из его послевоенных постановок – возобновления «Весны священной» в 1920 году и «Спящей принцессы» годом позже. Хотя в созданной Мясиным новой версии шедевра 1913 года использовались оригинальные декорации и костюмы Рериха, тем не менее расширение состава балетной труппы и приглашение оркестра из девяноста семи человек (в два с лишним раза больше, чем состав ансамбля, который аккомпанировал труппе в Америке) повлекли за собой расходы, которые Дягилев не мог покрыть из своих – теперь уменьшившихся – средств. Возобновление стало возможным благодаря Габриель Шанель, которая своевременно принесла в дар 300 000 франков[557]: это не только спасло ситуацию, но и стало знаком появления нового типа балетных покровителей – предпринимателей, самостоятельно добившихся всего в жизни и обладавших вкусом.
Любопытно, что идея постановки «Спящей принцессы», как и финансирование этого полновечернего балета, пришла с массовой сцены. Дягилева «поразила», писал Григорьев, возможность столь длительного сценического существования «Чу Чин Чоу» – музыкальной феерии, названной в афишах «самым великолепным зрелищем, какое когда-либо видел Лондон», – внезапная «смерть» которой была объявлена во время сезона труппы в 1921 году. «Однажды он мне полушутя сказал, как хотел бы найти балет, который будет идти все время… Я ответил, что, напротив, это наскучило бы ему до смерти. “Вовсе нет, – парировал он. – Вы бы управляли всем, а я занялся чем-нибудь другим!”» Отвергнув предложение Григорьева поставить «Коппелию», комический балет, который стал самым большим триумфом Аделины Жене и был возобновлен в сокращенной форме как минимум дважды за двадцатые годы, Дягилев предпочел «Спящую красавицу». За решением поставить этот большой классический спектакль скрывалась еще одна попытка найти средства на художественные эксперименты. Точно так же, как в 1916–1917 годах Метрополитен невольно финансировала модернистские начинания Дягилева, теперь он предполагал изыскивать средства для своей творческой лаборатории из прибыли от нового «хита» в Уэст-Энде[558].
Если балетная комедия подсказала идею, то мюзик-холльная антреприза помогла оплатить расходы на новый балет. Дирекция Альгамбры ссудила Дягилеву на декорации и костюмы 10 000 фунтов стерлингов, которые должны были быть возвращены из доходов кассы, и дважды удовлетворяла его просьбы о предоставлении дополнительных сумм в 5000 фунтов. Дягилев щедро расходовал средства на постановку спектакля, который позднее стал визитной карточкой Английского королевского балета – дягилевская постановка была второй на Западе (после постановки в 1896 году «Красавицы» Джорджио Савокко в Ла Скала, где главную роль исполнила Карлотта Брианца, – эта постановка предвосхитила «Спящую принцессу» на двадцать пять лет). Помирившись с Бакстом, который тогда охладел к своему бывшему наставнику, Дягилев поручил ему создание декораций и костюмов – как тому самому мирискуснику, который разделял его восторг по поводу оригинальной постановки в Петербурге. Одна только работа Бакста стоила Дягилеву 28 000 франков: 5000 франков за каждую из пяти картин балета плюс необходимые расходы. «Платья, – восхищенно писал Сирил Бомонт, имевший тогда доступ к труппе, – были сделаны из тончайших материалов и стоили порой от сорока до пятидесяти фунтов за штуку – тогда это была большая сумма»[559]. Костюмы были не единственной особенностью постановки, напоминавшей об императорской роскоши. На роль Авроры Дягилев разыскивал по всей Европе балерин из Мариинского театра, и после премьеры 2 ноября 1921 года лондонская публика могла наблюдать в заглавной роли трех блестящих представительниц русского классического балета – Веру Трефилову, Ольгу Спесивцеву и Любовь Егорову. Карлотта Брианца, первая Аврора Петипа, исполняла роль злой феи Карабосс, которую она затем уступила Энрико Чекетти – первой Голубой птице Петипа – по случаю пятидесятой годовщины его первого появления на публике. Николай Сергеев, бывший режиссер балетной труппы Мариинского театра, который уехал из Советского Союза вместе с записью балетов Петипа, был приглашен, чтобы воссоздать хореографию. Бомонт писал:
Я как сейчас вижу ту величественную сцену Крещения, богато украшенные каменные и мраморные стены, колонны, вдоль которых стоят стражники-негры, разряженные в белое с золотом и черное с серебром, Церемониймейстер приветствует гостей – знатных господ и дам, а также фей с их пажами, которые несут прелестные подарки для маленькой Принцессы. Знатные гости держатся почтенно, а феи двигаются между ними со строгим величием, которое отличает их от самых благородных смертных. Так все степенно движется своим чередом, пока неожиданно не появляется фея Карабосс, которая прибыла в своей карете, в которую впряжены крысы. Но и она исполнена достоинства. Она величественна даже в своей ярости[560].
Показы «великолепной катастрофы» Дягилева, как назвал эту постановку один из критиков, закончились 4 февраля 1922 года в разгар «необыкновенно сурового экономического спада». Было дано сто пять спектаклей подряд – возможно, это рекордное число показов полновечернего балета Петипа за все времена. Тем не менее продолжительность показов спектакля оказалась меньше шести месяцев, необходимых для возвращения аванса Столлу. Постановка была отменена; Столл наложил арест на декорации и костюмы в счет погашения оставшегося долга в 11 000 фунтов стерлингов, и Дягилев уехал из Англии с пятью сотнями фунтов в кармане, которые взял взаймы у матери танцовщицы Хильды Бевике[561]. Семьдесят танцовщиков труппы разбежались кто куда. Столл, в свою очередь, прекратил заниматься показом балетов. С этого времени на его сцене появлялись только те спектакли, которые были уже где-то опробованы.
Последствия этой истории оказались ужасными. В один момент все планы Дягилева на ближайшее время оказались под вопросом, его труппа пала духом от своей неудачи, а лондонская база для работы стала недоступной. Второй раз менее чем за десять лет труппа распалась: форс-мажорная ситуация рынка оказалась не менее беспощадной, чем ситуация войны. Более того, угроза судебных процессов не позволяла Дягилеву выступать в Англии до конца 1924 года. Когда он вернулся, его встретило еще одно последствие фиаско: многочисленная аудитория, сплотившаяся вокруг Русского балета в течение 1918–1922 годов, распалась. В дальнейших главах мы подробно проанализируем сущность этой аудитории и последствия ее распада.
Важнее всего то, что экономический крах «Спящей принцессы» сделал крайне явной неадекватность «свободной антрепризы» как системы художественного производства. Летом 1922 года Дягилев пробовал различные способы стабилизации труппы на новой экономической основе. Один из таких планов требовал ее официальной регистрации как Société des Ballets Russes – «Общества Русского балета». Новая организация с постоянной штаб-квартирой в Париже должна была представлять собой открытое акционерное общество, состоявшее из владельцев акций, которые постоянно стремились получить если и не значительные дивиденды, то хотя бы свою долю от «текущих достижений труппы и ее известности», и из совета директоров, который занимался бы финансовым руководством общества[562]. Если бы схема была претворена в жизнь, несомненно, что все те же преданные покровители, которые пришли теперь Дягилеву на помощь, оказали бы поддержку только что образовавшемуся предприятию. Как оказалось, принцесса Эдмон де Полиньяк предоставила в распоряжение Дягилева «сумму, которая позволила ему сохранить труппу и продолжить работу в условиях строгой экономии»[563], к тому же, благодаря ее протекции, Русский балет приобрел статус постоянной танцевальной труппы театра Монте-Карло в Монако. В свете дальнейшей истории труппы, однако, черновой набросок такого проекта выглядит значительным. Это говорит не только о подспудном понимании Дягилевым того, что антреприза высокого искусства больше не может существовать в частном секторе без регулярных и крупных денежных вливаний, но и того, что при таких высоких ценах и больших рисках ни от одного отдельно взятого человека нельзя ожидать, что он станет постоянным меценатом.
В период с 1918 по 1922 год конкуренция сместила Русский балет с его места на вершине довоенной балетной пирамиды. Артисты труппы разделили ее судьбу. Война спровоцировала серьезные изменения в отношении общества к балету, ускорила развитие тенденций, вызванных приходом «русских», и устранила социальные и моральные табу, которые раньше не позволяли женщинам вступать на рынок труда. В Англии, где «бум» затронул все стороны танцевальной активности, последствия этого были крайне существенны: впервые множество девушек из среднего класса избрало танец в качестве своей карьеры, во многом благодаря изобилию новых возможностей обучения и трудоустройства. Эти вновь пришедшие танцовщицы – наряду с эмигрантами периода русской революции и «потерянным поколением» американских талантов, пересекших Атлантику, – бросили вызов «свободным артистам» Дягилева, чья позиция до войны была лидирующей. Именно в условиях, когда предложение превышало спрос, ускорилось явление «пролетаризации», впервые ставшее заметным во время американских гастролей. Танцевальной «аристократии» Русского балета послевоенные годы принесли снижение заработка и ухудшение условий, что усугубило их и без того непрочное положение вне стабильной системы, субсидируемой государством.
Послевоенный танцевальный бум значительно расширил возможности, которыми располагали танцовщики. Еще до 1914 года успех Павловой и Русского балета привел немало энтузиастов к балетному станку. «Поразительно, – говорил в 1912 году один из лондонских преподавателей балета в журнале “Дансинг таймс”, – как много женщин и детей с появлением Русского балета стали заниматься модными и театральными танцами». Война не сократила количество обучающихся, но только расширила их ряды. Руби Джиннер, известный преподаватель свободного танца, отмечала «возросший спрос на хороший танец». «В моей собственной школе, – писала она в 1917 году, – стало в два с лишним раза больше учеников и работы». Рост числа постоянно развивающихся профессионалов в период с 1912 по 1918 год нашел свое отражение на страницах «Дансинг таймс». Объемы рекламы танцевальных школ стремительно росли; на иллюстрациях показывались образцы перспективной карьеры от балетных классов до профессиональной сцены; освещение сценического танца в прессе выходило далеко за рамки отдельных концертных выступлений. К началу 1918 года ожидания Руби Джиннер по поводу «времени, когда танец снова придет к ней», стали реальностью. Как писал Ф. Дж. С. Ричардсон под своим редакторским псевдонимом «Завсегдатай» (Sitter Out), «достаточно было посмотреть в программы различных музыкальных комедий, ревю и мюзик-холлов, чтобы понять, что еще никогда не было такого спроса на танцовщиков, как в настоящий момент»[564].
Как ясно свидетельствует рост числа журнальных страниц с рассказами о событиях, рекламой и редакторскими колонками, это явление в наступившее десятилетие заметно распространилось – и не только «у себя дома». В 1920-е годы Англия стала основным экспортером танцевальных талантов в кабаре и мюзик-холлы европейского материка. Растущая популярность танцевальных вечеров как массового времяпрепровождения к тому же создала широкий диапазон возможностей для трудоустройства в вечерних клубах, танцевальных залах и огромных palais de danse – танцевальных дворцах, которые стали открываться по всей Англии. Даже кинотеатры начали нанимать танцовщиков. В 1920 году известный автор, писавший о танце, восторженно отмечал, что «во всей истории танца не было периода, столь богатого различными танцевальными формами, как ныне»[565], – это разнообразие отражалось во множестве танцовщиков – исполнителей бальных танцев, классического танца, свободного танца, акробатических и гротесковых танцев, артистов, отбивавших чечетку и синхронно двигавшихся гимнастов и герлс (не говоря уже об оплачиваемых партнерах), – чье искусство придавало эклектичный характер атмосфере театральных и бальных танцев 1920-х годов.
Проявлением этих новых профессиональных возможностей стало широкое распространение студий, которые предоставляли услуги обучения сценическим и бальным танцам, а также преподавания. Самой крупной из них в английской балетной истории была школа, открытая в 1914 году Серафимой Астафьевой, воспитанной в Мариинском театре танцовщицей Русского балета, где получила начальное образование бо́льшая часть младшего поколения английских танцовщиков Дягилева, в том числе Антон Долин и Алисия Маркова. Другие русские танцовщики уехали в Лондон вслед за Русским балетом послевоенного периода. Как и Астафьева, Николай Легат, Лаврентий Новиков и Энрико Чекетти основали студии, ставшие местом притяжения для одаренных учеников и амбициозных молодых профессионалов. В это же время общее признание того, что «оперный» танец (как тогда называли балет) требует соответствия высочайшим техническим стандартам театрального мастерства, привело к тому, что балет часто стали вводить в программы школ и академий, включая те, которые были ориентированы на бытовое танцевание. Такое объединение балета, сцены и бальных танцев – явление, которое не имело параллелей во Франции, где категории любителей и профессионалов были по-прежнему строго разделены, – привело к появлению нового большого резерва энтузиастов, обладавших минимальными навыками, необходимыми для того, чтобы стать профессионалами в эпоху большого спроса[566].
Эта склонность к эклектике, которую многие обозреватели воспринимали с опасением как «тенденцию к бесформенности»[567] стандартов техники и вкуса, разительно отличалась от ситуации, существовавшей до войны. До 1914 года обучение танцу происходило большей частью в пределах театральных школ. Там ученики при подготовке к сценической карьере приобретали не только навыки танца, но и опыт публичных выступлений, актерской игры и пения. Профессиональный характер таких учреждений проявлялся в двойственной роли их основных преподавателей, которые зачастую были прикреплены к лондонским театрам в качестве балетмейстеров или «сочинителей танцев», и в их функции, заключавшейся в подборе молодых исполнителей для музыкальных шоу и пантомим – для выступлений как в Лондоне, так и на гастролях. Хотя в двадцатые годы они продолжали существовать, влияние таких учебных заведений стало гораздо меньшим. Изменились не только требования к театральному обучению: к началу 1920-х годов сформировался новый, основанный на конкуренции рынок преподавания, где буквально каждый, имеющий такое желание, мог (а чаще всего могла) объявить себя преподавателем. В 1922 году рекламное объявление танцевальной школы и галереи Парк-Лейн гласило:
Только подумайте!!! Один год обучения, и вы готовы занять свое место выдающегося исполнителя в мире танца. С дипломом, на котором стоят подписи всемирно известных г-жи Лидии Кякшт и г-на Генри Купера, вы получите работу в любом месте мира – или сами станете Учителем. Никаких ограничений. Вы сможете открыть собственную школу там, где пожелаете. Вы не найдете карьеры лучше балетной, если вы девушка или молодой человек, полный энтузиазма и стремления к успеху.
Это интересная, прибыльная, приятная и здоровая работа[568].
Подобные школы, с обещаниями обеспечить здоровье и дать возможность сделать карьеру, появились в качестве ответа на чрезвычайно возросший спрос «любителей», который прежние, профессиональные учреждения не могли удовлетворить.
Поразительным явлением послевоенных лет в Англии стало изменение социального статуса танцовщицы. Неожиданно «балетная девушка» стала уважаемым лицом – это была заметная трансформация по сравнению с серединой XIX века, когда балет был «любимым развлечением людей, которые ходят в дешевые театры», а главным отличием балетных «молодых леди» считались их «короткие юбочки»[569]. С появлением в 1880-е годы постоянных трупп в Эмпайр Тиэтр и Театре Альгамбра качество балетных зрелищ повысилось. Тем не менее клеймо принадлежности низшим слоям общества и непристойности оставалось как на деятелях хореографического искусства, так и на самих мюзик-холльных площадках вплоть до Первой мировой войны.
Появление Павловой и Русского балета Дягилева нанесло удар по обоим этим предрассудкам. В противоположность лондонским «балетным девушкам», имеющим обычное происхождение, дети, которых принимала в обучение Павлова в 1911 году, были родом из «приличных семей». Это были дочери владельцев магазинов и предпринимателей, набранные из лондонских танцевальных классов, куда их посылали затем, чтобы научиться грациозности и умению держать себя – для визитов в бальные залы и салоны. «Хильда Бут, – писал в 1921 году в журнале “Дансинг мэгэзин” некий насмешник, – как и все милые английские девочки, ходила в танцевальную школу. Она играла “Духа Устрицы” в балете про подводный мир и стала балериной Бутсовой, второй после Павловой в знаменитой русской труппе»[570]. Соответственно, и мужчины, приходившие в труппу Павловой (помимо ее классических партнеров из Мариинского или, чаще, из Большого театра), подвергались более строгому отбору, чем их предшественники. Так, Серж Украинский был русским аристократом, а Губерт Стоуиттс, американец, присоединившийся к труппе в 1915 году, получил экономическое образование в Калифорнийском университете. Павлова принимала все меры, чтобы «защищать» своих балерин, как дуэнья, повсеместно присматривала за ними, убеждая их быть трудолюбивыми, прилежными и обладать манерами леди. И какие бы слухи ни были связаны с ее именем в России, на Западе не допускали даже намека на что-либо неблаговидное, что могло бы запятнать ее репутацию.
В статьях, эссе и интервью как танцовщики Дягилева, так и журналисты придавали особое значение теме «респектабельности». Целые страницы посвящались описаниям Императорского училища, и особый акцент был сделан на «длительных и тяжелых тренировках», которые, по словам Эллен Терри, «придали балету такие утонченные и возвышенные линии». В брошюре, выпущенной к сезону 1912 года в Ковент-Гарден, редактор «Сандей таймс», музыкальный критик Леонард Риз подобным же образом восхвалял «суровую программу Императорского училища», ученики которого «не двигались по пути наслаждений к известности в мире искусства, но на протяжении всей своей карьеры подвергали себя строгой дисциплине тела и ума»[571]. Риз сравнивал балетное образование в России с военной карьерой:
Успешно пройдя этап обучения, танцовщики попадают «в полк» кордебалета и, подобно новобранцам наполеоновской армии, имеют возможность проявить свое отличие. Лишь талант и дисциплина будут решать, останутся ли они в своем ранге или пройдут всевозможные этапы на пути к высокому чину – танцовщика-премьера или мима. В танце, как и во всех других видах искусств, цена высоких достижений – это постоянные усилия[572].
В ряде интервью с Серафимой Астафьевой журнал «Дансинг таймс» представил более глубокий взгляд на обучение в Императорском балетном училище. В этом случае акцент был сделан (как и в книге воспоминаний Карсавиной «Театральная улица», которая будет опубликована в 1930 году) на монастырской атмосфере училища, строгом отделении мальчиков и девочек не только друг от друга, но и от мира в целом, а также на высоких требованиях физической и духовной гигиены, к которым принуждали чопорные гувернантки[573].
Еще одно клише, типичное для этих ранних комментариев, касалось высокой репутации русского балета на его родине. В противоположность своему выродившемуся сопернику на Западе, отмечал Риз, в России балет представлял собой «замечательный пример истинного аристократического учреждения, такого, которому нет необходимости оправдывать свое существование при каждом новом веянии общественного мнения и которое обладает свободой, нужной, чтобы воспитывать высокие идеалы и заботиться о достижении долговременных результатов, а не пытаться достигнуть немедленного и эфемерного успеха». Астафьева, предвосхищая воспоминания и утверждения своих собратьев из Императорского училища, особо отмечала близкое положение студентов к личности царя:
Учащимся разрешено уходить домой на три дня в Рождество и на Пасху, а также после ежегодного визита императора, дающего несколько дней каникул. Летом училище перемещается в Царское Село, в здание дворца, где дети проводят каникулы, играя в восхитительном парке императорского дворца… Иногда… репетиции проходят в театре, куда детей отвозят в казенных каретах под наблюдением классных руководительниц и привратников в красных ливреях. Это всегда большая радость для учеников… Если император присутствует на каком-нибудь представлении, в котором участвуют дети, он обязательно приглашает их к себе в ложу, где императрица лично раздает сладости[574].
Постоянные упоминания об аристократизме и высокой нравственности в этих ранних описаниях помогали избавить представление о балете от традиционно связанных с ним ассоциаций. Одновременно это породило новый общественный стандарт, к которому энтузиасты исконно английского балета сознательно стремились. Помимо того что учащимся ведущих школ предоставлялась возможность выступить перед аудиторией, способной оценить их, были организованы ежегодные «Веселые утренники» (Sunshine Matinees). Начало им положил в 1919 году журнал «Дансинг таймс» с целью создать светскую атмосферу вокруг первых попыток организовать концерты по всей Англии. Устроенные как благотворительные представления с высокопоставленными покровителями, эти спектакли стали предвестниками движения, которое будет иметь большое значение для последующего развития британского балета.
Хотя общественная оценка танцовщицы начала повышаться еще к 1914 году, именно военные годы сделали танцевальную карьеру престижной. Это, в частности, отражало новое отношение к трудоустройству женщин; впервые многие женщины из высшего и среднего класса нашли себе работу, которая освободила их от пребывания в домашней праздности, позволив при этом зарабатывать себе на жизнь. Другой причиной изменения отношения к статусу танцовщицы был «очевидно распространившийся упадок сексуальной сдержанности», который пошатнул критерии морали. Наконец, тенденция к отходу среднего класса от домашних вечеринок (в том числе из-за того, что дома стали меньше, а прислуга редкостью) повысила респектабельность танца как вида публичного времяпрепровождения. Действительно, в 1919 году танец нашел себе сподвижника в лице самого настоятеля Манчестерского собора, который защищал его на страницах «Дейли мейл» как «естественный выход из однообразного окружения и рутины современных индустриальных процессов». Хотя газеты продолжали распалять читателей такими заголовками, как «Джаз – оргия аморальности?», к 1920 году клеймо безнравственности, сопровождавшее стремление девушек из среднего класса иметь профессию, почти окончательно исчезло[575]. Вкупе с широким распространением возможностей, открывавшихся новичкам, танец стал для молодых женщин престижным способом заработать себе на существование.
В 1923 году на страницах «Дансинг таймс» появилась регулярная колонка материалов за подписью «Рукодельница» (Button Box) – таков был литературный псевдоним «балетной мамаши». Эта серия статей под заголовком «Беседы с молодыми танцовщицами» содержала советы девушкам и их, как правило, обеспокоенным матерям по поводу карьеры в сфере преподавания и на сцене. Среди ответов на вопросы о юбках для «репетиций» («я никогда не видела, чтобы кто-нибудь из наших великих танцовщиц выставлял напоказ оборки своих панталон») и гамашах («отрежьте низ от пары длинных шерстяных чулок и наденьте их поверх трико»)[576] «Рукодельница» вновь и вновь превозносила преимущества танцевальной карьеры. Она ответила одной из матерей, мучившейся вопросом, должна ли ее дочь, серьезно увлеченная танцами, посещать среднюю школу:
Жизнь танцовщицы сама по себе – прекрасное образование. Танцовщица имеет потрясающую возможность встречаться с высокообразованными и повидавшими мир людьми, намного чаще, чем девушка-домоседка. Я знаю одну девушку, которой выпала счастливая судьба иметь в качестве «костюмерши» одну француженку знатного происхождения, которая могла… поддерживать разговор на английском, французском и немецком… Эта девушка научилась весьма хорошему французскому, а позднее, когда работала с русскими, приобрела достаточные навыки и этого языка – для всех практических потребностей[577].
Кроме языковой практики и возможности встретить «приличных» людей – традиционных целей образования среднего класса, – «Рукодельница» подчеркивала экономические преимущества карьеры преподавателя – столь же традиционного для женщины результата танцевального образования:
На ваш вопрос: «Что значит ученица, обучающаяся по контракту?» – отвечаю: это попросту означает, что учащаяся заключила с преподавателем соглашение, которое подписано и подтверждено печатью (чтобы оно было законным и обязательным). Пункты такого соглашения могут значительно варьироваться. Например, родитель может дать задаток в сто гиней, договорившись с преподавателем о том, что ученица будет посещать по уроку каждый день в течение года или двух, по истечении которых ученица, если она достигнет определенного уровня, начинает получать небольшое жалованье и помогать в преподавании.
Другая типичная договоренность, связанная с детьми дошкольного возраста, обеспечивала талантливым, но малообеспеченным девочкам бесплатное обучение, которое можно было возместить в форме процентов от заработка ученицы, когда она начнет танцевать профессионально[578]. Нужно заметить, что многие школы предлагали вакансии «обучения по контракту», и можно не сомневаться, что, несмотря на все восхваления подобных договоров, исходившие от «Рукодельницы», такие ученики рассматривались недобросовестными лицами как источник дешевой рабочей силы.
Финансовая самодостаточность танцовщицы стала темой написанной в 1925 году статьи Марка Перуджини, специалиста по танцу, который, среди прочего, оценивал «значительное изменение практических возможностей» этой профессии «в рамках одного поколения». Принимая во внимание, что до войны «молодая танцовщица была рада уже тому, чтобы появиться в балете или в одной из ежегодных пантомим в качестве неоплачиваемой либо практически неоплачиваемой помощницы своей преподавательницы, которая дает в аренду талантливых учеников из своей школы», а «вне своего ученичества довольствовалась тем, чтобы заработать одну часть своего дохода в течение дня, а другую часть – выступив в каком-нибудь вечернем спектакле с оплатой в размере одного фунта в неделю», Перуджини говорил о том, насколько сильно ситуация изменилась:
Нынче дела обстоят иначе. Тогда театры были меньше, виды развлечений – менее разнообразными, а обучение… поверхностным… Теперь, пусть девушке приходится платить от тридцати до семидесяти гиней за год обучения, или, скажем, два года, – она уверена в том, что обучение будет компетентным и стандартизированным; и, ввиду нехватки хорошо обученных танцовщиков, она может быть уверена в постоянном заработке в три и более фунтов стерлингов в неделю, а также в возможностях к продвижению, какие редко были доступны ее предшественницам[579].
Осознавая, что 150 гиней представляли собой крупную сумму для бюджета большинства семей, Перуджини обращался к родителям из среднего класса, обеспокоенным будущим своих дочерей. Ход его мысли был таким: если предположить, что стоимость обучения возможно будет покрыть в течение первого года танцевальной карьеры, обучение следует рассматривать не как «одни только расходы», но как «вложение, которое с большой вероятностью принесет значительные доходы на основе прежних издержек». Очевидно, что обретенные теперь престиж и статус танцовщицы послевоенных лет были основаны на ее способности заработать на достойное существование.
Метаморфоза балетной танцовщицы в представлениях того времени была отражена в двух популярных романах Комптона Маккензи. Роман «Карнавал» вышел в свет накануне первого ангажемента Дягилева в Лондоне. История Дженни Перл, танцовщицы второго плана из Ориент Палас Варьете, была изложена в романе с фатализмом уходящего поколения писателей-натуралистов как трагедия обстоятельств: низкое происхождение, утрата нравственности и развеянные амбиции – неизбежное сопровождение профессии танцовщицы. Его продолжение, «Корал», появилось в 1925 году. За пятнадцать лет, прошедших между изданием этих двух романов, Ориент, теперь уже названный «театром», усовершенствовался даже в большей мере, чем его наименование. Балет уступил место ревю, в то время как пэры и богатые семейства в партере заменили представителей богемы и провинциалов прошлых лет. Классовые различия конечно же сохранились, но они уже не создавали непреодолимых препятствий ни для работы, ни для романтических отношений. Сын Дженни женится на дочери Мориса, «богатого джентльмена с широкими полномочиями», который много лет назад, когда его еще звали просто Джонни, поджидал свою возлюбленную-танцовщицу у служебного входа, а затем бросил ее – впоследствии конечно же пожалев о своем решении. И естественно, когда Корал, «малышка из джаза», которая до своего тайного бегства танцевала пять дней в неделю, задумывается о поиске работы, ее первая мысль – открыть танцевальную студию. Какими бы натянутыми и сентиментальными ни были эти романы, они свидетельствуют о том, как сильно повышение английской танцовщицы в статусе проникло в сознание массового читателя.
В Англии – и, в меньшей степени, на Европейском континенте – волны новоявленных профессионалов полностью преобразовали структуру рынка труда. Новичкам, находящимся на гребне волны растущего спроса, эпоха сулила неограниченные возможности. Для ветеранов, однако, подающие надежды юные существа, наводнявшие студии и офисы по подбору артистов, означали конкуренцию, и именно в борьбе за возможность трудоустройства и за место в центре внимания публики состояла трагедия артистов дягилевской труппы послевоенных лет.
По стечению обстоятельств, в тот самый момент, когда общественный статус танцовщиков в целом так сильно повысился, условия работы участников Русского балета стали стремительно ухудшаться. До 1914 года танцовщики Дягилева были «аристократами» в своей профессии. На рынке, где доход извлекался из их талантов, они обладали роскошью выбирать среди различных прибыльных возможностей, и, чтобы выиграть право на их услуги, Дягилеву приходилось платить им хорошо. Начиная с 1915 года положение танцовщика дягилевской труппы перестало быть столь же завидным. К 1918 году тенденция к спаду усилилась. Теперь в системе, которая стала нормой для послевоенного времени, размеры жалованья начали падать, а условия – ухудшаться. Эпоха изобилия закончилась.
В Швейцарии, как мы уже отмечали, все танцовщики получали равную плату. Эта уравнительная стратегия, позволившая Дягилеву восстановить труппу, прекратила существование, когда труппа вновь появилась на американском рынке. Возвращение к традиционному распределению заработной платы тем не менее не означало возвращения к прежнему уровню жалованья. В 1916–1917 годах заработная плата кордебалета существенно уменьшилась, причем первыми нужду почувствовали танцовщики, работавшие в Америке.
Зарплата не поднялась и тогда, когда труппа нашла надежное пристанище в Лондоне. Согласно контракту от 20 октября 1918 года, некая мадемуазель Ивонна Андре была нанята за 750 франков в месяц, при этом во время двухмесячного периода репетиций труппы и ежегодных четырех недель отпуска ей полагался лишь половинный оклад. Годом позже Вера Кларк, переименованная Дягилевым в Веру Савину, присоединилась к труппе на условиях месячного оклада в 800 франков во Франции и 4 фунтов стерлингов в Лондоне – это было намного меньше, чем гинея в день, которая выплачивалась аккомпаниатору. Притом что их доходы возросли с 7800 франков до 8400 франков в год, по этим цифрам можно судить, насколько заработная плата уменьшилась в сравнении с первыми годами существования независимой антрепризы Дягилева, когда новичок мог рассчитывать на годовое жалованье в 8000–10 000 франков. Даже такие старожилы, как Анатолий Бурман, одноклассник Нижинского по Императорскому балетному училищу, который пришел в труппу в Лондоне, страдали от снижения жалованья в послевоенный период. По условиям контракта на двенадцать месяцев, подписанного в августе 1921 года, он получал очевидно низкую месячную зарплату в 1275 франков и меньше половины оклада во время репетиций и отпусков[580].
Впрочем, сравнение абсолютных величин не дает истинной картины снижения реального дохода. Ведь эта статистика не отражает происходившей в то время инфляции, в ходе которой уровень цен во Франции за промежуток с 1913 по 1919 год поднялся более чем в четыре раза, а франк упал в сравнении с фунтом стерлингов с 25 франков за фунт в 1914 году до 61 франка в 1921-м. (С учетом быстрых и непредсказуемых изменений курсов валют в послевоенных контрактах Дягилева часто указывались суммы жалованья в валюте тех стран, где труппа должна была выступать.) В начале 1924 года парижская ежедневная газета «Ле Голуа» сравнивала стоимость продуктов питания с ценами 1914 года, назвав результаты сравнения «устрашающими». В 1914 году на пять франков можно было купить семь килограммов сахара; в 1924-м же – только один. Сливочное масло подорожало с трех до двадцати франков, колбаса – с одного франка до семи[581]. В Англии происходило почти то же самое, пусть даже фунт стерлингов сохранял устойчивые позиции на иностранных валютных рынках. За один только 1916 год цены выросли в среднем на 80 %.
Резкое уменьшение реального дохода сопровождалось и другими признаками ухудшения экономической ситуации. В предыдущих главах упоминалось об увеличении количества выступлений, позволившем Дягилеву частично компенсировать послевоенное понижение доходов. Для танцовщиков же более интенсивное расписание спектаклей означало нечто большее, чем сокращение «сдельной ставки». Изматывающий круговорот уроков, репетиций, выступлений и гастролей превратил их жизнь в сплошной перерасход сил, и руководство труппы не предпринимало ничего, чтобы эту каторгу облегчить. Несмотря на «стойкость» русских танцовщиц по отношению «к тяготам жизни», как выразилась присоединившаяся к Русскому балету в 1923 году Нинет де Валуа[582], их физическое состояние страдало, а постоянное напряжение повышало опасность повредить самое ценное и хрупкое из того, что имел танцовщик. Лидия Лопухова, опытная артистка труппы и одна из немногих дягилевских балерин, позволявших себе откровенные высказывания, так говорила об этом в 1933 году в интервью одному из лондонских журналистов: «В России танцовщики обычно выступали раз в неделю, а сейчас (поскольку Россия – “страна эксплуатации”) им иногда приходится выступать в неделю два раза! Но во времена Дягилева он порой заставлял нас танцевать шесть раз в неделю – и поэтому колени подводят нас, хотя мы еще в середине карьеры!..» (В то время Лопухова лежала дома с растяжением связок[583].)
Из-за отсутствия медицинского обеспечения труппы танцовщикам приходилось надеяться на одних лишь благотворителей. За операцию, сделанную Лидии Соколовой в 1926 году, заплатил лорд Ротермир, лондонский газетный магнат, а в 1928 году, когда здоровье вновь подвело ее, на помощь вновь пришел ряд богатых друзей[584]. (Как одна из старейших и способнейших участниц труппы, она получала определенную помощь от Дягилева, но это было проявлением его личной доброты, а не политикой внутри труппы.) Растущей ненадежности жизни танцовщиков способствовали и другие факторы. Выплаты жалованья часто откладывались и не всегда производились полностью. Порой его не платили вовсе: так, как это было при прекращении ангажемента на показ «Спящей принцессы», когда все ресурсы Дягилева, по словам его друга Вальтера Нувеля, исчислялись «тысячей фунтов, взятых взаймы у эксцентричного миллионера, который шумно требовал возврата». Нувель вспоминал также, что, когда импресарио не было в Париже, «некоторые артисты, которые еще не получили полной платы, угрожали сорвать последнее выступление общей забастовкой». Забастовка была предотвращена, но готовность танцовщиков прибегнуть к такой крайней мере говорит о том, насколько критическим стало их положение в эти безденежные дни. (Леон Войциковский и его неофициальная жена Лидия Соколова, у которой был ребенок от предыдущего брака, обратились в суд с требованием произвести им выплату задним числом. Они выиграли дело, так же как и господа Тадеуш Славинский и Ялмузинский[585].)
К тому времени, когда прошло последнее представление «Спящей принцессы», угрозы забастовок уже стали реальностью в театральной сфере. В 1920 году прошли забастовки в ряде парижских театров, и в двух отдельных случаях танцовщики вместе с музыкантами и рабочими сцены отказывались от работы в Опера, требуя повышения заработной платы, улучшения условий работы и расширения права голоса при принятии решений руководством. В начале 1922 года по Лондону прошла волна беспорядков, и в условиях массовой безработицы Ассоциации актеров удалось осуществить подписание контракта[586], гарантировавшего минимальное жалованье в три фунта в неделю каждому из артистов. Несколько месяцев спустя Ассоциация вела дебаты о создании «закрытого цеха», который защитил бы его членов от «нечестной конкуренции». «Сцена, – говорил один из ее представителей, – в большей степени, чем любая другая профессия, страдает от наплыва некомпетентных людей и дилетантов. Поэтому средства к жизни тысяч человек и критерии драматического искусства находятся под очень серьезной угрозой». Другим предложением по преодолению кризиса был призыв к введению немецкой системы вступительных экзаменов[587].
Положение, в котором находились танцовщики Дягилева, вряд ли позволяло им консолидировать свои усилия. Пусть они и угрожали устроить забастовку, труппа сама по себе была разрознена, и многие танцовщики уже подыскивали себе другое место. Вряд ли нужно напоминать, что гарантий стабильности работы не существовало. Странствующие артисты не могли рассчитывать и на льготы или на пособие по безработице. Их положение в тот период позволяет проводить аналогии с историей забастовки актеров в Лондоне не только из-за экономических проблем, но и из-за конкуренции, на фоне которой разворачивалась драма обнищания труппы. Если в 1910 или 1911 году русские танцовщики могли диктовать свои условия, то теперь даже таким опытным, как Соколова, приходилось обивать пороги в поисках работы. Эмиграция из России, темпы которой ускорились в период ленинской новой экономической политики, создала еще один источник конкуренции, в особенности из-за того, что среди эмигрантов были и участники довоенных сезонов Дягилева. В конце десятилетия дети эмигрантов, часто происходившие из семей, которые до революции никогда бы не избрали для своих отпрысков сценической карьеры, также включились в гонку за рабочими местами.
Ярчайшие звезды труппы могли сохранять – и сохраняли – свою независимость вопреки натиску конкуренции. Лидия Лопухова, которая в 1921 году зарабатывала у Дягилева 100 фунтов стерлингов в неделю, требовала подобных же гонораров на сцене мюзик-холлов. Карсавина также смогла пережить двадцатые годы и выдержать конкуренцию благодаря выступлениям с Русским балетом в качестве приглашенной балерины, независимым гастролям и мюзик-холльным ангажементам. После Второй мировой войны ее муж Генри Брюс вспоминал:
Тамаре тогда было легко достать деньги, и ни разу в то время нам не пришло в голову, что в сравнительно недолговечной карьере танцовщицы жалованье может восприниматься не как доход, а как капитал. Поэтому мы в первую очередь арендовали огромный автомобиль, а затем большой дом со всей обстановкой за плату, которая, как я теперь понимаю, была для того времени баснословной, но казалась лишь каплей в потоке заработанных Тамарой денег[588].
У большей части танцовщиков жизнь не была столь обеспеченной. Лопухова, которая в 1924 году пошла на сокращение своего гонорара вдвое только ради возможности выступать в «Парижских вечерах», в письмах своему будущему мужу, экономисту Джону Мейнарду Кейнсу, упоминала о нищенском существовании большинства артистов: «[Николай] Легат… принял от меня 10 фунтов… с достоинством добрых старых времен… Ко мне приходили на чай [Михаил] Мордкин, его жена, его ребенок, ее партнер по танцу и его партнерша по классическому танцу. Ох, жизнь так сложна… Как я понимаю, они едут в Америку без заключенного ангажемента. Конечно, у них хороший материал… и Мордкин – это имя… но все это имеет привкус меланхолии». Повсюду Лопухова видела одно и то же: «отсутствие работы и голод» – и конкуренцию[589]. Записывая свои впечатления о молодой русской танцовщице, она отмечала:
Русская девушка танцевала с большим темпераментом, у нее были красивые тело и головка, но она не умела танцевать. Четырнадцатилетняя, в сопровождении «мамаши». Я поговорила с ней, – она танцевала в Париже у Клемансо и Ротшильдов! Ее приглашали танцевать в клубе Ciro’s, но разве это не унизительно? Я сказала, что конкуренция настолько велика, что неважно, танцевала она в Альгамбре, в Ciro’s, в Колизеуме или в любом другом месте – обучение важнее всего![590]
Экономические сложности вкупе с отсутствием надежного трудоустройства и гражданства, с которыми столкнулось столь значительное число артистов послевоенной дягилевской труппы, вели к повышенной зависимости от организации, ставшей как для русских, так и для прочих покинувших родину талантов временной, суррогатной семьей, пристанищем в жестоком мире эмиграции. Нинет де Валуа писала:
Чтобы в полной мере понять театральную жизнь Русского балета, нужно помнить, что в русских государственных училищах артисты жили замкнутой жизнью; теперь же дух эмиграции еще больше связал их между собой – оторванных от страны, где они родились, снабженных паспортами, выданными в Женеве… Казалось, они носят свои жизни за спиной, в мысленно-эмоциональном рюкзаке, набитом воспоминаниями о прошлом, тревогой о настоящем и надеждами на будущее[591].
Эту «семью» держала под своим крылом благодетельная, но далекая от нее фигура Дягилева: он был для них властелином, который правил посредством янычаров своего двора, «дядюшкой», к которому можно было обратиться в трудную минуту. «Пожалуйста, организуйте мой немедленный отъезд из Вены, – телеграфировала Бронислава Нижинская, прибывшая на Запад с семьей, которую необходимо было кормить. – Я хочу работать с Вами». Как свидетельствуют воспоминания Соколовой, во многих случаях Дягилев старался оказать помощь и поддержку артистам из своей труппы. Доброта эта, однако, была того же качества, что и послевоенный образ Дягилева – величественного барина, управляющего всем, – и была чужда отеческому отношению прошлых лет. Если в 1909–1910 годах, а затем в 1915-м труппа по своей форме была коллективной антрепризой, то в начале двадцатых годов она вызывала мысли о возврате к царизму. Это напоминание о прошлом шокировало Сержа Лифаря, юношу «с советской земли», когда он прибыл в «свободный город… Русского балета». «В ней царствовали еще какие-то крепостнические начала, – вспоминал он. – Артисты посылали мальчиков из кордебалета за папиросами и за пивом – совсем как ремесленники своих подмастерьев!»[592] Собственническое поведение Дягилева по отношению к танцовщикам можно оценить по строкам письма, написанного им в 1926 году Чарльзу Кокрэну вслед за «побегом» Веры Немчиновой на сцену ревю:
Вы конечно же знали, что мадам Немчинова была моей подопечной и что именно у меня она обучалась танцу в последние десять лет… Позвольте мне по-дружески добавить, что у меня вызывает огромное сожаление… то, как Вы эксплуатируете русских артистов, которых я открыл и воспитал. Дукельский, пишущий плохие фокстроты для мюзиклов, делает не то, для чего он предназначен; Мясин, танцующий в вечерних клубах и сочиняющий хореографию в стиле «Помпеи а-ля Мясин», опасным образом компрометирует себя; точно так же Немчинова не создана для ревю… Я осмеливаюсь сказать Вам об этом потому, что мы с Вами давние друзья. Нужно создавать постановки и артистов, а не использовать тех, кого сотворили другие в целях, совершенно отличных от Ваших, и в атмосфере, не имеющей ничего общего с тем, что делаете Вы – и зачастую делаете очень неплохо[593].
За собственнической позицией Дягилева, которая поддерживалась внутренним устройством его труппы и превратностями танцевального рынка, скрывались крупные экономические планы. Начиная с военных лет резервами Дягилева все в большей степени оказывались его танцовщики. Частично или полностью не выплаченные жалованья, безустанный труд танцовщиков и шаткость их положения превратились в средства, которые помогали труппе выжить. До 1914 года Дягилев пользовался счастливой возможностью быть лояльным по отношению к своим артистам. Теперь, в послевоенном мире, где предложение намного превышало спрос, танцовщики его труппы стали вкладывать в его антрепризу добавочную стоимость своего труда.
Таким образом, в период с 1918 по 1922 год логика рынка завершила начавшийся в 1909 году процесс преобразования Русского балета в модернизированное коммерческое предприятие. Теперь – в еще большей степени – удержание труппы на плаву зависело от колебаний в цикле деловой активности, конкуренции и влияния спроса и предложения. Еще одним признаком этой «модернизации» являлось превращение танцовщика из «свободного артиста» в наемного рабочего: танцевальный бум с его резервной армией труда сместил танцовщиков Дягилева с их прежних привилегированных позиций. С 1918 по 1922 год Дягилев занимался тем, что открывал балетный модернизм для измученной войной европейской публики; вместе с этим он открыл границы коммерческого рынка как пристанища для художественной антрепризы. Кризис, наступление которого ускорилось ввиду неудачи «Спящей принцессы», преподал Дягилеву урок, который он никогда уже не забывал. С этого времени по меньшей мере часть расходов Русского балета будет гарантирована правительственной щедростью.
9 Протеевская сущность
Ни один период в истории Русского балета не знал такой художественной непоследовательности или кажущейся художественной бесцельности, какие были характерны для 1922–1929 годов. Казалось, что труппой овладела творческая лихорадка: постановка за постановкой представляла в сжатом виде множество граней модернизма двадцатых годов. Для ряда современников эта последовательность «измов» была признаком не художественного здоровья, а скорее спада. Но возможно и другое объяснение протеевским свойствам той поры – объяснение, которое отражает отличительные черты гарантов труппы того времени. С 1922 по 1929 год дягилевское благополучие мчала разноликая «тройка» – трое заимодавцев, которые требовали от Русского балета постановок, приспособленных под различные вкусы и часто противоречащие друг другу цели. На почве нестабильности этих лет определенно стало известно одно: творческое предприятие масштаба Русского балета не могло полностью содержать себя и обладать совершенной художественной независимостью, не пользуясь финансовой поддержкой государства.
Договоренность Дягилева с Театром Монте-Карло осенью 1922 года оказалась исключительно удачной. Затеянная принцессой Эдмон де Полиньяк, приходившейся по мужу родственницей княжескому семейству, и Обществом морского побережья, которое заведовало знаменитым Казино, эта договоренность положила начало последнему и самому длительному периоду в истории Русского балета. Впервые с того времени, когда Дягилев организовал независимую антрепризу, труппа пользовалась роскошью работать – по меньшей мере часть года – в условиях субсидий.
Русский балет не был чужестранцем в Монако. Придворный театр князя, построенная в 1890-х годах копия Парижской оперы Гарнье в миниатюре, принимал труппу еще в 1911 году. Именно там труппа показала «Жизель» – спектакль, ознаменовавший ее дебют в качестве постоянной организации, или, как позже написал Дягилев на одной из программ того спектакля, «моей труппы»[594]. Каждую зиму танцовщики с постоянством почтовых голубей возвращались в свое средиземноморское пристанище, а в месяцы, которые предшествовали парижским и лондонским сезонам, когда труппа репетировала новые постановки и обновляла старые, элитная театральная публика могла увидеть такие раритеты, как первая во Франции двухактная версия «Лебединого озера» с Матильдой Кшесинской и Нижинским в главных ролях[595]. Первая мировая война и пребывание дягилевской труппы в мюзик-холлах на время прекратили это сотрудничество: Монте-Карло стало лишь краткой остановкой в круговерти более длительных сезонов. Тем не менее в 1922 году, когда положение труппы пошатнулось после недавнего провала, центральным местом деятельности Дягилева стал театр, находившийся в нескольких шагах от Казино. В последовавшие за этим семь лет жемчужина Лазурного Берега была для него и зимней балетной столицей, и рабочей студией. Лишь здесь Сергей Григорьев, исполнявший обязанности режиссера труппы в течение всех лет ее странствий, мог спокойно вздохнуть: «И вот наконец Русский балет обрел постоянную базу»[596].
Вероятно, мы никогда не узнаем, какая часть прибыли Казино попала в карман Дягилеву в период его счастливого пребывания в Монако. Сохранилась лишь малая часть переписки – даже в архивах Общества морского побережья, где содержится великолепное, почти полное собрание программ дягилевских сезонов в театре и других заведениях Монте-Карло. Но, судя по его собственным записям и контрактам более позднего времени, можно с уверенностью сказать, что еще никогда со времен сотрудничества с Бичемом Дягилев не располагал средствами таких масштабов.
Пусть даже многие положения этих контрактов были впоследствии отменены, тем не менее соглашения, заключенные Дягилевым в 1924 году с Рене Леоном, управляющим директором Общества морского побережья, дают представление о величине и многогранности субсидий, исходивших от Казино. Было выделено более 1,4 миллиона франков: 885 000 франков посредством общей субсидии, 30 000 франков на транспортные и дорожные расходы; 300 000 франков на постановку «Руслана и Людмилы» Глинки, нового балета Стравинского, а также «Свадебки», «Ланей» и «Пульчинеллы» с полным составом певцов для этих спектаклей; 200 000 франков на обеспечение хореографии и танцовщиков для оперных постановок театра[597]. Опера Глинки так и не увидела сцены, новый балет Стравинского также не был поставлен, и можно предположить, что размер субсидии был соответствующим образом сокращен. Но даже итог в миллион франков был весьма солидным.
В «Кафе де Пари», где часто бывал Дягилев, у него был могущественный соперник, который с опаской поглядывал на приезжего. Монте-Карло никогда не испытывало недостатка в ярких личностях, но в лице Рауля Гинцбурга – московского театрального продюсера, наполовину французского, наполовину румынского происхождения, который руководил местным оперным театром уже тридцать лет, – город мог похвастаться деятелем, чьи способности, амбиции и организаторский талант не уступали дягилевским.
1924 год не был благополучным для ветерана Монте-Карло. В салоне Ланвэн из сумочки графини де Греффюль выпало сочиненное в порыве неосмотрительности письмо, которое очень скоро было подобрано, вскрыто и анонимно отправлено действующему монарху Монако князю Пьеру. Каким бы ни было его содержание, князь пришел в такую ярость, что в январе 1925 года расторг контракт с Гинцбургом[598]. Впервые с 1905 года давняя цель Дягилева, которой постоянно что-то препятствовало, – иметь собственный оперный театр – была близка к осуществлению.
Несмотря на отмену «Руслана» и нового балета Стравинского, положение Дягилева постепенно укреплялось. В ту зиму он заполнил перерыв между январским и апрельским сезонами претенциозной серией камерных выступлений в Новом музыкальном зале Казино. Большинство мемуаристов оставляют этот эпизод без внимания. Но среди той дюжины концертов были репертуарные вечера в костюмах, пусть даже без декораций. Было показано не менее девяти балетов: «Шопениана», «Пульчинелла», «Чимарозиана», «Карнавал», «Послеполуденный отдых фавна», «Видение Розы», «Женщины в хорошем настроении», «Менины» и «Бабочки», – а также четыре постановки в форме дивертисмента: «Пир», «Сказки фей» (сказочные истории из «Свадьбы Авроры»), «Дивертисмент» и «Бал» из «Лебединого озера». Подобно программам Павловой, каждый «концерт-спектакль» включал в себя два или три балета и заключительный дивертисмент[599].
В течение этой зимы Гинцбург наведывался в театр в поисках нарушений, которые могли бы стать поводом для устранения соперника. (Когда Гинцбург выдвинул иск против князя Пьера на сумму в 5 000 000 франков, он внезапно стал для князя куда привлекательнее при своей должности, чем вне ее.) Незавидная роль – помирить их – выпала Рене Леону, который, став по собственной воле агентом Дягилева, передал ему сообщение об изменениях в датах репетиций и расписании спектаклей и просьбу о том, чтобы Нижинская, как балетмейстер, лично связалась с Гинцбургом и обсудила оперный репертуар. (Дягилев хотел, чтобы она сделала это в переписке!) Леон позаботился также об организации камерных выступлений сверх контракта, оговорив все подробности, касающиеся музыкантов и рабочих сцены. Вновь и вновь он предостерегал Дягилева: «Если снова начнутся трудности, их будет очень сложно преодолеть в будущем»[600]. Когда соперники снова столкнулись в ситуации, которая стала известна как «дело Равеля», даже Леон не смог защитить своего протеже.
Отношения Дягилева с величайшим из живых композиторов Франции 1920-х годов представляли собой еще одну из повторяющихся загадок в истории импресарио. Бесспорно, он уважал Равеля; действительно, спустя некоторое время после премьеры «Дафниса и Хлои» Дягилев изыскивал возможности работать вместе с ним над другими проектами. Еще в 1920 году, когда он отверг партитуру «Вальса» – «это шедевр, – сказал он композитору, – а не балет»[601], – в его характере проявилась жестокость, которая так часто была заметна в его общении с «непокорными» или уволенными артистами. «Вальс» совершенно точно был балетом, что позднее показали Нижинская – в постановке 1929 года для труппы Иды Рубинштейн – и Баланчин – в работе 1951 года для Нью-Йорк Сити Балле. Но вполне возможно, что Дягилев увидел в этом произведении «переработку» «Благородных и сентиментальных вальсов», которые под названием «Аделаида, или Язык цветов» уже давно вошли в балетный репертуар: сначала в Шатле, где их премьерный показ в хореографии Ивана Хлюстина состоялся всего за несколько недель до представления «Дафниса и Хлои» на той же сцене, а затем в Парижской опере, где Жак Руше поставил «Аделаиду» в 1917 году[602]. (Четыре года спустя «Дафнис», заново поставленный Фокиным, также вошел в репертуар Опера.)
В марте 1925 года произошло другое «предательство»: Гинцбург готовил премьеру – «лирическую фантазию» Равеля «Дитя и волшебство» с либретто Колетт. (Хореография, которую создал Баланчин, была его первой значительной работой для Русского балета.) За восемь дней до первого спектакля Дягилев выпустил когти. Леон писал:
Я только что получил жалобу от директора Опера. Ваш режиссер, г-н Григорьев, изъял по Вашему приказу музыку к опере г-на Равеля… Г-н Григорьев утверждает, что Ваши артисты не будут танцевать в этой опере. Каковы бы ни были причины Вашего решения, я должен по-дружески предупредить вас о серьезности вашего отказа[603].
Поведение Дягилева невозможно объяснить одной лишь мстительностью, равно как и высокомерием, которое зачастую портило его взаимоотношения с вышестоящими лицами. В порыве того, что можно считать истерией, Дягилев потерял голову. Днем позже Леон писал:
Я был удивлен утренним визитом Вашего поверенного. Он пришел ко мне с просьбой найти г-на Равеля, чтобы заставить его поработать вместе с Вами над танцевальными эпизодами [его] оперы «Дитя»…
Затем меня встретила другая неожиданность. Когда я выходил из ресторана Отель де Пари, официант (!) протянул мне письмо, в котором Вы сообщали, что снимаете с себя всяческую ответственность за безупречное исполнение танцевальных частей, которые Вы обязаны, согласно контракту, предоставить для всех опер в целом и оперы г-на Равеля в частности…
Что касается Вашего утверждения, что фортепианные ноты балета… были отправлены Вам слишком поздно и что музыка г-на Равеля выглядит очень сложной, очень любопытно то, что все эти трудности стали заметны лишь через несколько часов после того, как у Вас произошел некий инцидент с г-ном Равелем в коридоре Отель де Пари и Вы в присутствии нескольких свидетелей объявили: «Я никогда не позволю им танцевать в его опере»[604].
В заключение Леон высказал угрозу, которая на время привела Дягилева в чувство. «Вы понимаете, что если я получу официальную жалобу от директора Опера… для меня будет совершенно невозможным просить дирекцию о продлении контракта с Вами». 21 марта премьера состоялась – и, по всей видимости, без неприятностей. Но дело на этом не закончилось. На одном из следующих спектаклей пятеро из десяти танцовщиков не вышли на сцену в пасторали в первом акте, и, когда разъяренный Гинцбург потребовал объяснений, Николай Кремнев, режиссер, посоветовал ему обратиться к Дягилеву. «Эта организация, – говорил Гинцбург Леону, – настоящее препятствие для моих гигантских трудов». Тогда Леон написал Дягилеву, что он не может с чистой совестью поддерживать его кандидатуру на будущий год[605]. Остается лишь догадываться, что думал об этой закулисной игре хореограф Баланчин.
Дягилева не уволили, но неприятный эпизод положил конец прекрасным временам, начинавшимся столь благоприятно. Контракт, заключенный 30 апреля, очень ясно свидетельствует о масштабах этого фиаско и его экономических последствиях. Русский балет получил ангажемент лишь на четыре спектакля в январе 1926 года и на сезон из двадцати выступлений весной. Контрактом не предусматривалось, что Общество морского побережья выступит поручителем новых постановок, и даже присутствовала неприятная оговорка, чтобы ограничить предоставленное место в хранилищах лишь «материалом, используемым для подготовки сезона и в течение его»[606]. Выплаты Дягилеву были соответственно сокращены. Основная субсидия составляла 420 000 франков, или вполовину меньше, чем в прошлом году. Суммы, выделяемые на проезд и транспортировку, также уменьшились. Как и прежде, Опера арендовала труппу в зимние месяцы за сумму в 200 000 франков[607]. В 1926/27 и 1927/28 годы труппа работала по той же схеме.
Итак, весной 1925 года Дягилев оказался на очередном финансовом распутье. Он вновь столкнулся с задачей, решение которой так часто требовало его изобретательности прежде: где искать деньги на новые постановки, на приглашение новых артистов, на проведение новых экспериментов?
Доход от продажи билетов вряд ли мог разрешить эту проблему. Ангажементы чаще всего были краткосрочными – максимум две недели в Турине и Барселоне, несколько выступлений в Ла Скала[608], – а кассовые сборы – неутешительно скудными, как во время рождественского сезона в Берлине, когда «мало кто пришел посмотреть на нас» (так писал Григорьев на следующий день после открытия гастролей[609]). В Париже в середине десятилетия увлечение Дягилевым также пошло на спад. Сезоны становились все короче, а ангажементы «почти при любых обстоятельствах [означали] определенные убытки»[610]. В Парижской опере, где Дягилев вновь появлялся в 1927 и 1928 годах, выплату твердой суммы гонорара заменила сложная формула, выгодная театру: Дягилев получал процент от выручки лишь после вычета налогов и выплаты театру внушительной суммы. Валовая выручка от спектакля, показанного 27 декабря 1927 года, составила 90 445 франков, из которых Дягилеву досталось менее 41 000. В декабре следующего года фиксированные вычеты удвоились до 50 000 франков за каждое из трех выступлений[611]. Даже в Лондоне, куда труппа вернулась в ноябре 1924 года, впервые со времен провала «Спящей принцессы», не удалось собрать требуемой суммы. Хотя Русский балет оставался популярным, его доходы – в 1925 году это было всего 1200 фунтов стерлингов в неделю за два выступления в день в программе варьете – еще больше сократились из-за выплат организации Столла, пока долг труппы не был ликвидирован[612]. Погашение долга Столлу, однако, было ничтожным в сравнении с суммарной задолженностью Дягилева. Привычка занимать у одного, чтобы вернуть долг другому, по-прежнему преследовала его, а переписка с адвокатами 1925–1926 годов представляет собой печальную повесть о невыплаченных долгах и судебных исках: Дягилев против Бевике и многих других – Гульбекяна, Полиньяк и даже Нижинского, от чьего лица подала на импресарио в суд его жена Ромола, основываясь на восстановленных документах о южноамериканском турне 1918 года[613]. И, как всегда, Дягилев откладывал выплату авторских отчислений композиторам и издателям до тех пор, пока последние не начинали судебную тяжбу.
В 1918 году Лондон «спас» Дягилева. Через восемь лет Англия вновь пришла Дягилеву на помощь в лице одного из магнатов крупного бизнеса. С появлением лорда Ротермира Русский балет стал участником малоприятной связи между поступлением денег и новой политикой, основанной на личных пристрастиях.
Григорьев вспоминал:
Однажды Дягилев пришел на репетицию в сопровождении высокого дородного господина с приятным лицом английского типа. По такому случаю было принято прерывать репетицию: Дягилев приветствовал труппу, пожимал руки режиссеру, хореографу и ведущим танцовщикам… Ритуал исполнили и в этот раз, причем Дягилев представил нам гостя, сказав, что лорд Ротермир – пылкий поклонник нашего балета и всегда, когда имеет время, присутствует на спектаклях; он уже не один год следит за нашим развитием и хотел бы посмотреть, как идет создание спектакля. Затем Дягилев и лорд Ротермир сели, и, как мы заметили, последний очень внимательно наблюдал за репетицией[614].
Визит лорда Ротермира в студию в Монте-Карло состоялся в начале 1926 года. К марту он уже был «добрым ангелом» труппы.
В отличие от финансовой элиты, которая составляла прежний круг людей, поддерживавших Дягилева, Харольд Сидни Хармсуорт, виконт Ротермир был относительным новичком в мире изящных искусств. Основной владелец «Дейли мейл» и ряда других лондонских газет, он располагал большим состоянием и имел влияние в Британской империи, укрепившей свои позиции в военные годы. Русский балет был для него не первым опытом театрального покровительства. Ранее в это десятилетие он поддерживал постановку «Опера нищего», выдержавшую более тысячи исполнений, а также – недолгое время – труппу Павловой. Леди Ротермир, расположение которой Дягилев также пытался снискать, удостаивала своим вниманием начинания более утонченного толка: с 1923 по 1925-й ее щедрость питала журнал Томаса Элиота «Критерион»[615].
Несмотря на свои миллионы, лорд Ротермир был истым предпринимателем, и его поддержка, как и можно было предположить, состояла в большей степени в гарантиях, нежели непосредственно в ссудах. В марте 1926 года Дягилев получил первый дар магната – «гарантию в 2000 фунтов», необходимую для проведения независимого сезона следующим летом в Лондоне. (Представление о размерах благодарности Дягилева можно получить из его записки, написанной на английском языке, а не на привычном ему французском.) Договоренность о том, что Ротермир возьмет на себя часть или всю гарантийную сумму – в размере тысячи фунтов в 1927 и 1928 годах, – оставалась в силе до конца десятилетия. Эти гарантии спасли труппу от разовых выступлений в мюзик-холлах и необходимости танцевать двенадцать раз в неделю, позволив Дягилеву работать в обход посредников, диктовать свои условия в политике продажи билетов и оставить за собой львиную долю доходов, полученных в одном из крупных театров Уэст-Энда. Как говорил уже после смерти импресарио лондонский агент Дягилева Эрик Вольхейм, труппа «никогда не могла обойтись без гарантий»[616].
К концу 1920-х годов Дягилев уже был опытным мастером изящного искусства манипуляции. В лице лорда Ротермира, однако, он встретил человека, не только равного себе в этом отношении, но и даже более умелого, чем он сам. Заманивая обещанием денег, газетный магнат требовал взамен то, что ему причиталось; используя свою власть и политику личных отношений, он вел игру, которая усугубляла неопределенность положения труппы в ту пору.
Связь Ротермира с Алисой Никитиной, танцовщицей труппы, которая стала его любовницей, или, говоря ее собственными словами, «приемной дочерью», была неприятным эпизодом, о котором говорили повсюду. Ее талант танцовщицы был вне сомнения, но то, что она заслуживала места в Русском балете, которое он мог купить на свои деньги, – весьма спорно. Зимой 1928 года ее амбиции привели к кризису, который чуть не разрушил сколоченную на скорую руку финансовую конструкцию Дягилева:
Эрик [Вольхейм] путешествовал с покровителем и Алисой. Покровитель не хотел, чтобы знали о его приезде на Ривьеру… Он не разрешает ей танцевать никакие роли, кроме главных… Ничего не будет делать без нее. Она жалуется, что приходится делить с другими «Кошку» и что она получила только одну из трех [новых] ролей – в не особо интересном «Аполлоне». Эрик точно знает, что одного слова Алисы будет достаточно для того, чтобы все уладить с лондонским сезоном и финансовыми условиями[617].
Такие покровители, как Ротермир, не появляются по первому требованию даже в привилегированной среде, где вращался Дягилев. Меценаты принадлежали к вымирающему виду; после Первой мировой войны они стали встречаться еще реже. Поэтому, когда Ротермир внезапно прекратил свою поддержку, Дягилев столкнулся с очередным периодом острой неопределенности. В попытках собрать деньги он разрезал на части декорацию Пикассо к спектаклю «Треуголка» и по частям продал ее вместе с кусками задника для «Квадро фламенко», в чем ему помог агент художника Поль Розенберг[618]. В то же время оказалась близка к осуществлению договоренность о гастролях по Америке в конце осени 1928 года: учитывая отвращение Дягилева как к морским путешествиям, так и к Соединенным Штатам, это было верным признаком отчаяния. Как и другие американские гастроли, намечавшиеся в 1925–1926 годах, ставших еще одним из периодов финансового беспокойства, они так и не состоялись[619].
Яркая фигура Бродвея, Э. Рэй Гёц, который приложил руку ко многим театральным проектам, впервые заговорил об американском ангажементе, когда пребывал на летнем отдыхе в Лидо в 1927 году. В течение нескольких месяцев было достигнуто предварительное соглашение, хотя, исходя из прежнего опыта Дягилева, это никоим образом не значило, что гастроли состоятся в ближайшем будущем. Тем не менее с прекращением покровительства Ротермира и последовавшим финансовым кризисом труппы тон переговоров изменился. Демонстрируя невиданную готовность к компромиссам в вопросах состава труппы, мест выступлений и прав на съемку, Дягилев теперь стремился поскорее окончить переговоры. В последнюю неделю мая стороны были готовы к заключению контракта, и Гёц даже телеграфировал Дягилеву по поводу постановки балета на музыку оркестрового произведения ранее работавшего с продюсером Джорджа Гершвина – балета, который позднее стал известен как «Американец в Париже». Несколько недель спустя начались переговоры с Оливером Сейлером по поводу рекламы, включая выставку «картин из коллекций [Сержа] Лифаря, созданных театральными художниками для Русского балета»[620].
После открытия сезона 25 июня в Театре Его Величества, но еще до указанного в черновике контракта крайнего срока – 28 июля[621] – проект потерпел неудачу. В письме Отто Кану, одному из своих американских поручителей, Гёц описывал последовательность событий, которая могла показаться подозрительно знакомой спонсору дягилевских гастролей в Метрополитен:
Я хочу, чтобы вы знали, что мой отказ от этого плана был связан только с тем, что Дягилев показал себя… весьма неблагоразумно в ходе окончательных переговоров, которые я вел с ним в Лондоне в течение более десятка дней. Вопреки предварительному соглашению… он не гарантировал участие артистов, которых я просил включить в труппу, и к тому же не соглашался с моим выбором репертуара балетов и не позволял мне самому выбрать номера для открытия[622].
Решение прекратить переговоры было связано, однако, не только с условиями соглашения. Лишь за несколько дней до крайнего срока выполнения контракта лорд Ротермир вновь раскрыл для импресарио свою чековую книжку. Более того, в промежутке с апреля по июль у труппы возникло покровительство, характер которого был весьма близок сердцу барина старой закваски. В Париже Дягилев обнаружил золотую жилу в лице англичан – преданных поклонников балета, собравших необходимую для гарантии сумму. С этим открытием в закулисную хронику Русского балета вошла леди Джульет Дафф – дочь леди Рипон, которая покровительствовала Дягилеву до войны. Теперь неблагодарная задача поиска средств легла на плечи этой chère et bonne amie[623], чья «доставшаяся по наследству энергия», как писал Дягилев, «вновь была предназначена… чтобы спасти» его антрепризу[624].
В 1928-м, а затем в 1929 году леди Джульет смиренно направилась с протянутой рукой к состоятельным лондонским дамам. Можно лишь сострадать ее доброму сердцу, которое пронзил Дягилев – и к призывам которого оказались глухи его поклонники. В 1929 году никто не спешил открывать ридикюли, а то, что все же из них извлекалось, мало помогало делу: три сотни фунтов от Курто, текстильных миллионеров и щедрых поручителей новых концертов Курто-Саржан; пара сотен гиней от леди Кунард, которая выделяла по 5000 фунтов в год на поддержку Британской Оперной лиги. К чему же относилась с таким пренебрежением старая торговая элита – к балету вообще или к Дягилеву в частности? Или просто сам характер покровительства изменился и старая элита, подобно новой, теперь требовала компенсации в виде общественного признания? Леди Джульет не удалось собрать 2000 фунтов стерлингов, которые требовались Дягилеву для его последнего сезона в Ковент-Гарден. Основная поддержка вновь исходила теперь от лорда Ротермира, пусть даже данные им пять сотен фунтов и бесплатная реклама предоставлялись на условии, что Никитина вернется в труппу, «будет получать оклад, равный окладу первой балерины, и при любой возможности выступать в главных ролях»[625].
В период с 1923 по 1929 год Дягилев обеспечивал экономическую основу Русского балета двойной поддержкой – Общества морского побережья и английских поручителей. Новые финансовые соглашения, столь же неожиданные, сколь и удачные, привели к ряду изменений в труппе. Сняв «популистское» обличье периода выступлений в мюзик-холлах, Русский балет принял идеологию своих новых покровителей. Об искусстве и его финансировании уже шла речь на этих страницах; вновь и вновь это сложное и меняющееся соотношение определяло деятельность труппы, изменяло содержание, стиль ее работы и то, как ее принимала публика. До Первой мировой войны творческие поиски, запросы публики и финансирование существовали в относительной гармонии. Модернизм, однако, сильно пошатнул это равновесие. Его эстетика бросала вызов традиционному художественному вкусу как элиты, так и массовой публики, даже если его финансирование и распространение зависели от ресурсов оперной и мюзик-холльной сцены. Несмотря на это фундаментальное несоответствие, модернизм процветал благодаря поразительной способности Дягилева «упаковывать» его в постановки и программы, доступные широкой театральной публике. В 1918–1921 годах, однако, был ясно виден конфликт между привязанностями Дягилева: человек искусства в нем присягал на верность авангарду, в то время как предприниматель делал свою антрепризу доступной как всему Парижу, так и массовой сцене Лондона.
Тем не менее с 1923 года картина утратила ясность. Не было единого направления, которое могло бы собрать труппу под его знамена, единого течения, магнита, вокруг которого могло бы сконцентрироваться ее своеобразие. Напротив, в этот период в своей истории – последний и самый сложный – Русский балет, казалось, потерпел неудачу в гонке за художественной новизной, такой же безумной, как дягилевские поиски капитала.
На предыдущих этапах единство художественной цели было связано с органичным взаимодействием социального и экономического факторов в работе над постановкой. Тем не менее с 1923 по 1929 год те стабильные факторы, которые руководили Дягилевым при переговорах, касавшихся вначале мира музыки, а затем и коммерческой сцены, уступили место плюрализму влиятельных интересов. Теперь вместо сети антреприз, объединенных общим духом, за право руководить тем, как труппа проживет оставшуюся часть десятилетия, соперничала «тройка» сил. На почве противопоставленных друг другу аристократических традиций Монте-Карло, художественного консерватизма лондонских «серых кардиналов» и рыночного духа парижского мира искусства возникли те эстетические противоречия, которые отличали Русский балет в этот период – период его наибольшей изменчивости, истинно протеевской сущности.
Заключенные Дягилевым с Обществом морского побережья соглашения обеспечили Русскому балету необходимый минимум средств, который труппа получала на всем протяжении двадцатых годов. В эти лучшие времена его пребывания в Монте-Карло заключенные договоренности обещали нечто большее, чем просто новое финансовое подспорье. На берегу, где яхты лениво покачивались неподалеку от вилл, разбросанных на склоне над лазурными водами моря, запах мимозы напоминал о благоухании Belle Époque, а гостиницы, носившие такие названия, как «Эрмитаж», возвращали к мечтам об имперском величии. В крохотной стране, которую сделала богатой рулетка, Дягилев совершил свой последний ход в сфере изящных искусств, куда ему не было пути в России.
В его заметках 1922–1923 годов, которые хранятся в библиотеке Парижской оперы[626], запечатлен амбициозный размах его планов: проекты фестивалей и выставок, опер и балетов, которые, как ему представлялось, должны привнести в спокойную обстановку курорта дух художественного брожения и эксперимента. В разные периоды жизни Дягилев увлеченно набрасывал на бумаге свои грандиозные планы. Но, в отличие от черной тетради 1910 года или «рабочей тетради», которую он вел в 1918–1919 годах[627], в его записках из Монте-Карло не говорилось ни о составе артистов, ни об окладах, ни о репертуаре: это было скорее описание того, как ум Дягилева блуждал по забытым дорогам его музыкального прошлого.
В ходе экспериментов, которые осуществлялись в военные годы, настоящее властвовало над дягилевским воображением ничуть не меньше, чем прошлое. Теперь же именно прошедшее завладело его мыслями. Но у прошлого, как и у настоящего, много лиц; и то из них, которое Дягилев предпочел показать, носило черты аристократического происхождения оперного театра. Облачившись в одеяния придворного, самозванец, который открыл русское искусство Западу, а современное искусство – обывателям, теперь пел хвалебную песнь идеалу аристократизма, воплощенному, хоть и в абсурдно малых масштабах, в правящей в Монако династии Гримальди.
Дягилеву не удалось превратить Монте-Карло в передовой художественный центр. Более того, после стольких лет существования в условиях рынка возрождение Русского балета на площадке, закосневшей в придворных традициях оперного театра, имело последствия, которые оставались заметными вплоть до конца десятилетия. Эти отзвуки прошлого, часто совмещенные с самым вульгарным модернизмом, стали главным аккордом в эстетическом диссонансе той поры. Они объясняют обилие тем XVIII века в новых балетах, таких как «Искушение пастушки», «Докучные» и «Зефир и Флора», и в комических операх, которые стали главной частью программы фестиваля французской музыки 1923–1924 годов. Классическая мифология, излюбленная тема придворного балета grand siècle, вновь появилась в нескольких постановках тех лет: среди новых спектаклей это были «Зефир и Флора», «Филемон и Бавкида», «Кошка», «Аполлон Мусагет», среди возобновлений – «Дафнис и Хлоя», «Нарцисс» и «Послеполуденный отдых фавна». Другие балеты тоже отдавали дань придворным традициям: «Менины», извлеченные из закромов в 1924 году; «Лебединое озеро», поставленное в двухактной версии для выдающейся классической танцовщицы из Мариинского театра Веры Трефиловой; «Свадьба Авроры», одноактная сокращенная версия «Спящей принцессы», которая стала источником дохода труппы, и «Ода» – кантата, прославляющая Екатерину Великую. В какой-то момент Дягилев даже предполагал возобновить «Павильон Армиды». (В действительности он этого не сделал, но версия танца Шутов из этой постановки была включена в дивертисменты, показанные в Новом концертном зале под названием «Пир».) А в числе гала-концертов того периода в Зеркальном зале Версаля был показан внушительный спектакль – «Свадьба Авроры», где было изменено время действия, добавлены церковные гимны и вокальные интерлюдии, – напоминавший о grandes fêtes, которые лицезрел в той же самой галерее сам «король-солнце».
Был и еще один фактор, который подпитывал эту ауру аристократизма: волна титулованных русских беженцев, которая хлынула во Францию после 1920 года и присоединилась к славянскому сообществу Дягилева. По крови и социальным связям Дягилев принадлежал к этому кругу эмигрантов. Он разделял их радость от встречи с друзьями и семьей, нашедшими убежище на Западе, и их тревогу за родственников, оставшихся в России[628]. Примечательно, что на памяти людей этого круга Дягилев никогда не выступал против Советского Союза. Однако его чувства по поводу существовавшего там режима, как и его политические пристрастия, неясны. Дягилев не оставил дневников, и было найдено лишь несколько писем, где говорилось о его личных переживаниях. Тем не менее видно, что с 1922 года интерес Дягилева к советской художественной жизни усилился. В августе того года, будучи на отдыхе в Венеции, он ужинал с Айседорой Дункан, которая только что провела десять месяцев в Советском Союзе, и ее мужем поэтом Сергеем Есениным[629]. В ноябре Дягилев был в Берлине – крупнейшем русском издательском и культурном центре за пределами Советского Союза, – где встретился с еще одним поэтом, связанным с советским авангардом. Как и двумя годами позже, Маяковский убеждал Дягилева побывать в России[630].
Интерес Дягилева к родной стране разжигали и другие события: приезд в Париж Камерного театра Александра Таирова в марте 1923 года и растущее число выставок, благодаря которым у советских художников появились последователи в кругах парижского авангарда. Такие обмены, в организации которых важную роль играл Михаил Ларионов, свидетельствовали о необыкновенной жизнеспособности постреволюционного искусства, что не могло не восхищать Дягилева, и говорили о большом уважении, каким он продолжал пользоваться в советских художественных кругах[631].
Между встречами с Маяковским в 1922 и в 1924 годах положение Дягилева изменилось. Утратив иллюзии по поводу Монте-Карло, теперь он с большим вниманием отнесся к советам поэта побывать в России. Благодаря разговору Маяковского с Анатолием Луначарским, народным комиссаром просвещения (старинным другом, который видел парижские сезоны Дягилева в 1912–1914 годах и чья последняя статья о труппе, опубликованная в июне 1927-го, содержала пересказ разговора с импресарио), Дягилев получил двухстороннюю визу для поездки в Советский Союз. Поскольку власти отказались дать такую же визу его секретарю Борису Кохно из-за призывного возраста, Дягилев отказался от своих планов[632].
В течение нескольких месяцев, однако, шла подготовка к постановке «советского» балета. В июне 1925 года, когда архитектурный модернизм русского павильона на Международной выставке декоративных искусств вызвал сенсацию у авангардистов, Дягилев обратился к Прокофьеву, своему «второму сыну», симпатизировавшему революции, с предложением написать балет, который описывал бы жизнь в Советской России. Георгия Якулова, советского театрального художника-декоратора, чья совместная работа с Таировым вызвала оживленную полемику в 1923 году и чьи произведения были в то время выставлены в Париже, пригласили написать для балета либретто[633].
Между осенью 1925 года, когда он закончил фортепианную партитуру, и премьерой «Стального скока» в июне 1927 года Прокофьев на три месяца съездил в СССР. Он возобновил контакты с коллегами по музыкальному цеху, ознакомился с работами молодых ленинградских композиторов и увидел сделанную Мейерхольдом «блестящую постановку» его оперы «Любовь к трем апельсинам»[634]. Той же весной в Монте-Карло Дягилев выспрашивал у композитора «новости… о художественных и культурных достижениях России, [которые] благодаря “Стальному скоку” стали ему более понятны. Вновь ужасная тоска по России завладела им, и он жаждал вернуться». Прокофьев, как и Маяковский в 1924 году, написал своим московским друзьям и Луначарскому. Он был уверен, что Дягилева сердечно примут[635].
Дягилев прилагал усилия к тому, чтобы пригласить Таирова и Мейерхольда возглавить постановку. Он также питал надежды на то, что удастся заполучить из Москвы Касьяна Голейзовского в качестве хореографа, но эти надежды развеялись, и Европа лишилась возможности увидеть этого новатора в области хореографии, которым так восхищался молодой Баланчин[636]. В конечном счете Дягилев доверил этот амбициозный проект Мясину, который вновь пришел в труппу в 1925 году и вплоть до 1928 года делил хореографическую работу с более молодым коллегой – балетмейстером.
В конце 1928 года Дягилев разрабатывал свой последний «советский» проект – совместный сезон в Париже со знаменитой драматической труппой Мейерхольда. Как и предыдущие случаи его «флирта» с советским искусством и артистами, эта идея возмутила эмигрантскую часть труппы. Как писал Дягилев, Нувель был «душой и телом против этого». «С этим ничего не поделаешь! Такие люди, как он и Павка [Павел Корибут-Кубитович, родственник Дягилева], очень милы, но если следовать их советам, можно отправиться прямо на кладбище»[637].
«Стальной скок» был одним из немногих балетов, поставленных в середине и конце двадцатых годов, который полностью соответствовал интересам Дягилева. И все-таки, если «Аполлон Мусагет» и «Блудный сын», которые также привлекали уже уставшего импресарио в балетную студию, все-таки имели успех у зрителей во время первых показов, то реакция публики на «Стальной скок» лишь усилила характерный для труппы в конце ее существования конфликт интересов и политических убеждений по поводу всего «советского».
«Англия больше не хочет русских», – писал Дягилев леди Джульет Дафф по поводу реакции Франции на то, что совет директоров предпочел закрыть в 1928 году Ковент-Гарден на ремонт вместо того, чтобы позволить его труппе там выступать. «Некоторые даже говорят, что это из-за того, что “Стальной скок” “слишком” понравился герцогу Коннаутскому»[638]. Что бы ни думал об этом балете упомянутый отпрыск королевы Виктории, который обладал поразительным сходством с Николаем Вторым, реакция английских критиков определенно была двойственной. «Многим балет не понравится», – предупреждала «Дейли экспресс», в то время как «Обзервер» сообщал о танцовщиках, одетых «словно для мрачной импровизированной шарады». Большинство критиков сочли, что поршни, хулиганы и машинные шумы в балете только мешают. Но их разочарование могло быть вызвано и другим. В 1927 году Англия была крайне «антибольшевистской», и поскольку воспоминания о прошлогодней всеобщей забастовке еще были свежи в памяти правящего класса, можно заподозрить политическую подоплеку в категорическом отказе леди Курто «сотрудничать» с Дягилевым в «любых планах» на следующий год[639].
В те годы модернизм испытывал терпение даже самых преданных поклонников труппы. В 1926 году леди Кунард писала:
Я слышала, что король собирается пойти на балет в следующую пятницу, я очень рада, но очень надеюсь, что вы замените спектакль и [исполните] «Лавку», «Сильфид» и «Карнавал». В ином случае я опасаюсь, что его величеству не слишком понравится балет, а нам всем кажется, что ему понравится, если он вначале увидит классические балеты прошлых лет…
Томасу Бичему не пришлась по вкусу «Пастораль», и он считал, что она недостойна Вашего гения в целом. В ней много прекрасного и интересного, а также очень нового, но в целом, мне кажется, ей недостает красоты и интереса… Но я знаю, что Вы другого мнения[640].
Другие влиятельные жители Лондона разделяли ее предубеждение. В 1928 году Дягилев пригласил леди Диану Купер, одну из ярчайших «молодых героинь» того времени, на пантомимную роль Природы в «Оде»[641]. Но заботившаяся о своем реноме актриса, изысканная Мадонна в спектакле Макса Рейнхардта «Чудо», отвергла его предложение. Она писала:
Дорогой, дорогой господин Дягилев, все мне говорят, что мое первое выступление в Лондоне должно быть в «Чуде», которое они надеются показать этой осенью. Пожалуй, это так, поскольку они говорят, что я могу плохо показать себя в «Оде» – и поэтому лучше первый раз в Лондоне выступить с тем, что умеешь делать, а не с чем-нибудь экспериментальным[642].
Нежелание леди Дианы рисковать профессиональным дебютом, приняв участие в «экспериментальной постановке», говорит о том, как низко ценился модернизм даже в кругах, близких к труппе. Главный поручитель Дягилева в то время лорд Ротермир тоже с недоверием относился к «передовым» постановкам – вплоть до того, что в марте 1927 года выразил надежду, что в программе следующего сезона «эксцентричных» спектаклей не будет. Редактор «Дансинг таймс» Ф. Ричардсон отразил схожие предрассудки в своих ежемесячных размышлениях под псевдонимом «Завсегдатай». «Теперь, когда мы видели “Барабау”, “Матросов”, “Ланей” и “Докучных”, – писал он в январе 1926 года, – думаю, что нам достаточно спектаклей такого рода, и господину Дягилеву самое время вновь приняться за поиски прекрасного вместо того, чтобы продолжать заниматься гротеском»[643].
Статьи, написанные Ричардсоном в середине этого десятилетия, отличались поистине английским вкусом в том, как они создавали и постепенно облагораживали определенную эстетику, которая отдавала предпочтение скорее изысканности, чем эксперименту. Его размышления, замаскированные под мнение обывателя-«дилетанта», наделяли танец неизменными чертами неоромантизма:
Простому смертному, воспитанному в глубокой уверенности, что танец – это поэзия движения, несколько сложно оценить некоторые образцы дягилевской хореографии, которая, похоже, сходит со своего пути в поисках гротеска, удаляясь от прекрасного… Я всего лишь дилетант и не могу понять, как возможно в пределах человеческих сил найти хоть что-то похожее на «поэзию движения» в назойливых ритмах «Свадебки» Стравинского, если назвать хотя бы одну из ультрасовременных постановок, которые сейчас представлены публике[644].
Далее Ричардсон сравнил дягилевский спектакль «Ромео и Джульетта» с «очаровательным номером» в исполнении пары английских танцовщиков Антона Долина и Филлис Беделлс, показанный в Колизеуме в то время, пока шел сезон Русского балета в Театре Его Величества. Балет Долина «Экзерсисы», поставленный на музыку «Клича пастухов» Перси Грейнджера, писал Ричардсон, «был проникнут очарованием красоты, которой не было в сцене у станка из “Ромео и Джульетты”». По словам критика, он знаменовал долгожданный возврат к «более здоровым методам – к хореографии, которая современна, но при этом не эксцентрична и не уродлива». Вновь возвращаясь к излюбленной теме, Ричардсон превозносил «искренность» танцовщиков, добавляя, что «невозможно быть искренним в танце, когда танец сводится к исполнению “хореографических трюков”»[645].
«Искренность», «очарование», «красота» и «выразительность», приправленные естественной простотой сюжета, были ингредиентами, которые Ричардсон считал необходимыми для балета в Англии. Какими бы безвкусными они ни казались Дягилеву-экспериментатору, они представляли рецепт, который послужил ему основой для составления английских программ. К удовольствию Ричардсона, в репертуаре середины десятилетия главное место заняли балеты Фокина. В одном только 1926 году Дягилев показал «Карнавал», «Шопениану», «Тамару», «Жар-птицу» (с новыми декорациями Натальи Гончаровой), «Петрушку» и «Половецкие пляски». Тамара Карсавина и Лидия Лопухова, танцовщицы, которые ассоциировались с балетами эпохи Фокина и самыми известными послевоенными работами Мясина, время от времени возвращались, чтобы исполнить свои прежние роли. В 1926-м состоялись и премьеры первых «британских» постановок Дягилева: «Ромео и Джульетты» с музыкой Константа Ламберта[646] и «Триумфа Нептуна», полностью британского спектакля с либретто Сачевела Ситуэлла, музыкой лорда Бернерза и декорациями, навеянными викторианскими гравюрами. Поставленный через два года балет «Боги-нищие», в создании которого оказались объединены Гендель (который считался во всех отношениях английским композитором) и старейшина английских дирижеров сэр Томас Бичем, имел у публики неожиданный успех.
Дягилев услышал «погребальный колокол, звонивший по романтизму», как заметил музыкальный критик Эдвин Эванс после смерти импресарио, «еще до того, как большинство людей было готово ускорить его смерть»[647]. В Англии это «большинство» включало в себя ближайший круг Дягилева и всех тех, кто, как Ричардсон, служили популяризации балета.
Балет был не единственным видом искусства, в отношении которого Англия упорно сохраняла консервативные взгляды. Британские художники 1920-х годов отошли от вортуистских абстракций с мотивами скорости и индустриализации и вернулись к традиционным жанрам – пейзажам, портретам и натюрмортам, воспевая умиротворение сельской жизни и домашнее спокойствие. Литераторы также избегали модернистских образов. «Дети солнца», как назвал Мартин Грин поколение писателей, сформировавшееся к середине десятилетия, разрабатывали новейший вариант уайльдовской эстетики. В балете антимодернистская реакция возникла одновременно с ростом усилий, направленных на то, чтобы обуздать распространение «танца, доступного всем», которое произошло в начале 1920-х. «Дансинг таймс» под руководством Ричардсона затеял кампанию, целью которой было повысить профессиональные стандарты танцовщиков. Главным элементом «стандартизации» – началом той системы, которая доныне остается характерной чертой танцевального образования в Англии, – стали экзамены. Качество обучения и техники значительно улучшилось, но поскольку теперь балет был подчинен определенным канонам и театральным стандартам, эти улучшения произошли за счет его способности к дальнейшему развитию. В 1929 году Ричардсону пришлось отвечать на жалобы о том, что английский танец «отнесло течением в тихую гавань» и что Англия как «созидательная сила в мире танца» превратилась в «то, чем можно пренебречь». «Я твердо уверен, – писал он, – что если балет и сценический танец должны существовать и быть в гармонии со временем, то их необходимо модернизировать, но я так же твердо уверен, что, если эта модернизация будет происходить за счет техники, получится один только хаос»[648].
Если кампания «стандартизации» 1920-х годов заложила технические основы английского балета, его эстетический фундамент возник из того, что художественная ретроспектива в стиле Фокина была приспособлена к особенностям массового вкуса английской публики. Фокинские Коломбины и сильфиды, юные создания, впервые попавшие на бал, и куклы привлекали и тех, кто был далеко за пределами круга светских людей и пропагандистов, подобных Ричардсону. Они обращались напрямую к публике, воспитанной на балетах мюзик-холлов и манерных выступлениях Аделины Жене, которая царствовала в Эмпайр Тиэтр с 1897 по 1909 год, создавая, таким образом, промежуточное пространство между интеллектуальной претенциозностью и китчем. Образование такого пространства, впрочем, происходило не изолированно от широкой публики. Было далеко не случайным, что лорд Ротермир, который обладал влиянием на общественное мнение наподобие магната желтой прессы Хёрста, убедил Дягилева организовать сезон низких цен, который прошел в театре Лицеум в декабре 1926 года и репертуар для которого был рассчитан на «толпу, у которой балет ассоциируется с красотой и которая поэтому разочаровывается, если видит что-то не соответствующее ее представлению о том, каким балет должен быть»[649]. Как и Ричардсон, Ротермир надеялся обрести власть над «анархией» культуры в тот критический момент, когда ее начнут потреблять массы. Как и другие, кто поддерживал Дягилева, они искали способ распространить традиционное право классового руководства на потенциально неконтролируемые предпочтения простых людей. Вместе с мантией Дягилева английский балет унаследовал вкус и претензии на гегемонию, свойственные британским покровителям его антрепризы.
Покровительство со стороны Монако и Англии направляло Русский балет на путь консерватизма. Дягилев последовал этим путем, но душа его лежала к другому. В этот последний период жизни труппы ее тон и темп задавали Париж и происходивший там торг на рынке современного искусства.
Даже в период выступлений в мюзик-холлах Дягилев считал своей художественной вотчиной Париж. Пикассо, Матисс и Дерэн приезжали из парижских мастерских, чтобы добавить последние штрихи в свои работы перед лондонскими премьерами; в Париже жили друзья – Стравинский, Кокто и Мися Серт, чьи суждения по поводу художественной стороны постановок Дягилев высоко ценил и о которых всегда просил. Хотя расстояние от Парижа до Монте-Карло было немногим дальше, чем от Лондона, именно благодаря Монте-Карло отношение к труппе в столице Франции изменилось. Русский балет больше не был на периферии ее художественного мира – он стал его южным аванпостом, до которого можно было за одну лишь ночь доехать с Лионского вокзала на легендарном «голубом экспрессе»[650]. Величественный и роскошный, Париж направил к Дягилеву молодые таланты, которые питали труппу своей энергией в период ее последнего взлета.
С 1923 по 1926 год – в годы своего наиболее тесного сотрудничества с Дягилевым – композиторы, входившие в «Шестерку», часто ездили «голубым экспрессом». Являясь протеже Рольфа де Маре и Шведского балета, они подарили русским если и не полную преданность, то свое творчество, и намеренная непоследовательность их эстетики происходила скорее от джаза и мюзик-холлов, чем от традиций симфонической музыки. В 1924 году, который стал знаковым в их работе для Дягилева, они написали музыку не менее чем к трем балетам: «Лани» (Франсис Пуленк), «Докучные» (Жорж Орик) и «Голубой экспресс» (Дариюс Мийо), в котором были вступительные фанфары Орика, шедшие на фоне игрового занавеса, написанного Пикассо[651]. К тому же Дягилев пригласил этих трех композиторов и Эрика Сати, который называл себя «талисманом» группы, для создания музыки к речитативам в операх, поставленных ранее в этом же сезоне[652]. В 1925 и 1926 годах к репертуару добавились еще два балета Орика – «Матросы» и «Пастораль». В 1926 году состоялась также постановка «Чертика из табакерки» Сати – в ходе фестиваля, посвященного недавно ушедшему из жизни композитору. В 1927 году, временно изменив своей обычной практике, Дягилев возобновил «Меркурия» Сати – произведение, написанное не для Русского балета, а для «Парижских вечеров» графа Этьена де Бомона в 1924 году.
В 1917 году Пикассо объединил свои творческие силы с Дягилевым, создав за четыре года оформление для «Парада», «Треуголки», «Пульчинеллы» и «Квадро фламенко». В те же годы Андре Дерэн и Анри Матисс, лидеры парижской художественной школы, тоже занимались оформлением спектаклей Русского балета. Однако после 1923 года Пикассо и Дерэн лишь время от времени получали заказы от Дягилева. Не считая «Меркурия», осуществленного по распоряжению Бомона, а не Дягилева, игровой занавес к «Голубому экспрессу» был единственным вкладом Пикассо в оформление спектаклей этих лет, пусть даже многочисленные эскизы, которые печатались в программах труппы, говорили о его преданности ее эстетике. Хотя «Волшебная лавка» оставалась любимым балетом публики, «Чертик из табакерки» был единственной постановкой двадцатых годов, под которой стояла подпись Дерэна. Зависело ли решение о столь редком сотрудничестве от самих художников или от Дягилева, мы вряд ли когда-то узнаем. Но никакие упрашивания не могли заставить Матисса вновь работать с импресарио. «Дягилеву нужно только мое имя, – говорил он Мишелю Жорж-Мишелю в начале 1929 года. – Дягилев очень любезен, когда он нуждается в нас»[653].
Дягилев действительно нуждался в художниках в 1923–1929 годах, когда ставил четыре, а иногда и больше новых спектаклей в год. Пусть даже история отправила большинство из этих постановок на балетную свалку, список художников, работавших тогда с Дягилевым, похож на перекличку восходящих светил мирового модернизма: Хуан Гри, Жорж Брак, Педро Прюна, Жоан Миро, Джорджо Де Кирико, Жорж Руо, Макс Эрнст, Анри Лоран, Наум Габо, Антон Певзнер, Мари Лорансен. Все они обычно работали за мольбертом и в большинстве своем не имели опыта работы для театра – и поэтому, подобно «Шестерке» и новому поколению воспитанных Дягилевым звезд балета, образовали приток новых сил, молодости, которая поддается влиянию и стремится к успеху.
В русле Монмартра и Монпарнаса возникла – говоря словами Уиндхема Льюиса – «“революционная” высокая богема Ритцев и Ривьер», и появились писатели и журналисты, которые расширили ее круг до «образованного большинства»[654]. Во главе этого сообщества стояли законодательницы парижского вкуса Мися Серт и Коко Шанель – жрицы, которые поддерживали огонь Русского балета в Париже. В их домах собирались близкие друзья труппы, и именно Мися – «воплощение Русского балета» (по словам ее биографов) – в 1923 году стояла рядом с Дягилевым, когда принимала членов Совета министров и «весь Париж» на гала-концерте в Зеркальном зале. В художественном отношении пик ее влияния пришелся на середину двадцатых годов. В одном только 1924 году сезон включал в себя возобновления двух балетов, которые оформил ее муж Хосе-Мария Серт, и первые работы трех ее молодых протеже из «Шестерки». В тот же год Дягилев заказал Мари Лорансен – «одному из самых сильных увлечений Миси» – декорации к «Ланям» и попросил ее близкую подругу Шанель создать костюмы для «Голубого экспресса». По-видимому, Шанель к тому же вложила средства в постановку этого балета и убедила принцессу де Полиньяк сделать то же самое[655]. Более того, в это время путь молодых дарований, открываемых Дягилевым, к общественному признанию лежал через гостиные Миси и Шанель.
В Монте-Карло по приглашению Дягилева прибыли и другие близкие друзья – Пикассо, его жена Ольга[656] и Жан Кокто. Приезд Кокто в то время был скорее результатом удачной сделки, чем дружеским визитом. Помирившись с Дягилевым после их ссоры по поводу «Парада», он бродил по закулисью, что весьма удовлетворяло художественное руководство, пришедшее к власти в начале периода в Монте-Карло. Как и Мися Серт, Кокто способствовал появлению «Шестерки» в модных парижских гостиных и в кругах поклонников труппы Дягилева[657]. В июне 1921 года его «Новобрачные на Эйфелевой башне» представили зрителям Шведского балета таланты пяти композиторов из этой группы. В день премьеры этой совместной работы Дягилев находился в Лондоне, но он видел «Спектакль-буфф» с участием многих артистов из тех, что были задействованы у Кокто неделями раньше[658]. Поскольку источник финансов труппы сместился в сторону Франции, планы первой «парижской» постановки Дягилева сконцентрировались вокруг «семьи» артистов, связанной с Кокто. К октябрю 1922 года поэт завершил черновой сценарий «Ланей» и предлагал включить в работу Пуленка и Мари Лорансен[659]. К этому же времени относятся его наброски к «Докучным». Кокто участвовал в создании и третьего балета, показанного в 1924 году: эта его работа была последней, связанной с танцем, вплоть до «Распева» (Plein Chant) в 1943 году, и из всех его совместных с Дягилевым постановок наиболее близкой к реализации его собственных театральных идей. Это был «Голубой экспресс», для которого он написал подробное либретто и пригласил для работы Мийо[660].
Кокто был полезен Дягилеву и другим своим талантом. Будучи прекрасным публицистом, он писал статьи и эссе об изменениях художественного курса антрепризы Дягилева – как раньше делал это по поводу дадаистов и «Шестерки». 1 марта 1924 года ведущий журнал французской интеллигенции «Нувель ревю франсез» опубликовал его хвалебный отзыв о «Ланях» и «Докучных» – еще задолго до их парижской премьеры. Подобные же похвалы появились в первых буклетах из цикла, посвященного театру Дягилева, в создании которого участвовали также Брак, Орик, Мийо, Пуленк и Мари Лорансен[661]. Сати в ту зиму также совмещал участие в постановке с работой журналиста: его статьи вышли в «Пари Журналь», «Креасьон» и «Трансатлантик ревю»[662]. Луи Лалуа, влиятельный музыкальный критик «Комедии» и ответственный секретарь Парижской оперы, провел начало года в Монте-Карло и, вслед за другими, готовил публику на домашнем фронте, в Париже[663]. Их рассказы, рекламировавшие дягилевскую труппу, были известны намного дальше правого берега Сены и распространялись даже через Атлантику. «Новый балет “Лани”… был показан в Монте-Карло с огромным успехом, – сообщал в июле 1924 года Поль Моран читателям газеты “Дайал”. – Все, кто возвращается с юга, говорят, что он великолепен». Писатель вставил и рекламу «Докучных»: «Наконец-то, после долгих лет постыдного фарса и невероятно уродливых и вульгарных опер, с постановкой «Докучных» Орика на сцену Монте-Карло возвращается настоящее искусство»[664]. В своих многочисленных ипостасях соавтора, критика, публициста и представителя высокой богемы Кокто являл собой – более чем кто-либо другой из дягилевского круга – суть отношений, существовавших в то время между постановкой и рекламой балета.
В биографии, опубликованной Арнольдом Хаскеллом в 1935 году, где заложены основы интерпретации этого периода, глава о последних семи годах жизни Дягилева носит заглавие «В поисках утраченной молодости». Импресарио, писал он, «остро чувствовал, что дистанция между ним и молодыми поколениями лишь увеличивается с годами… Это не просто беспокоило его – это приводило его в ужас…»[665]. Дягилев действительно в эти годы принял облик стареющего господина де Шарлю. Он вставил искусственные зубы и красил волосы, пытаясь справиться с разрушительным действием времени, и в окружении двадцатилетних старался испить из фонтана молодости, словно из источника вдохновения. Но можно и иначе посмотреть на тех обычно красивых эфебов, что на краткое время появлялись в его кругу, и этому взгляду не предстанет ничего похожего на сублимированный инстинкт отцовства: мальчики, красивые или не очень, стоят гораздо меньше, чем те, кто постарше.
Переписка и мемуарная литература рисуют отнюдь не лестный портрет Дягилева той поры. Непохожий на щедрого мецената прошлых лет, он грубо и деспотично торговался со своей компанией «новичков». Композитор Николай Набоков, автор музыки к поставленной в 1928 году «Оде», как и большинство дягилевских «открытий», мечтал о славе в тесном купе второго класса, а когда артисты выходили из поезда в Монте-Карло, некоторые – например, композитор Владимир Дукельский – были вынуждены просить у Дягилева денег на мелкие расходы. В месяцы после премьеры почти всем приходилось клянчить у него уже давно просроченные авторские отчисления[666].
Молодежь соглашалась работать за малую плату, куда меньшую, чем у опытных артистов. В 1917-м Дягилев заплатил Пикассо 5000 франков за декорации к «Параду»[667]. Двумя годами позже он предложил Матиссу 10 000 франков за оформление «Песни Соловья». Такую же сумму он соглашался выплатить в 1921 году Ларионову за «Шута» и Дерэну пять лет спустя – за «Чертика из табакерки». Александру Бенуа также досталась часть излияний дягилевской щедрости, адресованной его старшим сотрудникам: он получил 25 000 франков за «Лекаря поневоле», оперу Гуно, поставленную в Монте-Карло в 1923–1924 годах. Напротив, «новички» середины двадцатых годов запрашивали гонорары, которые не превышали в среднем 6000 франков, и это касалось как композиторов, так и художников[668].
Молодые участники постановок редко возражали против подобных условий. Любой заказ от Дягилева увеличивал ценность их работы и спрос на нее даже внутри самого Русского балета. За «Матросов» – свой второй проект для Дягилева – Орик предложил сумму гонорара, равную 6000 франков. «Я уверен, – писал он импресарио, – что прошу у Вас не слишком много. Учитывая цены… думаю, что поступаю совершенно обоснованно… И уверен, что Вы согласитесь!» Живой тон этого письма, написанного еще до парижской премьеры «Докучных», говорит об уверенности молодого человека, чьи успехи – и размер гонораров – находятся на подъеме. К тому времени, когда в 1925 году поступил третий заказ от Дягилева, гонорар Орика вырос вполовину – до 9000 франков[669].
Чувствовал ли Дягилев, что его использовали? Есть поводы предполагать, что да, поскольку трудно поверить, что его помощник Борис Кохно потребовал «отката» размером в треть авторских отчислений Орика (вдобавок к третьей доле, которую он получил как автор либретто) без одобрения импресарио[670]. Всего через три недели после того, как Дягилев заказал Орику «Пастораль», ему пришло от композитора гневное письмо:
Борис – хороший парень… но ему надо преподать парочку уроков. Он считает нужным, как он пишет, сообщить мне, что «отчисления за балеты, автором которых он является, составляют пятьдесят пять франков» и что, принимая эти условия, он «жертвует большой частью того, что должен был бы получать… (sic!!!)». Сейчас отчисления от «Матросов» делятся на три части… Если быть полностью честным, то два человека, которые должны участвовать в этом дележе, – это Мясин и я, потому что наша работа, наши усилия совершенно отличаются от работы Бориса… Это беспрецедентно для издателя – платить за сценарий балета. Спросите Edition Russe, Durand, Heugel… или кого-нибудь вроде Жана Кокто, который никогда не получал и даже не мечтал о том, чтобы что-то получить от издателя «Парада» или «Голубого экспресса»… Я должен добавить, что [Борис] должен быть счастлив, что имеет дело с таким человеком, как я. Прокофьев или Стравинский отнеслись бы к этому куда хуже.
Я запросил девять тысяч франков за то, что напишу этот новый балет. Если вы решите, что я должен заплатить тысячу франков за право работать вместе с Борисом над «Матросами» и этим третьим балетом, я… со своей стороны соглашусь работать только за десять тысяч франков. Или же я заплачу Борису 500 франков за «Матросов». Однако я буду вынужден отказаться еще когда-либо работать для Русского балета – к моему величайшему сожалению… Это дело принципа, в котором я не могу пойти на компромисс, особенно притом, что все ваши сотрудники по части музыки, как мне известно, разделяют мою точку зрения[671].
В 1925 году Орик оценивал свою работу выше, чем позволяли скудные средства Дягилева. После «Пасторали» он никогда больше не работал для его труппы, как и большинство других ее сотрудников, чью ценность на рынке искусства заметно повысило «крещение» даже единственным заказом от Дягилева. В условиях финансового положения Дягилева и постоянно растущей стоимости таланта темп художественных изменений эпохи был связан с императивами экономического порядка так же неразрывно, как и с личностными и художественными соображениями.
Эксплуатация, однако, не была односторонней. Несмотря на то что «откаты», скудные расценки и запоздалые выплаты авторских отчислений лишали сотрудников собственно плодов их труда, большинство художников и композиторов из тех, кто прошел через дягилевский балетный конвейер, проявляло огромную готовность принять его условия. «Хотя условия, которые предлагает господин Дягилев, не очень благоприятны для нас, – с необычной откровенностью писал молодому автору “Барабау” Витторио Риети его издатель, – я их принимаю, потому что убежден, что для Вас как молодого композитора очень важно, чтобы Ваше имя появилось на программе дягилевского спектакля». Для композиторов, начинавших профессиональную карьеру, обещание долговременного дохода служило компенсацией кратковременных потерь. На похожие уступки шли художники, для которых заказ Дягилева означал, что рынок искусства стучится в двери их мастерских. Хуан Гри так метко выразился об этом: «Балет поможет мне стать известным и принесет мне поклонников»[672].
Роль Дягилева в создании рынка современного искусства была той стороной его многогранной карьеры, которую часто теряют из виду. Тем не менее очевидно, что его участие в то время было решающим – даже не столько в роли катализатора явления, которое уже развивалось, сколько в том, что он расширил рынок и ускорил создание коммерческой основы творчества молодых артистов.
Случай Пикассо был особенно показательным. За время с 1917 по 1921 год у работ художника появился новый ценитель. Его участие в постановке «Парада», за которой вскоре последовали «Треуголка» (1919), «Пульчинелла» (1920) и «Квадро фламенко» (1921), положило начало периоду, который Макс Якоб назвал «эпохой герцогинь». К 1920 году, когда Париж увидел «Треуголку», «Пульчинеллу» и «Парад» в первых дягилевских сезонах, прошедших в столице Франции со времен войны, Пикассо стал «одним из самых обсуждаемых и желанных людей Парижа». Художника, который до 1917 года редко выбирался за пределы Монмартра, теперь «можно было видеть в элегантном костюме на каждой вечеринке или премьере, и он постоянно присутствовал на ужинах в сопровождении [своей жены] Ольги в платьях от Шанель»[673]. Так же как Кокто и «Шестерка», Пикассо присоединился к кругу дягилевских друзей, собиравшихся в гостиных Миси и Шанель.
С 1921 по 1923 год сотни полотен кубистов, конфискованных во время войны у торговца Даниэля Генри Канвейлера как собственность иностранных граждан, были выставлены на продажу французским правительством. Рынок не мог выдержать такой лавины картин, и уже после первой распродажи цены стали стремительно падать. Из всех художников, чьи работы Канвейлер собрал до войны, не пострадал один лишь Пикассо. В 1920 году, вспоминал торговец, в творчестве художника «начался классический период – иными словами, его живопись оказалась обращена к особой публике»[674]. Но, без сомнения, то, что благодаря своей связи с кругом Дягилева Пикассо приобрел новых, светских поклонников своего творчества, позволило ему также перенести временный крах, который потерпел на рынке кубизм.
Другие подающие надежды художники пытались добиться такого же идеального прогресса. Приехавший в Париж в 1921 году Кристофер Вуд вступил на запутанную тропу знакомств, которая привела неизвестного художника в круг дальних знакомых Дягилева. К 1925 году в кругу его общения возникли Пикассо и Кокто, и через них он сошелся с Дягилевым. В марте 1926 года «весь Париж», писал он своей матери, «говорил» о его заказе на «Ромео и Джульетту». Пикассо привел в общество Русского балета и других новичков. «Сейчас, поскольку я говорю о живописи, – сообщал Поль Моран читателям “Дайал” в сентябре 1924 года, – мне хочется немного сказать о новом художнике, который много обсуждался в Париже в последние недели. Первые слова, которые можно услышать на показе “Быка на крыше” или “Жокея”, всегда одни и те же: “Знаете, Пикассо недавно открыл нового художника. Ему двадцать лет; он приехал из Барселоны; его фамилия Прюна”»[675]. В июне следующего года состоялся дебют Педро Прюна в труппе Дягилева – «Матросы». Неудивительно, что Роджер Фрай был так обеспокоен уровнем парижской художественной жизни. «Боже мой, – писал он в 1925 году Хелен Анреп, – здесь в искусстве повсюду карьеризм и меркантильность! Искусство пало очень низко, и мне кажется, что молодежь отдает все силы только на то, чтобы преуспеть и привлечь к себе внимание»[676].
Факт, что молодые художники-станковисты боролись за внимание Дягилева, говорит о том, в какой степени исходящие от него заказы были для них способом упрочить свою коммерческую ценность. Но большая сцена Русского балета вовсе не была единственной формой связи между дягилевскими художниками и покупателями их работ. Начинания, предпринятые за пределами сцены, также повышали цену работы художника, подавая ее под соусом «того, что можно коллекционировать»: так создавались новые типы произведений искусства.
На протяжении всех лет своей работы в качестве импресарио Дягилев продвигал художников труппы и ее постановки на выставках, которые организовывал наряду с сезонами. Порой эти выставки проходили прямо в коридорах театра. В иных случаях галереи так планировали их время, чтобы оно совпадало с днями показа спектаклей Русского балета, – в том числе время персональных выставок художников, которые участвовали в работе над новыми постановками, вошедшими в репертуар этого сезона. В 1912 и 1913 годах в лондонском Обществе изящных искусств прошли крупные выставки Бакста; выставка Гончаровой в Галерее Поль-Гийом (предисловие к ее каталогу написал Аполлинер) открылась сразу после того, как состоялся первый показ дягилевского «Золотого петушка» в Парижской опере в 1914 году; выставка работ Прюна в Кларидже в 1925 году приходилась на время лондонской премьеры «Матросов», а сроки прошедшей там же на следующий год выставки Гончаровой частично совпадали с первым показом в Англии «Свадебки» и новой работы художницы – «Жар-птицы»[677]. Художники Русского балета и их работы часто упоминались в связи с другими событиями этих лет: Выставкой русских искусств и ремесел (Лондон, 1921), Международной театральной выставкой (Лондон, 1922), выставками в мастерских «Омега» (Лондон, 1919) и галерее Редферн (Лондон, 1925) – и этот список можно продолжить. В 1928 году Лондонский литературный клуб представил выставку, посвященную исключительно Русскому балету[678].
С начала военных лет Дягилев не только делал заказы художникам – он занимался и коллекционированием. В Италии он приобрел небольшую, но отборную коллекцию работ футуристов, которая была выставлена наряду с новыми работами Ларионова, Гончаровой, Пикассо, Хуана Гри, Фернана Леже и других парижских авангардистов одновременно с сезоном 1917 года в Риме[679]. Через несколько лет к этой «коллекции Мясина» присоединились и другие – так же как и в 1920-е годы, когда Серж Лифарь и Борис Кохно стали объектами дягилевской симпатии и пользовались благами его мании коллекционера. Собранная Лифарем коллекция балетных эскизов и живописных работ художников труппы, как и собрание, подготовленное его предшественником, была выставлена вскоре после того, как была приобретена[680].
В конце 1910-х годов Дягилев стал рассматривать декорации и игровые занавесы как произведения искусства, ценность которых заключалась не только в их театральной функции, но и в том, что они были созданы тем или иным художником. Так, в его контракте 1919 года с Матиссом оговаривалось, чтобы он лично разрисовал занавес – в противоположность обычной практике, когда оригинальный рисунок копировали театральные художники. Схожее положение Дягилев ввел и в контракт с Ларионовым о декорациях к «Шуту», а также в соглашения с некоторыми другими художниками в последующие годы. На самом деле Дягилев создавал, таким образом, новый вид произведения искусства с подписью художника – его образцом может служить занавес, особое указание о котором в парижской программе 1924 года гласило: «работы Пикассо». Придав анонимным, воспроизводимым занавесам или задникам ценность уникальной, ручной работы, он превратил их в рыночные товары. Даже несмотря на падение франка в 1919–1928 годы, Дягилев оказался в большом выигрыше, когда продал фрагменты занавеса к «Треуголке», собственноручно написанного Пикассо, за 175 000 франков коллекционеру из Германии[681].
Переговоры об этой сделке Дягилев вел через Поля Розенберга. Безусловно, это был первый контакт Дягилева с одним из ведущих коммерсантов того времени в сфере современного искусства. Шарж Мишеля Жорж-Мишеля, озаглавленный «Открытие “Парада”», изображает Розенберга в компании самого критика, Дягилева, Мари Лорансен, Миси Серт, Сати, Пикассо и Кокто на премьере этого эпохального балета 1917 года. Три года спустя Розенберг, в 1918 году ставший агентом Пикассо, выпустил ограниченным тиражом собрание работ художника, созданных для «Треуголки». Нужно упомянуть связи и с другим влиятельным торговцем. В 1921 году, когда Дягилев рассматривал возможность публикации литографий Хуана Гри в программах спектаклей труппы, он предлагал выпустить еще и «шикарное» издание для Галереи Симон, принадлежавшей Канвейлеру. Через два года, на вершине своего сотрудничества с Русским балетом, художник обратился к Дягилеву, чтобы тот попросил Канвейлера одолжить ему материалы для памятной программы в Монте-Карло[682]. По-видимому, такие договоренности были обычной практикой в 1920-е годы, когда репродукции произведений искусства, недоступных для широкой публики, перемежались в программах труппы с фотографиями знаменитых танцовщиков. У Дягилева разнообразные свидетельства мимолетного пребывания артиста в мире балета – портреты, рисунки, карикатуры, сделанные в узком рабочем кругу, – приобретали общественное и коммерческое значение благодаря самому факту их воспроизведения.
Программки дягилевских спектаклей, которые с 1909 года изготавливал де Брюнофф – ведущий издательский дом в сфере искусства, а до 1922 года – издатель «Комедия иллюстре», служат примером еще одной стороны того, как импресарио «упаковывал» современное искусство. В послевоенный период заметно увеличилось число изданий об артистах и постановках Русского балета – вот еще одно свидетельство укрепившейся в те годы связи между труппой и рынком искусства. Это было особенно характерно для Франции, где с самого начала программы и специальные вставки в «Комеди иллюстре» были нацелены как на балетную публику, так и на коллекционеров[683]. «Ла Данс», ежемесячное издание, которое начало выходить в конце 1919 года, также было обращено к кругу «любителей танца, художников и библиофилов»[684].
Еще до Первой мировой войны Русский балет стал вдохновителем целого ряда замечательных изданий о звездах того времени и самых известных балетах. После войны выпуск книг о балете достиг своего расцвета, хотя высокие цены, как сетовал журнал «Дансинг таймс» по поводу работы Валериана Светлова о Карсавиной, делали многие книги недоступными для профессионалов в области танца[685]. Ведущее положение занимали два издательства: де Брюноффа, которое опубликовало основные работы Светлова, одного из самых значительных балетных критиков-эмигрантов, объемный сборник дягилевских программ и декорации Бакста к «Спящей принцессе»[686], и издательство С. Бомонта – предприятие лондонского книготорговца, балетного критика и издателя, который выпустил в свет несколько десятков книг о танцовщиках дягилевской антрепризы и ее репертуаре в период с 1919 по 1929 год. Почти все книги выходили ограниченным тиражом; многие были напечатаны на уникальной бумаге; большинство из них было проиллюстрировано специально заказанными работами. Как и в случае с книгами символистской поэзии, которые были другим фирменным направлением работы Бомонта-издателя, стиль, формат и содержание книг о балете были рассчитаны как на балетоманов, так и на коллекционеров[687]. Как только названия подобных книг вошли в списки этих и других издательств, книги о балете как особый жанр приобрели форму, соответствующую традиции beau livre[688].
Связь Дягилева с современным искусством в большой степени способствовала созданию репутации Русского балета как антрепризы, стоящей на острие авангарда и эксперимента. Эта зависимость не была односторонней. Тем, что Парижская школа после 1917 года быстро приобрела известность вне профессиональных кругов и сообщества коллекционеров, она во многом была обязана «рекламе», которую ей сделал Русский балет. «Установился, – писал в 1927 году Поль Моран, – некий валютный арбитраж, посредством которого рентабельный “товар” сразу же может стать объектом сделки где угодно. Художники и писатели обладают ценностью, назовем ее золотой, которая делает их предметом всеобщей котировки…»[689] Моран не упоминает о Русском балете и не ставит вопрос о посредничестве агентов. Тем не менее он приводит в качестве примеров нескольких художников из круга Дягилева – таких, как Пикассо и Дерэн, – чье творчество стало «средством обращения» хотя бы частично из-за их успеха в качестве театральных художников. Возможно, к длинному списку послевоенных достижений Дягилева можно добавить и еще одно – его участие в рождении рынка искусства XX века.
Одним артистам работа с Дягилевым приносила выгоду. Другим – страдания. В последние годы истории Русского балета статус танцовщиков и их заработки постепенно пошли на спад, авторитарный стиль руководства ужесточился, и Дягилев, деспотически стравливая артистов друг с другом, разделял и властвовал. Наследием этих времен стали трудовые отношения, которые и доныне отличают политику руководства в частных балетных антрепризах.
Даже в 1923–1924 годах, когда труппа имела финансовую поддержку в регулярные сроки и в сравнительно крупных масштабах, танцовщики были «излишком», от которого Дягилев время от времени избавлял свой бюджет. Первая подобная «чистка» произошла осенью 1922 года, когда Дягилев сократил труппу в два раза по сравнению с составом, который был год назад. Урезая труппу до тридцати человек, утверждал Григорьев, Дягилев преследовал «главную цель» – устранить «нескольких слабых танцовщиков»[690]. Можно задаться вопросом: действительно ли качество танцовщиков было определяющим в намерениях импресарио? Безусловно, содержать труппу из тридцати человек дешевле, чем пятьдесят пять танцовщиков, а в конце 1922 года Дягилев экономил как мог.
Как и в 1926 году, когда Дягилев вновь пустил отсекающее орудие в ход, труппа недолго оставалась урезанной. В течение месяцев после сокращения 1922 года платежная ведомость вновь разрослась до пятидесяти человек, а в 1926 году места тех, кто был уволен, сразу же заняли новички[691]. Эти «чистки», пользуясь словом Григорьева, в большей степени, чем прочие методы, познакомили танцовщиков с особенностями работы у Дягилева в 1920-е годы. Дягилев мог нанимать и увольнять столько, сколько пожелает, и по мановению его руки появлялись десятки новых кандидатов на место в составе. На этом рынке, выгодном для покупателя, «чистки» стали стратегией, позволявшей уменьшить размеры заработных плат и усилить контроль руководства над «рабочими».
Такие термины, как рентабельность и производительность, редко встречаются в дискуссиях об истории балета. Однако они стали краеугольным камнем трудовой политики Дягилева в двадцатые годы, той системой взглядов, в пределах которой можно объяснить и уменьшение размера окладов, и ухудшение условий, и произвол в изменении численности штата, и новую систему звезд. Эти термины говорят о причинах периодических вспышек «бунтарства» в рядах труппы и помогают объяснить формирование такого стиля руководства, при котором авторитаризм приходит на службу получению прибыли.
Когда в 1923 году к Русскому балету присоединилась Никитина, «обычное жалованье» для танцовщиц кордебалета варьировалось от 800 до 1000 франков в месяц. Как и Нинет де Валуа, поступившая в труппу осенью того же года, Никитина зарабатывала 1500 франков – зарплату, обычную для солистки с достаточным опытом и компетенцией. В противоположность танцовщицам Парижской оперы, где уже в 1926 году этуали и первые танцовщицы получали не более 1500 франков в месяц[692], танцовщицы у Дягилева зарабатывали хорошо. Но если даже их жалованье отличалось в лучшую сторону от заработков танцовщиц, состоявших на службе у французского правительства или работавших на сцене парижских мюзик-холлов[693], остается фактом, что размеры заработной платы продолжали уменьшаться в той же прогрессии, что и в военные годы. В абсолютных цифрах начальные оклады в 1923 году были чуть лучше, чем десятью годами раньше. В реальных цифрах они были значительно хуже. К 1926 году оплаты работы солиста едва хватало на то, «чтобы дух удержался в теле»[694].
Обесценивание франка в период с 1923 по 1926 год имело свои последствия далеко за пределами финансовых рынков. Во Франции с падением курса национальной валюты стоимость жизни выросла. К январю 1926 года спад стал настолько стремительным, что парижский корреспондент «Дансинг таймс» счел необходимым предупредить танцовщиков, чтобы они не подписывали «долгосрочные контракты во Франции… и чтобы были настороже», поскольку «деньги, которые оговариваются в контрактах… через полгода могут стоить намного меньше». В «некоторых труппах английских танцовщиков в Париже», замечал он, разразились недовольства. «Их расходы растут по всем статьям, и то, что при подписании контракта казалось удовлетворительным жалованьем, теперь уже таковым не кажется». Для дягилевской труппы, набранной на шесть месяцев кочевой жизни, вдобавок к этим трудностям нужно было пересекать национальные границы. Во время осенних гастролей 1924 года в Германии изменение курса валют еще больше ухудшило ситуацию: как вспоминала Нинет де Валуа, танцовщики «выяснили, ко всеобщему крайнему потрясению, что чашечка кофе стоит около семи франков – чуть меньше, чем стоил в то время в Париже целый обед. Когда мы пробыли там пару дней, было проведено собрание, которое возглавил Григорьев; он сообщил нам, что все будет урегулировано в течение сорока восьми часов, но, естественно, он ничего не мог сделать за это время. У меня было восемнадцать марок, а у Дороти Коксон – еще одной англичанки – две»[695].
Сезон 1923/24 года был отдушиной в условиях экономической неустойчивости того периода. От одного только Казино в казну Дягилева поступило больше миллиона франков, не считая гастрольных заработков. Часть сезона, связанная с Монте-Карло, была окружена ореолом аристократии и художественного и общественного блеска высокой богемы. Но и в этой ситуации привилегии были доступны лишь высшим кругам труппы, и между внешней атмосферой богатства и действительностью существовал разительный контраст: труппа становилась все беднее, и это побудило артистов вновь угрожать забастовкой. Детали этой акции остаются в тайне, но известно, что она включала в себя просьбу о повышении заработной платы на 25 %. «В конце концов, – писал Дягилев Рене Леону, – мне пришлось поднять всему кордебалету оклад почти на двадцать процентов»[696].
Двадцатипроцентное увеличение окладов танцовщикам облегчило, но так и не решило проблему, как сводить концы с концами. Зимой, участвуя в операх, идущих в Монте-Карло, танцовщики находили самые хитрые способы получить прибавку к своим доходам. Нинет де Валуа писала в «Приглашении к танцу»:
Другим поводом для радости… была компенсация, которую давали за всякие неудобства, которые артистам приходилось терпеть в различных операх. В «Осуждении Фауста» была сцена, где действие происходит в аду, в которой пятерых танцовщиц бросали в огонь. Нам нужно было стоять на длинной решетке, к которой были прикреплены сотни лент огненного цвета; включался ужасный воздушный поток, который вздымал эти ленты вокруг нас; но заботливое руководство Монако считало, что сквозняк причинит дискомфорт женщинам из балета, и сочло необходимым выплачивать им компенсацию в 50 франков за каждое выступление. Борьба за право быть сожженными была в русском кордебалете нешуточная. Еще более популярными были полеты над сценой, хотя размер компенсации за них, что было весьма подозрительно, взлетал до 150 франков за спектакль[697].
Несмотря на дополнительные доходы от «хождения по натянутой проволоке», к 1925 году экономические условия заметно ухудшились. В январе сорок два танцовщика обратились к Дягилеву с просьбой поднять им заработную плату, указывая в своем обращении на резкий взлет цен – в ряде случаев даже на 100 % – на аренду жилья и проживание в гостиницах Монте-Карло[698]. Был организован митинг, который возглавили солисты Людмила Шоллар и ее муж Анатолий Вильтзак, где танцовщики решили, что, если Дягилев откажется дать «ясное обещание поднять им зарплату», следующим вечером они не выйдут на сцену. По совету Григорьева Дягилев поговорил с танцовщиками перед выступлением. Его слова, переданные режиссером, свидетельствуют о том, как в дягилевском стиле руководства сочетались делец и барин:
«Я очень сильно удивлен вашим поведением, – начал он. – Вам уже говорили, что я намереваюсь пересмотреть бюджет и посмотреть, что я могу для вас сделать. На что еще вы надеетесь? У каждого из вас есть отдельный контракт со мной. Что же, если вы отказываетесь выступать сегодня вечером, я буду рассматривать вашу неявку как разрыв контракта и подам на вас в суд за ущерб, который я на самом деле понесу, если меня вынудят отменить представление». На этих словах он повернулся и вышел из комнаты[699].
Речь Дягилева возымела предсказуемый эффект. Танцовщики вышли на сцену – впрочем, разные источники расходятся во мнении по вопросу, были ли среди них и Шоллар с Вильтзаком[700]. В любом случае Дягилев в отношениях с «зачинщиками» следовал жесткой политике. Шоллар и Вильтзак были уведомлены о том, что они нарушили контракт, и их уволили. «Что касается недовольных, которые начали протест, – писал Григорьев, – их жалобы были должным образом удовлетворены, как только Дягилев нашел возможность это сделать». В своем описании этих событий Нинет де Валуа говорит о беспомощности танцовщиков в их отношениях с руководством:
То, что мы проиграли, разумелось само собой – возможно, не столько потому, что у нас не было убедительного оправдания общего недовольства, сколько из-за нашей глупости и из-за того, что мы знали о Дягилеве намного меньше, чем Дягилев знал о нас. То, что и он, и Григорьев действовали стойко и убедительно и что никто из них, когда все закончилось, не предпринял никаких попыток унизить даже самых активных нарушителей, впечатлило меня – даже несмотря на все мое возмущение и разочарование тем, что «руководство победило». Но время показало, что ни одна из сторон не была абсолютно права или неправа, и произошло всего лишь глупое недоразумение, которое, однако, с самого начала было воспринято танцовщиками слишком поспешно, а руководством – в излишне диктаторской манере[701].
Умеренный прагматизм этих размышлений дает нам картину либерального руководства, основанного на компромиссе. Однако слова «компромисс» никогда не существовало в лексиконе Дягилева. Возможно, он был великодушным, даже чересчур, и, будучи реалистом, подчинялся уже свершившемуся факту. Он не допускал, чтобы кто-то ставил под вопрос его неоспоримое право осуществлять власть над жизнями его танцовщиков. Его власть касалась всех сторон существования труппы.
Хотя де Валуа утверждала, что «с труппой… обращались в целом очень справедливо»[702], в отношениях с отдельными людьми Дягилев нередко позволял себе произвол. Это были не столько капризы с его стороны, сколько сам стиль управления, при котором слабость отдельного человека была средством поддержания власти. Переговоры на тему заработной платы служат хорошим примером его тактики. Поскольку Дягилев подписывал с танцовщиками индивидуальные контракты, всякие просьбы о прибавке ставили артиста в унизительное положение просителя. Иллюстрацией этого может послужить письмо, написанное Дороти Коксон в 1925 году:
Прошу прощения, что беспокою Вас на отдыхе, но я пишу к Вам с просьбой увеличить мою заработную плату с 1400 франков до 1500 франков в месяц. Причина моей просьбы состоит в том, что из разговора с месье Григорьевым я узнала, что Вы подняли зарплату мадемуазель Нинет де Валуа с 1500 франков до 1800 франков, и Вы наверняка понимаете, что если бы я знала об этом, то никогда бы не согласилась вернуться в труппу на тех же условиях. Хотя… м-ль де Валуа заслуживает прибавки, мне не кажется, что разница между тем, как танцует она и как танцую я, соответствует разнице наших зарплат. Я думаю, что будет справедливо попросить у Вас на 100 франков больше, и тогда получится разница в 300 франков, как раньше, когда Вы пригласили ее на 1500 франков, а я получала 1200 франков. После четырех лет работы в Вашей труппе я полагаю и надеюсь, что Вы сделаете это для меня, особенно поскольку месье Григорьев обещал, что на будущий год у меня будут места намного лучше. Мне совсем не хочется возвращаться к тому, что я ему сказала, но я уверена, что Вы понимаете, что все, что я слышала с тех пор, имеет очень большое значение; поэтому не считаю, что будет честно, если я буду получать настолько меньше, чем остальные артистки, и Вы не можете себе представить, как много для меня будут значить эти дополнительные 100 франков. Я очень надеюсь, что Вы дадите их мне, – и что Вы прекрасно проведете время на отдыхе.
P. S. Я беру уроки русского языка![703]
Зарплата была не единственной сферой, где Дягилев использовал конкуренцию, чтобы сохранить контроль над работниками. При расстановке имен на афише он мог проявить благосклонность к одному танцовщику за счет другого, таким образом вызывая вспышки эмоций, которые мог обернуть себе на пользу. Неизвестно, получила ли Коксон свою «прибавку» в 100 франков. Но на будущий год она пришла в ярость, узнав, что ее имя исчезло с афиш лондонских спектаклей труппы, а вместо нее были указаны русские артистки. С присущей англичанам прямотой она потребовала справедливости – и оказалась без работы. Это была еще одна из жертв дягилевской «чистки», прошедшей в том году[704].
Дягилев и другими способами разжигал конкуренцию между танцовщиками, чтобы сократить расходы и упрочить свой авторитет. В этот период никто из звезд его труппы не засиял так ярко, как Нижинский или Карсавина, и ни один хореограф – включая Джорджа Баланчина, который с 1924 года стал у Дягилева постоянным балетмейстером, – не пользовался полным доверием импресарио и не располагал труппой, готовой выполнять все его указания. В танце, так же как в живописи и музыке, Дягилев стал выбирать своих новейших звезд из числа новичков, жертвуя уже устоявшимися репутациями отдельных солистов во имя еще не испытанных молодых танцовщиков.
Тамара Карсавина, по ее собственным словам, «порвала» с Дягилевым в 1920 году по художественным причинам[705]. В новых балетах лишь немногие роли предоставляли возможность для ее актерского самовыражения или требовали участия балерины с сильной классической техникой, которая правила бал в Мариинском театре в не меньшей мере, чем в довоенном Русском балете. Более того, Карсавиной уже не был нужен Дягилев. Будучи звездой, на которую сыпались предложения от руководств театров со всей Европы, она пользовалась роскошью быть независимой и могла рассчитывать на такой уровень оплаты, который Дягилев был в состоянии обеспечивать лишь время от времени. В 1926 году он заплатил ей 5000 франков за два выступления в «Ромео и Джульетте» в Монте-Карло и 120 фунтов стерлингов в неделю за те же выступления в Лондоне. В противоположность этому Никитина, которая исполняла роль Джульетты в Париже, зарабатывала 1700 франков в месяц, а Баланчин, собственный хореограф Дягилева, получал месячный оклад в 2500 франков за работу в качестве солиста и балетмейстера труппы[706]. Спустя более чем пятьдесят лет Баланчин по-прежнему остро переживал, вспоминая о дягилевской скупости:
А о нас, балетных, никто не подумал… Мы же, балетные, дураки. Нам не место среди умных людей. А я в это время у Дягилева получал так мало, так мало – какие-то гроши. На эти деньги нельзя было жить. Мы все тогда просто голодали. У меня было несколько пар штанов, так я, помню, пошел на парижскую барахолку, штаны продал и купил на вырученные деньги сосиски. И мы все этими сосисками питались[707].
Итак – как из творческих, так и из экономических соображений, – Дягилев обратился в поиске новых звезд к более молодым танцовщикам. В отличие от Александры Даниловой, которая, прежде чем присоединиться к Дягилеву в эмиграции, прошла полный курс подготовки в Мариинском театре, Антон Долин, Никитина, Серж Лифарь и Константин Черкас не обладали техникой состоявшихся танцовщиков. Они пришли в труппу Дягилева практически прямо из балетного класса. Он предоставил им возможность учиться, дал роли, которые демонстрировали их сильные стороны и скрывали слабые, а также запустил рекламу, которая сразу же сделала их звездами.
В этот, последний период существования Русского балета знаменитости стали продуктом, который сходил с конвейерной ленты дягилевского предприятия с регулярностью выпуска автомобиля Ford Model T. После 1923 года на небосклоне труппы засияли новые звезды: Долин, Лифарь и Черкас среди мужчин, Вера Немчинова, Никитина, Данилова и Дубровская среди женщин. Как когда-то Мясин, новое поколение звезд несло на себе фирменный знак дягилевского производства. Никто из них, однако, не занимал господствующего положения их предшественников. Стоило кому-то из них почувствовать вкус славы, Дягилев изобретал способ повысить планку, сводя одного танцовщика с другим в искусно продуманном состязании за получение роли, участие в балете, имя на афише и его личную благосклонность.
Это «стравливание» знаменитостей касалось Баланчина, официального хореографа труппы в тот период, не меньше, чем ее ведущих исполнителей. Радикальный отход от практики прошлых лет состоял в том, что ни один сезон в период с 1925 по 1929 год не прошел без того, чтобы Дягилев заказал хотя бы один большой балет другому хореографу. В 1926 году Нижинская поставила «Ромео и Джульетту», а Мясин за это время поставил не менее четырех больших работ, среди них «Зефир и Флора» и «Матросы» в 1925 году, «Стальной скок» в 1927 году и «Ода» в 1928 году. На следующий год Лифарь дебютировал в хореографии с возобновлением «Лисы». В истории Русского балета ни один хореограф не работал в такой соревновательной атмосфере – и в условиях, так мало способствовавших творческому сотрудничеству, – как Баланчин в 1925–1929 годы.
Еще одной постоянной чертой жизни труппы, наряду с чистками, конкуренцией и низкими окладами, стала переработка. «Ты бы видела, как здесь работает балет, – писала Рут Пейдж своей матери зимой 1925 года, когда танцовщики порой выступали дважды в день – днем в концертных программах, а вечером в операх. – Они находятся здесь практически с девяти утра до полуночи. Мне кажется, это ужасно, и им почти не платят»[708]. Нинет де Валуа в книгах «Танцуйте со мной» и «Приглашение к танцу» также высказывалась о том, что танцовщики были перегружены работой и что руководство равнодушно относилось к возможным последствиям этого:
Оглядываясь назад, я понимаю, что нашей самой большой бедой была сверхурочная работа; временами это было даже бесчеловечно, и такого нельзя было допускать. Так нагружать артистов – было несправедливо с любой точки зрения, и многого можно было бы избежать, если организовать все чуть более внимательно. Нужно привлечь внимание к этой ошибке, которая существует во всех русских организациях, поскольку все они страдают одним и тем же недостатком; об этом так часто говорят с энтузиазмом, как будто танцовщик – неутомимый комар, у которого нет человеческих чувств и реакций. Во многом ухудшение технических стандартов труппы в последние несколько лет… было связано с состоянием здоровья и нервной системы артистов. Травма обоих голеностопов у Лифаря во время костюмированной репетиции нового балета (который длился около двадцати минут) и травмированная в ходе первого показа того же спектакля нога Никитиной, из-за которой та была вынуждена отдыхать четыре недели, – все это указывает на одно: молодые артисты были чрезмерно измождены и сверхнапряжены[709].
Танцовщики работали в тот период «весь день и каждый день», за исключением месяца летнего отпуска. При этом день не всегда заканчивался с закрытием театрального занавеса после вечернего представления. Танцовщиков могли вызвать после полуночи для выступления в парижском большом гала. На таких приемах, вспоминала де Валуа, танцовщиков «никогда не кормили и не поили», и были случаи, когда у нее не было денег на такси и ей приходилось в три часа ночи идти пешком через весь Париж[710].
Такие условия работы пробудили в юной танцовщице «английский дух справедливости», хотя она признавалась, что была «единственной, кто выказывал раздражение». Ее славянские коллеги относились к подобной практике как к чему-то естественному, нормальному для жизни танцовщика на Европейском континенте. Композитор Эрик Сати, у которого не было связей и который не пользовался особым престижем вне авангардной среды, также однажды пострадал от снобизма хозяек приемов. На вечере, где исполнялась его музыка, он услышал снисходительную реплику от одной принцессы: «Месье Сати, буфет для музыкантов в другой гостиной»[711]. Знаменитости – такие, как Лифарь, Долин и Никитина, – имели право находиться вместе с Дягилевым среди представителей высшего общества. Простые танцовщики, однако, оставались за кулисами.
До 1914 года русские танцовщики Дягилева были в равном положении с другими «свободными» артистами России. С началом войны экономические трудности стали шаг за шагом разрушать привилегии такой свободы. На смену высоким гонорарам пришли низкие оклады, и условия работы в труппе заметно ухудшились. В период с 1924 по 1928 год статус танцовщика претерпел стремительный спад. Финансовое положение танцовщиков было подорвано не только падением франка, но и тем, что после роспуска в 1924 году Шведского балета и «Парижских вечеров» на рынок труда оказались выброшены многие другие исполнители. Тем не менее на парижском горизонте не было альтернативы Русскому балету до тех пор, пока в 1928 году не образовалась труппа Иды Рубинштейн, где постоянным хореографом стала Бронислава Нижинская. В условиях этого рынка Дягилев мог нанимать – и увольнять – работников, словно человеческий инвентарь для своей труппы, как будто она была лишь собранием взаимозаменяемых частей. Статус «свободного артиста» основывался на том, что артист сам держал под контролем собственный труд. С утратой этой самостоятельности танцовщик превратился в работающего по найму пролетария, второразрядного гражданина художественного государства. За то, что в Англии это не было взято за правило, как во Франции и США, стоит благодарить не только выдающийся талант Нинет де Валуа и других основательниц британского балета, но также «облагораживание» балета как вида искусства, вызванное послевоенным танцевальным бумом. В других странах то, что танцовщики лишились права голоса в пределах более обширного художественного сообщества, породило такое существенное наследие эпохи, как традиция художественного эксперимента.
Пусть годы с 1923 по 1929-й не отличались эстетической последовательностью прошлых периодов, их все же нельзя сбрасывать со счетов, как это часто делали представители целого поколения английских балетоведов, ставших известными в 1930-е годы. Дягилев подарил миру четыре балета – «Свадебку» и «Ланей» Нижинской, «Аполлона Мусагета» и «Блудного сына» Баланчина, – блеск которых не смогли приглушить ни изменения вкусов публики, ни меняющиеся составы исполнителей. В сфере живописи и музыки – не говоря уже о танце – он вывел на путь славы десятки творцов. И, несмотря на чрезвычайные трудности, настолько сблизил искусство балета с новыми художественными тенденциями, как не смог сделать этого никто после него.
Оценивать этот период трудно из-за сложной сети отношений, которая существовала между искусством Дягилева и его антрепризой. Замешенные на путанице переплетающихся человеческих судеб, художественных и финансовых интересов, эти отношения объясняют протеевский и парадоксальный характер антрепризы того времени, который оказывается, таким образом, не просто комбинацией счастливых случайностей и гениальных ходов, а образцовым примером для культурной экономики XX века. Суровая правда состояла в том, что к 1920-м годам стало ясно: ни одна европейская антреприза, по масштабам и экспериментаторским устремлениям близкая к Русскому балету, не может выжить исключительно в условиях рынка. Общественные субсидии в какой-либо форме становятся для нее жизненно необходимыми.
Начиная с 1909 года почти каждое лето в августе Дягилев совершал паломничество в Венецию. Пока его любимцы резвились на пляже, он набрасывал планы будущих балетов и ужинал с импресарио, которые горели желанием услужить его труппе. Артисты были под рукой, да и покровители могли сойти на берег со своих яхт, чтобы нанести ему визит. В 1929 году Дягилев совершил свое последнее путешествие в город-жемчужину Адриатики. Большую часть пути рядом с ним был его новый протеже – семнадцатилетний композитор Игорь Маркевич. Они сделали остановку в Баден-Бадене, чтобы навестить Пауля Хиндемита, который в это время создавал балет для труппы, и в Мюнхене, где обедали у Рихарда Штрауса. Они посмотрели несколько оперных спектаклей: «Нюрнбергских мейстерзингеров», «Волшебную флейту», «Так поступают все». «Моя пища в этих краях – Вагнер и Моцарт, – писал Дягилев. – Как они гениальны, и как прекрасно все исполнено!» На «Тристане», вспомнив о своей первой любви, он «пролил горькие слезы»[712]. В Зальцбурге попутчики расстались, и импресарио продолжил свое путешествие в Венецию. Пусть поездка придала сил Дягилеву, он угасал. С некоторых пор он страдал диабетом; теперь незалеченный недуг усилил свое течение. 19 августа 1929 года, когда при нем дежурили Серж Лифарь, Борис Кохно и Мися Серт, он впал в кому и скончался. Через два дня гондола, задрапированная черным, отнесла его тело на кладбище на острове Сан-Микеле. В городе, где окончил свою жизнь Вагнер и где дожи построили памятник всему прекрасному на деньги, вырученные от торговли, выдающаяся глава в истории искусства и антрепризы – дягилевская – подошла к концу.
III Публика
10 Париж: образованная публика
За те двадцать лет, что Дягилев провел у руля Русского балета, он преобразовал искусство и политическую экономию балета, завещав будущему большое собрание постановок и ряд образцов театральной организации. К этим двум наследиям нужно добавить и третье, не менее значительное – публику, которая приветствовала и поддерживала его антрепризу. За время, прошедшее с 1909 по 1929 год, Дягилев создал новое сообщество поклонников балета. Сообщество это никогда не было монолитным, оно состояло из гибких образований, которые различались от города к городу и изменялись с течением времени. Разные аудитории Дягилева заложили основу будущей балетной публики. Но даже для своего времени эти собрания богатых, влиятельных, образованных, известных и талантливых людей были выдающимися. Они играли в жизни антрепризы Дягилева различные роли – от покупки билетов до организации рекламы, и именно они создали марку Русского балета, которая не имела себе равных в истории танца XX века. Их присутствие среди широкой публики определяло образ труппы в обществе, а закулисное влияние всех этих персон оставило свой отпечаток на выборе репертуара: в каждый отдельно взятый момент сущность Русского балета хотя бы частично отражала сущность его искушенного зрителя. Наконец, публика, созданная Дягилевым, дает объяснение той быстроте, с которой Русский балет переместился в центр театральной жизни Запада, и тому интересу, который удерживал труппу в этом центре большую часть ее двадцатилетней истории.
Конечно, хореографическое искусство существовало в столице Франции. Даже в годы своего упадка балет в Парижской опере и – в меньшем объеме – в Опера-Комик имел финансовую поддержку. Художественная его сторона, однако, переживала спад. Отнюдь не много ярких постановок украсило в то время балетный репертуар, и еще меньше известных композиторов снизошло до того, чтобы писать балеты. Танцовщицы, которым раньше уделялось большее внимание, чем танцовщикам-мужчинам, оказались в таком же приниженном положении, как и само искусство, которое они олицетворяли. Вызывавшие жалость, пренебрежение и вожделение, они несли на себе двойное клеймо – низкого происхождения и непристойности, которая традиционно ассоциировалась с балетом. Действительно, для abonnés – группы богатых владельцев лож, которые имели доступ в Foyer de la danse[713] и к театральному руководству, – Опера была чем-то вроде феодального поместья, населенного женщинами заповедника, предназначенного для охотника, ведомого страстью. «Опера, – писал в 1910 году Арнольд Беннетт, – великолепная добыча для высокопоставленных лиц. Если такой чиновник захочет вечером поразвлечься или найти себе любовницу, Опера всегда в его распоряжении. Foyer de la danse – самый восхитительный сераль на всем Западе, и предназначен он для правительства и для владельцев лож»[714]. В начале XX века балет во Франции был «деклассирован» – как в общественном, так и в художественном смысле, изолирован от основной линии развития культуры и находился под покровительством самой обывательской части мужчин из высших слоев общества. То, что в 1914 году это было уже не так, говорит о дягилевском гении и тех невероятных изменениях, которые он привнес в сознание поклонников избранного им искусства.
Создание новой балетной публики началось в действительности еще до прославленного сезона 1909 года. Парижские начинания Дягилева 1906–1908 годов обычно упоминаются лишь вскользь. Но с самого начала эти внушительные проекты – Выставка русского искусства в 1906 году, серия концертов русской музыки в 1907 году и постановка полной версии «Бориса Годунова» в 1908 году – завладели умами Парижа. В те годы Дягилев приобрел множество поклонников, и число их постоянно росло, становясь зачатком той образованной элиты, которая была основной частью его публики вплоть до начала войны. Одновременно с этим он собрал группу влиятельных критиков, публицистов и меценатов, которые посещали одно за другим его русские мероприятия и в конечном итоге стали поддерживать его балет. Сенсационный триумф Русского сезона 1909 года был результатом и нарастающей волны энтузиазма, вызванного предыдущими успехами Дягилева, и того, что его аудитория постоянно расширялась.
В центре этой публики находились дипломаты и высокопоставленные лица, которые направляли дягилевскую карьеру на Западе в самом ее начале, постоянно подчеркивая ее важность и политический характер. За время, прошедшее с выставки 1906 года (которая совпала по времени с государственным визитом Александра Извольского, нового министра иностранных дел России) до Русского сезона 1909 года, присутствие послов, членов Совета министров, влиятельнейших дам, целых российских дипломатических представительств и даже президента Франции Клеман-Армана Фалльера превратило дягилевские мероприятия в торжественные собрания представителей политических кругов. Об этом свидетельствуют списки зрителей и владельцев лож, которые публиковала «Фигаро» – газета, отражавшая интересы всего Парижа. Об этом же говорят, но куда с большим блеском, каталоги и программы спектаклей Дягилева. В них мы можем встретить имена известных личностей, входивших в его комиссию покровителей в 1906, 1907 и 1908 годах: черноокая графиня де Греффюль, прототип прустовской графини Германт и одна из «самых очаровательных женщин в политике»[715] того времени, ставшая председателем комиссии; А. Нелидов и Анатолий Неклюдов, российский посол и российский советник соответственно; близкий к кругам посольства Алексей Хитрово; граф Бенкендорф, царский министр при английском дворе; великие князья Владимир и Павел, а также Аристид Бриан, министр образования и религии. Недавно обнаруженные feuilles de location – листы бронирования мест – на дягилевский спектакль «Борис Годунов» дают уточнения к этой картине: высокие чины, великие князья и сливки русского сообщества не единожды являлись на показ этого образца славянского искусства – они делали это вновь и вновь. В 1909 году враждебность, существовавшая по отношению к Дягилеву в российских придворных кругах, не коснулась всей сети политических и дипломатических интересов. Действительно, как выразился один из наблюдателей, ослепительная генеральная репетиция, которая положила начало карьере Дягилева как балетного импресарио, напоминала «официальную церемонию» сродни инаугурации:
…что-то вроде возвращения России в Париж, новое сплочение союза. Но на этот раз русские прибыли к нам не с кораблями и матросами, желая завоевать нашу симпатию, а с певцами, танцовщиками и декораторами – чтобы завоевать наше воображение.
Месье Пишон, министр иностранных дел, и мадам Пишон занимали центральную ложу вместе с месье Нелидовым, российским послом, и мадам Нелидовой… Если я добавлю, что еще присутствовали и господа Барту [министр общественных работ], Думерг [министр промышленности и торговли Кайю [министр финансов] и Дюжарден-Бометц [заместитель министра изящных искусств], не останется никаких сомнений, что это была художественно-политическая манифестация исключительной важности[716].
Через четыре дня дипломатический корпус аплодировал «знаменитым русским танцовщикам» в Шатле на шикарном приеме, организованном министром иностранных дел[717]. В 1909 году балет получил в наследство влиятельную публику, которая поддерживала ряд дягилевских миссий в сфере культурной дипломатии.
Но одних лишь дипломатов и должностных лиц было недостаточно, чтобы создать постоянную аудиторию. Подавляющее большинство публики, которая действительно интересовалась русскими танцовщиками, происходило из музыкального сообщества, из среды профессионалов и любителей, посещавших оперы и концерты. Русские исторические концерты, которые были представлены в Парижской опере в 1907 году, вызвали в этом сообществе огромный интерес – как и постановка «Бориса Годунова» в следующем году. Значение этих сезонов для Русского балета невозможно переоценить. Они не только сформировали ядро его публики, но, будучи музыкальной, а в случае с «Борисом Годуновым» – и декорационной прелюдией к антрепризе 1909 года, задали ее общий эстетический тон. Большинство из композиторов, представленных в пяти концертных программах, куда входили избранные фрагменты оперной и симфонической музыки, впоследствии играло заметную роль в создании балетов. Не менее четырех произведений, созданных в том году – «Тамара» Балакирева, «Князь Игорь» Бородина, «Баба-яга» Лядова, «Садко» Римского-Корсакова, – стали балетами; другие вошли в партитуры «Клеопатры» и «Пира». С 1909 по 1915 год, более того, Дягилев поставил полдюжины работ авторства Римского-Корсакова, ключевой фигуры того первого сезона: «Иван Грозный» (1909; Лондон, 1913 и 1914); «Шехеразада» (1910); «Садко» (1911); «Золотой петушок» (1914); «Майская ночь» (Лондон, 1914) и «Полуночное солнце» (1915).
Если серия дягилевских концертов подготовила музыкальную почву для Русского балета, то «Борис Годунов» предвосхитил его декорационную эстетику. Для своего первого театрального начинания Дягилев призвал художников, уже давно связанных с «Миром искусства», – Александра Головина, Александра Бенуа и Константина Юона, которые создали декорации, а также Ивана Билибина, Дмитрия Стеллецкого, Бориса Анисфельда, Евгения Лансере и Степана Яремича для работы над костюмами. В 1909 году к этому списку, наряду с менее известными художниками, добавились и другие крупные фигуры: Лев Бакст, Николай Рерих и Константин Коровин. Все они участвовали в создании как оперных, так и балетных спектаклей; и в тех и в других они вновь искали сочетания роскоши, гармоничного оформления и исторического правдоподобия, которые оказались столь привлекательны для публики «Бориса Годунова». Как визуально, так и музыкально первые балетные спектакли Дягилева продолжали эстетическую линию его опер.
Самые первые начинания Дягилева придавали этой взаимосвязи особое значение. Сверх того, они усилили элитную атмосферу, которую Дягилев стремился создать вокруг балета. Если последний был лишь пасынком Belle Époque, опера была ее любимой дочерью. Оперные дивы заняли пьедесталы, которые когда-то украшали балерины, а темы замужества, семьи и богатства, лежавшие в основе очень многих сюжетов, были отзвуком навязчивых представлений, что бытовали среди буржуазной, обеспеченной оперной публики. Когда век подходил к концу, престиж оперного искусства еще больше возрос благодаря новому мощному веянию, пришедшему из Центральной Европы. Вагнерианство пришло в Париж в 1880-е годы, проникнув в литературу, искусство и даже в сферу религиозной и интеллектуальной мысли – притом что антигерманские настроения, вызванные Франко-прусской войной, были в городе еще достаточно сильны. Под знаменами «Ревю вагнерьен», который выходил с 1885 по 1888 год, собралось блестящее созвездие талантливых символистов: Эдуар Дюжарден, Жорис-Карл Гюисманс, Поль Верлен, Стефан Малларме. А в «Ревю бланш», основанном супругом самой давней и преданной сторонницы Дягилева, вагнерианство проходило лейтмотивом через главные темы журнала – темы символизма и постимпрессионизма.
Тщательно отделанные и новаторские постановки Вагнера подняли оперу с уровня общественного развлечения на уровень интеллектуального искусства. В то же самое время его театр в Байрейте стал центром культа, местом поклонения, куда до начала Первой мировой ежегодно совершали паломничество богатые, образованные законодатели вкуса Belle Époque. Сам Дягилев впервые побывал в Байрейте в 1890-е годы, когда композитор находился на пике «завоевания» воображения светской публики, – впрочем, как и множество будущих поклонников его труппы: принцесса де Полиньяк, графиня де Греффюль, граф Исаак де Камондо, граф Робер де Монтескью, Рейнальдо Ган и Жак-Эмиль Бланш – если назвать лишь малую часть[718]. (Это «паломничество» стало столь популярным, что в период с 1897 по 1903 год «Художественное путешествие в Байрейт» Альбера Лавиньяка, «практический путеводитель по Байрейту для французов», выдержало не менее пяти изданий.) Там, среди множества людей, в 1890-х и в начале 1900-х годов толпившихся в очереди, желая поприсутствовать при тевтонских ритуалах в Байрейте, была и культурная, космополитическая и осведомленная публика, на которую Дягилев заявил свои права в первые же годы, проведенные на Западе. Внезапный триумф Русского балета был отражением того, насколько он преуспел в попытках найти среди этой изысканной публики сторонников своей балетной антрепризы.
В деле привлечения этой аудитории к балету наиболее полезным Дягилеву оказался Габриель Астрюк. Издатель, редактор, порой драматург, а также дальновидный импресарио, Астрюк вращался во многих кругах парижского общества, которые впоследствии объединились в публике Дягилева. С 1907 по 1913 год он продюсировал практически все сезоны Дягилева – наряду с парой десятков других мероприятий, которые успешно ввели Русский балет в общественное и художественное пространство Парижа.
В те годы фирменным знаком Астрюка была опера, главным образом в своем новом обличье – роскошно оформленная, предназначенная для элитной публики. В рамках общей программы его «Большого парижского сезона» каждой весной демонстрировался целый парад оперных новинок: самыми известными из них были «Саломея» Рихарда Штрауса (1907), гастроли Метрополитен-оперы (1910), а также спектакли Иды Рубинштейн (1911–1913), которые не вписывались в рамки каких-либо жанров. Как и в «Саломее», во многих из этих космополитических постановок темы символизма сочетались с новаторским способом их представления; в них экзотические краски смешивались с благоухающей чувственностью 1890-х. «Саломея», представленная в оригинальной немецкой версии, которой дирижировал сам Штраус и где в «Танце семи покрывал» выступали поочередно Наталья Труханова и Аида Бони, была широко разрекламирована в газетах – в колонках, посвященных Оскару Уайльду, на чьей пьесе был основан сюжет, а также Обри Бердслею, который проиллюстрировал ее перевод на английский язык[719] (в газете «Фигаро» появился обзор выставки его работ, сделанный графом Робером де Монтескью); вышли даже фортепианные ноты знаменитого танца Штрауса. Как и первые дягилевские вечера, генеральная репетиция «Саломеи» в театре Шатле имела все признаки события государственной важности. А поскольку это было благотворительное представление, оно также выявило и наиболее состоятельную часть оперной публики. «Саломея» в большей степени, чем любое другое событие, предвосхитила появление Русского балета[720].
Будучи сыном раввина, в чью паству входило несколько богатейших и образованнейших еврейских семей, проживавших в Париже, Астрюк находился в центре и другой сети знакомств, которая сыграла важную роль в выживании Русского балета. Как и граф Исаак де Камондо, известный коллекционер и наследник турецких банкиров, который выступал гарантом Музыкального общества Астрюка, еврейская община образовывала элитную часть оперной публики, к которой их собрат по вере вновь и вновь обращался за поддержкой. Однако какой бы богатой и образованной ни была еврейская часть публики, ее престижа не хватало для того, чтобы обеспечить полный успех спектакля в обществе. Для этой цели Астрюк включил в списки графиню де Греффюль, представительницу самой голубой из всех голубых кровей, которая находилась во главе весьма расплывчатого по составу сообщества, представленного на общественной арене Музыкальным обществом Астрюка. Под эгидой общества Grandes Auditions Musicales de France такие события, как «Саломея» и Исторические концерты Дягилева, предстали публике с «отметкой» об одобрении высочайших кругов французского общества. Благодаря Астрюку музыкальный театр Дягилева, в том числе и его новаторский балет, приобрели как атмосферу, так и публику самых изысканных музыкальных мероприятий довоенного Парижа.
Несмотря на успех выставки русского искусства в Осеннем салоне, устроенной им в 1906 году, Дягилев был в Париже новичком. Тем большей удачей оказалась его встреча с Астрюком. Под предводительством этого колоритного, энергичного и глубоко осведомленного парижанина барин из России получил вход в престижные круги высокой буржуазии, которая как обеспечивала финансовую поддержку его антрепризы, так и составляла ядро его французской публики.
В 1909 году Дягилев нашел гарантов своего первого балетного сезона среди близких друзей семейства де Греффюль из банковских и дипломатических кругов. Точнее, эту гарантию Дягилеву подыскал Астрюк, который имел связи не только с Артуром Раффаловичем и Андре Бенаком – ключевыми фигурами при совершении, напомним, злополучного французского займа 1906 года, – но и с Николя де Бенардаки, графом Ностицем, Базилем Захаровым и Михаилом Терещенко, занимавшим видное положение в русском сообществе внутри Франции[721].
Более важной для антрепризы Дягилева была, однако, другая группа инвесторов, с которыми Астрюк вошел в контакт весной 1909 года. Французская по праву рождения и по национальности, эта группа была все же скорее еврейской по своим связям и происхождению. В нее входили самые именитые личности из еврейских банковских кругов и многие из выдающихся меценатов, коллекционеров и художников-дилетантов того времени; благодаря брачным узам туда попали и «вновь наделенные богатством» аристократы, которые поделились с супругами своими обветшалыми титулами в обмен на состояние. Немалая ирония заключалась в этом излиянии еврейского богатства и еврейской поддержки на антрепризу, целью которой было возрождение престижа державы явно антисемитской, какой была Россия при Николае Втором.
Заметки Астрюка, где он перечислял возможные источники, из которых можно было собрать гарантийный капитал в 100 000 франков для дягилевского сезона 1909 года, подробно сообщают о пересечении различных интересов. В начале этого списка находятся банкиры и коммерсанты, имевшие страсть к искусству: барон Генри Ротшильд, который писал пьесы под псевдонимом Андре Паскаль; Камондо, который не только был коллекционером и председателем Общества друзей Парижской оперы, а еще и сочинял музыку; Отто Кан, партнер компании «Гольдшмидт, Кан и Тойч» и председатель совета директоров Метрополитен-оперы; Генри Дойч де ла Мерт, крупнейший нефтяной магнат и композитор («Икар», поставленный в Парижской опере в 1912 году, был отражением его увлечения авиацией), который, как и Камондо, получил религиозное воспитание у отца Астрюка. Другие имена из списка не менее показательны: Бардак, Гейне, Ганэ, Клермон-Тоннер, Леонино и Лион – все они были широко известны в художественной среде в тесной связи с важнейшими еврейскими семьями и их богатствами[722].
Составляя список потенциальных гарантов первого балетного сезона Дягилева, Астрюк призвал своих давних финансовых «ангелов-хранителей». Как с Камондо, так и с Дойч де ла Мертом он дружил еще с детства. Эти имена, наряду с именами Макса Лиона и Артура Раффаловича, вновь и вновь появляются среди поручителей различных предприятий Астрюка[723]. Безусловно, они выступили поручителями Русского сезона Дягилева 1909 года именно как сторонники Астрюка и его космополитических художественных программ.
Как и первые его поручители, основная часть публики дягилевского балета принадлежала к высокой буржуазии, которая поддерживала музыкальные начинания Дягилева и Астрюка. Благодаря сохранившимся в Национальном архиве Франции спискам абонентов, пришедших на все семь показов дягилевской постановки «Бориса Годунова» в Парижской опере, теперь стало возможным установить структуру этой основы[724]. Эти документы, где указано, кто занимал ложи и партер, подтверждают ошеломляющий успех Дягилева в том, как он привлекал серьезных французских меломанов к Русскому балету. Они свидетельствуют также, что публика его не была главным образом аристократической, несмотря на прустовское звучание титулов, перечисляемых в светских колонках «Фигаро». Публика Дягилева скорее была смесью финансистов, банкиров и дипломатов, представителей иммигрантского и франко-еврейского сообществ в Париже и известных личностей из мира моды, музыки, развлечений, а также прессы.
Среди владельцев лож заметной фигурой была Мися Серт, будущая сторонница и наперсница Дягилева, которая в статусе мадам Эдвардс посетила все семь представлений «Бориса Годунова». Родившаяся в России и воспитанная в Париже, эта душевная и остроумная полька с большими связями выражала общность социальных, художественных и финансовых интересов дягилевской публики. Несостоявшаяся концертирующая пианистка, она играла для Листа и училась у Форе; музыка оставалась ее постоянной страстью на протяжении всей жизни. Для художников она была музой: ее лицо, ее игра на фортепиано, ее сад и ее очарование были запечатлены на великолепных полотнах кисти Боннара, Вюйяра, Ренуара и Тулуз-Лотрека. Брак с Таде Натансоном, сыном польско-еврейского банкира и основателем «Ревю бланш», привел ее в художественные и интеллектуальные круги Парижа конца XIX века. Благодаря своему второму мужу Альфреду Эдвардсу, железнодорожному магнату турецкого происхождения, которому принадлежали доли в парижской газете «Ле Матен» и парижском Казино, она общалась с актрисами, женщинами легкого поведения и известнейшими лицами города. Ее брат Сипа Годебски был не менее известен. Годы спустя среди близких друзей его дома были Морис Равель, Андре Жид, Арнольд Беннетт, Игорь Стравинский, Франсис Пуленк и Поль Валери. «Борис», писала Мися в своих воспоминаниях, взволновал ее «настолько, что ей показалось, будто что-то изменилось в ее жизни»[725]. С тех пор она на протяжении двадцати одного года была на стороне Дягилева – как сестра, наперсница и советчица – и подарила балету свою увлеченную приверженность и связи, которые раньше приберегала для других видов искусства.
Еще одной преданной сторонницей Дягилева, которая была почти на всех показах «Бориса Годунова», стала принцесса Эдмон де Полиньяк. Урожденная Виннаретта Зингер, дочь американца – изобретателя швейной машины, она, как и множество других богатых наследниц из-за рубежа, использовала свое состояние, чтобы путем вступления в брак войти в обедневшую французскую аристократию. «Тетя Винни», как ее фамильярно называли, еще в большей мере, чем Мися, посвятила свою жизнь искусству. Поклонница Вагнера, постоянно ездившая в Байрейт в конце 1880-х и 1890-х годах, она оставалась до Второй мировой войны известнейшей из хозяек музыкальных гостиных в Париже. В ее салоне редко исполняемые и новые произведения, в том числе несколько балетных партитур, написанных для Дягилева, предстали слуху публики, обладавшей общественным и художественным влиянием. В годы первых сезонов Дягилева во многих устроенных ею концертах были заметны вкусы fin de siècle. На одном из них, где в качестве гостя присутствовал Пруст, в ее саду было исполнено многожанровое подношение Бердслею. На других вечерах звучали произведения Камиля Сен-Санса, Габриеля Форе, Клода Дебюсси и Рейнальдо Гана. Однако принцесса была не просто хозяйкой салона. В заказах, которыми она наградила Мануэля де Фалью и Стравинского, она проявила себя как щедрая и понимающая покровительница – эти два качества прежде всего отличали ее поддержку Русского балета. И именно в доме этой энтузиастки, покровительницы сезона показов «Бориса Годунова», Астрюк предложил идею балетного сезона покровителю Дягилева в императорских кругах – великому князю Владимиру[726].
Списки зрителей указывают и на другие связи в цепи финансовых и художественных интересов, которые смешивались в рядах дягилевской публики. В одном ряду с Дойч де ла Мертом, Камондо, Бардак и Ротшильдом среди имен подписчиков лож на «Бориса Годунова» часто встречается и имя Эфрусси – и оно также свидетельствует о необыкновенном прогрессе в общественной и культурной истории Belle Époque, который привел столь многих к Русскому балету. Сын еврейского банкира, родившийся в Одессе, Шарль Эфрусси приехал в Париж в 1871 году, где сделал себе имя в качестве коллекционера и издателя «Газеты изящных искусств» (Gazette de Beaux Arts). Он принадлежал прустовскому миру конца столетия. Приятель графа Робера де Монтескью и близкий друг его кузины графини де Греффюль, он был одним из прототипов Свана в цикле романов «В поисках утраченного времени». Шарль был не единственным из семейства Эфрусси, кто совершал паломничества в Байрейт, не был он и единственным покровителем музыкального искусства в своем клане. Его сын Морис устраивал пышные приемы, на которых выступали известнейшие оперные дивы – а в июне 1909 года и двое из певцов Дягилева. Морис и его жена, урожденная Ротшильд, стали страстными балетоманами и нередко приглашали Нижинского и Карсавину танцевать на их вечерах. Как и в случае с Мисей Серт, принцессой Полиньяк и большинством самых ярых поклонников из всей дягилевской публики, члены семейства Эфрусси посодействовали переходу к балету и той публики, которая изначально была предана опере[727].
Музыка, однако, не была единственной точкой соприкосновения Русского балета Дягилева с крупнейшими еврейскими кланами Европы. Благодаря Иде Рубинштейн художественные связи были подкреплены родственными отношениями. Через Варшавских, русско-еврейскую семью строителей железных дорог, эта богатая и образованная исполнительница ролей в «Клеопатре» и «Шехеразаде» состояла в родстве с «еврейками мира искусства» того времени. У Рубинштейн было в Париже две тетки – Мари Канн и Джулия Кан д’Анвер, и обе владели роскошными художественными салонами, которые славились остроумием, светскими знаменитостями и литераторами, жаждавшими новизны в музыке и искусстве. Муж Джулии, пожалованный дворянством финансист, сделавший свое состояние в первые годы Третьей республики, был в восторге от «Бориса» – если судить по тому, как часто его имя появлялось в списках абонентов Опера. До этого и он, и его супруга наслаждались творчеством Вагнера в Байрейте. В последующие годы семейство стало покровительствовать Русскому балету, как и другие еврейские владелицы парижских салонов[728].
Упомянутые семьи представляют лишь малую часть имен, относящихся к международной банковской аристократии, которая выступила покровителем первого из дягилевских театральных действ. По происхождению главным образом немецко-еврейские, такие семьи, как Бишофсгейм, Гинцбург, Оппенгейм, Натансон, Липпман, Шифф, Фоулд, Лазард, Райнах, Эрлангер, Хирш, Штерн, Гуггенхайм, Пеллетье, Хаас, Ульман, Бернхайм и Пурталес, обрели общественную и финансовую значимость в условиях толерантного религиозного климата Второй империи и в первые годы Третьей республики. Их представители вступали в браки между собой, создавали деловые и семейные союзы с Ротшильдами и другими богатыми кланами, а к последним десятилетиям века стали избирать себе супругов среди сливок французского общества. С 1880-х и позднее это сообщество играло решающую роль в культурной жизни Франции: там были спонсоры, коллекционеры, хозяйки салонов, дилетанты от искусства и приверженцы новых художественных течений[729]. Именно в этой группке людей и состоял весь Париж, который Астрюк привел на спектакли Дягилева.
Для артистов весь Париж был прежде всего обильным источником покровителей, альтернативой французским официальным, субсидируемым учреждениям культуры. Парижские салоны не только отличались роскошью, но и, в противоположность консервативному вкусу большей части публики, были открыты новым идеям и обладали широтой взглядов. «Они… помогали в создании нового общества талантов, где художник, ученый, философ, политик, романист и музыкант могли встретиться на равных, в благожелательной атмосфере и в котором новички могли завоевать себе положение в обществе»[730]. Хозяйки салонов времен Belle Époque щедро поддерживали артистов, подолгу принимая их в своих домах, вдохновляя их на творчество и представляя их потенциальным покупателям или спонсорам. Что касается исполнителей, то салоны были особым ключом к их успеху – они служили своеобразными «станциями» на пути к профессиональной карьере. Прекрасной иллюстрацией их влияния может послужить то, как взошла на вершину славы Айседора Дункан. Она приехала в Париж в 1900 году и познакомилась там с Жаком Бони, чья мать, мадам де Сен-Марсо, пригласила ее выступить на одном из вечеров под аккомпанемент самого Равеля. Публика оказалась благодарной, и вскоре графиня де Греффюль и Мадлен Лемэр пригласили Дункан станцевать у них в салонах. Эти выступления создали танцовщице репутацию среди избранной публики. Но нужно было добиться еще и всеобщего признания. На помощь пришла принцесса де Полиньяк, открыв двери своего дома влиятельным театралам, критикам и продюсерам. Состоялся исключительно успешный концерт, за которым последовал ряд организованных при участии принцессы абонементов на выступления в студии Дункан. Вскоре появились и профессиональные ангажементы[731].
История Дункан не была единственной. Мата Хари тоже – до своего профессионального дебюта в музее Гиме в 1905 году – танцевала в салонах у богатых влиятельных людей, так же как Мари Рамбер и Наталья Труханова. В 1907 и 1908 годах дружественные хозяйки салонов оказались привлечены на службу Дягилеву. На приеме у принцессы Мюра в честь великих князей Кирилла и Павла высшим музыкальным кругам общества была представлена лекция Камиля Беллега по поводу «Бориса Годунова», премьера которого должна была состояться через неделю; спустя несколько дней мадам де Бенардаки представила ведущих певцов, участвовавших в «Борисе», дипломатическому сообществу. Подобные акции привели к целому всплеску рекламы, который запечатлелся на светских страницах «Фигаро». Страницы эти отныне представляли собой своеобразную «публику в миниатюре», которая еще до дебюта нового исполнителя или до премьеры новой постановки умасливала светскую «фабрику слухов», слухи же куда в большей степени, чем критические отзывы, привлекали в театры образованных и искушенных зрителей всего Парижа. А когда такие спектакли демонстрировались в конце сезонов, как это было с двумя выдающимися празднествами, устроенными мадам де Бенардаки в 1907 и 1908 годах (в последнем на сцене появилась сама Матильда Кшесинская), одобрением светского общества награждались не только отдельные артисты, но и целые художественные антрепризы, к которым они принадлежали[732].
Искусство, получавшее поддержку в салонах, было «новым», но лишь в редких случаях авангардным. Оно находилось скорее на грани – как социальной, так и художественной – между академизмом французских субсидируемых учреждений культуры и чисто коммерческими начинаниями. Прогрессивное в сравнении с тем, что делали государственные учреждения, это «новое» искусство было чем-то сродни «альтернативному мейнстриму», где технические нововведения и дух космополитизма и индивидуализма встраивались в традиционные цели высокого искусства.
По профессии, склонностям и религиозной принадлежности Астрюк находился в экономическом центре этого «альтернативного мейнстрима», который он же активно и продвигал в своих многочисленных предприятиях. Потому неудивительно, что среди банкиров и финансистов в рядах публики «Бориса Годунова» оказалось немало отдельных личностей и целых учреждений, связанных с современными течениями в музыке. Одни только имена композиторов образуют внушительный список: Дебюсси, Равель, Форе, Венсан д’Энди, Поль Дюка, Альбер Руссель, Эдуар Кан, Жорж Юэ – некоторые из них присутствовали на приеме, организованном годом раньше Сен-Сансом в честь артистов из России[733]. Дебюсси, Форе, д’Энди и Дюка также состояли в организационной комиссии «Бориса», как, впрочем, и Камиль Шевийяр, славянофил и директор Концертов Ламурё, который дирижировал одним из дягилевских концертов 1907 года; Поль Видаль, главный дирижер Парижской оперы; недавно назначенные содиректора Парижской оперы композитор Андре Мессаже и Лемистен Бруссан; Мишель Кальвокоресси, ассистент Дягилева и французский биограф Мусоргского. «Борис» привел в театр и влиятельных импресарио: Отто Кана, который повезет Русский балет в США в 1916–1917 годах; братьев Эмиля и Венсана Изола, которые представляли труппу в Париже в 1920-е годы; Рауля Гинцбурга, ставшего спонсором дебюта Русского балета в Монте-Карло. Более того, на каждом спектакле множество мест было забронировано фирмами, которые контролировали сферу музыкального бизнеса: издательство Дюран, где выходили произведения Сен-Санса, Дебюсси, Форе, Равеля и многих других французских композиторов, «Гаво» – французская фирма по производству фортепиано, открывшая престижный концертный зал, который носит ее имя, а также «Плейель» – фирма-конкурент «Гаво».
Не меньшее влияние, чем создатели и поставщики музыки, имели критики, которые также присутствовали в составе аудитории дягилевских постановок. До 1907 года русская музыка вряд ли была неизвестна Парижу, но она была лишь уделом ценителей, покровителей концертов Колонн и Ламурё, и тех, кто, подобно Равелю, имел доступ в немногочисленные салоны, где исполнялись романсы и фрагменты фортепианной музыки. В деле знакомства широкой и влиятельной публики с крупномасштабными русскими произведениями, и в особенности с малоизвестным драматическим репертуаром, что было весомым достижением Дягилева в 1907–1909 годы, критики и как публицисты, и как обозреватели сыграли главенствующую роль.
В 1906 году музыкальный критик из «Фигаро» Робер Брюссель написал свою первую заметку о Дягилеве – блестящий отчет о концерте русской музыки, прошедшем вместе с выставкой в Гран-Пале. Три месяца спустя, уже из Петербурга, будущий балетный энтузиаст опубликовал первую часть цикла из восьми статей, проследив историю русской музыки от ее народных и духовных истоков до триумфальной национальной музыки «Могучей кучки». Заключительная статья вышла за пару недель до первого дягилевского концерта. Этот цикл не только объявил читателям «Фигаро» о «звездах» приближающегося сезона (таких, как Глинка, Чайковский, Римский-Корсаков), но и придал всему мероприятию атмосферу важного художественного события[734].
В то время как Брюссель оказывал влияние на законодателей общественного вкуса, другие критики занимались «подготовкой» интеллигенции. Среди них были Кальвокоресси, чьи монографии о русской музыке в «Ле Корреспондан» и «Меркюр де Франс» были опубликованы лишь за несколько дней до событий, открывавших дягилевские программы 1907 и 1909 годов, и критик Пьер Лалуа, который писал обстоятельные тексты о Мусоргском и Бородине для «Гранд ревю». Такие статьи были нацелены не только на то, чтобы дать широкой публике представление о доселе неизвестном ей пласте музыки. Место их публикации и статус авторов сообщали интеллектуальную репутацию и самой теме этих статей – репутацию, которую Русский балет вскоре должен был заслужить. Кроме критиков-специалистов, «Борис Годунов» привлек в театр и прочую пишущую братию Парижа. Как и их музыкальные коллеги, Жак Ривьер, будущий редактор «Нувель ревю франсез», романист-журналист Абель Эрман и поэт Жан-Луи Водуайе также впоследствии стали писать о Русском балете, комментировать его спектакли и сотрудничать с труппой. Музыка принесла труппе не только массового зрителя, но и респектабельность в кругу интеллектуалов[735].
В обличье времен конца века весь Париж был местом встречи банкиров и аристократов, имевших общие интересы в области искусства. В это сообщество также входило множество евреев в первом и втором поколении, которые нашли в его относительно толерантной атмосфере выход для своих культурных устремлений и способ войти в высшее общество Франции. В заметке о смерти Бакста для журнала «Дайал» в июне 1925 года писатель Поль Моран заявлял, что в еврейском происхождении художника содержался ключ к «широкой еврейской публике, который стал залогом успеха Русского балета»[736]. («Католический» художник и критик Морис Дени в газетной заметке 1910 года описывал аналогичную «расовую» связь: «Русский сезон: еврейские балеты»[737].) Евреи действительно поддерживали Русский балет, но с равным пылом они выступали и в поддержку постановки «Бориса Годунова», которая почти на год опередила триумфальное одобрение Бакста с его «Клеопатрой». Они были связаны с Русским балетом, но не как евреи, а как покровители, любители музыки и неотъемлемая часть всего Парижа того времени. Не были они и единственными в этом отношении: были и другие группы людей, разделявшие те общественные и эстетические ценности, которые привели парижских евреев в ряды публики Дягилева. Связь с русским «направлением» в искусстве – как средство обретения общественной подвижности, утверждение космополитизма и жест поддержки художественных нововведений – выражала те буржуазные стремления, которые выкристаллизовались в самом понятии всего Парижа[738].
В своей эпопее «В поисках утраченного времени» Марсель Пруст, который сам по себе воплощал то множество миров, которые соприкасались в дягилевской публике, нашел определенную логику в эволюции мадам Вердюрен от хозяйки салона, сторонницы Дрейфуса, к покровительнице русских танцовщиков:
В былое время она восседала на видном месте, рядом с г-жой Золя в трибунале, на заседаниях суда присяжных, а когда новое поколение, рукоплескавшее русским балетам, увешанное модными эгретками, теснилось в Опере, в первой ложе всякий раз можно было видеть г-жу Вердюрен рядом с княгиней Юрбелетьевой. И как после оваций в суде… точно так же теперь зрители, которым не хотелось идти спать после бури восторгов, которую поднимала «Шехеразада» или пляски на представлении «Князя Игоря», отправлялись к г-же Вердюрен, где… каждый вечер устраивались дивные ужины для танцовщиков… для директора их труппы, для великих композиторов Игоря Стравинского и Рихарда Штрауса, для неизменного «ядрышка», вокруг которого… считали за честь разместиться самые знатные дамы Парижа и иностранные высочества[739].
Богатые иностранцы добавили к этому космополитическому сообществу нотку исключительности. К концу XIX века американцы – среди них были принцесса де Полиньяк и ее сестра герцогиня Деказ (урожденная Изабелла Зингер), графиня Бони де Кастельяне (в девичестве Анна Гульд, наследница владельцев железных дорог) и принцесса Жозеф де Караман-Шиме (ранее Клара Уорд из Детройта) – проникли во французскую аристократию, своими миллионами «отреставрировав» ее поблекший фасад. Другие англоговорящие миллионеры – миссис Берта Поттер Палмер, жена производителя печенья из Чикаго, Уильям Корнелиус Вандербильт, железнодорожный магнат из Нью-Йорка, и Джеймс Хеннесси, известный производством шампанского и коньяка, – стали подолгу бывать в Париже, где появлялись на таких блестящих событиях, каким был «Борис Годунов» – высших точках парижского grande saison. Присутствие англосаксонских кровей, которое обозначилось во время расцвета англофилии среди высших классов парижского общества, было не единственным национальным вливанием, украсившим весь Париж. В десятилетия перед Первой мировой войной столица Франции стала международным центром удовольствий, излюбленным местом аргентинских плейбоев и индийских радж, Меккой для представителей знати с южной и восточной периферии Европы. Все эти космополиты вошли в историю избранного ими города, оставив свой след на публике дягилевских спектаклей раннего периода.
Горячая поддержка столь русской постановки, исходившая от польского сообщества в Париже, кажется странной и малосовместимой с патриотическими чувствами, ведь между Годебскими, Потоцкими и Чарторицкими – польскими семействами, которые уже давно проживали во Франции, и русскими колоссами, которые занимали их родную страну, никогда не было большой любви. (Граф Николай Потоцкий, дуайен польского аристократического сообщества, попал в Париж после того, как его родители были сосланы в Сибирь в наказание за участие в польском восстании 1863 года[740].) Для поляков, впрочем, Мусоргский стоял выше политики: его творчество корнями уходило в славянский Запад, место, где вызревал национализм. Эта «западная» нотка была близка слуху и других представителей дягилевской публики – не только поляков и евреев. «Борис Годунов» привлек в театр также Бранкованов и Бибеску, представителей виднейших румынских кланов Парижа – давних почитателей Вагнера, которые, подобно матери графини Анны де Ноай, отстаивали честь румынских музыкальных талантов в своих гостиных. (Дочь же, в свою очередь, участвовала в дягилевской комиссии 1910 года, как и упомянутый граф Николай Потоцкий[741].) В положении не имевших гражданства космополитов, которые занимали заметное место в публике дягилевских постановок, можно усмотреть аналогию с наднациональной восприимчивостью к его экзотическим «блюдам».
Все эти слегка «деклассированные» аристократы толпой явились на «Бориса Годунова» – как в дальнейшем они будут приходить на балет. Для них, как и для других обеспеченных иностранцев в рядах публики, экзотика и сложившаяся в обществе репутация дягилевских постановок были отражением неопределенности их собственного положения, желания слиться с обществом и того различия во вкусах, которое отделяло их от тенденций, господствовавших в высших кругах французского общества. В то же время «Борис», как и львиная доля раннего балетного репертуара труппы Дягилева, представлял собой «расовый» и даже политический контрапункт вагнерианству. Поскольку Байрейт все больше и больше ассоциировался с экстремистской идеологией, которую пропагандировали такие личности, как Хьюстон Стюарт Чемберлен[742], ежегодный дягилевский Festspiele[743] в атмосфере латинского «космополитизма» прославлял славянское и «восточное» наследие нетевтонского Запада.
Этнические, национальные и культурные интересы блестяще сформированной публики Астрюка делали ее особенно восприимчивой к экзотике и музыкальной изысканности первых балетных постановок Дягилева. Это выразилось не только в том, что переход от оперы к балету потребовал относительно несущественных художественных преобразований, но и в том, что экзотика – или, точнее сказать, ориентализм – проходил красной нитью через все искусство конца века, как высокое, так и массовое, – даже если для того, чтобы эта тенденция проявилась в театральных костюмах и декорациях, понадобились Бакст, Головин и Рерих. В конце XIX века произошло возрождение интереса к искусству Дальнего Востока; такие предприниматели, как Камондо, Анри Чернуски и Эмиль Гиме, собрали крупные коллекции китайских, японских и индийских древностей[744]. Несмотря на то что художники и декораторы испытывали на себе японское влияние, сущность французского ориентализма происходила из древних библейских и исламских краев, простиравшихся от Северной Африки до Ирана, по следам распространения французского империализма. Начиная с середины века писатели, художники и оформители интерьеров открыли в этих новых сферах европейского влияния золотоносную жилу экзотики, которая обеспечивала их как темами для работы, так и основными мотивами. В начале нового века ориентализм проявился и в танце – в большой степени благодаря пришедшим на французскую сцену с Запада иностранцам, которые расширили традиционные границы экзотики на восток, в сторону Индии. Самой известной – или же печально известной – из них была Мата Хари (Маргарета Зелле Маклеод), которая дебютировала в Париже в 1905 году в музее азиатского искусства Гиме, а вскоре после этого исполняла роли Саломеи и Клеопатры в гастролях по оперным сценам мира. Этот впечатляющий успех (ее выступление верхом на лошади в полуобнаженном виде перед сапфийским сборищем, на котором присутствовала Колетт, вошло в легенды) вдохновил многих других «индийских» танцовщиц на то, чтобы попытать счастья в столице Франции. Среди них была Рут Сент-Денис, чей ангажемент в театре Мариньи осенью 1906 года позволил одному критику сравнить ее «мрачный» танец «Кобра» с бодлеровским «ядом». В то же время в театре Олимпия и у нее появилась соперница – «индусская танцовщица», которая развлекала публику подражанием балету Рут «Радха»[745].
Несмотря на широко распространенный интерес к восточной культуре, повальное увлечение «восточными» колоритом и костюмами накануне Первой мировой войны началось после первых показов дягилевских балетов. Почти в одночасье богатый цветом и чувственный восточный стиль, который ассоциировался с Русским балетом, приобрел статус товара в сфере моды и декоративного искусства. «Вкус к восточному искусству пришел в Париж как товар, импортированный из России, посредством балета, музыки и декораций, – комментировала в 1913 году газета “Фигаро”. – Русские артисты действовали как посредники между нами и Востоком, и наделили нас даже бо́льшим вкусом к восточному колориту, чем к своему собственному искусству»[746].
Публика, которая последовала за Дягилевым путем восточных изысков Русского балета, незаметным образом сместила эстетические акценты в репертуаре труппы, сузив – благодаря своему вкусу – круг ее художественных возможностей. Экзотика составляла одно из ярких направлений раннего творчества Фокина. Но это была лишь одна из тем, определявших работу его воображения; не менее яркими направлениями были эллинизм и неоромантизм, и именно их темы и стили становились основой его балетов, задуманных вне сферы деятельности Дягилева. В Париже, однако, к этим темам относились прохладно. Зрителей Дягилева приводили в восторг экзотические картины «Клеопатры», «Шехеразады» и «Жар-птицы»: их внешнее изобилие, роскошные костюмы и бросающиеся в глаза эффекты отражали, по более позднему наблюдению Поля Морана, «дерзкие наряды публики, ее заносчивость, экстравагантные прически, броский макияж»[747]. В том впечатлении, которое произвел на зрителей «Борис Годунов», эта роскошь по своему значению уступала лишь музыке, и именно она оставалась единственной главной ценностью постановок Русского балета вплоть до начала войны. Распространение экзотических мотивов на дягилевской сцене с 1909 по 1914 год было не только признаком иссякшей фантазии Фокина. Оно скорее выдавало стремление Дягилева угодить вкусам публики и сделать из жанра, обладающего довольно ограниченными возможностями, коммерчески успешную формулу. Еще в 1910 году в петербургской прессе появились обвинения труппы в том, что она потворствует запросам падкой на сенсации публики: их высказал директор Императорских театров Владимир Теляковский[748]. Хотя его суждение вряд ли можно было считать беспристрастным, принимая во внимание историю его взаимоотношений с Дягилевым и неизбежное соперничество между сезонами Дягилева и Императорским балетом, колкие замечания Теляковского указывают на основной парадокс, касающийся художественных возможностей труппы в условиях рынка. Он состоит в том, что, если даже снятие ограничений, связанных с работой в государственном учреждении, открывает широкий диапазон художественных средств, то потеря финансовой стабильности навязывает иные императивы.
С критикой, созвучной мнению Теляковского, выступил в «Нувель ревю франсез» Анри Геон, но он видел причину сложившейся картины в снобизме. Геон утверждал, что именно снобизм принес успех Русскому балету, что теперь (в 1911 году) постановки, подобные «Нарциссу», всего лишь пользуются низкопоклонством, которое проявляют неспособные на критику снобы перед звездными «ингредиентами» дягилевской формулы:
…[сноб] с готовностью пропускает мимо ушей посредственную музыку Черепнина; ему хватает того, что декорации не только подписаны Бакстом, но и, более того, великолепны, что его веселят кишащие на сцене маленькие зеленые фавны, а в центре спектакля – Нижинский. Ведь танцовщик Нижинский – его идол, объект культа, на месте которого раньше была бы первая танцовщица Парижской оперы… Балет вновь становится поводом, чтобы поставить во главу угла «звезду»; без достаточных драматических или поэтических причин на это и без всякого единства он становится похож на бессвязные дивертисменты Национальной академии музыки. То, что русские утратили видение своей первоначальной цели – преобразования сюжетного действия в спектакль, – нашего сноба совершенно не волнует. Но зачем пытаться угодить ему, если он готов находить удовольствие во всем, даже в прекрасном?[749]
Попытка извлечь прибыль из артистов и ключевых тенденций в репертуаре была не единственной чертой, в которой четко проявлялось влияние всего Парижа. Оно отразилось и в выборе Дягилевым его первых соавторов на Западе, при этом роль салонов в создании моды на искусство сильно возросла. Еще летом 1909 года Дягилев стал ближе общаться с Дебюсси, Форе и Равелем, надеясь заложить основы будущего сотрудничества[750]. Пусть даже Форе отказался, сославшись на другие заказы, а балет Дебюсси Masques et Bergamasques так и не был поставлен, – то, как Дягилев выбирал время для переговоров, и его список предполагаемых сотрудников говорят о том, как быстро он освоил ритм парижской жизни. Форе, Равель и Дебюсси определенно входили в круг музыкальных светил того времени. Но, в отличие от Сати, который проводил свое время то в пригородах – в Отёй, – то в студиях и кафе на Монмартре, эти трое были фаворитами парижских салонов. Жена Дебюсси Эмма Бардак, которая ради брака с композитором развелась с еврейским финансистом, была одной из виднейших хозяек музыкальных гостиных. Равель был «светским львом» салона Сипы Годебского, а среди покровителей Форе, у которого в свое время обучались такие известные личности, как Мися Серт, числилось несколько принцесс.
Ни на одной из постановок влияние салонов не сказалось так очевидно, как на балете «Синий бог», в создании которого объединились композитор Рейнальдо Ган и либреттисты Фредерик де Мадрацо и Жан Кокто – царствующий «легкомысленный принц» светского общества. Как позже писал Стравинский, «Дягилеву был нужен Ган – и поэтому он поставил его “Синего бога”; Ган был идолом парижских салонов, а салонная поддержка была Дягилеву в то время очень полезна. После войны, однако, Дягилев прекратил с ним отношения по той же причине, по которой Ган раньше был для него важен, – из-за его салонной репутации»[751]. Действительно, Ган вращался в самых высоких кругах. Его принимали великий князь Павел и принцесса Пале, и он часто выступал в их доме, где регулярно обедали Дягилев и принцесса де Полиньяк. Двери дома «тети Винни» также были ему открыты, как и дома Отто Кана, миссис Поттер Палмер и графини де Тредерн, а Мадлен Лемэр, художница-акварелистка, более известная своими богатыми приемами, приглашала его читать лекции в своем «Университете искусств». Эти ангажементы принесли свои плоды в профессиональной сфере: написанный им «Бал Беатрис д’Эсте», показанный в апреле 1907 года у принцессы де Полиньяк, был через месяц продемонстрирован широкой публике; а менее чем через три года в Парижской опере был поставлен его «Праздник у Терезы» – балет, напоминавший о романтической эпохе, на либретто Катулла Мендеса. Имевший еврейские корни, как и его близкий друг Пруст, Ган был консерватором в музыке, «моцартианским классиком», который в «деликатной, традиционной изысканности» своих произведений проявлял «равнодушие к новаторам, таким как Форе и Дебюсси, а также свою антипатию к Вагнеру». Другим любимцем салонов был Мадрацо, известный среди друзей под прозвищем «Коко», – дилетант, который «немного сочинял и немного пел, и то и другое очень плохо, и рисовал – пожалуй, намного лучше»[752]. Как и Ган, чьим родственником он являлся, Мадрацо был богатым уроженцем Южной Америки и также другом Пруста, который использовал его как один из прототипов скульптора Ски, представленного у него в романе дилетантом во всех художественных областях. Пока кубисты и фовисты пытались переделать общую картину современного искусства, Дягилев нашел себе единомышленников в прустовском мире 1890-х.
Дягилевская художественная переработка ар-нуво, и особенно оформление Бакста, привлекли к постановкам многих художников. Но, как и сам Русский балет, художники, фотографы и иллюстраторы, наиболее тесно связанные с труппой, вращались в привилегированном мире дягилевских сотрудников и покровителей. Если благодаря бородатому лику Родена на театр снизошло сияние национального гения, то основной тон задавали менее заметные герои художественной хроники тех лет: барон де Мейер, фотограф, запечатлевавший особ из высшего общества; карикатурист Жорж Курса, который под псевдонимом «Сэм» (Sem) рисовал для «Фигаро» картинки о событиях и знаменитостях всего Парижа; иллюстраторы модных журналов Жорж Барбье, Поль Ириб (который был заодно и художником по интерьеру), Жорж Лепап и Эрте; Кокто, любимчик салонов, столь язвительно описавший тесный круг друзей Дягилева, и его подруга Валентина (Гросс) Гюго, перспективная художница-иллюстратор; Жак-Эмиль Бланш – «изящнейший художник своего времени, который приходил рисовать и выходил обедать только в самые фешенебельные дома», как в шутку выразилась Джанет Флэннер об этом портретисте, фаворите Belle Époque[753]. Дягилев высоко ценил этих художников, и именно через призму их взглядов были запечатлены образы дягилевских довоенных танцовщиков и постановок. В 1920 году в рождественском выпуске модного журнала «Фемина» Барбье вспоминал о «непривычном трепете», который охватил зрителей первого дягилевского спектакля при виде «роскошных и в то же время тонких сочетаний цветов, в которых желтый цвет бархатцев и красный цвет настурций ликовали посреди берлинской лазури и веронской зелени»[754]. Его проза, столь же красочная, сколь и сцена, которую он описывал, определяла место, которое занимала новизна дягилевских спектаклей в контексте символизма конца века – того символизма, который был продолжен Русским балетом и переопределен как эстетика декоративной роскоши. Присутствие таких художников в театре, равно как и сделанные ими записи их визуальных впечатлений, устанавливало связь Русского балета с консервативной эстетикой, гнездившейся в недрах высшего общества.
Эта картина дает основания предполагать, каковы были причины одного из самых загадочных явлений той поры – практически полного отсутствия представителей авангарда на дягилевских «пиршествах». Лишь Анри Матисс и Фернан Леже порой появлялись в театре, и что касается первого, то можно заподозрить, что эти визиты были связаны в большей степени с Сергеем Щукиным, известным московским покровителем, для которого Матисс создал свои панно «Музыка» и «Танец», чем с привлекательностью дягилевского искусства[755]. В остальном никто из множества талантливых художников, задействованных Дягилевым и его конкурентами в 1920-е годы, казалось, не рисковал появляться в модном окружении Русского балета. (Или даже если они там бывали, то не позаботились о том, чтобы записать свои впечатления.) Лишь в 1914 году, в тот же год, когда Леже создал свою кубофутуристическую картину «Выход из Русского балета», о труппе упомянул Аполлинер – и сделал он это, что характерно, перед выпуском «Золотого петушка» – первого из дягилевских балетов, где был задействован художник-авангардист. «Не повторяя отношения публики и высоких кругов французского общества к своим молодым художникам, русские обеспечили бешеный успех мадам Гончаровой… Вот так русский футуризм будет проявляться в Опере во всем своем великолепии, в то время как новую французскую живопись… здесь по-прежнему только осмеивают». (В ту же неделю, впрочем, Аполлинер упоминал в других местах о двух балетах, заказанных его другу, композитору Альберто Савиньо, «самим месье Фокиным… которые, возможно, будут исполнены в одном из будущих Русских сезонов»[756].) Можно также заподозрить, что художников, избегавших высшего света, богатство представителей дягилевской аудитории раздражало не меньше, чем их мещанство. «Однажды вечером мы отправились посмотреть на Нижинского в Русском балете, – вспоминал американский писатель Джон Курнос, который в 1912 году побывал в Париже вместе с невестой. – После изумительного представления, которое меня опьянило и привело в восторг, я внезапно понял, пусть Дороти ничего мне и не говорила, каковы были все ее мысли в то время, пока она рассматривала хорошо одетых, состоятельных, уверенных в себе мужчин и красивых, модно одетых женщин, выходивших из партера и из лож… и мое невероятно счастливое настроение омрачилось»[757].
Мода и на самом деле была ключевым понятием для публики Дягилева – и эта связь существовала на всем протяжении жизни труппы. Среди его зрителей всегда присутствовали главные поставщики блестящего стиля жизни сменявших друг друга дягилевских элит. Как и законодатели вкусов Belle Époque, наряды для которых они создавали, знаменитые кутюрье, пришедшие на показ «Бориса Годунова», принадлежали к эпохе, которая неуклонно приближалась к концу. Расположенные на рю де ла Пэ – вечной улице моды, проходящей от Оперы до Комеди Франсез, – такие учреждения, как «Дусе», «Карон» и «Уорт», постепенно уступали во влиянии домам моды с более краткой историей, которые находились западнее – ближе к Елисейским Полям.
Типичным представителем этой новой части дягилевской публики был модельер Поль Пуаре, чье имя, как и имя Бакста, вызывает ассоциации с «восточными» мотивами в женской одежде в довоенные годы и чей стремительный взлет на небосклон моды происходил параллельно с восхождением Русского балета. Как и Дягилев, Пуаре был мастером «упаковки», талантливым маркетологом, у которого художественное чутье сочеталось с деловой хваткой. Он был первым из модельеров, кто создавал дочерние линии производства и продвигал их продукты на международном рынке, а также первым, кто рекламировал свои фасоны в изданиях, выходящих ограниченным тиражом[758]. На его роскошных костюмированных балах известные личности полусвета встречались в одном обществе с представителями финансовой и творческой элиты. «Публика» Пуаре, как и его рыночные стратегии, предрекала существенные изменения в Русском балете.
Первый из кутюрье, ставший светской знаменитостью, Пуаре был и первым, кто регулярно создавал эскизы костюмов для сцены. Другие дома моды, включая Дусе, где началась профессиональная карьера Пуаре, и раньше «одевали» деятелей театра, благодаря чему костюмы приобретали штрихи элегантности, свойственной высокой моде, а работы менее известных модельеров получали шанс быть показанными на публике. Пуаре, тем не менее, расширил традиционную роль кутюрье: его участие стало распространяться не только на полномасштабные постановки, но также – и это было заметным разрывом с прошлым – и на руководство оформлением и общим внешним обликом спектакля. Почти всегда в его эскизах отражалось экзотическое изобилие балетной сцены: «Навуходоносор» был вдохновлен ассирийскими мотивами, «Афродита» – египетскими, ревю под названием Eightpence a Mile – персидскими[759]. Коммерческие предприятия такого рода не только сделали популярным фирменный знак Пуаре – в равной степени они вывели на рынок эстетику декораций Русского балета.
Метания Пуаре между театром и миром моды свидетельствуют о размывании традиционных границ между модой и сценой. О том же говорит реклама духов «Князь Игорь» в официальной программе Русского балета на сезон 1911 года, а также то, что иллюстраторы Жорж Барбье и Поль Ириб все чаще изображали танцовщиц довоенного состава дягилевской труппы в качестве соблазнительных моделей на своих экзотических модных иллюстрациях. Вторая карьера Бакста – как художника по костюмам – дает нам еще один пример слияния этих двух сфер, которое увенчалось тем, что сценический костюм превратился для публики Русского балета в отдельный объект созерцания. С 1910 по 1914 год, когда цветные репродукции его эскизов постоянно встречались в программах труппы и специальных вставках в «Комедия иллюстре», звездный художник дягилевского круга поставил свою подпись под целым рядом иллюстраций в журналах мод, которые повторяли яркие цвета и узоры, греческие драпировки и экзотические головные уборы из его сценических работ. Во время того же периода у него появились последователи среди новых европейских знаменитостей, чей вкус в одежде был скорее эксцентричным, чем изысканным, и которые с помощью одежды пытались создать для себя образ личности из театральных кругов. Среди его заказчиков самой обворожительной и экстравагантной была Маркеза Луиза Казати. Дочь миланского промышленника, она вышла замуж за представителя венецианской аристократии и между визитами в Париж жила в палаццо на Большом канале, который позже стал домом и музеем Пегги Гуггенхайм. Маркеза давала пышные приемы, представлявшие собой целые оргии растрат, выставленных напоказ, на которых она присутствовала в окружении пантеры и оцелотов, а вокруг ее тела обвивались змеи – все это придавало ее туалету особую причудливость. Для Казати Бакст создал немало маскарадных костюмов и эксклюзивных нарядов, которые выглядели не менее эффектно, чем костюмы баядерок и одалисок из его экзотических балетов[760]. Как и сторонние театральные работы и дополнительные линии продуктов у Пуаре, заказы подобного рода были проявлением влияния довоенного искусства дягилевской труппы на моду, а также влияния моды на способ подачи произведений искусства и на их продвижение. В то же самое время они говорили о пересечении балетного мира с миром ищущей славы публики потребления.
Основой парижской публики Дягилева по-прежнему была аудитория «Бориса Годунова». Но со временем Русский балет стал привлекать и иных зрителей. В своем обзоре сезона 1912 года критик Луи Лалуа так описывал этих новичков дягилевской публики:
В конечном счете прошедшие подряд четыре балетных сезона выявили шумную толпу фешенебельной публики, которая является на спектакли с опозданием, чья болтовня заглушает оркестр, как только занавес закрывается, которая не знает ни названий постановок, ни имен их создателей, но упивается славой от того, что толпится в своих бриллиантах и жемчугах в зале Шатле, который порой выглядит еще более сверкающим, чем Опера, – несмотря на вечную пыль и запах конюшни[761].
Дягилев мастерски владел приемами публицистики и использовал любую возможность, чтобы создать художественную и общественную «сенсацию», с большим упорством привлекая салоны, газеты и связи в посольстве к поддержке «Бориса» и его ранних балетных сезонов. С каждым успешным годом, однако, стремление превзойти прошлые успехи неуклонно возрастало, а после образования постоянной труппы оно стало экономической необходимостью. Тогда Дягилев решил привлечь модную публику на крупные «торжественные» события.
Среди способов, которыми Дягилев создавал общественную и художественную уникальность своей труппы, ставшую ее фирменным знаком, были благотворительные концерты и другие особые выступления. Так, первая répétition générale сезона 1910 года должна была проходить в рамках исключительно модного благотворительного события – хотя из-за неурядиц, произошедших с декорациями по дороге из Берлина, ее пришлось отменить[762]. Тем не менее через две недели труппа показала «Половецкие пляски» и «Пир» в гала-программе Парижской оперы, в которую также вошли «Саломея» Рихарда Штрауса, где заглавную роль исполняла Мэри Гарден, и «Коппелия», где Леа Пирон из Опера, одетая травести, выступила партнером Карлотты Замбелли в роли Сванильды. 1 июля русские и французы вновь объединили свои таланты: в этом уникальном представлении «Клеопатра» оказалась в одной программе с «Риголетто» и балетным дивертисментом из «Таис»[763]. События подобного рода, должным образом освещенные в светских колонках «Фигаро», приносили дягилевской антрепризе огромный дополнительный доход.
Еще одним ходом, рассчитанным на то, чтобы завлечь высший свет Парижа в театр, были открытые репетиции. В июне 1910 года в «Фигаро» появились заметки о трех репетициях «Жар-птицы», где говорилось о «значительнейшем впечатлении», которое испытала публика, и где предсказывался будущий успех спектакля[764]. Эти «льстивые отзывы» служили множеству целей. Дягилевское обыкновение приглашать дружественных критиков, таких как Робер Брюссель и Рауль Бреванн из «Фигаро», Риччардо Канудо из «Монжуа!» и Жан-Луи Водуайе, на просмотр новых спектаклей в заключительной стадии их подготовки обеспечивало благоприятные отзывы вплоть до самого дня премьеры. (Этого можно было достигнуть и другим путем: во влиятельных газетах и журналах размещались заказные тексты, подобные панегирику Кокто 1911 года «Русский балет». В этом отношении связи Астрюка оказались неоценимыми[765].) Кроме предварительных отзывов в прессе, результатом открытых репетиций были еще и слухи. По воспоминаниям Стравинского, Дягилев распространял множество бесплатных билетов среди избранной аудитории «актеров, художников, музыкантов, писателей и наиболее образованных представителей общества», посещавших его генеральные репетиции. Так, из 1967 зрителей, присутствовавших на генеральной репетиции «Жизели», на свои деньги билеты на спектакль приобрели лишь 203. Эти неофициальные рекламные посредники, имевшие доступ в салоны, распространяли новости о постановках труппы среди представителей целевой аудитории Дягилева[766], тем самым подготавливая почву для спектаклей, которые в ином случае могли бы оказаться экономически неуспешными.
Репетиции у Дягилева стали сами по себе событиями, на которых эксцентричное поведение светской публики в зале могло посоперничать в зрелищности с выступлением танцовщиков на сцене. В дневниковой записи от 1 июля 1910 года Андре Жид описывал один из таких случаев:
…месяц назад, поддавшись настояниям мадам де Ноай и мадам Мюльфельд, я… посмотрел, из одной ложи с ними, репетицию Русского балета в Опера. За всю свою жизнь я ни разу не чувствовал себя настолько беспомощно, неуместно и онемело. Мадам де Ренье со своей невесткой, Анри де Ренье, проявлявший большое остроумие, и Водуайе с его мрачным роковым взглядом тоже там присутствовали…
«Месье Жид, – воскликнула мадам де Ренье, – помогите нам успокоить мадам де Ноай». (Последняя говорила так громко и оживленно, что привлекала внимание доброй половины публики соседних лож.)[767]
Поясним, о каких же рифмоплетах и светских львицах говорил Жид: то были франко-румынская графиня Анна де Ноай, известная своими слабостями более, чем стихами; журналист Жан-Луи Водуайе, который создал поэтические восхваления Карсавиной и либретто к «Видению Розы»; Мари де Ренье, дочь парнасского поэта Хосе Марии де Эредиа, который писал бесцветные стихи под псевдонимом Жерар д’Увиль; мадам Мюльфельд, влиятельная хозяйка салона, в чьей гостиной собирались все, кто хоть как-то относился к сообществу критиков[768]. И это был не первый случай, когда светское общество помешало Жиду насладиться балетом. Делая обзор дягилевского сезона 1909 года для «Нувель ревю франсез», писатель предпослал своим заметкам критику известного дягилевского пропагандиста, на чьи энтузиазм, репутацию в обществе и на чье перо тот так полагался в 1920-е годы:
В одном из последних майских выпусков «Фигаро» Жак-Эмиль Бланш выразил свое восхищение мизансценой и декорациями русских спектаклей, которые были представлены нашему вниманию в Шатле. Несомненно, что если бы месье Бланш ознакомился с тем, что делали в этой сфере Рейнхардт, Мартерштейг и Валентин в Берлине, Кельне, Вене и так далее, а также с их успехами на этой ниве – в его красноречивой статье было бы чуть меньше восторгов. Задник из «Князя Игоря» не стал бы от этого менее выдающимся, а вот декорации «Павильона Армиды», вполне возможно, стали бы[769].
Поведение последователей дягилевского общества вполне могло раздосадовать Жида и взбесить Фокина[770]. Дягилев тем не менее попустительствовал этому поведению и даже поддерживал его, создав, таким образом, прецедент для того зрительского «этикета», который предвещал шумную реакцию на постановки Нижинского в 1912 и 1913 годах. На достопамятной премьере «Весны священной» мадам Мюльфельд вновь оказалась среди зрителей, и когда композитор Флоран Шмитт закричал: «Молчите вы, девки шестнадцатого!» – она задала тон всему высшему обществу, издавая громкие взрывы смеха[771]. Было совершенно неудивительно, что художественные и общественные ценности, присущие постоянной парижской публике Дягилева, исключали всякое новаторство – кроме самых безобидных его форм.
С появлением балета возникла еще одна категория зрителей, от которой на театр повеяло дурной славой. Начиная с 1909 года и позже, по мере приближения войны, среди знатоков и коллекционеров из высшего общества стали появляться представители полусвета – этого яркого мира куртизанок, актрис, распутников и журналистов бульварных газет, чьи любовные интриги и трагические самоубийства во времена Belle Époque были постоянным поводом для обсуждений. Подобно актрисам, танцовщицы помимо своей воли тяготели к полусвету: никакой уровень мастерства не мог стереть со служительниц Терпсихоры клеймо низкого происхождения и непристойности. За исключением Роситы Маури, бывшей этуали, преподававшей в школе при Парижской Опере, и Матильды Кшесинской, prima ballerina assoluta из Петербурга, танцовщицы оказались в тени «Бориса Годунова». В 1909 году, напротив, они занимали почетное место – среди них были такие известные личности, как царствовавшая в Опера этуаль Карлотта Замбелли, мадам Марикита, балетмейстер Опера-Комик, Айседора Дункан и Наталья Труханова. Но попытки Астрюка внести в публику специфический «танцевальный» элемент не ограничились привлечением аристократов. Он привел из Опера и Комеди Франсез увешанных бриллиантами красавиц, целую толпу блондинок и брюнеток, и посадил их в первые ряды бельэтажа. «Никогда еще, – писал один впечатлительный критик, – не было так приятно созерцать зал»[772]. Это был не единственный метод, которым Астрюк вновь вызвал к жизни традиционную ассоциацию балета с непристойностью: среди прочих знаменитостей в публике были такие актрисы, как Луиза де Морнан и Мадлен Карлье, известные за кулисами своим легким поведением.
Популярность Русского балета среди парижских искателей развлечений отражала и возрождение танца как способа публичного времяпрепровождения. В 1911 и 1912 годах, «произведя революцию в салонных манерах и нравах, а также в общественных установлениях»[773], модные кафе заполонило танго, в то время как в шикарных вечерних клубах космополитическую смесь из аргентинских миллионеров, великих князей из России, французских аристократов и нью-йоркского общества «Четырех сотен» развлекали исполнители бальных танцев – Вернон и Ирен Кастл. Среди ищущих удовольствий завсегдатаев «Кафе де Пари» круги любителей балета и танцевальных вечеров пересекались – так же как на скачках и в зрительных залах театров. Между этими кругами существовали и другие связи. На одном из вечеров, устроенных Энтони Дрекселем в Лондоне, супруги Кастл выступали на одной сцене с Нижинским, а в Довиле Казино ангажировало для выступления в первом из курортных сезонов одновременно и эту звездную пару, и Русский балет. Казино, во всем желавшее создать атмосферу элегантности и избранности, поручило составление списка гостей для официального открытия сезона в Довиле Габриелю Астрюку[774].
В сфере частных развлечений балет тоже пересекался с модой. В июне 1913 года все сливки парижского общества присутствовали на «уроке танцев», организованном принцессой Амедеей де Броли. В том же месяце маркиза Ганэ, долгое время поддерживавшая Дягилева, устроила блестящий праздник, на котором лорды и знатные дамы исполняли главные роли в программе «танцев прошлого года». Все это мероприятие, проходившее на фоне разнообразных декораций – от византийских мотивов до стиля ампир (розовый сад Жозефины в Мальмезоне послужил декорацией к картине на музыку из «Видения Розы»), – было стилизовано под генеральную репетицию. В июне состоялось еще одно развлечение, навеянное балетом: у графа Энара де Шабрийана гости в романтических тарлатановых юбках а-ля «Шопениана» исполнили «Фантазию на тему вальсов Шуберта», поставленную балетмейстером Парижской оперы Лео Стаатсом[775]. Все эти события совпали по времени с самым ярким из довоенных сезонов Дягилева.
Успех Айседоры Дункан к тому же породил массу подражательниц, которые, как и неофиты модной эвритмии, тоже присоединились к разнородной дягилевской публике. Среди растущего числа парижских преподавателей, работавших в угоду вновь появившейся клиентуре из любителей и тех, кто заботился о фигуре, была танцовщица, известная под именем Кариатида. Бывшая помощница костюмера, она имела собственную студию на Монмартре, преподавала неортодоксальную смесь эвритмии с балетом и устраивала концертные программы из танцев, поставленных на музыку Равеля и Сати. На плакате, посвященном одному из таких концертов, Бакст изобразил фигуру в тунике, совершавшую движения в стиле Дункан посреди длинных змеящихся полотен ее экзотического одеяния[776].
В отличие от художников, живших по соседству, Кариатида не ограничивала пространство своей деятельности одним лишь Мон-мартром. Периодически отмечаясь легким поведением, она проникла в центр парижского света и вместе с другой содержанкой – своей ученицей Габриель Шанель – и двумя своими любовниками посетила премьеру «Весны священной». Появление Кариатиды в тот вечер добавило еще одну сенсацию к этому, и без того уже полному сенсаций, вечеру: на лбу у нее была челка – все, что осталось от прядей, обрезанных в порыве романтической размолвки, – и тогда Париж впервые увидел коротко остриженные волосы[777].
К 1913 году стараниями Дягилева балет нашел свое постоянное место на художественной карте светского Парижа. Его оперно-балетный сезон, прошедший той весной в недавно основанном Астрюком Театре Елисейских Полей, имел «сногсшибательный успех», и публика еще до торжественного открытия «буквально [брала] кассу… штурмом, надеясь схватить последние оставшиеся билеты». Сбор за два первых балетных вечера составил 62 000 франков, а выручка за одно только третье выступление превысила 100 000 франков – это было на 35 000 франков больше, чем крупнейшая цифра в записях об организованном Астрюком и побившем все рекорды сезоне Метрополитен-оперы в театре Шатле в 1910 году. Утром перед четвертым спектаклем в кассах уже не оставалось ни одного билета, 11 июня Астрюк объявил, что к сезону будет добавлено еще семь спектаклей – ввиду его «огромного успеха»[778].
Несмотря на этот блестящий триумф, танец сам по себе оставался наименее оцененным ингредиентом дягилевского рецепта. В действительности, среди отзывов и статей, которыми бурлила в то время пресса, предпринятые Жаком Ривьером попытки проанализировать хореографическую форму, особенно его пламенные статьи о «Весне священной», были практически уникальными. Критики щедро уделяли внимание композиторам и художникам, которые наутро после премьеры просыпались знаменитыми, в то время как звезды труппы, такие как Нижинский или Карсавина, вдохновляли лишь их преданных поклонников. Стесненный финансовой нуждой, Дягилев воздерживался от того, чтобы просвещать свою парижскую публику. Вместо этого он пытался ослеплять и соблазнять ее – в расчете на то, что пребывание на пике моды и скандальная репутация создадут для его антрепризы нишу на парижском небосклоне.
Ранние сезоны Дягилева были особенно привлекательны для живших в столице Франции представителей знати славянского, еврейского или другого иностранного происхождения. К 1913 году, однако, эта ставшая относительно однородной группа оказалась в тени, поскольку среди публики дягилевских сезонов появилось множество новых пришельцев из-за рубежа. Далеко не все из них отличались той же изысканностью, что и Карл ван Вехтен, который на одном из показов «Весны священной» сидел в одной ложе с Гертрудой Стайн. Многие критики осуждали невероятный наплыв туристов («тупоголовых иностранцев», как их назвал Ролан-Манюэль), которые стекались на выступления Русского балета и другие «космополитические спектакли» во время Большого парижского сезона. Именно на этих гнавшихся за статусом и развлечениями представителей публики, которые налетели, как писал Астрюк, «на наши гостиницы, наши рестораны, наши театры и наши ипподромы» и охотно отдавали «в три раза больше денег, чем обычно, за ту же самую комнату в отеле, ту же котлету из баранины, за те же места в партере, которые всю оставшуюся часть года никому не нужны»[779], обозреватели возлагали вину за вопиющее поведение зрителей во время «Весны священной».
Леон Валлас писал в «Ревю франсез де мюзик»:
Добрая половина так называемой парижской публики состоит из людей, которые так же чужды Франции, как они чужды искусству, а та четверть, в которую входят все остальные, – светские люди, которых вряд ли может тронуть смелое художественное начинание. Мы должны верить, что публика, которая обычно посещала оперные театры и концерты, составляла лишь малую часть того сборища, чей ужасный шум можно было услышать на всех показах «Весны священной»[780].
Валлас и его собратья, безусловно, преувеличивали роль иностранцев. Точно известно, что на премьере некоторые наиболее шумные зрители – мадам Мюльфельд, графиня Рене де Пурталес, женщина, назвавшая Равеля «грязным жидом», – были француженками. Впрочем, критики были правы в том, что установили связь между бурными событиями 1913 года и изменениями в составе дягилевской публики.
К 1913 году антреприза Дягилева стала неизбежным образом ассоциироваться с модой и скандальностью, а не только с художественной смелостью. Паутина схожих ассоциаций существовала в общественном мнении и в связи с Театром Елисейских Полей Астрюка, который вызывал противоречивые мнения еще до своего открытия в начале 1913 года. Расположенный в одном из самых фешенебельных уголков самого роскошного парижского квартала, этот театр был высшим проявлением космополитической роскоши. Он был выдающимся образцом стиля модерн по своей архитектуре и первым публичным зданием в Париже, при постройке которого использовался железобетон; его облик нес на себе отпечаток «индустриальной строгости» и зарубежного – точнее, немецкого – влияния. Чтобы найти средства на свой комплекс из трех театров, Астрюк собирал комитеты покровителей со всего света. Он нашел подход к парижским иммигрантским сообществам, польстив богатым экспатриантам, таким как граф Николай Потоцкий (который в итоге пожертвовал 100 000 франков), заверениями в том, что, внося свой вклад в его проект, они подтвердят свой статус жителей Парижа. Программы, намеченные Астрюком, подверглись жесткой критике националистов, его вновь и вновь обвиняли в том, что он продвигает немецкое, итальянское и русское искусство вместо работ, созданных во Франции. Похожие обвинения выдвигались и в апреле 1911 года, когда различные театральные союзы пытались устраивать забастовки, протестуя против того, что Астрюк ангажировал итальянских музыкантов для участия в «русском сезоне» в Театре Сары Бернар, где в главных ролях выступали балерина из Мариинского театра Юлия Седова и Иван Хлюстин, бывший балетмейстер Большого театра. Эта распространившаяся ксенофобия имела и расовый оттенок. На одной из карикатур того времени Астрюк был изображен как паша с длинным носом, в тюрбане и с невероятного размера перстнями, на другой – как продавец билетов и меняла в одном лице[781].
К 1913 году шумная малообразованная толпа из парижского света и полусвета в значительной степени потеснила искушенное музыкальное сообщество ранних сезонов Дягилева. То сообщество состояло из ценителей, воспитанных в обычаях аристократии, даже если сами по себе они не имели знатного происхождения. У Ротшильдов, Камондо, Дусе, Зингеров и Райнахов, увековечивших себя в качестве «великих пожертвователей» Лувра и галереи Жё-де-Пом, инстинкт коллекционера сочетался с духом ценителя. Их великолепные коллекции работ XVIII века и искусства импрессионистов нашли свое место не на рынке, а в музейных залах.
Вновь сформировавшаяся публика Дягилева, напротив, была публикой потребления. Ценителей отличали способность к бескорыстной оценке и вкус; для потребителей наибольшее значение имела «высокая ценность». Первые искали красоты, вторые же судили о качестве по редкости произведения и цене. Более того, в контракте Дягилева с Обществом казино Довиля было положение о художественной и общественной раритетности. Согласно этому положению он должен был поставить «балет, еще не исполнявшийся в Париже», для сезона открытия фешенебельного курорта в августе 1912 года, а также обещал не соглашаться на ангажементы на любом другом курорте на нормандском побережье в течение этого лета[782].
Если для ценителя повтор спектакля был дополнительной возможностью, чтобы созерцать прекрасное, то для потребителя он лишь уменьшал ценность оригинала. К 1913 году роскошные программки труппы приобрели статус предметов коллекционирования, а будучи библиографическими редкостями, эти превосходно иллюстрированные издания продавались независимо от выступлений. С увеличением числа балетных потребителей реквизит, программы, костюмы, декорации и даже сами спектакли Русского балета превращались из художественных произведений в предметы, ценность которых определялась их редкостью на рынке искусства.
Французская публика Дягилева со всеми ее звучными титулами и непредсказуемыми связями конечно же служит прекрасной темой для занимательного рассказа. Но если отбросить архивные интересы, значение этой публики выходит далеко за пределы исторических сплетен. Картина образованной публики, сформировавшейся за время с 1906 до 1914 года, проливает свет на две давние загадки. Она позволяет объяснить ту скорость, с которой Русский балет пустил свои корни в Западной Европе, и одержимость экзотикой и роскошью, которые стали фирменными знаками Дягилева. Не менее значимо то, что балет вновь вошел в культурное сознание Запада именно через высшие слои французского общества. Идея привилегированности, неразрывно связанная с Русским балетом в самый легендарный период его существования, и по сей день накладывает свой отпечаток на сущность классического танца.
11 Лондон: лорды, леди и литераторы
Когда начинаешь говорить о пребывании Дягилева в Англии, невольно испытываешь душевный трепет: именно там, в стране, к которой Дягилев относился снисходительно и без особого доверия, его труппа оставила след, заметный и ныне. Нигде больше Русский балет не вошел в культурное наследие столь многих образованных людей и не вдохновил авторов на создание такого количества ученых томов; и ни в одной другой стране существование труппы не породило столько мифов.
Подобно искусству перевода, память всякий раз подводит нас, высвечивая наше прошлое через призму более поздних впечатлений и опыта. Особенно это касается британских историков балета. Долгие периоды пребывания Дягилева в послевоенном Лондоне, а затем возрождение интереса к Русскому балету, вызванное Дягилевской выставкой Ричарда Бакла 1954 года, неизбежно представили в ином свете воспоминания о первых сезонах труппы – даже воспоминания их участников. Таковы восторженные отзывы Мари Рамбер о публике Дягилева времен короля Георга V. «Это конечно же была не роскошная публика Ковент-Гарден на “Кольце Нибелунга” и даже не светская публика осеннего сезона мелодрамы в Друри-Лейн, – писала она, посетив Дягилевскую выставку, – но… театральная интеллигенция, такая же, как та, что в те же годы собиралась на “Сумурун” Макса Рейнхардта и на лучших постановках Грэнвилла-Баркера в театре Савой»[783].
В этом случае, как и во многих других воспоминаниях о дягилевской эпохе, современные свидетельства утверждают обратное тому, что было на самом деле. Представители интеллигенции действительно были преданными зрителями Русского балета, но только после войны. Дягилевская публика в период с 1911 по 1914 год скорее напоминала элитный клуб, где сверкали пышными нарядами представители британского правящего класса.
Даже в большей мере, чем это было в Париже, основа публики дягилевских балетов в Лондоне возникла из среды любителей оперы. Из шести довоенных дягилевских сезонов не менее четырех состоялось в Ковент-Гарден, который, как и ныне, был главной музыкальной площадкой Англии. Выбор места, однако, лишь отчасти объясняет особенный состав публики. По иронии, в том самом городе, на который Русский балет оказал столь долгое и масштабное влияние, в довоенное время не удавалось организовать ни одного независимого сезона этого столь популярного развлечения. В 1911–1914 годах Русский балет появлялся на лондонской сцене исключительно в рамках оперных сезонов, а подчас и в одной программе с оперой[784]. Своими вечерами русского балета, чередовавшимися с программами немецкой, французской, итальянской и русской оперы, а также абонементами, которые распространялись как на оперные, так и на балетные спектакли, Дягилев поднял в глазах восхищенной лондонской публики планку стандартов музыкальной драмы в еще одном из ее современных обличий.
Лондонская оперная публика была весьма неоднородной. В ее состав входили и представители высшего общества, и серьезные любители музыки, и люди более скромного достатка: все они были постоянными посетителями дягилевских мероприятий и в период с 1911 по 1914 год побывали по меньшей мере на нескольких его спектаклях. При создании Русского балета, однако, Дягилев не особенно рассчитывал на публику двух последних категорий. Он ворвался в столицу Англии на гребне имперской волны, которая несла членов королевской семьи, сановников, правительственных чиновников и цвет английской аристократии к коронации Георга V. На ослепительном гала, входившем в программу торжеств, дягилевская труппа исполнила свой самый аристократический балет – «Павильон Армиды», снискав этим расположение публики довоенного времени.
В 1911–1912 годы экспериментатор в натуре Дягилева безучастно наблюдал, в то время как барин, чтобы обеспечить триумф труппы, пытался привлечь на свою сторону самое консервативное учреждение Англии. В своем обзоре 1911 года «Опера в Англии» Фрэнсис Тэуи писал:
Я намеренно не стал упоминать Сезон большой оперы Ковент-Гарден, поскольку он стоит и всегда будет стоять особняком, – это совершенно экзотическое зрелище, дивный цветок, бережно выращенный для того, чтобы завладеть фантазиями небольшого числа богатых людей. Я не желаю вторить обычным насмешкам над владельцами лож, которые считают оперу местом, где прежде всего можно блеснуть лучшими нарядами и дорогими украшениями – это всегда было одной из функций столичного оперного театра; но бессмысленно полагать, что Ковент-Гарден в первую очередь нужна опера как искусство. Публика требует первоклассных певцов, но ее мало заботит, что именно они поют; Синдикат рассчитывает на прибыль, но совершенно не думает о том, каким путем она получена… На этом все заканчивается[785].
Публика Ковент-Гарден своим богом считала Пуччини. Верди находился среди ангелов высших чинов, Россини, Леонкавалло и Вольф-Феррари – в чинах пониже, но в 1911 и 1912 годах их произведения занимали основное место в репертуаре, что вызывало вспышки недовольства, куда менее умеренные, чем сдержанная критика Тэуи. Генри Хардиндж подстрекал Оскара Хаммерштайна, владельца недолго просуществовавшего и доступного по ценам Лондонского оперного театра, «выбросить все старые оперы и традиции, а в первую очередь – ужасные старые декорации, которые так бережно хранит Ковент-Гарден, и… обратить [свой] взгляд на восход новой оперной эры, которая началась с появлением [Гордона] Крэга»[786]. Весьма забавно, что Русский балет нашел своих ранних поклонников не среди приверженцев «нового искусства» или хотя бы горячих энтузиастов творчества Вагнера, но среди украшенных диадемами любительниц «второсортных итальянцев»[787].
И если даже критики и интеллигенты протестовали против такого положения вещей, высший свет был им вполне удовлетворен. В светской колонке газеты «Скетч» «Известная женщина», где регулярно сообщалось о событиях в Ковент-Гарден, говорилось:
Нас часто упрекают в том, что мы не музыкальны, а оперных артистов обвиняют в том, что они не показывают нам новых спектаклей, – истина же состоит в том, что наша Опера – отражение нас самих; мы сами не относимся к нашим музыкальным развлечениям серьезно… мы знаем спектакли, которые могут доставить нам удовольствие – обычно в качестве передышки между встречами в свете. Порой появляется новый спектакль, мы его обсуждаем и делаем выбор в его пользу – в качестве маленькой сенсации… Появился Русский балет, мы его увидели, он покорил нас, приехал вновь… Оперный Синдикат… пытался завлечь нас множеством новых постановок с великолепной репутацией, но лишь немногие спектакли получили наше одобрение[788].
Сложно представить себе более сильный контраст с дягилевской публикой, жаждавшей новизны.
«Совмещение функций оперного театра и светского общества» – эта характеристика, данная в той же газетной колонке, представляет нам общую картину дягилевской антрепризы в ее первоначальном лондонском обличье. Картина эта объясняет и молчание интеллигенции в прессе, которое едва ли прерывалось до великолепных дягилевских постановок Русской оперы в 1913–1914 годах, и столь же впечатляющие толки в светских еженедельных изданиях, переполненных рассказами о нарядах, прическах и украшениях владелиц лож, пребывающих в Лондоне во время балетного сезона[789]. Атмосфера привилегированной фривольности, сложившаяся вокруг труппы, была вызвана другим: рекламой вечерних туалетов от Пакен, вееров от Дювельруа, салона красоты «Валаз» мадам Рубинштейн и «пульмановских лимузинов» Остина в памятной программке Коронационного сезона[790]; а также – что было куда более прозаично – ценами на билеты, самыми высокими в Лондоне, из-за чего дягилевские пиршества оказались доступны лишь самому малому числу зрителей[791].
Мода также отражала благосклонное отношение общества к труппе. «С тех пор как в городе появились “Сумурун” и “Кисмет”, все ночи стали арабскими», – язвительно замечал в 1911 году ведущий одной из колонок газеты «Скетч», намекая на экзотические спектакли, наводнившие Уэст-Энд в период первых выступлений труппы Дягилева в Ковент-Гарден. Тем не менее новые яркие цветовые гаммы модных гостиных и тюрбаны, которые красовались на головах законодательниц стилей и вкусов, пришли от Бакста[792]. Его «Шехеразада» вдохновила организацию «Бала арабских ночей», который увенчал своим «восточным великолепием» конец осеннего дягилевского сезона 1911 года и который почтили своим присутствием четверо из виднейших покровителей труппы – миссис Марго Асквит (жена премьер-министра), герцогиня Сазерлендская, миссис Альфред Литтелтон и леди Хорнер[793]. В разгар сезона на Лондон обрушилась волна карнавальных представлений, породивших своего рода индустрию костюмов гурий и отделанной мехом крестьянской одежды и вызвавший наплыв живых картин на темы, связанные с балетом и роскошной жизнью. На Балу пантомимы в 1912 году миссис Асквит сияла в наряде «Русской народной сказки»; на маскарад под названием «Русский двор» на Версальском празднестве 1913 года супруга британского посла выписала платья из самого Петербурга; девушки из высшего общества, такие как леди Диана Маннерс – больше известная как Диана Купер, – надевали балетные туфли и учились походке «русских крестьянок», и вскоре на страницах «Инглиш ревью» появились пародии, высмеивающие их безоглядную преданность дягилевским образцам[794]. Воистину – именно благодаря моде звезда Дягилева оказалась в центре театрального и общественного небосклона.
Привилегированные слои, однако, имеют множество сторон, и в пестрой толпе, среди тюрбанов и накрахмаленных манишек, внимательный взгляд может выделить неуловимые различия в их чертах. Из светских колонок газет, из строк в обзорах, где перечислялось, кто посетил ту или иную премьеру, из опубликованных списков абонентов и из воспоминаний современников складывается вполне определенная картина дягилевской публики. «Мне приходят на ум три темы для разговора, – говорит Мартин девушке из светского общества в романе Вирджинии Вулф “Годы”, – скачки, Русский балет и… Ирландия»[795]. Обезоруживающе кратко писательница называет три главных вопроса, занимавшие умы королевского двора, светского общества и парламента – основы руководящих кругов и столпов дягилевской публики времен Георга V.
Парижская публика Дягилева не испытывала недостатка в титулах, однако в Ковент-Гарден на балетных спектаклях стали бывать даже члены королевской семьи. Многие годы клан многочисленных потомков королевы Виктории появлялся в королевской ложе, сообщая дягилевским постановкам отблеск роскоши Мариинского театра. Среди зрителей, списки которых исправно публиковала колонка «Таймс» «Придворный циркуляр», были сам король Георг, его ближайшие родственники, а также многочисленные немецкие, греческие и русские кузены. В лице королевы Александры, принцессы Баттенбергской, принцессы Луизы, герцогини Аргайльской, и португальского короля Мануэля «Русский Императорский балет», как Дягилев поначалу представил свою труппу в Англии, приобрел приверженцев королевских кровей. Все они, отмечалось в журнале «Дансинг таймс», были «постоянными посетителями Ковент-Гарден» зимой 1913 года, когда на балетных вечерах «едва ли можно было отыскать свободное место»[796]. Список абонентов трех сезонов Большой оперы и Русского балета, устроенных Бичемом в 1913–1914 годах, возглавлял недавно свергнутый король Мануэль, известная фигура в светских кругах. Среди прочих коронованных владельцев лож были великий князь Мекленбург-Стрелиц и сербский князь Павел, а на следующий год – принцесса Коннаутская и великий князь Михаил из России[797].
В условиях английской конституционной монархии королевская семья царствовала, но не правила. Впрочем, социальная элита, в действительности управлявшая страной, также была широко представлена в рядах дягилевской публики, образуя при этом своеобразное политическое общество – дополнение к обществу светскому. За рубежом, как писал в 1911 году журнал «Байстендер», «политика – это буржуа, средний класс… А здесь политика не может существовать без светского общества, так же как и свет без политики»[798]. В списках абонентов и опубликованных в прессе обзорах дягилевских событий содержится более сотни имен[799]. Многие из них хорошо известны; другие можно обнаружить только в телеграфно-лаконичных заметках Who’s who. Все вместе эти имена образуют довольно полный список представителей элиты, которые в течение тридцати пяти предшествовавших лет руководили Британией и определяли ее влияние за рубежом.
В более поздние годы редко случалось, чтобы публика какого-либо культурного феномена настолько напоминала своим видом правительственный клуб. Даже в лучшие дни правления администрации Кеннеди, когда интеллектуалы благоприятствовали развитию искусства, сколько человек из кабинета министров или из конгресса, сколько высших должностных лиц или ветеранов войны проводило вечер за вечером в компании муз? С 1911 по 1914 год, напротив, из одних только министров на дягилевских событиях часто бывали премьер-министр Герберт Асквит; маркиз Рипон, лорд – хранитель малой государственной печати; Д. Ллойд Джордж, канцлер казначейства; Уинстон Черчилль, первый лорд адмиралтейства; Уолтер Рансимен, председатель Министерства сельского хозяйства; сэр Руфус Айзекс, генеральный атторней[800]. (Бывали и представители предыдущего кабинета министров партии тори – граф Плимутский, маркиз Лондондерри и Артур Джеймс Бальфур.) В равной степени официальную атмосферу на этих собраниях создавали полномочные послы и прочие дипломаты, а также другие официальные лица высокого ранга: маркиз Дюфферен, главный секретарь Министерства внутренних дел; сэр Чарльз Мэтьюз, директор государственного обвинения; лорд Мерси, уполномоченный по расследованию катастрофы «Титаника»; лорд Мюррей, парламентский секретарь казначейства, контролер дворцового хозяйства Его Величества и ответственный секретарь шотландской Либеральной партии в парламенте. А среди таких, как лорд Бересфорд, майор Джон Бринтон, сэр Джон Френч, граф Минто и сэр Джордж Уоррендер – ветераны Хартума, Индии, Турции и Южной Африки, – можно обнаружить еще и защитников и администраторов правительства королевы Виктории в колониях[801].
Безусловно, не все постоянные посетители дягилевских представлений принадлежали к столь высоким политическим кругам. Часть происходила из крупных банкирских и промышленных кланов, на которых преимущественно держались промышленность и финансовая система Англии конца XIX века. Эти знаменитые династии – Ротшильды, Бэринги, Беренсы, Коутсы, Кунарды, Спейеры, Монды, Нойманны, Пето, Ноблы, Сассуны, Шустеры и Стерны, – к которым присоединились также газетные магнаты Нортклифф и Астор вместе с титулованными американскими миллионершами. Они привнесли в атмосферу первых дягилевских вечеров нотку коммерции, веяние Сити – в особенности небольшого, проживавшего там еврейского контингента. Но этот дух был заметно смягчен частными привилегированными школами, загородными домами и выходами в свет, которые составляли главные принадлежности стиля жизни высших слоев общества. А в титулах и инициалах, которые добавились к именам потомков тех, кто изначально присутствовал при строительстве империи, запечатлелась хроника перехода этих кланов от занятия предпринимательством к благородным профессиям политических деятелей, юристов и военнослужащих.
Дягилеву, безусловно, не хватало приверженцев в среде юнионистов, как называли себя члены партии консерваторов, выражавшие тем самым свою оппозицию по отношению к независимости Ирландии. Однако с переездом труппы летом 1913 года в Королевский театр Друри-Лейн число представителей Либеральной партии в списках посетителей его первых вечеров значительно возросло. Конкурирующий «Большой сезон» в Ковент-Гарден был, напротив, оплотом консерватизма. «Среди трех или четырех сотен имен, входящих в первый список владельцев лож [в Ковент-Гарден], – отмечала в апреле 1914 года газета “Скетч”, – лорд Креве и мистер Уолтер Рансимен – единственные представители либералов»[802]. В то время как либералы выказывали свою приверженность антрепризе Бичема – Дягилева, король и королева оставались преданными Ковент-Гарден. К 1914 году близкая к королевским кругам часть дягилевской публики значительно сократилась, и изо всей королевской семьи лишь принцесса Ройяль и принцесса Мод осмеливались появляться в театре на Друри-Лейн[803]. Поскольку антреприза Дягилева, получившая известность благодаря своим связям с Бичемом, все больше и больше принимала форму коммерческого предприятия, она превратилась, если можно так сказать, в культурное расширение партии, к которой принадлежали городские власти, интеллигенция и промышленники.
Список гостей, побывавших в резиденции на Даунинг-стрит на приеме, который дал премьер-министр Асквит в 1914 году[804], дает совершенно ясное представление об основе дягилевской либеральной публики: основа эта была ни много ни мало «наследницей» общественной группы 1880-х, известной под названием «Души» (Souls). В этой группе, куда входили представители семейств Асквит, Бальфур, Теннант, Черчилль, Хорнер, Три, Маннерс, Чартерис, Литтелтон, Рипон, Гренфелл, Ротшильд и Каст, можно увидеть все тот же замысловатый рисунок – переплетение дружеских, семейных и политических связей, ту же смесь духовного подъема, моды и искусства, которая отличала дягилевскую публику. В этой группе был свой поэт (Джордж Уиндхем) и свои дамы высокой культуры: леди де Грей (маркиза Рипон), посвятившая себя опере; леди Хорнер, у чьих ног были Рёскин и Бёрн Джонс; леди Грэнби (герцогиня Рутлендская), которая занималась живописью и ваянием; а также леди Три, которая после театральных представлений устраивала званые ужины, отличавшиеся особым богемным шармом[805].
Все четыре дамы были подписчицами абонемента сезонов Бичема, и по меньшей мере две из них принимали Дягилева с его танцовщиками в своих домах. Наряду с леди Кунард, неустанно пропагандировавшей Бичема и его антрепризы (как писал Осберт Ситуэлл, казалось, нет предела количеству лож, которые она могла бы заполнить[806]) из своего дома на Кавендиш-Сквер, снимаемого ею у мистера Асквита, все они вплетали черты либеральной политики, моды, аристократии и искусства в особый узор дягилевской публики. «Душевные» дети пошли по стопам своих матерей, и в светских колонках газет среди посетителей дягилевских вечеров часто упоминались леди Джульет Дафф (дочь маркизы Рипон), леди Диана Маннерс, леди Марджори Маннерс и леди Виолет Чартерис (дочери герцогини Рутлендской), мисс Айрис Три и миссис Алан Парсонс (дочери леди Три) и прочие. Эти молодые особы, известные как «Общество испорченных» (Corrupt Côterie), привлекли в свой круг и других приближенных Дягилева – Нэнси Кунард и князя Феликса Юсупова, который в то время был студентом в Оксфорде. Из их группы вышли самые заметные из «ярких юных созданий» двадцатых годов. Но, как и множество тех, кто находил удовольствие в георгианском времени упадка, эти юные законодательницы вкуса не проявляли большого интереса к новому искусству, рождавшемуся в то время в Кенсингтоне или на Монмартре. Вкусы их решительно зависели от прошлого. «В нашем кругу, – впоследствии писала Диана Купер (урожденная леди Диана Маннерс), – слышался отзвук “Желтой книги” и Обри Бердслея, Эрнеста Доусона, Бодлера и Макса Бирбома. Часто читали Суинберна. Предметом нашей гордости было то, что мы не боялись слов, не дружили со спиртным и не были опозорены клеймом “декаданса”»[807].
«Души» были не единственной связью, которая существовала между дягилевской публикой и эпохой fin de siècle. Миссис Чарльз Хантер, излюбленная модель Сарджента и владелица лож на всех трех сезонах Бичема, «представляла собой, – писал Осберт Ситуэлл, – эдвардианское поколение, хозяйку салона времен короля Эдварда in excelsis». «Она принадлежала, – добавлял он, – к миру тех… кто “приходит на званые обеды ради искусства”»[808]. Сэр Эрнест Кассель, сэр Филипп Сассун и миссис Джордж Кеппель – все они в прошлом были приближенными Эдварда VII и участниками бичемовского абонемента – представляли наиболее яркую сторону 1890-х. Дягилев, Нижинский и Карсавина часто обедали в доме миссис Кеппель на Гросвенор-стрит, а однажды ее большая гостиная даже служила репетиционным залом. Этажом выше, в студии, задрапированной покрывалами в духе Бакста, ее дочь Виолет (будущая возлюбленная Виты Саквилль-Вест) принимала леди Джульет Дафф и представительницу младшего поколения Алингтонов: леди Алингтон также принимала участие в дягилевских событиях в качестве владелицы лож и хозяйки салона. В 1912 году мать Виты, леди Саквилль, приобрела две работы Бакста: написанную маслом «Шехеразаду» для себя самой и эскиз «Клеопатры» для дочери[809].
Среди лондонской публики Дягилева было немало коллекционеров. Но ни герцог Манчестерский, ни герцог Рутлендский, равно как и граф Килмори, граф Крейвенский, виконт Масеррена и Феррарда, которые вместе с усадьбами своих предков получили в наследство бесценные галереи старых мастеров, не были знатоками модерна. Это же можно сказать и о брате Марго Асквит, лорде Гленконнере, в чьей «прекрасной… картинной галерее» на улице Ворот королевы Анны хранились шедевры Рейнолдса, Ромни, Фрагонара и Ватто[810]. Если миллионерша американского происхождения миссис Брэдли Мартин, чья дочь благодаря свадьбе с графом Крейвенским получила во владение коллекцию Кумби, в 1911-м показывала пришедшим на обед гостям выступление божественной Карсавиной, то маркиза Рипон заказывала портреты звезд дягилевской труппы Джону Сингеру Сардженту, а Сакстон Нобл, который часто появлялся в гримерной у Карсавиной, заказал Хосе-Марии Серту серию настенных картин – эти акты покровительства сами по себе были предательством того внутреннего консерватизма, который был так им свойствен[811]. Летом 1914 года футуристы дерзнули появиться в залах галереи Доре и в Колизеуме. У Бичема, однако, правили влиятельные художественные круги: кураторы и члены правления ведущих музеев Англии, признанные издатели и писатели, а также художники, чье творчество никоим образом не посягало на каноны хорошего вкуса[812].
Само присутствие этих художников (кроме Сарджента) в списках абонентов 1914 года говорит тем не менее об изменениях в характере дягилевской публики. Впервые во всем великолепии светского общества промелькнула творческая искра, стало заметным присутствие профессионалов: среди них были драматурги Клиффорд Бэкс и Альфред Сутро, писатель Сомерсет Моэм, лорд Говард де Уолден, автор опер «Дети Дона» и «Дилан», господин Монтэг Натан, незадолго до этого опубликовавший первую из ряда своих работ о русской музыке. Обзоры, светские колонки и мемуары добавляют новые детали к этой пестрой ткани: фотограф барон де Мейер, оперные суперзвезды Нелли Мельба, Энрико Карузо и Луиза Терразини, троица Ситуэллов, Мюриэль Драпер, которая вместе с мужем Полем была «другом и ангелом-хранителем всех приезжавших из-за рубежа музыкантов», а также Джордж Бернард Шоу, который пылко выступил в защиту «Легенды об Иосифе» в письме к издателю газеты «Нэйшн»[813].
Безусловно, русские танцовщики Дягилева уже давно увлекали братьев Ситуэлл, и в предыдущие сезоны среди последователей Дягилева уже были леди Констанс Стюарт-Ричардсон, танцевавшая в стиле Дункан, и актрисы Эллен Терри и миссис Патрик Кэмпбелл. Но можно с легкостью найти доводы и в пользу того, что в не меньшей мере, чем искусство, в Ковент-Гарден их направляло само светское общество: юные поэты и леди Констанс родились в его кругах, а миссис Кэмпбелл попала в свет, выйдя замуж за представителя аристократии[814]. В 1914 году, напротив, впервые можно было прочесть о том, что «серьезные любители музыки» «десятками, сотнями, возможно, даже тысячами» стекались в театр на Друри-Лейн[815]. Примечательно, что всю эту «серьезную» публику к антрепризе Дягилева более привлекала опера, а не балет.
Карьера Дягилева в качестве оперного продюсера так и остается незаполненной страницей в лондонской истории его труппы. Исследователи балета порой упоминают о ней, но она не становится предметом обсуждения, и уж точно они не рассматривают вопрос о том, что она послужила образцом для организации отдельных сезонов, и о том, как она повлияла на ожидания публики. Еще с тех времен, когда зимой 1913 года Бичем приступил к организации независимых программ, опера постепенно захватила ту центральную роль в дягилевских представлениях, которую раньше играл танец. К началу 1914 года, когда прошел слух о том, что сэр Джозеф Бичем «приобрел нечто вроде постоянной заинтересованности в труппе господина Дягилева»[816], Терпсихора грелась в лучах славы, окружавшей оперу.
«Главная цель весеннего сезона, который затеял мистер Томас Бичем в Ковент-Гарден, – писала “Таймс” 30 января 1913 года, – была достигнута вчера вечером на открытии, в рамках которого была показана – впервые в Англии – опера Штрауса “Кавалер розы”»[817]. Эта опера – третья за многие годы опера Штрауса, выдержавшая премьеру под просветительским руководством известного нам дирижера, – была исполнена в сезоне не менее восьми раз, а вместе с тремя показами «Электры» и четырьмя исполнениями «Саломеи» она превратила этот «Сезон большой оперы и русского балета» в своеобразную дань венскому композитору[818].
Из тридцати шести выступлений, прошедших в течение сезона, меньше половины были посвящены исключительно балету, а из них на новой территории был показан только «Послеполуденный отдых фавна» Нижинского. «Петрушка», отмечала «Таймс», был «очень доброжелательно встречен» публикой на первом показе: его «богатые краски и звенящая живость», столь «освежающе новые и освежающе русские»[819], помещали этот балет в ряд дягилевских блистательных экзотических полотен. С «Фавном», однако, дело обстояло иначе. В этом спектакле изысканные греческие декорации Бакста располагали зрителя к созерцанию, а хореография Нижинского звала его в тайный мир пробуждающегося желания и уединенного наслаждения, однако проникнуть туда ему не помогли ни обаяние, ни виртуозность танцовщика. Отказавшись от экзотики, той условности, которая делала страсть, изображаемую в «Шехеразаде», «Тамаре» или «Клеопатре», волнующей и, одновременно, безобидной в отношении морали, Нижинский сорвал с изображения сексуальности покрывало ритуальной фантазии. Во Франции эта постановка принесла Дягилеву один из самых крупных его скандальных успехов. В Англии же публика вежливо аплодировала, уничижительно кудахтала, а на следующий вечер отправлялась на «Саломею» или «Кавалера розы», где далекое от реальности место действия и высокопарность жестов надежно упрятывали весь эротизм в пределы театральной фантазии.
«Кавалер розы» более, чем все остальные постановки, показанные в течение этого сезона, соответствовал духу публики Бичема – Дягилева, столь космополитической по своим развлечениям и столь буржуазной по вкусам. Под знаменитый вальс «проходил каждый танец, – писал Осберт Ситуэлл, – и если в наше время я вдруг услышу его ритм, то мир вновь на мгновение наполнится множеством довольных собой молодых людей, которых уже давно не существует…»[820] Его слова подтверждают «любопытную черту», которую подметил музыкальный критик Эрнест Ньюман после премьеры «Электры» в 1910 году: «…если многих видных музыкантов… произведение приводит в уныние, то в целом публика полна энтузиазма»: это явление он объяснял, в частности, большим числом «приятных и… банальных» мелодий в языке композитора, который считался «развитым и сложным»[821]. В 1914 году «Кавалером розы» открылся самый амбициозный бичемовский сезон – «Большой сезон немецкой, русской, английской оперы и русского балета» в Друри-Лейн. Благодаря еще одному из множества иронических стечений обстоятельств, которые так причудливо смешивают историю искусства с историей антрепризы, опера, несущая в себе критику буржуазного карьеризма и практицизма, стала талисманом антрепризы, в чьей основе было и то и другое.
Штраус в сезоне 1914 года присутствовал и в иных формах. Его «Легенда об Иосифе» стала ядром новых дягилевских хореографических подношений: она связывала балетную часть программы не только с «Кавалером розы», но и со служившей Штраусу образцом «Волшебной флейтой», написанной в XVIII веке, – будучи в то время практически неизвестной в Лондоне, опера Моцарта стала главным событием сезона[822].
Имена Штрауса и прочих немцев, которые фигурировали в репертуаре Бичема, тем не менее не объясняют заметного изменения в составе публики 1914 года, что вновь и вновь отмечают критики того времени. Та сила, которая создавала иллюзию единства английской публики, не сводилась ни к Штраусу, ни даже к триумвирату Павлова – Нижинский – Карсавина, кумиров, стоящих на главном месте в воспоминаниях о первых дягилевских завоеваниях. Причина кроется скорее в величественной фигуре Федора Шаляпина, который в ролях Бориса Годунова, Ивана Грозного и других эпических героев русской оперы демонстрировал искусство и репертуар, совершенно незнакомые Лондону. «Кто сможет забыть лицо Шаляпина в роли Кончака в “Князе Игоре”?» – вопрошал в 1916 году Уильям Батлер Йейтс[823]. Наверняка немногие. «В истории большой оперы в Англии, – писал обозреватель газеты “Скетч”, подводя итог своим впечатлениям от бичемовского “Сезона русской оперы и балета”, – лето 1913 года будет запечатлено как annus mirabilis[824]»[825].
Ошеломляющий успех «Бориса Годунова», «Хованщины» и «Князя Игоря» в 1913 году не просто разжег у зрителей интерес к русской опере. Он существенно изменил курс дягилевской антрепризы, направив ее от хореографических экспериментов в более спокойные воды – к оперным постановкам. Исследователи балета обычно относили холодность лондонской публики по отношению к «Играм» и «Весне священной» на счет британской закоснелости и консерватизма. Мнения такого рода совершенно не учитывают тот безграничный энтузиазм, с которым публика встретила оперные постановки Дягилева, и то, в какой степени контраст между двумя главными лицами в репертуаре повлиял на восприятие зрителями новой хореографии Нижинского. Один обозреватель писал:
О балетах можно сказать лишь немногое: они сохраняют свою привлекательность и исполняются с большим мастерством и энтузиазмом. От чего они страдают… так это от того, что эти балеты не способны произвести впечатление, сравнимое с впечатлением от оперы. Мусоргский и Римский-Корсаков в исполнении г-на Шаляпина и его… соотечественников создали у публики такое глубокое впечатление, что все остальное, даже очень хорошее, отходит на второй план[826].
Этому критику еще стоило увидеть «Весну священную». Но даже «дикий», «отвратительный» балет Нижинского, столь жестокий в своем отсутствии «изящества» и далекий от «красоты» и «очарования»[827], не мог стереть необыкновенное впечатление, оставленное «Борисом». По просьбам зрителей в программу был включен дополнительный показ этой оперы, а обозреватели все энергичней упражнялись в красноречии, восхваляя вокал и драматический дар Шаляпина, убедительность хора, актерская игра которого превосходила все существовавшее в то время на сцене, а также реализм, который в сочинении Мусоргского порывал с романтическими оперными условностями. В довершение всего, критики возвещали восход новой звезды в истории оперной сцены. «Мы живем в эпоху перемен; старые условности исчезают одна за другой… Долгое время все шло к революции, и может быть, именно этот небольшой сезон русской оперы в Друри-Лейн займет свое определенное место в анналах оперной истории»[828]. Забавно, что у руля революции, так сильно потрясшей лондонский театральный мир в 1913 году, стоял скорее Мусоргский, чем Стравинский.
Дягилева такая ситуация отнюдь не смущала. В 1914 году он охотно пожертвовал репертуаром Нижинского и, вооружившись миллионами сэра Джозефа Бичема в качестве гарантии, обрушил на Лондон целое нагромождение оперной роскоши: постановки «Князя Игоря», «Майской ночи», «Соловья», «Золотого петушка», «Бориса Годунова», «Хованщины», «Ивана Грозного». «На следующей неделе, как и сейчас, когда я пишу эти строки, – отмечал 17 июня один обозреватель, – Друри-Лейн объявит монополию на внимание зрителей – не потому, что Ковент-Гарден не удается показывать хорошие оперы в большом зале, а потому, что Друри-Лейн демонстрирует новые постановки одну за другой. Любители оперы еще никогда не видели такой роскоши, а ведь кроме оперы, там есть еще и балет»[829].
Поскольку среди новинок сезона числились «Мидас», «Бабочки», «Дафнис и Хлоя» и «Легенда об Иосифе», неудивительно, что балет оказывался на втором месте. «Таймс» объявила постановку «Мидаса» неудачей:
Во всем балете виден дешевый шик: в музыке, декорациях, группах, позах и танцах фавнов, нимф и сатиров, в перегруженных костюмах Аполлона и судей… в недостаточных, или по меньшей мере скромных костюмах горных божеств и нимф – все это рассчитано на эффект весьма сомнительного толка. Впервые кордебалет, пусть даже в нем заняты Карсавина и Больм, кажется сбитым с толку предоставленным материалом. Даже они неспособны завуалировать то, что постановка лишена всякого эмоционального импульса[830].
«Бабочки», оформленные по следам «Карнавала» в стиле бидермейер, несли в себе определенный шарм. Но, как и в «Дафнисе и Хлое», а также в долгожданной «Легенде об Иосифе», недостаток образности в этом балете должен был быть заполнен музыкой (то была блистательная партитура Роберта Шумана) и визуальными эффектами (викторианскими костюмами Бакста и декорациями Мстислава Добужинского). Драматическое и хореографическое действие в «Дафнисе» на фоне звучности равелевской музыки казалось довольно непоследовательным. «Красота сцен, – писала “Таймс”, – позы греческих фигур в группах, похожие на них танцы отдельных исполнителей, массы юношей и девушек и массы пиратов как будто выступают частями некоей схемы и служат прежде всего иллюстрациями к симфонической поэме, которую играет оркестр». Другой критик отмечал бедность фантазии, которая сводила всю фокинскую хореографию «почти к однотонности»[831].
Среди новых постановок этого сезона эстетический недуг Русского балета наиболее ярко проявился в «Легенде об Иосифе». В этом балете Дягилев собрал вместе величайших законодателей театральной моды той поры: Штрауса, либреттистов Гуго фон Гофмансталя и графа Гарри Кесслера, Бакста и Хосе-Марию Серта, которые соответственно создали костюмы и декорации, и хореографа Фокина. Результат, писала «Таймс», представлял собой «образец необыкновенного мастерства», который жертвовал развитием драматического действия и метафизическим контрастом во имя достижения зрелищности. Штраус дирижировал премьерой перед «залом, заполненным до предела»[832], и среди представителей модной толпы вальсирующих в бальных залах под «Кавалера розы», у кого в шкафах висели «фантазии» Бакста в виде модных платьев[833], а на стенах – работы Серта, можно было обнаружить идеальных потребителей дягилевского иллюзорного продукта. А как еще можно описать мечту этого «маркетолога»? «Легенда об Иосифе», со всеми ее знаменитыми именами и испытанными приемами, воплотилась в жизнь не как результат истинного художественного импульса, а как «концепция». Теперь совместное творчество было уделом бизнеса, а балетный бизнес состоял, очевидно, в создании и продвижении зрелищных, пригодных для продажи товаров.
Всегда сложно установить, в какой степени соображения финансового порядка в деятельности антрепризы перевешивали соображения художественные. Но складывается впечатление, что к 1914 году наличие долгов и щедрость Бичема склонили Дягилева к работе в направлении оперы, в то же самое время вынуждая его создавать такие постановки, для которых рынок уже существовал. Первое утверждение, касающееся оперы, относится к репертуару в целом; второе – к эффектам «шока и цвета», которые в новых постановках приобрели первостепенную важность. Театральный критик «Инглиш ревью» имел в виду именно это, осуждая последние спектакли труппы за «парижскую манерность» и «семитскую пышность»: эта «попытка… удивить» в итоге привела к появлению таких постановок, как «Соловей», «скомканный и болезненно перенасыщенный необычностями». Ни в одном из новых балетов не чувствовалось «трепета “Клеопатры” или ярости… “Шехеразады”», только «византийство, искусство, которое движется на ощупь, не имея стандартов», опасаясь «саморазрушения»:
Этот спектакль свергает танец с его пьедестала; музыка разрушает естественные человеческие движения. Очень хотелось бы знать, что сказал балетмейстер, когда ему принесли партитуру, и о чем подумали композиторы, увидев этот балет – такой же дисгармоничный, какими порой кажутся их произведения и все те какофонии и музыкальные шероховатости, которые их так вдохновляют[834].
Поскольку рыночные ценности привели к истощению изобретательной силы, необходимой для создания балетов, Лондон наслаждался эстетической жизненностью другого вида искусства, который был первой любовью Дягилева. «Друри-Лейн под управлением Бичема создал историю оперы, – писала газета “Скетч”[835], – и даже сегодня отзывы о “Князе Игоре”, “Хованщине”, “Борисе Годунове”, “Золотом петушке”, “Иване Грозном”, “Майской ночи” и “Соловье” все так же полны восхищения». Теперь именно в опере содержалось все то, что раньше давало жизнь Русскому балету: славянская сила, чувство общности и глубокая вера в значимость искусства. «Инглиш ревью» заключал:
Русская опера не подпала под влияние Рейнхардта или Мюнхена. Сложно представить что-то более изысканное, чем хоральный марш в «Иване Грозном» или актерская игра и пение толпы в «Борисе Годунове». Все это, как и Шаляпин, – русское безо всяких примесей, чистое, как русская степь, как порыв ветра из самой сути русской души. Поэтому Друри-Лейн стал для жителей Лондона настоящей Меккой[836].
Парадоксально, что человек, который явился из самых глубин России, который финансировал Горького и эсеров получаемыми от своих выступлений банкнотами, подлежавшими возмещению золотом, неплохо устроился в лоне светского общества. Шаляпину посвятила себя леди Диана Маннерс, как и другие безнадежно влюбленные леди, и никто не жаловался на высокую цену билетов на спектакли с его участием. К началу 1914 года гости, не являвшиеся на прием из-за того, что в последнюю минуту их соблазнили приглашением «на Шаляпина», стали настоящим бедствием для многих хозяек модных салонов[837].
«Лейн» стал в это время настоящим grand chic. Вечер за вечером его зал заполняла толпа искателей развлечений, которые «как правило, не были постоянными посетителями музыкальных мероприятий»[838]. Их нелицеприятное поведение – опоздания, выходы из зала до конца спектакля, громкие разговоры и постоянное щебетание – сильно раздражало слушателей, которые затем отводили душу, строча письма в редакцию «Таймс»[839]. «Очередной страдалец» жаловался на то, «как мешают разговоры на спектаклях русской оперы»:
Вчера вечером я сидел в партере на представлении «Золотого петушка» и «Нарцисса», и вокруг меня без конца шли разговоры. Необычный юмор первого балета… вызывал такие взрывы смеха и такие комментарии, как будто показывали арлекинаду… а большую часть прекрасной музыки «Нарцисса» невозможно было расслышать. Когда же у людей, которые ходят в оперу поговорить, появится хоть какое-нибудь уважение к тем, кто пришел послушать музыку?[840]
Зрители, гнавшиеся за громкими именами, существенно расширили публику Бичема, поэтому, несмотря на конкуренцию с Ковент-Гарден, где на сцене царствовали Карузо и Мельба, в Друри-Лейн почти не было пустых мест. Однако новые лица появились не только в партере. Впервые балконы перестали быть обезличенными и представляли собой зрелище, «не менее поразительное», чем сцена, где выступала дягилевская труппа. «Инглиш ревью» писал:
Люди поднимаются наверх, чтобы посмотреть на них, сомбреро в духе Генри Артура Джонса, египетские прически дам, жилетки поэтов, бакенбарды а-ля «Кафе Ройяль», шали и кудри – ежевечерний калейдоскоп «творцов» из рядов вортицистов, словно бы только «та-ра-ра-бум-би-я» когда-либо удавалось привлечь в театр британскую публику[841].
Сложно понять, кто именно был среди этой пестрой толпы, но в верхних рядах зрительного зала созданному сэром Джозефом альянсу коммерции и искусства аплодировали громче и дольше всего. 24 июля, когда Шаляпин спел своего последнего великолепного «Бориса», на балконах толпилась целая тысяча человек, и многие из них, как отмечала «Таймс», «ожидали своих мест с раннего утра»[842]. Овация сменялась овацией. Даже когда партер и бельэтаж опустели, с галерки по-прежнему летели цветы и слышались аплодисменты в адрес Шаляпина и сэра Джозефа. На следующий вечер, когда закрытие занавеса после показа «Легенды об Иосифе», «Карнавала» и «Бабочек» ознаменовало конец довоенной дягилевской антрепризы, сэр Джозеф вновь вышел к зрителям – на этот раз затем, чтобы принять от танцовщиков позолоченный лавровый венок и поблагодарить зрителей верхних ярусов за венок, который ему послали днем раньше. Он также пообещал, что будет и еще один сезон[843]. Каким скромным кажется Дягилев, ко всему этому приложивший руку и нигде не показавший своего лица, на фоне своего достижения, под которым стояло лишь имя мецената! Пострадало ли его эго, приведшее его из Перми в Петербург, а затем в Париж, от подобной анонимности? Были ли у него гложущее чувство зависти и страх, что он утратил лидерство? Здесь, как и в огромном множестве случаев, когда нам было бы угодно исследовать двигавшие Дягилевым мотивы, его личность, стоящая за публичной фигурой, остается непостижимой.
Антреприза Бичема – Дягилева 1914 года ощутимо расширила состав оперной публики. При этом она заложила основу для относительно демократичной аудитории, которая и ныне поддерживает две труппы, существующие в столице Англии. Начинания Бичема в эти предвоенные годы служили тому, чтобы не просто усовершенствовать стиль и повысить качество представлений в Ковент-Гарден, а еще и преобразовать характер публики: объединить любителей музыки, представителей высшего света, завсегдатаев театров и ограниченных в средствах энтузиастов искусства в единую публику, более приспособленную к общественному строю британского среднего класса. Ни провинциальным труппам, которые приезжали по большей части с краткими и нерегулярными сезонами, ни Ковент-Гарден, который работал исключительно в угоду высшему свету, не удавалось произвести необходимые для этого общественные и художественные изменения. Бичем был способен на это, и лишь отчасти благодаря своей семейной фармацевтической империи. Союз с Дягилевым, открытие Шаляпина и русского оперного театра помогли Бичему найти того артиста и тот репертуар, притягательность которых была выше классовых и вкусовых различий. Усовершенствовав программу и значительно расширив свою публику, Бичем заложил фундамент английской национальной оперы. В 1920-е годы Дягилев окажет подобную услугу английскому балету.
С 1911 по 1914 год публика Дягилева продемонстрировала все стороны английских привилегированных, правящих кругов. Балет стал видом времяпрепровождения, модного и легкомысленного, и в том, что хореографическое искусство еще более удалилось от тех сфер жизни, которые могли быть темой для высокоинтеллектуальной беседы, прежде всего была заслуга его публики. Тем не менее писатели, художники и представители интеллигенции не избегали выступлений Русского балета. Многие появлялись на дягилевских спектаклях регулярно и даже часто, хотя немногие их обстоятельно описывали, и еще более немногие признавались в том, какой след эти спектакли оставляли в их воображении. Однако присутствие этих людей никоим образом не влияло на общий характер публики. В действительности обычаи, свойственные общественному окружению, где существовал этот кружок критиков, писателей и художников (известный как группа Блумсбери), объединяли даже самых преданных его последователей с обществом его приверженцев из высшего света.
В автобиографической книге «Начиная заново» Леонард Вулф вспоминал восторг, который испытал по возвращении в Лондон в 1911 году после семи лет гражданской службы в тихой колонии на Цейлоне:
Повсюду были заметные изменения… Фрейд, Резерфорд и Эйнштейн работали над тем, чтобы произвести революцию в нашем знании и во Вселенной… В литературе, казалось, было угрожающее затишье, обещавшее бурю – ту бурю, которая через несколько лет должна произвести на свет «В поисках утраченного времени», «Улисса», «Пруфрока» и «Бесплодную землю», «Комнату Джейкоба» и «Миссис Дэллоуэй». В живописи был самый разгар революции, осуществленной Сезанном, Матиссом и Пикассо… В довершение всего, вечер за вечером мы собирались в Ковент-Гарден, зачарованные новым искусством, которое было откровением для нас, невежественных британцев, – Русским балетом в лучшие годы Дягилева и Нижинского[844].
Вновь и вновь упоминания о русских артистах дягилевской труппы встречаются в описании «калейдоскопического сна» первых шести месяцев, проведенных Вулфом в Лондоне. В Ковент-Гарден «дружба прежних лет соединилась с прелестями лондонской жизни»[845]; здесь собирался кружок Блумсбери, и под мелодии Шумана и Римского-Корсакова душа наполнялась романтикой:
Русский балет на время стал в Лондоне центром интересов как светской публики, так и интеллигенции… каждый вечер можно было пойти в Ковент-Гарден и встретить… людей, которых любишь больше всего на свете, не менее растроганных и восхищенных, чем ты. За всю мою долгую жизнь в Лондоне это был единственный пример, который я могу припомнить, чтобы интеллигенты каждый вечер шли в театр, на оперу, на концерт или другое представление, как это бывало, думается мне, в Байрейте или в Париже[846].
Осенью 1911 года Ковент-Гарден привлекал зрителей не только показами «Шехеразады», «Карнавала» и «Лебединого озера». В этом сезоне русский балет чередовался с операми вагнеровского «Кольца Нибелунга», и в октябре Вулф приобрел место в ложе на «Золото Рейна», «Зигфрида», «Гибель богов» и «Валькирию». Рядом с ним сидели Руперт Брук, Адриан и Вирджиния Стивен, а также Саксон Сидни-Тёрнер, вагнерианец в рядах Блумсбери. Как это произошло с респектабельной публикой Дягилева и его приверженцами среди признанных писателей[847], опера привела группу Блумсбери и к балету.
Несмотря на то что Квентин Белл, биограф Вирджинии Вулф, преуменьшает увлечение писательницы творчеством Маэстро из Байрейта, она все же разделяла моду на Вагнера, которая так сбивала с толку, по мнению Леонарда, «зрителей Русского балета»[848]. В мае 1908 года она «настолько ужасно пристрастилась к опере и немецкому языку», что у нее едва бы нашелся свободный вечер, чтобы прийти на чай к Литтону Стрэчи. В феврале следующего года некий мистер Илчестер послал ей билет на «вагнеровскую оперу», и несколько дней спустя она вернулась «наполовину немой», проведя «целых шесть часов» на очередном спектакле. В августе 1909 года вместе с братом Адрианом она совершила путешествие к вагнеровской святыне – в Байрейт[849]. Лишь в 1913 году действие одолевавших ее чар рассеялось. «Мы приехали сюда десять дней назад, чтобы посмотреть “Кольцо”, – писала она Катерине Кокс 16 мая 1913 года, – и я могу заявить, что никогда больше на него не пойду… Мои глаза и уши утомлены, мозг будто расплавился… О тот грохот, тот пыл и та кричащая сентиментальность, которые прежде увлекали меня, а теперь оставляют меня совершенно равнодушной! Кажется, что все уже пришли к подобному мнению, но многие притворяются, что все еще в это верят»[850].
В Ковент-Гарден молодую писательницу привлекали совершенно другие оперные мастера. В 1909 году ее брат Адриан отмечал, что в течение полутора месяцев она дважды была на «Дон Жуане», дважды на «Луизе», на премьере «Предателей», на «Аиде», «Орфее и Эвридике», «Мадам Баттерфляй» и на «Фаусте»[851]. Тем же летом она нанесла визит в Колизеум на выступление труппы русских танцовщиков во главе с Карсавиной – ее приход стал предвестием богатой публики, которую Дягилев привел в Ковент-Гарден двумя годами позже. В 1911, 1912 и 1913 годах балет придал новое своеобразие радостям «зрелища» и «общественного события», которые связывались у писательницы с походами в оперу. Ее погружение в творчество Вагнера сменилось громким аккордом русской музыки, и 6 ноября 1911 года она пригласила Литтона Стрэчи посмотреть «на танцовщиков» – на вечер, где были показаны «Павильон Армиды», «Шопениана» и «Карнавал», все с участием Павловой. Билеты были «в этот раз только в амфитеатр, – писала она, – но когда они будут исполнять что-то другое, пойдем в партер». Следующее приглашение было на двадцать первое число: в программе вновь были «Павильон Армиды» и «Карнавал», на этот раз с Матильдой Кшесинской, и «Шехеразада» – без сомнения, составлявшая ту причину, по которой Вулф «надеялась добыть места в партере»[852]. 1912 и 1913 годы были полны событий, но, несмотря на свадебные приготовления, обязательства и болезнь, Вулф все же удавалось находить время для походов в Ковент-Гарден и Друри-Лейн[853].
Группа Блумсбери действительно «присутствовала» при ряде важных балетных событий: «прыжок Нижинского в “Видении Розы”, первое лондонское представление “Весны священной”, падающий занавес в “Шехеразаде” и сцена, открывшаяся, когда он был поднят» – вот главные моменты, о которых вспоминал сорок лет спустя Эдвард Морган Форстер, близкий знакомый членов кружка[854]. В 1911 году один только Руперт Брук посмотрел не менее пятнадцати спектаклей. «Все лето, – писал он в сентябре, – я то смотрел Русский балет в Ковент-Гарден, то писал сонеты на лужайке» в Кембридже. Балет вновь появился среди его времяпрепровождений в феврале и марте 1913 года, а на следующий год он побывал на премьерах «Соловья» и «Легенды об Иосифе», а также на «Золотом петушке», где и произошел его окончательный разрыв с Литтоном Стрэчи[855]. В памяти Клайва Белла этот последний сезон перед войной остался по иным причинам. «Все мы помнили, как мадам Карсавина танцевала в 1914 году, – писал он пять лет спустя, – она казалась нам почти что чудом. И если был такой балет, где мы бы вспоминали ее в первую очередь, то это “Петрушка”». Еще одним из приверженцев первых сезонов Русского балета был Джон Мейнард Кейнс. Летние дни 1911 года он проводил за работой над своим «Трактатом о вероятности», но когда статистика начинала его утомлять, знаменитый экономист ускользал из Кембриджа, чтобы «посмотреть на ноги господина Нижинского». Через два года Кейнс увидел «Бориса Годунова» и «Весну священную»[856]. Среди членов группы Блумсбери Дягилев приобрел небольшое, но преданное сообщество своих поклонников из интеллигентской среды.
По-видимому, один только Литтон Стрэчи зафиксировал свои непосредственные впечатления о балете Нижинского. «Весна священная», писал он, была «одним из самых болезненных опытов в моей жизни. Я даже не мог себе представить, что можно в такой степени соединить скуку и мучение»[857]. Сложно сказать, насколько точно это признание отражает чувства всех участников Блумсбери. Тем не менее очевидно, что балет Нижинского выделялся среди прочих работ Дягилева и что он нес в себе нечто сродни «значимой форме» в хореографии. Посреди всеобщего гула насмешек, вызванного «Весной», лишь газеты «Нэйшн» и «Нью стейтсмен» озвучивали мнение меньшинства, и, что характерно, эти газеты имели отношение к Блумсбери. Так, Роджер Фрай регулярно писал об искусстве для «Нэйшн», а «Нью стейтсмен» – еженедельное фабианское[858] издание, основанное в апреле 1913 года, – в первые пятнадцать месяцев существования постоянно публиковало заметки Клайва Белла, Леонарда Вулфа, Литтона Стрэчи, Роджера Фрая, Руперта Брука и Дезмонда Маккарти. Более прагматичная в политическом отношении, чем ее конкурент, и более открытая различным веяниям в освещении искусства, газета «Нью стейтсмен» сочетала в себе политические идеи левых сил, идеи феминизма и эстетические интересы, которые образовывали сложно поддающуюся точному определению «идеологию» Блумсбери[859].
В июле 1913 года «Нью стейтсмен» опубликовал не менее трех статей о Русском балете, и две из них были посвящены непосредственно хореографии Нижинского[860]. Нашелся наконец лондонский критик, который оценил как художественный смысл постановки Нижинского, так и центральное место, которое хореография занимала в композиции балета:
В этих трех «революционных» балетах мы видим увлеченное устремление к балету как целостности… В «Играх» и «Фавне» работа Нижинского… состояла в том, чтобы максимально довести хореографию как таковую до поистине художественного уровня; он внес в ее узор собственную силу; мы видели, как он сам работает над тем, чтобы выразить идею через движение… В «Играх» Нижинский использует марионеточный танец на кончиках пальцев, движения французских куколок, одетых в белое, огромный теннисный мяч, условные клумбы и газоны… и с помощью мотивов ссоры, примирения, детской импульсивности и неугомонности плетет свою поэму… В «Весне священной» можно видеть варварские русские движения и танцы, которые показываются не ради их собственной, естественной, необычности и дикости… а ради того, чтобы в движении представить синтез варварской идеи, ритуала принесения девушки в жертву Весне. Буквальность сценария исчезла, мы не ждем непредсказуемого развития сюжета – мы ищем развертывания идеи… Это куда ближе к синтезу [музыки и хореографии], в котором ни та ни другая не существует в угоду другой, но и музыка, и хореография выражают одну и ту же идею[861].
Кто же был тем анонимным критиком, что с таким пониманием смотрел постановки Нижинского? Безусловно, он наверняка был близок к группе Блумсбери. Внимание к рисунку сцены, структуре, органическому единству вызывает в памяти идеи Роджера Фрая о последовательности и выразительной функции декораций и утверждения Клайва Белла о том, что искусство есть значащая форма. В истории первых пяти десятков лет существования «Нью стейтсмен» этот хореографический эпизод занимает далеко не самое важное место[862]. Но даже если всякий след того критика был утерян, так уж ли безосновательно полагать, что заметки Стрэчи, набросанные в часы прослушивания сложных какофоний Стравинского, могли быть куда менее обдуманны, чем заметки упомянутого критика? В кругах, близких к «Нью стейтсмен» (для которой писал также и будущий муж Рамбер, драматург Эшли Дюкс), можно различить черты просвещенной интеллигенции, принадлежность к которой Русского балета утверждала Рамбер[863].
«Весна священная», однако, была лишь одним из многих балетов труппы и вместе с «Играми» и «Фавном» составляла только часть репертуара. В более широком контексте довоенного Русского балета основой эстетики труппы была вовсе не структура, а воздействие на чувства зрителя, и пусть даже изысканные дягилевские «стимуляторы» привлекали группу Блумсбери в театр вновь и вновь, они все же провоцировали обвинения в дешевой и вульгарной зрелищности. В начале 1913 года в своем обращении к кембриджскому «Обществу еретиков» Руперт Брук отдал дань уважения Гордону Крэгу, а затем принялся осуждать «безвкусные и дисгармоничные» декорации «русского еврея по фамилии Бакст» и «этого жулика Макса Рейнхардта». Годом ранее Клайв Белл также связал имена Бакста и Рейнхардта, «мудрецов “нового искусства”, [которые] претендуют на выражение самых глубоких и тонких эмоций», но на самом деле занимаются «искусством имитации», «физическими действиями… довольно несущественными, чтобы они могли послужить эстетическим чувствам». Как и лучшие мюзик-холльные постановки и балеты, их работа была «прекрасным шоу», но все-таки представляла собой «ложное благо», далекое от настоящего искусства[864]. В упоминаниях Гордона Крэга и Макса Рейнхардта, которые были, каждый по-своему, предвестниками нового сценического искусства, можно заметить основу критики Дягилева, озвученной Блумсбери.
Спустя лишь несколько недель после закрытия Коронационного сезона в «Нэйшн» вышла длинная хвалебная статья Роджера Фрая по поводу выставки сценических проектов Крэга. В ней не упоминались ни Дягилев, ни его антреприза, но восхваления скромных и абстрактных макетов на выставке подразумевали критику и того и другого. В противоположность роскошной вещественности Русского балета, творчество Крэга представляло собой
искусство, ориентированное на художественный подход к вещам, обладающим высшим смыслом, а не на их потребление в итоге. Это напоминает притвор храма, раму картины, улицу, ведущую к великолепному дворцу – и, как во всех этих случаях, что-то должно быть недосказано: совершенство здесь зависит от неполноты[865].
Вновь и вновь Фрай подчеркивал, что в декорациях Крэга не было «имитации» и «живописности».
В своей оценке современной живописи группа Блумсбери была намного впереди Дягилева. Лишь за год до этого отзыва на первой постимпрессионистской выставке Фрая были представлены Сезанн, Ван Гог и Гоген, которые тогда были почти неизвестны в Англии, и публика обрушила град насмешек и даже оскорблений как на сами работы, так и на их спонсоров[866]. В 1912 году, еще задолго до того, как Дягилев наградил каждого из них заказом, картины Ларионова и Гончаровой висели в русском отделении второй постимпрессионистской выставки Фрая. В сравнении с творениями модернистов эстетика «Мира искусства», апофеозом которой был не кто иной, как Бакст, казалась избитой и второсортной. В 1919 году Фрай писал:
Долгое время Русский балет удовлетворялся декором, который, хоть его и нельзя было назвать старомодным или консервативным, находился далеко не на том же уровне, что и концепции известных оригинальных европейских декораторов, г-н Бакст был весьма плодотворным и изобретательным художником, в достаточной степени внимательным, чтобы воспринимать исходящие отовсюду идеи, но сам он не был в первых рядах художников-творцов. Возможно, найденная г-ном Бакстом точная нота компромисса… была почти созвучна обычным хореографическим методам г-на Фокина. Но когда г-н Фокин… создал «Петрушку», стало очевидно, что хореографический замысел ушел далеко вперед от декора, и это расхождение стало еще более заметным между крайне оригинальным и формалистическим рисунком танца в «Весне священной» и достаточно устаревшим романтизмом декораций г-на Рериха[867].
В Англии начала XX века пуританство все еще представляло силу, с которой необходимо было считаться. Общество трезвости боролось с грехом пьянства; устремления к «чистоте» объявляли секс аморальным; для многих театр по-прежнему был средоточием греха. Даже в 1907 году «Спектейтор» не печатал обзоров драматических спектаклей, чтобы не потерять часть своей аудитории, куда входили и духовные лица[868]. До Дягилева балет вызывал ассоциацию с миловидными девочками в пышном окружении: ходила шутка, что гвардеец отличается от балерины тем, что первый грешит на двух ногах, а вторая – на одной[869]. Даже в рядах Блумсбери аскетические настроения коренились глубоко – временами даже глубже, чем тяга к удовольствиям. Оно вызвало недоверие к сцене – в той мере, в какой театр был зрелищем: Слово было священно, а Плоть, в которую оно облекалось, была мирской. В своем эссе об оформлении сцены Роджер Фрай ссылался на эту дихотомию, приписывая ее особенностям воспитания, в котором театр был под запретом:
Мое отношение к сцене поэтому в основном негативное. Я требую от нее, чтобы она не слишком вмешивалась в драматическое действие и не разрушала воображаемую убедительность, которую создают произносимые слова и движения[870].
Как и Белл, который заимствовал многие из его идей, Фрай связывал зрелище с мюзик-холлом:
Там мне вполне нравятся наштукатуренные Кариатиды, разухабистые Купидоны и все это пряничное великолепие, – именно там я могу оценить бутафорские ориентальные декорации, на фоне которых разглагольствует трагикомическая леди. Но в подобной атмосфере я и не смотрю на то, сколько ощущений испытываю, поскольку знаю, что могу не принять во внимание любое их число – и при этом не упустить сути[871].
Упоминание Фрая о бутафорских ориентальных декорациях и о великолепии оформления прозвучало нотой критики, которую подхватили и другие приверженцы нового искусства. «Скандал… наивно-соблазнительные гурии, кокотки с салонных портретов», – объявил в 1914 году вортицистский манифест[872]. В опубликованном в 1919 году «Сне халифа» издатель журнала «Бласт» Уиндхем Льюис противопоставлял примитивизм авангардистских работ псевдоварварству таких балетов, как «Половецкие пляски» – грохоту цимбал, воплям диких племен, чувственным танцам живота, кавказской мстительности. «Это что-то наподобие фантазий учеников респектабельной частной школы, как будто какая-нибудь сцена из самого скучного из русских балетов или бал в честь Дня Победы»[873]. В конце статьи Фрай выносит своеобразное предостережение Дягилеву:
Кричащих или сверкающих сочетаний цветов, даже если они смотрятся красиво, стоит избегать, поскольку они так сильно притягивают взгляд, что это отвлекает[874].
Одной из наиболее любопытных особенностей того, как Дягилева принимали в Англии, было то, насколько восприятие интеллигенции предопределялось массовой сценой. В частности, «новое искусство» Макса Рейнхардта предлагало целый набор театральных эффектов: «роскошную чувственность», «единство воздействия», «пантомиму», «идею ансамбля» и «восточную романтику»[875] – все это было довольно близко к тому, что привнес на оперную сцену Дягилев. Хотя «Нэйшн» в 1911 и 1912 годах ничего не писала о Русском балете, заметки в этой газете о «бессловесных пьесах» Рейнхардта дают представление о среде интеллигенции тех лет и позволяют понять ощущение, которое было у высоколобых лондонских интеллектуалов во время второго и третьего сезонов Дягилева: ощущение, что лишь малая часть казавшегося новаторским была в действительности новой. В начале эссе о «новом искусстве» Рейнхардта, опубликованном в октябре 1911 года, сообщалось:
В наших театрах ныне… происходит любопытная спорадическая активность… эта активность, как можно видеть, приводит всех в восторг, но никого не удовлетворяет – новое вино в старых бутылках, зацикленность на второстепенном, огромные усилия, направленные на мелкие цели… идеи, летающие туда-сюда, как метеоры ноябрьской ночью… Большими огненными буквами по небосводу написано имя легенды – Рейнхардт![876]
«Нэйшн» нашла много поводов для того, чтобы похвалить человека, который привнес в театр науку и механику. В спектакле «Чудо», писал редактор Г. У. Массингем, рейнхардтовское сочетание цветов и толпы на сцене, движения и массы было «блестящим подвигом организации»; постановка являла собой «новую эру в развитии зрелищного искусства в этой стране»[877]. Однако, добавлял он, спектакль не был «поэтической драмой». Он не был и новым. Сентиментальные религиозные воззвания и оформление в романтическом духе Средневековья были такими же привычными для публики, как и «старая кладовая восточной фантазии» у Рейнхардта в постановке «Сумурун»[878]. Или – можно было бы добавить – в «Шехеразаде» либо «Клеопатре», которые в то время собирали толпы зрителей в Ковент-Гарден. Кроме фальшивой новизны, и само понятие спектакля, в котором нет слов, приводило критиков «Нэйшн» в замешательство: в «бессловесной пьесе» Рейнхардта драматическое действие оставалось уделом режиссерской работы, в результате возникали пробелы как в человеческом, так и в интеллектуальном отношении. В другом отзыве Массингем сравнивал визуальную и слуховую притягательность постановок с эффектом, производимым фильмом. «Великий лондонский театр, – писал он в сентябре 1912 года, – все больше становится похож на кинотеатр, где фильму аккомпанируют певцы. Множеству актеров и актрис приходится участвовать в излишне выразительной и быстро меняющейся пантомиме, которая достигает кульминации в моменты коллизий и энергичного движения сценических групп… Это самая важная часть зрелищного спектакля»[879]. Это было самой важной частью и экзотических балетов Фокина, среди которых не менее четырех – «Жар-птица», «Тамара», «Половецкие пляски» и «Шехеразада» – были представлены тем летом в Ковент-Гарден. Можно предположить, что, на интеллигентский взгляд, Дягилев находился в одном ряду с Рейнхардтом в континууме «нового искусства» и распространял из оперного театра те же изысканные «стимуляторы» и «сенсации», которые были свойственны бессловесным спектаклям «профессора» в Уэст-Энде.
Неудивительно, что у георгианских консерваторов из Блумсбери творчество Бакста вызвало такую резкую критику, что стиль его получил клеймо вульгарности, а созданные им театральные эффекты были низведены до уровня мюзик-холла. Однако чувственность, как и театр в целом, действует на подавленную чувствительность странным образом: чем больше она сдерживается, тем сильнее привлекает изображение чувственности, открывая огромное пространство для свободной игры фантазии, где бессознательное может находить удовольствие в ритуальном воспроизведении всего запретного. В той реакции, которой группа Блумсбери ответила Русскому балету, было заметно столкновение двух различных импульсов: рационального и освободительного.
В книге «Начиная заново» Леонард Вулф настаивал на том, что именно классический стиль самых первых балетов Дягилева сделал их столь привлекательными для Блумсбери. Это утверждение претендует на то, чтобы ответить на множество вопросов, но на самом деле оно только вызывает их:
Я никогда, ни на одной сцене, не видел ничего более совершенного и восхитительного, чем «Шехеразада», «Карнавал», «Лебединое озеро» и другие известные классические балеты. В них почти во всех разновидностях искусства создается… классический стиль, в котором огромная сила, свобода и красота сочетаются со своеобразной строгостью и сдержанностью. В руках великих мастеров, таких, как Софокл, Фукидид, Вергилий, Свифт, Лафонтен или Лабрюйер, эта комбинация оригинальности и свободы с формальной чистотой стиля и сдержанностью выглядит необыкновенно трогательной и прекрасной, и именно эта классическая основа балетов 1911 года придавала им такое очарование[880].
Но можно ли в контексте ранних дягилевских сезонов в действительности говорить о «классике», если мы будем обозначать этим термином постепенное создание традиции – до тех пор, пока индивидуальное творчество (как в случае с репертуаром, созданным Баланчиным для публики Нью-Йорк Сити Балле) не становится одновременно и привычным зрителю удовольствием, и новой формой, пытающейся объединить прошлое и будущее? Если представить себе, что «Игры» и «Весна священная» были показаны большее количество раз, что «Жизель» и «Лебединое озеро» продержались в репертуаре больше чем один сезон и что через несколько лет лондонская публика могла бы сезон за сезоном видеть несколько более последовательную программу, а не мешанину из свежих новаторских постановок – русских, персидских, греческих, венецианских или каких-то еще, – вот тогда, пожалуй, можно было бы говорить о классике и о традиции. Однако с 1911 по 1914 год Дягилев ничего не делал для того, чтобы помочь своим британским зрителям понять искусство, которое он им открывал.
Об этом писал и Эдвард Морган Форстер, вспоминая о наиболее ярких балетных событиях своей жизни: балет в том виде, в каком он был представлен Дягилевым, пребывал лишь на уровне сенсации, не давая дороги наследию прошлого. Он писал:
Отдельные события так и не соединились для меня в единую картину, единую традицию, как это было с оперой, – в такую традицию, которую можно сохранить в памяти и с благодарностью вспоминать. Если точнее – этого не происходило до прошлой зимы. Прошлой зимой же я пошел на дягилевскую выставку. И вот там отдельные моменты слились воедино, разрозненные впечатления предыдущих пятидесяти лет встали на свои места, и я осознал, что присутствовал на предпринятой двадцатым веком попытке создать благородное развлечение[881].
Восхищение классикой, высказанное Вулфом, однако, не находит поддержки в довоенных отзывах его современников, и кажется весьма вероятным, что на его восприятие позднее повлияла Дягилевская выставка, организованная в 1954 году Ричардом Баклом, – роскошное подношение Русскому балету, по времени совпавшее с всплеском энтузиазма по поводу балета в Англии, – как это произошло у Форстера. Мысль Форстера о «благородном развлечении» прослеживается и в более ранних свидетельствах, хотя о наступлении новой эры куда в большей мере возвещала вся дягилевская антреприза в целом, а не отдельные ее постановки. «Они спасают нашу цивилизацию – если вообще что-то может ее спасти», – восклицал Руперт Брук[882], озвучивая распространенное мнение о том, что культурное возрождение Запада придет из стран Востока, более чистых духом. Пусть Литтон Стрэчи и не упоминал напрямую Русский балет, его экстатическое видение «литературы будущего» вполне могло быть хвалебной песнью «Шехеразаде». «Какая радость! – писал он в 1912 году Вирджинии Вулф. – Жить в наши дни, когда из типографий изливается лавина книг, пышущая всей грубостью Петрония, безумием Достоевского, романтикой “Тысячи и одной ночи” и изысканностью Вольтера!»[883]
Ход развития литературы почти никогда не соответствовал подобным воодушевляющим перспективам, однако вечера, устраиваемые Блумсбери, пытались им соответствовать. В присущем им стиле маскарадных костюмов и в темах для игры в шарады можно заметить вдохновение и освободительное влияние, исходящее от балетной сцены. На одном из вечеров 1913 года молодой художник Марк Гертлер повстречал «очень изящную девушку, которая заставила его станцевать с ней балет. Я исполнял роль Нижинского; на мне был свитер и ремень». На другой вечеринке в том же году Оливер Стрэчи и Карен Костелло пришли в костюмах Нижинского и Карсавиной. Стрэчи был в «красном балетном костюме», его партнерша одета в «пурпурный атлас», и они «с большим успехом изобразили “Видение Розы”». В 1914 году леди Оттолин Моррелл предоставила доступ к своей коллекции восточных одеяний друзьям из Блумсбери и учащимся художественной школы Слейда, которые по четвергам исполняли на ее приемах «Половецкие пляски» и «Шехеразаду» под пианолу[884].
На уровне действия Дягилев глубоко затронул воображение круга Блумсбери, воодушевив их фантазии движением и поместив их в гедонистическое оформление своих спектаклей. В газете «Ритм», принадлежавшей модернистскому движению в живописи и литературе, художница Энн Эстель Райс писала:
«Шехеразада» явно выражает чувственность, в этой оргии арабских ночей, полной сладострастия, где декорации, драпировки, руки, ноги, тела, группы пребывают в круговращении, сверху свисает роскошный изумрудно-зеленый занавес, танцовщики двигаются волнообразно, гибкие альмеи одеты в огромные шаровары, все это сопровождает насыщенная, текучая музыка Римского-Корсакова – и гарем, и публика оказываются в ошеломляющем круговороте звуков и цветов, где пребывают до изнеможения[885].
Райс принадлежала к кругу художников-фовистов. Ее кумирами были Гоген и Ван Гог, и во многих ее зарисовках балетных сцен и танцовщиков, опубликованных в «Ритме», прослеживались четкие линии и чувственный примитивизм ее наставников. В Блумсбери, однако, отдавали предпочтение абстрактной композиции и безличности Сезанна, который ставил композицию выше жизнерадостного калейдоскопа цветов, каким, по мнению Райс, изобиловало творчество Бакста. Тем не менее в изображениях танцовщиков и акробатов и в ярких цветах, которые часто отличали изделия мастерских «Омега» (с ними были связаны многие из художников Блумсбери), можно увидеть явное присутствие балета. Панно Ванессы Белл, представленные в зале «Омеги» на выставке «Идеальный дом» 1913 года, «были основаны на мотивах Русского балета и в большой степени вдохновлены первой версией “Танца” Матисса (включенной в экспозицию Второй постимпрессионистской выставки)»[886]. «Царица Савская» Дункана Гранта, написанная в 1912 году, являла собой еще один пример того, как балетное действие послужило катализатором для воображения художника из Блумсбери.
С возрастом дружеские отношения и старые добрые времена приобретают все большую притягательность. В своей биографии Роджера Фрая, опубликованной в 1940 году, когда фашистские армии во второй раз на памяти живущих оккупировали Европу, Вирджиния Вулф вспоминала тот оптимизм и то чувство широких возможностей, которые испытывали многие летом, предшествовавшим Первой мировой войне, и которые там, в том времени, олицетворял Дягилев. «Восхищение» Фрая, писала она, «не ограничивалось “Омегой”… Тогда были приемы; тогда были спектакли; тогда были оперы и выставки. По всему Лондону были новые антрепризы. Он ходил смотреть на русских танцовщиков, а те конечно же предлагали всевозможные новые идеи, новые комбинации музыки, танца и декораций. Он отправился в оперу вместе с Артуром Бальфуром. Давали “Ариадну” Штрауса, и он был полон энтузиазма»[887].
Вулф и дальше описывает то последнее мирное лето. Как и Бальфур, друзья Фрая были близки к дягилевскому кругу: княгиня Лихновская, литератор, жена немецкого посла, регулярно посещавшая оперу; леди Оттолин Моррелл, в чьем доме на Бедфорд-сквер Дункан Грант, Литтон Стрэчи и другие представители Блумсбери повстречались с Нижинским. «Казалось, что многое из того, над чем он работал, становилось досягаемым. Цивилизованность, тяга к духовным вещам словно бы овладевала не только небольшой группой людей, а прорывалась и в среду богатых, и в среду бедных… “Мы наконец, – подытоживал он, – становимся хоть немного цивилизованными”. И в это время конечно же наступила война»[888]. Несомненно, что Вулф говорила в том числе и о себе самой.
Если искусство Дягилева, казалось, сулило цивилизованное будущее, то персона Нижинского предвещала новую эру сексуальной свободы. Один только его физический облик в гомосексуальном братстве Блумсбери пробуждал желание: Кейнс приезжал из Кембриджа, чтобы посмотреть на его «ноги», Литтон Стрэчи мечтал о Нижинском и посылал в Друри-Лейн «роскошнейшие букеты». (Джордж Бернард Шоу, напротив, «утешал себя Карсавиной», как он сам писал миссис Патрик Кемпбелл[889].) Но Нижинский был не просто искусителем: целый ряд его ролей – Золотой раб в «Шехеразаде», Призрак в розовых лепестках из «Видения Розы», Арлекин в «Карнавале», заглавный персонаж «Петрушки», Фавн из «Послеполуденного отдыха фавна» – представлял спектр возможностей мужской роли, которые переступали границы гендерных условностей. Привлекательность Русского балета для Блумсбери основывалась отчасти и на образе сексуальной неортодоксальности, воплощенном Нижинским; эта тема, однако, в воспоминаниях Оскара Уайльда ограничивалась лишь приватными беседами[890].
С пришествием Русского балета совпал по времени расцвет интереса к русской литературе, и в частности к Достоевскому[891]. Действительно, можно почувствовать, что оба они – писатель и танцовщик – обитали в схожих областях рассудка; что Блумсбери обрядил Нижинского в наряд первобытного в духовном, сексуальном и эмоциональном отношении человека. Для Эдварда Форстера Фавн Нижинского был «комичным и беспокойным животным, свободным от сентиментальности моих историй». Руперт Брук вспоминал о танцовщике в письмах из Самоа, где описывал «захватывающее дикое тропическое» представление сива-сива[892]. Вирджиния Вулф никогда не писала о Нижинском, но в двадцатые годы, когда Лидия Лопухова снимала комнату в квартале Блумсбери, писательница пристально наблюдала за ней, восхищаясь ее непохожестью на других, и воображала ее то в образе «попугайчика», то в виде «бедного воробышка, превратившегося в тихую, скромную, серьезную, почтенную наседку, кудахчащую день напролет»[893]. Одно только упоминание о Лидии вызывало у Вулф множество образов животного царства. «Какая-нибудь редкая птица подошла бы Мейнарду гораздо лучше, – жаловалась она своей сестре Ванессе Белл. – Однако она [Лидия] поймала его; и вообще она очень мила, когда рифмует ворон (crows) с коровами (cows) или рассказывает, что в России подмышечные впадины называют “подмышки”, как будто от слова “мышка”; мне кажется, я бы сама не отказалась от такой милой подруги»[894]. В человеческом обличье Лидия была либо дикаркой, либо простодушной. Сцены, что она устраивала, «заставляли шататься стропила – ярость, слезы, отчаяние, возмущение, ужас, возмездие»; к чаю у нее были «один крик, два танца; после чего она тихо сидела, как послушный ребенок, скрестив руки»[895]. Эмоциональная, инфантильная и иррациональная, она была прелестно и невыносимо примитивна.
Совершенно очевидно, что будущая леди Кейнс очаровала писательницу. Вспышки ее темперамента, быстрые перемены чувств и кажущаяся спонтанность были созвучны интуитивному восприятию Вулф; они касались струн ее эмоций, оставляя холодным рассудок. Можно предположить, что Нижинский имел похожую власть над Блумсбери и вызывал такое же двойственное отношение к себе: в этой гавани интеллекта инстинкты имели все же немалое значение. Показателен пример того, как Литтон Стрэчи добивался расположения «блистательного» танцовщика: поначалу он даже приобрел розовый костюм, но в конце концов разочаровался в этом «идиотском лакее»[896]. Нижинский «был очень мил, – писал он, встретив в 1913 году своего кумира, – и намного более привлекателен, чем я мог ожидать – на самом деле очень привлекателен… Однако он не показался мне особенно интересным – когда бедный парень не может двух слов связать ни на одном из человеческих языков, с ним далеко не уйдешь. Так что там был другой русский, который служил переводчиком, а разговор вел по большей части Грэнвилл Баркер»[897]. Языковой шовинизм Стрэчи говорит сам за себя.
Изо всех «блумсберийцев» лишь леди Оттолин Моррелл удалось разглядеть душу в этом диком животном. Среди изысканных персон ее круга лишь она отнеслась к его работе с «пониманием и высокой оценкой». Нижинский подарил ей свое фото в роли Петрушки – «мифического изгнанника», как он сказал ей, «в котором сосредоточились пафос и мучения жизни; того, кто бьется кулаками в стены, но всегда оказывается обманутым, презираемым и выброшенным прочь» – это описание напомнило ей князя Мышкина у Достоевского[898]. Ей нравились его молчаливость, нежелание чем-либо обладать и безоглядная преданность искусству, а его реакцию на роскошное оформление экзотических спектаклей Русского балета она рассматривала как признак его обращения в толстовство. В ее доме на Бедфорд-сквер он мог на краткое время выйти из тени Дягилева; там он встретился с Борисом Анрепом, с которым часами беседовал о русских мифах и религии, а также с Дунканом Грантом, Стрэчи, Симоном Бюсси и Грэнвиллом Баркером[899]. Ее сад был увековечен: один из проходивших там теннисных матчей стал источником вдохновения при создании декораций к «Играм». К удивлению Стрэчи, Нижинский продолжал увлекать ее, и даже после его женитьбы она забрасывала его сентиментальными знаками внимания. «Однажды, – пишет биограф Стрэчи, – когда Литтон вошел в дом, они сидели вдвоем в крошечной внутренней комнате. Пройдя вглубь гостиной, он услышал, как Оттолин хриплым голосом… говорила: “Когда вы танцуете, вы уже не человек – вы идея. Ведь в этом и состоит Искусство, не так ли?.. Вы конечно же читали Платона?” – В ответ ей раздалось бормотание»[900]. Возможно ли, что Стрэчи позавидовал тому, что «леди Отт» удалось проникнуть в заповедную часть души танцовщика? Или это свидетельство, как и многие из писем Стрэчи, было очередным кокетством?
Лондонский авангард относился к Дягилеву куда менее осторожно, чем Блумсбери. Авангардисты не избегали его безоглядно, как художники Монмартра, тем не менее отчасти запрет существовал, и весьма суровый, а причина его состояла примерно в том же: общественный характер Русского балета и его эстетика противоречили эстетике и характеру авангарда. В стихотворении 1913 года «Миллвины» Эзра Паунд выразил свое презрение и к тому и к другому. В то время, когда школа Слейда была пристанищем для молодых персон с претензией на обладание художественным вкусом, таких как Дора Кэррингтон и Айрис Три, появлявшихся в кругах Блумсбери и даже в светском обществе, у Паунда говорилось:
Маленькие Миллвины на русском балете,
Розово-лиловые и зеленоватые души маленьких Миллвинов
Видели лежащими вдоль верхних рядов,
Как множество невостребованных боа.
Взлохмаченный и недисциплинированный вожак студентов художественного училища —
Суровая делегация из «Слейда» —
Предводил их.
С поднятыми плечами, с руками,
Скрещенными в большом футуристическом иксе, студенты
Радовались, они созерцали достоинства Клеопатры.
И маленькие Миллвины наблюдали за этим
Своими большими и анемичными глазами, они вглядывались в форму[901].
Немногие личности того времени были настолько же полны парадоксов, насколько этот выходец из Пенсильвании, и в этом стихотворении – как и в прочих своих произведениях – он писал куда больше о своих собственных бедах, чем отражал конкретное явление. По свидетельству Джона Гульда Флетчера, который был знаком с Паундом в 1913–1914 годы, гуру авангарда пропустил французскую премьеру «Весны священной». Паунд увидел постановку уже в Лондоне, а после войны даже написал под псевдонимом отзыв о балете в качестве музыкального критика журнала «Нью эйдж». (Последовательность не была сильной стороной Паунда: теперь он восхвалял «Половецкие пляски» – что забавно, в ущерб «Треуголке».) Образ Серафимы Астафьевой оставался с ним долгие годы после того, как она появилась в составе дягилевской труппы: в его «Пизанских кантос» дважды упоминается танцовщица, ставшая известным лондонским педагогом[902].
Сложно сказать, как вышло, что авангардисты привязались к Дягилеву. Единственное утверждение, известное нам, исходит от друга Томаса Эрнеста Хьюма, критика и философа, на чьих вечерних собраниях по вторникам бывали многие писатели и художники, в том числе Паунд, Флетчер, Форд Мадокс Форд, Ричард Олдингтон, Джон Курнос, Уиндхем Льюис, Анри Годье-Бржеска, Руперт Брук, Джон Мидлтон Марри, Эдвард Марш, Якоб Эпштейн, Эдвин Эванс и Эшли Дюкс[903]. Д. Л. Мюррей рассказывал своему биографу:
Мое знакомство с Хьюмом в действительности началось осенью 1911 года, когда мы встретились на галерке в Ковент-Гарден на спектакле дягилевского балета. Думаю, мы оба удивились, увидев там друг друга, поскольку в то время балет обычно считался… «низкопробной» формой искусства и ассоциировался с мюзик-холлом. Вскоре мы обнаружили, что наш энтузиазм по поводу дягилевской антрепризы таил в себе глубокое различие в том, что ценил в ней каждый из нас. Меня восхищали в ней классические элементы, унаследованные от традиционной франко-итальянской… школы, в то время как Хьюма впечатляли усилия, которые прилагали Нижинский и все остальные… чтобы привести балетную пластику в соответствие с теми негуманистическими идеалами, которые пронизывали египетское, древнегреческое и полинезийское искусство[904].
Кроме профессионалов, таких, как Эванс, который в качестве музыкального критика и иногда нанятого Дягилевым автора часто писал заметки о труппе, и Эшли Дюкс, молодой драматург и драматический критик, назвавший первый сезон Дягилева «событием века»[905], созвездие талантов, собравшихся в гостиной Хьюма, мало писало о балете. Олдингтон считал первый показ «Шехеразады» в Лондоне одним из самых ярких событий своей юности, однако ни сам он, ни представительница поэтов-имажистов Хильда Дулиттл, на которой он женился в 1913 году, не записали своих впечатлений от спектаклей[906].) Джон Мидлтон Марри и Катерина Мэнсфилд также не давали публичных комментариев по поводу балета, хотя эта литературная пара в 1912–1913 годах посещала спектакли и публиковала статьи о Русском балете в газете «Ритм». (Лишь в 1921 году Марри нарушил это молчание. В рецензии на «Русский балет в Западной Европе: 1909–1920» У. Проперта он поставил вклад Гончаровой, Бенуа, Рериха и «даже Бакста» намного выше работ Пикассо, Матисса и Дерэна[907]. Один только Флетчер, имажист с живописным воображением, всей душой обратился к балету. В 1911 году он «ошеломленно сидел, внимая варварскому изобилию “Шехеразады” и половецких плясок из “Князя Игоря”», и этот опыт вдохновил его на ранние эксперименты, такие, как «Гласные» – поэма, являвшая собой синтез звука с экзотическими красками живописи Бакста, которому она и была посвящена[908].
«Весну священную» тем не менее Флетчер вспоминал еще долгое время после ее парижской премьеры, на которой он присутствовал вместе с художниками Энн Эстель Райс и Джоном Дунканом Фергюсоном, бывшим художественным редактором «Ритма»: это был первый спектакль, который «больше, чем что-либо другое», утвердил его в готовности «пойти на любой риск, чтобы стать современным художником» – «решимости осуществлять и принимать любые виды экспериментов и не уклоняться ни от чего нового, каким бы странным и непривычным оно ни казалось и какую бы ненависть оно ни вызывало у толпы»[909]. В то же лето, будучи в Лондоне, Эми Лоуэлл регулярно бывала в театре Друри-Лейн, что повторилось и на следующий год. Как и Флетчер, она «сразу же распознала в “Весне священной” шедевр и вскоре стала считать Стравинского величайшим из живущих композиторов. Многие годы после этого, – писал Сэмюэль Фостер-Деймон, – она с удовольствием описывала свои впечатления от первого прослушивания» этого балета[910].
Кроме балетоманов, постановка Нижинского, по-видимому, привела в театр весь лондонский авангард. Джон Курнос, протеже Паунда, который впоследствии перевел с русского языка многие литературные работы, вспоминал споры, которые разразились в мансарде Гарольда Монро – месте собраний имажистов и георгианских поэтов[911] – вечером после первого показа балета в Лондоне. К новому видению Якоба Эпштейна добавились взгляды Стравинского, и, как писал один из очевидцев, копию эпштейновского «Христа» в располагавшейся этажом ниже гостиной Монро «пришлось срочно спасать от его оппонентов и их сторонников, а меня – от сестры одного видного английского писателя… которая зонтиком угрожала Стравинскому в лице моей недостойной персоны»[912]. В посвященном композитору эссе в газете «Эгоист», которая публиковала работы многих имажистов и статьи о новом искусстве, Ли Генри сформулировал то, что мы можем считать позицией авангарда:
Позднейшее и величайшее из танцевальных произведений Стравинского, жуткая балетная трагедия «Весна священная»… превосходит даже предшествующие его работы и дает нам первое совершенное и целостное представление о синтетической хореографии. Здесь мы видим истинную сущность дионисийского экстаза, чувствительность и силу тревоги, которые присутствуют в новом осознании мира, воплощенном с выдающимся мастерством, которое превосходит почти все, что мы до этого понимали под термином «драматическое»[913].
В творчестве Уиндхема Льюиса, Годье-Бржеска и Дэвида Бомберга балетные образы возникают в 1912–1913 годах все чаще и чаще. Конечно, танец был как неотъемлемой частью программы футуристов, так и объектом внимания многих художников, интересовавшихся примитивизмом. Однако в некоторых работах, датируемых периодом, когда Нижинский пребывал в роли хореографа, невозможно не заметить влияния Дягилева: таковы изображающие Нижинского рисунки Льюиса 1914 года, изображение танцовщика в арабеске, сделанное им на стене театрального клуба Кабаре мадам Стриндберг, а также изображение танцовщиков в классической позе в одной из его брошюр; изображения Карсавиной и Больма в «Жар-птице» 1912 года в бронзе, ныне утраченная статуэтка Нижинского и рисунки танцовщиков авторства Годье-Бржеска; созданные Дэвидом Бомбергом в 1913–1914 годах акварели из цикла «Танцовщик», а также памятный сборник его абстрактных литографий, вышедший под названием «Русский балет». Трудно удержаться от искушения провести дальнейшие аналогии – между грубой мускулатурой Нижинского, заметной из-под приоткрывающих тело трико в «Видении Розы» и «Фавне», и танцующими фигурами, изготовленными Льюисом в 1912 году, две из которых художник озаглавил «Звериный» (Faunesque) и «Сераль». Точно так же сложно отказаться от мысли, что «Танцовщик из красного камня», изваянный в 1914 году Годье-Бржеска, имел какую-то связь с языком примитивизма, использованным в «Весне»[914].
«Весна священная» стимулировала воображение лондонского авангарда. Подобно Шаляпину – единственному дягилевскому артисту, которого в 1914 году вортицисты скорее «прославляли», чем «поносили», – «Весна священная» принесла ту «необыкновенную остроту чувств и рассудка», которой так восхищался Льюис в славянском танцовщике[915]. Но подобная реакция была особым явлением, данью уникальности примитивистского видения Нижинского, а не ответом на искусство балетной антрепризы в целом. Среди этих пионеров модернизма, «презиравших политику, гражданскую службу и средний класс»[916], от которых довоенный Русский балет еще больше отделил их, каждый опирался как на свои социальные притязания, так и на различия в эстетической программе. Среди имажистов и вортицистов присутствовало несколько представителей правящих кругов, несколько выпускников привилегированных учебных заведений и «Оксбриджа», несколько потомков интеллигенции Викторианской эпохи и несколько человек из тех, кто наслаждался преимуществами личного дохода. Многие были иностранцами; некоторые жили в бедности; почти никто не имел доступа к салонам приверженцев Дягилева из светского общества. Когда журнал «Бласт» в манифесте, под которым подписались Олдингтон, Паунд, Льюис, Годье-Бржеска и другие, озвучил риторический вопрос: «Можем ли мы ожидать искусства от леди Монд?» – и провозгласил, что ему «чудовищно наскучило это хилое европейство, самоуничижение ничтожных “интеллигентов” перед всем, что приходит из Парижа, и космополитическая сентиментальность, которая преобладает повсюду»[917], – можно ли было усомниться в том, что в модернистской критике Русского балета объединились социальные и эстетические факторы?
Как и кенсингтонский авангард, группа Блумсбери в своей оценке эстетики Дягилева разделяла мнение светского общества. Но от городской богемы ее участники отличались тем, что для них Ковент-Гарден был привычным местом времяпрепровождения. По своему образованию, классовой принадлежности, воспитанию и профессии члены Блумсбери принадлежали к более широкому общественному кругу дягилевской публики; они соприкасались с высшим обществом Асквитов и Кунардов, в чьих домах на приемах нередко высказывали свои суждения Кейнс, Литтон Стрэчи, а иногда даже Вирджиния Вулф. То, что блумсберийцы избрали для себя место в некотором отдалении от этого круга, говорит о силе их убеждений и об их нонконформизме. Но выбор этот они совершили как инакомыслящие, находящиеся на радикальном краю довоенного либерального крыла, а не как аутсайдеры, изгнанные высшим обществом.
В конечном счете даже группа Блумсбери не занимала столь значительного места в общей картине дягилевской публики. После войны положение дел станет иным; во главе демократизированной балетной публики окажутся эксперты в области искусства и сами творцы. С 1911 по 1914 год, однако, труппа существовала под знаком общественных и экономических привилегий. Шесть довоенных дягилевских сезонов остаются для будущих поколений историей о роскоши, элегантности и аристократизме; эта история повествует об обществе, не стесненном традициями демократии и серостью «государства всеобщего благосостояния»; эти сезоны стали сагой о преемственности Императорского балета, которая началась в Мариинском театре и дала свои плоды в Королевском балете Англии. Дягилев конечно же построил свою империю на зыбучих песках кредитов и выручки от продажи билетов. Но это не единственное проявление иронии судьбы в его мифе. В то время как дягилевская публика любовалась собой каждый вечер в течение коронационного сезона 1911 года, основы ее привилегий пошатнулись. Они начали колебаться двумя годами ранее, после появления «Народного бюджета» Ллойд Джорджа, которое вызвало риск народного восстания или, по крайней мере, перспективу значительного роста налогов. Теперь же, в августе 1911 года, лорды на Парламентской площади отказались от остатков своей феодальной власти в пользу палаты общин: они «решили умереть в неведении»[918]. С 1911 по 1914 год привилегированная аристократия «оказала свое последнее публичное сопротивление» – им стали театральные ритуалы дягилевской публики.
12 Послевоенная публика
1919 году Сесил Битон с удивлением обнаружил на галерее театра Альгамбра «новых апостолов» Русского балета Дягилева. Бегло осматривая самые верхние ряды, он опытным глазом зафиксировал «гигантскую, угловатую женщину в бесформенной одежде с коротко остриженными прилизанными волосами и рыжебородого балетного маньяка, который, не раздумывая, будет ждать десять-пятнадцать часов под дождем, чтобы получить место на галерке»[919]. Битон был не единственным, кто заметил изменения, происшедшие в составе лондонской публики Дягилева. «Я крайне рад, – писал Чарльз Рикеттс импресарио в 1918 году, – что широкая публика обожает Балет так же, как старая элита Ковент-Гарден до этих трагических дней»[920].
В период между 1918 и 1929 годами состав зрителей Русского балета оказался не менее изменчив, чем его художественный облик. Установить, из кого состояла дягилевская публика до войны, – сравнительно простая задача: весь Лондон и весь Париж, при всем их различии, остававшиеся краеугольными камнями классовых и экономических привилегий. Война довела Дягилева до бедности, но при этом открыла перед ним новые творческие перспективы, и оба эти обстоятельства способствовали далеко идущим изменениям внутри публики. Недолгое присутствие подлинно именитых поклонников в Лондоне и постепенное сужение этого слоя его публики по обе стороны пролива до круга представителей высокой богемы усугубили неоднородность самого существа Русского балета в послевоенный период.
В истории его антрепризы не было периода, когда Дягилев столь активно выискивал бы приверженцев своего детища. По вкусу и предпочтениям его взгляд на массы был отстраненным, словно взгляд инопланетянина, и совершенно невозможно провести параллель между его гастролями в течение двадцати лет и марафоном Павловой, проводимым по низким ценам, в том числе и на аренах для боя быков. Его идеал оставался неизменным: избранная публика, одетая, как аристократы в Мариинском, и изысканная, как те, кого именовали весь Париж. В 1918–1922 годах, под влиянием обстоятельств и чрезвычайных трудностей, он завоевал британских поклонников, мигрировавших в спектре социальной дифференциации. Продвигая модернизм на сцены мюзик-холлов, он добавил к прежней зрительской элите поклонников из числа пылких интеллектуалов и умеренных искателей удовольствий. Никогда впредь Дягилев уже не будет так превозноситься английскими зрителями или оказывать столь же значительное влияние на общественный вкус, как в эти годы, когда им закладывались основы современной британской балетной публики.
Для историка нет ничего труднее, чем давать характеристики безымянной публике. Только знаменитости хранят в библиотеках и семейных архивах свои дневники для публикации, пишут мемуары, заводят альбомы с вырезками, письмами и разнообразными материалами. Но даже если по прошествии десятилетий лица новых зрителей Дягилева и достаточно расплывчаты, то факт их присутствия в театре – конкретен и четок. «Терпимая, хорошо воспитанная публика», которая показалась столь «неуместной» Вирджинии Вулф[921], столь «обычной» Рикеттсу и столь неуклюжей Битону, была как раз той публикой, что «спасла» Русский балет.
Колизеум, Альгамбра и Эмпайр, флагманы национальной развлекательной индустрии, оказались среди избранных мюзик-холлов. Однако, по сравнению с Друри-Лейн и Ковент-Гарден, расценки на билеты, когда «Русский балет» лидировал в афише Колизеума при открытии сезона в сентябре 1918 года, были значительно ниже – почти в девять раз. С местами на балконе на пенни дешевле, чем кварта молока, и в четыре раза дешевле, чем фунт масла, дворец развлечений Столла донес искусство Дягилева до широкой публики[922].
Балет, конечно, был только одним из восьми или девяти пунктов типичной программы варьете, и многие завсегдатаи Колизеума бесспорно предпочитали чревовещателей и комедиантов с дрессированными животными, дам-фокусниц и гимнасток «позированию и скачка́м» танцовщиков Дягилева. Таким, во всяком случае, было впечатление Вирджинии Вулф от людей, «которые мычали, как быки, над усилиями человека прибить гвоздями ковер» (номер «Расстилание ковра» известного комика Уилла Эванса, выступавшего в той же программе), но оставались безразличны к «Карнавалу»[923]. (Мнение Клайва Белла, в свою очередь, сводилось к тому, что публика «казалось, любит [балет] скорее больше, чем дрессированных собачек, и бесспорно меньше, чем фокусы чревовещателя»[924].)
Но подобная реакция может ввести в заблуждение, особенно если выводы приходится делать в отрыве от непосредственных наблюдений. Это не слишком явно проявлялось внешне, однако балет глубоко затронул душевные струны простой, но отзывчивой публики. Дягилевские гастроли в Колизеуме, побив все рекорды продолжительности, разожгли аппетит и повлияли на содержание программ в этом театре и после отъезда труппы. «С тех пор как сэр Освалд Столл возродил славу Русского балета в Колизеуме, – отмечала “Таймс” в августе 1919 года, – его еженедельные программы теперь редко обходятся без танцевальных выступлений»[925].
На протяжении последующих нескольких лет танцовщики встречали теплый прием в театре, подтверждая тем самым справедливость веры сэра Освалда в то, что британская публика «идет и смотрит балет, если ей предлагают его в качестве первоклассной вещи»[926].
Многие из тех, кто танцевал в Лондоне, были из числа вновь прибывших: Дженни Хасселквист, ведущая танцовщица Стокгольмской Королевской оперы; Тамара Гамсахурдиа и Александр Демидов из Большого театра; Юлия Седова, бывшая балерина Мариинского театра; датчане Елена Йорген-Йенсен и Джон Андерсен, исполнявшие отрывки из «Сильфиды» и «Фестиваля цветов в Джензано». Другие – Тамара Карсавина (часто возглавлявшая афишу), Александр Гаврилов, Любовь Егорова, Людмила Шоллар, Анатолий Вильтзак, Мария Дальбасин, Лидия Лопухова, Лидия Соколова, Леон Войциковский и Вера Савина – в то или иное время работали у Дягилева. Спектакли той поры также нередко затрагивали гемы и стили, ставшие популярными благодаря Русскому балету: «Бык на крыше» Жана Кокто (в английском переводе – «Бар не желающих делать ничего»), выступления «Летучей мыши» Никиты Балиева, испанской танцевальной труппы «Квадро фламенко» и даже «танцующие сильфы» «фантастического балета» Лой Фуллер. Этот список ни в коем случае не исчерпывает всех, кто в фарватере Дягилева последовал в Колизеум. Не включает он и многих артистов балета, кто выступал в других театрах, или на утренниках, или в иных зрелищных событиях, где танцу было отведено заметное место. И сюда не вошел отчет о длительных сезонах Анны Павловой, каждый из которых – и в 1920-м, и в 1921 годах – частично совпадал с появлением Дягилева в британской столице.
Балет действительно пустил корни в Лондоне, завоевывая широкую аудиторию, поддерживавшую Дягилева, в то время как старые эстеты, вроде Чарльза Рикеттса, скептически пожимали плечами по поводу нового модернистского репертуара труппы. Балет стал привычным развлечением, искусством, придающим изысканный аромат тесно обступившему его мюзик-холлу, на сцене, которую приходилось делить с наиболее любимыми в Англии артистами варьете. В годы, когда, как выразился один из корреспондентов, «Лондон пристрастился к [Русскому балету], как утка к воде», этот новый зритель также становился все более и более искушенным; свои знания он приобретал вместе с избранными, превращая очередь за билетами на галерку на дягилевские спектакли в собрания обучающихся танцу и балетоманов[927].
Здесь, как можно предположить, была публика, рекрутированная «Дансинг таймс», вступившим в свое самое прославленное десятилетие. Сбрасывая обветшалый эдвардианский наряд, журнал стал подлинным кладезем современного танца, бесценным путеводителем по именам исполнителей и названиям представлений всех его видов. Из месяца в месяц он публиковал составы исполнителей, фотографии и рецензии на дягилевские спектакли, обсуждения его артистов, размышления о балетном стиле, хореографии и технике. «Дансинг таймс», с его прозаичными писаниями и непритязательной версткой, не был ни целью коллекционирования для знатоков и любителей, ни изданием, представляющим интерес для интеллектуалов. Он стремился скорее привить интеллигентное отношение к танцу новообращенным, постигавшим премудрости балета самостоятельно. Шестипенсовый экземпляр «Дансинг таймс» нашел своих идеальных читателей в разрастающихся рядах мюзик-холльных балетоманов[928].
Временное пребывание Дягилева в Уэст-Энде сделало больше, чем просто позволило его русским артистам обзавестись широким кругом поклонников их искусства. Сцены, где труппа появлялась, как и то, что она поддерживала на них своим репертуаром, постепенно лишали балет его экзотичности, устраняли налет светскости. Мало-помалу его искусство было «англизировано», исходя из требований того, что отражало бы характер местной публики. До войны балет был оранжерейным растением, редким и искусственно выведенным видом. Теперь он пустил корни среди гвоздик и примул, приживаясь, как многолетнее растение, круглогодично присутствующее в английском ландшафте. «Англизация» русского балета для зрителей того времени была не менее значительным достижением Дягилева, чем другие его достижения того времени.
Публика, которую создал Дягилев для своей послевоенной антрепризы, явилась прочной основой формирования современной британской балетной аудитории. Для Дягилева же демократия на театре была просто зигзагом судьбы, приспособлением к экономической необходимости. Действительно, пока на протяжении всех лет выживания Русский балет висел на волоске одобрения простых зрителей, Дягилев стремился совсем к другой цели: он жаждал восстановить прежнюю марку труппы и вернуть ее былую великосветскую публику. Специальные объявления о начале балетных выступлений в общей программе стали постоянными уже через несколько недель после того, как труппа обосновалась в Колизеуме, и это был первый знак рождения ее новой публики, располагавшейся на ярусах. Другое свидетельство появилось в следующем году на благотворительном гала, когда владельцы лож платили до пяти гиней за билет за троекратное присутствие дягилевцев в программе[929]. Этот спектакль, организованный в поддержку Русского фонда содействия и других славянских благотворительных учреждений, повысил престиж труппы среди лондонского круга высокородных эмигрантов из России – Оболенских, Барятинских и даже Романовых. В прежние времена Дягилев смотрел на аристократов со смешанным чувством безразличия и презрения. Теперь он публично и демонстративно отождествлял себя с этими людьми. Отклоняя приглашение на банкет, даваемый общественностью в честь Русского балета, он написал:
В то время, когда наша страна находится в трагическом положении, мы, русские, естественно… чувствуем себя неспособными принять приглашение к участию в празднестве, даже по поводу чисто творческому. Особенно сейчас, когда Вдовствующая Императрица прибыла в Англию как беженка (беглянка) и когда мы ежедневно слышим о том, что люди умирают от голода в Петрограде, мы чувствуем, что нам следует воздержаться от общественных мероприятий такого рода…[930]
Не вызывает сомнений истинное страдание, лежащее в основе этого заявления, боль недавно начавшегося изгнания. Но упоминание сестры королевы Александры и просьбы организационного комитета, чтобы доходы пошли в пользу русских благотворительных обществ, дает право заподозрить, что на Дягилева повлияли посредники из британского высшего общества, сочувствовавшие эмигрантам.
До войны костяк дягилевской аудитории формировался из представителей высшего общества. Они заполняли залы театров, в которых выступала его труппа, и они создавали имена его артистам, облекая свои восхваления в идеологию истеблишмента. Как было уже отмечено выше, этот слой публики не оставил антрепризу в послевоенный период. Старая сеть либералов была прочна – притом что структура самой партии претерпела изменения. В 1919 году «сливки общества» толпились в ложе леди Кунард в Альгамбре, в то время как для ее дочери Нэнси «безупречным» вечером был тот, в который между ужином и шампанским за полночь вклинивалось посещение балета. Миссис Асквит с ланчами и чаепитиями для Дягилева и его звезд также была на виду и быстро набрасывала впечатления от премьер в своей энергичной, чтобы не сказать «странной», прозе. Артур Рубинштейн вспоминал вечер, когда он обнаружил «весь дягилевский балет… порхающим в [ее] гостиной», как и саму неугомонную Марго[931].
Несмотря на оживленные отношения между Дягилевым и верными ему поклонниками из числа элиты, вклад высшего общества, помимо придания блеска премьерным спектаклям, на которые оно являлось, был не столь уж и велик. Центр тяжести переместился из лож к людям умеренных доходов, среди которых возникали новые приверженцы труппы. Но дело было не только в количественном сокращении элитарной публики, но и в том, что ее роль законодательницы вкусов оказалась теперь узурпированной. Между 1918 и 1919 годами интеллектуалы признали Русский балет «за своего».
Послевоенные годы вознаграждают балетного детектива скорее изобилием, чем нехваткой сведений. До войны только случайные строчки в колонках музыкальных отчетов, «реплика в сторону» во время лекции, упоминания то здесь, то там в дневниках, письмах или рецензиях характеризовали положение труппы в глазах интеллигенции. Теперь еженедельники, такие как «Нэйшн», «Атенеум», «Нью стейтсмен» и «Нью эйдж», дают регулярные объявления о премьерах труппы, в то время как статьи и комментарии появляются в журналах для интеллектуалов – «Фортнайтли ревью», «Берлингтон мэгэзин», «Драма», «Лондон меркьюри», «Инглиш ревью» и даже в американских «Дайал» и «Нью рипаблик».
Группа Блумсбери, конечно, не была чужда Русскому балету и прежде. В 1911–1914 годах она представляла богемную стаю среди великосветской паствы Дягилева, однако в общем и целом держала импресарио и его работы на расстоянии вытянутой руки, и эта дистанция отражала критический подход к его эстетическим принципам.
Начиная с 1918 года открылась новая эра в отношении Блумсбери к труппе. Лишь день спустя после ее появления в Колизеуме Кейнс совершил свое первое из ставших потом многочисленными посещений балета, и в последующие месяцы другие члены группы поступили так же[932]. Леди Оттолин тем временем удостоила Дягилева чести быть ее наперсником. Они вместе пили послеобеденный чай, балерины заполняли ее гостиную между спектаклями, друзья – художники и писатели – отваживались проникать за кулисы в компании с ней. Но эта замечательная женщина, «Испанская Армада на полном ходу», как описала ее облик в то время Вирджиния Вулф, не была единственной из этого круга, кто установил тесные отношения с Дягилевым. Среди примкнувших к ним осенью 1918 года был и Осберт Ситуэлл, чьи вечера стали местом, где «хунта» – одно из его многих пренебрежительных названий Блумсбери – и ее «сборище высших математиков и низших психологов» пересекалось с путями новых звезд балета. (На одной из таких вечеринок Кейнс встретился со своей будущей женой, искрометной Лидией Лопуховой, чью артистическую уборную он пристрастился посещать[933].) Но союз интеллектуального Лондона и Русского балета скрепила ночь перемирия 1918 года. В то время как толпа, двигавшаяся через Пикадилли и Лестер-сквер, распевала отрывки из популярных песен, выкрикивала после полуночи приветствия солдатам, морякам и королю, интеллигенция города танцевала под зорким взглядом Дягилева: Огастус Джон, Роджер Фрай, Клайв Белл, Кейнс, Литтон Стрэчи, леди Оттолин, Дункан Грант, Марк Гертлер, Дора Каррингтон, Дэвид Гарнетт, Сент-Джон и Мэри Хатчинсон, Френсис Биррел, Нина Хамметт, Д. Х. Лоренс, Осберт и Сачеверел Ситуэлл. Лидия Лопухова и Леонид Мясин, как можно себе представить, привнесли в это праздничное ликование черты профессиональной грации[934].
Олдос Хаксли, новобранец в кругу Блумсбери, красноречиво высказался о выступлениях дягилевцев в Колизеуме. «Единственная вещь, сверкающая в кромешной тьме, – писал он в сентябре 1918 года, – это русский балет, который есть чистейшая красота, это – мимолетный взгляд в иной мир». Старая гвардия Блумсбери была менее восторженной. Притом что и они приветствовали труппу, реакция была далека от «дикого восторга», сообщал читателям «Нью рипаблик» Клайв Белл. Вирджиния Вулф отметила в своем дневнике после посещения «Шехеразады», что она «вспоминала, насколько лучше это было исполнено в Ковент-Гарден». В те ранние месяцы, кажется, только Роджер Фрай уловил и воспринял модернистские элементы в новом дягилевском репертуаре[935].
С переходом труппы в Альгамбру весной 1919 года сдержанность уступила место страсти. Это был сезон, когда Вирджиния Вулф в конце письма Саксону Сидни-Тёрнеру в спешке небрежно черкнула: «Сейчас должна мчаться в Альгамбру», – и она же записала в дневнике, что «в послеобеденное время имеет настоящее празднество в Русском балете»; когда Ванесса Белл сдавала свою квартиру на Риджент-сквер Андре Дерэну; когда Клайв Белл имел обыкновение обедать в Савое «в тени» Пикассо и посещать очаровательные балетные застолья; когда Роджер Фрай развлекал у себя дома художников, оформлявших «Волшебную лавку» и «Треуголку», когда Джон Мейнард Кейнс давал «великолепный званый вечер», на котором Пикассо, Ансерме, Лопухова и Дерэн терялись среди десятков художников, писателей и ученых из числа знакомых хозяина в кругах высокой богемы[936].
Этот год стал замечательным и по другой причине. Впервые в истории пребывания труппы в Англии интеллектуалы поспешили засвидетельствовать свой энтузиазм по поводу нового стиля и репертуара Дягилева. Клайв Белл, Роджер Фрай и Джеймс Стрэчи написали солидные статьи о труппе; Эзра Паунд, Ричард Олдингтон и Ребекка Уэст сочиняли рецензии; Артур Симонс опубликовал эссе – первое из целого потока последовавших затем – о Дягилеве и искусстве танца вообще. В том же 1919 году Томас Монро посвятил целый выпуск своего поэтического журнала «Мансли чепбук» исследованию Олберта Рутерстона «Украшение в искусстве театра», в котором были подробно рассмотрены работы довоенных художников Дягилева и представлены репродукции эскизов костюмов для Павловой, сделанных самим автором. «Драма», прогрессивное издание Британской драматической лиги, организовала в своем декабрьском выпуске целый балетный «симпозиум» с участием Мясина, Карсавиной, а также Адриана Боулта, английского дирижера Дягилева, и Джеймса Стрэчи, составившего библиографический список изданий о танце в коллекции Британского музея. Если 1913 год оказался для Дягилева annus mirabilis в истории британской оперы, то 1919-й занял такое же место в истории британского балета[937].
Что восхищало Блумсбери прежде всего, так это визуальный модернизм новейших постановок труппы. Впервые Дягилев стал использовать просцениум как раму для подлинных произведений живописи; он превратил сцену в великолепную галерею, находящуюся в распоряжении художников, поддерживаемых и защищаемых Блумсбери в течение целого десятилетия. Анализируя работу Ларионова для «Детских сказок» (так «Русские сказки» были названы в Колизеуме), Роджер Фрай подробно говорил о живой объясняющей ценности метода художественного обобщения и едином качестве формы, таком, как метод, характерный для каждой части оформления:
Господин Ларионов… дает нам только легкий намек на действительную внешность павлина, но из определенных геометрических форм, намеки на которые подсказаны самой природой, он составляет нам фигуру, которая почти смехотворно передает тот характер, который символизирует Лиса. Это действительно забавно, насколько убедительно переданы идея и характер этими абстрактными формами, насколько точны движения, уместные или для павлина, или для индийского принца… как и цвет, одновременно не натуральный и в то же время ясно намекающий на характер. Сделано это в тонах насыщенного ультрамарина, багряного, глубокого красно-коричневого, густого зеленого – и, как сильнейший акцент на всем, белые крапинки и полукружия. И в основном благодаря воздействию этих акцентов все приходит в движение[938].
Каким удовольствием проникнуты эти строки, сколько восхищения откровениями формы! Можно предположить, что не один Роджер Фрай испытал прозрение от образов на сцене Колизеума, что друзья, сопровождавшие его, разделили с ним этот опыт, что в этот момент, поворотный для нее как художницы, Вирджиния Вулф могла почувствовать в балете рисунок, ритм и структуру, которых группа Блумсбери добивалась в литературе, не меньше, чем в живописи.
Ларионов был только «закуской». «Главным блюдом» для подлинного пиршества Блумсбери стал Дерэн. Он символизировал, как написал Клайв Белл, «все, что было… живого и действенного во Франции – страстную любовь к традиции, стремление к порядку и волю к его достижению и ту загадочную вещь, которую школьные учителя называют “высшей степенью серьезности”»[939]. В своей рецензии на «Волшебную лавку» Фрай также говорил о «чисто французском классицизме» Дерэна, его «точнейшем акценте высокой цивилизации», его «глубоком восприятии всех художественных ценностей прошлого»: это художник, «который собрал все излучения прошлого и сфокусировал их точнейшим образом на настоящем». Фрай посвятил почти целый раздел в «Атенеуме» и другой теме: роли Дягилева как пропагандиста модернизма, его «таланту представить подлинные произведения искусства на суд британской публики»:
В случае с «Детскими сказками», например, широкая британская публика испытывала восторженное восхищение, и в то же время культурные люди были просто разгневаны «смехотворным» и «абсурдным безобразием» рисунка господина Ларионова. Это было достигнуто… благодаря атмосфере экзотической фантазии, продиктованной сюжетом и его совершенным выражением в танце. И в «Волшебной лавке» вновь буйное веселье целого, полное ниспровержение всех стандартов правдоподобия и вероятности фактически предохраняют зрителей от того, чтобы они усмотрели в этом даже на миг покушение на их чувство собственного достоинства и здравый смысл, что нередко бывает при восприятии произведения искусства[940].
Дягилев действительно научил Англию видеть. Благодаря Ларионову, Пикассо и Дерэну он направил публику в сторону модернизма – чистого цвета, интеллектуальной формы, выразительности, очищенной от сентиментальности. Однако работы этого периода воспитывали глаз и в другом смысле. «Танцевальное высказывание более выразительно, чем словесное», – писал Артур Симонс[941], и в те годы британский зритель учился воспринимать хореографическую составляющую балета, ее роль в артикуляции и завершении общей конструкции спектакля. Слово «хореография» (choreography) в варианте, отражающем французские корни, теперь вошло в повседневный обиход. Афиша Колизеума в 1918 году обозначала Мясина одновременно как «хореографа» (chorégraphe) и как «первого танцовщика» (premier danseur); программа также относила на его счет «хореографию» (choreography) постановки. К июню 1919 года даже газета «Таймс», бастион лингвистического консерватизма, стала употреблять этот неологизм, поначалу заключая его в кавычки. Спустя пять месяцев кавычки исчезли, и титул Мясина в англизированном варианте стал звучать как хореограф (choreographer)[942]. Словоупотребление в данном случае оказалось не просто лингвистической модой. Оно подчеркивало новое видение танца, осознание движения как образа.
Уже в Колизеуме хореографический модернизм «Женщин в хорошем настроении» и «Детских сказок» привлек внимание Фрая. Он с одобрением заметил, что «формальные соотношения движений во всех различных частях балета стали еще более четкими и очевидными – весь рисунок движения направлен на то, чтобы усилить единство и интеллектуальную насыщенность его замысла». Белл вторил своему патрону. «Идея балета» Мясина, писал он несколько месяцев спустя, заключается в «организации целого, независимого от обстоятельств и значительного самого по себе». Немногие могли сформулировать, как действует хореография, столь же четко, как эстеты Блумсбери. Но, благодаря нескольким сезонам и возможности видеть вновь и вновь предлагаемый им репертуар, все почувствовали, что это действительно работает и приносит в балет самое существенное и значительное. Когда Мясин покинул труппу в 1921 году, утрата талантливого постановщика танцев заставила зрителей осознать ценность его хореографии. Как писал в «Дайал» Рэймонд Мортимер: «Мы скоро поняли, что это был не столько танцовщик, сколько хореограф, который был незаменим. Так, когда был поставлен “Шут” на музыку Прокофьева, то хореография [Ларионова и Тедди Славинского] не представляла интереса ни в драматическом, ни в пластическом смыслах»[943].
Кое-что еще приковывало взгляд Блумсбери. Интеллектуалы впервые столкнулись с исполнительским стилем – объективным, внеличностным, абстрактным, – отражавшим как раз те качества, которые они особенно ценили в других искусствах. Когда Карсавина после пятилетнего отсутствия вновь присоединилась к Русскому балету, Клайв Белл заметил, что «она играла в совершенно другую игру, и при этом недостаточную» по сравнению с молодыми звездами Дягилева; он провел различие «между актрисой и безупречным артистом», между выражением индивидуальности и преобразованием индивидуальных свойств в искусство:
Госпожа Карсавина сообщает свою грациозную и привлекательную индивидуальность публике напрямую… она способна выразить себя не через произведение искусства, которое она интерпретирует, но непосредственно, как в разговоре… Мадам Лопухова совсем иная… [Она] названа «величайшей комической актрисой поколения»; но, что еще важней, ее восхитительно веселый нрав причисляется к ее главным инструментам. И это так и есть; и то же самое может быть сказано о Моцарте или Фра Анжелико. Вся суть здесь в том, что ни Моцарт, ни Фра Анжелико, ни Лопухова не выражают самих себя публике напрямую. Они преобразовывают индивидуальное в нечто более важное и ценное. Публика не получает от них сырой материал. Они вкладывают себя в произведение искусства, из которого публика может вывести то, что она в состоянии вывести…
Карсавина устремляется по эту сторону занавеса именно потому, что она не в ладах с новым балетом; в то время как миниатюрная Лопухова, появляясь в ограниченном сценическом пространстве, устанавливает живой контакт с каждой линией и краской на сцене, выражая свою индивидуальность в каждом жесте по-своему, и помогает воссоздать органическое целое, как первая скрипка хореографа[944].
Между окончанием 1922-го и началом 1923 года еще один значительный писатель, по крайней мере частично связанный с Блумсбери, наблюдал с восхищением эту революцию исполнительского стиля. Упоминания Русского балета часто появляются у Томаса Стернза Элиота; как явствует из его лондонских писем в «Дайал», труппа заняла главное место в его размышлениях о театре. В 1921 году он написал:
Два года тому назад прибыл балет господина Дягилева… мы приветствовали «Женщин в хорошем настроении» и «Волшебную лавку» и «Треуголку» как зарю искусства театра. И хотя с тех пор здесь не происходит дальнейшего развития, балет, возможно, будет одним из главных влияний на формирование новой драмы, если новая драма придет. Конечно, я имею в виду поздний балет, образцы которого только что назвал, – ранний балет, даже если он имел великих танцовщиков – Нижинского и Павлову – был далеко менее значительным или основательным. Поздний балет – более утонченный, но также и более истинный, и становящийся более легким; и в чем нуждается искусство, так это в превращении текущей жизни в нечто богатое и странное[945].
Как и Белла, Элиота восхищали сосредоточенность и отчужденность исполнителей, которые играли скорее для самих себя, чем для зрителей. В Dramatis Personae, коротком эссе о театральной критике, опубликованном в недавно основанном им «Критерионе», он распространяется о достоинствах Мясина, «величайшего актера… в Лондоне… наиболее полно являющего внечеловечность, внеперсональность, абстрактность». Делая следующий шаг после разграничения Беллом выражения и превращения, Элиот противопоставляет «условный жест обычной сцены, пытающийся выразить эмоцию, абстрактному жесту Мясина, символизирующему эмоцию»[946]. Более поразителен сам случай, вызвавший эти заметки: «Вы будете приятно удивлены» Джорджа Роби – ревю, которое, по общему свидетельству, не отразило ни исполнительского, ни хореографического дарования Мясина в полной мере. На самом деле, еще задолго до того, как Джордж Баланчин эмигрировал на Запад, «внеперсональность», само изобретение которой многие также будут приписывать ему, уже стала маркой исполнительского стиля в труппе Дягилева.
По мере взросления Блумсбери становился все более консервативным; литературное течение все тесней связывалось со светской жизнью и устремилось восхвалять цивилизацию. В том, что Клайв Белл написал в «Нью рипаблик» между 1918 и 1922 годами, балет присутствует как знак причастности к правой идеологии, а Дягилев объявляется единственным, кто поддерживает в театре стандарты вкуса и критического ума, порядка и непревзойденного мастерства. В конце своего эссе «Кредо эстета» Белл изображает совершенный день: ланч, солнечный день, Пруст, балет, оживленный ужин в доме, полном прекрасных вещей, с Артуром Рубинштейном за фортепьяно[947] – все это указания на искусство, очень близкое к тому, которое ценилось в свете. Белл был не единственным, кто связывал передачу культуры по наследству с передачей эдвардианских привилегий. «Опера, – писал Элиот в июле 1922 года, имея в виду крах организации Бичема, – была одним из последних остатков прежних преимуществ жизни, поддерживающим символом даже для тех, кто редко ее посещал». Для обоих, Элиота и Белла, зараза распространения критического духа была главным источником болезни. «Наши вкусы, – писал Белл, – навязываются нам нашими торговцами, в почетный список которых я включил издателей газет, их продавцов и распространителей, королей мюзик-холла, держателей частной оперы, арт-дилеров и честных старьевщиков»[948].
Англичанин Белл мог обвинять в крушении стандартов тот благополучный класс, который отрекся от своей роли культурного лидера, Элиот же, переселившийся в Англию американец, возлагал вину на демократию: «благопристойная толпа среднего класса» и произведенные ею продукты, особенно «дешевый и быстро набирающий силу кинематограф», угрожают культуре как высокой, так и низкой[949]. В депрессивной атмосфере послевоенного Лондона Русский балет стал единственным бастионом цивилизации, фантастическим образом выжившим в предыдущую эпоху. Но, как показала «Спящая принцесса», даже Дягилев не обладал иммунитетом против требований рынка. В поисках путей спасения элиты в Блумсбери после наступления перемирия зародилась идея некоего подобия культурного контроля, и идея эта принесла странные плоды. «Сколь бы неприемлемой ни казалась мне сама идея Министерства изящных искусств, – признавался Белл в своих мемуарах, – создание такого министерства явилось бы единственным средством спасения искусства от вымирания в условиях, когда частное покровительство было бы подорвано экономическим равноправием»[950]. По иронии судьбы, сохранение высокого искусства в Британии – оперы, драмы и балета – стало возможным, только когда разросшееся во время Второй мировой войны популистское большинство проголосовало за лейбористов в 1945 году.
Круг Блумсбери, при всей значительности его поддержки Русского балета, составлял только часть «художественной» публики, которая высказывала свои мнения в прессе с возрастающей частотой и неприязнью, усиливающейся по мере того, как близилось к концу военное десятилетие. С этих первых лет после перемирия ведется отсчет возникновения культа поклонников, неизменно сопутствующих труппе уже до ее конца: «в высшей степени возвышенных существ» и «болтливых эстетов», которые бурным потоком устремились на дягилевские «новейшие парижские моды» как на повод для проявления снобизма[951]. Уолтер Джеймс Тёрнер, рецензируя новую пьесу в «Лондон Меркьюри», порицал этих самопровозглашенных арбитров театрального вкуса и ту силу, которую они набрали к двадцатым годам:
Если Юные Ревизоры, произведенные некоим русским обществом или русским Театром миниатюр, сочтут ее за замечательный шедевр эксцентричного и оригинального искусства, и все юные уродцы Лондона, зачастившие на Русский балет и высмеивающие Гилберта и Салливана, ринутся ее смотреть, то они месяцами не будут говорить ни о чем, кроме нее. Так как она изготовлена презренным англичанином… и… так как она имела несчастье завоевать огромную популярность в форме книги, то вероятность быть оцененной по достоинству для нее слишком мала[952].
Настроения такого рода были, без сомнения, редки. Это не значит, что они были запрещены театральным рецензентам. Поскольку вкусы как в музыке, так и в живописи тяготели к вкусам континентальной Европы, обозреватели вновь и вновь жаловались на «слишком большую готовность к восприятию заграничных идей» – подобных тем, что пустил в обращение Дягилев[953].
Ли Генри приписывал «антагонизм» по отношению к Дягилеву «в определенных культурных и журналистских кругах» «вязкому болоту претензии на культ» и «неразборчивой публике, создающей ажиотаж вокруг труппы и ее артистов»[954]. Было здесь и нечто сверх того. Тактика Дягилева – использовать журналистов для обнародования своей художественной линии – не сработала в случае с лондонским пишущим братством; это попахивало компромиссом и продажностью и негласно намекало на то, будто англичане нуждаются в экспертах, указывающих им, что думать. (Эдвин Эванс, «дягилевец» среди музыкальных обозревателей, даже числился в платежных ведомостях труппы[955].) Такие подозрения стали напрашиваться в 1921 году, когда Стравинский в Лондоне при возобновлении «Весны священной» сделал ряд музыкально-теоретических заявлений, вызвавших бурю в прессе. Британский лев был разбужен, и композитор, к его большому огорчению, обнаружил себя в роли жертвы[956].
Дягилев перестарался в игре 1921 года не только потому, что он просчитался в психологии игроков, но и потому, что отчасти изменились и сами карты. Художественные формы не существуют в социальном вакууме, и когда Тёрнер заметил «забавное сходство между музыкой Стравинского и модными шляпами и нарядами общества»[957], он осуждал не саму эстетику модернизма, но ее культ среди части дягилевской публики. Чему в те годы критики уделяли большое внимание, так это рождению высокой богемы – того самого альянса современного искусства и моды, для создания которого Дягилев не будет жалеть сил в двадцатые годы. Эдвард Дж. Дент, музыкальный критик «Атенеума», как и Тёрнер, с подозрением косился на этот феномен:
Дягилевская публика (я должен назвать ее его именем, поскольку она есть его создание) состояла – или, в любом случае, они в ней преобладали – из «изящных интеллектуалов»: музыкантов, которые знали все о живописи, художников, которые знали все о музыке, поэтов, которые любили быть людьми светскими, людей светских, которые любили быть поэтами, современных схоластов, антикварных модернистов – то есть всех тех, кто, независимо от того, к какому классу они принадлежат, любят тешить себя тем, что стоят выше его. Порой они не понимают самих себя, но мистер Дягилев понимает их, как если бы он сам был маэстро, чья бессмертная рука слагает их анатомию из опилок и мишуры[958].
В 1920-е годы эта «изящно-интеллектуальная» аудитория стала идеологическим центром дягилевской публики – так сказать, салоном, где летали слухи и жужжали сплетни. Но этот маленький мирок, лондонский аванпост всего Парижа по вкусу и стилю общественной жизни, никогда не будет править английской культурной жизнью столь же железной рукой, как подобная группировка на противоположной стороне пролива. Вновь и вновь, вопреки сложившемуся порядку классового подчинения, в Британии можно было встретить феномен, почти полностью отсутствующий во Франции, – стремление к демократизации высокой культуры, несущей оперу, музыку, Шекспира и классику обычным людям по доступным ценам. По сравнению с этими усилиями любая премьера Стравинского в Ковент-Гарден, каким бы торжественным ни был случай и как бы его ни превозносили в светских разговорах, значила куда меньше. Как писал Тёрнер в 1920 году:
Сильно поражает, когда, возвращаясь из-за границы, обнаруживаешь, насколько значительно меньше идолы интеллигенции, такие как Стравинский, ценятся в Англии, чем на континенте. Здесь главным музыкальным интересом прошлого сезона было не первое исполнение «Соловья» Стравинского в форме балета и не концерт его камерной музыки, но практически все, что бы ни происходило в Ковент-Гарден или в лондонских концертных залах. Это было и исполнение Блоу и Моцарта в «Олд Вик», и «Дидона и Эней» Перселла в Гайд-парке, где тысячи людей часами слушали стоя, и кембриджская студенческая постановка «Королевы фей», и приближающийся фестиваль в Гластонбери… Здесь приведены примеры подлинной музыкальной жизни страны[959].
Балеты, поставленные Дягилевым, могли расколоть братство критиков, но они продолжали притягивать в театр интеллектуалов. С постановкой «Спящей принцессы», однако, разлом прошел и через саму публику: балет вбил клин между эстетами, аплодировавшими постановке, и модернистами, равнодушно пожимавшими плечами. Различия во взглядах критически мыслящих интеллектуалов Блумсбери и исповедующих стильность денди круга Ситуэллов постепенно разрастались – при том, что и те и другие пристрастились к балету и имели интерес к современной живописи. (Выставка современной французской живописи 1919 года, с которой братья Ситуэлл начинали действовать как импресарио в области изящного искусства, выдвигала на первый план кумиров Блумсбери – Пикассо, Дерэна и Матисса.) «Спящая принцесса» вынесла эти различия на поверхность. Сфчеверел Ситуэлл вспоминал:
После «Волшебной лавки» и «Треуголки» старый шедевр Чайковского и Петипа ожидался представителями «передового отряда» со смешанными чувствами… перспектива пяти действий и трехсот костюмов Льва Бакста внушала мне радостное ожидание. Во время первого антракта один несчастный сказал мне, что его тошнит от всего этого, что это полнейшая деградация, особенно в музыке. Человек, занимающий ныне видное положение в «Нэйшн» и «Нью стейтсмен», сходился с ним во мнении… Но для кого-то, как и для меня, любившего музыку «Щелкунчика» с детства, это даже не могло быть поводом для обсуждения. И я повторяю эти неприятельские суждения только потому, что это так забавно, сколь часто «интеллигенция» может быть весьма – и совершенно – неправой[960].
Но была ли интеллектуальная пресса совершенно неправа, вынося приговор балету, который был антитезой всему тому, что Дягилев научил уважать? Модернисты почувствовали измену и, соответственно, наточили свой скальпель. В «Дайал» Раймонд Мортимер с нескрываемым гневом вопрошал:
Что стало с мистером Дягилевым? Что делает постановку английской? Костюмы! Костюмы! Костюмы! [вторил он тону Чун Чин Чоу] Какая музыка? Тысячи провинциальных оркестров ответили мелодиями из «Щелкунчика»… Чайковский умер, но его музыка продолжает быть доступной… Господин Бакст же действительно жив. И он принялся рисовать сотни костюмов, танцовщики стали разучивать балет тридцатилетней давности – «Спящую принцессу», а пресса – широко информировать нас о том, что костюмы стоят два миллиона франков и что музыка Чайковского такова, какой она должна быть. Сам Стравинский заявляет об этом в каждой газете…
В результате мы имеем то, что и можно было представить, – балет ранних девяностых, балет, в котором даже госпожа Лопухова и господин Идзиковский не смогли произвести впечатления, балет, который разодет в пух и перо и тянется три часа, балет, восхищающий тех, кто ненавидит «Весну священную»[961].
Немногие рецензенты выразились с таким смаком, как Мортимер. Протесты против балета усиливались – против обывательской мелодичности Чайковского, назойливого парада костюмов Бакста (Тернер сравнил костюмы с «народным гуляньем в Хемпстед-Хит»[962]), устаревшей хореографии Петипа, – отражаясь на страницах интеллектуальной прессы. Для передовой интеллигенции «Спящая принцесса» представляла рождественскую пантомиму высокого качества.
За такими «придирками» стояло нечто большее, чем ощущение предательства. Они возникали из критического отношения к прошлому. Модернисты смотрели на историю современным взглядом; они исследовали ее через призму новых форм и идей: Россини, переделанный Мясиным и Дерэном, был балетным аналогом известных переинтерпретаций Стрэчи. С другой стороны, денди-эстет ликовал по поводу возрождения прошлого; он ликовал по поводу воскрешения в памяти его ритуалов и его пышности, картин, открывавших простор воображению. «Спящая принцесса» для Сачеверела Ситуэлла означала сигнал к началу путешествия в направлении театральной истории – викторианской пантомимы, комедии дель арте, юношеской драмы, как и романтического балета – путешествия, освященного «чувством ностальгии, граничащей с отчаянием от исчезновения прошлого, особенно искусства, процветавшего в утраченном золотом веке и мертвом во времени настоящем»[963]. Здесь мы оказываемся далеки от ревизионизма и экспериментаторства Блумсбери.
Изысканность никогда не была чужда Русскому балету. Но в период, последовавший за возвращением Дягилева в Лондон в конце 1924 года, стихия дендизма выдвинется у подготовленной им публики на передний план. Школьник послевоенных лет, следующий по стопам Ситуэллов, вытеснит критически настроенных интеллектуалов Блумсбери из идеологического центра публики. Частично эти изменения связаны с естественной сменой поколений. Но труппа, вернувшаяся в Лондон в 1924 году, уже отличалась от себя самой: привкус художественной моды и аристократической претензии, свойственный ее теперешнему репертуару, отличному от ортодоксальных работ высокого модернизма, был нацелен уже на других клиентов. После поражения, связанного со «Спящей принцессой», Дягилев связал свою судьбу с высокой богемой.
Для петербуржца Дягилева Париж по-прежнему оставался домом, духовной и творческой обителью. Он мог проклинать его непостоянство и высмеивать его дороговизну, но именно в его студии и салоны возвращался снова и снова за новыми идеями и подтверждением успеха у критиков, и именно там в конце концов он создал дом для своей бесценной коллекции музыкальных партитур, книг и произведений искусства.
И тем не менее в годы с 1917 по 1929-й Париж редко становился домом для самого Русского балета. Премьеры могли проходить по-прежнему здесь, но с тех пор, как труппа обосновалась на длительный срок сначала в Лондоне, а затем в Монте-Карло, Париж стал для нее только короткой остановкой в ежегодных маршрутах. Но суждения зависят как от времени, так и от других обстоятельств. В 1909 году Париж капитулировал перед Русским балетом на несколько недель, и до начала войны это повторялось каждой весной. Однако после 1917 года город умерит свои восторги: весь Париж, светский и артистический, расположения которого так добивался Дягилев, открыл для себя другие антрепризы, в том числе многие из тех, что заимствовали у Русского балета вдохновение, да и исполнителей, которым он теперь уделял столько внимания, на которых тратил время и изливал финансовые потоки. Никогда больше Дягилев не обретет былой, столь высокой, репутации во французской столице.
Первая мировая война могла изменить карту Европы, но мало повлияла на парижскую публику Дягилева. Перебравшись через пролив из Англии, где популизм после наступления мира умерил стремление к роскоши, можно было оказаться в привычной обстановке. Все общественные установления сохраняли связь с прошлым: здесь продолжали существовать благотворительные гала и организационные комитеты, поддерживавшие культурные начинания, колонки светской хроники и богато изданные программы спектаклей, элегантные развороты дорогих журналов, высокие цены на билеты в высоко котирующиеся театры, иными словами, та же комбинация элегантности и искусства. Конечно, можно было заметить новые черты и более скромные послевоенные силуэты, но имена, как и высокая мода, разительно совпадали с прежней публикой. Ничто не свидетельствует столь явно о различии публики двух столиц, как художники, которых Дягилев так усердно брался культивировать, или поддержка интеллектуалов – сторонников, которых он приобрел в Англии. По сравнению с Лондоном, изменения парижской публики не были ни основательными, ни далеко идущими.
На протяжении этих лет дягилевская публика оставалась такой, какой она была всегда – весь Париж. Но внутри разнородной коллекции космополитических арбитров вкуса неизбежно происходили перемены: публика наряду с приверженностью к шикарному модерновому стилю приобрела демократизированный фасад и теперь культивировала авангард, пришедший на смену господствовавшим прежде экзотическим и славянским предпочтениям. В своем позднем обличье весь Париж был не менее разнородной группой, чем прежде, однако сейчас вместо наследников семей банкиров и прототипов прустовских персонажей высший свет столкнулся с высокой богемой, знаменитостями «клубного общества», магнатами модной индустрии, титулованными эмигрантами и творческими личностями – дилетантами или истинными мастерами, – следовавшими в их русле. В годы с 1917 по 1929-й парижская публика Дягилева, как и сам Русский балет, не исходила больше из диктата правобережного Олимпа. Она действовала уже как брокер современного искусства, продвигающий товары на рынок, расширившийся теперь до Америки. Дягилевская публика могла включать в себя отдельных творцов модернизма, но гораздо большим было число покровителей модных направлений, новообращенных сторонников и коллекционеров. В этой части всего Парижа, где искусство было разменной монетой современного стиля роскоши и новой аристократии вкуса, Дягилев нашел идеальную аудиторию для оптовой продажи балетов на ниве авангарда.
В декабре 1919 года Дягилев совершил свое «триумфальное возвращение» в Парижскую оперу, лишь слегка омраченное забастовкой рабочих сцены и исполнительского персонала. На время могло показаться, что Дягилев вынашивал идею сделать этот театр, обладающий привилегией находиться на самой вершине французской системы субсидированных театров, своей базой. В начале января 1919 года он писал Мисе Серт, посреднице в переговорах, что сезон должен быть «блестящим» и «не слишком неприятным», имея в виду скандал, связанный с показом «Парада» два года тому назад. Жаку Руше, директору Оперы с 1914 года, не было нужды беспокоиться: сбор от спектаклей, по сообщению «Меркюр де Франс», превысил 100 000 франков[964]. Этот сезон явился не только финансовым успехом для сорвавшей большой куш Оперы, и без того стабильно субсидируемой. С признанными балетами Фокина и тремя новыми работами Мясина Дягилев подтвердил во мнении театралов Парижа свое верховенство как поставщика балетных представлений.
Конкуренция в послевоенном Париже приобретала различные формы, особенно в связи с вызовом, исходящим от только что сформированного Рольфом де Маре Шведского балета. Художники и эстетика из дягилевского прошлого теперь стали участниками и средствами набиравшего силу течения рискованных театральных начинаний, переманивающих его основную публику. Сезоны, организованные Марией Кузнецовой, Идой Рубинштейн и Никитой Балиевым, не говоря уже о ревю в таких туристических Мекках, как Фоли-Бержер, присваивали себе русские и ориентальные темы из довоенного репертуара дягилевской труппы. В то же время Париж был опьянен примитивизмом, и скорее даже тем, который экспортировался из Африки, а не с Ближнего Востока. Джаз, Жозефина Бейкер и «Негритянское ревю» использовали воздействие чувственного очарования, однажды уже разработанного Римским-Корсаковым и танцовщиками Дягилева в «Шехеразаде». В 1922 году Руше пригласил Фокина поставить «Дафниса и Хлою» Равеля для первой полновечерней программы балета в Опере за последние десять лет. И это был не единственный случай, когда Руше вторгался на территорию, традиционно принадлежавшую Дягилеву. Начиная с 1919 года, когда Ида Рубинштейн впервые появилась со своим великолепным и дорогостоящим спектаклем, выступления ее труппы включались почти в каждый последующий сезон в Опере, причем с участием таких довоенных «светил», как Бакст, Габриеле Д’Аннунцио, Венсан д’Энди и Флоран Шмитт.
По мере того как Руше частично переориентировал Оперу на ранний облик Русского балета, Дягилев очищал свой репертуар от приверженности к эстетике fin de siècle. Весной 1920 года не менее девяти работ из четырнадцати, представленных в сезоне, принадлежали Мясину, а два из остальных балетов Фокина были с музыкой Стравинского. Композитор являлся главной фигурой в декабре следующего года в Театре Елисейских Полей, где на Рождество была дана программа, состоявшая исключительно из его балетов, и в мае 1923-го, когда короткий сезон в Гетэ-Лирик завершился «Фестивалем Стравинского», на котором цены на лучшие места были удвоены. Вечер в декабре 1920 года, представивший все работы Пикассо, подчеркнул полный его разрыв с эстетикой «Мира искусства».
Руше вновь открыл двери Оперы для Русского балета лишь в 1921 году[965]. «Спящая принцесса» со звездами, роскошными декорациями и впечатляющими костюмами обещала такое великолепие, которое неизбежно должно было обернуться кассовым успехом. Предложение Дягилева, сделанное в апреле 1922 года, показать одноактную «Свадьбу Авроры» вместе с восстановленными «Послеполуденным отдыхом фавна» и «Видением Розы» и двумя новыми работами Стравинского, «Маврой» и «Лисой», привело Руше в негодование:
Кто, умоляю, скажите, будет делать декорации и костюмы для «Свадьбы Авроры»! Вы предлагаете восстановить «Послеполуденный отдых фавна» и «Видение Розы». С теми же декорациями и костюмами или это будут работы новых художников? Если так, то кто они? Помимо «Петрушки» мы не имеем ни одного большого балета, ни «Шехеразады», ни «Жар-птицы», только очень короткие работы, требующие бессчетного количества репетиций и рассчитанные только на аудиторию художников[966].
Из гневных восклицаний Руше можно понять, сколь драматические изменения произошли с дягилевской публикой. Продвижение модернизма, и в особенности новейших произведений Стравинского, в период с 1922 по 1923 год отдалило наиболее консервативную часть респектабельной публики. В то же время возрастал культ поклонения перед труппой; это привлекало к ней сторонников художественного совершенства. (Можно усомниться в справедливости слов Руше о «художниках»: только незначительное меньшинство работавших тогда художников могло позволить себе билеты по цене, которую он сам описывает как «очень высокую».)
Культовое поклонение служит разным целям. В лучших случаях оно приводит к лояльности и пониманию непопулярного искусства или неизвестного художника. В худших случаях – и так было с парижской публикой Дягилева 1920-х годов – поклонники сами себя выдают за арбитров, новоиспеченных арбитров, владеющих исключительным кодом к пониманию. Культ поклонников также всегда привередлив, потому что он избирателен по определению. Но Дягилев хотел, чтобы его публика была избранной и в смысле благосостояния – в этом был главный парадокс его позиции в двадцатые годы. Он хотел почитания с участием могущественных сил всего Парижа. Таким образом, он никогда не отрекался от сцен для широкой публики ради рискованных авантюр авангарда: он всегда мыслил подходящей оправой для своей труппы Ковент-Гарден или Оперу, западные аналоги Мариинского театра. Притом что если Дягилев и стремился к принадлежащей им ауре истории, а также избранности и блеску своей клиентуры, то самих по себе владельцев абонементов, восседающих в ложах, он не жаждал. Готовность Дягилева пренебречь влиятельным большинством модной публики частично объясняет краткость его сезонов во французской столице. Не важно, сколь преданны или усердны в продвижении его интересов были его друзья, – все-таки их было недостаточно, чтобы заполнить театр. И действительно, к июню 1923 года слухи о неминуемом расформировании труппы проникли в прессу[967].
Дягилев никогда полностью не отрекался от достаточно многочисленной модной публики: он по-прежнему извлекал выгоду из ее респектабельности и известности. Для генеральной репетиции «Свадебки» – по иронии судьбы, самого серьезного из дягилевских балетов двадцатых годов – по случаю русской благотворительной акции во Франции собрался блистательный зрительный зал: старая довоенная публика немедленно откликнулась на общественные призывы «Ле Голуа» и «Фигаро», где Жак-Эмиль Бланш, по преимуществу портретист Belle Époque, даже разразился панегириком импресарио[968]. Но время неумолимо даже в Париже. Несмотря на громкие императорские титулы, они несли лишь воспоминания о былом могуществе и обширных владениях, и не без удивления можно было заметить пожертвования, сделанные уже от имени банков – возможно, то был первый случай корпоративного патронажа балета[969].
Аура аристократичности в еще большей степени сгущалась вокруг Русского балета в другом пристанище Дягилева на континенте – в Монте-Карло, и притом что «голубой экспресс» мчал художников к Дягилеву, он также высаживал их в Каннах и Ментоне, в Ницце, на мысе Антиб и в самом Монте-Карло, зимовке венценосных и титулованных космополитов и «специальных корреспондентов», рассылающих по домам отчеты о своем времяпрепровождении. Глядя на их фотографии в свежем номере «Таймс», лондонцы воображали, что и они вот так же потягивают аперитивы на свежем воздухе, прогуливаются сами или выгуливают своих четвероногих питомцев вдоль Променада, посещают парный женский турнир с участием Сьюзан Ленглен в Каннах. Начиная с ноября они могли обозревать колонку «Заметки с Ривьеры», сообщавшую не реже двух, а иногда и чаще, четырех раз в неделю новости о вновь прибывших, о пышных обедах и концертах. И на протяжении всей зимы они могли регулярно узнавать подробности таких «поучительных» сюжетов, как цветы Средиземноморского побережья, гольф, погода, цены, моды, календарь общественных и спортивных событий и, конечно, информацию о все больше разрастающейся популяции отдыхающих[970].
«Фигаро» была так же щедра, как и «Таймс», на размещение материалов о происходящем на Ривьере, хоть и не стремилась публиковать фоторепортажи. Почти каждый день в течение зимы 1922/23 года в рубрике «Фигаро в краю солнца» (Le Figaro aux pays du soleil) она на доброй половине газетной полосы публиковала вести с южного курорта: календарь событий, список прибывающих и даже результаты теннисных матчей. Имя Дягилева упоминалось редко – сам он по обыкновению держался в тени, – но имена его танцовщиков мелькали часто: заметки о балетах, включая имена главных исполнителей, появлялись в колонках «Фигаро» накануне премьеры в Монте-Карло. «Фигаро», в отличие от «Таймс», игнорировала толпы искателей удовольствий, опустошавших однажды избранные места; газета скорее подчеркивала разнородность общества на Ривьере. «Рождество и новогодние праздники, традиционно отмечающие открытие большого сезона на Ривьере, были особенно блестящими в этом году, – сообщалось на первой странице “Эко” 9 января 1923 года. – Ежедневно аристократия Европы встречается в концертах… или на балетах и опереттах, или на вечерах в Hôtel de Paris. Сплошной вихрь элегантности всегда и везде»[971]. Это и была та самая «элегантная публика», которая рукоплескала дягилевским звездам на открытии их ежегодного апрельского сезона[972].
Близость к княжеской семье – а после свержения с престола династии Габсбургов Гримальди оказались старейшим в Европе правящим домом – усиливала привилегированную атмосферу, окружавшую Русский балет. Труппа танцевала на дне рождения правящего князя и по случаю других национальных праздников, развлекая гостей во время дворцовых ужинов, наслаждаясь в течение сезонов покровительством принцессы Шарлотты, истовой балетоманки, бравшей уроки у Любови Чернышевой и посещавшей утренние занятия труппы в классе[973]. Хотя Монте-Карло и было в ближайшем соседстве с Францией, но в те годы княжество скорее походило на респектабельный квартал Уэст-Энда. («Лондонский Тауэр заменил Вавилонскую башню», – острил корреспондент «Фигаро» на Ривьере, обыгрывая буквальный перевод: «Тауэр» – «башня»[974].) На ужинах и гала присутствовали многие из тех, кто гарантировал Дягилеву финансовую поддержку до войны: король Мануэль, герцог Вестминстерский, принцесса Плесская, леди Михельхам, и это лишь их малая часть, – а также покровители, сделавшие беспрепятственным возвращение его труппы в Англию. Действительно, без преувеличения можно сказать, что Монте-Карло сцементировало отношения Дягилева с триумвиратом британцев – герцогом Коннаутским, виконтом Ротермиром и леди Кунард, – стоявшим за его сезонами в середине и конце двадцатых годов.
Среди английской болтовни можно было расслышать и другую речь: изысканные разговоры русских аристократов-эмигрантов, осевших на Лазурном побережье, в пользу которых сливки общества на Ривьере собирали один блестящий благотворительный вечер за другим. «Французско-русский бал в Муниципальном казино [Канн] прошлой ночью привлек в огромном количестве представителей светского общества, – сообщала “Таймс” в марте 1923 года. – Собралось более шестисот человек, и сборы для русских беженцев на Ривьере составили 75 тысяч франков». «Таймс» привела список наиболее выдающихся лиц из этого «блестящего собрания»: великий князь Кирилл с супругой, великий князь Михаил, графиня Торби, князь Долгорукий с супругой, князь и княгиня Гессенские, княгиня Карагеоргиевич и принцесса Плесская, – а также не одну дюжину имен титулованных британских гостей. Не прошло и трех недель, как благотворительная акция собрала курортную элиту – на этот раз на блестящее событие в Монте-Карло, где дягилевские звезды танцевали для русских беженцев, осевших во Франции. Еще одним пиком в календаре Ривьеры стало «чарующее» выступление Русского балета в Каннах в 1925 году в пользу франко-российского детского дома – одна из многочисленных благотворительных акций в пользу эмигрантов, которой княгиня-наследница дала свое высочайшее благословение[975].
Притом что Дягилев каждую зиму готовил свой репертуар для Парижа, театр Монте-Карло вносил диссонирующую ноту в художественные эксперименты, проводившиеся там на репетициях. Сведения о выступлениях труппы изо дня в день, помимо собственно дягилевских сезонов, недостаточны: список опер и балетов, в которых появлялись его артисты, требует дополнения. Определенно, что показы «Коппелии», «Корриганы» и «Двух голубей» из репертуара Монте-Карло, как и разнообразные утренние представления во Дворце изящных искусств в 1923 году (в которых дягилевцы выступали вместе с певцами, жонглерами и клоунами), изменяли восприятие труппы публикой Ривьеры – и накладывали на ее облик вкусы и обычаи этой публики. Чем был на самом деле Русский балет в те годы? Труппой, исполнявшей «Свадебку» в Париже во время сезона, который явно «сдавал на свалку репертуар, ассоциировавшийся с ранними годами», или труппой, танцевавшей «Коппелию», «В добрые старые времена» (Au Temps Jadis), или «Цветы и бабочки» в Монте-Карло?[976] На протяжении 1920-х годов альянс Дягилева с респектабельной публикой ослаблял доверие к нему как экспериментатору. Пиршества, которые он обслуживал в Монте-Карло, как и публика («изысканная, провинциальная и импульсивная», по саркастической фразе Сати[977]), ослабляли его сохраняющуюся претензию быть в авангарде. Дягилев, находясь в мире сановных особ и праздного безделья, отягченного только поисками удовольствий, сплетал таинства Русского балета с последней идиллией аристократии XIX века.
На протяжении всей своей карьеры Дягилев стремился к тому, чтобы художники были его верными поклонниками. Однако в годы, когда Париж был Меккой для творческих душ со всех четырех сторон света, Русский балет редко волновал Монпарнас или оказывался в гуще жизни колонии художников, как Шведский балет или недолго просуществовавшие «Парижские вечера». Идеи, придавшие Русскому балету модернистский облик, пришли из галерей и мастерских художников, но среди публики само по себе это находило лишь случайное отражение. В Париже социально-художественные круги и объединения очерчивают свой культурный горизонт; они охватывают конкретную территорию, простирающуюся от отеля «Мёрис» до неотапливаемых комнат на левом берегу Сены. Как и до войны, художники, работавшие у Дягилева, были первоклассными мастерами; остальные же посещали его театр крайне редко. Никогда в эти послевоенные годы Дягилев не будет так же сильно восхищать Париж, как он смог учащать художественный и интеллектуальный пульс послевоенного Лондона.
Париж двадцатых годов остается предметом стойкого интереса американцев, и недавние годы добавили к их «роману» поток биографий, переиздающихся мемуаров и книг, полных слухов и сплетен об этом магическом десятилетии потерянного поколения. Англо-американская колония объединяла таланты столь же различные, как и их родные города; она включала в себя сыновей и дочерей миллионеров – и писателей, живших на грани нищеты; в нее входили те, кто вращался в высшем обществе, и те, кто жил среди сюрреалистов, а также те немногие, кому удавалось проникнуть в ближний круг Дягилева. Колония американских экспатриантов взирала на Париж взглядом, отличным от европейского, и это определяло то, что было увидено и воспринято в свете совершенно иных оснований. Поэтому картина, представляющая персонажей дягилевского круга, как и сам факт посещения или непосещения ими театра, предлагает вполне резонную поправку к мифологии о его «художественной» публике.
В те дни, вспоминал поэт и издатель Роберт Мак-Олмон в своих мемуарах «Быть гениями вместе» (Being Geniuses Together), «в большинстве своем одни и те же люди переходили со спектакля на спектакль»[978], и действительно, целая книга воспоминаний могла бы быть написана о влиянии парижской сцены на сообщество экспатриантов. Поль Моран, рассуждая в октябре 1926 года в своем «Парижском письме» в «Дайал» по поводу «колонизации» Парижа выходцами из Гринвич-Виллидж и Голливуда, заметил, что «одной из немногих точек контакта» между «путешественниками и страной, по которой они путешествуют», был Русский балет[979]. Но если спектакли труппы и стали непременной частью больших американских летних туров, то само очарование ранних лет ее существования потускнело. Для художников и писателей авангарда взлет дягилевских акций пришелся на конец десятых и начало двадцатых годов, когда Стравинский и Прокофьев звучали призывом к эксперименту и в репертуаре преобладал высокий модернизм.
Из писателей, прошедших в те годы через Париж, никто не поддался столь безоглядно чарам Русского балета, как Э. Э. Каммингс и Джон Дос Пассос. Оба видели труппу во время ее гастролей в Бостоне в 1916 году; открыли ее вновь во время посещений Парижа; оба будут упоминать в своем творчестве о ее влиянии, выходящем за пределы воображения.
«Подлинный балетоман», по выражению его биографа, Каммингс уже с «юношеского восхищения Павловой и Нижинским, виденными в Бостоне, и «Петрушкой» и «Парадом» в Париже», ждал почти двадцать лет, чтобы написать сценарий балета по «Хижине дяди Тома», надеясь воздать должное Дягилеву[980]. Однако намного раньше, в конце десятых годов, в эссе, написанном вскоре после открытия им свободного стиха, этот поэт, увлекавшийся также и живописью, обнаружил, что на его размышления о современном искусстве повлиял Русский балет. Каммингс не только сопоставил «Парад», «Тиля Уленшпигеля», «Послеполуденный отдых фавна» и «Петрушку» с ренессансом модернизма: он также позаимствовал у дягилевской сцены представления о жесте и синестезии для определения подлинно живого искусства, столь взволновавшего его[981].
Для Дос Пассоса Русский балет также принадлежал к героическому моменту модернизма – «плодотворная волна прилива, которая распространялась из Парижа по всему миру перед последней европейской войной»:
Под различными ярлыками: футуризм, кубизм, вортицизм, модернизм – большинство лучших произведений искусства в наше время были результатом этой вспышки… Сандрар и Аполлинер, поэты, бывшие на первых кубистских баррикадах с группой, включавшей Пикассо, Модильяни, Маринетти, Шагала; оказавшие существенное влияние на Маяковского, Мейерхольда, Есенина, чьи идеи срикошетили в сторону Джойса, Гертруды Стайн, Т. С. Элиота… Музыка Стравинского и Прокофьева и балет Дягилева происходили из того же Парижа… как витрины универсального магазина «Сакс», Пятая авеню, мебель ар-деко… и реклама в стиле «нью-ритц» в американских журналах[982].
В 1923 году Дос Пассос познакомился с Джералдом и Сарой Мёрфи, зажиточной парой экспатриантов, дружба с которыми будет иметь важнейшие последствия для молодого художника и романиста. Из всех американцев в Париже только эта пара наслаждалась доступом во внутренний мир Русского балета[983]. Они занимались живописью с Натальей Гончаровой; помогали восстановить поврежденные декорации Дягилева; были знакомы с Пикассо, Браком, Дерэном и Бакстом. «В довершение всего, будучи в центре целого современного движения в искусстве, – говорил Джералд Калвину Томпкинсу, – балет Дягилева был движением уже сам по себе. Любой, кто интересовался труппой, автоматически становился ее членом. Вы знали каждого, вы знали всех танцовщиков, и каждый интересовался вашим мнением»[984]. Бежав от утомительных американских привилегий – Сара была дочерью фабриканта – производителя чернил, Джералд – сыном президента компании «Марк Кросс», – они жили на перекрестке высокой франко-американской богемы.
В 1923 году, когда Дос Пассос виделся с ними практически ежедневно, Мёрфи играли довольно заметную роль в жизни своей «приемной семьи». Они посещали репетиции «Свадебки» и даже помогали Гончаровой расписывать декорации, и в один из таких визитов к ним присоединились Каммингс и Дос Пассос. Восхищение «Свадебкой» переполняло их, и чтобы отпраздновать премьеру, Мёрфи арендовали баржу, стоящую на Сене. Прием с шампанским продлился до зари. Дягилев, умерив по такому случаю свой страх перед водой, присутствовал среди сорока с лишним гостей, как и несколько его ведущих артистов и его художественный «кабинет» – Пикассо, Кокто, Ларионов, Гончарова, Стравинский, Ансерме, Кохно – и другие, кто приложил руку к постановке. Не было только хореографа и танцовщиков кордебалета[985].
В общем и целом американская колония не пристрастилась к Русскому балету. Немногие журналы посвящали свои страницы его событиям, притом заметки, написанные Джанет Флэннер для «Нью-Йоркер», насчитывали не более трех-четырех абзацев. В марте 1924 года «Тиэтр Артс Мансли» опубликовал единственную серьезную статью о труппе, написанную американской экспатрианткой. Автор, Флоренс Джиллиам, была театральным критиком в парижской «Трибьюн», сотрудницей американского театрального журнала и, вместе со своим мужем Артуром Моссом, соиздательницей первой на континенте газеты о литературе и искусстве на английском языке – «Гаргойл». Рецензируя сезон 1923 года, включавший премьеру «Свадебки» и возобновление «Весны священной» в постановке Мясина, Джиллиам восторгалась бескомпромиссным модернизмом Дягилева. Для хореографии Нижинской у нее не было других слов, кроме слов восхищения. И в городе, где русские кабаре и мюзик-холльные представления были привычным явлением, она приветствовала сдержанность оформления Гончаровой как «самый серьезный отказ современной художницы от неистового и вездесущего цвета, который беззастенчиво эксплуатировался, особенно русскими, до всякой утраты художественной правдивости». Бесспорно, многие американцы разделяли ее мнение, что «наиболее значимой вещью в Русском балете или любой другой программе этого сезона стала сурово-величественная “Весна священная” Стравинского», и что вместе со «Свадебкой» «она придала сезону недостижимый прежде уровень»[986].
Никогда больше в ходе 1920-х годов выбор репертуара не будет столь бескомпромиссным; никогда больше блестящая оболочка не будет отброшена столь решительно. Контраст между всемирностью Русского балета и монастырской замкнутостью и отрешенностью существования танцовщика – одна из тем «Спаси меня, вальс» (Save Me Waltz) Зелды Фицджералд. В этом слегка завуалированном автобиографическом повествовании студия, руководимая «Мадам» – в реальной жизни это бывшая балерина Мариинского театра Любовь Егорова, – предлагает отказ от бесцельного гедонизма изощренной светской жизни путем погружения в строгую балетную подготовку. То, что Зелда нашла свою дорогу в студию Егоровой, в которую на протяжении десятилетий Антон Долин, Александра Данилова, Жорж Скибин, Ролан Пети и Марджори Толлчиф спешили, когда бы ни оказались в Париже, есть дань ее преданности, как и знак той среды, в которой она вращалась: ее вступление туда было подготовлено и облегчено Джералдом Мёрфи.
В среде литературных экспатриантов Зелда не была единственной озабоченной своими проблемами женщиной, которая увлеклась танцем. Между 1926 и 1929 годами Люсия Джойс, дочь писателя, устремилась в студию, она также занималась у Егоровой, но это продолжалось недолго, причем сами по себе ее занятия отражали более разнообразные интересы авангарда: эвритмию Далькроза, шведскую гимнастику, interpretative dancing в стиле Дункан[987]. (Среди самых эксцентричных ее учителей был брат Айседоры, Рэймонд Дункан, блуждавший по Парижу в длинной одежде, имевший свою «колонию» в Нейи и с выгодой рекламировавший туники и сандалии в торговых центрах на улице Фобур-Сент-Оноре и бульваре Сен-Жермен.) Джойс, как преданный отец, посещал выступления дочери – из тех, что придавали эклектический привкус парижской танцевальной сцене. Подобно многим экспатриантам, Джойс предпочитал балету другие виды танца. Действительно, единственное подтверждение, что он на самом деле видел Русский балет, появляется в письме, восхваляющем индийского танцовщика Удая Шанкара. «Если только он будет выступать в Женеве, – писал он дочери в 1934 году, – не пропусти возможность сходить туда. Он оставляет далеко позади самых лучших русских. Я никогда не видел ничего подобного»[988]. В середине 1930-х годов Джойс предложил Вирджилу Томсону сотрудничество в создании балета по главе о детских играх «Поминок по Финнегану». Проект, включавший оформление Пикассо, хореографию Мясина и постановку в Парижской опере[989], восходил к ранним послевоенным сезонам Дягилева – вероятному периоду первой встречи Джойса с труппой – и, как представляется очевидным, той встречи, что затронула его наиболее глубоко.
Джойс находился в центре авангарда экспатриантов Парижа – мира, объединенного кафе Монмартра, книжными магазинами улицы Одеон и маленькими лавочками, обслуживавшими богемные кварталы. Проникновение Русского балета в это «сердце» англо-американского эксперимента не было сколь-либо значительным в годы, когда Дягилев держал позу авангардиста. Если Сильвия Бич и Адриенна Монье, владелицы книжного магазина «Шекспир и K°» и «Дома любителей литературы», и посещали «отдельные» спектакли труппы в декабре 1920 года[990], то любительницами балета они не стали, да и их друзья не пристрастились к нему. В отличие от оперы Эзры Паунда «Завет» (Testament), «Механического балета» (Ballet Mécanique) Джорджа Антейла и «Ромео и Джульетты» Кокто, ни один из спектаклей Дягилева не пополнил пантеон мифов экспатриантов. В ту пору это сообщество отдавало свое сердце Джорджу Антейлу, уроженцу Трентона в Нью-Джерси, «скверному мальчишке» из американских композиторов в Париже. Малотиражные журналы для избранного круга читателей расточали ему похвалы: «Транзишн» в 1927–1928 годах опубликовал не менее пяти статей его или о нем, в то время как музыкальное приложение к «Трансатлантик ревью» существовало собственно как средство для продвижения его мнений. А он имел довольно много суждений, особенно по поводу Стравинского, которого бранил беспрестанно:
Нужно ли нам связывать все эксперименты в области новой ритмики с «Весной» Стравинского или «Шехеразадой» Римского-Корсакова? При малейшем признаке отказа от четырех Богов музыки – 3/4, 2/4, 6/8 или 4/4 – надо ли нам взывать к Стравинскому, подобно маленьким плачущим детям, и звать Отца?..
Ага! Игорь Стравинский, вы подражатель Римского-Корсакова! Ага, Римский-Корсаков, вы подражатель Мусоргского! Ага, Мусоргский, вы стащили это у русских крестьян. А как насчет музыки от бивуачных костров за тысячи, нет, миллионы лет? Как насчет тамтамов? Как насчет отсталых негров в Африке? Как насчет монголов, охвативших Европу в Средние века? Должны ли мы вернуть все ко дворам Людовика и Наполеона? Должны ли вы вечно ходить на ходулях в придворном наряде в размере 4/4 или вальсировать в вечернем платье на 3/4? Нет ли здесь еще чего для вашей маленькой, тесненькой европейской культуры последних столетий?[991]
Композитор, как и его ментор Эзра Паунд, был более увлечен саморекламой, чем анализом: культ Стравинского, что вполне естественно, отвлекал внимание публики от его собственной одаренности. Но можно заподозрить и иное основание для раздражения Антейла – чувство, что в позднейших дягилевских поворотах что-то принципиально неверно, что ни его возобновления или пастиччо, ни заказы, которыми он осчастливливал «Шестерку», не встраивались в продолжающуюся активность модернизма. Можно также заподозрить, что многие экспатрианты разделяли его насмешку над дягилевскими пастиччо из классики. В специальном выпуске «Литтл ревью», посвященном театру и вышедшем в 1926 году, Русский балет не удостоился даже упоминания[992].
Несмотря на то что многие американцы придерживались своего мира экспатриантов, некоторые из них отваживались двинуться за пределы этого гетто. В своих мемуарах «Жизнь среди сюрреалистов» Мэтью Джозефсон с теплотой описывает дружбу с Филиппом Супо, Луи Арагоном, Андре Бретоном и Тристаном Тцара и свои «дадаистские экскурсии». На одной из них будущий биограф Золя, Руссо и Сидни Хиллмана залез на стол и прочитал немецкий трактат о социализме в ресторане, полном русских эмигрантов, которые забросали его хлебом[993]. Здесь, среди завсегдатаев дадаистско-сюрреалистического Парижа, был настоящий дом экспатриантских авангардистов: молодых художников, репродукции работ которых появлялись в «Транзишн» и «Литтл ревью», и писателей, составлявших большинство их французских напарников. Здесь также можно было найти сотрудников Рольфа де Маре и графа Этьена де Бомона: Франсиса Пикабиа, автора декораций к балету Relâche, поставленному в Шведском балете в 1924 году; Тристана Тцара, чья «трагедия в пятнадцати актах» «Платок из облаков» (Mouchoir de nuages) была исполнена «Парижскими вечерами» в том же году; Ман Рэя из Филадельфии, художника и фотографа, чьи авангардные фильмы способствовали сотрудничеству с Бомоном и обеспечивали его финансовую поддержку; Антейла, чей парижский дебют в гала Шведского балета в октябре 1923 года спровоцировал легендарный, хоть и не совсем стихийный, скандал. (Бунт был нужен для фильма Жоржетты Леблан «Жестокосердая красавица» (L’Inhumaine), и, с молчаливого согласия Маргарет Андерсон, пригласившей Антейла выступить, такой бунт был срежиссирован[994].) И среди приемных отцов дадаистско-сюрреалистического Парижа находились Пикассо, Леже и Дерэн, чьи работы фигурировали как в небольших журналах, так и в балетном репертуаре соперников Дягилева.
Лишь изредка это монпарнасское содружество отклонялось от курса и пересекало тропу Дягилева, хотя сам он посещал их знаменитые события. Короткая записка от Блеза Сандрара в мае 1922 года с просьбой о билетах на «Лису», исполнявшуюся в Парижской опере[995], – один из немногих задокументированных случаев контакта между импресарио и художниками авангарда, теми, кто не работал на него и не являлся завсегдатаем близкого ему круга. (При этом странно, что Сандрар, сочинивший сценарий «Сотворения мира» для Шведского балета, казалось, искренне испытывал нежные чувства к старым работам Дягилева. Нина Хамметт, английская художница и свой человек на Монпарнасе, вспоминала ужин с Сандраром и Фернаном Леже, где французы пели отрывки из «Петрушки» и «Шехеразады»[996].) В марте 1923 года Камерный театр, выступавший в Театре Елисейских Полей, подарил Дягилеву короткое общение с парижским Левым берегом. Прибыв из Монте-Карло, он посетил спектакли театра – более чем вероятно, что это было его первое знакомство с советским театральным искусством, – и, может быть, принял участие в банкете в честь режиссера Александра Таирова[997]. В последующие годы «Литтл ревью» и «Тиэтр Артс Мансли» опубликовали ряд статей о советском театре – явный знак восхищения авангарда советским конструктивизмом и экспериментальной режиссурой. Эмигрантский театр такого очарования не вызывал.
Излишне шумная встреча между Левым и Правым берегами произошла в 1926 году, когда сюрреалисты устроили демонстрацию протеста на парижской премьере «Ромео и Джульетты»: два заблудших художника группы, Макс Эрнст и Жоан Миро, приняли участие в постановке балета. Когда занавес поднялся, открыв декорацию Миро, раздался «неописуемый шум», и с балкона верхнего яруса на партер обрушился дождь листовок, напечатанных красным шрифтом. Манифест был подписан Луи Арагоном и Андре Бретоном:
ПРОТЕСТ! Непозволительно, чтобы мысль была всецело в распоряжении денег… Те, кто капитулируют до такой степени, что перестают принимать во внимание общественные условия, ничего не стоят, поскольку идеал, которому они были преданы до того, как отреклись от него, выживет и без них… [Сюрреалистический] идеал, по существу, есть ниспровержение; здесь не может быть компромисса с такими предприятиями, целью которых всегда было смирять мечты и мятежи, вызванные физической и интеллектуальной жаждой блага международной аристократии.
Эрнсту и Миро может показаться, что сотрудничество с мсье Дягилевым, узаконенное примером Пикассо, не будет иметь таких серьезных последствий. Тем не менее это придает нам сил – нам, чья главная задача – уберечь аванпост разума от власти всякого рода работорговцев… и осуждать позицию, которая снабжает боеприпасами самых низменных партизан лицемерия[998].
Кто же были те художники среди «исключительной» дягилевской публики, те «обожатели» и «энтузиасты», приходившие в театр вновь и вновь и «принадлежавшие к высшему свету Парижа»? Заметка, опубликованная в «Ле Голуа» в 1924 году во время олимпийского сезона, предлагает ключ для расшифровки:
Эти спектакли, которые рождают в людях радушие и даже своего рода близость, объединяют вновь и вновь друзей Русского балета, которые не расходятся сразу после окончания спектакля. Недалеко от [Театра] Елисейских Полей есть маленькое кафе, которое заново покрашено и модернизировано. Там люди встречаются после театра… В воскресенье мадемуазель Сесиль Сорель, очень красивую и все еще взволнованную после спектакля, можно увидеть вместе с мадемуазель Мартой Давелли, мсье Мадраццо [sic] и другими… И когда мсье Серж Дягилев вошел в комнату вместе с Пикассо, ему была устроена миниатюрная демонстрация признательности, сопровождавшаяся криками «браво»[999].
Актриса Сесиль Сорель была царствующим кумиром Комеди Франсез; Марта Давелли – оперной певицей на пике своей карьеры; Фредерик де Мадрацо – племянником модельера Фортуни и прототипом прустовского дилетанта Ски. Все трое принадлежали к художественному истеблишменту Правого берега, то есть к среде того самого, довоенного всего Парижа Дягилева. Список гостей для чаепития с танцами в «музее» Сорель на набережной Вольтера вызывает из прошлого мир этого культурного истеблишмента: в апартаментах в стиле шинуазери толпились экс-президент Республики, герцогиня Бурбонская, британские адмиралы, французские генералы, русские княгини, кутюрье Люсиль (в частной жизни леди Дафф Гордон), Хьюберт Стоуитс, партнер Анны Павловой американского происхождения, и Гарри Пилсер, популярный исполнитель бальных танцев, владевший самым престижным танцевальным клубом Парижа[1000]. И когда Сорель посещала торжественные вечера и премьеры, казалось, что весь Париж в миниатюре сопровождает ее: Андрэ де Фукьер, «красавец Бруммель» современной моды, Франсис Пикабиа, миллионер, кубинский дадаист, и Жорж Барбье, иллюстратор журналов мод, подражавший Бердслею, и автор довоенного альбома о Нижинском и Карсавиной[1001].
В 1924 году «призраки всего Пруста», по образному выражению Эдмонды Шарль-Ру, мелькали среди икон культурного истеблишмента в публике Театра Елисейских Полей. Но никто из этой группы не занимал мыслей Дягилева, даже притом что они представляли важную часть зрителей. Скорее это были новые салоны, которые Дягилев рассматривал как свою идеальную публику, – те влиятельные круги современного истеблишмента, которые образовались вокруг принцессы де Полиньяк, Миси Серт и графа Этьена де Бомона. Оба, Вирджил Томсон и Джордж Антейл, подчеркивали важность салонов в парижской художественной жизни двадцатых годов. Для Дягилева и других предпринимателей от модернизма этот перекресток модных стандартов Правого берега и современного искусства определял узкий коридор для их рискованных начинаний: здесь создавались репутации, здесь заказы выдавались как награды и здесь же рекрутировалась публика для театральных дебютов. На протяжении десятилетия Дягилев зависел от салонов, чтобы продвигать Русский балет, чтобы окружать антрепризу аурой шика и прогрессивности. Так, «Мавра», «Лиса» и «Свадебка» прежде своих официальных премьер были услышаны избранной публикой в музыкальной гостиной мадам де Полиньяк, покровительницы Стравинского, в то же время из апартаментов Миси Серт в отеле «Мёрис» весть о ежегодных «открытиях» Дягилева распространялась по модному Парижу со скоростью телеграммы.
Тот, кто задавал тон в этой среде – Кокто, «Шестерка» и другие художники, музыканты и писатели, входившие в круг «Общества взаимного обожания» поэта, – сформировали ядро поклонников Дягилева из художественной среды. Они и их друзья составили большинство его французских сотрудников, и среди них даже было несколько близких друзей импресарио. Для Дягилева общественная «обертка», «упаковка» его художников всегда была важна. Он одевал своих «фаворитов» в элегантную одежду английского покроя, и из многих художников и композиторов, работавших с ним долгие годы, удивительно мало таких, на кого он обратил внимание без того, чтобы они вызвали общественный интерес. Для «Кокто со товарищи» искусство и вес в обществе были почти нераздельны. «Состоятельные и из высшего общества» молодые эстеты циркулировали среди салонов, продвигая, как писал Вирджил Томсон, «разговоры об искусстве среди людей достаточно зажиточных, чтобы поддерживать их, или достаточно богатых, чтобы их купить»[1002]. «Разговоры», однако, – слишком мягко сказано по поводу деятельности группы, даже если исходить из неформальной атмосферы, царившей в салонах. В гораздо большей степени, чем разговоры, решающим было само проникновение в гостиные этого альтернативного истеблишмента, поведение в которых Кокто, особенно в его многочисленных ролях талантливого разведчика, журналиста и сводника, играло важную роль.
В те годы модернизм переопределялся, трансформируясь под эгидой Кокто, его спутников и патронов из своих радикальных выражений в удобоваримый и приятный для общества стиль. В то же время через такие антрепризы, как Шведский балет, «Парижские вечера» и – в меньшей степени – Русский балет, частные продвигатели модернизма требовали чего-то близкого интересам широкой публики. Сценические площадки сглаживали, по крайней мере частично, гегемонию модернизма, поддерживаемого салонами. Но это имело и более далеко идущие последствия. Коммерческое окружение, в котором проходил спектакль, усиливало блеск его составляющих: произведение искусства само становилось престижным продуктом. В итоге возникло двойственное явление: с одной стороны, обозначился отказ от модернистского шика как ключевой стратегии поиска покровителей, с другой – произошла быстрая коммерциализация этих вкусов через балетные антрепризы.
Скорость, с которой модернизм утвердился как художественный стиль 1920-х годов, отражает рыночное окружение его распространения. Но балетная сцена была только одной из областей, где это происходило. Новое искусство, продвигаемое Кокто и его группой, было способом восприятия, стилем, тоном, который с равным успехом мог быть приспособлен к помещению ночного клуба, костюмам для модного бала, партитуре балета. Еще до Выставки декоративного искусства 1925 года места шикарных сборищ имели модернистское обличье. В «Быке на крыше», где Кокто бывал почти каждый вечер в начале двадцатых, на стенах висели работы Пикассо и Пикабиа. Там посетители «пили шампанское для наслаждения, а виски – для стиля» и буквально терлись плечо о плечо со знаменитостями, такими как Пикассо, «Шестерка», Артур Рубинштейн, Нэнси Кунард, Клайв Белл, Ивонна Прентан, Мися Серт, граф Гарри Кесслер, Шанель, Дягилев, граф Этьен де Бомон, принцесса Виолет Мюра и принц Уэльский – в то время как лучшие танцовщики Парижа веселились под американский джаз[1003]. «Бык, – скажет позже Кокто, – был не просто баром, а подобием клуба, местом встречи всех лучших людей в Париже, из всех сфер жизни: красивые женщины, поэты, музыканты, деловые люди, издатели – все встречались друг с другом в Быке»[1004]. «Оазис» Поля Пуаре был другим местом ночного слета, обладавшим атмосферой авангардистского шика; идя в ногу со временем, прежний поставщик восточной экзотики заказывал произведения Кокто, Дерэну, Сергею Судейкину и другим. Граф Гарри Кесслер, соавтор либретто «Легенды об Иосифе» и близкий друг Дягилева и его круга, зафиксировал в своем дневнике еще одно из начинаний такого рода: бар и танцевальный зал одновременно, оборудованный на баркасе на Сене молодыми польскими артистами, находившимися под крылом Миси Серт, с «фантастически высокими» ценами в 150 франков за бутылку шампанского[1005]. Модернизм в этом обрамлении стал разменной монетой международного стиля получения удовольствий, художественным оформлением, на фоне которого весь Лондон, весь Париж и весь Нью-Йорк расслаблялись и «восстанавливали силы». И так же, как он одевал сцену Русского балета, модернизм придавал форму шикарному стилю жизни модной международной публики Дягилева.
В отличие от Лондона, где танцевальный бум, размывая границы классов, придавал общественной атмосфере вокруг труппы черты демократичности, в Париже Русский балет сохранял пышное оперение социальной избранности на протяжении всех двадцатых. Однако сам характер дягилевской публики изменился, и не только в стиле. Тесный клубок мира аристократов и «аристократизированной» буржуазии, которая собиралась на его ритуалы до войны, сейчас пропустил вперед пеструю толпу модных космополитов – бомонд, в котором деньги, искусство и мода стирали старые классовые различия. До войны дягилевские звезды танцевали на празднествах только самого избранного общества. Сейчас казалось, что только богатство может обеспечить такие события. В своих мемуарах «R.S.V.P.» Эльза Максвелл вспоминала прием, устроенный ею по случаю собственного дня рождения в двадцатых в парижском отеле «Ритц». Сам этот прием был подарком от Джея О’Брайена, бывшего мужа кинозвезды Мэй Мюррей, и его супруги, происходившей из семейства Юлиуса Флейшмана, владевшего производством дрожжей. «Джей спросил Кола Портера, что бы он смог подарить мне на день рождения, и Кол ответил ему, что я ничто так не обожаю, как приемы… Серж Дягилев был тогда в Париже, и это, конечно, значило, что у меня на вечере должно было состояться выступление его балета. Я имела сцену, построенную Ритцем в саду, и разослала 300 приглашений на вечер»[1006]. Это был не единственный случай, когда пути Дягилева пересекались с «клубным обществом» самых прославленных хозяек. Эти двое встречались до войны в Лондоне и часто виделись друг с другом в последующее десятилетие, особенно в Монте-Карло, за популяризацию которого в качестве зимнего курорта Максвелл получала деньги. Действительно, «прославленный импресарио», которого она считала своим другом, отпраздновал день ее сорокалетия в Монте-Карло в мае 1923 года «премьерным показом двух новых балетов», в то время как в дополнение к этому Владимир Горовиц исполнял «Мефисто-вальс» Листа в антрактах – то было его первое выступление на Западе[1007]. (В Венеции, бывшей другим излюбленным местом обоих, которое она рассматривала как место отдыха и развлечения «клубного общества», Максвелл отблагодарила Дягилева довольно странным образом: в картине Русского балета, являвшейся «хитом» костюмированного бала в 1928 году, она появилась в виде импресарио и «произнесла вступительную речь, породившую всеобщий истерический хохот»[1008].)
Париж двадцатых был столицей моды, как и столицей искусства. Балет, как мы видели, играл важную роль в рекламировании художественной продукции; сходную роль он играл и в продвижении высокой моды. В 1924 году дягилевские солисты дали программу дивертисментов на одном из многочисленных показов мод, профинансированных журналом «Фемина»; а годом раньше «гвоздем» подобной программы был представлен бывший участник труппы Александр Гаврилов[1009]. Открытие Галереи Лафайет стало еще одним случаем, когда танцовщики Дягилева послужили своим искусством миру моды. (Делать им это приходилось обычно без всякой компенсации, и по подстрекательству Нинет де Валуа они однажды устроили протест, правда, в мягкой форме – уйдя вместе с мылом и полотенцами, предоставленными универсальным магазином[1010].) Не только частные труппы были втянуты в такое продвижение товаров: на «блестящем празднике», устроенном французскими торговцами шелком, удостоенном посещения несколькими официальными правительственными лицами, включая министра торговли, балет Парижской оперы исполнил «пьесу по случаю», рекламирующую знаменитые лионские шелка путем «тематической» пантомимы. А манекенщицы из Редферн, Уорт и других домов моды в это же время демонстрировали модели одежды – разумеется, исключительно из шелка[1011].
Балет никоим образом не был единственным видом танца, к которому мода благоволила. На мероприятиях, проводимых «Феминой», господствовала эклектика, чем отличались и благотворительные гала: и там, и там проявлялся плюрализм парижской танцевальной сцены[1012]. Действительно, в каждом номере танцевание в Париже сочеталось с участием изготовителей и поставщиков модной одежды – от кутюрье, рисовавших для сцены, до цен на шампанское в «дансингах» – танцевальных клубах той эпохи[1013] – и до пышных декораций для «негритянских ревю», импортированных из Америки. (В «Амбассадоре», где в 1926 году выступала Флоренс Милл, граф Гарри Кесслер «видел весь Париж во всей его славе», «впервые… с премьеры Русского балета», в то время как «Негритянское ревю» Жозефины Бейкер, сенсация Театра Елисейских Полей, в 1925 году представляло «современный джаз» в опере на балу под названием «Танцуя через века»[1014].)
Альянс современности в танце с роскошью рынка был лишь одним из признаков обширного культурного феномена – сдерживания модернистской, потенциально разрушительной силы в среде социальных привилегий. Как модернизм сам по себе, так и практикующие его профессионалы существовали близко к центру общества. Как это было на балах графа Этьена де Бомона, они внесли в шарады привилегированных личностей художественную тему, преувеличенную ноту, схваченную камерой Ман Рэя[1015]. Но связь между продавцом и покупателем можно было без труда обнаружить и в менее экзальтированных местах. Андре Бретон, бескомпромиссный теоретик сюрреализма, не только руководил галереей, посвященной искусству его последователей, но также служил в качестве художественного советника у кутюрье Жака Дусе, коллекционировавшего рукописи и картины современников[1016].
Сдерживание модернизма посредством балета и художественного рынка имело ряд последствий. Это сокращало путь артиста от неизвестности к славе, делая обещание успеха внутренне присущим каждому акту художественного творчества. Теперь, с динамикой рынка, вторгающейся в процесс создания образов, сама концепция авангарда оказалась под угрозой: поиск нового был не более чем велением экономики. Более того, при спаривании модернизма с миром роскошного искусства возник новый и будоражащий миф: вера в первенство таланта и вкуса в деле определения функции современной аристократии. В эпоху, когда социальное происхождение значило уже не так много, а богатство провозглашало свои права на лидерство посредством публичных проявлений гедонизма, одно лишь искусство, казалось, могло оправдать то, что прежние формы социальных привилегий продолжали существовать. Внутри этой переопределившейся аристократии, однако, само положение обязывало к малому. На самом деле, не считая серии выступлений, данных бастовавшими танцовщиками Парижской оперы в 1920 году, широкие массы в столице Франции никогда не посягали на балет, как это было в послевоенной Англии. Как и другие виды высокого искусства, балет во Франции в это десятилетие оставался в традиционных рамках салонов и государственных институтов, и ни создатели модернизма, ни его последователи не проявляли никакого стремления это изменить. Парадокс Русского балета – да и вообще модернизма во Франции – таился в альянсе радикальных форм со старой идеологией общества.
Когда Дягилев в ноябре 1924 года вернулся в Колизеум, восторженная публика приветствовала его. Однако, несмотря на то что в программке было немало знакомых имен, сама труппа изменилась. Вместе с чемоданами и ящиками, набитыми костюмами и декорациями, еще один вид багажа пересек пролив Ла-Манш – аура аристократизма и увлечение модернизмом, характерные для великосветских салонов, которыми труппа обзавелась за годы, проведенные за границей. Произведения, зачатые в лоне художественного рынка Монте-Карло и Парижа, были обращены лишь к одной части когда-то широкой лондонской публики Дягилева – прежде всего к той, которая отдавалась снобизму, эстетической элегантности и провозглашаемой ею франкофилии. В свои последние годы, с 1925 по 1929-й, Русский балет стал зримым воплощением ценностей и стиля жизни английских денди-эстетов.
В 1924 и 1925 годах Дягилев дал три сезона в Колизеуме, выплачивая часть долга за «Спящую принцессу» Освалду Столлу и владельцам Альгамбры. Как и в послевоенные годы, балет давали в каждом из двух шоу, шедших в один день. И вновь труппа лидировала в афише наряду с такими артистами, как Нобл Сисл и Юби Блейк, двое из многих чернокожих музыкантов, покинувших Америку ради сравнительно более свободных от предрассудков берегов Европы: этих многих указывали мелким шрифтом между объявлениями о репертуаре и исполнителях и рекламными анонсами[1017].
В 1918 и 1919 годах галерка потеснила партер в дягилевской аудитории – то был верный знак появления новой, широкой публики, приблизившейся к самому краю сцены. Сейчас, однако, свет рампы редко «золотил» зрителей галерки. Напротив, он заливал ложи и партер, освещая эксцентричные наряды заполонивших их модных обитателей. С 1924 по 1929 год Дягилев с презрением отвернулся от зрителей, которых он однажды очаровал. Вместо них он культивировал элиту, определявшую самые модные тенденции конца десятилетия, – людей искушенных, заимствовавших свой стиль из Парижа, а эстетические взгляды – у Ситуэллов. В бытность, когда британский балет героически боролся за создание своей прочной основы, Дягилев создал свою особую публику из ревностных поклонников с Бонд-стрит и искателей удовольствия среди представителей высокой богемы.
«Весь мир высоколобых интеллектуалов и снобов здесь был представлен», – заметил Арнольд Беннетт по поводу толпы, заполнившей Театр Лицеум, где Дягилев открывал сезон по доступным для широкой публики ценам в ноябре 1926 года[1018]. Но даже ранее чем за год до переезда из мюзик-холла на «законную» сцену «мир снобов» занял видное место на дягилевских спектаклях. «Насколько лучше любого респектабельного театра Колизеум подходит модной публике, – писала “Ивнинг стандард” на следующий день после возвращения туда Дягилева в ноябре 1924 года. – Любой мог заметить это прошлым вечером, когда там было скопление мужчин в белых жилетах и дам с гладко зачесанными волосами и увешанных жемчугом, собравшихся приветствовать Русский балет, которые в антрактах фланировали по фойе и общались друг с другом в манере великих оперных дней в Ковент-Гарден»[1019].
В это последнее пятилетие «золотая молодежь» присвоила Дягилева себе. Ее представители следовали за труппой из театра в театр, их болтовня и их наряды давали пищу для колонок о слухах и светских сплетнях, а само это легкомысленное окружение становилось неотделимым от новейшего искусства Дягилева. «Скетч» опубликовал в эти годы множество фотографий танцовщиков труппы, полдюжины биографических очерков о самых знаменитых из них и кучу репортажей о премьерных спектаклях[1020]. Благодаря Мэриголд, скрывавшейся под этим псевдонимом журналистке еженедельника, неустанному хроникеру вечеров и премьер, перед нами могут предстать «важные и искушенные зрители», которые «неотступно следовали за Русским балетом» в середине и конце двадцатых годов[1021]. Вот ее описание открытия сезона в Театре Его Величества в 1926 году:
«Переход» от одного развлечения к другому был естественным ходом событий для позднего вечера понедельника, и любители музыки наслаждались подлинным пиршеством, предлагаемым им этим вечером… Тех, кто насыщался Балетом, включая самые выдающиеся труппы, возглавлял лорд Бальфур и его остроумная племянница, миссис Эдвард Лассель… Что за изумительное разнообразие костюмов было представлено в этот вечер! Женщины в вечерних платьях самых последних фасонов и молодые люди в рубашках ярчайших цветов с воротничками мягче мягкого – последние, конечно, принадлежали лагерю высоколобых. Некоторые представляли интеллигенцию, при этом с сохранением традиционного вечернего костюма, включая юного Асквита с птичьим прозвищем «Паффин» («тупик»[1022]), находившегося на балконе… Герцогиня Рутлендская… долго ожидала в фойе, прежде чем присоединиться к леди Диане Купер, одетой в сверкающее золотое платье, и миссис Алан Парсонс (Виоле Три) в платье бледно-зеленого цвета, только еще входящего в моду. Когда они заняли свои места во втором ряду партера, я увидела, что как раз перед ними сидит леди Коулфакс. Леди Джульет Дафф, в ярко-розовом, была немного дальше в том же ряду[1023].
Асквит, Дафф, Купер, Бальфур, Три – уже одни имена этих семейств вызывают представление о фамильной, общественной и политической сети, образованной георгианской публикой Дягилева. Война покончила с превосходством либералов над английским корпусом политиков, но «Души» все еще правили в высшем обществе. Теперь уже их дети были выбором десятилетия, задававшим тон в высших сферах жизни. Некоторые, как Диана Купер, заглядывались на сцену. Другие, как леди Нэнси Кунард и Энтони «Паффин» Асквит, становились писателями, издателями и создателями фильмов. Лица представительниц «золотой молодежи» конкурировали с кинематографическими дивами на страницах иллюстрированных изданий, и красавицы из этой среды одалживали свои имена и привлекательные обличья производителям модных товаров для подтверждения их качества. (Одно из рекламных объявлений 1933 года гласит: «Леди Диана Маннерс, славящаяся как самая красивая женщина английской аристократии, сказала: “Я знаю, что любая женщина может практически достичь красоты, используя кремы “Пондз”»[1024].) Ничего удивительного, что У. Дж. Тёрнер, критик «Нью стейтсмен», описывал любителей балета «менее принадлежащими к среднему классу и респектабельными, лучше выглядящими и более живыми», чем «армия успешных оптовых торговцев бакалеей», оккупирующая Ковент-Гарден в дни оперных спектаклей[1025].
В эти годы стиль стал полем боя высшего общества, ареной, где «энергичные и артистичные» боролись за право устанавливать ценности своего класса – и особенно в определении мужественности. «Спортсмены, – писала Джессика Митфорд, чьи сестры Нэнси и Дайана считались заводилами среди “золотой молодежи”, – были прямыми идеологическими потомками прежних патриотов, победителей войн на игровых полях Итона, выпускников привилегированных школ и их женщин, любящих верховую езду»:
Эстеты выдвигали претензии на более экзотическое наследство… романтиков – Англии Оскара Уайльда, Франции Бодлера и Верлена. Большинство эстетов было смутно настроено просоциалистически, пропацифистски и [о, ужас] против стрельбы, охоты и рыбной ловли… Они беззаботно опрокинули старых незатейливых домашних богов – Англия, Дом, Слава… непререкаемое превосходство Англии над другими расами; они кощунственно называли Бурскую войну… «Скучной войной»[1026][1027].
Одним из таких денди был поэт Гарольд Актон, воплощавший причудливую смесь эстетизма, легкомыслия и социальных привилегий дягилевского «высоколобого» поклонника 1920 годов. Уже в довоенный период Актон поддался волнующему сладострастию «Шехеразады»: «тяжелое безветрие перед штормом в гареме; гром и молния негров в розовом и янтарном; неистовая оргия безудержных ласк… смерть в долго длящихся спазмах пронзительных скрипок»[1028]. Во Флоренции, где его мать, американка, и отец, художник и арт-дилер, жили среди Беренсонов, Доджей и утративших родину великих княгинь, он мельком видел Дягилева, декламировавшего Пушкина в Боболи-гарден, и испытывал смятение перед «аристократичным русским медведем», который вместе с Бакстом нанес визит на их великолепную семейную виллу Ла Пьетра.
С 1918 по 1922-й Актон посещал Итон. Там, среди художественно мыслящих школьных сотоварищей, небольшой группы, включавшей самого Актона, Брайана Хоуарда, Оливера Мессела, Сирила Конноли, Питера Куэннела, Роберта Гаторна-Гарди и Энтони Пауэлла, образовалась та сеть, что окружала Русский балет в середине десятилетия. Мартин Грин написал:
То, за что они выступали в Итоне, в основном был модернизм, понятый как движение против… культуры викторианской и эдвардианской Англии. Они стояли за французскую поэзию – Малларме, Рембо, Верлена и Лафорга, – и за французскую прозу – Пруста, Гюисманса и Кокто, – и за Францию в целом – Париж, за Пуаре и Шарве (производителя лучших галстуков)… Они стояли за американскую поэзию – Элиота и Эми Лоуэлл, и кое-что из Паунда – и за коктейли и джаз. Они стояли за современную живопись – Уистлера и Джона, Пикассо и Гогена. В Англии, как среди людей, так и среди вещей, они стояли, прежде всего, за Ситуэллов. И конечно, они стояли за Дягилева и любого и каждого, связанного с ним[1029].
В Итоне денди резвились под граммофонные записи «Петрушки», «Треуголки» и «Шопенианы» в дальних комнатах местного ювелирного магазина. Они писали поэмы, такие как «Спящая красавица» Актона, посвященная Баксту, или «Жар-птица» Брайана Хоуарда, посвященная Стравинскому, которые публиковали в «Итон Кэндл», глянцевом томе, набитом объявлениями о мастерах по пошиву брюк, серебряных дел мастерах и поставщиках крикетных бит, распродававшемся в день публикации и получавшем хвалебные отзывы от людей, подобных Эдит Ситуэлл[1030]. И при любой возможности они направлялись в Лондон, где их бросающееся в глаза появление на балете вызывало эффект гораздо больший, чем удивление. Один из сокурсников вспоминал:
Однажды мне случилось быть в Альгамбре, когда Брайан и Гарольд вошли в партер в парадных вечерних нарядах с длинными белыми перчатками, переброшенными через руку, держа трости с серебряными набалдашниками и цилиндры и выглядя как парочка Оскаров Уайльдов. Моя мачеха была поражена их видом и приняла их за иностранцев. Я слишком нервничал в мои пятнадцать лет, чтобы сказать, что эти двое являются моими большими друзьями из Итона. Меня утешало лишь то, что в бельэтаже они не могли увидеть меня[1031].
Это одно из ранних свидетельств реакции, которую вызывали в середине десятилетия денди-эстеты из числа поклонников Дягилева.
В воспоминаниях, написанных вскоре после смерти импресарио, Жак-Эмиль Бланш заметил, что «в степень влияния [Русского балета] на университетскую молодежь Британии едва ли можно поверить»[1032]. Бланш говорил от лица человека знающего, однако как портретист эпохи, включивший отца и сына Актонов в свои модели, он явно основывал свои наблюдения на ограниченном круге примеров. В Оксфорде, где Брайан Хоуард и Гарольд Актон числились в Крайст-Черче, самом элитарном колледже университета, балетомания действительно заразила сборище денди. Эти двое замышляли балет о королеве Виктории, с невероятным распределением ролей, с Актоном в роли Литтона Стрэчи – неосуществленный проект, предвосхитивший на три года дягилевское вторжение в Викторианскую эпоху с «Триумфом Нептуна» Сачеверела Ситуэлла. И другие балеты студентов колледжа были удостоены, по крайней мере, упоминания в прессе – в частности, бурлескное представление «Петрушки» и «Шопенианы», поставленное Любительским драматическим клубом Кембриджа как часть «Рождественского ревю» 1926 года[1033].
Среди исключительно мужской университетской элиты Дягилев нашел идеальную публику для своего репертуара середины двадцатых – зрителей, настроение которых гармонировало с новым французским духом, с модернистским шиком. Благодаря своим связям денди проникали в манящий русский круг, укрепляя связь между «декадансом» и балетом. В «Мемуарах эстета» Актон вспоминает, как он во время краткого визита в Париж позировал Педро Прюна и болтал с «новейшими открытиями» Дягилева о «зависти и интригах», бушевавших за кулисами. Актон был в доверительных отношениях с леди Кунард, которой он восхищался не менее, чем ее дочерью Нэнси, и именно в компании этой замечательной хозяйки он в последний раз ужинал с импресарио после спектакля, который смотрел в Ковент-Гарден из королевской ложи с королем Египта Фуадом[1034]. В те годы, когда его зарисовки разодетой публики премьерных спектаклей украшали страницы светских новостей на страницах британского «Вог», Сесил Битон распространял свое восхищение Русским балетом на личность самого импресарио. «Дягилев стал моим героем, – написал он позже, – появление Дягилева, одетого, как денди, в Монте-Карло, в Венеции или в “Савой-гриле” в Лондоне вызывало у меня восторг». На площади Сан-Марко, во время пребывания в Венеции, начинающий фотограф, бывший на дружеской ноге с преданными Дягилеву персонами, такими как баронесса д’Эрланже, ее дочь, принцесса Фосиньи-Люсенж, леди Диана Купер, леди Кунард и леди Абди, Битон, завладев вниманием импресарио, рассыпал перед ним на столике кафе «груду» эскизов и фотографий. В отличие от Оливера Мессела, выпускника Итона, автора золотых масок, использованных в «Зефире и Флоре», Битон заказа от своего героя не получил, но был допущен на репетиции[1035]. Брайан Хоуард, чьи любительские балетные выступления приводили в гнев его отца, также установил личные отношения с участниками труппы. Самый большой друг Антона Долина, эстет и ярчайшая фигура среди «золотой молодежи», он нарисовал костюмы и декорации для одного из многих балетов Долина в ревю. В 1927 году вместе с Эдвардом Гаторн-Гарди Хоуард организовал матросскую вечеринку в купальне Бэкингем Палас Роуд, где Литтон Стрэчи, Таллула Банкхед, Рэймонд Мортимер и «фривольная» толпа лондонцев праздновала возобновление «Матросов», а Серж Лифарь появился в своем костюме из «Триумфа Нептуна»[1036]. Здесь, как в капле воды, отразился изысканный, изощренный мир ранних романов Ивлина Во.
Аристократы стиля, денди брали за эталон Ситуэллов, элегантный триумвират, чье смешение искусства, легкомыслия и вкуса к жизни стало символом поколения. О 1920-х годах Сирил Конноли вспоминал:
[Ситуэллы] представляли неудержимое стремление к удовольствию и эстетическому наслаждению, характерные для интеллигентной молодежи, прошедшей через войну; они были вполне естественно связаны с Кокто и французской школой – денди, безукоризненно одетые и обеспеченные, что явно указывало на то, что эти молодые люди вышли из Оксфорда и даже Кембриджа и могли примирить искусство и моду на основе, альтернативной Блумсбери[1037].
Под крылом Эдит свили свои гнезда Брайан Хоуард и Гарольд Актон, а те, в свою очередь, ввели в ее круг других денди-литераторов, включая писателя Ивлина Во, бывшего в группе, возглавляемой Актоном на втором представлении «Фасада»[1038].
Слава Ситуэллов покоилась не на одних только литературных заслугах. Признанные поставщики информации о жизни королевского двора, они являли собой нечто выдающееся даже на фоне блеска дягилевских премьер. В 1926–1929 годах, когда этот клан – теперь уже расширившийся за счет жены Сачеверела Джорджии Добл, родившейся в Канаде, – редко пропускал премьеру, появление этого семейства в партере или бенуаре никогда не забывали отметить авторы светской хроники:
Особая и очень изысканная публика всегда сопровождала Русский балет, и на премьере в Театре Принца его «постоянные спутники» были представлены в полном блеске. Братья Ситуэлл присутствовали в сопровождении миссис Сачеверел Ситуэлл, элегантно выглядевшей в своем платье из золотой парчи[1039].
Таков «моментальный снимок» Мэриголд, сделанный в июне 1927 года. Июль 1928 года дает нам другой ее «кадр» «блистательного зрительного зала» в Театре Его Величества на премьере нового балета Стравинского:
Миссис Генри Мак-Ларен была в красном, леди Джульет Дафф – в черном, а мисс Эдит Ситуэлл была, как всегда, впечатляюща в модном наряде голубой, розовой и золотой парчи. Она прибыла с одним из своих братьев и свояченицей и рассказывала всем, как много удовольствия доставил ей «Аполлон Мусагет»[1040].
Взгляд Мэриголд вновь и вновь фиксировал Ситуэллов в театре и других местах. В 1924 году мы видим их принимающими леди Лавери, миссис Генри Макларен и «цвет интеллигенции» в галерее Кларидж, поднимающими шампанское за Павла Челищева, художника «Оды». В следующем году мы встречаем их на премьере «Бала» и «Лисы» и на дягилевском «репетиционном вечере», где Игорь Маркевич исполнил свой фортепианный концерт для «представительного собрания интеллигенции» – в том числе миссис Асквит (в то время графиня Оксфорда и Асквита), ее сына по прозвищу «Паффин» и дочери, принцессы Бибеско, писательницы «без нервов, воображения и эмоций», судя по уничтожающей фразе Вирджинии Вулф[1041].
По мере того как эра Дягилева клонилась к закату, протеже Ситуэллов стали уже соперничать с ними на страницах светской хроники – верный знак того, что они присоединились к знаменитому племени «высоколобых» поклонников Дягилева. Однако насколько высокоинтеллектуальными на самом деле были эти поклонники? Где такие фамилии, как Вулф, Фрай, Стрэчи, Кейнс, Хаксли, Элиот? В те поздние послевоенные годы, когда журналисты имели обыкновение упоминать «модных» и «интеллектуальных» рядом, как равные части дягилевской публики, наиболее передовые интеллектуалы Англии покинули Русский балет.
В 1924 году «Нэйшн» и «Нью стейтсмен» приветствовали возвращение блудного сына с неподдельной теплотой. «Огромное число людей верит, что мистер Дягилев обеспечит нас одним из очень немногих театральных развлечений, заслуживающих того, чтобы к ним относились как к серьезным произведениям искусства, и возвращение его балета в Лондон приведет большинство из нас в Колизеум… в следующие несколько недель». Таково было мнение, опубликованное в «Нэйшн» под именем «Омикрон» – в первом из многих кратких отчетов о выступлениях дягилевцев, публиковавшихся несколько лет. Даже «вопиющая разноголосица» программ Колизеума не могла притупить этот энтузиазм. На последнем спектакле сезона «вызовы были столь частыми, а аплодисменты – такими настойчивыми, что оставшуюся часть программы пришлось… отменить». «Нью стейтсмен», подобно «Скетчу», давала свои комментарии исходя из двухуровневого контингента зрителей, посещавших Колизеум: завсегдатаев, приходивших на все шоу, и балетоманов, возникавших там ради получасового выступления дягилевцев. Интересующиеся балетом приходили туда вновь и вновь: летом 1925 года «Омикрон» предсказывал вечернее паломничество читателей «Нэйшн» в мюзик-холл на Сент-Мартинс-Лейн[1042].
Согласно комментарию Тёрнера, в послевоенные годы успех антрепризе Дягилева принесла поддержка балета интеллектуалами. Интеллигенция не только направилась толпой в Колизеум – «мир невинных и чистосердечных детей и… примитивных варваров», – но и, как новая аристократия вкуса той эпохи, привела с собой представителей светского мира на плебейский порог труппы. Теперь, с балетом, «не менее популярным, чем… знаменитый актер мюзик-холла Литтл Тич», интеллектуалы могли почивать на лаврах[1043]. Рэймонд Мортимер резюмировал:
Дягилев сделал как никто другой много для популярности искусства в апатичном, скаредном послевоенном Лондоне. Он – апостол филистеров. Благодаря ему не только мелодии Скарлатти, Шумана, Шопена и Римского-Корсакова насвистываются теперь в ванных комнатах тысяч людей, никогда прежде не посещавших серьезных концертов, но и образный строй современных композиторов, таких как Стравинский, получил признание, какое прежде было возможно только для посвященных. Благодаря ему же толпа положительно восприняла декорации лучших из живущих ныне – и несправедливо осмеянных – художников. Он дал нам Современную Музыку без Слез и Современную Живопись без Смеха[1044].
Пятнадцатью годами ранее толпы филистеров глумились над полотнами Пикассо, Сезанна и Матисса на первой постимпрессионистской выставке Роджера Фрая. Затем, с наступлением мира, пришел обновленный дягилевский репертуар, провозгласивший модернистскую эстетику для публики от Блумсбери и до респектабельных и обывательских кварталов.
Сама популярность балета породила дистанцию между ним и Блумсбери. Уже в 1925 году Фрэнсис Биррел отмечал в «Нэйшн», что труппа «перестает быть праздником для высоколобых» и что в последующие годы еженедельник, контролируемый Джоном Мейнардом Кейнсом, литературным редактором которого был Леонард Вулф, стал практически игнорировать труппу, сделав лишь два исключения: для выступлений Лидии Лопуховой и постановки «Свадебки» в 1926 году. Балерина, годом раньше вышедшая замуж за Кейнса, оставалась фавориткой этого издания: «Матросы», «Волшебная лавка» и «Пульчинелла» с ее участием напоминали Блумсбери о прежних романтических отношениях с Дягилевым, вновь показывая значение личных симпатий при восприятии искусства[1045]. Этот балет, писал «Омикрон»,
безоговорочно является наиболее интересным дополнением к репертуару г-на Дягилева. Это не такое легкое, «роскошное» представление, как некоторые другие: это серьезная и успешная попытка истолковать в танце музыку, которая полностью исходит из ритмических и формальных качеств строжайшего порядка. Музыка г-на Стравинского… не содержит… мелодий и изящества, и хореография мадам Нижинской следует ей своими угловатыми, примитивными движениями, которые дают невиданную геометрическую красоту… Décor мадам Гончаровой – соответственно сдержан и строг[1046].
Тем летом интеллигенция продолжала заполнять Театр Его Величества, однако «нервное хихиканье», которым встречали «некоторые наиболее эксцентричные элементы новых балетов», по мнению Тёрнера, выдавало «вкрапления менее интеллигентной публики в зале». Следующий сезон, открывшийся в театре Лицеум в ноябре 1926 года, обнаружил еще более пеструю публику – «огромную армию почитателей, которые составляли такую же необразованную аудиторию, как любая другая, и очевидно неспособную провести различие между одним и другим балетом»[1047]. В тоне критика, безусловно, отразилась та дистанция, которая существовала между читателями «Нэйшн» и расфранченной дягилевской толпой.
Действительно, в те годы старые блумсберийцы оставили Русский балет. Тщетны попытки обнаружить в письмах и дневниках Вирджинии Вулф беглые упоминания о спектаклях, запечатлевшиеся в круговороте радостей ее повседневной жизни и работы. Письма Лидии Лопуховой также не упоминают визитов за кулисы представителей этого круга: людьми, стучавшимися теперь в ее гримерную комнату, были кузен Джоффри Кейнс и его супруга Маргарет. Легкомысленная отставка, которую дала Китти Лассуайд молодому танцовщику – «Ах, он ни на грамм не Нижинский!» – в конце романа «Годы» Вирджинии Вулф, намекает на то, что неприязнь к легкомысленной публике Дягилева и воспоминания о прошлых золотых годах затуманивали отношение Блумсбери к труппе в последние годы ее существования[1048].
Тяготение Дягилева к вкусам денди также сыграло свою роль в этом «разводе»: чем ближе он становился к Ситуэллам, тем дальше оказывался от Блумсбери. «Нэйшн» благосклонно отнеслась к «Триумфу Нептуна», но подобное не должно удивлять: то, что это сделано без упоминания имени автора либретто балета, показывает, насколько широким стал водораздел с тех пор, как тесный круг избранных танцевал в едином порыве в ночь перемирия. В те годы, о которых идет речь, лагерь разделился, стравливая художников и эстетов, истинную серьезность и увлечение модой, оригинальность и стиль. Между 1925 и 1929 годами британские сотрудники Дягилева выходили из культурного слоя денди. Оба они – Констант Ламберт, композитор «сюрреалистической» постановки «Ромео и Джульетты» 1926 года, и Уильям Уолтон, музыка которого звучала в симфонических интерлюдиях, – были протеже Ситуэлла, в то время как Оливер Мессел уверенно пошел «путем наслаждений» из Итона в мир престижных фотографов и к успеху на Уэст-Энде, который Ивлин Во соответственно связывал с Дягилевым и порицал. По вкусам, как и по авторам, «Нептун» был триумфом денди, и можно предположить, что за критикой «Нэйшн» декораций, бывших «столь традиционными в соблюдении стиля, что это совершенно сводило на нет слабые усилия, прилагаемые происходившим на их фоне»[1049], таилась неприязнь Блумсбери к искусству и ценностям викторианцев.
Братья Ситуэлл не были единственными, кто оставил след в «английском балете». Для создания партитуры Дягилев выбрал «Байрона от рококо» среди британских композиторов, любителя благородного происхождения, который в довоенные годы вращался в кругах Маркезы Казати, музы Д’Аннунцио, обедал вместе с братьями Ситуэлл во время отдыха в Риме и вел дружбу со Стравинским и Дягилевым, по крайней мере с 1916 года. Музыка, которую представил лорд Бернерс, была «в целом соответствующей, – писал Тёрнер в “Нью стейтсмен”, – но звучала скорее как произведение умного, в высшей степени образованного эклектика, чем подлинно творческого ума»[1050]. Другие композиторы Дягилева середины десятилетия, частично из-за того, что они были французами, расценивались британскими критиками, мыслящими подчеркнуто национально, значительно ниже: они использовали такие фразы, как «вымученное умничанье» (об Орике), «не имеющее большого значения» (о Соге), «сплошь высокомерная несерьезность» (об Орике, Мийо, Пуленке)[1051]. Своим выбором лорда Бернерса Дягилев сделал очевидным, что сеть денди занимает в его новой публике центральное место.
Блумсберийцы покинули Дягилева, но не потеряли интереса к балету: действительно, из самой сердцевины этого семейства возник проект балета, который, несмотря на то что был отвергнут импресарио, пережил его «передовые» постановки. Имея в виду «Иллюстрации Уильяма Блейка к Книге Иова», Джоффри Кейнс в конце июня 1927 года писал:
Имею честь направить вам книгу с иллюстрациями Уильяма Блейка, о которой моя кузина говорила вам. Также вложен набросок для балета, основанный на этих гравюрах. Бесспорно, вам уже известно имя этого прославленного поэта-художника. К столетию со дня его смерти, которое приходится на 1927 год, балет, основанный на его произведении, вызовет величайший интерес в этой стране… а также во Франции, где его работы публиковались… Я также вложил билеты на выставку живописи Блейка, проходящую сейчас в Сэвил-Роу[1052].
Замысел символического балета, предложенного Кейнсом, не получил одобрения Дягилева, по мнению которого, он был бы «слишком английским и слишком старомодным»[1053]. Ралф Воан Уильямс, видный британский композитор, которому Кейнс предложил написать партитуру, испытывал мало иллюзий по поводу судьбы проекта. Свояченице Кейнса Гвен Равера, сделавшей костюмированные фигурки и миниатюрный театр для предполагаемого балета, он написал:
Я развлекаю сам себя, делая наброски к «Иову» – я никогда не предполагал, что Дягилев может даже взглянуть на них – и в целом я этому рад – «процесс продвижения» этого проекта может их только позабавить – но этот проект не подойдет к делано серьезному, а на самом деле декадентскому и легкомысленному отношению Р[усского] б[алета] к любому сюжету – можете себе представить «Иова», засунутого в программу между «Ланями» и «Чимарозианой» – и этих ужасных псевдокультурных зрителей, которые говорят друг другу: «Дорогой, ты видел Господа Бога в Русском балете?» Нет – думаю, нам будет лучше этого избежать[1054].
В 1931 году Общество Камарго (Camargo Society), в котором Джон Мейнард Кейнс был казначеем, поставило «Иова» в театре Савой. С хореографией Нинет де Валуа, Константом Ламбертом за дирижерским пультом и Антоном Долиным в роли Сатаны постановка продвинула дело английского балета, в то время как «Триумф Нептуна» явно не оправдал ожиданий. И на самом деле, после смерти Дягилева Ситуэллы в общем и целом утратили интерес к искусству, которое они предпочитали другим.
«Высоколобые» денди, примкнувшие к волне более левой, чем Блумсбери, находили, что страницы британского «Вог» точнее соответствуют их вкусам, чем колонки «Нэйшн». В те годы «Вог» был маяком высокой богемы, лондонским аванпостом космополитического стиля удовольствий, процветавшего в Париже и на Лазурном Берегу, как и в других местах отдыха двадцатых. Подобно «Фэнити Фейр», другому изданию Конде Наст, «Вог» превращал моды, франкофилию и модернизм в блестящую монету международной изысканности.
Между 1925 и 1929 годами ни одно театральное предприятие не получало столь щедрого внимания «Вог», как Русский балет. Благожелательно настроенные обозреватели освещали сезоны в Лондоне, парижские корреспонденты представляли отчеты о заграничных сезонах, в то время как художественные критики писали об авторах декораций и костюмов. Визуально труппа также находилась в фокусе внимания: фотографии танцовщиков, репродукции сценического оформления и портреты «мастеров декора» Дягилева печатались всякий раз, когда труппа появлялась в городе. В июне 1925 года журнал опубликовал рисованный Пикассо портрет избегавшего фотокамер импресарио, номинированного вместе с Гарольдом Актоном, Жоржем Браком и Юджином Гуссенсом на место в «Зале Славы» журнала. Страницы светской хроники также отдавали дань уважения труппе в сделанных Сесилом Битоном великолепных зарисовках леди Уодхаус (в парчовом плаще, в котором она появилась на одном из спектаклей), миссис Норман Холден (в пачке из гардероба Русского балета, в которой она была на костюмированном балу у герцогини Сазерлендской) и миссис Мейнард Кейнс (изображенной в платье с декольте, смотрящей «Аполлона Мусагета»)[1055].
В 1924–1925 годах, когда «Вог» чествовал Дягилева, он относился с почтением и к Блумсбери. Редкий выпуск в те годы обходился без статьи хотя бы одной из знаменитостей этого круга – Клайва Белла, Вирджинии Вулф, Роджера Фрая – или их питомцев и друзей: Рэймонда Мортимера, Дэвида Гарнета, Френсиса Биррела, Олдоса Хаксли, Джорджа Риландса, Виты Саквилль-Вест и даже леди Оттолин Моррелл, внесшей свой вклад произведением, озаглавленным «Молодые девушки из Лондона» (Les jeunes filles de Londres)[1056]. Блумсбери писали о книгах, особенно о литературе современного направления, современной живописи, исторических фигурах Франции и друг о друге – в общем, о темах, которые отзывались эхом в работах других, писавших в журнале, таких как Эдит Ситуэлл и Ричард Олдингтон.
Если «Вог» льстил мирской стороне блумсберийцев, ссыпая гинеи в их карманы[1057], то Блумсбери, в свою очередь, придавал журналу атмосферу образованной утонченности, осенявшей моды двадцатых. Их присутствие свидетельствовало о вкусах художественно мыслящей Дороти Тодд, уволенной с поста редактора «Вог» в 1926 году Конде Настом. Это отражало широко распространенный феномен того времени: освоение элитой, устанавливающей эталоны модной одежды, модернизма и французской культуры, которыми так долго пугали англичан, за утверждение которых так долго боролись участники Блумсбери и которые теперь стали краеугольными камнями современного стиля жизни.
«Вог», по сравнению с «Таймс» и «Скетч», уделял непривычно большое внимание художникам Дягилева. Обозреватели выдвигали на первый план их работы в театре, в то время как художественные критики и парижские корреспонденты ссылались на выставки, где их театральные и живописные работы фигурировали как наиболее значимые. В «Вог» художники Дягилева проходили цензуру на причастность к моде, и их произведения получали штамп предмета потребления. В качестве знака такой коммерциализации можно отметить указания о принадлежности работ тому или иному владельцу, сопровождавшие репродуцирование артефактов из арсенала Русского балета: живописный задник Прюна к «Матросам» «воспроизведен благодаря любезности мистера Бориса Кохно»; «оригинальный эскиз» Дерэна к «Чертику из табакерки» находился «во владении Сержа Лифаря»; «черновой набросок» Миро к «Ромео и Джульетте» был опубликован вместе с фотографией его владельца, Бориса Кохно. Для Дягилева произведение искусства не исчерпывалось установлением авторства. Читатели «Вог» узнавали также, что «Авторучка», наиболее значительная картина Прюна на первой его выставке, была куплена Жаном Кокто и что «Натюрморт» Пьера Руа находится в «коллекции мадам Пена». И описывая деятельность графа Этьена де Бомона, этого мецената современности, покинувшего балет ради авангардного кино, «Вог» доводил до конца мысль о том, что современное искусство являлось элитарным и в высшей степени желаемым продуктом потребления[1058].
Живопись была не единственным товаром, объединявшим дягилевскую публику и сцену. Мода так же плела сети вокруг тех и других, и рецензенты быстро уловили в «Голубом экспрессе», «Ланях» и «Пасторали» сходство между театральным костюмом и стилем модной одежды. Но и в балетах на темы из разных эпох в изобилии присутствовали современные аллюзии. В «Ромео и Джульетте» в сцене репетиции на вешалке висело модное розовое платье. Белая «пижама» Алисии Марковой в возобновлении «Песни соловья» 1927 года также звучала современной нотой: к 1926 году страсть к брючным фасонам позволила окрестить Лидо «пляжем солнца и пижам». Действительно, в 1925 году Вера Немчинова, классическая звезда труппы, позировала на страницах «Вог» в «пижамном костюме» из черного крепдешина от Дав. Другим верным признаком влияния моды на балет был сам облик стройных, длинноногих дягилевских балерин последнего набора, представлявший новейший модный силуэт, схожий с манекенщицами и моделями с обложек журналов[1059]. Все это закрепляло связь между роскошью на сцене и вне ее, отождествляя искусство Дягилева с потребительским стилем его зрителей.
Смесь моды, франкофилии и модернизма, характеризующая дягилевскую антрепризу, была обращена только к одной из частей его прежней публики. Театр, писал танцевальный критик Фернау Холл, был «временами полупустой»: «люди приходили смотреть новинки, но не имели интереса ходить смотреть балеты вновь и вновь»[1060]. Пустые кресла были только одним из следствий курса на поляризацию, проводимого импресарио в те годы. Снимая сливки со своих прежде разнородных поклонников, Дягилев разделил балетную публику надвое, провоцируя большинство любителей танца на реакцию против эстетики нового репертуара и его «высоколобых» защитников. В короткой рецензии на «Голубой экспресс», опубликованной в «Дансинг таймс», обывательская сторонница британского балета танцовщица Филлис Беделлс призналась в своем опасении, что Дягилев «исподтишка посмеялся над британской публикой»[1061].
Ни Беделлс, ни Дж. Фасселл, художественный критик журнала, не относили себя к определявшей вкусы дягилевской элите. «Если бы я относился к высоколобым или подлинным интеллектуалам, – писал Фасселл в начале своей рецензии об оформлении Мари Лорансен к “Ланям”, – я должен был назвать занавес тем или иным термином, обычным в художественной критике нашего времени для обозначения чего-то напыщенного и претенциозного. На самом деле, я должен был бы назвать это примитивным или чем-то подобным. Поскольку это на самом деле так, я не намерен заниматься этим»[1062]. Фасселл не был единственным критиком, чей отклик на работу художников Дягилева был отмечен неприязнью к их высоколобым сторонникам. Обратим внимание на признание Хоуарда Ханнея в «Лондон Меркьюри»:
Выставка живописи французской художницы Мари Лорансен в Лестер Гэллери произвела, по крайней мере, одно изменение в моем мнении… Картины, которые я видел до сих пор, вызывали главным образом впечатление изощренной манерности и скомканности, которые казались лишенными какого-либо смысла и были при этом поверхностными и тривиальными. И когда Клайв Белл назвал Мари Лорансен «восхитительной», это оказалось лишь очередной порцией его постоянного угодничества перед всем парижским. Я был сбит с толку[1063].
Критики вновь и вновь обрушивались на приверженность Дягилева французской моде, особенно в музыке. Партитура «Пасторали» Орика, писала «Таймс» в 1926 году, – «это та же самая чепуха… которую делали во Франции для подобных случаев в недавнем прошлом». Лишь неделю спустя Джон Булл захохотал вновь: газета отвергала «ухищрения» Сати как «слишком хилые, чтобы выжить», даже если его «маленькие колкости» в адрес Шабрие «имели успех на частных вечеринках в Париже». Чуть позднее Константа Ламберта обвиняют в том, что он «выбрал своим языком… французский» при сочинении «Ромео и Джульетты», пусть даже, как и многие иностранцы, владея этим языком «лучше, чем француз»[1064]. Первые же строки заметки 1926 года о «Кошке» развеивают все сомнения в том, что для «Таймс» слово «парижский» было не чем иным, как уничижительным эпитетом. Газетная колонка была озаглавлена «Русский балет»:
Возможно, было бы точнее, если бы заметка называлась «Парижский балет». Ибо новый балет, который был показан прошлым вечером в Театре Принца, не мог быть сотворен нигде, кроме космополитического Парижа, где моды в искусстве, как и в одежде, меняются с головокружительной скоростью в отчаянной гонке за оригинальностью и в стремлении «сказать последнее слово». Новый балет под названием «Кошка» определенно является «самым последним писком», и сколько бы мы ни рассматривали его с презрительным снисхождением, надо сказать, что балет имеет и хорошие стороны, помимо новизны[1065].
В Британии модернизм пустил более слабые корни, чем где-либо в Европе, частично из-за прикрепленного к нему ярлыка легкомысленного импортного товара.
Если курс, которым следовал Дягилев между 1918 и 1922 годами, помог англизировать балет, то политика, одобряемая им после 1924 года, дала обратный эффект. Казалось, что компания не задерживается больше в родных для Британии «холлах», а слоняется по фойе дорогих отелей, которые выросли на Лидо и Лазурном побережье как грибы. Для изощренных зрителей, устраивающих шум при периодических нисхождениях Дягилева в Лондон, балет был не искусством, пустившим корни в танцевальных студиях по всей стране (труппа сторонилась провинции), но импортированной «причудой», слившей в единое братство представителей высшего общества и высокой богемы.
Кроме того, от более широкой публики дягилевскую аудиторию отличала еще одна особенность: большое число мужчин-гомосексуалистов, зачастивших на его спектакли в конце двадцатых. Рецензия Филипа Пейджа о сезоне Анны Павловой 1927 года в «Ивнинг стандард» особо подчеркнула этот момент:
Балетный сезон мадам Павловой в Ковент-Гарден, который начался через несколько недель после окончания визита труппы Дягилева в Театр Принца, дает возможность ознакомиться с двумя противоположными типами балетного представления, оба из которых имеют своих многочисленных поклонников. Публика для каждого из них далеко не одна и та же. Вы не сможете увидеть в Ковент-Гарден юношу с ниспадающими волосами, исступленно выражающего свою признательность Сержу Лифарю вместе со множеством других свистящих[1066].
Не один Пейдж замечал присутствие большого числа гомосексуалистов среди дягилевской публики. В июле 1928 года Герберт Фарджон, театральный критик «Вог», посвятил этому феномену значительную часть своей статьи:
Русский балет вернулся в Лондон, и вновь после долгого перерыва… коридоры Театра Его Величества запружены слащавыми молодыми людьми соответствующего возраста, на чьих в высшей степени восприимчивых душах легкий пушок эстетического полового созревания только начал пробиваться. Публика состоит из людей разного сорта, но только один сорт делает ее необычной; и так же, как постоянная клиентура театра Коллинза может быть знаменита своим пристрастием к закулисным интригам, так и постоянная клиентура Русского балета известна красивыми мальчиками из буржуазных семей, которые как будто так же покоятся на искусстве, как мадам Рекамье возлежит на своей софе, и воспринимают танцовщиков и декорации как род своего личного украшения. И на самом деле, они, так сказать, носят Русский балет, как гвоздику в петлице[1067].
В те годы, когда «двадцатилетние юноши с бархатными голосами [брали] в свое обладание Русский балет», цветы перестали быть данью, которую платили балерине. «Мне хочется запустить кирпичом [в Сержа Лифаря], когда я вижу, как в конце балета он собирает охапки цветов», – изливал свой гнев Ф. Дж. С. Ричардсон в августе 1926 года. Позже, в том же году, Филип Пейдж заметил, что «“Триумф Нептуна” приветствовался подношением цветов, и даже женщинам досталось несколько букетов. Многие обладатели мест в партере были полны энтузиазма, но возгласы неодобрения profanum vulgus[1068] оказались громче и настойчивее. И непосвященные не были одиноки в своем неодобрении»[1069]. Здесь, как в зародыше, проявились классовые, сексуальные и художественные особенности денди-эстетов.
Гомосексуалисты уже давно зачастили на дягилевские спектакли. Но тем не менее каждый из них поступал так сам по себе. В варианте поздних двадцатых денди-эстеты были уже «более значительны и пугающи», чем их предшественники эпохи fin-de-siècle, – «не такие вялые, не такие томные… и, на удивление, не производили впечатления, что вот-вот рухнут наземь». Они возникали, так сказать, из уединения. И на самом деле, к 1928 году Театр Его Величества превратился в привилегированную зону для «курсирования в поисках партнера» – если использовать современное выражение, – где молодые мужчины в «странных нарядах» заполонили променад, теперь недоступный для женщин[1070].
Из толп, стекавшихся в Колизеум и Парижскую оперу сразу после войны, Дягилев мог без большого труда сформировать публику, полную верных, давних сторонников. Вместо этого он предпочел искать расположения у новой элиты: потребительского авангарда эпохи, законодателей вкуса, создававших стили богатства и власти из продуктов современного рынка и распространявших их при помощи средств информации. К двадцатым годам массовое потребление уже стало реальным фактом жизни Соединенных Штатов. Про Европу это можно будет сказать только после Второй мировой войны. До той поры приметы современной жизни – автомобили, домашняя техника, телефоны – принадлежали исключительно высшим слоям общества; современность в виде потребительского стиля демократизировала только элиту.
Отсюда и тупик, в который Дягилев загнал сам себя к концу десятилетия: авангард, избранный им в качестве идеальной публики, был просто слишком малочисленным, чтобы поддержать его антрепризу. Но и нечто помимо численности делало элиту сомнительным основанием для того, чтобы на нем могла разрастаться публика. Тяга к изменению – в природе авангарда, особенно авангарда, основанного на законах рынка, где новое с неизбежностью отметает в сторону старое. Корреспондент «Таймс», анализируя последний парижский сезон Дягилева, обратил внимание именно на эту особенность: та самая часть публики, на которую были рассчитаны новинки Дягилева,
решила, что русский балет в любой форме не может больше рассматриваться как серьезная манифестация современного искусства. Таким образом, подлинные сторонники балета вынуждены, чтобы насладиться своими прежними любимцами, высиживать ту часть представлений, которая предназначена удовлетворить публику, не доросшую до их уровня[1071].
В период с 1918 по 1929 год Дягилев сотворил не одну, а несколько зрительских аудиторий для балета. Это замечательное деяние означало больше, чем просто заполнение театра. Оно оставило глубокий отпечаток на самом существе его труппы, формируя ее успешный облик в обществе и влияя на основную направленность репертуара. Этот облик и идеологические направления, связанные с ним, не исчезли вместе с роспуском Русского балета в 1929 году. Даже сегодня они остаются запечатленными в искусстве балета, оставаясь ключом к самой его сущности.
Дягилев скончался 19 августа 1929 года в Венеции. Эта новость появилась на первой полосе почти каждой крупной ежедневной газеты. За несколько недель до этого труппа разъехалась на время отпуска, и ужасная весть настигла танцовщиков на пляжах и в кинотеатрах, в косметических салонах и в гостях у друзей. Его смерть застала их врасплох: несмотря на то что «большой Серж» выглядел усталым, никто и подумать не мог, что он настолько болен или что его прощальные слова в Лондоне будут последними, которые они от него услышат. Многие плакали. Другие были в шоке. Все ощущали острое чувство личной утраты, и все понимали, что́ эта смерть означала для Русского балета. Вскоре от Сергея Григорьева стали приходить письма, оповещавшие о роспуске труппы. Для Алисии Марковой «жизнь подошла к концу». «Со смертью Дягилева, – писала позже Александра Данилова, – земля разверзлась у меня под ногами».
Распад Русского балета стал началом долгого и неопределенного пути для его бывших танцовщиков. В 1930-е годы большинство из них работало с различными гастролирующими труппами Русского балета, унаследовавшими репертуар и славу организации Дягилева. Среди них были почти все хореографы Дягилева – Михаил Фокин, Леонид Мясин, Бронислава Нижинская, Джордж Баланчин, – как и некоторые из бывших звезд, включая Данилову, Леона Войциковского, Любовь Чернышеву, Фелию Дубровскую, Антона Долина и Веру Немчинову. Прочие из прежних танцовщиков Дягилева устроились на работу в мюзик-холлы или в престижные театры: самым видным из них был Серж Лифарь, который стал художественным руководителем балета Парижской оперы – эту должность он занимал около тридцати лет. Остальные действовали сами по себе, основывая небольшие труппы, где они продолжали экспериментаторские традиции Дягилева: самыми значительными из этих рискованных и краткосрочных начинаний оказались Балеты 1933 Джорджа Баланчина и Театр танца Брониславы Нижинской. Тем временем в Англии бывшие дягилевцы – Нинет де Валуа, Мари Рамбер, Алисия Маркова, Антон Долин, Лидия Лопухова, Тамара Карсавина, Урсула Мортон – закладывали основы для развития британского балета.
В годы, наступившие за Первой мировой войной, произошел первый значительный разброс русских балетных талантов. Когда в конце 1930-х над Европой вновь сгустились тучи войны, началась вторая волна эмиграции, и многие из тех, кто в период между двумя войнами жил в Европе, отправились в Соединенные Штаты. Фокин, Баланчин, Адольф Больм, Федор Козлов, Лаврентий Новиков и Михаил Мордкин еще задолго до этого обосновались в Америке. Теперь к ним присоединились и другие бывшие дягилевцы: Нижинская, Мясин, Данилова, Немчинова, Борис Романов, Александра Федорова, Фелия Дубровская, Людмила Шоллар, Анатолий Вильтзак. Многие поселились в Нью-Йорке и открыли частные школы или начали преподавать в таких учреждениях, как Школа американского балета; некоторые – в том числе Нижинская, Шоллар и Вильтзак – поехали на западное побережье, а еще несколько танцовщиков направились в балетное захолустье – в Хьюстон, Буффало и Майами. Влияние этих иммигрантов – танцовщиков, хореографов и педагогов – на американский балет сохранялось десятилетиями. Начальные страницы истории Балле Тиэтр (ныне Американ Балле Тиэтр) были частично написаны ветеранами дягилевской труппы; то же можно сказать и об истории Нью-Йорк Сити Балле Баланчина.
Вторая мировая война не только разрушила иммигрантское танцевальное сообщество Европы, но и запятнала репутацию многих из бывших компаньонов Дягилева. Габриель Шанель, граф Этьен де Бомон, Хосе-Мария Серт, Поль Моран и Серж Лифарь – вот лишь некоторые из тех, кто принадлежал к коллаборационистскому бомонду в захваченном нацистами Париже. Общественное представление о том, что искусство неразрывно связано с аристократизмом вкуса, как это было у Дягилева, также оказалось частично дискредитировано. Это произошло не только во Франции, где Сопротивление оказало серьезную поддержку левым, но и в Англии, которую новое лейбористское правительство превратило в государство благосостояния. Идеологическое обоснование места балета в послевоенном обществе неизбежно должно было учитывать вкусы широкой публики.
В Англии, где Русский балет глубже всего пустил свои корни, балеты Дягилева оставались важнейшей частью репертуара. Но сам этот репертуар был крайне избирательным: постановки Фокина и балеты классического наследия, впервые привезенные на Запад Дягилевым, были представлены в нем непропорционально. По иронии судьбы, наследником модернизма, который сыграл центральную роль в развитии дягилевской труппы, оказались Соединенные Штаты. Это проявилось не столько в количестве воссозданных там спектаклей (кроме «Аполлона Мусагета» и «Блудного сына», ни одна из поздних постановок не вошла в репертуары американских трупп), сколько в самом их духе. Как Дягилева в конце 1910-х, так и Баланчина в 1940-х и 1950-х годах одолевала жажда эксперимента. Он преобразовал внешний облик и динамику классического танца, изменил соотношение хореографии с повествованием и визуальным оформлением и расширил круг музыки, считавшейся подходящей для балета, – все это до него делал Дягилев. И, подобно своему наставнику, Баланчин создал ансамбль, который служил ему почвой для экспериментов, а не только обеспечивал потребности широкой публики.
Нью-Йорк Сити Балле оказал такое же продуктивное влияние на классический танец в США, как Королевский балет Англии – в Европе. Но это влияние лишь в редких случаях распространялось на культуру в целом, несмотря на действительно массовую аудиторию обеих трупп. В кругах интеллигенции балет был в лучшем случае редким развлечением, в худшем – символом художественного консерватизма, присущего привилегированной части общества: таковы критические воззрения, разделяемые большей частью современного авангарда. Со времен Дягилева балет постепенно снова отошел на задний план, откуда Дягилев вывел его. Примечательно, что единственным случаем, когда такая изоляция балета нарушилась, была нью-йоркская премьера реконструкции труппой Джоффри Балле «Весны священной» Нижинского. Театр был заполнен артистами, критиками и представителями интеллигенции – публикой, напоминавшей своим составом о дягилевских временах.
Гений Дягилева был многогранен. Но способность, которую он проявлял вновь и вновь – способность привлекать таланты к созданию искусства, воздействующего на умы своего времени, – кто сегодня может претендовать хотя бы на то, чтобы стремиться к этому?
Приложение I
ПОСТАНОВКИ МИХАИЛА ФОКИНА
(1905–1917)
Данная хронология представляет собой синтез нескольких источников. В значительной мере она основана на хронологии, приведенной в русском издании мемуаров Фокина.
АЦИС И ГАЛАТЕЯ
Музыка: Андрей-Карл Кадлец
Либретто: Михаил Фокин, на сюжет Владимира Лангаммера
Премьера: 20 апреля 1905 г., Мариинский театр, Санкт-Петербург
Спектакль Петербургского Театрального училища
ПОЛЬКА С МЯЧИКОМ
Музыка: Виктор Герберт
Премьера: 20 апреля 1905 г., Мариинский театр, Санкт-Петербург
Спектакль Петербургского Театрального училища
Исполнители: Елена Смирнова, Георгий Розай
ПОЛЕТ БАБОЧЕК
Музыка: Фридерик Шопен
Премьера: 12 февраля 1906 г., Зал Дворянского собрания, Санкт-Петербург
Примечание. Возможно, именно это па-де-де было упомянуто в «Ранних воспоминаниях» Брониславы Нижинской как балет Vol des papillons, исполненный Еленой Смирновой и Вацлавом Нижинским на концерте Петербургского Театрального училища 26 марта 1906 г.
ПОЛЬКА-ПИЧЧИКАТО
Музыка: Иоганн Штраус
Премьера: 12 февраля 1906 г., Зал Дворянского собрания, Санкт-Петербург
Благотворительный спектакль
Музыка: Исаак Альбенис
Премьера: 12 февраля 1906 г., Зал Дворянского собрания, Санкт-Петербург
Благотворительный спектакль
СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ
Музыка: Феликс Мендельсон
Премьера: 27 марта 1906 г., Мариинский театр, Санкт-Петербург
Спектакль Петербургского Театрального училища
Примечание. Впервые этот одноактный балет был поставлен Мариусом Петипа в Мариинском театре в 1876 г.
ДИВЕРТИСМЕНТ – ВАЛЬС-ФАНТАЗИЯ
Музыка: Михаил Глинка
Премьера: 27 марта 1906 г., Мариинский театр, Санкт-Петербург
Спектакль Петербургского Театрального училища
Исполнители: Елена Смирнова, Вацлав Нижинский
ВИНОГРАДНАЯ ЛОЗА
Музыка: Антон Рубинштейн
Премьера: 8 апреля 1906 г., Мариинский театр, Санкт-Петербург
Благотворительный спектакль в пользу Общества попечения о Гребловской школе им. Н. В. Гоголя
Основные исполнители: Анна Павлова, Михаил Фокин, Мария Петипа, Тамара Карсавина, Вера Фокина
ИСПАНСКИЙ ТАНЕЦ
Музыка: Жорж Бизе
Премьера: 8 апреля 1906 г., Мариинский театр, Санкт-Петербург
Благотворительный спектакль в пользу Общества попечения о Гребловской школе им. Н. В. Гоголя
РЕВНОСТЬ ПЬЕРО
Премьера: 8 апреля 1906 г.
Благотворительный спектакль в пользу Общества попечения о Гребловской школе им. Н. В. Гоголя
Музыка: Иоганнес Брамс
Премьера: 19 июля 1906 г., Летний театр
Красное Село
Музыка: К. Н. Щербачев
Либретто: граф Стенбок-Фермор, по произведению Генрика Сенкевича «Камо грядеши»
Премьера: 10 февраля 1907 г., Мариинский театр, Санкт-Петербург
Благотворительный спектакль в пользу общества защиты детей от жестокого обращения
Основные исполнители: Матильда Кшесинская, Павел Гердт, Анна Павлова, Александр Ширяев
Музыка: Фридерик Шопен, оркестровка Александра Глазунова
Либретто: Михаил Фокин
Костюмы: Лев Бакст (и другие)
Премьера: 10 февраля 1907 г., Мариинский театр, Санкт-Петербург
Благотворительный спектакль в пользу Общества попечения о Гребловской школе им. Н. В. Гоголя
Основные исполнители: Анна Павлова, Михаил Обухов, Алексей Булгаков, Юлия Седова, Вера Фокина
Примечание. О последующих версиях балета см. «Танцы на музыку Шопена», Rêverie romantique, «Сильфиды».
ОЖИВЛЕННЫЙ ГОБЕЛЕН
Музыка: Николай Черепнин
Либретто: Александр Бенуа, по сюжету Теофиля Готье «Омфала»
Премьера: 15 апреля 1907 г., Мариинский театр, Санкт-Петербург
Спектакль Петербургского Театрального училища
Основные исполнители: Вацлав Нижинский, Елизавета Гердт, Георгий Розай
Примечание. Этот балет представляет собой сцену из балета «Павильон Армиды» (см. ниже).
ПАВИЛЬОН АРМИДЫ
Музыка: Николай Черепнин
Либретто: Александр Бенуа, по сюжету Теофиля Готье «Омфала»
Декорации и костюмы: Александр Бенуа
Премьера: 25 ноября 1907 г., Мариинский театр, Санкт-Петербург
Основные исполнители: Анна Павлова, Павел Гердт, Вацлав Нижинский
Примечание. О постановке этого балета в дягилевской антрепризе – см. ниже.
ИГРА О РОБИНЕ И МАРИОН
Автор: Адам де ля Аль
Режиссер-постановщик: Николай Евреинов
Декорации и костюмы: Мстислав Добужинский
Премьера: 8 декабря 1907 г., «Новый театр», Санкт-Петербург
УМИРАЮЩИЙ ЛЕБЕДЬ
Музыка: Камиль Сен-Санс
Премьера: 22 декабря 1907 г., Мариинский театр, Санкт-Петербург
Солистка: Анна Павлова
Примечание. Костюм Павловой создал Лев Бакст.
ТАНЕЦ С ФАКЕЛОМ (АССИРИЙСКИЙ ТАНЕЦ)
Музыка: Антон Аренский
Костюмы: Лев Бакст
Премьера: 22 декабря 1907 г., Мариинский театр, Санкт-Петербург
Благотворительный спектакль, организованный Михаилом Фокиным
Солистка: Тамара Карсавина
НОЧЬ ТЕРПСИХОРЫ
Премьера: 26 января 1908 г., Мариинский театр, Санкт-Петербург
ТАНЦЫ НА МУЗЫКУ ШОПЕНА
Музыка: Фридерик Шопен
Костюмы: Лев Бакст, Вера Фокина
Премьера: 16 февраля 1908 г., Мариинский театр, Санкт-Петербург
Благотворительный спектакль, организованный Михаилом Фокиным
Основные исполнители: Анна Павлова, Тамара Карсавина, Михаил Фокин
Примечание. В этот балет входили соло и ансамбли из Rêverie romantique – «Балета на музыку Шопена» (см. ниже) и па-де-де из «Шопенианы» (см. выше).
ЕГИПЕТСКИЕ НОЧИ
Музыка: Антон Аренский
Декорации: Орест Аллегри
Костюмы: Орест Аллегри, Лев Бакст
Премьера: 8 марта 1908 г., Мариинский театр, Санкт-Петербург
Благотворительный спектакль, организованный Михаилом Фокиным
Основные исполнители: Анна Павлова, Михаил Фокин, Павел Гердт, Вацлав Нижинский, Ольга Преображенская, Елизавета Тиме
Примечание. «Египетские ночи» с либретто Мариуса Петипа были поставлены в 1900 г. Львом Ивановым для специального представления в Петергофе. Балет был отменен в последний момент и впоследствии никогда не исполнялся. Вторая версия постановки Фокина была реализована Русскими балетами под названием «Клеопатра» (см. ниже).
RÊVERIE ROMANTIQUE – БАЛЕТ НА МУЗЫКУ ШОПЕНА (ШОПЕНИАНА – ВТОРАЯ ВЕРСИЯ)
Музыка: Фридерик Шопен, оркестровка Мориса Келлера и Александра Глазунова
Декорации: Иван Всеволожский (лесная панорама из «Спящей красавицы»)
Костюмы: Лев Бакст, Вера Фокина
Премьера: 8 марта 1908 г., Мариинский театр, Санкт-Петербург
Благотворительный спектакль, организованный Михаилом Фокиным
Основные исполнители: Анна Павлова, Ольга Преображенская, Тамара Карсавина, Вацлав Нижинский
Примечание. В этом балете были объединены танцы из «Шопенианы» и «Танцев на музыку Шопена» (см. выше). Более поздняя версия спектакля была поставлена Русским балетом под названием «Сильфиды» (см. ниже).
BAL POUDRÉ
Музыка: Муцио Клементи, оркестровка Мориса Келлера
Либретто: Александр Бенуа
Костюмы: Лев Бакст
Премьера: 11 марта 1908 г., Зал Павловой, Санкт-Петербург
Благотворительный спектакль Русского купеческого общества
Основные исполнители: Мария Петипа, Альфред Бекефи, Энрико Чекетти
Примечание. Костюмы Бакста впоследствии были использованы в оригинальной постановке «Карнавала» (см. ниже).
ВРЕМЕНА ГОДА
Музыка: Петр Чайковский
Премьера: 26 марта 1908 г., Мариинский театр, Санкт-Петербург
Спектакль Петербургского Театрального училища
ГРАН-ПА НА МУЗЫКУ ШОПЕНА
Музыка: Фридерик Шопен
Премьера: 6 апреля 1908 г., Мариинский театр, Санкт-Петербург
Спектакль Петербургского Театрального училища
ТАНЕЦ СЕМИ ПОКРЫВАЛ (из пьесы «Саломея»)
Автор: Оскар Уайльд
Музыка: Александр Глазунов
Декорации и костюмы: Лев Бакст
Премьера: 3 ноября 1908 г., Михайловский театр, Санкт-Петербург
Солистка: Ида Рубинштейн
Примечание. Этот танец, поставленный для исполнения Идой Рубинштейн в пьесе Оскара Уайльда, впоследствии был исполнен 20 декабря 1908 г. в Санкт-Петербургской консерватории. О парижской постановке пьесы для труппы Иды Рубинштейн – см. ниже.
КАРТИНЫ АНТИЧНОГО МИРА
[Танец на пиру, Бой гладиаторов, По примеру богов, В римском цирке]
Премьера: 26 февраля 1909 г., Театр Литературно-художественного общества, Санкт-Петербург
ПАВИЛЬОН АРМИДЫ
Музыка: Николай Черепнин
Либретто: Александр Бенуа по новелле Теофиля Готье «Омфала»
Декорации и костюмы: Александр Бенуа
Декорации выполнили: Орест Аллегри, [?] Локенберг
Хореография: Михаил Фокин
Премьера: 18 мая 1909 г.* [1072], Театр Шатле, Париж
Спектакль Русского балета Дягилева[1073]
Основные исполнители: Вера Каралли, Михаил Мордкин, Алексей Булгаков, Тамара Карсавина, Александра Балдина, Александра Федорова, Елена Смирнова, Вацлав Нижинский
Примечание. Балет был впервые поставлен в 1907 г. в Мариинском театре, Санкт-Петербург.
КНЯЗЬ ИГОРЬ
Половецкие пляски из 2-го акта оперы
Музыка: Александр Бородин, опера завершена и частично оркестрована Николаем Римским-Корсаковым и Александром Глазуновым
Декорации и костюмы: Николай Рерих
Декорации выполнил: Борис Анисфельд
Режиссер: Александр Санин
Хореография: Михаил Фокин
Премьера: 18 мая 1909 г.*, Театр Шатле, Париж
Спектакль Русского балета Дягилева
Основные исполнители: Адольф Больм, Софья Федорова, Елена Смирнова
Примечание. Позднее постановка проходила без участия певцов под названием «Половецкие пляски». В 1923 г. первый номер был заново поставлен Брониславой Нижинской.
Музыка: Александр Глазунов, Михаил Глинка, Модест Мусоргский, Николай Римский-Корсаков, Петр Чайковский
Декорации: Константин Коровин
Костюмы: Лев Бакст, Александр Бенуа, Иван Билибин, Константин Коровин
Декорации выполнили: Петр Ламбин, Николай Шарбе
Хореография: Михаил Фокин, Мариус Петипа, Александр Горский, Николай Гольц, Феликс Кшесинский
Премьера: 18 мая 1909 г.*, Театр Шатле, Париж
Спектакль Русского балета Дягилева
Основные исполнители: Вера Фокина, Тамара Карсавина, Вацлав Нижинский, Софья Федорова, Михаил Мордкин, Георгий Розай, Вера Каралли
Примечание. Фокину принадлежит хореография «Гопака» (Мусоргский), «Трепака» (Чайковский) и финала (Чайковский). В постановку также входили танцы «Жар-птица» (па-де-де Голубой птицы из «Спящей красавицы») и «Венгерское гран-па» (из «Раймонды»), оба в хореографии Петипа, «Чардаш» (Глазунов) в хореографии Горского, «Мазурка» (Глинка) в постановке Гольца и Кшесинского и «Лезгинка» (Глинка) в хореографии Фокина на основе хореографии Петипа. Па-де-де Голубой птицы было возобновлено в 1915 г. под названием «Заколдованная принцесса» с декорациями и костюмами Льва Бакста.
Музыка: Фридерик Шопен,
оркестровка Александра Глазунова, Игоря Стравинского, Александра Танеева
Декорации и костюмы: Александр Бенуа
Декорации выполнил: Степан Яремич
Хореография: Михаил Фокин
Премьера: 2 июня 1909 г.*, Театр Шатле, Париж
Спектакль Русского балета Дягилева
Основные исполнители: Анна Павлова, Тамара Карсавина, Александра Балдина, Вацлав Нижинский
Примечание. Первоначально этот балет под названием «Шопениана» был поставлен в 1907 г. в Мариинском театре, Санкт-Петербург. В 1919 г. декорации А. Бенуа были заменены декорациями А. Сократа.
Музыка: Антон Аренский, со вставками из произведений Александра Глазунова, Михаила Глинки, Модеста Мусоргского, Николая Римского-Корсакова, Сергея Танеева, Николая Черепнина
Декорации и костюмы: Лев Бакст
Хореография: Михаил Фокин
Премьера: 2 июня 1909 г.*, Театр Шатле, Париж
Спектакль Русского балета Дягилева
Основные исполнители: Ида Рубинштейн, Анна Павлова, Тамара Карсавина, Вацлав Нижинский, Михаил Фокин, Алексей Булгаков
Примечание. «Клеопатра» была создана на основе балета Фокина «Египетские ночи», поставленного в 1908 г. в Мариинском театре, Санкт-Петербург.
В 1918 г. балет был возобновлен с декорациями Робера Делоне, дополнительными костюмами Сони Делоне и новым па-де-де в хореографии Леонида Мясина.
ВАКХАНАЛИЯ
Музыка: Александр Глазунов
Костюмы: Лев Бакст
Премьера: 22 января 1910 г., Зал Дворянского собрания, Санкт-Петербург
Основные исполнители: Анна Павлова, Лаврентий Новиков
Музыка: Роберт Шуман, оркестровка Антона Аренского, Александра Глазунова, Анатолия Лядова, Николая Римского-Корсакова, Николая Черепнина
Либретто: Лев Бакст, Михаил Фокин
Декорации и костюмы: Лев Бакст
Хореография: Михаил Фокин
Премьера: 20 февраля 1910 г., Зал Павловой, Санкт-Петербург
Организация, осуществившая постановку: «Сатирикон»
Основные исполнители: Вацлав Нижинский, Тамара Карсавина, Михаил Фокин, Альфред Бекефи, Иосиф Кшесинский, Всеволод Мейерхольд
Примечание. По словам Брониславы Нижинской, костюмы для Арлекина, Коломбины, Пьеро и Панталоне были изначально созданы Бакстом для Bal Poudré (см. выше), а платья на кринолинах моды 1840-х годов были взяты из его постановки 1903 г. «Фея кукол» в хореографии Николая и Сергея Легатов. Для постановки Русским балетом Дягилева, премьера которой состоялась 20 мая 1910 г. в Театер-дес-Вестенс в Берлине, Бакст создал декорации и новые костюмы.
СИАМСКИЙ ТАНЕЦ
Музыка: Кристиан Синдинг, оркестровка Игоря Стравинского
Костюмы: Лев Бакст
Премьера: 20 февраля 1910 г., Мариинский театр, Санкт-Петербург
Солист: Вацлав Нижинский
Примечание. Этот танец впоследствии вошел в дивертисмент «Ориенталии» (см. ниже).
Музыка: Эдвард Григ, оркестровка Игоря Стравинского
Костюм: Лев Бакст
Премьера: 20 февраля 1910 г., Мариинский театр, Санкт-Петербург
Солист: Вацлав Нижинский
Примечание. Этот танец впоследствии вошел в дивертисмент «Ориенталии» (см. ниже).
ГРОТ ВЕНЕРЫ (сцена из оперы «Тангейзер»)
Музыка: Рихард Вагнер
Премьера: 6 апреля 1910 г., Мариинский театр, Санкт-Петербург
Благотворительный спектакль в пользу школ Императорского женского патриотического общества
ШЕХЕРАЗАДА
Музыка: Николай Римский-Корсаков
Либретто: Лев Бакст, Александр Бенуа, Михаил Фокин, по первой сказке цикла «Тысяча и одна ночь»
Декорации и костюмы: Лев Бакст
Хореография: Михаил Фокин
Премьера: 4 июня 1910 г., Национальный оперный театр, Париж
Спектакль Русского балета Дягилева
Основные исполнители: Ида Рубинштейн, Вацлав Нижинский, Алексей Булгаков
Музыка: Игорь Стравинский
Либретто: Михаил Фокин
Декорации: Александр Головин
Костюмы: Александр Головин, Лев Бакст
Хореография: Михаил Фокин
Премьера: 25 июня 1910 г., Национальный оперный театр, Париж
Спектакль Русского балета Дягилева
Основные исполнители: Тамара Карсавина, Михаил Фокин, Алексей Булгаков, Вера Фокина
Примечание. «Жар-птица» была возобновлена в 1936 г. с декорациями и костюмами Натальи Гончаровой.
ОРИЕНТАЛИИ
Музыка: Антон Аренский, Александр Бородин, Александр Глазунов, Эдвард Григ (оркестровка Игоря Стравинского), Кристиан Синдинг (оркестровка Игоря Стравинского)
Декорации: Константин Коровин
Костюмы: Константин Коровин, Лев Бакст
Хореография: Михаил Фокин
Премьера: 25 июня 1910 г., Национальный оперный театр, Париж
Спектакль Русского балета Дягилева
Основные исполнители: Екатерина Гельцер, Александр Волинин, Тамара Карсавина, Вацлав Нижинский, Александра Васильева, Георгий Розай, Вера Фокина, Александр Орлов, Михаил Фокин
Примечание. Этот дивертисмент включал в себя два ранее поставленных танца – «Сиамский танец» и «Кобольд» (см. выше).
ЖЕНЩИНЫ В НАРОДНОМ СОБРАНИИ (танцы для пьесы по мотивам Аристофана)
Музыка: Оскар Беме
Премьера: 12 ноября 1910 г., концертный зал Тенишевского училища, Санкт-Петербург
БАЛ ПРИ ДВОРЕ ЛЮДОВИКА XV (танцы)
Премьера: 11 февраля 1911 г., Спортинг-Палас, Санкт-Петербург
ВИДЕНИЕ РОЗЫ
Музыка: Карл Мария фон Вебер, оркестровка Гектора Берлиоза
Либретто: Жан-Луи Водуайе, по стихотворению Теофиля Готье
Декорации и костюмы: Лев Бакст
Хореография: Михаил Фокин
Премьера: 19 апреля 1911 г., Театр Монте-Карло, Монте-Карло
Спектакль Русского балета Дягилева
Исполнители: Вацлав Нижинский, Тамара Карсавина
Музыка: Николай Черепнин
Либретто: Лев Бакст
Декорации и костюмы: Лев Бакст
Хореография: Михаил Фокин
Премьера: 26 апреля 1911 г., Театр Монте-Карло, Монте-Карло
Спектакль Русского балета Дягилева
Основные исполнители: Вацлав Нижинский, Тамара Карсавина, Бронислава Нижинская, Вера Фокина
МУЧЕНИЧЕСТВО СВЯТОГО СЕБАСТЬЯНА (танцы в пьесе)
Автор: Габриеле Д’Аннунцио
Музыка: Клод Дебюсси
Декорации и костюмы: Лев Бакст
Премьера: 22 мая 1911 г., Театр Шатле, Париж
Спектакль труппы Иды Рубинштейн
САДКО («ПОДВОДНОЕ ЦАРСТВО» – 6-я картина из оперы «Садко»)
Музыка: Николай Римский-Корсаков
Декорации: Борис Анисфельд
Костюмы: Борис Анисфельд, Лев Бакст
Хореография: Михаил Фокин
Премьера: 6 июня 1911 г., Театр Шатле, Париж
Спектакль Русского балета Дягилева
Примечание. Балет был возобновлен в 1916 г. в хореографии Адольфа Больма и оформлении Натальи Гончаровой.
Музыка: Игорь Стравинский
Либретто: Игорь Стравинский, Александр Бенуа
Декорации и костюмы: Александр Бенуа
Хореография: Михаил Фокин
Премьера: 13 июня 1911 г., Театр Шатле, Париж
Спектакль Русского балета Дягилева
Основные исполнители: Вацлав Нижинский, Тамара Карсавина, Александр Орлов, Энрико Чекетти
ВАРИАЦИЯ (концертный номер)
Музыка: Фридерик Шопен
Премьера: 1 октября 1911 г., Мариинский театр, Санкт-Петербург
ОРФЕЙ И ЭВРИДИКА (танцы, сцены и группы в опере)
Музыка: Кристоф Виллибальд Глюк
Режиссер-постановщик: Всеволод Мейерхольд
Декорации и костюмы: Александр Головин
Премьера: 21 декабря 1911 г., Мариинский театр, Санкт-Петербург
Спектакль Мариинского театра
Музыка: Роберт Шуман, оркестровка Николая Черепнина
Либретто: Михаил Фокин
Декорации: Петр Ламбин
Костюмы: Лев Бакст
Премьера: 10 марта 1912 г., Мариинский театр, Санкт-Петербург
Спектакль Литературного фонда
Музыка: Милий Балакирев
Декорации и костюмы: Борис Анисфельд
Премьера: 10 марта 1912 г., Мариинский театр, Санкт-Петербург
Спектакль Литературного фонда
Музыка: Рейнальдо Ган
Либретто: Жан Кокто, Фредерик де Мадрацо
Декорации и костюмы: Лев Бакст
Хореография: Михаил Фокин
Премьера: 13 мая 1912 г., Театр Шатле, Париж
Спектакль Русского балета Дягилева
Основные исполнители: Вацлав Нижинский, Тамара Карсавина, Лидия Нелидова, Бронислава Нижинская, Макс Фроман, Михаил Федоров
Музыка: Милий Балакирев
Либретто: Лев Бакст, по стихотворению Михаила Лермонтова
Декорации и костюмы: Лев Бакст
Хореография: Михаил Фокин
Премьера: 20 мая 1912 г., Театр Шатле, Париж
Спектакль Русского балета Дягилева
Основные исполнители: Тамара Карсавина, Адольф Больм
ДАФНИС И ХЛОЯ
Музыка: Морис Равель
Либретто: Михаил Фокин, по античному роману Лонга
Декорации и костюмы: Лев Бакст
Хореография: Михаил Фокин
Премьера: 8 июня 1912 г., Театр Шатле, Париж
Спектакль Русского балета Дягилева
Основные исполнители: Тамара Карсавина, Вацлав Нижинский, Адольф Больм, Маргарита Фроман, Энрико Чекетти
САЛОМЕЯ (танцы для драматического спектакля)
Автор: Оскар Уайльд
Музыка: Александр Глазунов
Режиссер-постановщик: Александр Санин
Декорации и костюмы: Лев Бакст
Премьера: 10 июня 1912 г., Театр Шатле, Париж
Спектакль труппы Иды Рубинштейн
ЮДИФЬ (танцы в опере)
Музыка: Александр Серов
Премьера: 13 ноября 1912 г., Мариинский театр, Санкт-Петербург
ИСКАТЕЛИ ЖЕМЧУГА (танцы в опере)
Музыка: Жорж Бизе
Премьера: 27 ноября 1912 г., Мариинский театр, Санкт-Петербург
СЕМЬ ДОЧЕРЕЙ ГОРНОГО КОРОЛЯ
Музыка: Александр Спендиаров
Декорации и костюмы: Борис Анисфельд
Премьера: 1 января 1913 г., Нойес Опернтеатер (Кролл), Берлин
Спектакль труппы Анны Павловой
Музыка: Ференц Лист
Декорации и костюмы: Борис Анисфельд
Премьера: 15 января 1913 г., Нойес
Опернтеатер (Кролл), Берлин
Спектакль труппы Анны Павловой
Примечание. Этот балет был впервые исполнен в Мариинском театре, Санкт-Петербург, 31 марта 1913 г. и 21 апреля 1913 г. в Палас Тиэтр, Лондон.
Автор: Габриеле Д’Аннунцио
Музыка: Ильдебрандо Пиццетти
Декорации и костюмы: Лев Бакст
Режиссер-постановщик: Всеволод Мейерхольд
Премьера: 11 июня 1913 г.*, Театр Шатле, Париж
Спектакль труппы Иды Рубинштейн
ЛЕГЕНДА ОБ ИОСИФЕ
Музыка: Рихард Штраус
Либретто: граф Гарри фон Кесслер, Гуго фон Гофмансталь
Декорации: Хосе-Мария Серт
Костюмы: Лев Бакст
Хореография: Михаил Фокин
Премьера: 14 мая 1914 г., Национальный оперный театр, Париж
Спектакль Русского балета Дягилева
Основные исполнители: Мария Кузнецова, Вера Фокина, Алексей Булгаков, Леонид Мясин, Сергей Григорьев, Любовь Чернышева, Софи Пфланц, Дорис Фэйтфул, Макс Фроман
ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК
Музыка: Николай Римский-Корсаков
Либретто: Владимир Бельский, по сказке Александра Пушкина, в обработке Александра Бенуа
Декорации и костюмы: Наталья Гончарова
Режиссер-постановщик: Михаил Фокин
Хореография: Михаил Фокин
Премьера: 24 мая 1914 г., Национальный оперный театр, Париж
Спектакль Русского балета Дягилева
Солисты оперы: Иван Алчевский, Александр Белянин, Аврелия Добровольская, Елизавета Петренко, Елена Николаева, Василий Петров
Солисты балета: Тамара Карсавина, Адольф Больм, Алексей Булгаков
Музыка: Максимилиан Штейнберг
Либретто: Лев Бакст, по произведениям Овидия
Декорации и костюмы: Мстислав Добужинский
Хореография: Михаил Фокин
Премьера: 2 июня 1914 г., Национальный оперный театр, Париж
Спектакль Русского балета Дягилева
Основные исполнители: Тамара Карсавина, Адольф Больм, Макс Фроман, Людмила Шоллар, Софи Пфланц, Любовь Чернышева
Музыка: Михаил Глинка
Премьера: 10 января 1915 г., Мариинский театр, Петроград
Примечание. С начала Первой мировой войны российская столица была переименована из Санкт-Петербурга в Петроград.
ФРАНЧЕСКА ДА РИМИНИ
Музыка: Петр Чайковский
Либретто: Михаил Фокин, по 5-й песни «Ада» Данте
Декорации и костюмы: Михаил Бобышов (и другие)
Премьера: 28 ноября 1915 г., Мариинский театр, Петроград
Благотворительный спектакль в пользу приюта для детей-беженцев
Основные исполнители: Любовь Егорова, Петр Владимиров, Борис Романов
СТЕНЬКА РАЗИН
Музыка: Александр Глазунов
Декорации и костюмы: Михаил Бобышов (и другие)
Премьера: 28 ноября 1915 г., Мариинский театр, Петроград
Благотворительный спектакль в пользу приюта для детей-беженцев
Основные исполнители: Павел Андреев, Вера Фокина
Музыка: Петр Чайковский
Либретто: Михаил Фокин, по произведению Валериана Светлова «Ангел из Фьезоле»
Декорации и костюмы: Михаил Бобышов
Премьера: 28 ноября 1915 г., Мариинский театр, Петроград
Благотворительный спектакль в пользу приюта для детей-беженцев
Основные исполнители: Матильда Кшесинская, Петр Владимиров
Музыка: Фридерик Шопен
Премьера: 28 ноября 1915 г., Мариинский театр, Петроград
Благотворительный спектакль в пользу приюта для детей-беженцев
Музыка: Петр Чайковский
Премьера: 28 ноября 1915 г., Мариинский театр, Петроград
Благотворительный спектакль в пользу приюта для детей-беженцев
Музыка: Николай Черепнин
Премьера: 28 ноября 1915 г., Мариинский театр, Петроград
Благотворительный спектакль в пользу приюта для детей-беженцев
ТАРАНТЕЛЛА
Музыка: Фридерик Шопен
Премьера: 28 ноября 1915 г., Мариинский театр, Петроград
Благотворительный спектакль в пользу приюта для детей-беженцев
Музыка: Петр Чайковский
Премьера: 9 января 1916 г., Мариинский театр, Петроград
Музыка: Александр Спендиаров
Премьера: 12 января 1916 г., Мариинский театр, Петроград
РУССКИЕ ПЕСНИ
а) «Шуточная» («Я с комариком плясала…»);
б) «Колыбельная»; в)«Плясовая»; г)«Хороводная»
Премьера: 12 января 1916 г., Мариинский театр, Петроград
АРАГОНСКАЯ ХОТА
Музыка: Михаил Глинка
Декорации и костюмы: Александр Головин
Премьера: 29 января 1916 г., Мариинский театр, Петроград
ЦАРЕВНА АВРИЗА
Музыка: Модест Мусоргский
Премьера: 6 февраля 1916 г., Мариинский театр, Петроград
УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ
Музыка: Поль Дюка
Премьера: 12 ноября 1916 г., Мариинский театр, Петроград
Благотворительный спектакль в пользу дамского кружка лейб-гвардии Измайловского полка
Музыка: народная, оркестровка Бориса Асафьева
Премьера: 16 февраля 1917 г., Мариинский театр, Петроград
РУСЛАН И ЛЮДМИЛА (танцы в опере)
Музыка: Михаил Глинка
Премьера: 27 ноября 1917 г., Мариинский театр, Петроград
Приложение II
ОПЕРЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ АНТРЕПРИЗОЙСЕРГЕЯ ДЯГИЛЕВА
БОРИС ГОДУНОВ
Музыка: Модест Мусоргский, редакция и инструментовка Николая Римского-Корсакова
Либретто: Модест Мусоргский, по произведению Александра Пушкина
Дирижер: Феликс Блуменфельд
Хормейстер: Ульрих Авранек
Режиссер-постановщик: Александр Санин
Декорации: Александр Головин, Александр Бенуа, Константин Юон
Костюмы: Иван Билибин, Дмитрий Стеллецкий, Александр Головин, Александр Бенуа, Борис Анисфельд, Евгений Лансере, Степан Яремич, Константин Юон
Премьера: 19 мая 1908 г., Национальный оперный театр, Париж
Основные исполнители: Федор Шаляпин, Наталия Ермоленко, Владимир Касторский, Елизавета Петренко, Дагмара Ренин, Иван Алчевский, Василий Шаронов, Дмитрий Смирнов, Клавдия Тугаринова, Николай Кедров, [?] Толкачев, Митрофан Чупрунников, Михаил Кравченко
Примечание. В первоначальной версии опера была впервые поставлена в Петербурге в 1874 г., а в авторской редакции Римского-Корсакова в 1896 г.
КНЯЗЬ ИГОРЬ
Половецкие сцены и пляски (2-й акт оперы)
Музыка: Александр Бородин, опера завершена и частично оркестрована Николаем Римским-Корсаковым и Александром Глазуновым
Либретто: Александр Бородин по сценарию Владимира Стасова
Дирижер: Эмиль Купер
Хормейстер: Ульрих Авранек
Декорации и костюмы: Николай Рерих
Декорации выполнил: Борис Анисфельд
Режиссер: Александр Санин
Хореография: Михаил Фокин
Премьера: 18 мая 1909 г.*, Театр Шатле, Париж
Основные исполнители: Елизавета Петренко, Василий Шаронов, Дмитрий Смирнов, Капитон Запорожец, Мишель д’Ариал
Солисты балета: Адольф Больм, Софья Федорова, Елена Смирнова
Примечание. Опера была впервые поставлена в Петербурге в 1890 г.
ИВАН ГРОЗНЫЙ (ПСКОВИТЯНКА)
Музыка: Николай Римский-Корсаков
Либретто: Николай Римский-Корсаков, по драме Льва Мея
Дирижер: Николай Черепнин
Хормейстер: Ульрих Авранек
Режиссер-постановщик: Александр Санин
Декорации: Александр Головин, Николай Рерих
Костюмы: Дмитрий Стеллецкий
Декорации выполнили: [?] Внуков (картина 1), Борис Анисфельд (картины 2, 4, 5), Николай Шарбе (картина 3)
Премьера: 24 мая 1909*, Театр Шатле, Париж
Основные исполнители: Федор Шаляпин, Александр Давыдов, Владимир Касторский, Лидия Липковская, Елизавета Петренко, Василий Шаронов, Василий Дамаев, [?] Павлова
Примечание. Третья, и окончательная, редакция оперы была впервые поставлена в 1895 г. в Петербурге.
РУСЛАН И ЛЮДМИЛА (1-й акт)
Музыка: Михаил Глинка
Либретто: Константин Бахтурин, Валериан Ширков и др., по произведению Александра Пушкина
Дирижер: Эмиль Купер
Хормейстер: Ульрих Авранек
Режиссер-постановщик: Александр Санин
Декорации и костюмы: Константин Коровин
Премьера: 2 июня 1909 г.*, Театр Шатле, Париж
Основные исполнители: Владимир Касторский, Лидия Липковская, Василий Шаронов, Дмитрий Смирнов, Капитон Запорожец, Евгения Збруева
Примечание. Опера была впервые поставлена в 1842 г. в Петербурге.
ЮДИФЬ (3-й акт)
Музыка: Александр Серов
Либретто: Аполлон Майков и др., по «Книге Юдифи»
Дирижер: Эмиль Купер
Хормейстер: Ульрих Авранек
Режиссер-постановщик: Александр Санин
Декорации: Валентин Серов, Лев Бакст
Костюмы: Лев Бакст
Премьера: 7 июня 1909 г., Театр Шатле, Париж
Основные исполнители: Федор Шаляпин, Фелия Литвин, Дмитрий Смирнов, Капитон Запорожец, Евгения Збруева
Примечание. Опера была впервые поставлена в 1863 г. в Петербурге.
БОРИС ГОДУНОВ
Музыка: Модест Мусоргский, редакция и инструментовка Николая Римского-Корсакова
Либретто: Модест Мусоргский, по произведению Александра Пушкина
Дирижер: Эмиль Купер
Хормейстер: [?] Похитонов
Режиссер-постановщик: Александр Санин
Декорации: Константин Юон, Лев Бакст (2-й акт)
Костюмы: Иван Билибин, Лев Бакст, Константин Юон
Премьера: 22 мая 1913 г., Театр Елисейских Полей, Париж
Основные исполнители: Федор Шаляпин, Николай Андреев, Павел Андреев, Василий Дамаев, Елена Николаева, Елизавета Петренко, Мари Бриан, Александр Белянин, Капитон Запорожец, [?] Давыдова, Николай Большаков, [?] Александрович
Примечание. Первоначальная версия оперы была поставлена в Петербурге в 1874 г., редакция Римского-Корсакова – в 1896 г. Первый показ постановки антрепризой Дягилева в Лондоне состоялся 24 июня 1913 г. в Королевском театре Друри-Лейн.
Музыка: Модест Мусоргский, опера завершена и оркестрована Николаем Римским-Корсаковым, с добавлением фрагментов, оркестрованных Морисом Равелем и Игорем Стравинским
Либретто: Модест Мусоргский, Владимир Стасов
Дирижер: Эмиль Купер
Режиссер-постановщик: Александр Санин
Декорации и костюмы: Федор Федоровский
Хореография: Адольф Больм
Премьера: 5 июня 1913 г., Театр Елисейских Полей, Париж
Основные исполнители: Федор Шаляпин, Павел Андреев, Николай Андреев, Александр Белянин, Николай Большаков, Мари Бриан, Василий Дамаев, Елена Николаева, Елизавета Петренко, Капитон Запорожец, [?] Александрович, [?] Штробиндер
Примечание. Опера была впервые поставлена в 1886 г. в Петербурге. Первый показ постановки дягилевской антрепризой в Лондоне состоялся 1 июля 1913 г. в Королевском театре Друри-Лейн.
ИВАН ГРОЗНЫЙ (ПСКОВИТЯНКА)
Музыка: Николай Римский-Корсаков
Либретто: Николай Римский-Корсаков по драме Льва Мея
Дирижер: Эмиль Купер
Декорации и костюмы: Александр Головин
Премьера: 8 июля 1913 г., Королевский театр Друри-Лейн, Лондон
Основные исполнители: Федор Шаляпин, Николай Андреев, Павел Андреев, Мари Бриан, Василий Дамаев, Елена Николаева, Елизавета Петренко, Капитон Запорожец
Примечание. Третья, и окончательная, редакция оперы была впервые поставлена в 1895 г. в Петербурге.
ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК
Музыка: Николай Римский-Корсаков
Либретто: Владимир Бельский, по сказке Александра Пушкина, в обработке Александра Бенуа
Дирижер: Пьер Монтё
Хормейстер: Николай Палицын
Режиссер-постановщик: Михаил Фокин
Хореография: Михаил Фокин
Декорации и костюмы: Наталья Гончарова
Премьера: 24 мая 1914 г., Национальный оперный театр, Париж
Солисты оперы: Павел Андреев, Александр Белянин, Мари Бриан, Аврелия Добровольская, Елизавета Петренко, Елена Николаева, Василий Петров
Солисты балета: Тамара Карсавина, Адольф Больм, Алексей Булгаков
Примечание. Опера была впервые поставлена в 1909 г. в Москве. Первый показ дягилевской постановки в Лондоне состоялся 15 июня 1914 г. в Королевском театре Друри-Лейн.
Музыка: Игорь Стравинский
Либретто: Игорь Стравинский и Степан Митусов, по сказке Ханса Кристиана Андерсена
Дирижер: Пьер Монтё
Хормейстер: Николай Палицын
Режиссер-постановщик: Александр Бенуа, Александр Санин
Декорации и костюмы: Александр Бенуа
Декорации выполнил: Николай Шарбе
Хореография: Борис Романов
Премьера: 26 мая 1914 г., Национальный оперный театр, Париж
Основные исполнители: Павел Андреев, Александр Белянин, Мари Бриан, Аврелия Добровольская, Федор Эрнст, Николай Гуляев, Елизавета Мамсина, Елизавета Петренко, Василий Шаронов, Александр Варфоломеев
Солисты балета: Макс Фроман, Николай Кремнев
Примечание. Первый показ в Лондоне состоялся 18 июня 1914 г. в Королевском театре Друри-Лейн.
КНЯЗЬ ИГОРЬ
Музыка: Александр Бородин, опера завершена и частично оркестрована Николаем Римским-Корсаковым и Александром Глазуновым
Либретто: Александр Бородин, по сценарию Владимира Стасова
Дирижер: Лев Штейнберг
Хореография: Михаил Фокин
Премьера: 8 июня 1914 г., Королевский театр Друри-Лейн, Лондон
Основные исполнители: Федор Шаляпин, Николай Андреев, Павел Андреев, Мари Бриан, Мария Кузнецова, Елизавета Мамсина, Елизавета Петренко, Василий Шаронов, Александр Варфоломеев
Примечание. Опера была впервые поставлена в 1890 г. в Петербурге.
МАЙСКАЯ НОЧЬ
Музыка: Николай Римский-Корсаков
Либретто: Николай Римский-Корсаков, по произведению Николая Гоголя
Дирижер: Лев Штейнберг
Премьера: 26 июня 1914 г., Королевский театр Друри-Лейн, Лондон
Основные исполнители: Павел Андреев, Александр Белянин, Мари Бриан, Федор Эрнст, Елизавета Мамсина, Елизавета Петренко, Василий Шаронов, Дмитрий Смирнов
Примечание. Опера была впервые поставлена в 1880 г. в Петербурге.
Музыка: Игорь Стравинский
Либретто: Борис Кохно, по произведению Александра Пушкина
Дирижер: Грегор Фительберг
Режиссер-постановщик: Бронислава Нижинская
Декорации и костюмы: Леопольд Сюрваж
Премьера: 3 июня 1922 г., Национальный оперный театр, Париж
Основные исполнители: Зоя Розовская, Елена Садовень, Стефан Белина-Скупевский, Ода Слободская
Музыка: Шарль Гуно, с новыми речитативами Франсиса Пуленка
Либретто: Жюль Барбье и Мишель Карре, по произведению Жана де Лафонтена
Дирижер: Эдуар Фламан
Режиссер-постановщик: Константин Ландо
Декорации и костюмы: Хуан Гри
Декорации выполнили: Владимир и Елизавета Полунины
Премьера: 1 января 1924 г., Театр Монте-Карло, Монте-Карло
Основные исполнители: Мария Баррьентос, Жанна Монфор, Теодор Ритч, Даниэль Виньо
Примечание. Опера была впервые поставлена в 1860 г. в Баден-Бадене.
ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ
Музыка: Шарль Гуно, с новыми речитативами Эрика Сати
Либретто: Жюль Барбье и Мишель Карре, по произведению Мольера
Дирижер: Эдуар Фламан
Хормейстер: Амеде де Сабата
Режиссер-постановщик: Александр Бенуа
Декорации и костюмы: Александр Бенуа
Хореография: Бронислава Нижинская
Премьера: 5 января 1924 г., Театр Монте-Карло, Монте-Карло
Основные исполнители: Жак Арна, Инес Феррарис, Жанна Монфор, Теодор Ритч, Даниэль Виньо, Альберт Гарсиа
Солисты балета: Антон Долин, Любовь Чернышева
Примечание. Опера была впервые поставлена в 1858 г. в Париже.
ФИЛЕМОН И БАВКИДА
Музыка: Шарль Гуно
Либретто: Жюль Барбье и Мишель Карре
Дирижер: Эдуар Фламан
Хормейстер: Амеде де Сабата
Режиссер-постановщик: Александр Бенуа
Декорации и костюмы: Александр Бенуа
Декорации выполнили: Владимир и Елизавета Полунины
Премьера: 19 января 1924 г., Театр Монте-Карло, Монте-Карло
Основные исполнители: Мария Баррьентос, Назарено де Анджелис, Алезио де Паоли
Примечание. Опера была впервые поставлена в 1860 г. в Париже.
НЕУДАЧНОЕ ВОСПИТАНИЕ
Музыка: Эмманюэль Шабрие, с новыми речитативами Дариюса Мийо
Либретто: Э. Летерье, А. Ванлоо
Дирижер: Эдуар Фламан
Режиссер-постановщик: Александр Бенуа
Декорации и костюмы: Хуан Гри
Премьера: 17 января 1924 г., Театр Монте-Карло, Монте-Карло
Основные исполнители: Инес Феррарис, Теодор Ритч, Даниэль Виньо
Примечание. Опера была впервые поставлена в 1879 г. в Париже
Музыка: Игорь Стравинский
Либретто: Жан Кокто, по трагедии Софокла, в переводе на латинский Жана Даньелу
Дирижер: Игорь Стравинский
Премьера: 30 мая 1927 г., Театр Сары Бернар, Париж
Основные исполнители: Стефан Белина-Скупевский, Мишель д’Ариал, Георгий Ланской, Елена Садовень, Капитон Запорожец
Чтец: Пьер Брассер
Приложение III
БАЛЕТНЫЕ ПОСТАНОВКИ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕРУССКИМ БАЛЕТОМ СЕРГЕЯ ДЯГИЛЕВА
Приведенная хронология, составленная преимущественно по современным программкам и обзорам, представляет собой расширенный вариант хронологии, сделанной Нэнси Ван Норманн Баер и автором в The Art of Enchantment: Diaghilev’s Ballets Russes 1909–1929.
ПАВИЛЬОН АРМИДЫ
Музыка: Николай Черепнин
Либретто: Александр Бенуа, по новелле Теофиля Готье Омфала
Декорации и костюмы: Александр Бенуа
Декорации выполнили: Орест Аллегри, [?] Локенберг
Хореография: Михаил Фокин
Премьера: 18 мая 1909 г.*, Театр Шатле, Париж
Основные исполнители: Вера Каралли, Михаил Мордкин, Алексей Булгаков, Тамара Карсавина, Александра Балдина, Александра Федорова, Елена Смирнова, Вацлав Нижинский
Примечание. Балет был впервые поставлен в 1907 г. в Мариинском театре, Санкт-Петербург.
КНЯЗЬ ИГОРЬ
Половецкие пляски из 2-го акта оперы
Музыка: Александр Бородин, опера завершена и частично оркестрована Николаем Римским-Корсаковым и Александром Глазуновым
Декорации и костюмы: Николай Рерих
Декорации выполнил: Борис Анисфельд
Режиссер: Александр Санин
Хореография: Михаил Фокин
Премьера: 18 мая 1909 г.*, Театр Шатле, Париж
Основные исполнители: Адольф Больм, Софья Федорова, Елена Смирнова
Примечание. Позднее постановка проходила без участия певцов под названием «Половецкие пляски». В 1923 г. первый номер был заново поставлен Брониславой Нижинской.
Музыка: Александр Глазунов, Михаил Глинка, Модест Мусоргский, Николай Римский-Корсаков, Петр Чайковский
Декорации: Константин Коровин
Костюмы: Лев Бакст, Александр Бенуа, Иван Билибин, Константин Коровин
Декорации выполнили: Петр Ламбин, Николай Шарбе
Хореография: Михаил Фокин, Мариус Петипа, Александр Горский, Николай Гольц, Феликс Кшесинский
Премьера: 18 мая 1909 г.*, Театр Шатле, Париж
Основные исполнители: Вера Фокина, Тамара Карсавина, Вацлав Нижинский, Софья Федорова, Михаил Мордкин, Георгий Розай, Вера Каралли
Примечание. Фокину принадлежит хореография «Гопака» (Мусоргский), «Трепака» (Чайковский) и «Финала» (Чайковский). В постановку также входили танцы «Жар-птица» (па-де-де Синей птицы из «Спящей красавицы») и «Венгерское гран-па» (из «Раймонды»), оба в хореографии Петипа, «Чардаш» (Глазунов) в хореографии Горского, «Мазурка» (Глинка) в постановке Гольца и Кшесинского и «Лезгинка» (Глинка) в хореографии Фокина на основе хореографии Петипа. Па-де-де Голубой птицы было возобновлено в 1915 г. под названием «Заколдованная принцесса» с декорациями и костюмами Льва Бакста.
Музыка: Фридерик Шопен, оркестровка Александра Глазунова, Игоря Стравинского, Александра Танеева
Декорации и костюмы: Александр Бенуа
Декорации выполнил: Степан Яремич
Хореография: Михаил Фокин
Премьера: 2 июня 1909 г.*, Театр Шатле, Париж
Основные исполнители: Анна Павлова, Тамара Карсавина, Александра Балдина, Вацлав Нижинский
Примечание. Первоначально этот балет под названием «Шопениана» был поставлен в 1907 г. в Мариинском театре, Санкт-Петербург. В 1919 г. декорации Бенуа были заменены на декорации А. Сократа.
Музыка: Антон Аренский, со вставками из произведений Александра Глазунова, Михаила Глинки, Модеста Мусоргского, Николая Римского-Корсакова, Сергея Танеева, Николая Черепнина
Декорации и костюмы: Лев Бакст
Хореография: Михаил Фокин
Премьера: 2 июня 1909 г.*, Театр Шатле, Париж
Основные исполнители: Ида Рубинштейн, Анна Павлова, Тамара Карсавина, Вацлав Нижинский, Михаил Фокин, Алексей Булгаков
Примечание. «Клеопатра» была создана на основе балета Фокина «Египетские ночи», поставленного в 1908 г. в Мариинском театре, Санкт-Петербург. В 1918 г. балет был вновь поставлен с декорациями Робера Делоне, дополнительными костюмами Сони Делоне и новым па-де-де в хореографии Леонида Мясина.
Музыка: Роберт Шуман, оркестровка Антона Аренского, Александра Глазунова, Анатолия Лядова, Николая Римского-Корсакова, Николая Черепнина
Либретто: Лев Бакст, Михаил Фокин
Декорации и костюмы: Лев Бакст
Хореография: Михаил Фокин
Премьера: 20 мая 1910 г., Театер дес Вестенс, Берлин
Основные исполнители: Лидия Лопухова, Вера Фокина, Вацлав Нижинский, Адольф Больм, Бронислава Нижинская
Примечание. Балет был впервые поставлен 20 февраля 1910 г. в театральном зале Павловой, Санкт-Петербург.
ШЕХЕРАЗАДА
Музыка: Николай Римский-Корсаков
Либретто: Лев Бакст, Александр Бенуа, Михаил Фокин, по первой сказке из цикла «Тысяча и одна ночь»
Декорации и костюмы: Лев Бакст
Хореография: Михаил Фокин
Премьера: 4 июня 1910 г., Национальный оперный театр, Париж
Основные исполнители: Ида Рубинштейн, Вацлав Нижинский, Алексей Булгаков
Музыка: Адольф Адан
Либретто: Вернуа де Сен-Жорж и Теофиль Готье, по сюжету Генриха Гейне
Декорации и костюмы: Александр Бенуа
Хореография: Жан Коралли, Жюль Перро, Мариус Петипа, в редакции Михаила Фокина
Премьера: 17 июня 1910 г.*, Национальный оперный театр, Париж
Основные исполнители: Тамара Карсавина, Вацлав Нижинский, Елена Полякова, Алексей Булгаков
Примечание. Балет был впервые поставлен в 1841 г. в Королевской Академии музыки, Париж
Музыка: Игорь Стравинский
Либретто: Михаил Фокин
Декорации: Александр Головин
Костюмы: Александр Головин, Лев Бакст
Хореография: Михаил Фокин
Премьера: 25 июня 1910 г., Национальный оперный театр, Париж
Основные исполнители: Тамара Карсавина, Михаил Фокин, Алексей Булгаков, Вера Фокина
Примечание. «Жар-птица» была возобновлена в 1936 г. с декорациями и костюмами Натальи Гончаровой.
ОРИЕНТАЛИИ
Музыка: Антон Аренский, Александр Бородин, Александр Глазунов, Эдвард Григ (оркестровка Игоря Стравинского), Кристиан Синдинг (оркестровка Игоря Стравинского)
Декорации: Константин Коровин
Костюмы: Константин Коровин, Лев Бакст
Хореография: Михаил Фокин
Премьера: 25 июня 1910 г., Национальный оперный театр, Париж
Основные исполнители: Екатерина Гельцер, Александр Волинин, Тамара Карсавина, Вацлав Нижинский, Александра Васильева, Георгий Розай, Вера Фокина, Александр Орлов, Михаил Фокин
Примечание. Этот дивертисмент включал в себя два ранее поставленных танца – «Сиамский танец» и «Кобольд», которые были представлены 20 февраля 1910 г. в Мариинском театре, Санкт-Петербург.
ВИДЕНИЕ РОЗЫ
Музыка: Карл Мария фон Вебер, оркестровка Гектора Берлиоза
Либретто: Жан-Луи Водуайе, по стихотворению Теофиля Готье
Декорации и костюмы: Лев Бакст
Хореография: Михаил Фокин
Премьера: 19 апреля 1911 г., Театр Монте-Карло, Монте-Карло
Исполнители: Вацлав Нижинский, Тамара Карсавина
Музыка: Николай Черепнин
Либретто: Лев Бакст
Декорации и костюмы: Лев Бакст
Хореография: Михаил Фокин
Премьера: 26 апреля 1911 г., Театр Монте-Карло, Монте-Карло
Основные исполнители: Вацлав Нижинский, Тамара Карсавина, Бронислава Нижинская, Вера Фокина
САДКО («ПОДВОДНОЕ ЦАРСТВО» – 6-я картина из оперы «Садко»)
Музыка: Николай Римский-Корсаков
Декорации: Борис Анисфельд
Костюмы: Борис Анисфельд, Лев Бакст
Хореография: Михаил Фокин
Премьера: 6 июня 1911 г., Театр Шатле, Париж
Примечание. Балет был поставлен заново в 1916 г. в хореографии Адольфа Больма и оформлении Натальи Гончаровой.
Музыка: Игорь Стравинский
Либретто: Игорь Стравинский, Александр Бенуа
Декорации и костюмы: Александр Бенуа
Хореография: Михаил Фокин
Премьера: 13 июня 1911 г., Театр Шатле, Париж
Основные исполнители: Вацлав Нижинский, Тамара Карсавина, Александр Орлов, Энрико Чекетти
ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО
Музыка: Петр Чайковский
Либретто: Владимир Бегичев и Василий Гельцер, в обработке Мариуса Петипа
Декорации: Константин Коровин, Александр Головин
Костюмы: Александр Головин
Хореография: Мариус Петипа, Лев Иванов, редакция Михаила Фокина
Премьера: 30 ноября 1911 г., Королевский оперный театр, Лондон
Основные исполнители: Матильда Кшесинская, Вацлав Нижинский
Примечание. Эта постановка представляла собой сжатую в два акта версию балета, поставленного в 1895 г. в Мариинском театре. Декорации и костюмы, приобретенные Дягилевым, были созданы для постановки 1901 г. в Большом театре. В 1923 г. Дягилев возобновил балет в Театре Монте-Карло, также в двух актах, с декорациями Коровина (1-й акт) и Головина (2-й акт). В главных ролях выступали Вера Трефилова, Анатолий Вильтзак, Сергей Григорьев, Жан Язвинский.
Музыка: Рейнальдо Ган
Либретто: Жан Кокто, Фредерик де Мадрацо
Декорации и костюмы: Лев Бакст
Хореография: Михаил Фокин
Премьера: 13 мая 1912 г., Театр Шатле, Париж
Основные исполнители: Вацлав Нижинский, Тамара Карсавина, Лидия Нелидова, Бронислава Нижинская, Макс Фроман, Михаил Федоров
Музыка: Милий Балакирев
Либретто: Лев Бакст, по стихотворению Михаила Лермонтова
Декорации и костюмы: Лев Бакст
Хореография: Михаил Фокин
Премьера: 20 мая 1912 г., Театр Шатле, Париж
Основные исполнители: Тамара Карсавина, Адольф Больм
ПОСЛЕПОЛУДЕННЫЙ ОТДЫХ ФАВНА
Музыка: Клод Дебюсси
Либретто: по стихотворению Стефана Малларме
Декорации и костюмы: Лев Бакст
Хореография: Вацлав Нижинский
Премьера: 29 мая 1912 г., Театр Шатле, Париж
Основные исполнители: Вацлав Нижинский, Лидия Нелидова
Примечание. В 1922 г. балет был возобновлен с задником работы Пабло Пикассо.
ДАФНИС И ХЛОЯ
Музыка: Морис Равель
Либретто: Михаил Фокин, по античному роману Лонга
Декорации и костюмы: Лев Бакст
Хореография: Михаил Фокин
Премьера: 8 июня 1912 г., Театр Шатле, Париж
Основные исполнители: Тамара Карсавина, Вацлав Нижинский, Адольф Больм, Маргарита Фроман, Энрико Чекетти
Музыка: Клод Дебюсси
Декорации и костюмы: Лев Бакст
Хореография: Вацлав Нижинский
Премьера: 15 мая 1913 г., Театр Елисейских Полей, Париж
Основные исполнители: Тамара Карсавина, Людмила Шоллар, Вацлав Нижинский
ВЕСНА СВЯЩЕННАЯ
Музыка: Игорь Стравинский
Либретто: Игорь Стравинский, Николай Рерих
Декорации и костюмы: Николай Рерих
Хореография: Вацлав Нижинский
Премьера: 28 мая 1913 г.*, Театр Елисейских Полей, Париж
Солистка: Мария Пильц
Примечание. Балет был заново поставлен в 1920 г. Леонидом Мясиным.
ТРАГЕДИЯ САЛОМЕИ
Музыка: Флоран Шмит
Декорации и костюмы: Сергей Судейкин
Хореография: Борис Романов
Премьера: 12 июня 1913 г., Театр Елисейских Полей, Париж
Солистка: Тамара Карсавина
Музыка: Роберт Шуман, оркестровка Николая Черепнина
Либретто: Михаил Фокин
Декорации: Мстислав Добужинский
Костюмы: Лев Бакст
Хореография: Михаил Фокин
Премьера: 16 апреля 1914 г., Театр Монте-Карло, Монте-Карло
Основные исполнители: Тамара Карсавина, Людмила Шоллар, Михаил Фокин
Примечание. «Бабочки» были впервые поставлены в 1912 г. в Мариинском театре, Санкт-Петербург.
ЛЕГЕНДА ОБ ИОСИФЕ
Музыка: Рихард Штраус
Либретто: граф Гарри фон Кесслер, Гуго фон Гофмансталь
Декорации: Хосе-Мария Серт
Костюмы: Лев Бакст
Хореография: Михаил Фокин
Премьера: 14 мая 1914 г., Национальный оперный театр, Париж
Основные исполнители: Мария Кузнецова, Вера Фокина, Алексей Булгаков, Леонид Мясин, Сергей Григорьев, Любовь Чернышева, Софи Пфланц, Дорис Фэйтфул, Макс Фроман
ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК
Музыка: Николай Римский-Корсаков
Либретто: Владимир Бельский, по сказке Александра Пушкина, в обработке Александра Бенуа
Декорации и костюмы: Наталья Гончарова
Режиссер-постановщик: Михаил Фокин
Хореография: Михаил Фокин
Премьера: 24 мая 1914 г., Национальный оперный театр, Париж
Солисты оперы: Иван Алчевский, Александр Белянин, Аврелия Добровольская, Елизавета Петренко, Елена Николаева, Василий Петров
Солисты балета: Тамара Карсавина, Адольф Больм, Алексей Булгаков
Музыка: Максимилиан Штейнберг
Либретто: Лев Бакст, по произведениям Овидия
Декорации и костюмы: Мстислав Добужинский
Хореография: Михаил Фокин
Премьера: 2 июня 1914 г., Национальный оперный театр, Париж
Основные исполнители: Тамара Карсавина, Адольф Больм, Макс Фроман, Людмила Шоллар, Софи Пфланц, Любовь Чернышева
ПОЛУНОЧНОЕ СОЛНЦЕ
Музыка: Николай Римский-Корсаков
Декорации и костюмы: Михаил Ларионов
Хореография: Леонид Мясин
Премьера: 20 декабря 1915 г., Гранд Театр, Женева
Основные исполнители: Леонид Мясин, Николай Зверев
Музыка: Габриель Форе
Декорации: Карло Сократе
Костюмы: Хосе-Мария Серт
Хореография: Леонид Мясин
Премьера: 25 августа 1916 г., Театр Эугении-Виктории, Сан-Себастьян
Основные исполнители: Лидия Соколова, Ольга Хохлова, Леонид Мясин, Леон Войциковский
Музыка: Анатолий Лядов
Декорации и костюмы: Михаил Ларионов
Хореография: Леонид Мясин
Премьера: 25 августа 1916 г., Театр Эугении-Виктории, Сан-Себастьян
Исполнители: Мария Шабельская, Станислав Идзиковский
Примечание. В 1917 г. постановка вошла в состав балета «Русские сказки».
ТИЛЬ УЛЕНШПИГЕЛЬ
Музыка: Рихард Штраус
Декорации и костюмы: Роберт Эдмонд Джонс
Хореография: Вацлав Нижинский
Премьера: 23 октября 1916 г., Манхэттен-опера, Нью-Йорк
Солист: Вацлав Нижинский
Музыка: Игорь Стравинский
Декорации и освещение: Джакомо Балла
Премьера: 12 апреля 1917 г., Театр Костанци, Рим
ЖЕНЩИНЫ В ХОРОШЕМ НАСТРОЕНИИ
Музыка: Доменико Скарлатти, оркестровка Винченцо Томмазини
Либретто: по пьесе Карло Гольдони
Декорации и костюмы: Лев Бакст
Хореография: Леонид Мясин
Премьера: 12 апреля 1917 г., Театр Костанци, Рим
Основные исполнители: Лидия Лопухова, Любовь Чернышева, Жозефина Чекетти, Леонид Мясин, Энрико Чекетти, Станислав Идзиковский, Леон Войциковский
РУССКИЕ СКАЗКИ
Музыка: Анатолий Лядов
Декорации и занавес: Михаил Ларионов
Костюмы: Михаил Ларионов, Наталья Гончарова
Хореография: Леонид Мясин
Премьера: 11 мая 1917 г., Театр Шатле, Париж
Основные исполнители: Любовь Чернышева, Лидия Соколова, Леон Войциковский, Жан Язвинский, Станислав Идзиковский
Примечание. «Русские сказки» включали в себя четыре эпизода: 1)«Кикимора» (впервые поставлена в 1916 г.), 2)«Бова Королевич», 3)«Баба-яга», 4)«Эпилог» и «Русские танцы».
В 1918 г. были добавлены эпизоды «Прелюдия» и «Плач Царевны Лебедь», музыку для которых, также написанную Лядовым, оркестровал Арнольд Бакс.
Музыка: Эрик Сати
Либретто: Жан Кокто
Декорации, костюмы, занавес: Пабло Пикассо
Хореография: Леонид Мясин
Премьера: 18 мая 1917 г., Театр Шатле, Париж
Основные исполнители: Леонид Мясин, Мария Шабельская, Лидия Лопухова, Николай Зверев
ВОЛШЕБНАЯ ЛАВКА
Музыка: Джоакино Россини, оркестровка Отторино Респиги
Декорации, костюмы, занавес: Андре Дерэн
Декорации выполнили: Андре Дерэн, Владимир и Елизавета Полунины
Хореография: Леонид Мясин
Премьера: 5 июня 1919 г., Театр Альгамбра, Лондон
Основные исполнители: Лидия Лопухова, Леонид Мясин, Энрико Чекетти, Сергей Григорьев, Жозефина Чекетти, Лидия Соколова, Леон Войциковский, Николай Зверев, Вера Савина, Николай Кремнев
Музыка: Мануэль де Фалья
Декорации, костюмы, занавес: Пабло Пикассо
Декорации выполнили: Пабло Пикассо, Владимир и Елизавета Полунины
Хореография: Леонид Мясин
Премьера: 22 июля 1919 г., Театр Альгамбра, Лондон
Исполнители: Тамара Карсавина, Леонид Мясин, Леон Войциковский
ПЕСНЬ СОЛОВЬЯ
Музыка: Игорь Стравинский
Декорации, костюмы, занавес: Анри Матисс
Хореография: Леонид Мясин
Премьера: 2 февраля 1920 г., Театр Альгамбра, Лондон
Основные исполнители: Тамара Карсавина, Лидия Соколова, Сергей Григорьев, Станислав Идзиковский
Примечание. Этот одноактный балет представлял собой переработку оперы Стравинского «Соловей», поставленной антрепризой Дягилева в 1914 г. В 1925 г. балет был заново поставлен в хореографии Джорджа Баланчина. Главные роли исполнили Алисия Маркова, Лидия Соколова, Сергей Григорьев, Джордж Баланчин и Николай Кремнев.
ПУЛЬЧИНЕЛЛА
Музыка: Игорь Стравинский, на темы Джованни Батисты
Декорации, костюмы, занавес: Пабло Пикассо
Декорации выполнили: Владимир и Елизавета Полунины
Хореография: Леонид Мясин
Премьера: 15 мая 1920 г., Национальный оперный театр, Париж
Основные исполнители: Тамара Карсавина, Любовь Чернышева, Вера Немчинова, Леонид Мясин, Станислав Идзиковский, Энрико Чекетти, Николай Зверев, Зигмунд Новак
ЖЕНСКИЕ ХИТРОСТИ
Музыка: Доменико Чимароза, оркестровка и речитативы Отторино Респиги
Декорации, костюмы, занавес: Хосе-Мария Серт
Декорации выполнили: Владимир и Елизавета Полунины
Хореография: Леонид Мясин
Премьера: 27 мая 1920 г., Национальный оперный театр, Париж
Солисты балета: Тамара Карсавина, Любовь Чернышева, Вера Немчинова, Лидия Соколова, Станислав Идзиковский, Леон Войциковский, Зигмунд Новак
Солисты оперы: Мафальда де Вольтри, Романиза, Зоя Розовская, Анджело Мазини-Пьералли, Аурелио Англада, Джино де Векки
Музыка: Сергей Прокофьев
Декорации, костюмы, занавес: Михаил Ларионов
Хореография: Тадеуш Славинский, Михаил Ларионов
Премьера: 17 мая 1921 г., Театр Гетэ-лирик, Париж
Основные исполнители: Катрин Девилье, Тадеуш Славинский, Жан Язвинский
КВАДРО ФЛАМЕНКО
Музыка: народная
Декорации и костюмы: Пабло Пикассо
Хореография: народная
Премьера: 17 мая 1921 г., Театр Гетэ-лирик, Париж
Основные исполнители: Мария Дальбасин, Рубия де Херес, Габриелита де Корротин, Лопес, Эль Техеро, Эль Морено
СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА (СПЯЩАЯ ПРИНЦЕССА)
Музыка: Петр Чайковский, частичная переоркестровка Игоря Стравинского
Либретто: Иван Всеволожский и Мариус Петипа, по сказке Шарля Перро
Декорации и костюмы: Лев Бакст
Хореография: Мариус Петипа, с добавлением отдельных танцев Брониславы Нижинской
Премьера: 2 ноября 1921 г., Театр Альгамбра, Лондон
Основные исполнители: Ольга Спесивцева, Пьер Владимиров, Лидия Лопухова, Карлотта Брианца, Фелия Дубровская, Лидия Соколова, Бронислава Нижинская, Любовь Егорова, Вера Немчинова, Любовь Чернышева, Людмила Шоллар, Леон Войциковский, Николай Зверев, Николай Кремнев, Тадеуш Славинский, Анатолий Вильтзак, Станислав Идзиковский
Примечание. Этот балет представлял собой возобновление «Спящей красавицы» Петипа, впервые показанной в 1890 г. в Мариинском театре, Санкт-Петербург.
СВАДЬБА КРАСАВИЦЫ ЗАЧАРОВАННОГО ЛЕСА (СВАДЬБА АВРОРЫ)
Музыка: Петр Чайковский, частичная переоркестровка Игоря Стравинского
Декорации: Александр Бенуа
Костюмы: Александр Бенуа, дополнительные костюмы Натальи Гончаровой
Хореография: Мариус Петипа, в редакции и с дополнительными танцами Брониславы Нижинской
Премьера: 18 мая 1922 г., Национальный оперный театр, Париж
Основные исполнители: Вера Трефилова, Пьер Владимиров, Нина Огинская, Станислав Идзиковский
Примечание. Декорации и костюмы Бенуа первоначально создавались для «Павильона Армиды» в 1909 г. Натальей Гончаровой были созданы костюмы для персонажей сказок Перро.
Музыка: Игорь Стравинский
Декорации и костюмы: Михаил Ларионов
Хореография: Бронислава Нижинская
Премьера: 18 мая 1922 г., Национальный оперный театр, Париж
Основные исполнители: Бронислава Нижинская, Станислав Идзиковский, Жан Язвинский, Михаил Федоров
Примечание. В 1929 г. этот балет был заново поставлен в хореографии Сержа Лифаря.
РУССКИЕ ТАНЦЫ
Музыка: Фридерик Шопен, Петр Чайковский, Александр Бородин
Премьера: 19 марта 1923 г., Театр изящных искусств, Монте-Карло
Основные исполнители: Вера Немчинова, Анатолий Вильтзак, Николай Зверев, Бронислава Нижинская, Николай Кремнев
Примечание. Эта сюита из танцев, исполнявшаяся на различных утренних представлениях, включала в себя «Вальс» Шопена, «Трепак» Чайковского, «Половецкие пляски» Бородина и «Вакханалию». Спектакль 11 апреля также включал в себя «Царевну Лебедь» на музыку Анатолия Лядова.
Музыка: Игорь Стравинский
Декорации и костюмы: Наталья Гончарова
Хореография: Бронислава Нижинская
Премьера: 23 июня 1923 г., Театр Гетэ-лирик, Париж
Основные исполнители: Фелия Дубровская, Любовь Чернышева, Леон Войциковский, Николай Семенов
ИСКУШЕНИЕ ПАСТУШКИ, ИЛИ ЛЮБОВЬ-ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА
Музыка: Мишель де Монтеклер, переработка и оркестровка Анри Казадезюса
Декорации, костюмы, занавес: Хуан Гри
Декорации выполнили: Владимир и Елизавета Полунины
Хореография: Бронислава Нижинская
Премьера: 5 января 1924 г., Театр Монте-Карло, Монте-Карло
Основные исполнители: Вера Немчинова, Леон Войциковский, Тадеуш Славинский, Николай Зверев, Антон Долин, Жан Язвинский, Анатолий Вильтзак
Музыка: Франсис Пуленк
Декорации, костюмы, занавес: Мари Лорансен
Декорации выполнил: князь Александр Шервашидзе
Хореография: Бронислава Нижинская
Премьера: 6 января 1924 г., Театр Монте-Карло, Монте-Карло
Основные исполнители: Леон Войциковский, Анатолий Вильтзак, Николай Зверев, Вера Немчинова, Бронислава Нижинская, Любовь Чернышева, Лидия Соколова
БАЛЕТНАЯ СЦЕНА ИЗ ОПЕРЫ «ЖЕНСКИЕ ХИТРОСТИ»
Музыка: Доменико Чимароза
Декорации и костюмы: Хосе-Мария Серт
Декорации выполнили: Владимир и Елизавета Полунины
Хореография: Леонид Мясин
Премьера: 8 января 1924 г., Театр Монте-Карло, Монте-Карло
Основные исполнители: Любовь Чернышева, Фелия Дубровская, Анатолий Вильтзак, Лидия Соколова, Леон Войциковский, Вера Немчинова, Станислав Идзиковский
Примечание. Впоследствии название балета было изменено на «Чимарозиана».
Музыка: Жорж Орик
Либретто: Борис Кохно, по пьесе Мольера
Декорации, костюмы, занавес: Жорж Брак
Хореография: Бронислава Нижинская
Премьера: 19 января 1924 г., Театр Монте-Карло, Монте-Карло
Основные исполнители: Любовь Чернышева, Людмила Шоллар, Алиса Никитина, Генриетта Майкерская, Анатолий Вильтзак, Николай Зверев, Леон Войциковский, Антон Долин, Жан Язвинский
Примечание. В 1926 г. балет был поставлен в новой хореографии Леонида Мясина.
НОЧЬ НА ЛЫСОЙ ГОРЕ
Музыка: Модест Мусоргский
Хореография: Бронислава Нижинская
Премьера: 6 апреля 1924 г., Театр Монте-Карло, Монте-Карло
Основные исполнители: Лидия Соколова, Михаил Федоров
Примечание. Этот балет представляет собой балетную сцену из оперы «Сорочинская ярмарка».
ГОЛУБОЙ ЭКСПРЕСС
Музыка: Дариюс Мийо
Либретто: Жан Кокто
Декорации: Анри Лоран
Костюмы: Габриель Шанель
Занавес: Пабло Пикассо
Хореография: Бронислава Нижинская
Премьера: 20 июня 1924 г., Театр Елисейских Полей, Париж
Основные исполнители: Лидия Соколова, Бронислава Нижинская, Антон Долин, Леон Войциковский
Музыка: Александр Глазунов, Антон Аренский, Модест Мусоргский, Эрик Сати, Лео Делиб, Николай Черепнин
Хореография: Джордж Баланчин, Михаил Фокин и др.
Премьера: 18 февраля 1925 г., Новый концертный зал, Монте-Карло
Основные исполнители: Вера Немчинова, Леон Войциковский, Александра Данилова, Тамара Жева, Джордж Баланчин, Любовь Чернышева, Николай Кремнев, Лидия Соколова, Алисия Маркова
Примечание. В балет входили «Венгерское Гран-па» (Глазунов), «Энигма» (Баланчин-Аренский), «Гопак» (Баланчин-Мусоргский), «Танец маленькой американской девочки» (Сати), «Вариация» (Баланчин, на основе работы Серафимы Астафьевой, – Делиб), «Шуты Армиды» (Фокин-Черепнин).
ВОЛШЕБНЫЕ СКАЗКИ
Музыка: Петр Чайковский
Хореография: Мариус Петипа, Бронислава Нижинская
Премьера: 25 февраля 1925 г., Новый концертный зал, Монте-Карло
Основные исполнители: Алиса Никитина, Нинет де Валуа, Николай Зверев, Алисия Маркова, Константин Черкас, Вера Савина, Антон Долин, [?] Сумарокова, Дороти Коксон, Николай Кремнев, Вера Немчинова, Леон Войциковский, Тадеуш Славинский, Евгений Ляпицкий
Примечание. В балет входили танцы сказок из 3-го акта «Спящей красавицы».
ДИВЕРТИСМЕНТ
Музыка: Шарль Гуно, Анатолий Лядов, Александр Скрябин, Жорж Орик, Антон Рубинштейн
Хореография: Джордж Баланчин и др.
Премьера: 7 марта 1925 г., Новый концертный зал, Монте-Карло
Основные исполнители: Любовь Чернышева, Антон Долин, Александра Данилова, Леон Войциковский, Тамара Жева, Джордж Баланчин, Алисия Маркова
Примечание. В балет входили «Танец влюбленных» (Гуно), «Танец пастушков» (Гуно), «Танец комара» (Лядов), «Этюд» (Баланчин – Скрябин), «Ноктюрн» (Орик), «Вальс-каприс» (Баланчин, на основе работы Серафимы Астафьевой, – Рубинштейн), Лезгинка» (Рубинштейн)
БАЛ ИЗ «ЛЕБЕДИНОГО ОЗЕРА»
Музыка: Петр Чайковский
Хореография: Мариус Петипа
Костюмы: Александр Головин
Премьера: 11 марта 1925 г., Новый концертный зал, Монте-Карло
Основные исполнители: Алиса Никитина, Алисия Маркова, Николай Ефимов, Константин Черкас, Любовь Чернышева, Леон Войциковский, Вера Немчинова, Антон Долин, Лидия Соколова, Николай Кремнев
Примечание. Постановка включала в себя дивертисмент из 3-го акта «Лебединого озера» и другие танцы из этого балета.
ЗЕФИР И ФЛОРА
Музыка: Владимир Дукельский [Вернон Дюк]
Либретто: Борис Кохно
Декорации и костюмы: Жорж Брак
Декорации выполнил: князь Александр Шервашидзе
Хореография: Леонид Мясин
Премьера: 18 апреля 1925 г., Театр Монте-Карло, Монте-Карло
Основные исполнители: Алиса Никитина, Антон Долин, Серж Лифарь
Примечание. Маски и реквизит работы Оливера Месселя были добавлены в ноябре 1925 г. в Лондоне. В 1926 г. хореография балета была частично изменена.
Музыка: Жорж Орик
Либретто: Борис Кохно
Декорации, костюмы и занавес: Педро Прюна
Декорации выполнил: князь Александр Шервашидзе
Хореография: Леонид Мясин
Премьера: 17 июня 1925 г., Театр Гетэ-лирик, Париж
Основные исполнители: Вера Немчинова, Лидия Соколова, Леон Войциковский, Серж Лифарь, Тадеуш Славинский
Музыка: Витторио Риети
Либретто: Витторио Риети
Декорации и костюмы: Морис Утрилло
Декорации выполнил: князь Александр Шервашидзе
Хореография: Джордж Баланчин
Премьера: 11 декабря 1925 г., театр Колизеум, Лондон
Основные исполнители: Леон Войциковский, Серж Лифарь, Алиса Никитина, Александра Данилова, Тамара Жева
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА
Музыка: Констант Ламберт
Оформление: Макс Эрнст, Жоан Миро
Декорации выполнил: князь Александр Шервашидзе
Хореография: Бронислава Нижинская, антракт Джорджа Баланчина
Премьера: 4 мая 1926 г., Театр Монте-Карло, Монте-Карло
Основные исполнители: Тамара Карсавина, Серж Лифарь, Лидия Соколова, Леон Войциковский, Тадеуш Славинский, Константин Черкас
Примечание. Оригинальное название балета было на английском языке[1074].
Музыка: Жорж Орик
Либретто: Борис Кохно
Декорации, костюмы и занавес: Педро Прюна
Декорации выполнил: князь Александр Шервашидзе
Хореография: Джордж Баланчин
Премьера: 19 мая 1926 г., Театр Сары Бернар, Париж
Основные исполнители: Фелия Дубровская, Тамара Жева, Серж Лифарь, Тадеуш Славинский
ЧЕРТИК ИЗ ТАБАКЕРКИ
Музыка: Эрик Сати
Декорации и костюмы: Андре Дерэн
Декорации выполнил: князь Александр Шервашидзе
Хореография: Джордж Баланчин
Премьера: 3 июня 1926 г., Театр Сары Бернар, Париж
Основные исполнители: Станислав Идзиковский, Александра Данилова
Примечание. Первый показ балета был посвящен памяти Эрика Сати.
ТРИУМФ НЕПТУНА
Музыка: лорд Бернере
Либретто: Сачеверел Ситуэлл
Декорации: по гравюрам Джорджа и Роберта Круиксхэнков, Тофтса, Хониголда и Уэбба, собранным Б. Поллоком и X. Дж. Уэббом; в обработке князя Александра Шервашидзе
Костюмы: Педро Прюна, по эскизам традиционных костюмов рождественских пантомим
Декорации выполнил: князь Александр Шервашидзе
Хореография: Джордж Баланчин
Премьера: 3 декабря 1926 г., театр Лицеум, Лондон
Основные исполнители: Александра Данилова, Серж Лифарь, Михаил Федоров, Лидия Соколова, Любовь Чернышева, Вера Петрова, Татьяна Шамье, Джордж Баланчин, Константин Черкас
Музыка: Анри Соге
Либретто: Собека [Борис Кохно], по одной из басен Эзопа
Декорации (архитектура и скульптуры) и костюмы: Наум Габо, Антон Певзнер
Хореография: Джордж Баланчин
Премьера: 30 апреля 1927 г., Театр Монте-Карло, Монте-Карло
Основные исполнители: Ольга Спесивцева, Серж Лифарь
Музыка: Эрик Сати
Либретто: Леонид Мясин
Декорации и костюмы: Пабло Пикассо
Декорации выполнили: Владимир и Елизавета Полунины
Хореография: Леонид Мясин
Премьера: 2 июня 1927 г., Театр Сары Бернар, Париж
Основные исполнители: Леонид Мясин, Вера Петрова, [?] Лиссаневич
Примечание. Балет был изначально поставлен в 1924 г. в «Парижских вечерах», организованных графом Этьеном де Бомоном.
СТАЛЬНОЙ СКОК
Музыка: Сергей Прокофьев
Либретто: Сергей Прокофьев, Георгий Якулов
Декорации и костюмы: Георгий Якулов
Хореография: Леонид Мясин
Премьера: 7 июня 1927 г., Театр Сары Бернар, Париж
Основные исполнители: Любовь Чернышева, Александра Данилова, Вера Петрова, Леонид Мясин, Серж Лифарь, Леон Войциковский
Музыка: Николай Набоков
Либретто: Борис Кохно
Декорации и костюмы: Павел Челищев
Проекции: Пьер Шарбоннье
Хореография: Леонид Мясин
Премьера: 6 июня 1928 г., Театр Сары Бернар, Париж
Основные исполнители: Ира Беллин [Белянкина], Фелия Дубровская, Алиса Никитина, Леонид Мясин, Серж Лифарь, Николай Ефимов, Константин Черкас
АПОЛЛОН МУСАГЕТ
Музыка: Игорь Стравинский
Декорации и костюмы: Андре Бошан
Декорации выполнил: князь Александр Шервашидзе
Хореография: Джордж Баланчин
Премьера: 12 июня 1928 г., Театр Сары Бернар, Париж
Основные исполнители: Серж Лифарь, Алиса Никитина, Любовь Чернышева, Фелия Дубровская, Дора Вадимова, Генриетта Майкерская, Софья Орлова
Примечание. В 1929 г. балет был показан с новыми костюмами Габриель Шанель.
БОГИ-НИЩИЕ
Музыка: Георг Фридрих Гендель, в аранжировке Томаса Бичема
Либретто: Собека [Борис Кохно]
Декорации: Лев Бакст (из «Дафниса и Хлои»)
Костюмы: Хуан Гри (из «Искушения пастушки»)
Хореография: Джордж Баланчин
Премьера: 16 июля 1928 г., Театр Его Величества, Лондон
Основные исполнители: Александра Данилова, Леон Войциковский, Любовь Чернышева, Фелия Дубровская, Константин Черкас
Музыка: Витторио Риети
Либретто: Борис Кохно, по произведению графа Владимира Соллогуба
Декорации и костюмы: Джорджо Де Кирико
Хореография: Джордж Баланчин
Премьера: 7 мая 1929 г., Театр Монте-Карло, Монте-Карло
Основные исполнители: Александра Данилова, Антон Долин, Андрей Бобров, Фелия Дубровская, Леон Войциковский, Джордж Баланчин, Евгения Липковская, Серж Лифарь
БЛУДНЫЙ СЫН
Музыка: Сергей Прокофьев
Либретто: Борис Кохно, по библейской притче
Декорации и костюмы: Жорж Руо
Декорации выполнил: князь Александр Шервашидзе
Премьера: 21 мая 1929 г., Театр Сары Бернар, Париж
Основные исполнители: Серж Лифарь, Михаил Федоров, Фелия Дубровская, Элеанора Марра, Наталия Браницкая, Леон Войциковский, Антон Долин
Библиография
1. Archives Nationales (Paris)
2. Gabriel Astruc Papers, Dance Collection, New York Public Library
3. Adolph Bolm Papers, George Arents Research Library, Syracuse University
4. Dr. Mikaly Cenner, Private Collection (Budapest)
5. Central State Historical Archives (Leningrad)
6. Jean Cocteau Papers, George Arents Research Library, Syracuse University
7. Covent Garden Archives (London)
8. Serge Diaghilev Correspondence, Dance Collection, New York Public Library
9. Serge Diaghilev Papers, Dance Collection, New York Public Library
10. Otto Kahn Papers, Princeton University
11. John Maynard Keynes Papers, King’s College (Cambridge)
12. Boris Kochno Papers [Fonds Kochno], Bibliothèque de l’Opéra (Paris)
13. Metropolitan Opera Archives (New York)
14. Ruth Page Collection, Dance Collection, New York Public Library
15. Joseph Paget-Fredericks Collection, Bancroft Library, University of California, Berkeley
16. Palace Archives (Monaco)
17. Max Rabinoff Papers, Manuscript Division, Columbia University
18. Société des Bains de Mer (Monte Carlo)
19. Stravinsky-Diaghilev Foundation (New York)
20. Theatre Collection, Harvard University
21. Theatre Museum (London)
1. Alexandre, Arsène, and Jean Cocteau. The Decorative Art of Léon Bakst. Trans. Harry Melvill. London, 1913; rpt. New York: Dover, 1972.
2. Anderson, Jack. The One and Only: The Ballet Russe de Monte Carlo. New York: Dance Horizons, 1981.
3. Antheil, George. Bad Boy of Music. London: Hurs and Blackett, 1947.
4. Armitage, Merle. Dance Memoranda. Ed. Edwin Corle. New York: Duell, Sloan and Pearce, 1947.
5. Arvey, Verna. Choreographic Music: Music for the Dance. New York: Dutton, 1941.
6. Aschengreen, Erik. Jean Cocteau and the Dance. Trans. Patricia McAndrew and Per Avsum. Copenhagen: Gyldendal, 1986.
7. Astruc, Gabriel. Le Pavillon des fantômes. Paris: Grasset, 1929.
8. Au Temps du Boeuf sur le Toit 1918–1928. Introd. Georges Bernier. Paris: Artcurial, 1981.
9. Axsom, Richard H. “Parade”: Cubism as Theater. New York: Garland, 1979.
10. Bablet, Denis. Esthétique générale du décor de théâtre de 1870 à 1914. Paris: Centre national de la recherche scientifique, 1965.
11. Baer, Nancy Van Norman, ed. The Art of Enchantment: Diaghilev’s Ballets Russes, 1909–1929. San Francisco: Fine Arts Museums of San Francisco, 1988.
12. ___ Bronislava Nijinska: A Dancer’s Legacy. San Francisco: Fine Arts Museums of San Francisco, 1986.
13. Barbier, George. Designs on the Dances of Vaslav Nijinsky. Foreword Francis de Miomandre. Trans. C. W. Beaumont. London: C. W. Beaumont, 1913.
14. ___, and Jean-Louis Vaudoyer. Album dédié à Tamara Karsavina. Paris: Pierre Conrad, 1914.
15. Barker, Felix. The House That Stoll Built: The Story of the Coliseum Theatre. London: Frederick Muller, 1957.
16. Beaton, Cecil. Ballet. Garden City, N.Y.: Doubleday, 1951.
17. ___ Diaries 1922–1939: The Wandering Years. London: Weidenfeld and Nicolson, 1961.
18. Beaumont, Cyril W. Bookseller at the Ballet, Memoirs 1891 to 1929, Incorporating the Diaghilev Ballet in London. London: C. W. Beaumont, 1975.
19. ___ Complete Book of Ballets. London: Putnam, 1937.
20. ___ Michel Fokine and His Ballets. New York: Dance Horizons, 1981.
21. Bedells, Phyllis. My Dancing Days. London: Phoenix House, 1954.
22. Beecham, Sir Thomas. A Mingled Chime: An Autobiography. New York: Putnam, 1943.
23. Bell, Quentin. Virginia Woolf: A Biography. 2. vols. New York: Harcourt, Brace, Jovanovich, 1972.
24. Bennett, Arnold. Paris Nights and Other Impressions of Places and People. New York: George H. Doran, 1913.
25. Benois, Alexandre. Memoirs. 2 vols. Trans. Moura Budberg. London: Chatto and Windus, 1964.
26. ___ Reminiscences of the Russian Ballet. Trans. Mary Britnieva. London: Putnam, 1941.
27. ___ Russian School of Painting. St. Petersburg: L. Golicke and A. Willborg, 1904.
28. Bernays, Edward L. Biography of an Idea: Memoirs of Public Relations Counsel Edward L. Bernays. New York: Simon and Schuster, 1965.
29. Bizet, René. L’Epoque du Music-Hall. Paris: Editions du Capitole, 1917.
30. Blanche, Jacques-Emile. Portraits of a Lifetime: The Late Victorian Era, The Edwardian Pageant, 1870–1914. Ed. and trans. Walter Clement. Introd. Harley Granville-Barker. London: Dent, 1937.
31. Bourman, Anatole. The tragedy of Nijinsky. In collaboration with D. Lyman. London: Robert Hall, 1937.
32. Bowlt, John E. Russian Stage Design: Scenic Innovation, 1900–1930 – From the Collection of Mr. and Mrs. Nikita D. Lobanov-Rostovsky. Jackson, Miss.: Mississippi Museum of Art, 1982.
33. ___ The Silver Age: Russian Art of the Early Twentieth Century and the “World of Art” Group. Newtonville, Mass.: Oriental Research Partners, 1979.
34. Braun, Edward. The Theatre of Meyerhold: Revolution on the Modern Stage. New York: Drama Book Specialists, 1979.
35. Brody, Elaine. Paris: The Musical Kaleidoscope 1870–1925. New York: George Braziller, 1987.
36. Bruce, Henry James. Thirty Dozen Moons. London: Constable, 1949.
37. Buckle, Richard. Diaghilev. London: Weidenfeld and Nicolson, 1979.
38. ___ George Balanchine, Ballet Master. In collaboration with John Taras. New York: Random House, 1988.
39. ___ In Search of Diaghilev. New York: Thomas Nelson, 1956.
40. ___ Nijinsky. New York: Simon and Schuster, 1971.
41. ___ Nijinsky on Stage. London: Studio Vista, 1971.
42. Calvocoressi, M. D. Musicians Gallery: Music and Ballet in Paris and London. London: Faber and Faber, 1933.
43. Castle, Irene. Castles in the Air. As told to Bob and Wanda Duncan. Garden City, N.Y.: Doubleday, 1958.
44. Chadd, David, and John Cage. The Diaghilev Ballet in England. Foreword Richard Buckle. Catalogue for an exhibition at the Sainsbury Centre for Visual Arts, University of East Anglia, 11 October – 20 November 1979.
45. Chalyapin, Fyodor. Chaliapin: An Autobiography As Told to Maxim Gorky. Trans, and ed. Nina Froud and James Hanley. London: MacDonald, 1968.
46. Chamot, Mary. Gontcharova. Trans. Helen Gerebzow. Paris: Bibliothèque des Arts, 1972.
47. ___ Goncharova: Stage Designs and Paintings. London: Oresko Books, 1979.
48. Charles-Roux, Edmonde. Chanel—Her Life, Her World and the Woman Behind the Legend She Herself Created. Trans. Nancy Amphoux. New York: Knopf, 1975.
49. Chisholm, Anne. Nancy Cunard: A Biography. Harmondsworth, Middlesex: Penguin, 1981.
50. Choreography by George Balanchine: A Catalogue of Works. Ed. Leslie George Katz, Nancy Lassalle, and Harvey Simmonds. New York: Eakins Press, 1983.
51. Cochran, Charles В. I Had Almost Forgotten. Preface A. P. Herbert. London: Hutchinson, 1932.
52. Cocteau, Jean. A Call to Order. Trans. Rollo H. Myers. London: Faber and Faber, 1926.
53. ___ Carte Blanche. Paris: Mermod, [1952].
54. ___ Le Coq et I’Arlequin: Notes autour de la musique 1918. Preface Georges Auric. Paris: Stock, 1979.
55. ___ Dessins. Paris: Stock, 1923.
56. ___ The Infernal Machine and Other Plays. Trans. Dudley Fitts. New York: New Directions, 1967.
57. ___ Nouveau Théâtre de poche. Monaco: Editions du Rocher, 1960.
58. ___ Le Numéro Barbette. Paris: Jacques Damase, 1980.
59. ___, Georges Auric, Georges Braque, and Louis Laloy. Théâtre Serge de Diaghilew: Les Fâcheux. Paris:
60. Editions des Quatre Chemins, 1914.
61. ___, Marie Laurencin, Darius Milhaud, and Francis Poulenc. Théâtre Serge de Diaghilew: Les Biches. Paris: Editions des Quatre Chemins, 1914.
62. Cogniat, Raymond. Cinquante Ans de spectacles en France: Les Décorateurs de théâtre. Paris: Librairie Théâtrale, 1955.
63. Collection des plus beaux programmes des Ballets russes de Serge de Diaghilew de 1909 à 1921. Paris: de Brunoff, 1922.
64. Cooper, Diana. The Rainbow Comes and Goes. Boston: Houghton Mifflin, 1958.
65. Cooper, Douglas. Picasso Theatre. New York: Abrams, 1968.
66. Cossart, Michael de. The Food of Love: Princesse Edmond de Polignac (1865–1943) and Her Salon. London: Hamish Hamilton, 1978.
67. Craig, Gordon. Gordon Craig on Movement and Dance. Ed. And introd. Arnold Rood. New York: Dance Horizons, 1977.
68. The Dance Encyclopedia. Ed. Anatole Chujoy and P. W. Manchester. New York, Simon and Schuster, 1967.
69. Danilova, Alexandra. Choura: The Memoirs of Alexandra Danilova. New York: Knopf, 1986.
70. The Designs of Leon Bakst for The Sleeping Princess. Preface André Levinson. London: Benn Brothers, 1923.
71. di Milia, Gabriella. Mir Iskusstva – Il Mondo dell’Arte: Artisti Russi dal 1898 al 1924. Naples: Società Napoletana, 1982.
72. Dolin, Anton. Autobiography: A Volume of Autobiography and Reminiscence. London: Oldbourne, 1960.
73. ___ The Sleeping Ballerina: The Story of Olga Spessivtzeva. Foreword Dame Marie Rambert. London: Frederick Muller, 1966.
74. Draper, Muriel. Music at Midnight. New York: Harper, 1929.
75. Dukes, Ashley. The Scene is Changed. London: Macmillan, 1942.
76. Duncan, Isadora. My Life. New York: Boni and Liveright, 1927.
77. Espinosa, Edward. And Then He Danced: The Life of Espinosa by Himself. Ed. Rachel Ferguson. London: Sampson Low, Marston, 1948.
78. Fitch, Noel Riley. Sylvia Beach and the Lost Generation: A History of Literary Paris in the Twenties and Thirties. New York: Norton, 1983.
79. Fitzgerald, Zelda. Save Me the Waltz. Introd. Harry T. Moore. London: Jonathan Cape, 1968.
80. Flanner, Janet. Paris Was Yesterday: 1925–1939. Ed. Irving Drutman. New York: Popular Library, n. d.
81. Fokine, Michel. Memoirs of a Ballet Master. Trans. Vitale Fokine. Ed. Anatole Chujoy. Boston: Little, Brown, 1961.
82. ___ Against the Tide: Memoirs of a Ballet Master, Articles, and Letters. Introd. Yuri Slonimsky. Leningrad: Iskusstvo, 1962.
83. Gale, Joseph. I Sang for Diaghilev: Michel Pavloff’s Merry Life. New York: Dance Horizons, 1982.
84. Georges-Michel, Michel. Ballets Russes: Histoire anecdotique suivie du Poème de Shéhérazade. Paris: Editions du Monde Nouveau, 1923.
85. Geva, Tamara. Split Seconds: A Remembrance by Tamara Geva. New York: Harper and Row, 1972.
86. Goddard, Chris. Jazz Away From Home. London: Paddington Press, 1979.
87. Gofman, I. Alexander Golovin. Moscow: Izobrazitelnoye Iskusstvo, 1981.
88. Gold, Arthur, and Robert Fizdale. Misia: The Life of Misia Sert. New York: Knopf, 1980.
89. Golub, Spencer. Evreinof: The Theatre of Paradox and transformation. Ann Arbor: UMI Research Press, 1984.
90. Gontcharova, Nathalie, Michel Larionov, and Pierre Vorms. Les Ballets russes: Serge Diaghilew et la décoration théâtrale. Rev. ed. Belves Dordogne: Pierre Vorms, 1955.
91. Goossens, Eugene. Overture and Beginners: A Musical Autobiography. London: Methuen, 1951.
92. Green, Martin. Children of the Sun: A Narrative of “Decadence” in England After 1918. New York: Basic Books, 1976.
93. Grigoriev, S. L. The Diaghilev Ballet 1909–1929. Trans, and ed. Vera Bowen. London: Constable, 1953.
94. Guest, Ivor. Adeline Genée: A Lifetime of Ballet Under Six Reigns. London: Adam and Charles Black, 1958.
95. ___ Le Ballet de l’Opéra de Paris: Trois Siècles d’histoire et de tradition. Trans. Paul Alexandre. Paris: Théâtre National de l’Opéra, n. d.
96. Hanson, Lawrence, and Elisabeth Hanson. Prokofiev: A Biography in Three Movements. New York: Random House, 1964.
97. Haskell, Arnold. Balletomania: The Story of an Obsession. London: Gollancz, 1934.
98. ___ Diaghileff: His Artistic and Private Life. In collaboration with Walter Nouvel. London: Gollancz, 1935.
99. Holroyd, Michael. Lytton Strachey: A Critical Biography. 2 vols. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1968.
100. Horwitz, Dawn Lille. Michel Fokine. Foreword Don McDonaugh. Boston: Twayne, 1985.
101. Hugo, Jean. Avant d’Oublier 1918–1931. Paris: Fayard, 1976.
102. Julian, Philippe. Robert de Montesquiou: A Fin-de-Siècle Prince. Trans. John Haylock and Francis King. London: Seeker and Warburg, 1965.
103. Kahnweiler, Daniel-Henry. Juan Gris: His Life and Work. London, 1969.
104. Karsavina, Tamara. Theatre Street: The Reminiscences of Tamara Karsavina. Foreword J. M. Barrie. London: Heinemann, 1930.
105. Kean, Beverly Whitney. All the Empty Palaces: The Merchant Patrons of Modern Art in Pre-Revolutionary Russia. New York: Universe Books, 1983.
106. Kendall, Elizabeth. Where She Danced. New York: Knopf, 1979.
107. Kerensky, Oleg. Anna Pavlova. New York: Dutton, 1973.
108. Kessler, Count Harry. In the Twenties: The Diaries of Count Harry Kessler. Trans. Charles Kessler. Introd. Otto Friendrich. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1971.
109. Keynes, Geoffrey. The Gates of Memory. London: Oxford University Press, 1983.
110. Keynes, Milo, ed. Lydia Lopokova. London: Weidenfeld and Nicolson, 1983.
111. Kirstein, Lincoln. Nijinsky Dancing. New York: Knopf, 1975.
112. Kochno, Boris. Diaghilev and the Ballets Russes. Trans. Adrienne Foulke. New York: Harper and Row, 1970.
113. Krasovskaya, Vera. Nijinsky. Trans. John E. Bowk. New York: Schmirmer, 1979.
114. Kschessinska, Mathilde (Princess Romanovsky-Krassinsky). Dancing in Petersburg: The Memoirs of Kschessinska. Trans. Arnold Haskell. Garden City, 1961; rpt. New York: Da Capo, 1977.
115. Kyasht, Lydia. Romantic Recollections. Ed. Erica Beale. London: Brentano, 1929.
116. Lambert, Constant. Music Ho! A Study of Music in Decline. Introd, Arthur Hutchings. New York: October House, 1967.
117. Levinson, André. Bakst: The Story of the Artist’s Life. 1923; rpt. New York: Blom, 1971.
118. ___ Ballet Old and New. Trans. Susan Cook Summer. New York: Dance Horizons, 1982.
119. ___ La Danse au Théâtre: Esthétique et actualité mêlées. Paris: Bloud et Gay, 1924.
120. ___ La Danse d’aujourd’hui: Etudes, Notes, Portraits. Paris: Duchartre et Van Buggenhoudt, 1929.
121. Lieven, Prince Peter. The Birth of Ballets-Russes. Trans. L. Zarine. London: George Allen and Unwin, 1936.
122. Lifar, Serge. Ma Vie: From Kiev to Kiev. Trans. James Holman Mason. New York: World Publishing, 1970.
123. ___ Serge Diaghilev: His Life, His Work, His Legend. An Intimate Biography. 1940; rpt. New York: Da Capo, 1976.
124. Lockspeiser, Edward. Debussy: His Life and Mind. 2 vols. Cambridge: Cambridge University Press, 1978.
125. Macdonald, Nesta. Diaghilev Observed by Critics in England and the United States 1911–1929. New York: Dance Horizons, 1975.
126. Maré, Rolf de. Les Ballets Suédois dans l’art contemporain. Paris: Editions du Trianon, 1931.
127. Markevitch, Igor. Etre et avoir été: Mémoires. Paris: Gallimard, 1980.
128. Markova, Alicia. Markova Remembers. Boston: Little, Brown, 1986.
129. Massine, Leonide. My Life in Ballet. Ed. Phyllis Hartnoll and Robert Rubens. London: Macmillan, 1968.
130. Materials for the History of Russian Ballet. Ed. M. Borisoglebsky. Vol. 2. Leningrad, 1939.
131. Matz, Mary Jane. The Many Lives of Otto Kahn. New York: Macmillan, 1963.
132. Maxwell, Elsa. R.S.V.P.: Elsa Maxwell’s Own Story. Boston: Little, Brown, 1954.
133. Mayer, Charles S. Bakst: Centenary 1876–1976. London: Fine Art Society, 1976.
134. Melba, Nellie. Melodies and Memoires. London: Butterworth, 1925.
135. Mérode, Cléo de. Le Ballet de ma vie. Preface Françoise Ducout. Paris: Pierre Horay, 1985.
136. Oliver Messel. Ed. Roger Pinkham. London: Victoria and Albert Museum, 1983.
137. Meyerhold on Theatre. Trans, and ed. Edward Braun. New York: Hill and Wang, 1969.
138. Migel, Parmenia. Pablo Picasso: Designs for “The Three-Cornered Hat” (Le Tricorne). New York: Dover/ Stravinsky-Diaghilev Foundation, 1978.
139. Milhaud, Darius. Notes Without Music: An Autobiography. New York: Knopf, 1953.
140. Mirsky, D.S. A History of Russian Literature. Ed. Francis J. Whitfield. New York: Knopf, 1949.
141. Money, Keith. Anna Pavlova: Her Life and Art. New York: Knopf, 1982.
142. Montenegro, Robert. Vaslav Nijinsky: An Artistic Interpretation of His Work in Black, White and Gold. Introd. C. W. Beaumont. London: C. W. Beaumont, 1913.
143. Monteux, Doris G. It’s All in the Music. New York: Farrar, Straus and Giroux, 1965.
144. Morrell, Lady Ottoline. Memoirs of Lady Ottoline Morrell: A Study in Friendship, 1873–1915. Ed. Hubert Gathorne-Hardy. New York: Knopf, 1964.
145. Nabokov, Nicolas. Old Friends and New Music. London: Hamish Hamilton, 1951.
146. Nichols, Beverley. Are They the Same at Home? Being a Series of Bouquets Diffidently Distributed. London: Jonathan Cape, 1927.
147. Nijinska, Bronislava. Early Memoirs. Trans, and ed. Irina Nijinska and Jean Rawlinson. Introd. Anna Kisselgoff. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1981.
148. Nijinsky, Romola. Nijinsky. Foreword Paul Claudel. New York: Simon and Schuster, 1934.
149. Nijinsky, Vaslav. The Diary of Vaslav Nijinsky. Ed. Romola Nijinsky. Berkeley: University of California Press, 1968.
150. Nikitina, Alice. Nikitina By Herself. Trans. Baroness Budberg. London: Alan Wingate, 1959.
151. Ostrovsky, Erika. Eyes of Dawn: The Rise and Fall of Mata Hari. New York: Macmillan, 1978.
152. Oukrainsky, Serge. My Two Years With the Dancing Genius of the Age: Anna Pavlowa. Hollywood: Suttonhouse, [1940].
153. Painter, George D. Marcel Proust: A Biography. 2 vols. Harmondsmith, Middlesex: Penguin, 1977.
154. Parnakh, Valentin. Gontcharova et Larionow: l’art décoratif théâtral moderne. Paris: La Cible, 1919.
155. Poiret, Paul. My First Fifty Years. London: Gollancz, 1931.
156. Ezra Pound and Music: The Complete Criticism. Ed. R. Murray Schafer. New York: New Directions, 1977.
157. Proujan, Irina. Léon Bakst: Esquisses de décor et de costumes, arts graphiques, peintures. Trans. Denis Dabbadie. Leningrad: Editions d’Art Aurora, 1986.
158. Priddin, Deirdre. The Art of the Dance in French Literature from Théophile Gautier to Paul Valéry. Foreword Arnold L. Haskell. Preface Cyril W. Beaumont. London: Adam and Charles Black, 1952.
159. Prokofiev, Serge. Prokofiev by Prokofiev: A Composer’s Memoir. Trans. Guy Daniels. Garden City, N.Y.: Doubleday, 1979.
160. Propert, W. A. The Russian Ballet in Western Europe 1909–1920. London: John Lane, 1921.
161. ___ The Russian Ballet 1921–1929. Preface Jacques-Emile Blanche. London: John Lane, 1931.
162. Racster, Olga. The Master of the Russian Ballet: The Memoirs of Cav. Enrico Cecchetti. Introd. Anna Pavlova. London: Hutchinson, [1922].
163. Rambert, Marie. Quicksilver: An Autobiography. London: Macmillan, 1972.
164. Ricketts, Charles. Self-Portrait. Ed. T. Sturge Moore and Cecil Lewis. London: Peter Davies, 1939.
165. Ries, Frank W. D. The Dance Theatre of Jean Cocteau. Ann Arbor: UMI Research Press, 1986.
166. Rimsky-Korsakov, Nikolai. My Musical Life. Trans. J. A. Joffe. Ed. Carl van Vechten. London: Seeker, 1924.
167. Roslavleva, Natalia. Era of the Russian Ballet 1770–1965. Foreword Ninette de Valois. London: Gollancz, 1966.
168. Rubinstein, Arthur. My Young Years. London: Cape, 1973.
169. Rudnitsky, Konstantin Meyerhold the Director. Trans. George Petrov. Ed. Sydney Shultze. Introd. Ellendea Proffer, Ann Arbor: Ardis, 1981.
170. The Russian Symbolist Theater: An Anthology of Plays and Critical Texts. Ed. and trans. Michael Green. Ann Arbor: Ardis, 1986.
171. Saint Germain, Philippe, and Francis Rosset. La Grande Dame de Monte-Carlo. Paris: Stock, 1981.
172. Schouvaloff, Alexander, and Victor Borovsky. Stravinsky on Stage. London: Stainer and Bell, 1982.
173. The Serge Lifar Collection of Ballet Set and Costume Designs. Hartford, Conn.: Wadsworth Atheneum, 1965.
174. Sert, Misia. Two or Three Muses: The Memoirs of Misia Sert. Trans. Moura Budberg. London: Museum Press, 1953.
175. Shaw, Bernard. Shaw’s Music: The Complete Musical Criticism. New York: Dodd, Mead, 1981. Vol. 3.
176. Shead, Richard. Music in the Twenties. London: Duckworth, 1976.
177. Sitwell, Edith. Children’s Tales From the Russian Ballet. London: Leonard Parsons, 1920.
178. Sitwell, Osbert. Great Morning: Art Autobiography. London: Reprint Society, 1948.
179. ___ Laughter in the Next Room. London: Reprint Society, 1950.
180. Skidelsky, Robert. John Maynard Keynes: A Biography. London: Macmillan, 1983. Vol. 1.
181. Slonim, Marc. Russian Theatre From the Empire to the Soviets. Cleveland: World Publishing, 1961.
182. Sokolova, Lydia. Dancing for Diaghilev. Ed. Richard Buckle. London: John Murray, 1960.
183. Spalding, Frances. Roger Fry: Art and Life. Berkeley: University of California Press, 1980.
184. Spencer, Charles. Leon Bakst. London: Academy, 1973.
185. ___, and Philip Dyer. The World of Serge Diaghilev. Chicago: Henry Regnery, 1974.
186. Stanislavsky, Constantin. My Life in Art. Trans. J. J. Robbins. Boston: Little, Brown, 1924.
187. Steegmuller, Francis. Cocteau: A Biography. Boston: Little, Brown, 1970.
188. Stravinsky, Igor. Stravinsky: An Autobiography. New York: Simon and Schuster, 1936.
189. ___ Stravinsky: Selected Correspondence. Ed. Robert Craft. New York: Knopf, 1982. Vol. 1.
190. ___ Stravinsky: Selected Correspondence. Ed. Robert Craft. New York: Knopf, 1984. Vol. 2.
191. ___, and Robert Craft. Conversations with Igor Stravinsky. London: Faber and Faber, 1959.
192. ___ Expositions and Developments. Berkeley: University of California Press, 1981.
193. ___ Memories and Commentaries. Garden City, N.Y.: Doubleday, 1960.
194. Stravinsky, Vera, and Robert Craft. Stravinsky in Pictures and Documents. London: Hutchinson, 1979.
195. Svetlov, Valerian. Anna Pavlova. Trans. A. Grey. Paris, 1922; rpt. New York: Dover, 1974.
196. ___ Le Ballet Contemporain. With the collaboration of Léon Bakst. Trans. M. D. Calvocoressi. Paris: de Brunoff, 1912.
197. Taper, Bernard. Balanchine: A Biography. Rev. ed. New York: Times Books, 1984.
198. Terry, Ellen. The Russian Ballet. London: Sidgwick and Jackson, 1913.
199. Thomson, Virgil. Virgil Thomson. New York: Knopf, 1966.
200. Tompkins, Calvin. Living Well is the Best Revenge. New York: Dutton, 1982.
201. Tyler, Parker. The Divine Comedy of Pavel Tchelitchew. New York: Fleet Publishing, 1967.
202. Valois, Ninette de. Come Dance With Me: A Memoir 1898–1956. London: Dance Books, 1973.
203. ___ Invitation to the Ballet. London: John Lane, 1937.
204. Volkov, Solomon. Balanchine’s Tchaikovsky. Trans. Antonina W. Bouis. New York: Simon and Schuster, 1985.
205. Walker, Kathrine Sorley. De Basil’s Ballets Russes. London: Hutchinson, 1982.
206. White, Eric Walter. Stravinsky: The Composer and His Works. Berkeley: University of California Press, 1979.
207. Whitworth, Geoffrey. The Art of Nijinsky. London, 1913; rpt. New York: Benjamin Blom, 1972.
208. Wiley, Roland John. Tchaikovsky’s Ballets: Swan Lake, Sleeping Beauty, Nutcracker. London: Oxford University Press, 1985.
209. Wilkins, Nigel. The Writings of Erik Satie. London: Eulenberg, 1981.
210. Wolff, Stéphane. L’Opéra au Palais Garnier (1875–1962). Introd. Alain Gueullette. Paris: Slatkine, 1983.
211. Yastrebtsev, V. V. Reminiscences of Rimsky-Korsakov. Ed. and trans. Florence Jonas. Introd. Gerald Abraham.New York: Columbia University Press, 1985.
212. Zilberstein, I.S., and V. A. Samkov, eds. Serge Diaghilev and Russian Art. 2 vols. Moscow: Izobrazitelnoe Iskusstvo, 1982.
1. Acocella, Joan. “Photo Call With Nijinsky: The Circle and the Center”. Ballet Review, 14, No. 4 (Winter 1987), pp. 49–71.
2. Banes, Sally. “An Introduction to the Ballets Suedois”. Ballet Review, 7, Nos. 2–3 (1978–1979), pp. 28–59.
3. Bowlt, John E. “Constructivism and Russian Stage Design”. Performing Arts Journal, 1, No. 3 (Winter 1977), pp. 62–84.
4. ___ “Nikolai Ryabushinsky: Playboy of the Eastern World”. Apollo, December 1973, pp. 486–493.
5. Celli, Vincenzo. “Enrico Cecchetti”. Dance Index, 5, No. 7 (1946), pp. 158–179.
6. Chujoy, Anatole. “Russian Balletomania”. Dance Index, 7, No. 3 (March 1948), pp. 45–71.
7. Cohen, Barbara Naomi. “The Borrowed Art of Gertrude Hoffmann”. Dance Data, No. 2 (n. d.), pp. 2–11.
8. Fry, Roger. “M. Larionow and the Russian Ballet”. Burlington Magazine, March 1919, pp. 112–118.
9. Goldman, Debra. “Mothers and Fathers: A View of Isadora and Fokine”. Ballet Review, 6, No. 4 (1977–1978), pp. 33–43.
10. Gontcharova, Natalia. “The Creation of ‘Les Noces’”. Ballet and Opera, September 1949, pp. 23–26.
11. ___ “The Metamorphoses of the Ballet ‘Les Noces’”. Leonardo, 12, No. 2 (Spring 1979), pp. 137–143.
12. Gordon, Mel. “Meyerhold’s Biomechanics”. Drama Review, 18, No. 3 (September 1974), pp. 73–88.
13. Guest, Ivor. “The Alhambra Ballet”. Dance Perspectives, 4 (Autumn 1959), pp. 5–70.
14. Hodson, Millicent. “Nijinsky’s Choreographic Method: Visual Sources from Roerich for Le Sacre du Printemps”. Dance Research Journal, 18, No. 2 (Winter 1986–1987), pp. 7–15.
15. Horwitz, Dawn Lille. “A Ballet Class With Michel Fokine”. Dance Chronicle, 3, No. 1 (1979), pp. 36–45.
16. Iavorskaïa, N.A. “Les relations artistiques entre Paris et Moscou dans les années 1917–1930”. In Paris-Moscou, 1900–1930. Paris: Centre National d’Art et de Culture Georges Pompidou, 1979.
17. Jones, Robert Edmond. “Nijinsky and Til Eulenspiegel”. Dance Index, 4, No. 4 (April 1945), pp. 44–54.
18. Karlinsky, Simon. “Stravinsky and Russian Pre-literate Theater”. Nineteenths-Century Russian Music, 6, No. 3 (Spring 1983), pp. 232–240.
19. Krasovskaya, Vera. “Marius Petipa and ‘The Sleeping Princess’”. Trans. Cynthia Read. Dance Perspectives, 49 (Spring 1972), pp. 6–45.
20. Levinson, André. “A Crisis in the Ballets Russes”. Theatre Arts Monthly, November 1926, pp. 785–792.
21. Lobanov, N.D. “Russian Painters and the Stage”. Transactions, 2 (1968), pp. 133–210.
22. Nijinska, Bronislava. “Creation of ‘Les Noces’”. Trans, and introd. Jean M. Serafetinides and Irina Nijinska. Dance Magazine, December 1974, pp. 58–61.
23. ___ “On Movement and the School of Movement”. Introd. Joan Ross Acocella and Lynn Garafola. Ballet Review, 13, No. 4 (Winter 1986), pp. 75–81.
24. ___ “Reflections About the Production of Les Biches and Hamlet in Markova-Dolin Ballets”. Trans. Lydia Lopokova. Dancing Times, Feb. 1937, pp. 617–620.
25. Orledge, Robert. “Cole Porter’s Ballet Within the Quota’”. Yale University Library Gazette, 50, No. 1 (July 1975), pp. 19–29.
26. Polignac, Princesse Edmond de. “Memoirs of the Late Princess Edmond de Polignac”. Horizon, August 1945, pp. 110–141.
27. Ricco, Edward. “The Sitwells at the Ballet”. Ballet Review, 6, No. 1 (1977–1978), pp. 58–117.
28. Richardson, Philip J. S. “A Chronology of the Ballet in England 1910–1945”. In The Ballet Annual: A Record and Yearbook of the Ballet. London: Adam and Charles Black, 1947, pp. 115–131.
29. Ries, Frank W. D. “Acrobats, Burlesque, and Cocteau”. Dance Scope, 11, No. 1 (Fall/Winter 1976–1977), pp. 52–67.
30. Riviere, Jacques. “Des Ballets russes et de Fokine”. Nouvelle Revue Française, July 1912, pp. 174–180.
31. ___ “La Crise du concept de littérature”. Nouvelle Revue Française, 1 February 1924, pp. 159–170.
32. ___ “Le Sacre du Printemps”. Nouvelle Revue Française, November 1913, pp. 706–730.
33. Silver, Kenneth E. “Jean Cocteau and the Image d’Epinal: An Essay on Realism and Naiveté”. In Jean Cocteau and the French Scene. Ed. Alexandra Anderson and Carol Saltus. New York: Abbeville Press, 1984.
34. Slonimsky, Yuri. “Balanchine: The Early Years”. Trans. John Andrews. Ed. Francis Mason. Ballet Review, 5, No. 3 (1975–1976), pp. 1–64. “Marius Petipa”. Trans. Anatole Chujoy. Dance Index, 6, Nos. 5–6 (May—June 1947), pp. 100–144.
35. Souritz, Elizabeth. “Fedor Lopukhov: A Soviet Choreographer in the 1920s”. Dance Research Journal, 17, No. 2 (Fall 1985/Spring 1986), pp. 3–20. “Soviet Ballet of the 1920s and the Influence of Constructivism”. Soviet Union/Union Sovietique, Parts 1–2 (1980), pp. 112–137.
36. Svetlov Valerian. “The Diaghileff Ballet in Paris”. Dancing Times, December 1929, pp. 263–274.
37. ___ “The Diaghileff Ballet in Paris”. Part II. Dancing Times, January 1930, pp. 460–463.
38. ___ “The Diaghileff Ballet in Paris”. Part III. Dancing Times, February 1930, pp. 569–574.
39. ___ “The Old and the New”. Dancing Times, July 1929, pp. 326–331.
40. Taruskin, Richard. “From Firebird to The Rite: Folk Elements in Stravinsky’s Scores”. Ballet Review, 10, No. 2 (Summer 1982), pp. 72–87.
41. Tripp, Susan B. “Bakst”. Johns Hopkins Magazine, June 1984, pp. 12–22.
42. Wiley, Roland John. “Alexandre Benois’ Commentaries”. Parts I–VII. Dancing Times, October 1980 – April 1981.
Неопубликованные труды и диссертации
1. Acocella, Joan Ross. “The Reception of Diaghilev’s Ballets Russes by Artists and Intellectuals in Paris and London, 1909–1914”. Diss. Rutgers 1984.
2. Baldwin, Frances. “Critical Response in England to the Work of Designers for Diaghilev’s Russian Ballet, 1911–1929”. M. S. Thesis, Courtauld Institute of Art (London) 1980.
3. Berg, Shelley Celia. “‘Le Sacre du Printemps’: A Comparative Study of Seven Versions of the Ballet”. Diss. New York University 1985.
4. Bullard, Truman C. “The First Performance of Igor Stravinsky’s Sacre du Printemps”. Diss. Eastman School of Music (Rochester) 1971.
5. DeBold II, Conrad. “Parade and ‘Le Spectacle Intérieur’: The Role of Jean Cocteau in an Avant-garde Ballet”. Diss. Emory 1982.
6. Grover, Stuart R. “Savva Mamontov and the Mamontov Circle: 1870–1905; Art Patronage and the Rise of Nationalism in Russian Art”. Diss. Wisconsin 1971.
7. Hodson, Millicent Kaye. “Nijinsky’s New Dance: Rediscovery of Ritual Design in Le Sacre du Printemps”. Diss. California (Berkeley) 1985.
8. Horwitz, Dawn Lille. “Michel Fokine in America, 1919–1942”. Diss. New York University 1982.
9. Kennedy, Janet Elspeth. “The ‘Mir Iskusstva’ Group and Russian Art 1898–1912”. Diss. Columbia 1976.
10. McQuillan, Melissa A. “Painters and the Ballet, 1917–1926: An Aspect of the Relationship Between Art and Theatre”. Diss. New York University 1979.
11. Mayer, Charles Steven. “The Theatrical Designs of Leon Bakst”. Diss. Columbia 1977.
12. Pasler, Jann Corinne. “Debussy, Stravinsky, and the Ballets Russes: The Emergence of a New Musical Logic”. Diss. Chicago 1981.
13. Ries, Frank W. D. “Jean Cocteau and the Ballet”. Diss. Indiana 1980.
14. Silver, Kenneth Eric. “Esprit de Corps: The Great War and French Art”. Diss. Yale 1981.
15. Sommer, Sally R. “Loie Fuller: From the Theatre of Popular Entertainment to the Parisian Avant-garde”. Diss. New York University 1979.
16. Weinstock, Stephen Jay. “Independence Versus Interdependence in Stravinsky’s Theatrical Collaborations: The Evolution of the Original Production of The Wedding”. Diss. California (Berkeley) 1981.
Благодарности
Выражаю особую благодарность всем работникам архивов и библиотек, которые помогали мне при сборе материала в США и за рубежом, а также Совету социологических исследований (Social Science Research Council) за предоставление гранта на исследования в Европе. Также благодарю друзей и коллег, которые помогали мне в этом долгом и трудном исследовании: Мэри Пэт Келли, по чьему побуждению я начала это исследование; Пармению Мигель Экстром из фонда Стравинского – Дягилева, которая открыла мне доступ в свой дом, к своей коллекции и своим воспоминаниям; Джоан Акочеллу, которая в бесконечных многочасовых разговорах потворствовала моей увлеченности Дягилевым и занималась вычиткой частей рукописи; Джеральда Эккермана, Нэнси Баер, Салли Бейнс, Висенте Гарсиа-Маркеса, Дебру Голдман, Миллисент Ходсон, Элизабет Кендалл, Клер де Робильян, Хамиду Седжи и Мэри-Энн Влиг, которые делились со мной мыслями, идеями и материалами; Елизавету Суриц и Илью Зильберштейна (Москва), а также Мелвина Гордона, которые направили меня в поиске важных русских источников; доктора Микали Ценнера из Будапешта, который предоставил мне копии документов, связанных с Нижинским; Роберта Крафта, Нэнси Лассаль из Общества балета, Дэвида Леонарда из Данс букс лимитед, Роберта Л. Б. Тобина и Джорджа Вердака, которые позволили мне воспроизвести материалы из их коллекций; Ирен Хантун, Эллен Скаруффа и Сьюзан Кук Саммер, которые сделали перевод русскоязычных материалов; Фредерика Маккитрика, который перевел немецкие материалы, использованные в Приложении I; Пола Колника и Пэт Бранкаччо, сделавших копии некоторых иллюстраций; Роберта А. Дэя и Бертона Пайка, ставших руководителями диссертации, на которой основана данная книга; Арно Мейера за чтение первых черновиков некоторых глав; Артура Ванга и Джоффри Филда за чтение окончательного варианта рукописи; Рейчел Тур, оказавшую всевозможную помощь в издании книги; Шелдона Мейера, моего издателя, который высказал ряд полезных советов и вдохновляющих слов.
Я в неоплатном долгу перед моим мужем Эриком Фонером за его постоянную веру в важность моего труда и за то, что он вдохновлял меня собственным примером – без этого «Русский балет Дягилева» никогда не был бы закончен.
Фотографии
1. Эдуар Вюйар, «Мися за фортепиано». 1895 г.
© Everett Collection / shutterstock.com
2. Вацлав Нижинский. Ок 1905 г.
© Wellcome Collection
3. Нижинский в дивертисменте «Ориенталии» исполняет «Сиамский танец». Фото Эжена Дрюэ, 1910 г.
© Gilman Collection, Gift of The Howard Gilman Foundation, 2005
4. Тамара Карсавина. Ок. 1910 г.
© Library of Congress Prints Washington, and Photographs Division D. C./Reproduction Number: LC-DIG-ggbain-31568
5. Нижинский в «Шехеразаде». Фото барона де Мейера, 1912 г.
© Library of Congress Prints and Photographs Division, George Grantham Bain Collection, Reproduction Number: LC-DIG-ggbain-19576
6. Лев Бакст, дизайн костюма для «Дафниса и Хлои». 1912 г.
© Everett Collection / shutterstock.com
7. Леонид Мясин в «Легенде об Иосифе». Фото Рудольфа Дюркопа, 1914 г.
8. Морис Равель. 1915 г.
© Library of Congress Prints and Photographs Division Washington, D.C./ Reproduction Number: LC-USZ61–232
9. Анна Павлова. Фото Арнольда Генте, 1915 г.
© Everett Collection / shutterstock.com
10. Джон Браун, финансовый инспектор Метрополитен-оперы, и Сергей Дягилев на борту лайнера «Лафайет», прибывшего в Нью-Йорк 11 января 1916 г.
© Library of Congress Prints and Photographs Division Washington, D.C./Reproduction Number: LC-DIG-ggbain-20797
11. Валентина Качуба (справа) и Александра Василевская (слева), балерины труппы Дягилева, на борту лайнера «Лафайет», прибывшего в Нью-Йорк 11 января 1916 г.
© Library of Congress Prints and Photographs Division Washington, D.C./Reproduction Number: LC-DIG-ggbain-20802
12. Репетиция Русских сезонов. Нью-Йорк, 1916 г.
© Library of Congress Prints and Photographs Division Washington, D.C./Reproduction Number: LC-USZ62–63268
13. Репетиция Русских сезонов. Нью-Йорк, 1916 г.
© Library of Congress Prints and Photographs Division Washington, D.C./Reproduction Number: LC-DIG-ggbain-23062
14. Модильяни, «Лев Бакст». 1917 г.
© Everett Collection / shutterstock.com
15. Серж Лифарь, открытка. Фото Козетт Харкорт, ок. 1920 г.
© Wellcome Collection
16. Сергей Прокофьев. Ок. 1918–1920 гг.
© Library of Congress Prints and Photographs Division Washington, D.C./Reproduction Number: LC-DIG-ggbain-28249
17. Нижинский с женой Ромолой. 1915–1920 гг.
© Library of Congress Prints and Photographs Division Washington, D.C./Reproduction Number: LC-DIG-ggbain-21431
18. Лев Бакст. Ок. 1915–1920 гг.
© Library of Congress Prints and Photographs Division Washington, D.C./ Reproduction Number: LC-DIG-ggbain-22745
19. Лев Бакст, дизайн костюма для «Спящей принцессы». 1921 г.
© Library of Congress Prints Washington, and Photographs Division D. C. / Reproduction Number: LC-DIG-ppmsca-19410
20. Лев Бакст, дизайн костюма Искандера для «Пери» («Цветка бессмертия»). 1922 г.
© Everett Collection / shutterstock.com
21. Айседора Дункан. Фото Арнольда Генте, ок. 1915–1923 гг.
© Library of Congress Prints and Photographs Division Washington, D.C./Reproduction Number: LC-DIG-agc-7a14254
22. Игорь Стравинский. Ок. 1920–1925 гг.
© Library of Congress Prints and Photographs Division Washington, D.C./ Reproduction Number: LC-DIG-ggbain-32392
23. Анна Павлова. Лондон, 1929 г.
© Everett Collection / shutterstock.com
24. Нижинский в «Жизели». Фото Рузена, 1934 г.
© Wellcome Collection
25. Клод Дебюсси. Ок. 1937 г.
© Library of Congress Prints and Photographs Division Washington, D.C./Reproduction Number: LC-DIG-hec-23688
26. Сьюзан Фарелл с Джорджем Баланчиным в Театре штата Нью-Йорк. Фото Орландо Фернандеса, 1965 г.
© Library of Congress Prints and Photographs Division Washington, D.C./Reproduction Number: LC-USZ62–129045 / World Telegram & Sun
Линн Гарафола – профессор кафедры танца Барнард Колледжа, Колумбийский университет (Нью-Йорк, США). Исследователь истории танца, критик. Автор монографий Diaghilev’s Ballets Russes и Legacies of Twentieth-Century Dance, редактор ряда книг, среди которых Дневники Мариуса Петипа (она выполнила и их перевод), André Levinson on Dance: Writings from Paris in the Twenties (совместно с Джоан Акочелла), Rethinking the Sylph: New Perspectives on the Romantic Ballet, Of, By, and For the People: Dancing on the Left in the 1930s, José Limón: An Unfinished Memoir и The Ballets Russes and Its World. Куратор выставки Нью-Йоркского исторического общества Dance for a City: Fifty Years of the New York City Ballet (и редактор сопутствующей выставки книги), выставок отдела зрелищных искусств Нью-Йоркской публичной библиотеки 500 Years of Italian Dance: Treasures from the Cia Fornaroli Collection (совместно с Патрицией Вероли) и New York Story: Jerome Robbins and His World, а также менее крупных выставок. Обладатель гранта Исследовательского института Гетти, стипендиат Совета социологических исследований и Национального фонда поддержки гуманитарных наук, член Американской академии искусства и науки. Редактор серии книг «Исследования по истории танца». Автор статей в «Данс мэгэзин», «Балле ревью», «Нэйшн», «Литературном приложении к “Таймс”», «Нью-Йорк таймс бук ревью» и многих других публикаций. Член Гарримановского института при Колумбийском университете. Организатор конференций, симпозиумов, общественных программ по истории балета и танца XX века в целом. Куратор выставки «Дягилевский театр чудес: Русский балет и его влияние», посвященной столетию Русских сезонов Дягилева, в Нью-Йоркской публичной библиотеке.
Примечания
Это было четвертое из эссе, написанных Дягилевым в серии «Сложные вопросы» в «Мире искусства» 1899 г. T. 1, № 3–4, «Сложные вопросы (окончание)», с. 58.
“Cimarosa at Covent Garden. Italian Opera and Russian Ballet. M. Diaghileff’s Theory of Acting”, The Observer, 20 June 1920, p. 10.
Vernon Duke, Passport to Paris (Boston: Little, Brown, 1955), p. 121.
Nicolas Nabokov, Old Friends and New Music (London: Hamish Hamilton, 1951), p. 67.
“Les Noces. M. Diaghileff Replies to the Critics. A Wedding or a Funeral?” The Observer, 20 June 1926, p. 11.
Olin Downes, “Diaghileff Explains His Ballet’s Origins”, Boston Sunday Post, 23 January 1916, p. 31.
Arnold Haskell, Diaghilev: His Artistic and Private Life (London: Gollancz, 1935), pp. 328, 335.
“Les Noces. M. Diaghileff Replies to the Critics”.
Дягилев С. Основы художественной оценки // Сложные вопросы. Мир искусства, 1899. T. 1. № 3–4. С. 60.
Сергей Дягилев. Письмо к редактору [английской газеты «Таймс»] о балете «Байка про лису» и о концерте И. Б. Маркевича // Сергей Дягилев и русское искусство. T. 1. М., 1982. С. 257.
Beverley Nichols, “Celebrities in Undress: XIV. – Diaghileff”, The Sketch, 30 June 1926, p. 526.
Сергей Дягилев. Письмо к редактору [английской газеты «Таймс»]… С. 256.
«Желтая книга» (англ. The Yellow Book) – английский литературный ежеквартальный журнал, издававшийся в 1894–1897 гг. Стал ярчайшим в Англии проявлением культуры декадентства. – Примеч. ред.
Sydney Harcave, First Blood: The Russian Revolution of 1905 (New York: Macmillan, 1964), pp. 285–289.
Цит. по: Serge Prokofiev, Prokofiev by Prokofiev: A Composer’s Memoir, trans. Guy Daniels (Garden City, N.Y.: Doubleday, 1979), p. 131.
Ibid. Pp. 136–138. О другой точке зрения на эти события см.: Ястребцев В. В. Н. А. Римский-Корсаков. Воспоминания 1898–1908. Т. 2. Л.: Музгиз, 1960. С. 334–337.
Елена Люком цит. по: Natalia Roslavleva, Era of the Russian Ballet 1770–1965, foreword Ninette de Valois (London: Gollancz, 1966), p. 169; Владимир Теляковский, дневниковая запись от 15 октября 1905 г. // Теляковский В. А. Дневники Директора Императорских театров. 1903–1906. СПб. / Под общ. ред. М. Г. Светаевой; подгот. текста М. А. Малкиной и М. В. Хализевой; коммент. М. Г. Светаевой, Н. Э. Звенигородской и М. В. Хализевой. М.: Артист. Режиссер. Театр, 2006. С. 534; Нижинская Б. Ф. Ранние воспоминания: В 2 ч. / Пер. с англ. И. В. Груздевой; предисл. М. Ю. Ратановой; коммент. Е. Я. Суриц. М.: Артист. Режиссер. Театр, 1999. (Ballets Russes). Ч. 1. 1999. С. 222, 223.
Roslavleva, р. 169; Нижинская Б. Ф. Ранние воспоминания. Ч. 1. С. 222; Карсавина Т. Театральная улица. Воспоминания / Пер. с англ. И. Э. Балод. М.: ЗАО Центрполиграф, 2004. С. 173.
Карсавина имела в виду режиссера Александринского театра Карпова. – Примеч. пер.
Карсавина Т. Театральная улица. С. 175, 176.
Там же. С. 180; Roslavleva, Era… p. 168; Слонимский Ю. С. Фокин и его время // Фокин М. Против течения. Воспоминания балетмейстера. Статьи, письма. Л.; М.: Искусство, 1962. С. 27; Keith Money, Anna Pavlova: Her Life and Art (New York: Knopf, 1982), p. 88; Нижинская Б. Ф. Ранние воспоминания. Ч. 1. С. 231.
Adolph Bolm, autobiographical typescript, Part II, p. 9, Adolph Bolm Collection, George Arents Research Library, Syracuse University. См. также c. 1–8 этого текста и с. 4 автобиографических заметок Больма из того же собрания; Money, Anna Pavlova, рр. 67–69, 75–79; Нижинская Б. Ф. Ранние воспоминания. Ч. 1. С. 324; “Ballet and Dancers in London”, Diaghilev Scrapbooks, II, n. p., Theater Museum (London); “Courrier des Théâtres”, Figaro, 20 May 1909, p. 6; Robert Brussel, “La Vie de Paris. Mathilde Kchessinska”, Figaro, 22 May 1908, p. 1. До этого русские танцовщики уже появлялись, хотя и редко, на сцене европейских оперных театров. Так, в 1902 г. Рауль Гинцбург, директор Оперы Монте-Карло, попросил дирижера Р. Дриго сочинить музыку для «Лазурного Берега», балета на сюжет, специально написанный князем Монако для гастролирующих русских артистов. Этот спектакль, впервые показанный в Монте-Карло 30 марта 1902 г., был поставлен Александром Ширяевым. Среди танцовщиков были Любовь Рославлева, Екатерина Гельцер, Ольга Преображенская, Вера Трефилова. Roland John Wiley, “Memoirs of R. E. Drigo”, Part II, Dancing Times, June 1982, p. 662. Для Преображенской это был повторный ангажемент, так как она уже появлялась в Монте-Карло в 1897 г. со своим партнером Альфредом Бекефи, а в 1900-м – с Бекефи и группой танцовщиков из Мариинского театра, включая Георгия Кякшта, в «Привале кавалерии». “Nouvelles Locales”, Gazette de Monaco, 30 March 1897, p. 1; 13 April 1897, p. 1. За информацию об ангажементе 1900 г. я выражаю благодарность Франсису Россе, бывшему архивисту Общества морского побережья в Монте-Карло.
Нижинская Б. Ф. Ранние воспоминания: В 2 ч. / Пер. с англ. И. В. Груздевой; предисл. М. Ю. Ратановой; коммент. Е. Я. Суриц. М.: Артист. Режиссер. Театр, 1999. (Ballets Russes). Ч. 2. 1999. С. 75; Фокин М. Против течения… С. 193.
Roslavleva, Era…, pp. 166, 167; Слонимский Ю. С. Фокин и его время // Фокин М. Против течения. С. 26.
Roslavleva, Era, pp. 170–174.
Фокин М. Против течения… С. 189. Нужно отметить, что список балетов, приведенный в русском издании его воспоминаний, значительно длиннее, чем аналогичный список в англоязычном издании. В последнем списке отсутствуют следующие (додягилевские) постановки: «Полька с мячиком» (20 апреля 1905 г., В. Герберт); «Полет бабочек» (12 февраля 1906 г., Ф. Шопен); «Полька-пиччикато» (12 февраля 1906 г., И. Штраус); «Севильяна» (12 февраля 1906 г., И. Альбенис); «Испанский танец» (8 апреля 1906 г., Ж. Бизе); «Ревность Пьеро» (8 апреля 1906 г.); «Чардаш» (19 июля 1906 г., Й. Брамс); «Ночь Терпсихоры» (26 января 1908 г.); «Танец семи покрывал» (3 ноября 1908 г., А. Глазунов); «Картины античного мира» (26 февраля 1909 г.). Другие работы додягилевского периода, упоминаемые Нижинской в «Ранних воспоминаниях» и не перечисленные ни в русской, ни в английской версии воспоминаний Фокина, включают в себя постановки «Дивертисмент» – «Вальс-фантазия» (26 марта 1906 г., М. Глинка), «Танцы на музыку Шопена» (16 февраля 1908 г., Ф. Шопен) и «Гран-па на музыку Шопена» (6 апреля 1908 г., Ф. Шопен). Нижинская часто указывает имена основных исполнителей и постановки, показанные в ходе благотворительных вечеров, организованных Фокиным. Список его работ, поставленных в 1905–1917 гг., см. в Приложении I.
Фокин М. Против течения… С. 193.
Там же. С. 203.
Tamara Karsavina, “Origins of the Russian Ballet”, Dancing Times, September 1966, pp. 624, 636.
Фокин M. Против течения… С. 124.
Цит. по: Roslavleva, Era, р. 175.
Цит. по: Cyril W. Beaumont, Michel Fokine and His Ballets (London, 1935; rpt. New York: Dance Horizons, 1981), pp. 23, 24.
Фокин M. Против течения… С. 127.
Там же. С. 135.
Там же. С. 142.
Там же. С. 137.
Andre Levinson, “A Crisis in the Ballets Russes”, Theatre Arts Monthly, November 1926, p. 786.
Цит. по: Vera Krasovskaya, “Marius Petipa and ‘The Sleeping Beauty’ ”, trans. Cynthia Read, Dance Perspectives, 49 (Spring 1972), p. 10.
Фокин M. Против течения… С. 176.
Новый жанр (франц.). – Примеч. пер.
Этот термин имел широкое распространение, что подтверждается следующим: когда Сергей Украинский пришел в труппу Павловой – непосредственно перед началом Первой мировой войны, – в его контракте было указано, что он должен будет танцевать прежде всего номера genre nouveau, такие как персидский танец, который он исполнял на просмотре. – Serge Oukrainsky, Му Two Years With the Dancing Genius of the Age: Anna Pavlowa (Hollywood: Suttonhouse, [1940]), p. 56.
Фокин M. Против течения… С. 175.
Там же. С. 177.
Там же. С. 175.
«Картины античного мира», поставленные в феврале 1909 г. для Литературно-художественного общества, возможно, также основаны на «Камо грядеши». Названия четырех частей – «Танец на пиру», «Бой гладиаторов», «По примеру богов», «В римском цирке» – напоминают наиболее значительные эпизоды романа.
Фокин М. Против течения… С. 243.
Там же. С. 233; Roslavleva, Era, pp. 127–128. «Ацис и Галатея», первая хореографическая работа Фокина, была переделкой балета, поставленного Ивановым и вышедшего из репертуара Мариинского театра. Нижинская Б. Ф. Ранние воспоминания. Ч. 1. С. 209, 210. О Рерихе см.: Prince Peter Lieven, The Birth of Ballets-Russes, trans. L. Zarine (London: Allen and Unwin, 1936), p. 82.
Бенуа А. Мои воспоминания: В 5 кн. T. 1. М.: Наука, 1980. С. 304.
Волков Н. Мейерхольд. Т. 2 (1908–1917). М.; Л.: Academia, 1929. С. 164.
Joan Ross Acocella, “The Reception of Diaghilev’s Ballets Russes by Artists and Intellectuals in Paris and London, 1904–1914”, Diss. Rutgers 1984, p. 138.
Объединение более известно на Западе как «Пятерка» – «The Five». – Примеч. пер.
Перечень опер, поставленных труппой Дягилева в Западной Европе, представлен в Приложении II.
Среди художников, открытых Мамонтовым и прославленных «Миром искусства», был и Михаил Врубель, но душевная болезнь помешала ему принять участие в деятельности дягилевской антрепризы.
О деятельности Мамонтова см.: Stuart Ralph Grover, “Savva Mamontov and the Mamontov Circle: 1870–1905 Art Patronage and the Rise of Nationalism in Russian Art”, Diss. Wisconsin 1971, chaps. 3 and 4; John E. Bowlt, The Silver Age: Russian Art of the Early Twentieth Century and the “World of Art” Group (Newtonville, Mass.: Oriental Research Partners, 1979), pp. 30–39. О княгине Тенишевой см.: Bowlt, pp. 39–46, 180 (о курировании ее коллекции Бенуа), and р. 234 (о пребывании Билибина в ее школе). Некоторое представление о многоэтническом составе России можно получить из: Chloe Obolensky, The Russian Empire: A Portrait in Photographs, introd. Max Hayward (New York: Random House, 1979) и Photographs for the Tsar: The Pioneering Color Photography of Sergei Mikhailovich Prokudin – Gorskii Commissioned by Tsar Nicholas II, ed. and introd. Robert H. Allshouse (New York: Dial, 1980).
Детальный анализ европейских, греческих и восточных балетов Бакста представлен: Charles Steven Mayer, “The Theatrical Designs of Leon Bakst”, Diss. Columbia 1977, chaps. 2–4. Биографические данные взяты из главы 1 данной работы.
Великий век (франц.). – Примеч. пер.
Среди опубликованных книг Бенуа были: Reminiscences of the Russian Ballet, trans. Mary Britnieva (London: Putnam, 1941); Memoirs, I, trans. Moura Budberg (London: Chatto and Windus, 1960); Memoirs, II, trans. Moura Budberg (London: Chatto and Windus, 1964). Образцы его журнальных «мемуаров» приведены в: Roland John Wiley, ed. and trans., “Benois and Butter Week Fair”, “Benois and Butter Week Fair Part II”, “The Diaghilev Exhibition”, Parts I, II, III, Dancing Times, April – August 1984. Биографический материал см.: Bowlt’s Silver Age, глава 10, и глава о Бенуа в его же Russian Stage Design: Scenic Innovation, 1900–1930 (Jackson, Miss.: Mississippi Museum of Art, 1981). Другими художниками, связанными с кругом Дягилева, кто оформлял спектакли Старинного театра, были Билибин, Рерих и Добужинский. Александр Санин, ставший постановщиком большинства опер у Дягилева, был одним из режиссеров театра, а Фокин отвечал за хореографию. Он поставил в том числе танцы для «Игры о Робине и Марион», пасторали XIII в. Адама де ла Аля. Spencer Golub, Evreinov: The Theatre of Paradox and Transformation (Ann Arbor, Mich.: UMI Research Press, 1984), pp. 110–120.
Фокин M. Против течения… С. 184.
Marc Slonim, Russian Theater From the Empire to the Soviets (Cleveland: World Publishing, 1961), p. 116.
Слонимский Ю. С. Фокин и его время. С. 23.
«Театры миниатюр», известные также как «театры малых форм», были заметным явлением в петербургской жизни до Первой мировой войны. Созданные по типу мюнхенских, берлинских и парижских артистических кабаре, по большей части эти театры тяготели к сатире и чередованию разнохарактерных номеров: поэтических декламаций, эксцентрики, пародий, скетчей, цыганских романсов и т. д. Танцы также постоянно присутствовали в них. В «Кривом зеркале» Николая Евреинова, наиболее известном из этих театров, «публика смеялась до слез» над пародиями на балеты «Жизель», «Лебединое озеро» и «Эсмеральда». Другими объектами сатиры «Кривого зеркала» были Айседора Дункан и Мод Аллан в исполнении «примы-балерины» труппы Николая Барабарова. Golub, Evreinov, pp. 149–151.
Немирович-Данченко В. И. Рождение театра. Воспоминания, статьи, заметки, письма / Сост., вступ. ст. и коммент. М. Н. Любомудрова. М.: Правда, 1989. С. 218. Bowlt, Russian Stage Design, p. 83; Benois, Reminiscences, pp. 348, 349, 353. Бенуа датирует начало его работы с труппой 1912 г. Его роль в «Карамазовых» дает основание верить дате, указанной у Боулта, – 1909.
Фокин М. Против течения… С. 165.
В отличие от французских рецензентов, британские обозреватели не имели обыкновения указывать имена оперных режиссеров. Поэтому довольно трудно установить, кто в 1914 г. был постановщиком «Ивана Грозного» и «Майской ночи», показанных только в Лондоне. Поскольку Санин был автором версии «Ивана Грозного» 1909 г., то допустимо предположить, что он выступил постановщиком и в 1914 г. Принимая во внимание то, что он работал для Дягилева в соответствующий период, весьма вероятно, что он поставил и «Майскую ночь».
Edward Braun, The Theatre of Meyerhold: Revolution on the Modern Stage (New York: Drama Book Specialists, 1979), p. 44.
Natalia Roslavleva, “Stanislavsky and the Ballet”, introd. Robert Lewis, Dance Perspectives, 23 (1965), p. 23.
Фокин M. Новый балет (письмо в Times от 6 июля 1914 г.) // Против течения… С. 353. Это письмо-манифест также опубликовано в: Beaumont, Fokine, Appendix A(b), pp. 144–147.
Valerian Svetlov, “The Diaghilev Ballet in Paris”, Dancing Times, December 1929, p. 264.
Arnold Bennett, “Russian Imperial Ballet at the Opera”, Paris Nights and Other Impressions of Places and People (New York: George H. Doran, 1913), pp. 76, 77.
Левинсон А. Старый и новый балет. Петроград: Свободное искусство, 1917. С. 65.
Там же. С. 26.
Фокин М. Против течения… С. 286.
Левинсон А. Старый и новый балет. С. 44, 45.
Мандельштам О. Египетская марка. М.: Панорама, 1991. (Репринтное воспроизведение издания 1928 года.) С. 45.
Фокин М. Новый балет // Против течения… С. 243, 352.
Сам по себе, как таковой (лат.). – Примеч. пер.
Valerian Svetlov, Anna Pavlova, trans. A. Grey (Paris, 1922; rpt. New York: Dover, 1974), p. 156.
Фокин M. Против течения… С. 222, 223.
Benois, Reminiscences, p. 246. «Мы сразу тогда и спелись. Он мне рассказал то, как он уже поставил часть танцев “Армиды” для упомянутого спектакля в Театральном училище. Все его инвенции показались мне вполне соответствующими моим идеям, и это позволяло всецело на него положиться и в дальнейшем». Бенуа А. Воспоминания о балете. Русские записки. Т. 17. С. 88.
Acocella, “Reception”, рр. 140, 141.
Ibid. Рр. 149–151. Ее исследования дягилевских эссе: рр. 140–149.
Брюсов В. Ненужная правда // Мир искусства-1902. Т. 7. Хроника. С. 67; 69; 70; 73.
Braun, Meyerhold, p. 37.
Ibid. P. 51.
Ibid. P. 36.
Beaumont, Fokine, p. 26.
Roland John Wiley, “Benois’ Commentaries on the First Saisons Russes”, Part VII, Dancing Times, April 1981, p. 465. Статья Бенуа была первоначально опубликована в газете «Речь» от 4 августа 1911 г.
Репродукции обоих полотен были опубликованы в: Gabriella Di Mila, Mir Iskusstva – Il Mondo Dell’Arte: Artisti Russi dal 1898 al 1924 (Naples: Societa Editrice Napoletana, 1982), plates 2 and 6. Картина Сомова «Арлекин и Смерть» воспроизведена в: Bowlt, Silver Age, p. 213. Исследование Боултом темы Арлекинады в творчестве Сомова см. на с. 211–215.
Цит. по: Braun, Meyerhold, p. 72. Следует заметить, что одна из четырех работ, поставленных Фокиным для благотворительного вечера в поддержку народной Гребловской школы, состоявшегося в Мариинском театре 8 апреля 1906 г., называлась «Ревность Пьеро». К сожалению, об этом спектакле, показанном на восемь месяцев ранее премьеры «Балаганчика», нам ничего не известно.
Ibid. Р. 70.
Фокин М. Против течения… С. 219; Нижинская Б. Ф. Ранние воспоминания. Ч. 2. С. 33.
Цит. по: Braun, Meyerhold, p. 70.
Нижинская Б. Ф. Ранние воспоминания. Ч. 2. С. 35.
Об отзывах Бенуа на постановки «Победа смерти» (1907), «Тристан и Изольда» (1909), «Дон Жуан» (1910), «Борис Годунов» (1911), «Орфей и Эвридика» (1911) и «Заложники жизни» (1912) см.: Braun, Meyerhold, рр. 83, 98, 109, 111, 113, 114, и Рудницкий К. Л. Режиссер Мейерхольд. М.: Наука, 1969. С. 137, 138, 142, 149, 159, 160, 179, 190, 192, 197, 198.
Фокин М. Против течения… С. 219, 220.
Фокин М. Против течения… С. 500, 501. Также цит. по: Рудницкий К. Л. Режиссер Мейерхольд. С. 148. Другие отзывы о постановке см.: Beaumont, Fokine, рр. 81–83; Braun, Meyerhold, рр. 115–119.
Cyril W. Beaumont, Complete Book of Ballets: A Guide to the Principal Ballets of the Nineteenth and Twentieth Centuries (London: Putnam, 1937), p. 715.
Ibid. P. 715.
Ibid. P. 686.
Jules Claretie, “La Vie à Paris”, Le Temps, 21 May 1909, p. 2.
Mayer, “The Theatrical Designs of Leon Bakst”, p. 182.
Цит. по: Beaumont, Fokine, p. 23.
Нижинская Б. Ф. Ранние воспоминания. Ч. 2. С. 130. В 1915 г. в Мариинском театре Фокин создал первую роль для Кшесинской – роль Юной девушки в «Эросе», мечтательный танец в духе Тальони на музыку «Серенады для струнного оркестра» Чайковского. Балет, очевидно, имел успех, хотя Андрей Левинсон подозревал Фокина в неискренности: «Применены и заноски, и сложные пируэты, как бы идущие навстречу виртуозным навыкам М. Ф. Кшесинской». «Эрос» сохранялся в репертуаре по меньшей мере до 1918–1919 г., то есть все время, пока Баланчин учился в средних классах Императорского театрального училища. В 1935 г. он использовал музыку Чайковского для своего балета «Серенада». См.: Левинсон А. Старый и новый балет. С. 128. Фрагменты других отзывов см.: Mathilde Kchessinska, Dancing in Petersburg, trans. Arnold Haskell (New York, 1961; rpt. New York: DaCapo, 1977), pp. 155, 156. О балетах Фокина в послереволюционном репертуаре см.: Yuri Slonimsky, “Balanchine: The Early Years”, trans. John Andrews, ed. Francis Mason, Ballet Review, 5, No. 3 (1975–1976), pp. 25, 26.
Фокин M. Против течения… С. 297.
Цит. по: Dawn Lille Horwitz, “A Ballet Class With Michel Fokine”, Dance Chronicle, 3, No. 1 (1979), p. 42.
Прекрасная эпоха (франц.) – период в истории Франции, охватывающий конец XIX – начало XX в. – Примеч. пер.
Francis Steegmuller, “Your Isadora”: The Love Story of Isadora Duncan and Gordon Craig (New York: Random House and The New York Public Library, 1974), p. 40.
С. Дягилев. Письмо к У. А. Проперту от 17 февраля 1926 г. Цит. по: W. A. Propert, The Russian Ballet 1921–1929, preface Jacques-Emile Blanche (London: John Lane, 1931), p. 88. О первом петербургском концерте Дункан см.: Steegmuller, Your Isadora, гл. 3 и примеч.
Шейкеры – протестантская религиозная группа, основанная в Англии в 1747 г. – Примеч. пер.
Фокин М. Против течения… С. 378.
Frederika Blair, Isadora: Portrait of the Artist As a Woman (New York: McGraw-Hill, 1986), p. 117.
Между английским и русским изданиями существует расхождение в датах премьер «Бабочек», «Исламея» и «Сна». Во всех трех случаях я руководствовалась датами из русского издания: 10 марта 1912 г. вместо 10 марта 1913 г. – «Бабочки» и «Исламей», 10 января 1915 г. вместо 10 марта 1913 г. – «Сон».
Цит. по: Beaumont, Fokine, p. 23.
Цит. по: Arnold Haskell, Balletomania Then and Now (New York: Knopf, 1977), p. 85.
Светлов В. Современный балет. Издано при непосредственном участии Бакста. СПб., 1911. С. 80. О работе Фокина в балетном классе см.: Horwitz, “A Ballet Class With Michel Fokine”, p. 43.
Лопухов сам признался в этом в книге «Шестьдесят лет в балете». За эту информацию я выражаю благодарность Нине Аловерт.
Beaumont, Fokine, p. 102.
Левинсон А. Старый и новый балет. С. 123.
О требованиях Фокина к администрации бывшего Мариинского театра см.: Roslavleva, Era, p. 196; о его карьере в США см.: Dawn Lille Horwitz, “Michel Fokine in America, 1919–1942”, Diss. New York University 1982.
Совокупное произведение искусства (нем.). – Примеч. пер.
Janet Elspeth Kennedy, “The ‘Mir Iskusstva’ Group and Russian Art 1898–1912”, Diss. Columbia 1976, pp. 344, 345.
Ibid. P. 343.
Музыкальной драмы быть не может (нем.). – Примеч. пер.
Дункан A. Моя жизнь / Пер. с англ. Н. Краснова, Я. Яковлева; Дести М. Нерассказанная история / Пер. с англ. З. Рахлиной. М.: ТЕРРА-Книжный клуб, 1999. С. 110.
Левинсон А. Старый и новый балет. С. 71.
Comtesse Anna de Noailles, “Adieux aux Ballets russes”, Revue Musicale, 1 December 1930, pp. 4, 5.
Левинсон A. Старый и новый балет. С. 58, 59. Denis Bablet, Esthétique Générale du Décor de Théâtre de 1870 à 1914 (Paris: Editions du C.N.R.S., 1965), p. 190.
Robert Brussel, “Théâtre du Châtelet. Grand saison de Paris: Ballets russes”, Figaro, 8 June 1911. O Ж.-Э. Бланше см.: Truman Campbell Bullard, “The First Performance of Igor Stravinsky’s Sacre du Printemps”, Diss. Eastman School of Music, Rochester 1971, 1, pp. 41–42.
Нижинская Б. Ф. Ранние воспоминания. Ч. 2. С. 33–36.
The Diary of Vaslav Nijinsky, ed. Romola Nijinsky (New York, 1936; rpt. Berkeley: Univ. of California Press, 1968). В рус. пер.: Дневник Вацлава Нижинского: Воспоминания о Нижинском / Пер. с франц. М. Вивьен и С. Орлова; предисл. и коммент. В. Гаевского. М.: Артист. Режиссер. Театр, 1995.
Хотя о Нижинском было опубликовано несколько объемных книг, фактической и объяснительной основой для большинства более поздних исследований служит его биография, написанная в 1934 г. его женой Ромолой и отредактированная Линкольном Кёрстином и Арнольдом Хаскеллом. Вышедшие в 1981 г. «Ранние воспоминания» Брониславы Нижинской были первой серьезной попыткой пересмотреть изложенную там версию событий. Основная литература: Romola Nijinsky, Nijinsky, foreword Paul Claudel (New York: Simon and Schuster, 1934), в рус. пер.: Нижинская Ромола. Вацлав Нижинский / Пер. с англ. Н. И. Кролик. М.: Русская книга, 1996; The Last Years of Nijinsky (London: Gollancz, 1952); Richard Buckle, Nijinsky (New York: Simon and Schuster, 1971); Красовская B. M. Нижинский. Л.: Искусство, 1974; Lincoln Kirstein, Nijinsky Dancing, with essays by Jacques Rivière and Edwin Denby (New York: Knopf, 1975); Bronislava Nijinska, Early Memoirs, trans, and ed. Irina Nijinska and Jean Rawlinson, introd. Anna Kisselgoff (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1981), в рус. пер.: Нижинская Б. Ф. Ранние воспоминания: В 2 ч. / Пер. с англ. И. В. Груздевой; предисл. М. Ю. Ратановой; коммент. Е. Я. Суриц. М.: Артист. Режиссер. Театр, 1999. Последние два исследования творчества Нижинского: Shelley Celia Berg, “ ‘Le Sacre du Printemps’: A Comparative Study of Seven Versions of the Ballet”, Diss. New York University 1985; Millicent Kaye Hodson, “Nijinsky’s New Dance: Rediscovery of Ritual Design in Le Sacre du Printemps”, Diss. California (Berkeley) 1985.
Нижинская Б. Ф. Ранние воспоминания. T. 2. С. 77, 78, 89, 120.
Arnold Haskell, Diaghileff: His Artistic and Private Life (London: Gollancz, 1935), p. 246.
Charles Spencer, Leon Bakst (London: Academy Editions, 1973), p. 37. See also Charles Mayer, “The Theatrical Designs of Leon Bakst”, Diss. Columbia 1977, I, pp. 42, 44, 138, 139.
О Masques et Bergamasques см.: Edward Lockspeiser, Debussy: His Life and Mind (London, 1965; rpt. Cambidge: Cambridge Univ. Press, 1978), II, p. 9. Письмо Дебюсси Дягилеву находится в: Jean Cocteau Collection, George Arents Research Library, Syracuse University.
См., например: John Boardman, Athenian Black Figure Vases (London: Thames and Hudson, 1974); Martin Robertson, A Shorter History of Greek Art (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1981); Ernst Buschor, Grab eines attischen mädchens (Munich: F. Bruckmann, 1939).
Письмо Мейерхольда жене цит. по: Рудницкий К. Л. Режиссер Мейерхольд. С. 73. О том, что Дягилев предлагал включить в сезон 1929 г. мейерхольдовские постановки «Лес», «Ревизор» и «Великодушный рогоносец», сказано в письме Сержу Лифарю. Цит. по: Лифарь С. Дягилев и с Дягилевым. С. 537.
Рудницкий К. Л. Режиссер Мейерхольд. С. 66.
Нижинская Б. Ф. Ранние воспоминания. Т. 2. С. 68.
Пружан И. Н. Лев Самойлович Бакст. Л.: Искусство, 1975. С. 105.
Цит. по: Рудницкий К. Л. Режиссер Мейерхольд. С. 51.
Там же. С. 58.
Мейерхольд В. Э. Статьи, письма, речи, беседы. М.: Искусство, 1968.
Мейерхольд написал несколько статей, где изложил технические нововведения и теоретические обоснования своего «условного театра». См., например, статьи «Театр-Студия», «Первые попытки создания условного театра» и «Условный театр». См. там же. С. 105–142. Постановки Мейерхольда для Театра-Студии и Театра Веры Комиссаржевской детально рассмотрены в: Рудницкий К. Л. Режиссер Мейерхольд. С. 43–113; Edward Braun, The Theatre of Meyerhold: Revolution on the Modern Stage (New York: Drama Book Specialists, 1979), pp. 36–84.
Нижинская Б. Ф. Ранние воспоминания. T. 1. С. 276. Нижинская также упоминает о том, что эти двое регулярно посещали вечерние субботние концерты в Зале Дворянского собрания.
Kirstein, Nijinsky Dancing, p. 125. Ричард Бакл пересказывает историю о Лувре в: Nijinsky, р. 163. «Дочь фараона», поставленная Петипа в 1862 г., неоднократно возобновлялась в течение следующих сорока пяти лет. Поставленная в Большом театре в начале 1900 г. версия Александра Горского была выдержана в духе драматического реализма и использовала профильные положения, пусть и не в той степени, как Фокин сделал в «Клеопатре». Фотографии московской постановки см.: Lincoln Kirstein, Four Centuries of Ballet: Fifty Masterworks (New York: Dover, 1984), p. 165.
«Условный театр» // Мейерхольд В. Статьи, письма, речи, беседы.
Нижинская Р. Вацлав Нижинский. С. 65.
Joan Acocella, “Photo Call With Nijinsky: The Circle and the Center”, Ballet Review, 14, No. 4 (Winter 1987), p. 52.
Дневник Вацлава Нижинского. С. 22, 23.
Jacques-Emile Blanche, Portraits of a Lifetime: The Late Victorian Era, The Edwardian Pageant, 1870–1914, ed. and trans. Walter Clement, introd. Harley Granville-Barker (London: Dent, 1937), pp. 257, 258.
Lockspeiser, Debussy, II, pp. 174, 175.
Hector Cahusac, “La Vie de Paris. Debussy et Nijinsky”, Figaro, 14 May 1913, p. 1. Перевод цит. по: Красовская В. М. Нижинский. Л.: Искусство, 1974. С. 127.
Нижинская Б. Ф. Ранние воспоминания. Т. 2. С. 252.
Там же. С. 222.
Там же. С. 221; Buckle, Nijinsky, p. 276.
Нижинская Б. Ф. Ранние воспоминания. Т. 2. С. 227.
Цит. по: Lockspeiser, Debussy, II, pp. 171, 172.
Ibid. P. 172.
Безумные годы (франц.). – Примеч. пер.
Дневник Вацлава Нижинского. С. 97, 98.
Нижинская Р. Вацлав Нижинский. С. 82.
«Игры спортивные, игры любовные» (франц.). – Примеч. пер.
Там же. С. 78.
Бог из машины (лат.) – прием античного театра. – Примеч. пер.
Генеральная репетиция (франц.). – Примеч. пер.
О подробностях скандала на премьере см.: Buckle, Nijinsky, pp. 299–301, а также в: Truman Bullard, “The First Performance of Igor Stravinsky’s Sacre du Printemps”, Diss. Rochester (Eastman School of Music) 1971, I, pp. 143–160. Баллард также описывает волнения на следующих парижских показах балета. В более поздней литературе существует множество расхождений по поводу того, сколько раз был показан балет. Согласно газетам, «Весна» была исполнена в Париже 28 мая (генеральная репетиция), 29 мая (премьера), 2, 4, 6 и 13 июня; в Лондоне – 11, 14 и 23 июля.
Igor Stravinsky and Robert Craft, Expositions and Developments (Berkeley: Univ. of California Press, 1981), p. 140. Отрывки из письма композитора Финдейзену цит. по: Vera Stravinsky and Robert Craft, Stravinsky in Pictures and Documents (London: Hutchinson, 1979), p. 77.
Ibid. P. 83. О Рерихе см.: John E. Bowk, Russian Stage Design: Scenic Innovation 1900–1930 – From the Collection of Mr. and Mrs. Nikita D. Lobanov-Rostovsky (Jackson, Miss.: Mississippi Museum of Art, 1982), pp. 250–255, and The Silver Age: Russian Art of the Early Twentieth Century and the “World of Art” Group (Newtonville, Mass.: Oriental Research Partners, 1979), pp. 39–46.
Цит. по: Stravinsky in Pictures and Documents, p. 82.
Ibid. P. 92.
Richard Taruskin, “From Firebird to The Rite: Folk Elements in Stravinsky’s Scores”, Ballet Review, 10, No. 2 (Summer 1982), p. 79. Последующие рассуждения основаны на замечательной статье профессора Тарускина.
Ibid. Р. 81.
Ibid. Р. 74.
Ibid. Р. 80.
Millicent Hodson, “Nijinsky’s Choreographic Method: Visual Sources from Roerich for Le Sacre du Printemps”, Dance Research Journal, 18, No. 2 (Winter 1986–1987), p. 12.
Нижинская Б. Ф. Ранние воспоминания. T. 2. С. 225. Из-за беременности Нижинская не принимала участия в балете, и роль Избранницы была отдана Марии Пильц.
Рерих говорил о своих декорациях в письме Дягилеву, процитированном в: Лифарь С. Дягилев и с Дягилевым. С. 323.
Roger Fry, “М. Larionow and the Russian Ballet”, Burlington Magazine, March 1919, p. 112.
Цит. по: Stravinsky in Pictures and Documents, p. 94.
Lydia Sokolova, Dancing for Diaghilev, ed. Richard Buckle (London: John Murray, 1960), p. 43.
Kirstein, Nijinsky Dancing, p. 145.
Jacques Riviere, “Le Sacre du Printemps”, Nouvelle Revue Française, November 1913, pp. 722, 724. Пер. на англ. язык, сделанный Мириам Лассман, взят из большого фрагмента этой статьи, приведенного в: Kirstein, Nijinsky Dancing, p. 166.
Sokolova, p. 43. О словах Кёрстина см.: Nijinsky Dancing, p. 143. Описание Ромолы Нижинской взято из: Нижинская Р. Вацлав Нижинский. С. 83, 84.
Цит. по: Kirstein, Nijinsky Dancing, p. 168.
Цит. по: Волков Н. Мейерхольд. Т. 2 (1908–1917). М.; Л.: Academia, 1929. С. 165.
Там же. С. 163. Несколькими страницами позже Волков описывает еще одну из «полутеатральных, полуполитических» сенсаций сезона 1911 г.: речь о русском театре, произнесенную В. М. Пуришкевичем в Думе 25 февраля. «В этой речи черносотенный трибун, щеголяя фантастической статистикой о переполнении евреями-актерами русской сцены и сваливая в одну кучу Луначарского, Сологуба, Рышкова, Мейерхольда, Белого, Юшкевича, говорил о том, что современный русский театр является местом растления русских нравов, духовного босячества, источником антагонизма между сословиями, классами и обществами». Нужно заметить, что Мейерхольд евреем не был. Там же. С. 169.
Нижинская Б. Ф. Ранние воспоминания. Т. 2. С. 226.
Н. Т. Parker, “The Russians in Full Glory”, Boston Evening Transcript, 7 November 1916, in Motion Arrested: Dance Reviews of H.T Parker, ed. Olive Holmes (Middletown, Conn.: Wesleyan Univ. Press, 1982), pp. 123, 124.
Лишь некоторые ритуалы ацтеков, связанные с культом маиса, требовали жертвоприношения именно молодой девушки. «Древние мексиканцы, – объяснял сэр Джеймс Джордж Фрэзер в книге “Золотая ветвь”, – устраивали человеческие жертвоприношения на всех стадиях роста маиса, при этом возраст жертвы соответствовал возрасту маиса; так, они приносили в жертву новорожденных младенцев во время посева, детей постарше – когда зерна давали всходы, и так далее до тех пор, пока маис полностью не созревал – тогда жертвами становились старики. Несомненно, что соответствие между возрастом жертвы и этапом роста маиса должно было усилить эффективность жертвоприношения». «Золотая ветвь: исследование магии и религии» (The Golden Bough: A Study in Magic and Religion, 3rd ed. (London: Macmillan, 1913), VII, pp. 237, 238). Наиболее полное описание женского жертвоприношения в доколумбовой Мексике приводится в третьем издании обширного труда Фрэзера, главным образом в седьмом («Духи Злаков и Дикой природы») и девятом томах («Козел отпущения»), изданных в 1913 г. Во втором издании, вышедшем в 1900 г., в очень кратком разделе о Мексике говорится о жертвоприношении в равной степени как женщин, так и мужчин (The Golden Bough: A Study in Magic and Religion, 2nd ed. (London: Macmillan, 1900), III, pp. 134–137). Фрэзер также упоминает о человеческих жертвоприношениях, свидетелями которых были путешественники XIX в., миссионеры и колониалисты в разных странах третьего мира. Лишь малая часть из этих ритуалов призывала именно к жертвоприношению девушки. Саймон Карлинский в своем исследовании долитературного русского театра не находит в славянских мифах прецедента девушки-жертвы: это приводит его к предположению, что кульминационная церемония «Весны священной» может происходить из древней мексиканской мифологии. Однако единственное свидетельство того, что Рерих видел связь между древними славянскими и мексиканскими ритуалами, содержится в эссе, не связанном с «Весной священной», опубликованном через десять лет после постановки балета. Выбор девушки для жертвоприношения, как видно, восходит не к древнеславянскому мифу, а к русскому символистскому переосмыслению этого мифа. По меньшей мере два исследователя творчества Стравинского указывают написанный в 1905–1907 гг. цикл стихотворений Сергея Городецкого о Яриле в качестве возможного источника идеи и образов «Весны священной». Другие возможные источники, упомянутые в исследованиях, – это «Посолонь», книга Алексея Ремизова 1907 г. о смене времен года и связанных с ними древних игрищах, – и циклы фантастических стихов Велимира Хлебникова о Руси эпохи каменного века, опубликованные в 1911 и 1912 гг., особенно поэма «И и Э», в которой в состязании между двумя соперничающими племенами девушка была схвачена и приговорена к жертве языческим богам. О Рерихе см.: Millicent Hodson, “Nijinsky’s New Dance: Rediscovery of Ritual Design in Le Sacre du Printemps”, Diss. California (Berkeley), pp. 151–153; о переосмыслении славянского мифа русскими символистами см.: Simon Karlinsky, “Stravinsky and Russian Pre-Literate Theater”, Nineteenth-Century Music, 6, No. 3 (Spring 1983), pp. 234, 235.
Эпоха конца XIX в. (франц.). – Примеч. пер.
Цит. по: Katia Samaltanos, Apollinaire: Catalyst for Primitivism, Picabia, and Duchamp (Ann Arbor, Mich.: UMI Research Press, 1984), p. 3.
Нижинская Б. Ф. Ранние воспоминания. С. 266.
Нижинская Р. Вацлав Нижинский. С. 119, 120.
Lyibov k tryom apelsinam, Zhurnal Doktora Dapertutto, Nos. 4–5, quoted in Meyerhold on Theatre, p. 147.
О биомеханике Мейерхольда см.: Ibid. P. 197–204; Рудницкий К. Л. Режиссер Мейерхольд. С. 265–270; Braun, The Theatre of Meyerhold, pp. 164–168; Mel Gordon, “Meyerhold’s Biomechanics”, Drama Review, September 1974, pp. 73–88. Выражаю благодарность профессору Гордону за сведения о том, что Соловьев был артистом Императорского балета.
Автор использует выражение period modernism, в отличие от более позднего направления authentic modernism (подлинного модернизма). – Примеч. пер.
Melissa McQuillan, “Painters and the Ballet, 1917–1926: An Aspect of the Relationship Between Art and Theatre”, Diss. New York University, 1979; Marianne W. Martin, “The Ballet Parade: A Dialogue Between Cubism and Futurism”, Art Quarterly, 1, No. 2 (Spring 1978), pp. 85–111.
Фотография балета «Ноги» (Le Basi, 1915) опубликована в: Michael Kirby, Futurist Performance (New York: Dutton, 1971), p. 57.
Francesco Cangiullo, Le Serate Futuriste: Romanzo Storico Vissuto (Milan: Ceschina, 1961), pp. 245–249.
Цит. по: Vera Stravinsky and Robert Craft, Stravinsky in Pictures and Documents (London: Hutchinson, 1979), p. 152.
Цит. по: McQuillan, II, p. 383.
Сергей Дягилев, телеграмма и письмо Игорю Стравинскому, [конец января] и 8 марта 1915 г., цит. по: Stravinsky: Selected Correspondence, ed. Robert Craft (New York: Knopf, 1984), II, pp. 17, 19.
F. T. Marinetti, “The Futurist Dance”, trans. Elizabeth Delza, Dance Observer, October 1935, pp. 75–76.
Filippo Tommaso Marinetti, “The Variety Theatre”, trans. R. W. Flint, reproduced in Kirby, Futurist performance, p. 179.
Filippo Tommaso Marinetti, Emilio Settimelli and Bruno Corra, “The Futurist Synthetic Theatre”, trans. R. W. Flint. Ibid. P. 197.
Ibid. P. 32.
Цит. по: McQuillan, II, p. 394. Два эскиза костюмов Деперо воспроизведены в: Kirby, Futurist Performance, p. 119. Фотографии декораций опубликованы в: Raffaele Carrieri, La Danza in Italia 1500–1900 (Milan: Domus, 1946), pp. 79, 80.
Описание «хореографии» Балла взято из: Kirby, Futurist Performance, p. 95; описание «звукоподражания» из: Maurizio Fagiolo dell’Arco, “Balia’s Prophecies”, Art International, 12, № 6 (Summer 1968), p. 67. Эскизы Балла воспроизведены в обоих источниках.
Ibid. Михаил Семенов – бывший петербургский музыкальный критик.
Ibid. Эскиз декораций и написанная рукой Балла световая партитура в пятидесяти tempi также там приведены. Работа была реконструирована Элио Маркеджани на Выставке Света в Риме в 1967 г.
Enrico Prampolini, “Futurist Scenography”, trans. Victoria Nes Kirby, reproduced in Kirby, Futurist Performance, p. 206.
Henri Quittard, “Les Concerts”, Figaro, 9 May 1914, p. 5.
“The Variety Theatre”, in Kirby, Futurist Performance, pp. 179, 180.
Канджулло описывал такой эпизод: «Летом 1917 года в Риме Дягилев попросил у меня футуристический балет, и я написал для него очень забавную и оригинальную пьесу – “Зоопарк”, которая и Дягилеву, и его первому танцовщику Мясину очень понравилась. Кто же мог сделать декорации, костюмы, эскизы? Поскольку я видел фантастических животных, элегантно стилизованных Деперо, я назвал Дягилеву его имя. Но Кокто, который имел большое влияние на Дягилева и был в тесной дружбе с ним, уже предложил ему нескольких парижских художников… так что Деперо остался в стороне. Но балет (который должен был написать Равель) так и не поставили, поскольку Равель ушел на фронт и был ранен». Цит. по: Leonetta Bentivoglio, “Danza e futurismo in Italia: 1913–1933”, La Danza Italiana, 1, No. 1 (Autumn 1984), pp. 68, 69. Похоже, что Канджулло перепутал даты: военная служба Равеля началась в сентябре 1914 г. и закончилась временной демобилизацией не позднее чем в июне 1917 г. К тому же сотрудничество Равеля с Дягилевым началось по меньшей мере еще в январе этого года, когда композитор в письме официально сообщал, что берется за заказ. Поскольку в письме Равеля упоминается только Канджулло, то возможно, хотя и маловероятно, что услуги Деперо были предложены позднее. Морис Равель, письмо Сергею Дягилеву от 12 января 1917 г., Catalogue of Ballet Material and Manuscripts From the Serge Lifar Collection, Sotheby’s (London), 9 May 1984, Lot 203.
Martin, “The Ballet Parade”, p. 85.
“Futurist Scenography”, in Kirby, Futurist Performance, p. 204.
Mary Chamot, Goncharova: Stage Designs and Paintings (London: Oresko Books, 1979), pp. 9–15, 48.
Nathalie Gontcharova, “The Creation of ‘Les Noces’”, Ballet and Opera, 8, No. 3 (September 1949), 23.
L’lllustré, 24 September 1959, цит. по: Chamot, Goncharova, p. 15.
Nathalie Gontcharova and Michel Larionov, “Serge de Diaghilev et l’évolution du décor et du costume de ballet”, in Nathalie Gontcharova, Michel Larionov, and Pierre Vorms, Les Ballets russes: Serge Diaghilew et la décoration théâtrale, rev. ed. (Belvès Dordogne: Pierre Vorms, 1955), pp. 27, 28.
Лекция профессора Саймона Карлинского “Stravinsky and Russian Pre-literate Theatre”, International Stravinsky Symposium, University of California at San Diego, 11 September 1982.
Образ действия (лат.). – Примеч. пер.
Michel Larionov, “Diaghilev and His First Collaborators”, Ballet and Opera, 8, No. 3 (September 1949), p. 15.
Léonide Massine, “On Choreography and A New School of Dancing”, Drama, I, No. 3 (December 1919), p. 69.
Cyril W. Beaumont, Bookseller at the Ballet (London: C. W. Beaumont, 1975), p. 268.
Мясин Л. Ф. Моя жизнь в балете / Пер. с англ. М. М. Сингал; предисл. Е. Я. Суриц. М.: Артист. Режиссер. Театр, 1997. С. 61.
Там же. С. 63.
Там же. С. 64.
Там же. С. 63.
Fernand Divoire, Pour la Danse (Paris: Editions de la Danse, 1935), p. 266.
Valerian Svetlov, “The Diaghileff Ballet in Paris”, Dancing Times, December 1929, p. 274.
Мясин Л. Моя жизнь в балете. С. 77, 78.
Massine, “On Choreography and A New School of Dancing”, pp. 69, 70.
André Levinson, Serge Lifar: Destin d’un Danseur (Paris: Grasset, 1934), pp. 26, 27.
Григорьев С. Балет Дягилева. С. 102, 108.
Comoedia от 15 мая 1921 г., цит. по: И. Стравинский – публицист и собеседник. М.: Советский композитор, 1988.
Контракты от 1 и 2 октября 1916 г. между Сергеем Дягилевым и Анхелес Морильо Лопес и Хосе Родригесом Мартинесом соответственно. Fonds Kochno, Pièce 32, Bibliotheque de l’Opéra (Paris); Gregorio Martinez Sierra, The Cradle Song and Other Plays, trans. and introd. John Garrrett Underbill (New York: Dutton, 1929), p. XI; Angel Sangardia, Manuel de Falla (Madrid: Union musical española, 1946), pp. 28, 29; Jaime Pahissa, Manuel de Falla: His Life and Works, trans. Jean Wagstaff (London: Museum Press, 1954), pp. 83, 84.
Pahissa, Manuel de Falla, pp. 96, 97; Мясин Л. Моя жизнь в балете. С. 299.
Там же. С. 139.
Catalogue of Ballet Materials and Manuscripts from the Serge Lifar Collection, Sotheby’s (London), 9 May 1984, Lot 157. Ноты «Волшебной лавки» находятся в каталоге отдельно под маркировкой Lot 207.
Там же. Lot 157.
Igor Stravinsky and Robert Craft, Expositions and Developments (Berkeley: Univ. of California Press, 1981), pp. 111, 112.
Мясин Л. Моя жизнь в балете. С. 78.
Контракт между Сергеем Дягилевым и Отторино Респиги от 5 сентября 1919 г. Fonds Kochno, Piece 78.
Я премного обязана д-ру Стивену Роу, штатному музыковеду лондонского офиса Сотбис, за то, что он позволил мне ознакомиться с рукописью Лавки и дал комментарий эксперта.
Франсис Пуленк, письмо Сергею Дягилеву от 28 апреля 1919 г., Catalogue of Ballet Material and Manuscripts from the Serge Lifar Collection, Lot 186.
Цит. по: The Diaghilev Ballet in England, каталог выставки, организованной Дэвидом Чадом (David Chadd) и Джоном Гэйджем (John Gage), Центром визуальных искусств Сейнсбери Западноанглийского университета (Sainsbury Centre for Visual Arts, University of East Anglia), с 11 октября по 20 ноября 1979 г., и лондонским Обществом изящных искусств (Fine Arts Society) с 3 декабря 1979 по 11 января 1980 г., с. 24. В письме своему другу Томасу Ловински Рикеттс добавляет следующую деталь: «Дягилев, импресарио Русского балета, приехал сюда, чтобы попытаться предложить свои новые постановки Бичему; одна из них, на музыку Скарлатти, великолепна, но в ней не занят никто из звезд, а один из балетов оформлен Пикассо. Мы поспорили по поводу немецкой музыки, которую он хочет подвергнуть гонениям и подавить; он предполагает убрать из репертуара “Карнавал”, “Бабочек” и “Видение Розы”. Я не хотел слышать ничего подобного и сказал, что Шуман и Вагнер были друзьями всей моей жизни, что если бы вся современная Германия за сутки ушла под воду – я бы и глазом не моргнул, и что игнорировать именно ее было бы куда лучшей местью, что… ненавижу национализм в Искусстве, и что орудия следовало бы направить на Россию. Так и произошло. В оправдание того, что Бичем не принял Русский сезон, он утверждал, будто бы желает поддержать национальное британское искусство – так что бумеранг вернулся обратно всего через несколько часов после моей тирады». Томасу Ловински, октябрь 1917, Charles Ricketts: Self-Portrait, ed. T. Sturge Moore and Cecil Lewis (London: Peter Davies, 1939), p. 183.
Цит. по: La Vie de Rossini, “Cahier de travail de Serge de Diaghilev avec indications de repertoire, 1915–1916”, Fonds Kochno, Piece 114, n. p. Так как все суммы указаны в фунтах стерлингов и франках, то кажется очень маловероятным, что дата, стоящая на документе, верна.
Цит. по: Journal d’Eugene Delacroi. Ibid. n. p.
Lydia Sokolova, Dancing for Diaghilev, ed. Richard Buckle (London: John Murray, 1960), pp. 68, 69.
Наталья Гончарова, письма Сергею Дягилеву (сентябрь 1918 г. и недатированные). Fonds Kochno, Piece 37.
С труппой также ездили парикмахер, заведующий реквизитом, начальник гардероба и главный машинист – все русские – и мать Любови Чернышевой. «Список артистов Русского балета», 14 июня 1918. Fonds Kochno, Piece 130.
Кумиры (франц.). – Примеч. пер.
Richard Ellmann, James Joyce (New York: Oxford, 1959), pp. 523, 524.
Автор обыгрывает здесь название первого поэтического сборника Кокто 1916 г. – «Легкомысленный принц» (франц.). – Примеч. пер.
Цит. по: Francis Steegmuller, Cocteau: A Biography (Boston: Little, Brown, 1970), p. 87.
Kenneth E. Silver, “Jean Cocteau and the Image d’Epinal: An Essay on Realism and Naiveté”, in Jean Cocteau and the French Scene, ed. Alexandra Anderson and Carol Saltus (New York: Abbeville Press, 1984), p. 86.
Marianne W. Martin, “The Ballet Parade: A Dialogue Between Cubism and Futurism”, Art Quarterly, 1, No. 2 (Spring 1978), p. 87; Steegmuller, Cocteau, p. 94; Filippo Tommaso Marinetti, “The Variety Theatre”, trans. R. W. Flint, в книге Michael Kirby, Futurist Performance (New York: Dutton, 1971), pp. 179–186; Jean Cocteau, Le Coq et l’Arlequin: Notes autour de la musique 1918, pref. Georges Auric (Paris: Stock, 1979).
Цит. по: Martin, “The Ballet Parade”, pp. 88, 89. О взаимосвязи Кокто и Аполлинера и последующей мифологизации этой взаимосвязи см.: Steegmuller, Cocteau, chap. 4.
Кокто заявляет об этом в предисловии к «Новобрачным на Эйфелевой башне». См.: Jean Cocteau, The Infernal Machine and Other Plays (New York: New Directions, 1963), p. 155.
Steegmuller, Cocteau, pp. 170, 245–247, 327, 328; Jean Hugo, Avant d’oublier 1918–1931 (Paris: Fayard, 1976), pp. 57–59, 64, 65.
Ibid, pp. 65, 66; Jean Cocteau, Carte Blanche (Paris: Mermod, [1952]), p. 94; Steegmuller, Cocteau, p. 201. Отзыв о Чаплине первоначально появился в газете «Пари-Миди», 1919, 28 апр.
Carte Blanche, p. 149. Впервые опубликовано в «Пари-Миди», 1919, 4 авг. Перевод этого текста на английский язык, сделанный Стигмюллером, содержится в его книге Cocteau, р. 166.
Leonide Massine, My Life in Ballet, ed. Phyllis Hartnoll and Robert Rubens (London: Macmillan, 1968), p. 104.
Jean Cocteau, “Parade”, in Théâtre de poche (Monaco: Editions du Rocher, 1955), p. 12, a также “Le Boeuf sur le toit ou The Nothing Doing Bar”, в том же сборнике, р. 16.
Ibid. Р. 17.
Цит. по: Erik Aschengreen, Jean Cocteau and the Dance, trans. Patricia McAndrew and Per Avsum (Copenhagen: Gyldendal, 1986), p. 106.
Интерес Кокто к непрерывным медленным движениям может также отражать влияние Эмиля Жака-Далькроза, чьей технике он начал обучаться у Поля Тевеназа еще в 1911 г. Художник и танцовщик, Тевеназ помогал Кокто набрасывать хореографию для «Давида». Далькрозовская идея полиритмии, в особенности образуемой несоответствием между движениями отдельного танцовщика и движениями толпы, по-видимому, также повлияла на сложившуюся у Кокто концепцию сценического движения. О Тевеназе см.: Aschengreen, Jean Cocteau, p. 64; Steegmuller, Cocteau, pp. 94, 103, 114. Об идее Далькроза о «коллективном движении» см.: “Rhythm mid Gesture in Music Drama and Criticism”, Emile Jacques-Dalcroze, Rhythm, Music and Education, trans. Harold F. Rubinstein, rev. ed. (London: The Dalcroze Society, 1980), pp. 124–130. Возможно, что эссе, датированное 1910–1916 гг., было опубликовано в одной из французских газет, прежде чем (уже после войны) была издана книга.
Aschengreen, Jean Cocteau, p. 79.
Steegmuller, Cocteau, p. 210. Нобл Сисл цит. по: Chris Goddard, Jazz Away From Home (London: Paddington Press, 1979), p. 15.
Le Coq et I’Harlequin, pp. 53, 54.
Le Rappel à l’ordre, p. 141. Впервые статья была опубликована 4 августа 1919 г.
Cocteau, Le Coq et I’Harlequin, p. 63. По поводу джаза, «дикости» и «мужской силы» см.: Carte Blanche, p. 151.
Silver, “Jean Cocteau and the Image d’Epinal”, p. 93.
Ibid. P. 96.
Ibid. P. 99.
Письмо мадам Кокто (к Валентине Гросс Гюго) цит. в: Steegmuller, Cocteau, p. 240. О приеме по случаю «Пульчинеллы» см.: Hugo, Avant d’oublier, p. 67; о появлении Дягилева на «Спектакле-Буфф» в 1921 г. см.: Richard Buckle, Diaghilev (London: Weidenfeld and Nicolson, 1979), p. 382. Письмо Кокто Маре цит. в: Aschengreen, Jean Cocteau, p. 232 (note 57). Названия номеров, исполнявшихся в ходе симфонических интерлюдий, обычно публиковались в ежедневных театральных колонках «Таймс».
Жан Кокто, письмо Сергею Дягилеву от 24 октября 1922 г., Fonds Kochno, Piece 23, Библиотека Парижской Национальной Оперы.
По какой-то причине на программе «Филемона и Бавкиды» не стоит имя Орика. Его участие в этом проекте можно подтвердить письмом к Дягилеву 1923 г., где композитор предлагает свои решения по ряду музыкальных проблем, связанных с заказом. Жорж Орик, письмо Сергею Дягилеву, [1923], «Материалы о балете и рукописи из коллекции Сержа Лифаря», аукцион Сотбис (Лондон), 9 мая 1984 г., лот 142. «Парижские вечера» начались в театре де ла Сигаль 17 мая 1924 г., а последний их спектакль состоялся 30 июня. В репертуаре были «Салат» (Мийо/Брак), «Меркурий» (Сати/Пикассо), «Розы» (Анри Соге/Лорансен) и «Жига» (Бах/Гендель/Дерэн), все в хореографии Мясина, а также театральная пьеса Кокто «Ромео и Джульетта». «Антигона» Кокто была впервые показана в Театре Ателье 20 декабря 1922 г. Музыку написал Артур Онеггер, автором декораций был Пикассо, костюмов – Шанель.
Эрик Ашенгрин, который в конце 1970-х – начале 1980-х гг. опрашивал Орика и Бориса Кохно (обозначенного в программе как автор либретто к «Докучным»), отрицает участие Кокто в создании как этого балета, так и «Ланей». Тем не менее частично цитируемое в тексте письмо Кокто, написанное в октябре 1922 г., прямо указывает на то, что идея «Ланей», как и выбор сотрудников, исходили от него. Кроме его рекомендации, чтобы Дягилев «сделал [свой] заказ Пуленку или Лорансен», его вопрос: «Понравились ли вам “Лани”?» говорит о том, что наброски либретто уже почти точно существовали. В пользу этого свидетельствует и спорное утверждение Фрэнка Райза о том, что черновики Кокто (в собрании Франсиса Пуленка в Париже)«имеют поразительное сходство с окончательной формой» балета. Собственное исследование либретто «Ланей», однако, привело Ашенгрина к противоположному заключению: «Нет никаких указаний на то, что Жан Кокто должен был написать текст к “Ланям”». При этом ни Райз, ни Ашенгрин не ссылаются на упомянутое письмо 1922 г. Aschengreen, Jean Cocteau, рр. 117, 118, 232 (note 6); Ries, “Jean Cocteau”, pp. 149, 150.
Либретто «Голубого экспресса» полностью приводится (на франц. языке) в: Aschengreen, Jean Cocteau, Appendix V. Сцены I и II см.: Ibid. Р. 270.
Ibid. Р. 271.
Ibid. Р. 272.
H[oward] H[annay], “‘Zephyr and Flora’”, Observer, 15 November 1925, p. 11; “Russian Ballet at the Coliseum. ‘Les Fâcheux’”, Times, 4 June 1925, p. 10; “The Russian Ballet. ‘The Song of the Nightingale’”, Times, 19 July 1927, p. 12; “The Cat Wife in Her Transparent Frock. Dancing in the Highly Stylised Kitchen Decor: M. Serge Lifar and Mile. Nikitina in the New Ballet”, Sketch, 22 June 1927, p. 600.
Лидия Лопухова, балерина-звезда этого сезона, так описывала одну из трех картин балета: «Новая хореография, самого Графа! Балет называется “Вог”, наша картина идет около трех минут, в ней участвуют юноша, девушка, похожая на мальчика, и я, женщина из фешенебельного общества. Мы лежим на пляже в Лидо, молодой человек и мальчик “собираются”, и я должна состроить сердитое лицо и встать посередине, демонстрируя костюм, сделанный из зеркал (последний писк моды, не иначе). Я делаю все, что просят, но я не могу изображать зависть – это не в моей природе в подобных обстоятельствах. Мясин [sic!] не вмешивается; да это и не стоит того. Неплохая реклама для “Вог”, хотя, возможно, я слишком саркастична». Лидия Лопухова, письмо Джону Мейнарду Кейнсу от 5 мая 1924 г. Архив Джона Мейнарда Кейнса, Кингс Колледж (Кембридж). Описанная Лопуховой картина – «Купание в полночь», которая исполнялась, согласно программе, под «стихотворение Поля Морана». Программа так описывает эту сцену: «После бала пара танцовщиков идет купаться в ручье. Кавалер засыпает. Неожиданно приходит другой и танцует с девушкой. Спящий просыпается, приходит в ярость, но в конце концов присоединяется к их танцу». Одну из двух мужских ролей – роль Подростка – исполняла женщина. Лопухова отказалась играть в пьесе после первых репетиций. «Я пришла к заключению, – писала она Бомону, – что “джаз” – совсем не мой стиль». Лидия Лопухова, письмо графу Этьену де Бомону, 11 мая 1924 г., архив Кейнса.
Rolf de Maré, Les Ballets Suédois dans l’art contemporain (Paris: Editions du Trianon, 1931), p. 63. Премьера балета «Каток» состоялась 20 января 1922 г.
Robert Orledge, “Cole Porter’s Ballet Within the Quota”, Yale University Library Gazette, 50, No. 1 (July 1975), pp. 19–29. Премьера балета прошла 25 октября 1923 г.
Название Relâche не имеет устоявшегося перевода на русский язык. В Париже это слово обычно использовалось в афишах для указания на отсутствие или отмену спектакля. – Примеч. пер.
Цит. по: Mare, Ballets Suédois, pp. 75, 76. Премьера Relâche состоялась 4 декабря 1924 г.
Ibid. P. 77.
Ibid. P. 77–79.
Henrietta Malkiel, “Paris Modernists Rebel Against Outmoded Ballets”, Musical America, 25 July 1925, p. 3. О Жане Винере см.: Goddard, Jazz Away From Home, pp. 116–119.
О балетах Нижинской, созданных для Хореографического театра, см.: Nancy Baer, Bronislava Nijinska: A Dancer’s Legacy (San Francisco: The Fine Arts Museums of San Francisco, 1986), p. 75. Критик буэнос-айресской газеты «Ла Пренса» писал: «Балет “На морском побережье”, имеющий подзаголовок “Спортивный танец”, – современная постановка. Подчас тривиальная музыка Дариюса Мийо звучит хорошо, богата ритмически и довольно реалистично подсказывает сценическое действие, которое изображает ряд спортивных движений и игр, в которые играют купальщики на пляже: теннис, плавание, акробатику. Эта музыка для движения на открытом воздухе, полная аллюзий на парижские песни и танцы, свежа и энергична, и представляет собой конгениальное обрамление действия. Бронислава Нижинская, Людмила Шоллар, Летисия де ла Вега, Дора дель Гранде, Бланка Зирмайя и кордебалет воплотили это спортивное видение в жизнь». “Teatro у musica. Colon. Segundo espectaculo coreografico”, La Prensa, 22 September 1916, p. 14. Про «Впечатления от мюзик-холла» см.: Stephane Wolff, L’Opéra аи Palais Garnier (1875–1962), introd. Alain Gueulette (Paris: Slatkine, 1983), p. 288; Ivor Guest, Le Ballet de l’Opéra de Paris, trans. Paul Alexandre (Paris: Théâtre National de l’Орéra/Flammarion, n. d.), pp. 166, 167. «Туризм», «Джаз» и «Священные этюды» были впервые показаны 3 августа 1925 г. в театре Винтер Гарденс (Маргейт, Англия); «На морском побережье» – 21 сентября 1926 г.; «Впечатления от мюзик-холла» – 6 апреля 1927 г.
«Улица дребезжащих жестянок», в конце XIX в. квартал на Манхэттене, в районе Западной 28-й улицы, где были сосредоточены музыкальные магазины, нотные издательства и фирмы грамзаписи. Позднее выражение стало означать всю индустрию популярной музыки. – Примеч. пер.
Boris de Schloezer, “Les Ballets Russes. Erik Satie”, Nouvelle Revue Française, 1 August 1925, p. 248; Emile Vuillermoz, “Russian Ballet, 20 Years After”, Christian Science Monitor, 25 June 1927, p. 10.
Jean Brun-Berty, “22 Juin. – Théâtre des Champs-Elysées. Ballets russes (le Train bleu)”, La Danse, August-September 1914, n. p.
André Levinson, La Danse d’aujourd’hui: Etudes, Notes, Portraits (Paris: Duchartre et Van Buggenhoudt, 1919), p. 337.
Мясин Л. Моя жизнь в балете. С. 167. “Sitter Out”, Dancing Times, March 1923, pp. 600, 601; Lydia Sokolova, Dancing for Diaghilev, ed. Richard Buckle (London: John Murray, 1960), p. 198; T. S. Eliot, “Dramatis Personae”, The Criterion, 1, No. 3, p. 305. Программа шоу, открывшегося в Королевском оперном театре Ковент-Гарден в феврале 1923 г., и газетная вырезка из Кёртен (Curtain) хранятся в архиве Кейнса.
Мясин Л. Моя жизнь в балете. С. 172. Цитата из «Дансинг таймс» взята из колонки «Завсегдатай» (Sitter Out), Dancing Times, June 1925, p. 953. Ревю открылось в Лондонском павильоне 30 апреля 1915 г.
Цит. по: “Sitter Out”, Dancing Times, August 1925, p. 1139. Фотография «Крещендо» была опубликована в: Dancing Times, June 1925, p. 961.
Kenneth E. Silver, “Esprit de Corps: The Great War and French Art 1914–1925”, Diss. Yale 1981.
Цит. по: R.B.D., “Historical Review of Music in the Paris Opera Season”, Musical America, 26 February 1916, p. 38.
Melissa A. McQuillan, “Painters and the Ballet, 1917–1926: An Aspect of the Relationship Between Art and Theatre”, Diss. New York Univ. 1979, 1, pp. 149–151.
Контракт между Сергеем Дягилевым и Жаком Руше от 8 октября 1921 г., AJ13/1292, Archives Nationales (Paris).
Жак Руше, письмо Сергею Дягилеву от 26 апреля 1922, Fonds Kochno, Piece 86, Bibliotheque de l’Opera (Paris).
Levinson, La Danse d’aujourd’hui, pp. 27, 28.
H[oward] H[annay], “Les Fâcheux”, Observer, 26 May 1927, p. 15; “‘Zephyr and Flora,’ and ‘Betty in Mayfair’”, Sketch, 18 November 1925, p. 321; H[oward] H[annay], “‘Zephyr and Flora’”, Observer, 15 November 1925, p. 11.
Sokolova, Dancing for Diaghilev, p. 218.
Theâtre Serge de Diaghilew: Les Fâcheux (Paris: Editions des Quatre Chemins, 1924), p. 6.
Maré, Ballets Suédois, pp. 70–71; Levinson, La Danse d’aujourd’hui, p. 412; Аи Temps du “Boeuf sur le Toit”, introd. Georges Bernier (Paris: Artcurial, 1981), pp. 76, 77.
Andre Levinson, “13 Janvier. ‘Cydalise et le Chevre-pied’”, La Danse au Theatre: Esthétique et actualité meleés (Paris: Bloud et Gay, 1924), pp. 210, 212–214, 215.
Полный список постановок Опера, включая возобновления, см.: Wolff, L’Opéra au Palais Garnier.
Levinson, La Danse d’aujourd’hui, pp. 28, 36. Фотографии «Докучных» см. в книге Кокто об этом балете.
Jacques Rivière, “La Crise du concept de littérature”, Nouvelle Revue Française, 1 February 1924, p. 161.
Alan Storey, “A Ballet-goer’s Causerie (2)”, Ballet Today, July-August 1949, p. 8.
Joan Ross Acocella and Lynn Garafola, introd. Bronislava Nijinska, “On Movement and the School of Movement”, Ballet Review, 13, No. 4 (Winter 1986), p. 76. Другие сведения о годах, проведенных Нижинской в России, см.: Baer, Bronislava Nijinska, рр. 18–21; Lynn Garafola, “Bronislava Nijinska: A Legacy Recovered”, Women and Performance, 3, No. 2 (1987–1988), pp. 78–88.
Nijinska, “On Movement and the School of Movement”, p. 79. С 1911 по 1922 г., почти без перерывов, главным педагогом Русского балета был Энрико Чекетти. В этой должности он вел ежедневные уроки и тренировал ведущих танцовщиков труппы.
Bronislava Nijinska, “Reflections About the Production of Les Biches and Hamlet in Markova-Dolin Ballets”, trans. Lydia Lopokova, Dancing Times, February 1937, p. 617.
Arnold Haskell, “Aurora Truly Wedded: The Choreography of the Sleeping Princess”, in Gordon Anthony, The Sleeping Princess: Camera Studies (London: Routledge, 1940), p. 38. «Редактируя» балет для постановки, Дягилев добавил фрагменты музыки из «Щелкунчика» – «Арабский танец», который стал сказкой о Шехеразаде, «Китайский танец», который стал танцем фарфоровых принцесс, танец Феи Драже, который заменил вариацию феи Сирени в прологе. Он выбросил коду из свадебного па-де-де, использовав ее музыку для «Трех Иванов», и вставил два музыкальных фрагмента, которые были выпущены из общепринятой версии партитуры – соло Авроры в сцене видения и интерлюдию между панорамной сценой и пробуждением Авроры, которую он поместил между «Заклятьем» и сценой охоты. Среди дивертисментов третьего акта, которые он исключил, были Золушка и принц Фортюне, Мальчик-с-пальчик, его братья и Людоед. Дягилев также изменил время действия балета, сдвинув его вперед – из времен Генриха IV – Людовика XIV к эпохе царствования Людовика XIV – Людовика XV. Об этих изменениях см.: Buckle, Diaghilev, рр. 388, 389; Roland John Wiley, Tchaikovsky’s Ballets: Swan Lake, Sleeping Beauty, Nutcracker (Oxford: Oxford Univ. Press, 1985), pp. 165–188; Cyril W. Beaumont, Bookseller at the Ballet, Memoirs 1891 to 1929, Incorporating the Diaghilev Ballet in London (London: C. W. Beaumont, 1975), pp. 173–274; Vera Krasovskaya, “Marius Petipa and The Sleeping Beauty’”, trans. Cynthia Read, Dance Perspectives, 49 (Spring 1972).
Cyril W. Beaumont, The Sleeping Princess, Part II (London: C. W. Beaumont, [1921]), p. 15.
Bronislava Nijinska, “Creation of ‘Les Noces’”, trans. Jean M. Serafetinides and Irina Nijinska, Dance Magazine, December 1974, p. 59. Воспоминания Гончаровой о создании балета существенно отличаются от рассказа Нижинской. По ее версии, ей полностью принадлежит окончательный вариант оформления балета. Поскольку ни одна из ее работ до или после «Свадебки» не обнаруживает ни малейшего сходства со «Свадебкой», а также принимая во внимание близкую дружбу Нижинской с Экстер, я отдала предпочтение версии событий, изложенной хореографом. Версию Гончаровой см.: Nathalie Gontcharova, “The Creation of ‘Les Noces’”, Ballet, April 1948, pp. 23–26; Natalia Goncharova, “The Metamorphoses of the Ballet ‘Les Noces’”, Leonardo, 12, No. 2 (Spring 1979), pp. 137–143.
Ibid. P. 59. Намерение Дягилева продолжать работу над балетом вполне могло быть реакцией на успех Камерного театра Александра Таирова, который выступал в Париже в марте 1923 г. Хотя в ведущей прессе его спектакли получили «разнос», показанные театром «Жирофле-Жирофля», «Федра», «Принцесса Брамбилла» и «Саломея» пришлись по вкусу авангардистам. Согласно дочери хореографа Ирине, Нижинская была на премьере вместе с Дягилевым, который был весьма обижен тем энтузиазмом, с которым Кокто и другие художники встретили модернизм Таирова – куда более радикальный, чем модернизм самого Дягилева. Что бы помогло Дягилеву вновь заявить о своем модернизме, если не постановка «Свадебки»? Типичные обзоры спектаклей Камерного театра см.: Andre Messager, “Théâtre des Champs-Elysees: Girofle-Girofla, par la troupe Kamerny, de Moscou”, Figaro, 8 March 1923, p. 3; Maxime Girard, “Théâtre des Champs-Elysées: Phèdre (représentations du théâtre Kamerny, de Moscou)”, Figaro, 12 March 1923, p. 4; “La Danse à travers le monde”, La Danse, April 1923, n. p. Автором оформления «Саломеи» (1917) была Александра Экстер, «Федры» (1922) – Александр Веснин, «Принцессы Брамбиллы» и «Жирофле-Жирофля» (1922) – Георгий Якулов. Последний также оформил «Стальной скок» для Русского балета в 1927 г. О сценическом новаторстве этих постановок см.: John Е. Bowlt, “Constructivism and Russian Stage Design”, Performing Arts Journal, 1, No. 3 (Winter 1977), pp. 62–84.
Nijinska, “Creation of ‘Les Noces’”, p. 61; Goncharova, “The Metamorphoses of the Ballet ‘Les Noces’”, p. 142. О группах «Синей блузы» см.: Frantisek Deak, “Blue Blouse”, Drama Review, 17, No. 1 (March 1973), pp. 35–46; о Великодушном рогоносце см.: Nick Worrall, “Meyerhold’s Production of The Magnificent Cuckold”, Drama Review, 17, No. 1 (March 1973), pp. 14–34.
Andre Levinson, “Où sont les ‘Ballets russes’”, [Comoedia], 18 June 1923, в собрании заметок о «Свадебке» в библиотеке Парижской оперы.
Фото пирамиды, которой завершалась одна из ораторий «Синей блузы», можно увидеть в: Deak, “Blue Blouse”, р. 35; описание мейерхольдовского «построения пирамиды» и фотографию сложных конфигураций, использованных в Roar China, см.: Mel Gordon, “Meyerhold’s Biomechanics”, Drama Review, 18, No. 3 (September 1974), pp. 83, 84. Тетрадь с хореографическими заметками и диаграммы, на которые я ссылаюсь, были выставлены в рамках экспозиции «Бронислава Нижинская: Наследие танцовщицы» в музее Купер-Хьюитт (18 марта – 6 июля 1986 г.) и в Калифорнийском дворце Почетного легиона (13 сентября 1986 – 4 января 1987).
Nijinska, “Creation of ‘Les Noces’”, p. 59.
Nijinska, “Reflections”, pp. 617, 618.
Edwin Denby, “Revival of Diaghilev’s Noces”, in “The Criticism of Edwin Denby”, Dance Index, January 1946, p. 42.
Nijinska, “Creation of ‘Les Noces’”, p. 59.
“Francis Poulenc on His Ballets”, Ballet, September 1946, p. 58.
Дягилев выразился так в письме к Борису Кохно, написанном в конце 1923 г. Цит. по: Boris Kochno, Diaghilev and the Ballets Russes, trans. Adrienne Foulke (New York: Harper and Row, 1970), p. 206. Премьера «Ланей» состоялась в Монте-Карло 6 января 1924 г.
Кокто Ж. Петух и Арлекин / Сост., предисл. и избр. примеч. М. Д. Яснова. СПб.: ООО «Издательство “Кристалл”», 2000. С. 661. Эссе Кокто о Барбетте воспроизведено в: Le Numero Barbette (Paris: Jacques Damase, 1980), pp. 5–41.
Жан Кокто, письмо Сергею Дягилеву от 29 февраля 1924 г., Fonds Kochno.
Различные версии происшедшего приведены в следующих источниках: Ibid. Р. 219; Ries, “Jean Cocteau”, pp. 164–166; Aschengreen, Jean Cocteau, pp. 129–131.
Ibid. P. 130, 131; Ries, “Jean Cocteau”, p. 166.
“The Russian Ballet. ‘La Pastorale’”, Times, 29 June 1926, p. 14. Цитата из Левинсона взята в: La Danse d’aujourd’hui, p. 54.
Ibid. P. 59.
Неидентифицированный отзыв, тетрадь Дягилева, Театральный музей (Лондон), V, с. 9; Valerian Svetlov, “The Diaghileff Ballet in Paris”, Part II, Dancing Times, January 1930, p. 463; Levinson, La Danse d’aujourd’hui, pp. 62, 56.
Nijinska, “Reflections”, p. 617; “The Russian Ballet. ‘La Pastorale’”, Times, 29 June 1926, p. 14; Svetlov, “The Diaghileff Ballet in Paris”, Part 11, p. 460; Levinson, La Danse d’aujourd’hui, p. 67. Дягилев так никогда и не поставил балет Карпентера. Его премьера под названием «Небоскребы» прошла в Метрополитен-опере 19 февраля 1926 г. Обсуждение балета см.: Verna Arvey, Choreographic Music: Music for the Dance (New York: Dutton, 1941), pp. 289–293.
“The Russian Ballet ‘The Gods Go A-Begging’”, Times, 17 July 1928, p. 14. Хореографию балета создал Баланчин, либретто – Кохно, музыка Генделя была в новой оркестровке сэра Томаса Бичема.
Григорьев С. Русский балет Дягилева. С. 171. H[oward] H[annay], “Coliseum. ‘Barabau’”. The Observer, 13 December 1925, p. 11; Levinson, La Danse d’aujourd’hui, p. 66; Valerian Svetlov, “The Diaghileff Ballet in Paris”. Part III, Dancing Times, February 1930, p. 569; The Queen, 15 December 1926, цит. в: Nesta Macdonald, Diaghilev Observed by Critics in England and the United States 1911–1929 (New York: Dance Horizons, 1975), p. 343.
Beaumont, Bookseller at the Ballet, pp. 351, 352.
Ibid. P. 369.
Фотография выхода Лифаря воспроизведена в: Bernard Taper, Balanchine: A Biography (New York: Times Books, 1984), p. 88; W. A. Propert, The Russian Ballet, 1921–1929, preface Jacques-Emile Blanche (London: Bodley Head, 1931), илл. 27. Илл. 26 в том же томе дает другой вид ансамбля, который редко приводится в литературе.
Taper, Balanchine, p. 99.
Henry Prunieres, “Ballets russes”, Revue Musicale, 1 July 1928, p. 287.
Boris de Schloezer, “A Classic Art”, trans. Ezra Pound, Dial, July 1929, p. 608.
Taper, Balanchine, p. 99; Levinson, La Danse d’aujourd’hui, p. 88; Les Ballets Russes de Serge de Diaghilev, 1909–1929, каталог выставки, организованной в Страсбурге в Old Customs House, 15 мая – 15 сентября 1969 г., с. 237; W. A. Propert, The Russian Ballet, plates XXXI–XXXIII; “The Russian Ballet. M. Diaghilev’s Season”, Times, 26 June 1928, p. 14.
Beaumont, Bookseller at the Ballet, p. 380.
The Journals of André Gide, trans. Justin O’Brien (New York: Knopf, 1948), II, pp. 321, 322.
См. выше, гл. 1.
См., например: Thomas С. Owen, Capitalism and Politics in Russia: A Social History of the Moscow Merchants, 1855–1905 (Cambridge Univ. Press, 1981); Valentine T. Bill, The Forgotten Class: The Russian Bourgeoisie From the Earliest Beginnings to 1900 (New York: Praeger, 1959); William L. Blackwell, The Industrialization of Russia: An Historical Perspective (New York: Thomas Y. Crowell, 1970); The Beginnings of Russian Industrialization, 1800–1860 (Princeton: Princeton Univ. Press, 1968); Beverly Whitney Kean, All the Empty Palaces: The Merchant Patrons of Modern Art in Pre-Revolutionary Russia (New York: Universe Books, 1983); Jo Ann Ruckman, “The Business Elite of Moscow: A Social Inquiry”, Diss. Northern Illinois 1975. В дополнение к этим исследованиям появились: Stuart Ralph Grover, “Savva Mamontov and the Mamontov Circle: 1870–1905, Art Patronage and the Rise of Nationalism in Russian Art”, Diss. Wisconsin 1971; John E. Bowlt, The Silver Age: Russian Art of the Early Twentieth Century and the “World of Art” Group (Newtonville, Mass.: Oriental Research Partners, 1979); Bowlt “Nikolai Ryabushinsky: Playboy of the Eastern World”, Apollo, December 1973, pp. 486–493.
Цит. по: Owen, Capitalism and Politics, p. 147.
Есть разные версии того, как они встретились. Согласно Арнольду Хаскеллу, это произошло во время одного из «частых визитов» Дягилева в Москву. Согласно Сержу Лифарю, знаменитое высказывание Мамонтова по поводу встречи с Дягилевым («На какой почве вырос этот гриб?») относится к 1896 г., хотя Лифарь не уточняет, где оно было произнесено. Согласно Стюарту Гроверу, который основывается в исследовании на воспоминаниях Константина Коровина «Шаляпин. Встречи и совместная жизнь», эта встреча произошла в ресторане, где Дягилев в присутствии Коровина попросил Мамонтова помочь с поручительством для «Мира искусства» – эта деталь предполагает, что встреча состоялась в 1898 г. Я придерживалась мнения Беверли Уитни Кин. Arnold Haskell, Diaghileff: His Artistic and Private Life, в сотрудничестве с Вальтером Нувелем, Лондон: Gollancz, 1935, р. 53; Лифарь С. Дягилев и с Дягилевым. М.: Вагриус, 2005. С. 13; Grover, “Savva Mamontov”, p. 283; Kean, Empty Palaces, p. 38.
Haskell, Diaghileff, p. 55.
См., например: Haskell, Diaghileff, гл. 2; Лифарь С. Дягилев и с Дягилевым. С. 53–60 Prince Peter Lieven, The Birth of Ballets-Russes, trans. L. Zarine (London: Allen and Unwin, 1936), гл. 2; Alexandre Benois, Reminiscences of the Russian Ballet, trans. Mary Britnieva (London: Putnam, 1941), гл. 3–5.
Haskell, Diaghileff, р. 51. Это не было единственным событием, охладившим музыкальные амбиции Дягилева. Немногим раньше Римский-Корсаков отверг его сочинения как «абсурдные». В. В. Ястребцев, личный секретарь Римского-Корсакова, поведал об этом в дневниковой записи от 22 сентября 1894 г.: «После этого Николай Андреевич рассказал о любопытном визите, который ему нанес некий молодой человек по фамилии Дягилев, который воображает себя великим композитором, при этом хотел бы изучать теорию под руководством Николая Андреевича. Его сочинения оказались абсурдными, и Николай Андреевич прямо сказал ему об этом, после чего тот оскорбился и, уходя, высокомерно заявил, что тем не менее верит в себя и свою одаренность; что он никогда не забудет этого дня и что однажды Римскому-Корсакову станет стыдно за его мнение, и он будет сожалеть о своих безрассудных словах, но будет уже поздно…» Ястребцев В. В. Н. А. Римский-Корсаков. Воспоминания 1886–1897. T. 1. Л.: Музгиз, 1959. С. 207.
Owen, Capitalism and Politics, p. 151.
Отзыв Станиславского о неудаче первого вечера резюмирован в: Grover, “Savva Mamontov”, рр. 97, 98; Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве. М.: Искусство, 1980. С. 85, 86.
Grover, “Savva Mamontov”, pp. 162, 163.
Более подробное описание двух этапов существования труппы см.: Там же. С. 158–217 и 293–342. О впечатлении, произведенном труппой Мамонтова на кружок Дягилева, см.: Бенуа, Reminiscences, р. 197. Первый визит труппы в Петербург состоялся в 1898 г.
David Magarshack, Stanislavsky: A Life, foreword Irving Wardle (London: Faber and Faber, 1986), p. 140.
Kean, Empty Palaces, pp. 105, 106.
Magarshack, Stanislavsky, p. 232; Bill, Forgotten Class, p. 29.
Серов цит. по: Grover, “Savva Mamontov”, pp. 90, 209; Васнецов – по: Janet Elspeth Kennedy, “The ‘Mir Iskusstva’ Group and Russian Art 1898–1912”, Diss. Columbia 1976, p. 136. Воспоминания о Врубеле, записанные со слов Александры Мамонтовой советскими исследователями, приведены в: Grover, “Savva Mamontov”, p. 257.
Цит. по: Magarshack, Stanislavsky, p. 97.
Ibid. P. 75.
Шаляпин Ф. И. Страницы из моей жизни: Повести / Сост., вступ. статья, коммент. Е. Дмитриевской, В. Дмитриевского. М.: Книжная палата, 1990. С. 125.
Там же. С. 128.
Цит. по: Лифарь С. Дягилев и с Дягилевым. С. 78, 79.
Benois, Reminiscences, рр. 214, 343.
Ibid. P. 203.
Цит. по: Лифарь С. Дягилев и с Дягилевым. С. 202, 203.
Benois, Reminiscences, рр. 282, 283.
Нижинская Б. Ф. Ранние воспоминания. Ч. 2. С. 13.
Benois, Reminiscences, p. 108.
Kennedy, “The ‘Mir Iskusstva’ Group”, pp. 38, 39.
Anton Rubinstein, Autobiography of Anton Rubinstein, 1829–1889, trans. Aline Delando (Boston: Little, Brown, 1903), pp. 90–93.
Benois, Reminiscences, p. 203.
Bill, Forgotten Class, p. 129.
С. Дягилев и русское искусство. Статьи, открытые письма, интервью. Переписка. Современники о Дягилеве: В 2 т. М.: Изобразительное искусство, 1982. С. 189.
Там же. С. 182.
Цит. по: Magarshack, Stanislavsky, p. 71.
С. Дягилев, письмо Илье Остроухову от 13 апреля 1900 г., Отдел рукописей Третьяковской галереи г. Москвы; Д. Философов, «С.С. Боткин», Москва, 31 января 1910 г. Благодарю профессора Илью Зильберштейна из Москвы за эти и последующие ссылки на материалы из российских архивов.
Вальтер Нувель. Письмо Александру Бенуа от 30 июля /12 августа 1906 г., отдел рукописей Государственного Русского музея; Alexandre Benois, Reminiscences, trans. Moura Budberg (London: Chatto and Windus, 1964), II, p. 232n; Андрей Белый (описание Гиршмана) – цит. по: Kean, р. 64; Salon d’Automne: Exposition de l’Art Russe [exhibition catalogue] (Paris: Moreau Frères, 1906), p. 6; графиня Элизабет де Греффюль, черновик письма, 6 октября 1906 г., GA103–12, Gabriel Astruc Papers, Dance Collection, New York Public Library; Benois, Reminiscences, p. 195; Charles Spencer, Léon Bakst (London: Academy Editions, 1973), p. 18; Bowlt, Silver Age, pp. 97–99. Благодарю Джоан Акочелла за разрешение посмотреть принадлежащую ей фотокопию каталога выставки 1906 г.
К сожалению, список покровителей постановки «Бориса Годунова» (GA123–7, Astruc Papers) ограничивается только фамилиями, поэтому невозможно определить, кто именно из Морозовых принимал в нем участие. Средства на выставку 1906 г. давали по меньшей мере четыре Морозова. Сведения о займе 1909 г. предоставил профессор Зильберштейн. О помощи в 1910 г. Аргутинского и Ратькова-Рожнова и последующих их взаимоотношениях с Дягилевым см.: Lieven, Birth, рр. 116, 248.
Kennedy, “The ‘Mir Iskusstva’ Group”, p. 182.
Alexandre Benois, The Russian School of Painting (St. Petersburg: L. Golike and A. Wilborg, 1904). Среди прочих представленных коллекций – коллекция Третьяковской галереи, музея Александра III, князя П. Голицына и Э. Шварца. Я в долгу перед Асей Ефимовой-Куниной из Москвы, которая позволила мне ознакомиться с этим бесценным томом.
Зилоти Александр. Воспоминания и письма. Л., 1963. С. 419; Haskell, Diaghileff p. 150; Yastrebtsev, Reminiscences of Rimsky-Korsakov, p. 473; Peterburgskaia Gazeta, 22 June 1908; Nikolai van Gilse van der Pals, N. A. Rimsky-Korssakow (Leipzig, 1914); N. A. Rimsky-Korssakow. Opernschaffen nebst Skizze über Leben und Wirken (Leipzig, 1929). Список комитета покровителей 1907 г. приведен в: A. V. Lunacharsky, V mire muzyki, ed. G. B. Bernandt and I. S. Sats (Moscow, 1958), p. 507. Кроме Гильзе ван дер Пальса, среди его членов были: Алексей Хитрово, Александр Танеев, Педро Гальярд, Андре Мессаже, Л. Бруссан, Камиль Шевийар, Артур Никиш, Феликс Блуменфельд, Николай Римский-Корсаков, Александр Глазунов, Сергей Рахманинов, Аристид Бриан, графиня де Греффюль и некий г-н Рейнеке. Благодарю профессора Зильберштейна за ссылки на Зилоти и «Петербургскую газету».
Зилоти. Воспоминания и письма. С. 419; Петербургская газета. 1908. 22 июня.
Gabriel Astruc, “Rapport Confidentiel sur la Saison Russe”, 19 November 1909, GA25–17, Astruc Papers; Haskell, Diaghileff, p. 182; Benois, Reminiscences, p. 279. Личность «Д» остается тайной.
О Морозове см.: Bill, Forgotten Class, рр. 28, 29. О том, как Мамонтов «воспитывал» Шаляпина, см.: Grover, “Savva Mamontov”, рр. 297–305.
Benois, Reminiscences, p. 283.
Станиславский и Мамонтов цит. по: Kennedy, “The ‘Mir Iskusstva’ Group”, p. 138. Об «Орфее» см.: Grover, “Savva Mamontov”, p. 318.
Lionel Kochan, Russia in Revolution, 1890–1918 (London: Granada, 1970), p. 67.
Kennedy, “The ‘Mir Iskusstva’ Group”, pp. 38, 214, 244; “Autobiographie de Serge de Diaghilev”, trans. Boris Kochno, Fonds Kochno, Piece 122, Bibliothèque de l’Opera (Paris); Haskell, Diaghileff, pp. 10, 36; Benois, Reminiscences, p. 117; V. I. Gurko, Features and Figures of the Past (Stanford: Stanford Univ. Press, 1939), pp. 608, 609.
Benois, Reminiscences, p. 164.
Цит. по: Richard Buckle, Homage to the Designers of Diaghilev (1909–1929). An Exhibition Made on Behalf of the Theatre Museum, London (Palazzo Grassi-Venice, 15 June – 14 September 1975), n. p.
Anatole Chujoy, “Russian Balletomania”, Dance Index, March 1948, pp. 49, 50.
Шикарным изданием (франц.). – Примеч. пер.
Benois, Reminiscences, p. 208. Кроме книги Бенуа эта информация содержится в: Lifar, Serge Diaghilev, рр. 92–94.
Benois, Reminiscences, p. 209.
Список различных назначений Бакста приведен в: Charles Steven Mayer, “The Theatrical Designs of Leon Bakst”, Diss. Columbia 1977, pp. 286–290.
Benois, Reminiscences, pp. 211, 212.
Idid. Pp. 213–224.
Idid. Pp. 214–218; Lifar, Serge Diaghilev, рр. 94–98; Bowlt, Silver Age, p. 160.
Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке современников. T. 1. Л., 1971. С. 675; Bowlt, Silver Age, p. 160; Alex de Jonge, The Life and limes of Grigorii Rasputin (New York: Coward, McCann, and Geoghegan, 1982), pp. 158, 159; Alexander Scriabin, Pis’ma (Moscow, 1965), pp. 471, 472; С. Дягилев, телеграмма Габриелю Астрюку от 22 апреля 1907 г.
“Around the World With the Russian Ballet: A Previously Unpublished Interview with Serge Diaghilev”, trans, and ed. Parmenia Migel Ekstrom, Dance Magazine, September 1979, p. 48. Значительная часть этого интервью, правда не содержащая приведенного фрагмента, была процитирована в: “About the Russian Ballet”, Graphic, 20 July 1929, p. 133.
“Notes autobiographiques de Serge de Diaghilev”, trans. and introd. Boris Kochno, Fonds Kochno, Pièce 122, p. 9.
Ibid. P. 14.
Haskell, Diaghileff, p. 93; “Notes autobiographiques de Serge de Diaghilev”, p. 10; Alexander, Grand Duke of Russia, Once a Grand Duke (New York: Farrar and Rinehart, 1932), p. 137.
Цит. по: Лифарь С. Дягилев и с Дягилевым. С. 182.
Там же. С. 181.
Дягилев С. П. Программа директора театров // С. Дягилев и русское искусство. Статьи, открытые письма, интервью. Переписка. Современники о Дягилеве: В 2 т. М.: Изобразительное искусство, 1982. Т. 1. С. 194–197.
Дягилев С. П. Докладная записка [об образовании ведомства художественных учреждений и о постановке художественного дела в России] // С. Дягилев и русское искусство. T. 1. С. 199.
О Теляковском см.: Haskell, Diaghileff, р. 119; о Фредериксе см.: Gurko, Vcatures and Figures, p. 649. Намеки на то, что Теляковский был «приемным племянником» Фредерикса, содержатся в некоторых архивных записях: Folder 8, Box 8 of the Joseph Paget-Fredericks Collection, University of California, Berkeley. Паже-Фредерикс был внучатым племянником барона Фредерикса и, как утверждают, получил министерские документы, вывезенные из России леди Мюриель Паже, которая организовывала общественные работы для безработных после революции 1917 г. Подлинные документы, на которых основывались сохранившиеся записи Паже-Фредерикса, исчезли после его смерти в 1963 г.
“Notes autobiographiques de Serge de Diaghilev”, p. 15; Lieven, Birth, p. 120; M. D. Calvocoressi, Musicians Gallery: Music and Ballet in Paris and London (London: Faber and Faber, 1933), p. 191; “Saison russe (mai-juin 1909)”, GA26–6, Astruc Papers; H.S.H. Princess Romanovsky-Krassinsky, Dancing in Petersburg: The Memoirs of Kschessinska, trans. Arnold Haskell (1961; rpt. New York: Da Capo, 1977), p. 111. Курс франка в то время составлял 2,6 франка к рублю и 25,2 франка к фунту стерлингов. William Tate, Tate’s Modern Cambist, 25th ed. (London: Effingham, Wilson, 1912), p. 108.
Nikolay Andreyevich Rimsky-Korsakov, My Musical Life, trans. Judah A. Joffe, ed. Carl van Vechten (New York: Alfred A. Knopf, 1942), p. 436.
“Notes autobiographiques de Serge de Diaghilev”, p. 11.
“Around the World with the Russian Ballet”, p. 48; Benois, Reminiscences, pp. 280, 281; Alexander, Once a Grand Duke, pp. 159, 160.
Olga Crisp, “The Russian liberals and the 1906 Anglo-French loan to Russia”, The Slavonic and East European Review, 39 (1960–1961), pp. 497–501; René Girault, “Sur Quelques Aspects financiers de l’alliance franco-russe”, Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, 8 (1961), p. 76.
Бенуа A. Воспоминания. T. V. C. 453. О роли посольства в формировании публики Дягилева см. гл. 10.
Габриель Астрюк, письмо Сергею Дягилеву от 22 апреля 1909 г., Astruc Papers.
Pierre Michaut, “Souvenir de Serge de Diaghilew”, L’Opinion, 1 September 1934; “Bénac, André”, Dictionnaire de Biographie française, 1951 ed.; The Memoirs of Count Witte, trans, and ed. Abraham Yarmolinsky (London: Heinemann, 1921), pp. 293, 294; Gurko, Features and Figures, p. 618; Lieven, Birth, p. 116; Gabriel Astruc, “Rapport Confidentiel sur la Saison Russe”, 19 November 1909, GA25–17, Astruc Papers. О Камондо и Дойч де ла Мерте см. в гл. 10.
Пьер Гези, письмо Мисе Серт от 17 июня 1909 г., Stravinsky-Diaghilev Foundation (New York); Lieven, Birth, p. 116.
Keith Money, Anna Pavlova: Her Life and Art (New York: Knopf, 1982), pp. 75–84.
Joseph Paget-Fredericks, “Russia’s Last First Minister and Russian Arts, 1896–1917”, TS, n. p.; Resume of documentation for “Russia’s Last First Minister and Russian Arts, 1896–1917” and “The Unforgettable Anna Pavlova”, Paget-Fredericks Papers. Члены семейства Фредериксов были известны как «древесные бароны Балтики».
Paget-Fredericks, “Pavlova Dances: Impressions and Drawings”, TS, pp. 5–6, 15–17b, 22, Paget-Fredericks Papers; Lifar, Serge Diaghilev, p. 98; Haskell, Diaghileff, pp. 110–114, 182; Benois, Reminiscences, pp. 205–207, 279–280; Волконский C. M. Мои воспоминания: В 2 т. М.: Искусство, 1992. Т. 26: Родина. С. 142–145.
Alexander, Once a Grand Duke, pp. 146–148; Gurko, pp. 408, 667; Haskell, Diaghileff, p. 125; граф Иван Толстой, письмо Сергею Дягилеву от 8 августа 1906 г., архив Академии художеств. Благодарю профессора Зильберштейна за ссылку на Толстого.
Paget-Fredericks, “Pavlova Dances”, p. 21.
“Courrier des Theatres”, Figaro, 11 June 1909, p. 6; 15 June 1909, p. 6; 19 June 1909, p. 4.
Paget-Fredericks, “Pavlova Dances”, p. 22.
Утверждение об этом, опубликованное в New York Times, исходило от князя Петра Ливена, чьи воспоминания часто цитируются на страницах этой книги. В то время он находился в США, чтобы «представлять российское правительство в финансовых вопросах, связанных с войной и военными запасами». “Pavlova May Gain an Ally. Hopes for Cooperation of Russian Imperial Opera House”, New York Times, 1 November 1915, p. 11, col. 3. О Рабинове см.: Money, p. 112.
В оригинале автор использует слово consort – т. е. муж королевы, но не король. – Примеч. пер.
Слонимский Ю. С. Фокин и его время // Фокин М. Против течения… С. 39. В обход Теляковского Дягилев обратился к барону Фредериксу за разрешением организовать на императорской сцене сезон в парижском стиле. Слонимский не указывает дату этого предложения, которое было встречено отказом, но можно предполагать, что оно поступило зимой 1911/12 г., когда Дягилев в действительности организовал сезон в Петербурге в театре «Народный дом». Начало сезона было намечено на февраль 1912 г., но «Народный дом» сгорел дотла, и сезон был отменен. На следующий год в Мариинском театре состоялся специальный «Месяц Фокина» К этому времени Дягилев уже расстался со своим прежним хореографом. О трудностях Дандре с законом можно прочитать в: Lifar, Serge Diaghilev, p. 136; Paget-Fredericks, “Pavlova Dances”, p. 20.
Собранная по случаю (франц.). – Примеч. пер.
В отечественном балетоведении принято указывать как «сезон русского балета». – Примеч. пер.
Город света (т. е. Париж) (франц.). – Примеч. пер.
Gabriel Astruc: A Register of His Papers in the Dance Collection of the New York Public Library: Biographical Note; “Papiers Gabriel Astruc” [Guide to Astruc Collection], Archives Nationales (Paris); Gabriel Astruc, Le Pavillon des fantômes (Paris: Grasset, 1929). “Astruc Papers” refers to the Astruc holdings in the Dance Collection, New York Public Library.
Контракт между Сергеем Дягилевым, Габриелем Астрюком и Раулем Гинцбургом, 7 июля 1909 г., GA28–10; контракт между Сергеем Дягилевым и Габриелем Астрюком, 29 июня 1909 г., GA27–5; Габриель Астрюк, “Rapport Confidentiel sur la Saison Russe” барону Фредериксу, министру императорского двора [19 ноября 1909 г. ], GA25–17, Astruc Papers. Для первой постановки «Ивана Грозного» в Монте-Карло 2 марта 1911 г. Гинцбург сочинил как либретто, так и музыку. (Шаляпин исполнил заглавную партию, артисты Русского балета исполняли «Татарскую пляску».) Я благодарю Франсиса Россе, бывшего архивиста Société des Bains de Mer (Общества морского побережья) в Монте-Карло за подтверждение того, что декорации и костюмы были теми же самыми, что были приобретены у Дягилева в ходе сделки 1909 г., и за предоставление копии программы 1911 г.
Габриель Астрюк, письмо Матильде Кшесинской от 2 августа 1909 г., GA13–10, Astruc Papers.
Габриель Астрюк, письмо Эмилю Эноку от 14 декабря 1909 г., GA15–12; Ф. де Куб, письмо Габриелю Астрюку от 17 ноября 1909 г., GA15–3; А. Мосолов, письмо Габриелю Астрюку от 17/30 ноября 1909 г., GA20–5; “Rapport Confidentiel sur la Saison Russe”, GA25–17, Astruc Papers. Черновики писем, написанных в октябре и ноябре для уведомления потенциальных кредиторов о возможной финансовой катастрофе 1909 г. в Шатле, см.: GA14, Astruc Papers.
Борис Шидловский, письма Габриелю Астрюку от 1 и 24 ноября 1909 г. GA23–12; 28 декабря 1909 г., GA23–14; 11 февраля 1910 г., GA38–8, Astruc Papers.
Николай Виленкин-Минский, письмо Габриелю Астрюку от 14 декабря 1909 г., GA21–4, Astruc Papers; господа Мессаже и Бруссан, письмо барону Гинцбургу от 2 июня 1910 г., AJ13/1292, Archives Nationales (Paris); документ о ликвидации за подписью Габриеля Астрюка от 14 февраля 1910 г., AJ13/1292, Archives Nationales; Сергей Дягилев, телеграмма Габриелю Астрюку от 7 февраля 1910 г., GA35–3, Astruc Papers.
Конфиденциальный отчет о расходах, GA28–1, Astruc Papers. Доходы за сезон 1910 г. указаны в: AJ13/1292, Archives Nationales. Смета на сезон приведена в «Черной тетради» Дягилева, с. 65, 66, в Dance Collection.
«Значительная финансовая поддержка» (франц.). – Примеч. пер.
«Черная тетрадь». С. 14; Жюль Мартен, письмо Габриелю Астрюку от 8 декабря 1909 г.; телеграмма, дата отсутствует, GA36–32, Astruc Papers. Описание Безобразова взято у Брониславы Нижинской: Ранние воспоминания. Ч. 2. С. 206.
Черновые контракты с оперной труппой Томаса Бичема от 3 августа 1910 г., GA40–1; Метрополитен-опера, от 28 июля 1910 г., GA40–7; и Театром Колон в декабре 1910 г., GA40–13, Astruc Papers. См. в каталогах GA34–GA36 переписку и прочий материал, относящийся к этим переговорам.
«Сформировалась отличная труппа» (франц.). – Примеч. пер.
Нижинская Б. Ранние воспоминания. Ч. 2. С. 76, 77; Клод Дебюсси, письмо Сергею Дягилеву от 26 октября 1910 г., Jean Cocteau Papers, George Arents Research Library, Syracuse University; черновой контракт между Сергеем Дягилевым и Рейнальдо Ганом от 9 декабря 1910 г., GA39–4; Сергей Дягилев, телеграмма Габриелю Астрюку 30 декабря 1910 г., GA36–7, Astruc Papers.
Direzione Generale, Teatro alla Scala, письмо Габриелю Астрюку 14 июля 1910 г., GA37–2, Astruc Papers.
Макс Рабинов, еврей, родившийся в России, занялся продюсированием после того, как заработал свой первый миллион в музыкальном бизнесе в Чикаго. Хотя он не привозил Павлову в Соединенные Штаты, но выступил спонсором ее самых успешных гастрольных туров. В 1915–1916 гг. он организовал совместные гастроли Бостон Гранд-опера и Русского балета Павловой, которые вызвали восторг зрителей по всей стране. В конце 1930-х он был среди основателей New York’s City Center. Max Rabinoff Papers, Manuscript Division, Columbia University. Манхэттен-опера-хаус Оскара Хаммерштайна, который, как считалось, во многом превосходил Метрополитен, также показывал высокое искусство. Труппа Павловой несколько раз выступала в этом театре, а в 1917 г. именно там Русский балет начал свои вторые американские гастроли. В 1910 г. шла речь о том, что Хаммерштайн хотел привлечь труппу Дягилева на свою сторону с той целью, чтобы затмить Метрополитен. Сергей Дягилев, телеграмма Габриелю Астрюку от 24 января 1911 г., GA36–8, Astruc Papers.
Sir Thomas Beecham, A Mingled Chime: An Autobiography (New York: Putnam, 1943), p. 174.
Ibid. P. 295.
“The Russian Imperial Ballet Which Enraptured Our Royalties Last Week”. Diaghilev Scrapbook, I, p. 95, Theatre Museum (London).
Список доходов и задолженностей – 1913, GA96–1, Astruc Papers.
“Benois’ Commentaries”. Part VI, trans. Roland John Wiley, Dancing Times, March 1981, p. 390.
“Nijinski”. El Día, 13 сентября 1913 г., с. 8.
Beecham, Mingled Chime, p. 185; “Extrait du Contrat Diaghilew-Beecham”, GA82–9, Astruc Papers.
Beecham, Mingled Chime, p. 193.
Astruc, Le Pavilion des fantômes, p. 258; контракт между Сергеем Дягилевым и Габриелем Астрюком от 19 июня 1913 г., GA94–1, Astruc Papers.
Контракт между Сергеем Дягилевым / бароном Дмитрием Гинцбургом и сэром Джозефом Бичемом от 13 марта 1914 г., Fonds Kochno. Piece 129, Bibliothèque de l’Opera (Paris).
Станцованная опера (франц.). – Примеч. пер.
Григорьев С. Л. Балет Дягилева, 1909–1929 / Предисл. В. В. Чистяковой; пер. с англ. Н. А. Чистяковой М.: APT СТД РФ, 1993. С. 88.
Beecham, Mingled Chime, рр. 249, 268, 285, 286, 292; Дональд Бэйлисс, письмо Жаку Руше от 23 июня 1917 г., AJ13/1205, Archives Nationales; Eugene Goossens, Overture and Beginners: A Musical Autobiography (London: Methuen, 1951), chaps. 22, 25, 26. Гуссенс, будущий дирижер Дягилева, в то время работал на оперную труппу Бичема.
Michael de Cossart, The Food of Love: Princesse Edmond de Polignac (1865–1943) and Her Salon (London: Hamish Hamilton, 1978), p. 101; Misia Sert, Two or Three Muses, trans. Moura Budberg (London: Museum Press, 1953), pp. 128, 129.
Richard Buckle, “Lady Juliet Duff”, obit., сентябрь 1965 г., Diaghilev Scrapbook, III, p. 115, Theatre Museum (London); Astruc, Le Pavilion des fantômes, p. 157; Who’s Who (1914); Сергей Дягилев, телеграмма Габриелю Астрюку от 24 января 1911 г., GA36–8, Astruc Papers.
William L. Blackwell, The Beginning of Russian Industrialization, 1800–1860 (Princeton: Princeton Univ. Press, 1968), p. 235; «Черная тетрадь» Сергея Дягилева, с. 14; список задолженностей труппы, GA96–19, Astruc Papers. Черновой контракт от 3 августа 1910 г. с организацией Бичема предписывал, чтобы аванс в 30 000 франков был возмещен 12 августа 1910 г. или ранее, или же вычтен из дохода труппы по 2000 франков за выступление до тех пор, пока вся сумма в 30 000 франков не будет выплачена. «Условлено, что барон Дмитрий Гинцбург обязуется руководству гарантировать компенсацию всей суммы этого аванса в случае несоблюдения условий данного контракта господином Дягилевым». GA40–1, Astruc Papers.
“Proces verbal de saisie conservatoire”, 5 июня 1914 г., AJ13/1292, Archives Nationales; Дмитрий Гинцбург и Сергей Дягилев, письмо Г. Астрюку и K° от 20 июля 1912 г., GA73–1, а также Г. Астрюк и K°, письмо Габриелю Астрюку от 16 августа 1912 г., GA70–19, Astruc Papers.
Список доходов и задолженностей – 1913, GA96–1; отчет о ежедневных расходах – 1913, GA96–6, Astruc Papers; “Proces verbal de saisie conservatoire”, 5 июня 1914 г., a также приложение – официальные разрешения от 2, 3 и 5 июня 1914 г. и сопутствующая документация, AJ13/1292, Archives Nationales.
Адди Кан, телеграммы Отто Кану от 18 июля 1914 г. и от 19 августа 1914 г., Otto Kahn Papers, Box 34, Princeton University.
Нижинская Б. Ранние воспоминания. Ч. 2. С. 96.
Письма Эрколя и упоминания о зарплате Гельцер приводятся в: Ivor Guest, “The Alhambra Ballet”. Dance Perspectives, 4 (Autumn 1959), pp. 51, 52. См. также: Lydia Kyasht, Romantic Recollections (London: Brentano, 1929), p. 150. Александра Балашова, заменившая Гельцер после восьми недель, получала £ 40 в неделю, как и солист мужской части труппы Василий Тихомиров; Вера Мосолова, которая сменила Балашову в ансамбле, зарабатывала £ 50 в неделю. При пересчете по курсу 25.2 франка к фунту стерлингов, их заработки составляли 2268, 1008 и 1260 франков соответственно. James Robertson, Dictionary for International Commercial Quotations (London: Oxford Univ. Press, 1918). В русской валюте это составляло 855, 380 и 475 рублей в неделю. До 1914 г. £ 1 равнялся 9,5 рубля.
Лидия Лопухова, письмо А. Д. Крупенскому от 9/22 июля 1910 г. ЦГИА, ф. 497, оп. 5, ед. хр. 1866, л. 17–17 об. Предоставлено Е. Я. Суриц.
Fond 497, Opis’ 5, Conservation No. 1866, Central State Historical Archive (Leningrad); “Theatrical Echo”, Petersburg Gazette, 18 August 1910, p. 4.
Подробно об этих труппах и гастролях можно прочесть в: Barbara Naomi Cohen, “The Borrowed Art of Gertrude Hoffmann”, and Oliver M. Sayler and Marjorie Barkentin, “On Your Toes-America! The Story of the First Ballet Russe”, in Dance Data, 2 (n. d.); Money, Anna Pavlova, pp. 96–140. Газетные статьи и другой материал о Русском сезоне в театре Сары Бернар в Париже в апреле 1911 г. с Юлией Седовой в качестве солистки и Иваном Хлюстиным в качестве хореографа см.: GA121–122, Astruc Papers.
Контракт между Сергеем Дягилевым и Дмитрием Молодцовым, дата неизвестна, GA64–11; “Nimi et Prenoin de la troupe Molotzoff”, GA66–3; Андре Арон, письмо Сергею Дягилеву от 13 октября 1913 г., GA84–2; квитанции от 29 и 30 октября 1913 г., GA95–11; список доходов и обязательств – 1913, GA96–1; список обязательств, датированный 15 мая 1913 г., GA96–19; Astruc Papers. Первоначальный контракт распространялся на период с 1 апреля 1911 г. по 1 апреля 1912 г. Что касается 60 000 франков, которые должны были быть выплачены в течение сезона 1913 г., то неспособность Дягилева выполнить условия контракта привела к судебному процессу, затеянному Молодцовым, и частичной выплате долга в октябре 1913 г.
Речь идет о единственном контракте между Дягилевым и Нижинским, датированном 10 октября 1908 г. Проданный с аукциона Сотбис (Лондон) 15 октября 1963 г., этот контракт содержал информацию о жалованье в 2500 франков за сезон. Richard Buckle, Diaghilev (London: Weidenfeld and Nicolson, 1979), pp. 136, 551 (note 87).
Нижинская. T. 2. C. 8.
Источники: о дягилевском сезоне 1910 г. – «Черная тетрадь» Сергея Дягилева. С. 1. В категории Нижинской стоят суммы и 2200, и 2500 франков. Лопухова, когда в 1909 г. она поступила в кордебалет Мариинского театра, получала 600 рублей в год. 28 апреля 1910 г. она была произведена в корифейки, и в начале августа ее заработок вырос до 720 рублей. Ф. 497, оп. 5, ед. хр. 1866, ЦГИА (Ленинград). Благодарю Елизавету Суриц за эту информацию, а также за сведения о суммах жалованья других артистов Императорского балета. Курс обмена рубля в 1910 г. составлял 2,6 франка. William Tate, Vote’s Modern Cambist, 25th ed. (London: Effingham Wilson, 1912), p. 108.
Контракт между Сергеем Дягилевым и М. В. Гулюком от 10 февраля 1911 г., Max Rabinoff Papers, Manuscript Division, Columbia University; письмо Хильде Бевике из дирекции Русского балета от 15 декабря 1912 г., GA76–3, Astruc Papers; Lydia Sokolova, Dancing for Diaghilev, ed. Richard Buckle (London: John Murray, 1960), p. 31. Соколова указывает размер своего жалованья как 30 фунтов стерлингов в месяц, что составляло 756 франков. О жалованьях в Парижской опере см.: “Our Paris Letter”, Dancing Times, February 1920, p. 369; “Opera Strike Threat; Dancers’ Miserable Wages”, Times (London), 1 January 1920, p. 12; “Menaces de grève à l’Opéra”, Le Temps, 1 января 1920, p. 3.
«В Индиане, пока шел весь долгий тур [1911 г. ], – писал биограф Павловой Кит Мани, – балерину интервьюировал один начинающий репортер… Сославшись на то, что ей нужно возвращаться в Россию из-за мамы и бабушки, Павлова добавила: “Но за рубежом я почувствовала вкус свободы. Я уже не буду проводить там [в России] так много времени, как раньше. Как бы вы относились к стране, где великий князь может прийти за кулисы и приказать балетмейстеру выстроить на смотр кордебалет? Затем, проходя вдоль линии танцовщиц, он указывает своей тростью: ‘Вот эта! Отведите ее ко мне в карету, на сегодняшнюю ночь я беру ее себе’”. Павлова ясно дала понять, что испытывала двойственные чувства к родной стране и ее классовой системе, где ей приходилось бороться за признание публики и повышение в ранге». Money, Anna Pavlova, p. 140.
«Черная тетрадь» Сергея Дягилева. С. 1, 9, 61.
Федор Шаляпин, телеграмма Габриелю Астрюку от 22 марта 1906 г., GA1–2; конфиденциальный отчет о расходах, GA28–1; Фрагмент контракта Дягилева—Бичема, GA82–9, Astruc Papers; Truman С. Bullard, “The First Performance of Igor Stravinsky’s Sacre du Printemps”, Diss. Rocheiter (Eastman School of Music) 1971, I, Appendix A, pp. 228–230.
Сергей Дягилев, телеграмма Габриелю Астрюку от 15 июня 1912 г., GA74–16, Astruc Papers.
Этот контракт, заключенный через посредничество театрального агентства Н. В. Marinelli, Ltd., датированный 31 мая 1914 г., очевидно, утратил силу с началом Первой мировой войны. Я благодарю д-ра Микали Ценнера (Dr. Mikaly Cenner) из Будапешта за копию этого и других документов, связанных с усилиями Оскара Пардани (Oscar Pardany) из Будапешта по организации различных ангажементов Нижинского в июне 1914 г. Оригиналы документов находятся в собственности д-ра Ценнера.
Сергей Дягилев, телеграмма Карлотте Замбелли от 21 сентября 1911 г., GA54–21. Черновик контракта между Сергеем Дягилевым и Карлоттой Замбелли, без даты, GA82–10; черновик контракта между Сергеем Дягилевым и Марией Кузнецовой от 8 октября 1911 г., GA82–3, Astruc Papers. Ангажемент Кузнецовой предполагался в сроки с 8 июня по 7 июля 1913 г. Хотя она не участвовала ни в одной из постановок Дягилева 1913 г., на следующий год она пела в «Князе Игоре» и исполнила мимическую роль в «Легенде об Иосифе».
Guest, “The Alhambra Ballet”, p. 51; Отто Кан, письмо Максу Рабинову от 30 июля 1912 г., Мах Rabinoff Papers; Dawn Lille Horwitz, Michel Fokine, foreword Don McDonagh (Boston: Twayne, 1985), p. 184 (note 10). Для труппы Павловой Фокин поставил «Семь дочерей горного короля» и «Прелюды», для Рубинштейн – танцы в «Пизанелле».
Guest, “The Alhambra Ballet”, p. 51; Direzione Generale, Teatro alla Scala, письмо Габриелю Астрюку от 14 июля 1910 г., GA37–2, Astruc Papers; «Черная тетрадь» Сергея Дягилева. С. 61; Grigoriev, The Diaghilev Ballet, p. 55. Театр Ла Скала выплатил Баксту 5000 франков за декорации, а Рубинштейн – 3000 франков за повторение ролей, которые она играла в Париже. Direzione Generale, Teatro alla Scala, письмо Габриелю Астрюку от 23 июля 1910 г., GA37–3, Astruc Papers.
Джулио Гатти-Казацца, телеграмма Сергею Дягилеву от 26 ноября 1910 г., GA36–11; Габриель Астрюк, телеграмма Метрополитен-опере от 14 декабря 1910 г., GA36–6; Direzione Generale, Teatro alla Scala, письмо Габриелю Астрюку от 23 июля 1910, GA37–3, Astruc Papers; цит. по: Рудницкий К. Л. Режиссер Мейерхольд. С. 148. Пока Фокин не уменьшил свои запросы до $ 20 000, Гатти-Казацца был готов распрощаться с ним, и в один весьма неприятный момент переговоров Дягилев указал на его желание подчиниться. Сергей Дягилев, телеграмма в Метрополитен-оперу от 26 ноября 1910 г., GA36–10, Astruc Papers. Фокинское «помешательство на деньгах» продолжалось и в эмиграции. «Когда Фокин приехал в Америку в 1919 г. по приглашению американского импресарио Морриса Геста, прошел слух, что его зарплата за хореографию для бродвейского мюзикла “Афродита” была больше, чем у любого другого балетмейстера в мире». Dawn Lille Horwitz, “Michel Fokine in America, 1919–1942”, Diss. New York University 1982, p. 8. На следующий год Гест платил Фокину $ 1000 в день за работу над экзотической феерией «Мекка». Ibid. Р. 17.
Астрюк и K°, письмо Сергею Дягилеву от 4 ноября 1912 г., GA71–25, Astruc Papers. В ходе судебного процесса 1972 г., направленного против издателей Стравинского, Бузи и Хоукса, Ромола Нижинская утверждала, что в контракте, подписанном в середине 1913 г., оговаривалось, что треть поспектакльных отчислений от показов «Весны священной» должна была быть разделена между Нижинским и декоратором спектакля Николаем Рерихом. По словам вдовы хореографа, Стравинский не упомянул об этом контракте, когда регистрировал авторское право на «Весну священную» в Society of Music Publishers in Paris, навсегда лишив, таким образом, своих сотрудников отчислений от спектаклей в Британии или Америке. Jack Kindred, “Charge Nijinsky Left Out of ‘Rites’”, Variety, 6 December 1971, p. 2.
Сергей Дягилев, письмо Жаку Руше от 5 декабря 1923 г., AJ13/1207, Archives Nationales. Единственным балетом Фокина, в который вмешался Дягилев, были «Половецкие пляски». Согласно тексту программы утреннего спектакля, показанного в Монте-Карло 22 апреля 1923 г., хореография «первых двух танцев» принадлежала Нижинской, а «большого финального ансамбля» – Фокину. Указания об авторском праве на всю оперу, поставленную в том же театре 11 марта 1924 г., гласили: “Chorégraphie de la première danse de La Nijinska. Chorégraphie du Grand Ensemble final de M. Michel Fokine”. В последующие годы, видимо, постановка демонстрировалась в версии 1924 г. Дягилев также внес небольшие изменения в хореографию «Клеопатры», для которой Мясин создал в 1918 г. новое па-де-де.
Генри Расселл, телеграмма Отто Кану от 26 декабря 1915 г., «Переписка Дягилева в 1915–1916 гг.», Архив Метрополитен-оперы. Телеграмма, в частности, сообщает: «Дягилев умоляет, чтобы я объяснил Вам, что из-за прекращения всяческой связи с Россией он даже с помощью посольства не может получить деньги для себя самого и для своей труппы».
Контракт между Сергеем Дягилевым и труппой Метрополитен-оперы от 10 октября 1914 г.; Отто Канн, телеграмма Сергею Дягилеву от 14 мая 1915 г., «Переписка Дягилева в 1915–1916 гг.», Архив Метрополитен-оперы.
Джулио Гатти-Казацца, письмо Сергею Дягилеву от 28 августа 1915 г.; Генри Рассел, телеграмма Джону Брауну от 15 декабря 1915 г., телеграмма в Метрополитен-оперу от 25 декабря 1915 г., телеграмма Отто Кану от 28 декабря 1915 г.; телеграмма Джону Брауну от 21 февраля 1916 г., “Diaghilev Correspondence, 1915–1916”, МОА. Как выяснилось, баланс в 40 000 франков по-прежнему был в форме восьми долговых обязательств, которые, по-видимому, гарантировал Рассел, а в сентябре 1916 г., «по просьбе [его кредитора] мадемуазель Мюэль» и согласно ее собственной канцелярии, Дягилев написал бухгалтеру Метрополитен, чтобы оперный театр выплатил все еще не возмещенные 12 673 франка. Сергей Дягилев, письмо «господину бухгалтеру» от 6 сентября 1916 г., «Русский балет Дягилева, 1916–1917», Box 2, МОА. Согласно программе сезона в Century Theatre, который начался в середине января, «Князь Игорь» и «Заколдованная принцесса» (па-де-де Голубой птицы из «Спящей красавицы») также шли в новых костюмах и декорациях. Подробный рассказ о двух гастролях в Америке см.: Nesta Macdonald, Diaghilev Observed (New York: Dance Horizons, 1975), pp. 128–213; Lynn Garafola, “The Ballets Russes in America”, in The Art of Enchantment: Diaghilev’s Ballets Russes, 1909–1929, ed. Nancy Van Norman Baer (San Francisco: Fine Arts Museums of San Francisco, 1988), pp. 122–137.
Генри Рассел, телеграмма Отто Кану от 27 ноября 1915 г., Роберт Лансинг, телеграмма Отто Кану от 7 февраля 1916 г., Джон Браун, телеграмма Генри Расселу от 28 февраля 1916 г., “Diaghilev Correspondence, 1915–1916”, МОА. О блистательной карьере Канна как финансиста и мецената см.: Mary Jane Matz, Many Lives of Otto Kahn (New York: Macmillan, 1963).
Генри Рассел, телеграмма Джону Брауну от 3 марта 1916 г.; Джон Браун, телеграмма Генри Расселу от 4 марта 1916 г.; Генри Рассел, телеграмма Джону Брауну от 5 марта 1916 г.; Джон Браун, телеграмма Генри Расселу от 6 марта 1916 г.; Отто Кан, телеграмма Генри Расселу от 15 марта 1916 г.; Генри Рассел, телеграмма Отто Кану от 16 марта 1916 г., “Diaghilev Correspondence, 1915–1916”, МОА.
Письмо-контракт между Сергеем Дягилевым и Вацлавом Нижинским от 11 апреля 1916 г., МОА.
Hilward L. Bernays, Biography of an Idea: Memoirs of Public Relations Counsel Edward L. Bernays (New York: Simon and Schuster, 1965), p. 102.
Adella Prentiss Hughes, Music is My Life (New York: World Publishing Co., 1947), p. 203.
Bernays, Biography, pp. 105, 106, 108.
Ibid. P. 108.
“The Russian Imperial Ballet Which Enraptured Our Royalties Last Week”, Diaghilev Scrapbook, I, p. 95, Theatre Museum (London); Tableau de la troupe, GA123–10, Gabriel Astruc Papers, Dance Collection, New York Public Library.
Baron de Meyer, “The Ballet Russe-Then and Now”, Vanity Fair, January 1917, p. 120.
Черновик контракта между Сергеем Дягилевым и Метрополитен, не датирован, МОА.
Minutes of a Meeting of the Incorporators and Subscribers to the Capital Stock of Metropolitan Ballet Company, Inc., 6 April 1915; Metropolitan Opera, Letter to F. D. Edsal, 11 September 1916, “Diaghilev Ballet Russe 1916”, MOA.
Григорьев С. Балет Дягилева. С. 101.
Черновик контракта между Сергеем Дягилевым и Метрополитен, не датирован; контракт между Вацлавом Нижинским и Метрополитен от 2 августа 1916 г.; Метрополитен-опера, телеграмма Сергею Дягилеву от 4 августа 1916 г., “Diaghilev Ballet Russe 1916”, MOA.
Эрнест Хенкель, письмо Алвинн Бриггс от 22 мая 1917 г.; Метрополитен-опера, письмо Дж. С. Морисси от 14 сентября 1916 г., “Diaghilev Ballet Russe 1916”; Эрнест Хенкель, письмо Отто Кану от 11 декабря 1916 г., “Diaghilev Ballet Russe 1916–1917”, Box 2; Бен Франклин, письмо Эрнесту Хенкелю от 30 января 1917 г., “Diaghilev Ballet Russe 1916”; Бен Штерн, служебная записка [Эрнесту Хенкелю] от 16 декабря 1916 г., “Diaghilev Ballet Russe 1916–1917”, Box 2; Эрнест Хенкель, письмо Л. А. Штейнхардту от 27 февраля 1917 г., “Diaghilev Ballet Russe 1916”; Уилл Л. Гринбаум, письмо Максимилиану Элзеру-младшему от 28 декабря 1916 г., Р. Дж. Херндон, телеграмма Эрнесту Хенкелю от 22 ноября 1916 г., “Diaghilev Ballet Russe 1916–1917”, Box 2, MOA. Избранные отзывы можно увидеть в главе книги Несты Макдональд о гастролях Нижинского в: Diaghilev Observed, pp. 198–213.
Пример такой политики дает следующее неподписанное письмо: «Я не знаю, предполагаете ли Вы пригласить Лопухову, но я знаю, что публика не воспримет ее с этой труппой как артистку, выступающую за пять долларов. Если нам нужно кем-то заменить Карсавину, то это однозначно должен быть кто-то из-за границы. Я могу вывести на сцену новое имя и заставить публику принять его, но прошу Вас: даже не пытайтесь пригласить Лопухову – она выступала не только в Кейтс Пэлэс и прочих театрах, где билеты стоят полтора доллара, но и в… таких театрах, которые никак не дотягивают до стандартов балета. Не стоит брать ее даже в кордебалет. Мы рекламировали полностью зарубежную труппу – и публика не согласится на меньшее». Неподписанное письмо Отто Кану, 26 декабря 1915 г., “Diaghilev Correspondence 1915–1916”, MOA.
“Lydig Sues on War Orders; Demands Share of Profits on an $ 8, 100, 000 Shell Contract”, New York Times, 23 June 1916, Sec. 1, p. 17; “Col. P. M. Lydig Dies in Nice at 61”, New York Times, 17 February 1919, Sec. 1, p. 28; Метрополитен-опера, телеграммы Артемьеву от 25 июля 1916 г. и 7 августа 1916 г., и в американское посольство в Петрограде от 7 августа 1916 г. и 13 сентября 1916 г.; капитан Филип Лидиг, телеграмма Метрополитен-опере от 13 сентября 1916 г., “Diaghilev Ballet Russe 1916”, MOA; Гос. департамент, телеграмма в американское посольство в Петрограде от 31 мая 1916 г., Филип Лидиг, телеграмма Роберту Лансингу от 2 мая 1917 г., 763ю72/4387–1/2, дипломатический отдел, Национальный архив. Метрополитен категорически отвергла предложение Дягилева об ангажементе сестры Нижинского Брониславы. Метрополитен-опера, телеграммы Сергею Дягилеву от 8 августа и 19 августа 1916 г., “Diaghilev Ballet Russe 1916”, MOA.
Эрнест Хенкель, письмо Р. Дж. Херндону от 8 декабря 1916 г., “Diaghilev Ballet Russe 1916–1917”; Р. Дж. Херндон, телеграмма Эрнесту Хенкелю от 22 ноября 1916 г.; Эрнест Хенкель, письмо Р. Дж. Херндону от 8 декабря 1916 г., “Diaghilev Ballet Russe 1916–1917”, Box 2, MOA.
Станислав Дробецкий и Рандольфо Бароччи, телеграмма Эрнесту Хенкелю от 7 января 1917 г., “Diaghilev Ballet Russes 1916–1917”, Box 2, Сергей Дягилев, телеграммы Роулинсу Коттене и Эрнесту Хенкелю от 11 февраля 1917 г., “Diaghilev Ballet Russe 1916”; М. Устинов, письмо в Метрополитен-оперу от 24 февраля 1917 г., “Diaghilev Ballet Russe 1916–1917”, Box 2, MOA.
О денежных переводах Метрополитен см.: Балет Метрополитен, письма в Нэшнл Сити Банк от 22 и 28 декабря 1916 г., 4, 11, 24, и 25 января 1917 г., 10 и 19 февраля 1917 г., Box 2, МОА. О заказе Деперо см.: Leonetta Bentivoglio, “Danza e futurismo in Italia 1913–1933”, La Danza Italiana, 1, No. 1 (Autumn 1984), p. 66; о заказе Балла см.: Melissa A. McQuillan, “Painters and the Ballet, 1917–1926: An Aspect of the Relationship Between Art and Theatre”, Diss. New York University 1979, II, pp. 383–384; о «Параде» см.: Richard Buckle, In Search of Diaghilev (New York: Thomas Nelson and Sons, 1956), pp. 93–94; о проекте Равеля—Канджулло см.: Catalogue of Ballet Material and Manuscripts from the Serge Lifar Collection, Sotheby’s (London), 9 May 1984, Lot 203.
P. Дж. Херндон, письмо Эрнесту Хенкелю от 4 декабря 1916 г., “Diaghilev Ballet Russe 1916–1917”, Box 2, МОА.
P. Дж. Херндон, письмо Эрнесту Хенкелю от 11 декабря 1916 г., “Diaghilev Ballet Russe 1916–1917”, Box 2, МОА.
Дорис Фэйтфул, письмо Отто Кану от 11 ноября 1916 г., Box 57, Otto Kahn Papers, Princeton University. Она писала от имени Анны и Любови Сумароковых, Мешковской, Галины Шабельской, Стаса Паэрска и Лили (Валентины) Качуба. Ответ Кана, если он и был, не сохранился.
Высокая буржуазия (франц.). – Примеч. пер.
Широкая публика (франц.). – Примеч. пер.
Leigh Henry, unidentified review, Diaghilev Scrapbook, IV, p. 158, Theatre Museum (London).
Lydia Sokolova, Dancing for Diaghilev, ed. Richard Buckle (London: John Murray, 1960), pp. 116, 124.
Robert Craft, “Stravinsky, Diaghilev and Misia Sert”, Ballet Review, 6, No. 4 (1977–1978), p. 76. Эта статья приведена в качестве приложения (Appendix В) в книге: Vera Stravinsky and Robert Craft, Stravinsky in Pictures and Documents (London: Hutchinson, 1979), pp. 514–522.
Raymond Mortimer, “London Letter”, Dial, March 1922, p. 295.
Felix Barker, The House That Stoll Built: The Story of the Coliseum Theatre. (London: Frederick Muller, 1957), p. 70.
“New Alhambra Ballet. ‘La Boutique Fantasque’”, Times, 16 June 1919, p. 14. «Треуголка» также «была встречена оглушительными овациями зала, забитого от партера до верхних ярусов», и почитатели обрушили на ее хореографа Леонида Мясина множество букетов, венков и даже подарили огромный торт. “‘The Three-Cornered Hat.’ Russian Ballet at the Alhambra”, Times, 23 July 1919, p. 10.
Paul Thompson, The Edwardians: The Remaking of British Society (St. Albans, Herts.: Paladin, 1977), p. 277.
Charles S. Maier, Recasting Bourgeois Europe: Stabilization in France, Germany, and Italy in the Decade After World War I (Princeton: Princeton Univ. Press, 1975), p. 43.
Craft, “Stravinsky, Diaghilev, and Misia Sert”, p. 76.
Габриель Астрюк, письма Отто Кану от 10 и 17 мая 1921 г., 7 и 31 декабря 1921 г., Otto Kahn Papers. Box 146, Princeton University; Габриель Астрюк, письма Жаку Руше от 1 июля 1921 г. и 17 сентября 1921 г., AJ13/1207, Archives Nationales (Paris).
“Co-operative Opera. Future of the Beecham Company”, Times, 2 July 1921, p. 10.
О Шведском балете см.: Sally Banes, “An Introduction to the Ballets Suédois”, Ballet Review, 7, Nos. 2–3 (1978–1979), pp. 28–59; о «Парижских вечерах» см.: Lynn Garafola, “Les Soirees de Paris”, Lydia Lopokova, id. Milo Keynes (London: Weidenfeld and Nicolson, 1983), pp. 97–105; о «Быке на крыше» Кокто см.: Francis Steegmuller, Cocteau: A Biography (Boston: Little, Brown, 1970), pp. 238–245.
Patrick George Friel, “Theater and Revolution: The Struggle for Theatrical Autonomy in Soviet Russia (1917–1920)”, Diss. North Carolina 1977, p. 195n; Наум Митник, письма Жаку Руше, весна – лето 1920 г., AJ13/1208, Archives Nationales; N. D. Lobanov, “Russian Painters and the Stage”, Transactions, 2 (1968), p. 137; Andre Levinson, “Les Ballets romantiques russes”, La Danse, April 1924, n. p. Среди послевоенных постановок Рубинштейн в Парижской опере были «Трагедия Саломеи» (1919), «Антоний и Клеопатра» (1920), «Смущенная Артемида» (1922), «Федра» (1923), «Иштар» (1924) и «Орфей» (1926). Хореографический Театр Нижинской гастролировал по курортным городам Англии летом и в начале осени 1925 г., а затем дал несколько выступлений в Париже. Nancy Van Norman Baer, Bronislava Nijinska: A Dancer’s Legacy (San Francisco: The Fine Arts Museums of San Francisco, 1986), pp. 49–57.
Краткий обзор того, что происходило с английской стороны Ла-Манша, можно увидеть в: “А Chronology of the Ballet in England 1910–1935”, Dancing Times, October 1935, pp. 3–11. Значительная часть этого обзора воспроизведена в: Philip J. S. Richardson, “A Chronology of the Ballet in England 1910–1945”, The Ballet Annual: A Record and Yearbook of the ballet, ed. Arnold Haskell (London: Adam and Charles Black, 1947), pp. 117–124. Ричардсон был редактором «Дансинг таймс» с 1910 по 1951 г.
“Paris Notes”, Dancing Times, July 1921, p. 857.
“Sitter Out”, Dancing Times, January 1925, p. 400.
О реформах Руше см.: Ivor Guest, Le Ballet de l’Opéra de Paris: Trois siècles d’histoire et de tradition, trans. Paul Alexandre (Paris: Théâtre National de l’Opéra, n. d.), pp. 157–169.
Сеанс танцев (франц.). – Примеч. пер.
Безумные годы (франц.). – Примеч. пер.
Заметки о лекциях Левинсона и его обзорах спектаклей Театра Елисейских Полей регулярно появлялись в ежемесячном французском издании La Danse и в колонке «Дансинг таймс» «Парижские заметки». О театре Гетэ-Лирик см.: “Paris Notes”, Dancing Times, April 1924, p. 701. В книге Левинсона La Danse d’aujourd’hui. Etudes, Notes, Portraits (Paris: Editions Duchartre et Van Buggenhoudt, 1929) приведены (с небольшими изменениями) эссе и обзоры, написанные автором в середине и конце 1920-х.
“Paris Notes”, Dancing Times, April 1921, p. 567.
Eugene Goossens, Overture and Beginners: A Musical Autobiography (London: Methuen, 1951), pp. 182–186; “Paris Notes. Troubles of the Opera”, Dancing Times, April 1921, pp. 567–569; Josephine Baker and Jo Bouillon, Josephine, trans. Mariana Fitzgerald (New York: Harper and Row, 1977), pp. 48–53.
Контракты между Сергеем Дягилевым и господами Мессаже и Бруссаном от 22 октября 1913 г.; между Жаком Руше и Сергеем Дягилевым от 10 апреля 1919 г., 5 июля 1919 г. и 8 октября 1921 г., Библиотека Парижской оперы; Т. Е. Gregory, Foreign Exchange Before, During, and After the War (London: Oxford Univ. Press, 1922), pp. 110–113.
Целиком, полностью (лат.). – Примеч. пер.
Письмо-контракт между Лой Фуллер и Парижской оперой от 8 июля 1922 г., AJ13/1208, Archives Nationales.
Жак Руше, письмо Сергею Дягилеву от 26 апреля 1922 г., Fonds Kochno, Pièce 86, Bibliothèque de l’Opéra (Paris).
“Recettes des Ballets Russes. Théâtre de la Gaité – Mai 1921”, Bibliothèque de l’Opéra. Цифра 1914 года высчитана из ежедневного «Дохода сегодняшнего дня» Парижской оперы, AJ13/1292, Archives Nationales.
Theatre Directory, Times, 1 June 1921, p. 8; 29 June 1921, p. 8.
“Serge Diaghileff’s Russian Ballet, Princes Theatre, House Receipts”, Stravinsky-Diaghilev Foundation (New York); Charles B. Cochran, Secrets of a Showman (London: Heinemann, 1925), p. 372. К 1921 г. курс обмена составлял 61 франк к одному фунту стерлингов. William F. Spalding, Tate’s Modern Cambist, 28th ed. (London: Effingham Wilson, 1929), p. 117.
Boris Kochno, Diaghilev and the Ballets Russes, trans. Adrienne Foulke (New York: Harper and Row, 1970), p. 89; Richard Buckle, Diaghilev (London: Weidenfeld and Nicolson, 1979), p. 368. Бакл указывает в качестве источника Поля Морана: Paul Morand, L’Allure de Chanel (Paris: Hermann, 1976).
Григорьев С. Балет Дягилева. С. 141. “‘Chu Chin Chow’ Ended. Last Scenes at His Majesty’s. 2, 238 Performances in Five Years”, Times, 23 July 1921, p. 8. О «Коппелии» Аделины Жене см.: Ivor Guest, The Empire Ballet (London: Society for Theatre Research, 1962), pp. 66, 67. Кроме версии Кокрэна, поставленной в Trocadero Grill Room в конце 1924 г., отрывок также был поставлен Николаем Легатом и его женой Надеждой Николаевой в январе 1925 г. в Колизеуме. “Sitter Out”, Dancing Times, January 1925, p. 400; “Another ‘Coppelia’”, Dancing Times, February 1925, p. 512. Несколькими месяцами ранее Павлова представила двухактную версию этого балета, где главную роль исполнила Хильда Бутсова. “Sitter Out”, Dancing Times, October 1914, pp. 3–4. В июне 1926 г. французская танцовщица Камилла Бос показала «краткую серию танцев» из «Коппелии» в ходе однонедельного ангажемента во дворце королевы Виктории. “Sitter Out”, Dancing Times, July 1926, p. 344. Хотя в литературе о Дягилеве об этом не сообщается, в апреле 1920 г. в течение своего лондонского сезона Павлова представила сцену видения из «Спящей красавицы». Четырьмя годами ранее она поставила более полную версию балета в нью-йоркском Ипподроме. Костюмы и декорации к постановке 1916 г. были разработаны Бакстом.
Cyril W. Beaumont, Bookseller at the Ballet, Memoirs 1891 to 1929, Incorporating the Diaghilev Ballet in London (London: C. W. Beaumont, 1975), pp. 275n and 173; Лев Бакст, письмо Жаку Руше от 29 декабря 1921 г., AJ13/1207, Archives Nationales.
Beaumont, Bookseller at the Ballet, pp. 276, 277.
Unidentified review, Diaghilev Scrapbook, VI, p. 13, Theatre Museum (London); “London Theatres Hard Hit by Slump”, New York Times, 2 February 1922, p. 5; Grigoriev, The Diaghilev Ballet, pp. 181, 182. Ссылаясь на беседы с Мари Рамбер, Ричард Бакл указывает, что Дягилев занял у госпожи Бевике 300 фунтов стерлингов. Buckle, Diaghilev, p. 397. Этому противоречит письмо от адвокатов госпожи Бевике, датированное маем 1925 г., где они требовали возврата ссуды в 500 фунтов стерлингов, включая наросшие проценты. Господа Лебрассер и Оукли, письмо Сергею Дягилеву от 19 мая 1925 г. С-20–12.1, Serge Diaghilev Papers, Dance Collection, New York Public Library. См. также письмо господ Лебрассера и Оукли Эрику Вольхейму от 21 ноября 1925 г., 10–1.3, Serge Diaghilev Correspondence, Dance Collection, New York Public Library.
“La Société des Ballets Russes”, Fonds Kochno, Pièce 138.
Arnold Haskell, Diaghileff: His Artistic and Private Life, in collaboration with Walter Nouvel (London: Gollancz, 1935), p. 299. Юджин Гуссенс, который был главным дирижером у Дягилева в течение всего ангажемента «Спящей принцессы», иначе отзывался о результатах ее щедрости. «Присланный принцессой чек на крупную сумму, – писал он, – пришел как раз вовремя, чтобы у него [Дягилева] стало достаточно денег, чтобы кушать в своем любимом ресторане, а не в дешевом бистро, однако слишком поздно для того, чтобы спасти его любимые запонки с черным жемчугом…» Goossens, Overture and Beginners, p. 180.
“A Successful Teacher”, Dancing Times, February 1912, p. 123; письмо Руби Джиннер в редакцию «Дансинг таймс», октябрь 1917 г.; “Sitter Out”, Dancing Times, January 1918, p. 125.
Mark E. Perugini, “The Four Schools. Have We the Material for a British Royal Academy of Dance and Ballet?”, Dancing Times, September 1920, p. 906.
Темой многих статей в «Дансинг таймс» был поиск решения проблемы недостатка профессионального опыта. В серии статей «Новичок и театр», которая начала публиковаться в апреле 1919 г., Рейчел Верни давала советы по поводу грима и других практических особенностей профессии. Некоторые балерины, эмигрировавшие из России, открыли в Париже свои студии, как это сделал в середине двадцатых годов Александр Волинин. Эти студии, однако, как и пятилетние балетные курсы, которые в 1926 г. добавились к программе Парижской консерватории, были ориентированы на подготовку профессиональных танцовщиков. “Paris Notes”, Dancing Times, February 1926, p. 585.
Perugini, “The Four Schools”, p. 906.
Dancing Times, October 1922, p. 20.
Henry Mayhew, London Labour and the London Poor, III (London, 1861; rpt. New York: Dover, 1968), p. 144. О представлении о мюзик-холлах как «пороке общества», существовавшем в середине XIX в., см.: “Social Characteristics of London Life. No. I. The ‘Music-halls’”, The Beehive, 25 October 1862, p. 1.
Audrey MacMahon, “Oh, What a Past: Revealing a Number of Dark Secrets As to the Cause of Certain Famous Careers”, The Dance Magazine, December 1926, p. 18. См. также: Keith Money, Anna Pavlova: Her Life and Art (New York: Knopf, 1982.), pp. 137, 138. В интервью с автором, взятом в 1981 г., Мэдж Эберкромби, вступившая в труппу Павловой в 1911 г., особо подчеркивала деталь, касающуюся девушек «из хороших семей».
Ellen Terry, The Russian Ballet (London: Sidgwick and Jackson, 1913), pp. 9, 10; Leonard Rees, Russian Ballet, Containing the Story of the Russian Dancing and Dances and the Plots of the Ballets. Royal Opera-Covent Garden Season – 1912 (London: John Long, 1912), pp. 14, 15.
Ibid. P. 17.
“Sitter Out”, Dancing Times, June 1915, pp. 298–300; July 1915, pp. 331, 332; August 1915, pp. 356–358.
Rees, p. 12; “Sitter Out”, Dancing Times, June 1915, p. 300, and August 1915, p. 356–357.
Thompson, Edwardians, p. 267; Mark E. Perugini, “Where Are We Going?”, Part I, Dancing Times, August 1925, pp. 1173–1175. Слова настоятеля Манчестерского собора и заголовок про «оргию» цит. в: “Sitter Out”, Dancing Times, March 1919, p. 190.
“Button Box”, “Chats With Young Dancers”, Dancing Times, March 1923, p. 685.
“Button Box”, “Chats With Young Dancers”, Dancing Times, June 1923, p. 967.
“Button Box”, “Chats With Young Dancers”, Dancing Times, March 1923, p. 685.
Mark E. Perugini, “Where are We Going?”, Part III, Dancing Times, October 1925, p. 39.
Контракты между Ивонной Андре и Сергеем Дягилевым от 20 октября 1918 г., Верой Кларк и Сергеем Дягилевым от 3 декабря 1919 г., Анатолием Бурманом и Сергеем Дягилевым от 3 августа 1921 г.; C. L. Lucas, Receipt, 17 August [n.y.], Stravinsky-Diaghilev Foundation.
Gregory, Foreign Exchange, p. 113; Spalding, Tate’s Modern Cambist, 28th ed., p. 117; “La Vie trop chère”, Le Gaulois, 10 March 1924.
Ninette de Valois, Come Dance With Me: A Memoir 1898–1956 (London: Dance Books, 1973), p. 62.
H.G., “Lopokova’s Ambition. To Be a ‘Comedy Actress’. The Ballet To day in Russia”, Observer, 26 March 1933, Lopokova Clipping File, Harvard Theatre Collection.
Lydia Sokolova, Dancing for Diaghilev, ed. Richard Buckle (London: John Murray, 1960), pp. 250, 264–265.
Нувель цит. в: Haskell, Diaghileff, pp. 298–299. О судебных процессах, затеянных четырьмя танцовщиками, см. утверждения в суде Габриеля Жубье от лица Леона Войциковского и Лидии Соколовой 10 марта 1922 и от лица господ Тадеуша Славинского и Ялмузинского 26 мая 1922, С-20–21.1, С-20–21.2, С-20–21.3, Serge Diaghilev Papers.
Так называемого Valentine Contract, название которого связано с именем Сидни Валентайна – председателя Лондонской ассоциации актеров того времени. – Примеч. пер.
“Actors’ Minimum Salary; Valentine Contract Upheld”, Times, 12 January 1922, p. 8; “Actors’ Closed Shop’, A Meeting to Discuss Boycott Proposal”, Times, 10 March 1922, p. 10; “Moneyed Amateurs and the Stage. Entrance Examinations Suggested”, Times, 21 March 1922, p. 10.
Buckle, Diaghilev, p. 387; Лидия Лопухова, письмо графу Этьену де Бомону от 8 февраля 1924 г., John Maynard Keynes Papers, King’s College (Cambridge); H. J. Bruce, Thirty Dozen Moons (London: Constable, 1949), p. 36.
Лидия Лопухова, письма Джону Мейнарду Кейнсу от 1 марта 1924 г., 25 октября 1924 г., 29 апреля 1923 г., Keynes Papers.
Лидия Лопухова, письма Джону Мейнарду Кейнсу от 2 ноября 1923 г., Keynes Papers.
de Valois, Come Dance, p. 66.
Бронислава Нижинская, телеграмма Сергею Дягилеву от 25 июля 1921 г., Fonds Kochno, Pièce 65; Лифарь С. Дягилев и с Дягилевым. М., Вагриус, 2005. С. 411.
Сергей Дягилев, письмо Чарльзу Кокрэну от 30 марта 1926 г., Fonds Kochno, Pièce 22.
Pièce 128, Fonds Kochno, Bibliothèque de l’Opéra (Paris).
Cyril W. Beaumont, The Ballet Called Swan Lake (London, 1952; rpt. New York: Dance Horizons, 1982), p. 151.
Григорьев С. Балет Дягилева. С. 150.
Контракты, датированные апрелем 1924 г., Bibliothèque de l’Opéra; 18 April 1924, С-20–22.1, 11 Serge Diaghilev Papers, Dance Collection, New York Public Library.
Philippe Saint-Germain and Francis Rosset, La Grande Dame de Monte-Carlo (n. p.: Editions Stock, 1981), p. 366.
Программы хранятся в архивах Общества морского побережья (Монте-Карло).
Рене Леон, письма Сергею Дягилеву от 11 ноября 1924 г., 25 октября 1924 г., 4 декабря 1924 г., 18 февраля 1925 г. (2), 19 февраля 1925 г.; Сергей Дягилев, письмо Рене Леону от 6 ноября 1924 г., Palace Archives (Monaco).
Francis Poulenc, Moi et mes amis (Paris: La Palatine, 1963), p. 179.
Gaston Davenay, “Les Concerts de danse de Mile N. Trouhanowa”, Figaro, 18 April 1912, p. 1; Robert Brussel, “Au Châtelet: Spectacle de danse de Mlle Trouhanowa”, Figaro, 24 April 1912, p. 4; Henri Quittard, “Courrier des théâtres”, Figaro, 25 April 1917, p. 3.
Рене Леон, письмо Сергею Дягилеву от 13 марта 1925 г., Palace Archives.
Рене Леон, письмо Сергею Дягилеву от 14 марта 1925 г., Palace Archives.
Рауль Гинцбург, письмо Рене Леону от 27 марта 1925 г., Рене Леон, письмо Сергею Дягилеву от 30 марта 1925 г., Palace Archives.
Черновик контракта между Сергеем Дягилевым и Рене Леоном от 30 апреля 1925 г., Pièce 136, Fonds Kochno.
Контракты (2) между Сергеем Дягилевым и Рене Леоном от 17 июля 1926 г., Pièce 136, Fonds Kochno. Эти контракты также содержали указания по поводу 1927–1928 гг.
Контракты между Сергеем Дягилевым и Хуаном Местресом от 9 марта 1925 г., Гвидо Гатти и 16 июля 1926 г., Анджело Скандиани от 15 ноября 1926 г., Stravinsky-Diaghilev Foundation (New York).
Grigoriev, The Diaghilev Ballet, p. 219. «Берлин – единственная столица, которую ему не удалось покорить, – замечал граф Гарри Кесслер в 1928 г. – Он праздновал триумф во всех прочих великих городах мира, но “devant Berlin, je suis comme un collégien qui est amoureux d’une grande dame et qui ne trouve pas le mot pour la conquérir” – “перед Берлином я чувствую себя студентом, который влюбился в известную даму и не находит нужного слова, чтобы завоевать ее сердце”». Все его берлинские усилия всегда приводили к финансовой катастрофе, к недостаче от сотни до полутора сотен тысяч франков». The Twenties: The Diaries of Count Harry Kessler, trans. Charles Kessler, introd. Otto Friedrich (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1971), p. 357.
Arnold Haskell, Diaghileff: His Artistic and Private Life, in collaboration with Walter Nouvel (London: Gollancz, 1935), p. 308.
Квитанция от 28 декабря 1927 г., AJ13/1292, Archives Nationales (Paris); контракт между Сергеем Дягилевым и Жаком Руше от 9 ноября 1928 г., Bibliothèque de l’Opéra. В 1927 г. театр потребовал 25 000 франков с дохода от каждого из двух рождественских спектаклей и 10 % оставшейся суммы. Контракт между Сергеем Дягилевым и Жаком Руше от 5 ноября 1927 г., Bibliothèque de l’Opéra.
Контракт между Сергеем Дягилевым и сэром Освалдом Столлом от 9 января 1925 г. Theatre Museum (London); Grigoriev, The Diaghilev Ballet, p. 217.
О Бевике см.: Лебрассер и Оукли, адвокаты, письмо Сергею Дягилеву от 19 мая 1925 г., С-20–12.1, Serge Diaghilev Papers, а также Лебрассер и Оукли, адвокаты, письмо Эрику Вольхейму от 21 ноября 1925 г., 10–1.3, Serge Diaghilev Correspondence; о Гульбекяне см.: Р. Пиош, телеграмма Сергею Дягилеву от 10 июля 1925 г., Stravinsky-Diaghilev Foundation; Л. Дюран-Виллетт и Р. Пиош, адвокаты, письмо Сергею Дягилеву от 16 июля 1925 г., С-20–12.5, и письма Вальтеру Нувелю от 30 октября 1925 г., С-20–13.3, и 11 декабря 1925 г., С-20–13.8; о Полиньяк см.: Л. Дюран-Виллетт и Р. Пиош, письма Вальтеру Нувелю от 30 октября 1925 г., С-20–13.5, 13 марта 1926 г., С-20–14.1, и 15 марта 1926 г., С-20–14.2; о Нижинском см.: Л. Дюран-Виллетт и Р. Пиош, адвокаты, письмо Сергею Дягилеву от 15 июля 1925 г., С-20–12.4, Serge Diaghilev Papers, Dance Collection, New York Public Library.
Григорьев С. Балет Дягилева. С. 176, 177.
Лидия Лопухова, письмо Джону Мейнарду Кейнсу от 18 ноября 1926 г., John Maynard Keynes Papers, King’s College (Cambridge); Лилиан Ротермир, письмо Сергею Дягилеву [декабрь 1924 г. ], 10–16.7, Serge Diaghilev Correspondence; Эрик Вольхейм, телеграмма Сергею Дягилеву от 11 июня 1925 г., Stravinsky-Diaghilev Foundation; Loretta Lucido Johnson, “T.S. Eliot’s Criterion: 1922–1939”, Diss. Columbia 1980, pp. 44–46, 61, 121–123.
Сергей Дягилев, письмо лорду Ротермиру от 18 марта [1926]; Pièce 84, Fonds Kochno; Эрик Вольхейм, телеграмма Сергею Дягилеву от 11 апреля 1927 г., Stravinsky-Diaghilev Foundation; Сергей Дягилев, письмо леди Джульет Дафф от 4 мая 1928 г., С-20–6.5, Serge Diaghilev Papers; “Russian Ballet Disbanded. Company’s Financial Need. Leader’s Influence Missed”, Daily Telegraph, 20 September 1929.
Вальтер Нувель, телеграмма Сергею Дягилеву от 21 февраля 1928 г., Stravinsky-Diaghilev Foundation.
Поль Розенберг, телеграмма Сергею Дягилеву от 4 мая 1928 г.; д-р Дж. Ф. Ребер, телеграммы Сергею Дягилеву от 7 и 10 мая 1928 г., Stravinsky-Diaghilev Foundation. Торговец произведениями искусства Даниэль Генри Канвейлер описывал Ребера как большого покровителя кубизма. Daniel-Henry Kahnweiler, Juan Gris: His Life and Work, trans. Douglas Cooper (New York: Abrams, 1969), p. 53.
У Дягилева были куда более серьезные намерения по поводу американских гастролей в середине десятилетия, чем считалось ранее. Среди архивных документов Бориса Кохно в библиотеке Парижской оперы содержится документ на бланке Эксельсиор Палас-отеля, где Дягилев жил во время отпуска в 1924 г., в котором приводится список балетов для американских гастролей. Среди спектаклей, «никогда не исполнявшихся в Америке», есть и балет без названия, заказанный Джону Олдену Карпентеру летом 1924 г., как утверждает Кохно, по воле Отто Кана, который «настаивал, чтобы Дягилев поставил американский балет». Карпентер написал музыку к Krazy Kat – «джазовой пантомиме», незадолго до этого поставленной в Нью-Йорке Адольфом Больмом. Дягилев окончательно отказался от идеи этой постановки лишь зимой 1925 г. В феврале 1926 г. Метрополитен-опера поставила этот балет под названием «Небоскребы: Балет о современной американской жизни». “Repertoire des Ballets Russes, Activités de Diaghilev”, Pièce 125, Fonds Kochno; Джон Олден Карпентер, письма Сергею Дягилеву от 5 сентября 1924 г. и 15 ноября 1924 г., Pièces 17 и 109, Fonds Kochno; Джон Олден Карпентер, телеграмма Сергею Дягилеву от 1 января 1925 г.; Джеральд Мерфи, телеграмма Сергею Дягилеву от 6 марта 1925 г., Stravinsky-Diaghilev Foundation; Boris Kochno, Diaghilev and the Ballets Russes, trans. Adrienne Foulke (New York: Harper and Row, 1970), p. 222. Общие сведения о композиторе см.: Verna Arvey, Choreographic Music: Music For the Dance (New York: Dutton, 1941), pp. 286–294. В 1925 г. Дягилев согласился предоставить Гарри Блоку и Максу Эндикоффу лицензию на гастроли труппы в Америке в течение пятнадцати недель в начале октября следующего года. Хотя Дягилеву не удалось исполнить это обязательство, слухи о предстоящем туре успели распространиться по американскому обществу. Договоры между Гарри Блоком/Максом Эндиковым и Сергеем Дягилевым от 10 октября 1925 г.; Сергей Дягилев, письмо Гарри Блоку от 27 октября 1925 г., Stravinsky-Diaghilev Foundation; Gilbert Seldes, “The Theatre Abroad”, Dial, September 1926, p. 325.
Э. Рэй Гёц, телеграмма Сергею Дягилеву от 16 августа 1927 г., Stravinsky – Diaghilev Foundation; Charles Schwartz, Cole Porter: A Biography (New York: Dial, 1977), pp. 94–95; черновик контракта между Сергеем Дягилевым и Э. Рэем Гёцем [ноябрь – декабрь 1927], Serge Diaghilev Papers; Сергей Дягилев, телеграмма [?] Селигсбергу от 25 апреля 1928 г., Stravinsky-Diaghilev Foundation; [?] Селигсберг, письмо Сергею Дягилеву [май 1928], 10–17.3, Serge Diaghilev Correspondence; Вальтер Нувель, телеграмма Сергею Дягилеву от 2 мая 1928 г.; [?] Селигсберг, телеграмма Вальтеру Нувелю от 20 мая 1928 г.; Э. Рэй Гёц, телеграмма Сергею Дягилеву от 23 мая 1928 г.; [?] Селигсберг, телеграмма Сергею Дягилеву от 27 мая 1928 г., Stravinsky – Diaghilev Foundation; Оливер Сейлер, письмо Сергею Дягилеву от 8 июня 1928 г., 10–17.1, Serge Diaghilev Correspondence.
Э. Рэй Гёц, письмо Сергею Дягилеву [июнь – июль 1928], Stravinsky-Diaghilev Foundation.
Э. Рэй Гёц, письмо Отто Кану от 25 октября 1928 г., Box 347, Otto Kahn Papers, Princeton University.
Милой дорогой подруги (франц.). – Примеч. пер.
Сергей Дягилев, письмо леди Джульет Дафф от 7 мая 1928 г., С-20–6.6, Serge Diaghilev Papers.
Леди Джульет Дафф, письмо Сергею Дягилеву от 5 мая 1929 г., 10–14.12, Serge Diaghilev Correspondence; Peter Heyworth, Otto Klemperer: His Life and Times, I (New York: Cambridge Univ. Press, 1983), p. 319; “The Donor of £ 5000 A Year for Imperial Opera”, Sketch, 10 July 1919, p. 61; Эрнест Аутвэйт, письмо Сергею Дягилеву от 18 мая 1929, 10–16.4, Serge Diaghilev Correspondence.
“Carnet de Serge de Diaghilev, 1922–1923”, Pièce 133, Fonds Kochno.
«Рабочая тетрадь Сергея Дягилева с указаниями репертуара на 1915–16», Pièce 114, Fonds Kochno. Так как все сведения о составе, валюте и репертуаре относятся к годам сразу после войны, датировка этой рабочей тетради, по-видимому, неверна.
В конце 1927 г. Министерство иностранных дел Франции запросило у Максима Литвинова, советского комиссара иностранных дел, информацию о местонахождении единокровного брата Дягилева Валентина и его невестки – оба они исчезли. Было произведено расследование, но результаты, без сомнения, оправдали опасения импресарио: тайная полиция «не обнаружила следов ареста». Жан Эрбетт, письма Филиппу Бертло от 15 января и 24 января 1928 г., С-20–16.2, Serge Diaghilev Papers.
Richard Buckle, Diaghilev (London: Weidenfeld and Nicolson, 1979), p. 441. Бакл ошибочно указывает, что эта встреча состоялась в 1924 г. О месячном пребывании пары на итальянском курорте см. в: Gordon McVay, Esenin: A Life (Ann Arbor: Ardis, 1976), p. 190.
Buckle, Diaghilev, p. 408; Зильберштейн И. С., Самков В. А. Сергей Дягилев и русское искусство. М.: Изобразительное искусство, 1982. С. 33; Robert С. Williams, Culture in Exile: Russian Emigrés in Germany, 1881–1941 (Ithaca: Cornell Univ. Press, 1972), pp. 111, 133, 134.
N. A. Iavorskaia, “Les relations artistiques entre Paris et Moscou dans les années 1917–1930”, in Paris – Moscou, 1900–1930, каталог выставки в национальном центре искусства и культуры Жоржа Помпиду в Париже 21 мая – 5 ноября 1979 г., рр. 49–51. Ларионов вместе с Тристаном Тцара был хозяином банкета, данного в честь Камерного театра, на который был приглашен и Дягилев. Д. О. Видхопфф, Тристан Тцара и Михаил Ларионов, письмо Сергею Дягилеву, [март 1923], Stravinsky-Diaghilev Foundation. В течение того же сезона Таиров обратился к Дягилеву с просьбой «выразить в виде письма или статьи» его «взгляды на спектакли Камерного театра, как для сведения труппы, так и для ее многочисленных друзей и почитателей в Москве, для которых Ваше мнение будет безмерно интересно». Александр Таиров, письмо Сергею Дягилеву от 14 марта 1923 г., Pièce 98, Fonds Kochno.
Buckle, Diaghilev, p. 444. Разговор с Луначарским был вновь опубликован в 1958 г. в собрании его высказываний о музыке. A. V. Lunacharsky, “Diaghilev’s New Season”, V mire muzyki, ed. G. В. Bernandt and LA. Sats (Moscow: Sovetski’i Kompozitor, 1958), pp. 347–350. Знакомство Дягилева с Луначарским началось по меньшей мере на рубеже веков. Beverly Whitney Kean, All the Empty Palaces: The Merchant Patrons of Modern Art in Pre-Revolutionary Russia (New York: Universe Books, 1983), p. 143.
Israel V. Nestyev, Sergei Prokofiev: His Musical Life, trans. Rose Prokofieva, introd. Sergei Eisenstein (New York: Knopf, 1946), p. 101. Советский писатель Илья Эренбург, который, как и Прокофьев, провел большую часть 1920-х в Европе, также считался автором либретто. Victor Serov, Sergei Prokofiev (London: Leslie Frewin, 1969), pp. 154–156.
Nestyev, Sergei Prokofiev, p. 104; Lawrence and Elisabeth Hanson, Prokofiev: A Biography in Three Movements (New York; Random House, 1964), p. 198.
Grigoriev, The Diaghilev Ballet, p. 241; Hanson, Prokofiev, p. 214.
Kochno, Diaghilev and the Ballets Russes, p. 264; Grigoriev, The Diaghilev Ballet, p. 237; Yuri Slonimsky, “Balanchine: The Early Years”, trans. John Andrews, Ballet Review, 5, No. 3 (1975–1976), pp. 37–38.
Цит. в: Serge Lifar, Serge Diaghilev: His Life, His Work, His Legend (1940; rpt. New York: Da Capo, 1976), p. 338.
Сергей Дягилев, письмо леди Джульет Дафф от 7 мая 1928 г., С-20–6.6, Serge Diaghilev Papers.
Цит. по: Nesta Macdonald, Diaghilev Observed by Critics in the United States and England 1911–1929 (New York: Dance Horizons, 1975), pp. 348, 349; Элизабет Курто, письмо Сергею Дягилеву от 29 октября 1927 г., 10–8, Serge Diaghilev Correspondence.
Леди Кунард, письмо Сергею Дягилеву от [1926], 10–20.12, Serge Diaghilev Correspondence. Курсив леди Кунард.
Philip Ziegler, Diana Cooper: A Biography (New York: Knopf, 1982), p. 146.
Леди Диана Купер, письмо Сергею Дягилеву, [1928], 10–4.1, Serge Diaghilev Correspondence.
Эрик Вольхейм, телеграмма Сергею Дягилеву от 4 марта 1927 г., Stravinsky-Diaghilev Foundation; “Sitter Out”, Dancing Times, January 1926, p. 449. В Англии «Лани» получили название The House Party.
“Sitter Out”, Dancing Times, July 1926, p. 339.
Ibid. P. 340.
Продолжая британскую тему, Дягилев попросил Кристофера Вуда, молодого английского экспатрианта с большими связями в Париже, подготовить оформление. В апреле 1926 г., однако, он освободил Вуда от заказа и назначил на его место модных сюрреалистов Макса Эрнста и Жоана Миро.
Edwin Evans, “Serge Diaghilev”, Musical Times, 1 October 1929, p. 894.
“Sitter Out”, “Modernism in the Dance”, Dancing Times, July 1929, p. 320.
Эрик Вольхейм, телеграмма Сергею Дягилеву от 1 октября 1926, Stravinsky-Diaghilev Foundation; лорд Ротермир, письмо Сергею Дягилеву, [1926], Pièce 84, Fonds Kochno.
Описание «Голубого экспресса» см.: Paul Fussell, Abroad: British Literary Traveling Between the Wars (New York: Oxford Univ. Press, 1980), pp. 131–133.
Frank W. D. Ries, “Jean Cocteau and the Ballet”, Diss. Indiana 1980, p. 67.
Nigel Wilkins, The Writings of Erik Satie (London: Eulenberg, 1981), p. 91; Darius Milhaud, Notes Without Music: An Autobiography (New York: Knopf, 1953), pp. 153–156.
Анри Матисс, телеграмма Сергею Дягилеву от 30 января 1929 г., Мишель Жорж-Мишель, письмо Сергею Дягилеву [1929], Stravinsky-Diaghilev Foundation. Очевидно, решение пригласить Дерэна для оформления «Чертика из табакерки» принадлежало графу Этьену де Бомону, а не Дягилеву. Будучи владельцем прав на исполнение музыки, Бомон разрешил Дягилеву «поставить балет с декорациями и костюмами Дерэна и в оркестровке Дариюса Мийо» в рамках Фестиваля Эрика Сати. Граф Этьен де Бомон, письмо Сергею Дягилеву от 29 апреля 1926 г., Pièce 10, Fonds Kochno.
Wyndham Lewis, “The Russian Ballet the Most Perfect Expression of the High Bohemia”, Time and Western Man (New York: Harcourt, Brace, 1928), p. 32.
Arthur Gold and Robert Fizdale, Misia: The Life of Misia Sert (New York Knopf, 1980), pp. 238, 245; Ries, “Jean Cocteau and the Ballet”, p. 167.
Вальтер Нувель, телеграмма Сергею Дягилеву от 9 апреля 1925 г., Stravinsky-Diaghilev Foundation.
Воспоминания о субботних ужинах группы в послевоенное время см.: Jean Hugo, Avant d’oublier 1918–1931 (Paris: Fayard, 1976), chap. 3.
Buckle, Diaghilev, p. 382.
Жан Кокто, письмо Сергею Дягилеву от 24 октября 1922 г., Pièce 23, Fonds Kochno.
Сценарий Кокто, опубликованный в 1924 г. вместе с партитурой балета, приведен в английском переводе в: Ries, “Jean Cocteau and the Ballet”, Appendix D 1, pp. 323–330.
Marie Laurencin, Jean Cocteau, Darius Milhaud, and Francis Poulenc, Théâtre Serge de Diaghilew: Les Biches (Paris: Editions des Quatre Chemins, 1924); Jean Cocteau, Georges Auric, Georges Braque and Louis Laloy, Théâtre Serge de Diaghilew: Les Fâcheux (Paris: Editions des Quatre Chemins, 1924).
Статьи в Paris-Journal и Création воспроизведены в английском переводе в: Nigel Wilkins, The Writings of Erik Satie (London: Eulenberg, 1981), pp. 73–74, а также в: Erik Satie, “Cahiers d’un mammifère”, Transatlantic Review, 2, No. 2, p. 218.
Francis Steegmuller, Cocteau: A Biography (Boston: Little, Brown, 1970), pp. 321–323. Очевидно, конфликт интересов не был проблемой для французских критиков того времени. Годом раньше Лалуа написал текст «Французский фестиваль» для брошюры сезона в Монте-Карло.
Paul Morand, “Paris Letter. June 1924”, Dial, July 1924, p. 67.
Haskell, Diaghileff, p. 312.
Типично в этом отношении письмо Хейгеля, издателя нот Мийо: «Уже в тринадцатый раз мы предъявляем нашу претензию и просим вас, в соответствии с вашим соглашением от 21 мая 1924 г., контракт номер 13 786, выслать нам сумму авторских отчислений от спектаклей “Голубого экспресса” Дариюса Мийо в Лондоне и Монте-Карло». Heugel, Editeurs de Musique, письмо Сергею Дягилеву от 17 марта 1925 г., С-20–11.3, Serge Diaghilev Papers. В апреле 1928 г. Общество авторов, драматургов и композиторов начало судебный процесс, чтобы вынудить Дягилева заплатить авторские отчисления Константу Ламберту за «Ромео и Джульетту». Герберт Тринг, письма Вальтеру Нувелю от 11 и 20 апреля 1928 г., 10–10.3а и 10–10.3, Serge Diaghilev Correspondence.
Richard Buckle, In Search of Diaghilev (New York: Thomas Nelson, 1956), p. 94. Согласно Баксту, «действительная цена Пикассо» к 1921 г. была 6000 франков за акт, даже «если в нем было не более десяти-двенадцати костюмов». Лев Бакст, письмо Жаку Руше от 29 декабря 1921 г., AJ13/1207, Archives Nationales.
Контракт между Сергеем Дягилевым и Анри Матиссом от 13 сентября 1919 г., Pièce 59, Fonds Kochno; контракт между Сергеем Дягилевым и Михаилом Ларионовым от 15 марта 1921 г., Pièce 51, Fonds Kochno; Сергей Дягилев, письмо графу Этьену де Бомону от 2 июня 1926 г. в: Au Temps du Bœuf sur le Toit 1918–1928, introd. Georges Bernier (Paris: Artcurial, 1981), p. 75; Сергей Дягилев, письмо Рене Леону от 3 апреля 1924 г., Stravinsky-Diaghilev Foundation; контракт между Сергеем Дягилевым и Педро Прюна от 18 ноября 1924 г., Pièce 76; Морис Утрилло, письма Сергею Дягилеву от 18 марта и 13 апреля 1926 г., Pièce 102; Жорж Орик, письмо Сергею Дягилеву от 7 апреля 1924 г., Pièce 3; Анри Соге, квитанция, 2 мая 1927 г., Pièce 88, Fonds Kochno.
Жорж Орик, письма Сергею Дягилеву от 7 апреля 1924 г. и от 10 июля 1925 г., Pièce 3, Fonds Kochno.
Борис Кохно, письмо Жоржу Орику от 9 июля 1925 г., Pièce 3, Fonds Kochno.
Жорж Орик, письмо Сергею Дягилеву от 10 июля 1925 г., Pièce 3, Fonds Kochno.
Universal-Edition A.G., письмо Витторио Риети от 24 сентября 1925 г., С-20–13.2, Serge Diaghilev Papers. Письмо Гри от 14 апреля 1921 г. цитируется в: Kahnweiler, Juan Gris, р. 38.
Якоб цит. по: Douglas Cooper, Picasso Theatre (New York: Abrams, 1968), p. 35; Patrick O’Brian, Picasso: A Biography (New York: Putnam, 1976), p. 56.
Daniel-Henry Kahnweiler and Francis Crémieux, My Galleries and Painters. Helen Weaver, introd. John Russell (New York: Viking Press, 1971), pp. 68, 71.
Вуд цит. по: David Chadd and John Cage, The Diaghilev Ballet in England, foreword Richard Buckle, catalogue for an exhibition at the Sainsbury Centre for Visual Arts, University of East Anglia, 11 October – 20 November 1979, p. 52; Paul Morand, “Paris Letter. July 1924”, Dial, September 1924, p. 241. «Бык на крыше» и «Жокей» были излюбленными представлениями в кругу высокой богемы.
Цит. по: Virginia Woolf, Roger Fry: A Biography (New York: Harcourt, Brace, Jovanovich, 1976), p. 237.
Список части лондонских выставок работ дягилевских художников см.: Frances Baldwin, “Critical Response in England to the Work of Designers for Diaghilev’s Russian Ballet, 1911–1929”, M. A. Thesis, Courtauld Institute of Art (London), 1980, Appendix 3; о Баксте см. в: Irina Proujan, Léon Bakst: Esquisses de décors et de costumes, arts graphiques, peintures, trans. Denis Dabbadie (Leningrad: Editions d’Art Aurora, 1986), pp. 227–230; о Гончаровой см.: Mary Chamot, Goncharova: Stage Designs and Paintings (London: Oresko Books, 1979), p. 23.
Кроме указанного выше, см.: G. E. Fussell, “The International Theatre Exhibition”, Dancing Times, August 1922, pp. 937–939; G.E.F., “Russian and Other Pictures at the Redfern Gallery”, Dancing Times, December 1925, p. 339.
Благодарю Мэри Энн де Влиг за то, что она показала мне каталог этой выставки. Даты указывают на то, что Дягилев начал коллекционировать работы кубистов и современных французских художников около 1916 г.
Во время летнего лондонского сезона 1926 г. галерея Нью Ченил в Челси организовала выставку коллекции Лифаря. Macdonald, Diaghilev Observed, p. 337. Показ был также запланирован на время американских гастролей 1928 г. Оливер Сэйлер, письмо Сергею Дягилеву от 8 июня 1928 г., 10–17.1, Serge Diaghilev Correspondence.
Контракты между Сергеем Дягилевым и Анри Матиссом от 13 сентября 1919 г., Pièce 59; Михаилом Ларионовым от 15 мая 1921 г., Pièce 51; и Педро Прюна от 18 ноября 1924 г., Pièce 76, Fonds Kochno; Поль Розенберг, телеграмма Сергею Дягилеву от 4 мая 1918 г., Stravinsky-Diaghilev Foundation.
Nikita D. Lobanov, Nina Lobanov, and Aimec Troyen, Russian Theatre and Costume Designs From the Fine Arts Museums of San Francisco, January 19 – March 9, 1980, introd. John Bowlt, p. 45; Le Tricorne: Ballet d’après les dessins en couleurs de Picasso (Paris: Editions Paul Rosenberg, 1920); Хуан Гри, письма Сергею Дягилеву от 29 апреля 1921 г. и 9 декабря 1923 г., Pièce 39, Fonds Kochno.
В программе сезона 1921 г. в Гетэ-Лирик целую страницу занимало следующее объявление: «Программы Русского балета, опубликованные в “Комедия иллюстре”, ищут все почитатели этой великолепной труппы, все интересующиеся театральным оформлением и все любители изысканных книг. Эти программы, где всегда используется не опубликованный ранее материал, вкупе с коллекцией “Комедия иллюстре” дают самый полный отчет о работе Сергея Дягилева. Теперь многих программ уже не найти, копии же оставшихся вы можете приобрести в “Комедия иллюстре”, Париж, улица Луи-ле-Гран, дом 32».
La Danse, April 1921, n. p.
“Sitter Out”, Dancing Times, April 1922, p. 586.
Collection des plus beaux programmes des Ballets russes de Serge de Diaghilew de 1909 à 1921 (Paris: M. de Brunoff, 1921); L’Oeuvre de Léon Bakst pour la Belle au Bois Dormant, introd. André Levinson (Paris, M. de Brunoff, 1922); Valerian Svetlov, Anna Pavlova, trans. W. Petroff (Paris: M. de Brunoff, 1922).
В период с 1917 по 1931 г. издательство Бомонта выпустило не менее двадцати шести томов поэзии и писем. A Bibliography of the Dance Collection of Doris Niles and Serge Leslie, IV, annotated Serge Leslie, introd. Sir Sacheverell Sitwell (London: Dance Books, 1981), p. 13. Об издательской деятельности Бомонта, касающейся балета, см. его автобиографическую книгу Bookseller at the Ballet, Memoirs Incorporating The Diaghilev Ballet in London, A Record of Bookselling, Ballet Going, Publishing, and Writing (London: C. W. Beaumont, 1975).
Выпуски «Треуголки», «Ланей» и «Докучных» уже были перечислены. Среди прочих можно назвать такие работы, как: Valentin Parnakh, Gontcharova et Larionow: l’art décoratif théâtral moderne (Paris: Edition La Cible, 1919); W. A. Propert, The Russian Ballet in Western Europe 1909–1920 (London: John Lane, 1921); Michel Georges-Michel, Ballets russes, histoire anecdotique (Paris: Editions du Monde nouveau, 1923); André Levinson, Histoire de Léon Bakst (Paris: Société d’Editions et de Librairie, 1924) и La Danse d’aujourd’hui: Etudes, Notes, Portraits (Paris: Duchartre et Van Buggenhoudt, 1929); Arnold Haskell, Some Studies in Ballet (London: Lanley, 1928).
Paul Morand, “Paris Letter. February 1927”, Dial, March 1927, p. 234.
Григорьев С. Балет Дягилева. С. 150.
Там же. С. 231.
Alice Nikitina, Nikitina By Herself, trans. Baroness Budberg (London: Alan Wingate, 1959), p. 33; Ninette de Valois, Invitation to the Ballet (London: John Lane, 1937), p. 46; “Paris Notes”, Dancing Times, September 1926, p. 557.
Заработок в мюзик-холлах, писал Рене Бизе, «обратно пропорционален количеству надетого». «Какая-нибудь grand nu, которая зарабатывает двадцать пять франков в день, должна быть благодарна своим внешним данным за такую щедрость… В среднем таким женщинам платят пятьсот-шестьсот франков в месяц». René Bizet, L’Epoque du Music-Hall (Paris: Editions du Capitole, 1917), pp. 45, 46.
“Paris Notes”, Dancing Times, September 1926, p. 557.
“Paris Notes”, Dancing Times, January 1926, p. 465; de Valois, Invitation to the Ballet, p. 54.
Сергей Дягилев, письмо Рене Леону от 3 апреля 1924 г., Stravinsky-Diaghilev Foundation.
de Valois, Invitation to the Ballet, p. 40.
Цит по: Catalogue of Decor and Costume Designs, Portraits, Manuscripts and Posters Principally for Ballet, Sotheby’s (London), 21 June 1973, Lot 4.
Григорьев С. Балет Дягилева. С. 166.
Григорьев указывает, что они не участвовали, хотя в последних интервью Вильтзак настаивает, что были. Carol Н. Denny, “Viva Vilzak: On His Toes at Eighty-Six”, San Fransisco Sunday Examiner and Chronicle, 31 January 1982, p. 13; George Heymont, “A Real Charmer”, Ballet News, February 1983, p. 16.
Григорьев С. Балет Дягилева. С. 166; de Valois, Invitation to the Ballet, p. 68.
Ibid. P. 58.
Дороти Коксон, письмо Сергею Дягилеву от 29 июля [1925], 10–4.2, Serge Diaghilev Correspondence.
Дороти Коксон, письмо Сергею Дягилеву [1926], 10–4.3, Serge Diaghilev Correspondence.
“Conversation with Karsavina”, Dancing Times, June 1965, p. 460.
Тамара Карсавина, письмо Сергею Дягилеву от 30 апреля 1926 г., Pièce 43, Fonds Kochno; платежная ведомость от 1 апреля – 1 июня 1926 г.
Волков С. Страсти по Чайковскому: Разговоры с Джорджем Баланчиным / Предисл. Мориса Бежара. М.: Независимая газета, 2001. 224 с. С. 180.
Цит. по: John Martin, Ruth Page: An Intimate Biography, Foreword Margot Fonteyn (New York: Marcel Dekker, 1977), p. 60.
de Valois, Invitation to the Ballet, pp. 59, 60.
Ibid. P. 46; Ninette de Valois, Come Dance With Me: A Memoir (London: Dance Books, 1973), p. 69.
Ibid.; Jean Hugo, Avant d’oublier 1918–1931 (Paris: Fayard, 1976), p. 63.
Цит. по: Buckle, Diaghilev, p. 537.
Фойе за кулисами Парижской оперы, использовавшееся как балетный класс, в который имели доступ владельцы лож (лат.). – Примеч. пер.
Arnold Bennett, “Russian Imperial Ballet at the Opera”, Paris Nights and Other Impressions of Places and People (New York: George H. Doran, 1913), p. 67.
A[natole] Nekludoff, Diplomatic Reminiscences Before and During the World War, 1911–1917, 2nd ed., trans. Alexandra Paget (London: John Murray, 1920), p. 292. Графиня де Греффюль также возглавляла покровительственную комиссию 1910 г.
“Un Monsieur de l’Orchestre”, “La Soirée. La Saison russe au Châtelet”, Figaro, 20 May 1909, p. 5; Regina, “Le Vernissage à l’exposition russe”, Figaro, 16 October 1906, p. 2; Robert Brussel, “Concert de l’Exposition de l’Art Russe”, Figaro, 7 November 1906, p. 3; Ch. D., “Rimsky-Korsakow à l’Opéra”, Figaro, 15 May 1907, p. 5; C. D., “Dans la salle”, Figaro, 17 May 1907, p. 5; “Le Masque de Fer”, “Echos”, Figaro, 6 May 1909, p. 1, and 10 May 1909, p. 1; Raoul Brévannes, “Le Gala russe”, Figaro, 19 May 1909, p. 4; Raoul Brévannes, “Le Second Gala russe”, Figaro, 25 May 1909, p. 4; A. V. Lunacharsky, V mire muzyki, ed. G. B. Bernandt and I. S. Sats (Moscow, 1958), p. 507 (for 1907 patronage committee); Boris Godunov flyer, GA123–7, Gabriel Astruc Papers, Dance Collection, New York Public Library (for 1908 patronage committee); “feuilles de location”, AJ13/1292, Archives Nationales (Paris).
“Le Monde et la Ville”, Figaro, 23 May 1909, p. 2.
Список французских посетителей Байрейта с 1876 по 1902 года см.: Albert Lavignac, Le Voyage Artistique à Bayreuth, 5th ed. (Paris: Charles Delagrave, 1903), pp. 548–578, 601–617.
Изначально пьеса была написана Оскаром Уайльдом на французском языке. – Примеч. пер.
См., например: [Comte] Robert de Montesquiou, “Aubrey Beardsley”, Figaro, 21 February 1907, p. 1; Georges Claretie, “L’auteur de ‘Salomé’”, Figaro, 1 April 1907, p. 1; Robert Brussel, “Avant ‘Salomé’”, Figaro, 6 May 1907, p. 4; “Un Monsieur de l’Orchestre”, “La Soirée. Salomé au Châtelet”, Figaro, 7 May 1907, p. 4; Gabriel Fauré, “Les Theatres. Salomé”, Figaro, 9 May 1907, p. 4; René Lara, “Notre Page Musicale”, Figaro, 11 May 1907, p. 2; Emile Berr, “Salomé en fuite”, Figaro, 15 May 1907, p. 4; Foemina, “Salomé”, Figaro, 16 May 1907, p. 1.
Никола де Бенардаки был польским евреем, пожалованным дворянством, о котором «говорили, что он нажил свое состояние чайной торговлей. Одно время он был распорядителем бала при царском дворе и с тех пор получил право называться «вашим превосходительством». Его дочь Мария была первой мальчишеской любовью Пруста. George D. Painter, Marcel Proust A Biography (Harmondsmith, Middlesex: Penguin, 1977), I, p. 42. На визитной карточке Бенардаки времен 1909 г., сохранившейся в бумагах Астрюка, он именовался «государственным советником Российского государства». Терещенко был членом партии кадетов, а после Февральской революции служил министром финансов в правительстве Керенского. Olga Crisp, “The Russian Liberals and the 1906 Anglo-French Loan to Russia”, Slavonic and East European Review, 39 (1960–1961), pp. 497–511; Lionel Kochan, Russia in Revolution, 1890–1918 (London: Granada, 1970), pp. 118, 119. Граф Ностиц был российским военным разведчиком во Франции. “Le Monde et la Ville”, Figaro, 8 May 1909, p. 2.
Вторая жена Дебюсси Эмма Бардак, урожденная Мойз, до брака с композитором была женой известного еврейского финансиста Сигизмунда Бардака. Семейство Лион занималось производством роялей (Плейель Лион и K°), а отчим Макса Лиона был из Ротшильдов. От союза Грамон—Ротшильд произошла на свет Элизабет Грамон, герцогиня де Клермон-Тоннер, писательница, подруга Пруста, чей отчим также происходил из рода Ротшильдов. Семья маркизы де Ганэ, урожденная Габер, также была известна в финансовом сообществе. Маркизу де Ганэ принадлежали великолепные полотна Рейнольдса, Гойи и Ватто, а на роскошных приемах, которые давала эта пара, выступали величайшие певцы своего времени. Алиса Гейне, дальняя родственница поэта, вышла замуж за герцога Ришелье, а затем за князя Монако. Edward Lockspeiser, Debussy, rev. ed. (London: J. M. Dent, 1963), p. 37; Philippe Jullian, Robert de Montesquiou: A Fin-de-Siecle Prince, trans. John Haylock and Francis King (London: Seeker and Warburg, 1965), pp. 73, 174, 186; Mina Curtiss, Other People’s Letters: A Memoir (Boston: Houghton Mifflin, 1978), p. 44; Arsène Alexandre, “La Collection Camondo au Louvre”, Figaro, 4 June 1914, p. 2; “Courrier des Théâtres”, Figaro, 16 May 1908, p. 4; “Henri Deutsch de la Meurthe”, El Sol (Madrid), 26 November 1919, p. 10; “Marquise de Ganay”, Femina, 1 May 1922, p. 40; “Le Monde et la Ville”, Figaro, 4 June 1908, p. 2; Gabriel Astruc, Le Pavillon des fantômes (Paris: Grasset, 1929), p. 5; The Universal Jewish Encyclopedia (1942); Encyclopaedia Judaica (New York: Macmillan, 1971); Grosse Jüdische National-Biographie; Dictionnaire de Biographie Française (Paris: Librairie Letouzey, 1951). Записи Астрюка о возможных жертвователях находятся в: GA16–1/2/3, Astruc Papers.
См., например, список владельцев лож на костюмированных балах, которые он организовывал как представитель Парижской ассоциации театральных директоров в Опера в апреле 1914 года. AJ13/1286, Archives Nationales. В своих воспоминаниях Астрюк особо выделяет Камондо, «самого щедрого из меценатов», за его безмерную щедрость и поддержку всех многочисленных проектов Астрюка, включая Театр Елисейских Полей. Astruc, Le Pavillon des fantômes, pp. 5, 264, 266.
“Feuilles de location”, AJ13/1292, Archives Nationales.
Misia Sert, Two or Three Muses (London: Muséum Press, 1953), p. 111. Кроме собственных мемуаров Миси, это описание содержится в: Arthur Gold and Robert Fizdale, Misia: The Life of Misia Sert (New York: Knopf, 1980).
“Memoirs of the Late Princesse Edmond de Polignac”, Horizon, August 1945, pp. 110–141; Michael de Cossart, The Food of Love: Princesse Edmond de Polignac (1865–1953) and Her Salon (London: Hamish Hamilton, 1978); [Comte] Alexandre de Gabriac, “La Vie de Paris. Un spectacle d’art”, Figaro, 1 June 1908, p. 1; “Le Monde et la Ville”, Figaro, 4 June 1908, p. 2; 13 April 1907, p. 2; 6 April 1908, p. 2; 6 May 1909, p. 2; Gabriel Astruc, “Rapport Confidentiel sur la Saison Russe”, 19 November 1909, GA25–17, Astruc Papers.
Dictionnaire de Biographie Française; Encyclopaedia Judaica; Jullian, Robert de Montesquiou, p. 37; Painter, Proust, I, pp. 118, 119; “Le Monde et la Ville”, Figaro, 20 May 1907, p. 2; 25 May 1907, p. 2; 12 June 1909, p. 2; Сергей Дягилев, телеграмма Габриелю Астрюку от 15 июня 1912, GA74–26, Astruc Papers.
The Memoirs of Count Witte, trans. Abraham Yarmolinsky (London: Heinemann, 1921), p. 381; Jullian, Robert de Montesquiou, pp. 41, 223; The Jewish Encyclopedia (New York: Funk and Wagnalls, 1942).
Кроме перечисленных источников см. также: Paul Н. Emden, Money Powers of Europe in the Nineteenth and Twentieth Centuries (London: Sampson Low, Marston, 1937), pp. 259–261.
Raymond Rudorff, The Belle Epoque (New York: Saturday Review Press, 1972), p. 245.
de Cossart, The Food of Love, pp. 65–67.
Erika Ostrovsky, Eyes of Dawn: The Rise and Fall of Mata Hari (New York: Macmillan, 1978), pp. 68–79; Marie Rambert, Quicksilver: An Autobiography (London: Macmillan, 1972), pp. 41, 42; “Le Monde et la Ville”, Figaro, 31 May 1907, p. 2; 13 May 1908, p. 2; 18 May 1908, p. 2; 10 June 1908, p. 2.
“Le Monde et la Ville”, Figaro, 28 May 1907, p. 2; Arbie Orenstein, Ravel: Man and Musician (New York: Columbia Univ. Press, 1968), p. 54.
Robert Brussel, “Concert de l’Exposition de l’Art Russe”, Figaro, 7 November 1906, p. 3; “L’Evolution musicale en Russie”, Figaro, 28 February 1907, p. 4; 11 March 1907, p. 4; 20 March 1907, p. 5; 26 March 1907, p. 5; 31 March 1907, p. 4; 1 April 1907, p. 4; 2 April 1907, p. 5; 1 May 1907, p. 6.
M.-D. Calvocoressi, “La Musique Russe”, Le Correspondant, 10 May 1907, pp. 462–488, and “L’Avenir de la musique russe”, Mercure de France, 16 May 1909, pp. 262–274; Louis Laloy, “La Musique russe”, La Grande Revue, 10 June 1908, pp. 597–606, “Le Dit de la bande d’Igor et le prince Igor de Borodine”, La Grande Revue, 25 May 1909, pp. 397–403, and “La Musique. La saison russe. La Flute enchantée”, La Grande Revue, 10 June 1909, pp. 607–610.
Paul Morand, “Paris Letter. May 1925”, Dial, June 1915, p. 499.
Maurice Denis, Journal, II (Paris: La Colombe, 1957), p. 133.
Gold and Fizdale, Misia, pp. 231, 232; Arthur Rubinstein, My Young Years (London: Cape, 1973), pp. 231, 232.
Marcel Proust, The Captive, trans. C. K. Scott Moncrieff (New York: Vintage, 1970), pp. 164, 165. Пруст M. Пленница. М.: Художественная литература, 1990.
Gold and Fizdale, Misia, p. 23; Rubinstein, My Young Years, pp. 214, 230. Потоцкий был членом комитета покровителей антрепризы 1910 г. “Courrier des Théâtres”, Figaro, 2 June 1910.
“Courrier des Théâtres”, Figaro, 2 June 1910; Program, 23 June 1910, Stravinsky-Diaghilev Foundation (New York).
Geoffrey G. Field, Evangelist of Race: The Germanic Vision of Houston Stewart Chamberlain (New York: Columbia Univ. Press, 1981), chap. 7.
Фестиваль (нем.). – Примеч. пер.
Albert Boime, “Entrepreneurial Patronage in Nineteenth-Century France”, Enterprise and Entrepreneurs in Nineteenth and Twentieth-Century France, ed. Edward C. Carter II, Robert Forster, and Joseph N. Moody (Baltimore: Johns Hopkins Univ. Press, 1976), pp. 151–152.
Ostrovsky, Eyes of Dawn, ch. 10; Suzanne Sheldon, Divine Dancer: A Biography of Ruth St. Denis (Garden City, N.Y.: Doubleday, 1981), pp. 73–75.
Delhi, “La Vie de Paris. Le Goût Oriental”, Figaro, 4 June 1913, p. 1.
Paul Morand, “Paris Letter. May 1925”, Dial, June 1925, p. 154.
В. Серов, письмо в редакцию газеты «Речь», 22 сентября 1910 г. Письмо Серова было выпадом против точки зрения, высказанной незадолго до этого Теляковским в интервью газете «Биржевые ведомости». Выражаю благодарность профессору Илье Зильберштейну за предоставленную мне копию текста письма Серова.
H[enri] G[heon], “La Saison russe au Châtelet”, Nouvelle Revue Française, September 1911, pp. 250, 251.
Richard Buckle, Diaghilev (London: Weidenfeld and Nicolson, 1979), p 154.
Igor Stravinsky and Robert Craft, Memories and Commentaries (Garden City, N.Y.: Doubleday, 1960), p. 77.
Painter, Proust, I, pp. 101, 162, 163; “Memoirs of the Late Princesse de Polignac”, pp. 132, 133; “Le Monde et la Ville”, Figaro, 13 April 1907, p. 2; “Courrier des Theatres”, Figaro, 11 May 1907, p. 4; “Le Monde et la Ville”, Figaro, 13 May 1907, p. 2; 23 April 1909, p. 2; 1 May 1909, p. 2; “A Travers Paris”, Figaro, 2 June 1912, p. 1; Ivor Guest, Le Ballet de I’Opera de Paris: Trois Siècles d’histoire et de tradition, trans. Paul Alexandre (Paris: Théâtre National de l’Opéra, n. d.), p. 152.
Janet Flanner, Paris Was Yesterday, 1925–1939, ed. Irving Drutman (New York: Viking, 1972), p. 54.
George Barbier, “Le Vestiaire de Thalie”, Femina, 1 December 1920, p. 8.
Serov, Rech’, 22 September 1910; Alfred H. Barr, Matisse: His Art and His Public (New York: Museum of Modern Art, 1951), pp. 132–135. Léger’s 1914 “Exit the Ballets Russes” is reproduced in Magdalena Dabrowski, Contrasts of Form: Geometric Abstract Art 1910–1980, introd. John Elderfield (New York: Museum of Modern Art, 1985), p. 37.
Guillaume Apollinaire, “Futurisme et Ballets russes”, Chroniques d’art 1902–1918, ed. L.-C. Breunig (Paris: Gallimard, 1960), p. 479; ibid.: “Nouvelle Musique”, p. 476.
John Cournos, Autobiography (New York: Putnam, 1935), p. 212.
Charles Spencer, Erté (New York: Clarkson Potter, 1970), p. 23.
Paul Poiret, My First Fifty Years (London: Gollancz, 1931), pp. 90, 91, 101–103, 176; Martin Battersby, “Diaghilev’s Influence on Fashion and Decoration”, in Charles Spencer and Philip Dyer, The World of Serge Diaghilev (Chicago: Henry Regnery, 1974), pp. 150, 151.
Charles Spencer, Leon Bakst (London: Academy Editions, 1973), pp. 170–183; Virginia Cowles, 1913: The Defiant Swan Song (London: Weidenfeld and Nicolson, 1967), pp. 165–167.
Louis Laloy, “La Musique: Les Ballets Russes. Igor Stravinski”, цит. по: Truman C. Bullard, “The First Performance of Igor Stravinsky’s Sacre du Printemps”, Diss. Rochester (Eastman School of Music) 1971, I, p. 26.
“Courrier des Théâtres”, Figaro, 2 June 1910.
Ibid. 1 July 1910.
Ibid. 19, 23, and 25 June 1910.
Francis Steegmuller, Cocteau: A Biography (Boston: Little, Brown, 1970), pp. 74, 75. Упомянутая статья была заказана Астрюком как рекламный текст и впоследствии опубликована в «Комедия иллюстре». За свои услуги Кокто выставил Музыкальному обществу Астрюка счет на 100 франков. Дягилев использовал писательское мастерство Кокто и по другим случаям. Его письмо на первую страницу «Фигаро», где высказывался протест против оскорбительных нападок газеты на «Послеполуденный отдых фавна», в действительности принадлежало перу Кокто: Gaston Calmette, “A propos d’un faune”, Figaro, 31 May 1912, p. 1. Рукописный черновик Кокто находится в: Jean Cocteau Collection, George Arents Research Library, Syracuse University.
Igor Stravinsky, Stravinsky: An Autobiography (New York: Simon and Schuster, 1936), p. 47. Бумаги Опера по поводу предварительного просмотра «Жизели», который прошел 17 июня 1910 года, находятся в: AJ13/1292, Archives Nationales. Астрюк использовал эту стратегию не только для дягилевских спектаклей. 9 июня 1913 г. «Фигаро» сообщила об «интереснейшем частном показе новой оперы» итальянского композитора Ильдебрандо да Пармы, автора музыки к «Пизанелле» Иды Рубинштейн, первое представление которой прошло в театре Шатле двумя днями позже. Главную роль пела мадам Голубофф, известная фигура в парижском сообществе русских, а среди гостей были Мися Эдвардс (Серт), принцесса де Полиньяк, Клод Дебюсси с женой, Габриеле Д’Аннунцио, граф Гарри Кесслер, Жан Кокто, Хосе-Мария Серт и российский посол. См.: “Le Monde et la Ville”, Figaro, 9 June 1913, p. 3, col. 6.
The Journals of Andre Gide, ed. and trans. Justin O’Brien (New York: Knopf, 1947), I, pp. 265, 266.
Edmonde Charles-Roux, Chanel-Her Life, Her World and the Woman Behind the Legend She Herself Created, trans. Nancy Amphoux (New York: Knopf, 1975), p. 125; Gold and Fizdale, Misia, pp. 42–51; Painter, Proust, I, p. 132.
A[ndré] G[ide], “Les représentations russes au Châtelet”, Nouvelle Revue Française, 1, No. 1, p. 546; Jacques-Emile Blanche, “Les Décors de l’Opéra russe”, Figaro, 29 May 1909, p. 1.
S. L. Grigoriev, The Diaghilev Ballet 1909–1929, trans, and ed. Vera Bowen (London: Constable, 1953), pp. 28–29.
Doris J. Monteux, It’s All in the Music (New York: Farrar, Straus and Giroux, 1965), p. 90; Bullard, “First Performance”, I, p. 152; Charles-Roux, Chanel-Her Life, p. 125.
Jules Claretie, “La Vie à Paris”, Le Temps, 21 May 1909, p. 2, col. 5. См. также: Raoul Brevannes, “Le Gala russe”, Figaro, 19 May 1909, p. 4.
Miguel Zamacoïs, “Lettre à mon neveu sur la Danse”, Figaro, 12 June 1913, p. 1.
Irène Castle, Castles in the Air, as told to Bob and Wanda Duncan (Garden City, N.Y.: Doubleday, 1958), pp. 56–58, 79, 80; E. Cornuche, Letters to Gabriel Astruc, 22 June 1912 and 1 July 1912, GA115–7, GA115–8, Astruc Papers. The Casino selected and contracted entertainment for the resort.
“Le Monde et la Ville”, Figaro, 9 June 1913, p. 3; Ververt, “La Vie de Paris. Danses d’autrefois. Une Fete chez la comtesse de Beam”, Figaro, 8 June 1913, p. 1; Regina, “La Nuit Blanche”, Figaro, 2 June 1913, p. 3.
Charles-Roux, Chanel-Her Life, pp. 118–120. См. илл. 60.
Ibid, pp. 122–126.
“The New Lawn Tennis Ballet”, Dancing Times, June 1913, p. 579; “Courrier des Theatres”, Figaro, 14 May 1913, p. 5; 19 May 1913, p. 7; 1 July 1910; 23 May 1913, p. 6; 11 June 1913, p. 5.
Carl Van Vechten, Fragments From an Unwritten Autobiography (New Haven: Yale Univ. Library, 1955), II, p. 20; Roland-Manuel, “Le Sacre du Printemps”, цит. в: Bullard, “First Performance”, I, p. 107; Gabriel Astruc, “A Propos d’un temple enseveli”, ibid., I, p. 105.
Leon Vallas, «Le Sacre du Printemps», ibid., I, p. 108.
Ibid., I, p. 72; Astruc, Le Pavillon des fantômes, pp. 274, 275; Rubinstein, My Young Years, pp. 231, 232; Paul Bochin, “Le Conflit des Musiciens”, Le Journal, 28 April 1911, GA122–2, Astruc Papers. Первая карикатура, нарисованная Жаном Гастом, была воспроизведена в лондонской Bystander. Gabriel Astruc, Clipping File, Dance Collection. Вторая – «Итальянский сезон в Париже», авторства Сэма, – появилась в: Figaro, 17 May 1910, p. 3.
Контракт между M. Cornuche и Сергеем Дягилевым от 30 декабря 1911 г. GA64–16, Astruc Papers.
Dame Marie Rambert, “What the Diaghileff Ballet Meant to Us”, Ballet Decade, ed. Arnold Haskell (London: Adam and Charles Black, 1956), p. 203.
Так, в течение летних сезонов труппы 1911 и 1912 гг. постановки Дягилева часто показывали вместе с одноактными операми «Паяцы» и «Секрет Сюзанны». Зимой 1913 г. иную программу составили «Карнавал» и «Саломея» Рихарда Штрауса. В последнем довоенном сезоне программа объединяла спектакль «Соловей» (в оригинальной оперной версии) с балетами «Мидас» и «Шехеразада», либо «Золотого петушка» с «Шехеразадой» или «Нарциссом», либо «Майскую ночь» с «Петрушкой».
Francis Toye, “Opera in England”, English Review, December 1911, p. 159. Критик «Сатердей-ревью» Джон Рансимен разделял эту точку зрения. «Что общего имеет Ковент-Гарден с оперой? – спрашивал он в 1913 г. – Номинально – конечно же много общего, на практике же почти ничего. Центр интересов – не сцена, а зрительный зал. Успех сезона обеспечивает не Мельба, не Карузо и не прочие певцы, а та леди в ложе, над чьей талией можно видеть самый узкий кусок ткани и чей головной убор и все остальное выглядят на самую крупную сумму». См.: John F. Runciman, “Opera of Today and Yesterday”, Saturday Review, 26 July 1913, p. 107.
Henry Hardinge, “A Word on the Hammerstein Opera”, English Review, March 1912, p. 724. Летом 1912 г. оперы Пуччини «Мадам Баттерфляй», «Богема», «Девушка с Запада» и «Тоска» составляли почти четверть всех представлений «Большого сезона». Верди был представлен «Аидой», «Риголетто» и «Травиатой», Россини – «Севильским цирюльником», Леонкавалло – «Паяцами», а Вольф-Феррари – «Секретом Сюзанны» и «Ожерельем Мадонны». Среди прочих опер, поставленных в этом сезоне, были «Луиза» Шарпантье, «Гугеноты» Мейербера (в итальянском переводе Gli Ugonotti), «Манон» Массне и «Кончита» Зандонаи.
«Это очень яркий признак нашего времени, не правда ли? – гласило начало статьи в газете “Байстендер” осенью 1911 г., когда дягилевская антреприза выступала в Королевском оперном театре на одной сцене с “Кольцом Нибелунга” Вагнера. – Это безумное увлечение Русским балетом и танцами в Ковент-Гарден, при котором даже опера оказалась в тени (сравните наряды и драгоценности, которые можно увидеть в вечера показов “Кольца”, с теми нарядами и украшениями, которые мы видим, когда танцует Русский балет)…» O.M.D., “Society’s Love of the Wordless Play”, Bystander, 15 November 1911, p. 332. О «второсортных итальянцах» см. в рецензии на книги: Rosa Newmarch, The Russian Opera и H. Montague Nathan, History of Russian Music в: English Review, June 1914, p. 568.
“The Woman About Town”, Sketch, 17 April 1912, p. 63.
Среди периодических изданий круга интеллигенции были: «Фортнайтли ревью» (Fortnightly Review), «Эдинбург ревью» (Edinburgh Review), «Инглиш ревью» (English Review), а также еженедельные издания: «Нью эйдж» (New Age), «Атенеум» (Athenaeum), «Нэйшн» (Nation), «Сатердей ревью» (Saturday Review), «Аутлук» (Outlook) и «Нью стейтсмен» (New Statesman). «Атенеум» публиковал заметки о дягилевских премьерах, обычно краткие, в колонке «Музыкальных сплетен». «Аутлук» более развернуто освещал постановки Русского балета, но поскольку такие рецензии обычно писал Эдвин Эванс, в центре внимания оказывалась главным образом музыка. Лишь «Нью стейтсмен» начиная с весны 1913 г. регулярно писал о балетных постановках Дягилева. Напротив, ориентированные на светское общество «Скетч» и «Байстендер» часто упоминали о дягилевских событиях и публиковали фотографии и обзоры спектаклей.
Н. Saxe Wyndham, Royal Opera and Imperial Russian Ballet. Coronation Season Covent Garden 1911. Containing the Plots of the Operas and Ballets and Biographical Sketches with Portraits of the Singers and Dancers (London: John Long, 1911).
В 1914 г. рядовой любитель театра в Уэст-Энде мог приобрести билет в партер за половину гинеи, что составляло около 13 фунтов стерлингов по ценам 1981 г. (Tom Sutcliffe, “Has the Arts Council Outlived its Usefulness?” Guardian, 27 January 1981, p. 9.) На дягилевские же спектакли билеты чаще всего стоили не меньше гинеи (1 гинея = 21 шиллинг), а на некоторые программы цена билета на место в первых рядах возрастала даже до 25–30 шиллингов. На один шиллинг в театрах Уэст-Энда можно было купить билет на балкон верхнего яруса, но в 1913 г. в Друри-Лейн места в амфитеатре стоили в четыре и даже в пять раз дороже. Места в первых рядах конечно же были самыми дорогими в театре. Осенью 1911 г. цена одного билета в партер или в ложу составляла 4 гинеи, а в Друри-Лейн в 1913–1914 гг. одно место в самых дорогих ложах стоило в два раза дороже. Впервые за многие десятилетия балет в Лондоне определял цену билетов на оперные спектакли.
«Публика Ковент-Гарден никогда не дожидалась костюмированной вечеринки, чтобы блеснуть одеяниями, наилучшим образом подходящими к случаю. Когда в один из последних вечеров миссис Браун Поттер вошла в ложу в сопровождении колоритной баронессы де Мейер, ее тюрбан отвлек от сцены взгляды всего зала». “Crowns, Coronets, Courtiers”, Sketch, 15 November 1911, p. 172.
“Sitter Out”, Dancing Times, September 1913, p. 730; “Crowns, Coronets, Courtiers”, Sketch, 15 November 1911, p. 172.
“The Fancy Dress Ball Craze”, Dancing Times, February 1913, p. 411; “My Lady Fair. Debenham and Freebody”, ibid., p. 405; “My Lady Fair. At the Pantomime Ball”, Dancing Times, January 1913, p. 167; “My Lady Fair. The Versailles Ball”, Dancing Times, June 1913, p. 595; Diana Cooper, The Rainbow Comes and Goes (Boston: Houghton Mifflin, 1958), p. 83; “Lady Diana Goes to the Ballet”, English Review, August 1911, pp. 167, 169. Эту пьесу приписывают Гордону Крэгу; она воспроизведена в: Gordon Craig on Movement and Dance, ed. and introd. Arnold Rood (New York: Dance Horizons, 1977), pp. 77–79.
Virginia Woolf, The Years (New York: Harcourt, Brace and World, 1965), p. 254.
“Russian Ballet at Covent Garden”, Dancing Times, February 1913, p. 379.
Списки владельцев лож на сезонах Бичема в «Таймс»: “The Beecham Opera Season. List of Subscribers”, Times, 20 January 1913, p. 9; “Russian Opera at Drury Lane. Subscribers to Sir J. Beecham’s Season”, Times, 20 June 1913, p. 10; “Opera at Drury Lane. Subscribers for Beecham Season”, Times, 8 May 1914, p. 11.
O.M.D., “Parliament as the Stepping Stone to Society”, Bystander, 27 December 1911, p. 686.
В случаях, когда не указаны другие источники, информация взята из газет «Скетч» (главным образом из колонок “The Woman About Town”, “Crowns, Coronets, Courtiers”, “Small Talk”, Ella Hepworth Dixon, “Woman’s Ways”) и «Байстендер» (“At Court and in Society”), «Придворного циркуляра» газеты «Таймс» и обзоров дягилевских событий в той же газете времен 1913–1914 гг., а также публиковавшихся в ней списков владельцев лож (см. сноску 15).
Дела государственной важности редко лишали Асквита возможности провести вечер на балете. Об этом свидетельствует и строфа из стихотворения, написанного его подруге Венеции Стенли в 1913 г.: “А hasty rubber: off I hie/Where Beecham rules the scene:/And sample for the 20th time/Nijinsky, Chaliapine”. (Пишу второпях: уже спешу / Туда, где сценой правит Бичем / И служат образцом для всего XX века / Нижинский и Шаляпин). H. Н. Asquith, Letters to Venetia Stanley, ed. Michael and Eleanor Brock (New York: Oxford Univ. Press, 1982), p. 32. Другие упоминания о дягилевских спектаклях появляются в его письмах от 24 июня и 22 июля 1914 г. Внучки Асквита Хелена и Пердита, как и дети многих других членов кабинета министров, в 1914 г. посещали частные танцевальные уроки Мари Рамбер. Marie Rambert, Quicksilver: An Autobiography (London: Macmillan, 1971), p. 85.
R. С. К. Ensor, England 1870–1914 (Oxford: Clarendon Press, 1936), pp. 610–614; Who’s Who (1914); Almanach de Gotha (1914), pp. 855–860. Среди дягилевской публики были и другие высокопоставленные лица и создатели империи: лорд Лукас, парламентский секретарь Министерства сельского хозяйства; граф Хоуи, управляющий двором королевы Александры; барон Сэндхерст, камергер; Харольд Теннант (шурин премьер-министра Асквита), заместитель министра обороны; сэр Фрэнк Светтенхэм; достопочтенный Чарльз Фортескью и его брат сэр Сеймур Фортескью.
“Small Talk”, Sketch, 15 April 1914, p. 60.
«Король и королева, – сообщала “Таймс” в марте 1913 г., – в наступающем сезоне собираются почтить своим вниманием Королевский театр Ковент-Гарден». «Придворный циркуляр» «Таймс» от 4 марта 1913 г., с. 11. В этом сезоне часто отмечалось присутствие их величеств в Ковент-Гарден, то же повторилось и на следующее лето. В июле 1913 г. они нанесли лишь один визит в конкурирующий театр Друри-Лейн – на спектакль «Бориса Годунова». «Придворный циркуляр» «Таймс» от 22 июля 1913 г., с. 11. О принцессе Ройяль и принцессе Мод см.: «Придворный циркуляр» «Таймс» от 27 мая 1914 г., с. 11.
“Mrs. Asquith’s ‘At Home’”, Times, 16 July 1914, p. 11.
Margot Asquith, The Autobiography of Margot Asquith (London: Thornton Butterworth, 1920), pp. 173–200; Daphne Fielding, The Rainbow Picnic: A Portrait of Iris Tree (London: Methuen, 1974), pp. 28–32.
Osbert Sitwell, Great Morning: An Autobiography (London: Reprint Society, 1948), p. 250.
Cooper, Rainbow, p. 77.
Sitwell, Great Morning, pp. 252, 253.
Philippe Jullian and John Phillips, Violet Trefusis: Life and Letters (London: Hamish Hamilton, 1976), pp. 32, 33; Catalogue of Dance, Theatre, Opera, Music Hall and Film, Sotheby’s (New York), 21 November 1984, Lot 42.
“Lorgnette”, Bystander, 15 November 1911, pp. 328–330. Благосостояние Теннанта зиждилось на крупных химических производствах в Глазго. И лорд Гленконнер, и его брат Гарольд Джон Теннант вошли в политику под знаменем либералов. Записи 1914 г. в Who’s Who часто содержат сведения о существовании и местонахождении крупных коллекций, а также имена представленных в них художников.
“Small Talk”, Sketch, 12 July 1911, p. 8; Tamara Karsavina, Theatre Street: The Reminiscences of Tamara Karsavina, foreword J. M. Barrie (London: 1 leinemann, 1930), p. 279; Arthur Gold and Robert Fizdale, Misia: The Life of Misia Sert (New York: Knopf, 1980), p. 218. Миссис Брэдли Мартин была дочерью Исаака Шермана, нью-йоркского финансиста в сфере железных дорог, наперсника Авраама Линкольна. Роскошный прием, устроенный ее мужем в Дельмонико во время экономической депрессии, был изображен на одной из знаменитых карикатур того времени.
Среди них были маркиз Рипон, совладелец Собрания Уоллес и многолетний член совета директоров Ковент-Гарден; барон Вердейл, совладелец Национальной галереи портретов; сэр Клод Филипс, хранитель Собрания Уоллес в 1897–1911 гг.; сэр Сидни Колвин, бывший преподаватель художественной школы Слейда, хранитель гравюр и рисунков в Британском музее в 1884–1912 гг.; театральный художник Чарльз Рикеттс, соиздатель «Дайал» в 1889–1897 гг., издатель книг и публикаций Вэйла в 1896–1904 гг. и автор книг о Тициане и Прадо; Роберт Каст, автор обширных трудов об искусстве итальянского Возрождения; художники Джон Сингер Сарджент, сэр Джордж Фрэмптон, сэр Уильям Госкомб Джон, Джеймс Шеперд, Эдмунд Дюлак и Глин Филпот. Сарджент рисовал Нижинского (по просьбе леди Рипон), а также создал несколько рисунков Карсавиной.
О бароне и баронессе де Мейер см.: “Chaliapin’s Farewell. End of the Drury Lane Opera Season”, Times, 25 July 1914, p. 6; о Мельба, см.: “Die Zauberflote’ Mozart’s Opera at Drury Lane. Mr. T. Beecham’s Conducting”, Times, 22 May 1914, p. 10; о Карузо и Тетраццини см.: “Notes From the Opera Houses”, Sketch. 10 June 1914, p. I; о Ситуэллах см.: Osbert Sitwell, Great Morning, pp. 236, 143 et seq.; о Драперах см.: Muriel Draper, Music at Midnight (New York: Harper, 1929), pp. 135 et seq.; письмо Джорджа Бернарда Шоу в газету «Нэйшн» от 18 июля 1914 г. см.: Shaw’s Music: The Complete Musical Criticism, ed. Dan H. Laurence (New York: Dodd, Mead, 1981), II, p. 661.
По поводу Осберта Ситуэлла см.: Great Morning, pp. 136–140; о леди Констанс Стюарт-Ричардсон см.: «Придворный циркуляр» «Таймс» от 15 ноября 1911 г., с. 11. Миссис Патрик Кэмпбелл приобрела абонемент под фамилией мужа – госпожа Джордж Корнуоллис Уэст. Книга Эллен Терри «Русский балет» вышла в 1913 г. Осберт, служивший в 1913–1919 гг. в элитном Гренадерском гвардейском полку, был на дружеской ноге и со старшим, и с младшим поколением «Душ». Когда леди Констанса, пренебрегая условностями, стала заниматься танцем профессионально, это вызвало немало насмешек в прессе.
“Notes From the Opera Houses”, Sketch, 10 June 1914, p. “I”.
“Notes From the Opera Houses”, Sketch, 8 July 1914, p. XII.
“Der Rosenkavalier. First Production in England. Opening of Mr. Beecham’s Spring Season”, Times, 30 January 1913, p. 6.
В репертуаре также были «Тристан и Изольда» Вагнера (два показа) и «Мейстерзингеры» (четыре показа).
“The Russian Ballet. Triple Bill at Covent Garden”, Times, 5 February 1913, p. 8.
Sitwell, Great Morning, p. 256.
Эрнест Ньюман, письмо редактору «Нэйшн», 26 марта 1910 г.; воспроизведено в: Shaw’s Music, III, p. 612.
«Сейчас в том, что касается модерна, миссионеры не нужны – разве мы все и так не стремимся услышать “Легенду об Иосифе”? Но что касается Моцарта, тут просветительская миссия кажется вполне нужной, особенно когда слышишь, как люди в зале сообщают соседям, что, может быть, с XVIII века и до наших дней порой и можно было услышать “Волшебную флейту”, но сейчас – практически первый ее показ». “‘Die Zauberflote’. Mozart’s Opera at Drury Lane. Mr. T. Beecham Conducting”, Times, 22 May 1914, p. 10. В действительности опера была поставлена в Кембридже в 1911 г., а незадолго до постановки в Друри-Лейн – в Лидсе. W. Denis Browne, “Die Zauberflote”, New Statesman, 30 May 1914, p. 245. Игровой занавес для спектакля был расписан Владимиром Полуниным, которого в обзорах «Таймс» называли «учеником» Бакста. После войны Полунин стал главным оформителем сцены у Дягилева.
William Butler Yeats, “Introduction to Certain Noble Plays of Japan by Pound and Feneollosa”, in Ezra Pound and Ernest Fenollosa, The Classic Noh Theatre of Japan (New York: New Directions, 1959), p. 155.
Чудесный год (лат.). – Примеч. пер.
S.L.B., “Notes From the Opera”. Sketch, 30 July 1913, p. 128.
Ibid. 16 July 1913, p. XII.
Ibid. 30 July 1913, p. 128. «Мы снимаем шляпы перед… г-ном Нижинским – за столь мощное подтверждение того, как он ненавидит слово “изящество”, – его постановку “Весны священной”… При обсуждении кубистического танца “Весны священной” г-н Нижинский сказал: “Меня обвиняют в преступлении против ‘изящества’… Я действительно начинаю приходить в ужас от этого слова – ‘изящество’ и ‘очарование’ вызывают у меня аллергию”». Sketch, 23 July 1913, p. 68. В качестве обложки этой недели «Скетч» использовал рисунок У. Хита Робинсона, изображавший балерину в пачке в сопровождении херувима, подпись гласила: «Дух старого режима: изгнан по приказу Нижинского». Заголовок материала связывал «Весну священную» с одним из самых противоречивых событий довоенного времени – первой постимпрессионистской выставкой Роджера Фрая: «Хореографическая революция Нижинского: постимпрессионистский и доисторический танец “Весны священной”». “The Twitching, Bobbing Turn-Your-Toes-In Cubist Dance”, Sketch [Supplement], 23 July 1913, p. 5.
S.L.B., “Notes From the Opera Houses”, Sketch, 23 July 1913, p. XII.
“At the Opera Houses”, Sketch, 17 June 1914, p. “h”.
“‘The Nightingale’. New Opera and Ballet at Drury Lane”, Times, 19 June 1914, p. 10.
“Return of the Russian Ballet. Ravel’s ‘Daphnis and Chloe’”, Times, 10 June 1914, p. 11; S.O., “The Russians at Drury Lane”, English Review, June 1914, p. 562.
“A Medieval Joseph. Strauss’s New Ballet and Its Music. Spectacular Splendours”, Times, 24 June 1914, p. 11.
Линия несценических костюмов Бакста, вдохновленная, как утверждал он сам, современными декорациями «Игр», очень часто упоминалась в новостях в 1913 г., так же как и его выставка Общества изящных искусств и работа Арсена Александра «Декоративное искусство Льва Бакста», публикация которой совпала, как и многие другие события, с летним дягилевским сезоном. Декорации в виде теннисного корта и стиль движений балета Нижинского породили множество остроумных откликов в светской прессе, в том числе серию карикатур «Игра ума» (“Jeux d’Esprit: Suggestions For the Russian Ballet”), появившуюся в газете «Скетч» от 2 июля 1913 г. (рр. 408–409).
S.O., “The Russians at Drury Lane”, pp. 562–564.
“London’s Opera Seasons”, Sketch, 5 August 1914, p. 162.
Idid. R 164.
“Defaulting Guests. The Hostess’s Permanent Dilemma”, Times, 30 June 1914, p. 11. В 1914 г. Шаляпин получал £ 100 за каждый спектакль – безусловно, именно поэтому цена билета в партер или на первый ярус на «Шаляпинские вечера» возросла на 4–5 шиллингов. “Opera in London. The Competition of the Old and New. Sir Joseph Beecham’s Plans”, Times, 13 May 1914, p. 6. См. также: Cooper, Rainbow, p. 84, и S.L.B., “Notes From the Opera Houses”, Sketch, 30 July 1913, p. 128.
“Last Night at Drury Lane. Sir Joseph Beecham and Another Season”, Times, 27 July 1914, p. n.
Эдвард Спейер, письмо в редакцию «Таймс», 18 июля 1914 г., с. 6; Уильям де Морган, письмо в редакцию «Таймс», 20 июля 1914 г., с. 10; Дж. Н. Саттон, письмо в редакцию «Таймс», 21 июля 1914 г., с. 11; Эдит Литтелтон и «Страдалец», письма в редакцию «Таймс», 22 июля 1914 г., с. 11.
«Очередной страдалец», письмо в редакцию «Таймс», 25 июля 1914 г., с. 6. Арнольд Беннетт также отзывался о плачевном состоянии музыкальных вкусов дягилевской публики. «Само поведение богатых зрителей, – писал он в апреле 1913 г., – было не менее ужасающим, чем это бывает во время регулярного сезона. Желая хорошо видеть и слышать некоторые из русских балетов, я совершил оплошность, приобретя места в ложе первого яруса. Я увидел балет. Но слышал я лишь громогласное кривляние зрителей в соседней ложе справа, которые вели себя как на пикнике. Готов признать, что нечто похожее можно встретить и в Парижской опере, и – что еще хуже – в миланском Ла Скала. Однако в брюссельском театре Моннэ – лучше, и в Нью-Йоркском оперном театре тоже намного лучше». См.: Arnold Bennett, “Music and Art at Covent Garden”, New Statesman, 19 April 1913, pp. 51, 52.
S.O., “The Russians at Drury Lane”, p. 561.
“Chaliapin’s Farewell. End of the Drury Lane Opera Season”, Times, 25 July 1914, p. 6.
“Last Night of Drury Lane. Sir Joseph Beecham and Another Season’”, Times, 27 July 1914, p. 11.
Leonard Woolf, Beginning Again: An Autobiography of the Years 1911 to 1918 (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1963), p. 37.
Ibid. P. 20.
Ibid. Pp. 48, 49.
Шоу был музыкальным критиком с большим опытом, а также горячим поклонником Вагнера и Штрауса. Во время пребывания в Париже Беннетт близко сдружился с М. Д. Кальвокоресси – музыковедом, который служил помощником Дягилева в 1907–1908 гг. и который ввел Беннетта в музыкальную гостиную Сипы Годебски. В январе 1911 г. «Инглиш ревью» опубликовал закулисные впечатления Беннетта от Русского балета в Париже, которые позднее были изданы в книге Paris Nights and Other Impressions of Places and People. Осуждавшая дягилевскую неучтивую публику длинная статья Беннетта, написанная для показательного выпуска «Нью стейтсмен», открывалась аналогичной жалобой по поводу публики на премьере «Кавалера розы». Дягилевские артисты и спектакли также часто упоминаются в дневниках и письмах Беннетта. См.: Margaret Drabble, Arnold Bennett (London: Weidenfeld and Nicolson, 1974), p. 150; Arnold Bennett, “Paris Nights”, English Review, January 1911, pp. 243–257; Paris Nights and Other Impressions of Places and People (New York: George H. Doran, 1913); “Music and Art at Covent Garden”, New Statesman, 19 April 1913, pp. 51, 51; Арнольд Беннетт, письмо Седрику Шарпу от 13 сентября 1913 г., Letters of Arnold Bennett, ed. James Hepburn (London: Oxford Univ. Press, 1966), II, p. 335; The Journals of Arnold Bennett, 1911–1921, ed. Newman Flower (London: Cassell, 1932), pp. 12, 177. Лишь Комптон Маккензи, популярный писатель из известной театральной семьи, «пришел» к Русскому балету от балета мюзик-холлов, а не от оперы. Compton MacKenzie, Му Life and Times, Octave 4 (London: Chatto and Windus, 1965), pp. 130–132.
Leonard Woolf, Beginning Again, p. 49; Quentin Bell, Virginia Woolf: A Biography (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1972), I, p. 149.
Вирджиния Вулф, письма Литтону Стрэчи от 18 мая 1908 г., 1 и 9 февраля 1909 г., Virginia Woolf and Lytton Strachey Letters, ed. Leonard Woolf and James Strachey (New York: Harcourt Brace, 1956), pp. 11, 34, 35; Quentin Bell, Virginia Woolf, I, p. 149.
Вирджиния Вулф, письмо Катерине Кокс от 16 мая 1913, The Letters of Virginia Woolf, ed. Nigel Nicolson and Joanne Trautmann (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1976), II, p. 26.
Quentin Bell, Virginia Woolf, I, p. 149n.
Вирджиния Вулф, письма Литтону Стрэчи от 6 и 20 ноября 1911 г., Virginia Woolf and Lytton Strachey Letters, pp. 45, 46.
Quentin Bell, Virginia Woolf, II, pp. 4, 12.
E. M. Forster, “A Shrine for Diaghilev”, Observer, 25 December 1955, p. 4. Недавнее издание писем Форстера содержит три упоминания о довоенном Русском балете. 28 июля 1911 г. писатель посетил утреннее представление «Павильона Армиды», «Шопенианы» и «Шехеразады». Следующим летом ему «повезло достать билет» на показ «Шопенианы», «Жар-птицы» и «Карнавала», который состоялся 20 июня. Говоря о «Таинственной драме», которую он видел в Индии, Форстер описывал этот спектакль как «неуклонно ведущий к кризису, как в Русском балете». См.: “То Malcolm Darling”, 29 July 1911, Letter 94; “То Forrest Reid”, 19 June 1912, Letter 104; “To Alice Clara Forster”, 1 December 1912, Letter 11 13, Selected Letters of E. M. Forster, ed. Mary Lago and P. N. Furbank (Cambridge: Harvard Univ. Press, 1983), I, pp. 122, 136, 165.
Christopher Hassall, Rupert Brooke: A Biography (New York: Harcourt, Brace and World, 1964), pp. 265, 380, 449; Руперт Брук, письма Эрике Коттерилл и Жаку Равера от 18 сентября 1911 г. и в июле 1914 г., The Letters of Rupert Brooke, ed. Geoffrey Keynes (London: Faber and Faber, 1968), pp. 314, 595; Michael Holroyd, Lytton Strachey: A Critical Biography (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1968), II, p. 28n. Свидетелем драматического случая в фойе театра Друри-Лейн был брат Литтона Джеймс, будущий психоаналитик, который в 1919 г. опубликовал балетную библиографию. James Strachey, “Bibliography of the Ballet”, Drama, 1, No. 3 (December 1919), pp. 71–73.
Clive Bell, “The New Ballet”, New Republic, 30 July 1919, p. 414; Джон Мейнард Кейнс, письмо Литтону Стрэчи от 17 июля 1911 г., цит. по: Robert Skidelsky, John Maynard Keynes: A Biography (London: Macmillan, 1983), I, pp. 179.
Holroyd, Lytton Strachey, II, pp. 94, 95.
«Фабианское общество» – английская реформистская организация, основанная в 1884 г. – Примеч. пер.
Leonard Woolf, Beginning Again, pp. 127–131; Desmond MacCarthy, Experience (New York: Oxford Univ. Press, 1935), pp. x—xv. Дезмонд Маккарти начал работать в «Нью стейтсмен» в качестве драматического критика в 1913 г., а в 1920 г. стал литературным редактором. В 1913–1914 гг. Вулф посещал еженедельные ланчи сотрудников газеты и приносил статьи, как подписанные, так и неподписанные. В начале 1914 г. Руперт Брук написал, что если «Нэйшн» отличалась лучшим стилем, то «Нью стейтсмен» «в большей степени представлял мои взгляды». Руперт Брук, письмо миссис Брук от 7 января 1914 г. Letters, р. 560. Мнение меньшинства, которое озвучивала «Нэйшн», было сформулировано Фрэнсисом Тэуи (“The Newer Russian Ballets”, 2 August 1913, pp. 675, 676).
“The Russian Ballet. I”, New Statesman, 5 July 1913, pp. 406, 407; I., “The Russian Ballet. II”, New Statesman, 19 July 1913, pp. 469, 470; I, “The Russian Ballet: A Postscript”, New Statesman, 26 July 1913, p. 501. Статья того же критика о Мусоргском и Римском-Корсакове была опубликована в выпуске от 12 июля (р. 438). Против обыкновения, в газете не было заметок о конкурирующем сезоне в Ковент-Гарден.
“The Russian Ballet. II”, p. 470. Эдвард Марш, друг Руперта Брука, который описывал «Игры» как «постимпрессионистское полотно, приведенное в движение», радикально изменил свое первоначальное мнение о «Весне священной» благодаря У. Денису Брауну, другому близкому другу Брука, который писал обзоры музыкальных событий для «Нью стейтсмен» в 1914 г. «В своем последнем письме я говорил тебе, – сообщал Марш Бруку в июле 1913 г., – как она понравилась ему и как я ее возненавидел в первый раз. Он прочитал мне целую лекцию и сказал, что моей главной ошибкой было чрезмерное внимание к музыке – и что так же, как кислород и водород, которые неприятны по отдельности, образуют приятную смесь… так и какофоническая музыка и резкие движения образуют превосходно гармоничное целое… Я вновь пошел на спектакль, последовал его инструкциям – и испытал огромное наслаждение». Эдвард Марш, письмо Руперту Бруку, [июль 1913], цит. по: Christopher Hassall, Edward March: Patron of the Arts, A Biography (London: Longmans, 1959), pp. 238, 239.
Edward Hyams, The New Statesman: The History of the First Fifty Years, introd. John Freeman (London: Longmans, 1963), chaps. 2–3.
Музыкальный критик Эдвин Эванс (который предварил показ «Весны» несколькими ремарками для публики), вполне возможно, ссылался на круги «Нэйшн» и «Нью стейтсмен», когда писал в своем обзоре этого балета: «Новые хореографические принципы г-на Нижинского нашли одобрение в некоторых влиятельных кварталах – и были отвергнуты в некоторых других, но мы можем наблюдать постоянно растущую тенденцию к тому, чтобы отзываться о них с уважением, которого они заслуживают, как о смелой попытке освободить балет от свойственного ему вечного налета чисто внешней красивости». E[dwin] E[vans], “Saison Russe”, Outlook, 26 July 1913, p. 128. В мае и июне 1913 г. «Аутлук» опубликовал серию статей «Сцена, музыка и движение», принадлежавших перу князя Сергея Волконского, который одно время «мстил» за Дягилева в Императорских театрах. Ранее в том же году в газете вышел обзор «Пятнадцати лет жизни танцовщицы» (Fifteen Years of a Dancer’s Life) Лой Фуллер и «Русского балета» Эллен Терри.
Hassall, Rupert Brooke, p. 377; Clive Bell, “‘Oedipus Rex’ at Covent Garden”, Athenaeum, 20 January 1912, pp. 75, 76. Это был не единственный раз, когда Брук наградил визуальный стиль дягилевских постановок семитским ярлыком. Приглашая друга на «Легенду об Иосифе», он отмечал, что поскольку Штраус «не еврей», то «возможно, кто-то из них ему покровительствует». «На декорации Бенуа и других приличных людей приходят все больше и больше, а на еврея Бакста – все меньше и меньше; так что ситуация улучшается». Руперт Брук, письмо Жаку Равера, июль 1914, Letters, р. 595.
Roger Fry, “Gordon Craig’s Stage Designs”, Nation, 16 September 1911, p. 871.
Frances Spaulding, Roger Fry: Art and Life (Berkeley: Univ. of California Press, 1980), p. 133.
Roger Fry, “M. Larionow and the Russian Ballet”, Burlington Magazine, March 1919, p. 112.
Holroyd, Lytton Strachey, I, p. 381. Литтон Стрэчи был первым драматическим критиком «Спектейтора».
I.,“The Russian Ballet. I”, p. 406.
Roger Fry, “Stage Setting”, New Statesman [Dramatic Supplement], 27 June 1914, p. 2
Ibid. P. 3.
“Great Preliminary Vortex. Manifesto II”, Blast, No. 1 (20 June 1914; rpt. New York: Krauss Publishing, 1967), p. 13.
Wyndham Lewis on Art: Collected Writings 1913–1956, ed. Walter Michel and С J. Fox (New York: Funk andWagnalls, 1969), p. 155.
Fry, “Stage Setting”, p. 3.
“Reinhardt and His ‘New Art’”, Nation, 14 October 1911, pp. 90–91; H.W. M[assingham], “Signs of Change”, Nation, 30 December 1911, p. 549. Массингем был издателем «Нэйшн».
“Reinhardt and His ‘New Art’”, p. 90.
В своем обзоре «Эдипа» Рейнхардта, первоначально опубликованном в «Атенеуме», Клайв Белл высказывал мнение, очень близкое к аргументам Массингема. «В постановках профессора Рейнхардта встречаются драматические паузы и остановки, световые и звуковые эффекты, комбинации движения и масс, линии и цвета, которые… вызывают у нормального слушателя в точности те же мысли и чувства, которые возникают от настоящих произведений искусства… Трудно поверить, что эти изысканные стимуляторы, по сути, являются тем же, что и мелодраматические коллизии, но это так». Clive Bell, “Sophocles in London”, Pot-Boilers (London: Chatto and Windus, 1918), p. 130.
H.W. M[assingham], “The Wordless Play. Sumurun-The Honey-moon”, Nation, 21 October 1911, p. 128.
H.W. M[assingham], “‘Kinemacolor’ at His Majesty’s”, Nation, 14 September 1912, p. 863.
Leonard Woolf, Beginning Again, pp. 48, 49.
Forster, “A Shrine for Diaghilev”, p. 4.
Руперт Брук, письмо Эдварду Маршу, цит. по: Skidelsky, Keynes, I, p. 284.
Литтон Стрэчи, письмо Вирджинии Вулф от 8 ноября 1912 г., Virginia Woolf and Lytton Strachey Letters, p. 55.
Марк Гертлер, письмо Доре Кэррингтон, цит. по: Joan Ross Acocella, “The Reception of Diaghilev’s Ballets Russes by Artists and Intellectuals in Paris and London, 1909–1914”, Diss. Rutgers 1984, p. 399; Карин Костелло, письмо Мэри Беренсон, [июнь 1913 г. ], цит. по: Barbara Strachey, Remarkable Relations: The Story of the Pearsall Smith Women (New York: Universe Books, 1982), p. 162; Frances Baldwin, “Critical Response in England to the Work of Designers for Diaghilev’s Russian Ballet, 1911–1929”, M. A. Thesis, Courtauld Institute of Art (London) 1980, pp. 22, 23.
Anne Estelle Rice, “Les Ballets Russes”, Rhythm, 2, No. 2 (August 1912), p. 108. «Ритм» издавали Дж. Миддлтон Марри и Катерине Мансфилд. Райс была одним из двух парижских театральных издателей этого недолго просуществовавшего журнала; другим был Джордж Бэнкс. Кроме статьи Райс «Ритм» также опубликовал статьи Бэнкса о «Петрушке» (2, No. 2 [July 1912], pp. 57–63) и постановке «Саломеи» труппы Иды Рубинштейн (2, No. 4 [September 191 z], pp. 169–172).
Frances Spalding, Vanessa Bell (London: Weidenfeld and Nicolson, 1983), p. 123.
Virginia Woolf, Roger Fry: A Biography (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1976), pp. 198, 199.
Ibid. P. 199. Клайв Белл говорил примерно то же самое в своем эссе «До войны», которое было опубликовано в мае 1917 г. в «Кембридж мэгэзин» и перепечатано годом позже в его собрании Pot-Boilers, рр. 247–256.
Holroyd, Lytton Strachey, II, p. 95; Джордж Бернард Шоу, письмо миссис Патрик Кэмпбелл от 18 июля 1913 г., Bernard Shaw and Mrs. Patrick Campbell: Their Correspondence, ed. Alan Dent (New York: Knopf, 1952), p. 148.
Хотя «Морис» Форстера, написанный в 1913–1914 гг., в виде рукописи ходил по друзьям автора, опубликован этот откровенно гомосексуальный роман только в 1971 г.
Литтон Стрэчи прочел Достоевского в конце 1909 г. – в то время, когда немногим на Западе было известно его творчество. Первым романом Достоевского, вышедшим на английском языке, были «Братья Карамазовы», опубликованные в 1912 г. в переводе Констанс Гарнетт (матери Дэвида Гарнетта, представителя юного поколения Блумсбери). Вулфы помогали С. С. Котелянскому в переводе «Исповеди Ставрогина» – неопубликованных глав романа «Бесы», который вышел в 1922 г. в издательстве «Хогарт Пресс». В 1920–1923 гг. Вулфы опубликовали произведения и других русских авторов – таких как Горький, Бунин и Толстой. Holroyd, Lytton Strachey, II, p. 12n; Leonard Woolf, Downhill All the Way: An Autobiography of the Years 1919 to 1939 (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1967), pp. 65–67, 74. Об эмоциональной притягательности Достоевского для Стрэчи и его влиянии на него см.: Holroyd, Lytton Strachey, II, pp. 113, 114. Первое представление пьесы Чехова в Лондоне состоялось в 1911 г., когда Сценическое общество поставило «Вишневый сад». См.: Ashley Dukes, The Scene is Changed (London: Macmillan, 1941), p. 35.
P. N. Furbank, E. M. Forster (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1978), p. 255; Руперт Брук, письмо Кэтлин Несбитт от 28 октября 1913 г., Letters, р. 521; а также его письмо У. Денису Брауну от 20 ноября 1913. Там же. С. 532.
Вирджиния Вулф, письма Ванессе Белл и Жаку Равера от 24 мая 1923 г. и 26 декабря 1924 г., The Letters of Virginia Woolf, ed. Nigel Nicolson and Joanne Trautmann (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1977), III, pp. 43, 149
Вирджиния Вулф, письмо Ванессе Белл от 25 апреля 1924 г., Letters, III, p. 101.
Вирджиния Вулф, письма Жаку Равера от 4 ноября 1923 г. и 4 сентября 1924 г., Letters, III, pp. 76, 129.
Holroyd, Lytton Strachey, II, pp. 94, 95, 109.
Литтон Стрэчи, письмо Генри Ламбу от 24 июля 1913 г., цит. по: Holroyd, Lytton Strachey, II, p. 94.
Lady Ottoline Morrell, Memoirs of Lady Ottoline Morrell: A Study in Friendship, 1873–1915, ed. Robert Gathorne-Hardy (New York: Knopf, 1964), p. 215.
Ibid. P. 231.
Holroyd, Lytton Strachey, II, p. 109. В течение этого периода леди Оттолин приводила на балет многих друзей, и, несмотря на разрыв Нижинского с Дягилевым, приобрела абонемент, подобно многим леди из либералов, на сезон Бичема 1914 г. Сэр Пол Виноградов, оксфордский профессор юриспруденции русского происхождения, чьим студентом, слушавшим лекции о средневековом праве, был брат Вирджинии Вулф Адриан Стивен, являлся еще одним владельцем ложи в 1914 г., имевшим связь с Блумсбери. В 1920-е гг. дочь леди Оттолин Джулиан влюбилась в сына Виноградова Игоря, блистательно учившегося в Оксфорде, а в 1942 г. вышла за него замуж. См.: Who’s Who, 1914; Leonard Woolf, Downhill All the Way, p. 164; Sandra Jobson Darroch, Ottoline: The Life of Lady Ottoline Morrell (New York: Coward, McCann and Geoghegan, 1975), p. 238.
The Selected Poems of Ezra Pound (New York: New Directions, 1957), p. 30. Стихотворение дано в переводе Романа Пищалова.
John Gould Fletcher, Life Is My Song (New York: Farrar and Rinehart, 1937), p. 71. Ezra Pound, “Tibor Serly, Composer”, New English Review, 28 March 1935, p. 495; “William Atheling”, “At the Ballet”, New Age, 16 October 1919, p. 412; rpt. Ezra Pound and Music: The Complete Criticism, ed. R. Murray Schafer (New York: New Directions, 1977), pp. 188–191; Canto LXXIX, The Cantos of Ezra Pound (New York: New Directions, 1948), pp. 62, 67.
Alun R. Jones, The Life and Opinions of T E. Hulme (London: Gollancz, 1960), pp. 94, 95; Hassall, Edward Marsh, pp. 186, 187.
Jones, Hulme, p. 92.
Dukes, The Scene is Changed, p. 36.
Thomas McGreevy, Richard Aldington: An Englishman (London: Chatto and Windus, 1931), p. 11. После войны Сирил Бомонт опубликовал ограниченным тиражом сделанный Олдингтоном перевод «Женщин в хорошем настроении» – пьесы Гольдони, которую Дягилев взял в качестве основы своего знаменитого балета. См.: Carlo Goldoni, The Good-Humoured Ladies, trans. Richard Aldington, pref. Arthur Symons (London: C. W. Beaumont, 1922).
F. A. Lea, The Life of John Middleton Murry (New York: Oxford Univ. Press, 1960), p. 33, J. Middleton Murry, “The Art of the Russian Ballet”, Nation and Athenaeum, 10 September 1921, p. 834.
Fletcher, Life is My Song, p. 65. Стихотворение было впервые опубликовано в: John Gould Fletcher, Fire and Wine (London: Grant Richards, 1913), pp. 42, 43.
Fletcher, Life is My Song, p. 68.
S. Foster Damon, Amy Lowell: A Chronicle With Extracts From Her Correspondence (New York, 1935; rpt. Hamden, Conn.: Archon Books, 1966), p. 229.
Группа поэтов, образовавшаяся во время Первой мировой войны по инициативе Руперта Брука. – Примеч. пер.
Stanley Weintraub, The London Yankees: Portraits of American Writers and Artists in England 1894–1914 (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1979), p. 290.
Leigh Henry, “Liberations: Studies of Individuality in Contemporary Music. IV. Igor Stravinsky and the Dionysian Spirit”, Egoist, 1 June 1914, p. 214. Эта газета в то время испытывала огромное влияние Паунда.
Walter Michel, Wyndham Lewis: Paintings and Drawings, introd. Hugh Kenner (Berkeley: Univ. of California Press, 1971), Plates 5–16; H. S. Ede, Savage Messiah: Gaudier-Brzeska (New York: Literary Guild, 1931), pp. 175, 180; Hassall, Edward Marsh, p. 286; David Bomberg 1890–1957: Paintings and Drawings (London: Arts Council, 1967), pp. 8, 24, 25; John Rodker, “Russian Ballet”, Little Review, 6, No. 6 (October 1919), pp. 35, 36; Baldwin, “Critical Response in England”, pp. 23, 86, 87; Acocella, “Reception of Diaghilev’s Ballets Russes”, pp. 18–22.
“Great Preliminary Vortex. Manifesto II”, Blast, No. 1 (20 June 1914), pp. 28, 33. Бичем (пилюли, опера, Томас), с другой стороны, был встречен шумным скандалом. Ibid. Р. 21.
McGreevy, Richard Aldington, p. 10.
“Long Live the Vortex!” and “Great Preliminary Vortex. Manifesto II”, Blast, No. 1 (20 June 1914), n. p., p. 34. Леди Монд была замужем за главой одной из крупнейших в Англии компаний химического производства. Сэр Альфред Монд в конце 1909 г. приобрел «Инглиш ревью» и вскоре уволил Форда Мадокса Форда с поста редактора, поскольку тот не был либералом. Отец Монда Людвиг владел бесценной коллекцией итальянской живописи, которая позднее была отдана Национальной галерее. Леди Монд была владелицей лож на сезон Бичема в 1913 г. См.: Ford Madox Ford, Letter to R. A. Scott-James, [January 1910], Letters of Ford Madox Ford, ed. Richard M. Ludwig (Princeton, N.J.: Princeton Univ. Press, 1965), pp. 39, 40; “Mond, Ludwig”, Universal Jewish Encyclopedia (1942).
George Dangerfield, The Strange Death of Liberal England (New York: Capricorn Books, 1961), p. 65.
Cecil Beaton, Ballet (Garden City, N.Y.: Doubleday, 1951), p. 19.
Чарльз Рикеттс, письмо Сергею Дягилеву, [1918], 10–22.8, Serge Diaghilev Correspondence, Dance Collection, New York Public Library.
The Diary of Virginia Woolf, I, ed. Anne Oliver Bell, introd. Quentin Bell (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1977), p. 222.
“Food Prices at Home and Abroad. Comparisons with 1914”, Times, s March 1920, p. 13.
The Diary of Virginia Woolf, I, p. 222.
Clive Bell, “Standards”, New Republic, 14 June 1919, p. 208.
“New Dancers at the Coliseum. Mr. Graves in ‘After the Ball’”, Times, 6 August 1919, p. 8.
“The Russian Ballet”, Dancing Times, May 1919, p. 229.
“The Russians at the Alhambra”, Dancing Times, July 1919, p. 431; Anton Dolin, Autobiography: A Volume of Autobiography and Reminiscence (London: Oldbourne, 1960), pp. 21, 22.
Отнюдь не является совпадением то, что Филип Дж. С. Ричардсон, издатель журнала, был главным представителем Дягилева в прессе в 1918–1919 гг. См.: British Ballet, ed. Peter Noble (London: Skelton Robinson, 1949), p. 338.
“The Russian Ballet Gala”, Times, 24 January 1919, p. 11.
“The Russian Ballet. No Public Festivity”, Times, 14 May 1919, p. 14.
Anne Chisholm, Nancy Cunard: A Biography (Harmondsworth, Middle sex: Penguin, 1981), pp. 74, 79; RJ. Minney, “Puffin” Asquith: A Biography of the Hon. Anthony Asquith, Aesthete, Aristocrat, Prime Minister’s Son, and Film Maker (London: Leslie Frewin, 1973), p. 69. По поводу «обзора» «Треуголки», сделанного Марго Асквит (включая ее высказывания о согласованности и о прическе Карсавиной), см. ее письмо Дягилеву от 23 [июля] 1919 г., 10–20.1, Serge Diaghilev Correspondence. Это был не единственный случай, когда эта выдающаяся – и крайне энергичная – дама давала Дягилеву непрошеные советы. На обеде, устроенном в декабре 1924 г. Флоренс Гренфелл, писала Лидия Лопухова, Марго объявила, что «в этом балете слишком много движения, и показала, как нужно сделать. Сергей засмеялся, спросил ее о Паффине, и таким образом тема разговора изменилась». Лидия Лопухова, письмо Джону Мейнарду Кейнсу от 5 декабря 1924 г., John Maynard Keynes Papers, King’s College (Cambridge).
Robert Skidelsky, John Maynard Keynes: A Biography (London: Macmillan, 1983), I, p. 352; Roger Fry, “M. Lanonow and the Russian Ballet”, Burlington Magazine, March 1919, pp. 112, 113; Вирджиния Вулф, письмо Литтону Стрэчи от 12 октября 1918 г., The Letters of Virginia Woolf ed. Nigel Nicolson and Joanne Trautmann (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1975), I, pp. 201, 222; Clive Bell, “Standards”, New Republic, 14 June 1919, p. 208, and “The New Ballet”, New Republic, 30 July 1919, p. 414; Frances Spalding, Vanessa Bell (London: Weidenfeld and Nicolson, 1983), p. 176; Nina Hammett, Laughing Torso (London: Constable, 1932), p. 176.
Osbert Sitwell, Laughter in the Next Room (London: Reprint Society, 1950), pp. 16–18; Spalding, Vanessa Bell, p. 184; Олдос Хаксли, письмо Жюльет Байо от 14 сентября 1918 г., в: Letters of Aldous Huxley, ed. Grover Smith (London: Chatto and Windus, 1969), p. 163; Вирджиния Вулф, письмо Литтону Стрэчи от 12 октября 1918 г., The Letters of Virginia Woolf, ed. Nigel Nicolson and Joanne Trautmann (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1976), II, p. 282; R. F. Harrod, The Life of John Maynard Keynes (Harmondsworth, Middlesex: Penguin, 1972), p. 266; Skidelsky, Keynes, I, pp. 352, 353.
“The Lights of London. Scenes of Rejoicing at Night”, Times, 12 November 1918, p. 10; Frances Spalding, Roger Fry: Art and Life (Berkeley, Univ. of California Press, 1980), p. 222; Hammett, Laughing torso, p. 114; Sitwell, Laughter the Next Room, pp. 16–23; Michael Holroyd, Lytton Strachey: A Critical Biography (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1968), II, p. 343. Прием был устроен Монтегом Шерманом, адвокатом, коллекционером современной живописи, который был одним из наиболее преданных друзей и покровителей Марка Гертлера.
Олдос Хаксли, письмо Жюльет Байо от 14 сентября 1918 г., Letters, р. 163; Clive Bell, “The New Ballet”, p. 414; The Diary of Virginia Woolf, I, p. 201; Roger Fry, “M. Larionow and the Russian Ballet”, p. 112.
Вирджиния Вулф, письмо Саксону Сидни-Тёрнеру от 11 июня 1919 г., Letters, II, р. 367; The Diary of Virginia Woolf, I, pp. 287, 290; Spalding, Vanessa Bell, p. 184; Clive Bell, Old Friends: Personal Recollections (London: Chatto and Windus, 1956), pp. 171, 172; Spalding, Roger Fry, p. 225; Skidelsky, Keynes, I, p. 380.
Clive Bell, “The New Ballet”; Roger Fry, “M. Larionow and the Russian Ballet”; “The Scenery of ‘La Boutique Fantasque’”, Athenaeum, 13 June 1919, p. 466; James Strachey, “The Russian Ballet”, Athenaeum, 30 May 1919, pp. 406, 407; Ezra Pound, “At the Ballet”, 16 October 1919, and “Music”, 18 December 1919, New Age, reprinted in Ezra Pound and Music: The Complete Criticism, ed. R. Murray Schafer (New York: New Directions, 1977), pp. 188–191, 200–203; Richard Aldington, “The Russian Ballet”, Sphere, 16 August 1919, p. 160; Rebecca West, “The Russian Ballet”, Outlook, 7 June 1919, pp. 568–568; Arthur Symons, “The Russian Ballets”, Fortnightly Review, January 1919, pp. 89–99, “Notes on the Sensations of a Lady of the Ballet”, English Review, February 1920, pp. 104–120, and “Dancing as Soul Expression”, Forum, October 1921, pp. 308–317; Albert Rutherston, “Decoration in the Art of the Theatre”, Monthly Chapbook, August 1919; “Some Aspects of the Ballet”, Drama, December 1919, pp. 8–73.
Roger Fry, “M. Larionow and the Russian Ballet”, p. 118.
Clive Bell, “The Authority of M. Derain”, New Republic, 16 March 1921, p. 66.
Roger Fry, “The Scenery of ‘La Boutique Fantasque’”, p. 466.
Symons, “The Russian Ballets”, p. 97.
“New Alhambra Ballet”, Times, 6 June 1919, p. 14; “New Russian Ballet. ‘Parade’ at the Empire”, Times, 15 November 1919, p. 10.
Roger Fry, “M. Larionow and the Russian Ballet”, p. 117; Clive Bell, “The New Ballet”, p. 415; Raymond Mortimer, “London Letter”, Dial, March 1922, p. 295.
Clive Bell, “The New Ballet”, pp. 414, 415.
T. S. Eliot, “London Letter, July 1921”, Dial, August 1921, p. 214.
T. S. Eliot, “Dramatis Personae”, Criterion, April 1923, pp. 305, 306. Элиот также рассматривал проблемы выступления и безличности в: “The Possibility of Poetic Drama”, Dial, November 1920, pp. 446, 447, и в “London Letter, May 1921”, Dial, June 1921, p. 688.
Clive Bell, “The Creed of an Aesthete”, New Republic, 25 January 1922, p. 242.
T. S. Eliot, “London Letter, July 1921”, p. 213; Clive Bell, “Standards”, p. 208. «Большие убытки, понесенные во время… большого сезона зарубежной оперы и русского балета [в Ковент-Гарден]» летом 1920 г., вывели оперное предприятие сэра Томаса Бичема из театрального рынка. “Cooperative Opera. Future of the Beecham Company”, Times, 2 July 1921, p. 10.
T. S. Eliot, “London Letter, April 1912”, Dial, May 1911, p. 511; “In Memoriam: Marie Lloyd”, Criterion, January 1913, p. 194.
Clive Bell, Old Friends: Personal Recollections (London: Chatto and Windus, 1956), p. 57.
“The Russian Ballet. ‘Le Sacre du Printemps’”, Times, 29 June 1921, p. 8; Simon Pure, “The Londoner”, Bookman, August 1921, p. 539; Edward J. Dent, “Music”, London Mercury, August 1920, p. 491.
W. J. Turner, “Drama”, London Mercury, April 1920, p. 756.
Julius M. Price, “The Transition in Modern British Art”, Fortnightly Review, July 1921, p. 107.
Ли Генри, неизвестный обзор «Парада»; цит. в: Diaghilev Scrapbook, IV, p. 158, Theatre Museum (London).
Счета, представленные Эдвином Эвансом Сергею Дягилеву 8 и 24 ноября 1919 г., Stravinsky-Diaghilev Foundation (New York).
См., например: W. J. Turner, “The Rite of Spring”, New Statesman, 2 July 1921, p. 358; Edward J. Dent, “Le Sacre du Printemps”, Nation and Athenaeum, 18 June 192.1, pp. 445, 446; Charles Henry Meltzer, “Stravinsky-The Enigma”, Forum, September 1921, pp. 241–248; Leigh Henry, “Stravinsky and the Pragmatic Criterion in Modern Music”, English Review, July 1921, pp. 67–73.
W. J. Turner, “Stravinsky in London and Paris”, New Statesman, 31 July 1920, p. 475.
Edward J. Dent, “Covent Garden: ‘Pulcinella’”, Athenaeum, 18 June 1920, p. 807.
W. J. Turner, “Stravinsky in London and Paris”, p. 475.
Sacheverell Sitwell, “The Sleeping Beauty at the London Alhambra, 1921”, Ballet-То Poland, ed. Arnold Haskell (New York: Macmillan, 1940), pp. 17, 18.
Raymond Mortimer, “London Letter, February 1922”, Dial, March 1922, pp. 295, 296.
W. J. Turner, “The Sleeping Princess”, New Statesman, 12 November 1921, p. 169.
Edward Ricco, “The Sitwells at the Ballet”, Ballet Review, 6, No. 1 (1977–1978), p. 101.
Antoine Banès, “Théâtre National de l’Opéra. Ballets Russes. Petrouchka, Prince Igor, la Boutique fantasque”, Figaro, 29 December 1919, p. 3; Сергей Дягилев, письмо Мисе Серт от 23 января 1919 г., цит. по: Catalogue of Ballet Material and Manuscripts from the Serge Lifar Collection, Sotheby’s (London) 9 May 1984, Lot 161; Jean Marnold, “Musique”, Mercure de France, 1 April 1920, p. 223.
Контракт между Сергеем Дягилевым и Жаком Руше от 8 октября 1921 г., AJ13/1292, Archives Nationales (Paris).
Жак Руше, письмо Сергею Дягилеву от 26 апреля 1922 г., Pièce 86, Fonds Kochno, Bibliothèque de l’Opéra (Paris).
Arthur Moss, “The Passing of the Ballet Russe”, Freeman, 21 June 1923, pp. 375, 376. Артур Мосс был американским писателем-экспатриантом, соиздателем небольшого журнала «Гаргойл» и нерегулярно писал в «Данс мэгэзин».
Jacques-Emile Blanche, “L’œuvre d’un Russe”, Figaro, 7 June 1913, p. 1. См. также: Louis Laloy, “Le Gala des Ballets Russes”, Figaro, 5 June 1923; “Le Grand Gala des Ballets Russes”, Le Gaulois, 8 June 1923; “Le Gala de la Gaîté”, Le Gaulois, 14 June 1923, в: Theater Pressbook, Les Noces, Bibliothèque de l’Opéra.
“Carnet de la charité”, 10 June 1923, ibid.
См., например, “Riviera Flowers. Antibes and Its Gardens”, Times, 4 February 1922, p. 13; “Gaiety at Monte Carlo. Golf and Society. The Value of Money”, Times, 13 January 1921, p. 8, col. 1; “Riviera Weather. Effects of the Early Frosts”, Times, 24 January 1921, p. 13, col 5; “Cheap Francs. Gambling in the Exchange”, Times, 1 December 1919, p. 17; “Riviera Prices. The Season’s I’mspects”, Times, 23 December 1921, p. 11; “Riviera Finance. Francs and the Cost of Living”, Times, 3 March 1924, p. 15; “London Fashions. Varieties for the Riviera”, Times, 9 January 1924, p. 15; “Riviera Season. Calendar of Social and Sporting Events”, Times, 11 December 1922, p. 15; “Riviera Notes. The British Invasion”, Times, 2 March 1920, p. 19; “The Woman’s View. Winter on the Riviera”, Times, 6 January 1922, p. 13; “Riviera Crowds. Beaulieu Villas and Gardens”, Times, 21 January 192.4, p. 13.
“Le Masque de Fer”, “Echos”, Figaro, 9 January 1923, p. 1.
Вырезка без заголовка из «Фигаро» от 23 апреля 1923 г.; Dance Clipping File (Stanislas Idzikowski), Dance Collection.
“The Riviera”, Times, 17 January 1924, p. 15; Untitled clipping, Figaro, 23 April 1923, Dance Clipping File (Stanislas Idzikowski), Dance Collection; Anton Dolin, Autobiography, p. 34; S. L. Grigoriev, The Diaghilev Ballet 1909–1929, Irans. and ed. Vera Bowen (London: Constable, 1953), pp. 200, 208–210.
Carlo Monte, “Petit bleu de la Côte d’Azur”, Figaro, 26 December 1919, p. 3.
“Riviera Notes”, Times, 6 March 1923, p. 17; “Figaro aux pays du soleil”, Figaro, 23 March 1923, p. 6; “Le Monde et la ville”, Figaro, 2. April 1925, p. 2.
Florence Gilliam, “The Russian Ballet of 1923”, Theatre Arts Monthly, March 1924, p. 191. «Коппелия» и «Видение Розы» были показаны в Театре Монте-Карло 10 января. 22 января в том же театре «Видение» прошло в тройной программе вместе с “Hagoromo”, исполненным Соней Павлофф из Опера-Комик, и “Au temps jadis”, национальным балетом Монако с участием Любови Чернышевой, Веры Немчиновой, Сергея Григорьева и Анатолия Вильтзака. 6 февраля Немчинова и Вильтзак выступили в спектакле Беллони «Цветы и бабочки» (Fleurs et Papillons) во Дворце изящных искусств. “Le Figaro aux pays du soleil”, Figaro, 9 January 1923, p. 6; 21 January 1923, p. 7; 5 February 1923, p. 5. О программах варьете во Дворце изящных искусств см. “Le Figaro aux pays du soleil”, Figaro, 5 February 1923, p. 5; 20 March 1923, p. 7; 26 March 1923, p. 5.
“The ‘Ballets Russes’ at Monte-Carlo: Souvenirs (1923)”, Paris-Journal, 15 February 1924; reprinted in Nigel Wilkins, The Writings of Erik Satie (London: Eulenberg, 1981), p. 111.
Robert McAlmon, Being Geniuses Together 1910–1930, rev. with supplementary chapters by Kay Boyle (Garden City, N.Y.: Doubleday, 1968), p. 218.
Paul Morand, “Paris Letter. October 1926”, Dial, November 1926, p. 428.
Richard S. Kennedy, Dreams in the Mirror: A Biography of E. E. Cummings (New York: Liveright, 1980), pp. 373, 374. «Том» на музыку Дэвида Даймонда так и не был осуществлен.
Ibid. Р. 179. Эссе было утеряно.
Цит. по: The Fourteenth Chronicle: Letters and Diaries of John Dos Passos, ed. Townsend Luddington (Boston: Gambit, 1973), p. 378.
В военные годы вокруг Дягилева сформировался круг американцев, куда входили Элис Гарретт (покровительница Бакста из Балтимора, вышедшая за американского дипломата, находившегося с миссией в Париже), Бернард Беренсон, Уолтер Берри и Эдит Уортон. Как и можно было ожидать, исходя из их возраста и положения экспатриированной элиты, связи круга с Дягилевым были очень светскими по форме. Имя миссис Гарретт встречается в списке «дам-покровительниц» парижского сезона 1917 г., во время которого состоялось первое громкое представление «Парада» – первый признак ширящейся пропасти между послевоенным репертуаром Дягилева и его парижской публикой 1920-х гг. См.: Susan В. Tripp, “Bakst”, Johns Hopkins Magazine, June 1984, p. 21.
Calvin Tompkms, Living Well is the Best Revenge (New York: Dutton, 1982), pp. 8, 9.
Townsend Luddington, John Dos Passos: A Twentieth Century Odyssey (New York: Dutton, 1980), pp. 225–227; Tompkins, pp. 30, 31.
Gilliam, “The Russian Ballet of 1923”, pp. 191, 192.
Richard Ellmann, James Joyce (New York: Oxford Univ. Press, 1959), p. 625.
Ibid. P. 686.
Virgil Thomson, Virgil Thomson (New York: Knopf, 1966), pp. 77, 78.
Noel Riley Fitch, Sylvia Beach and the Lost Generation: A History of Literary Paris in the Twenties and Thirties (New York: Norton, 1983), p. 74.
George Antheil, “Mother of the Earth”, Transatlantic Review [Musical Supplement], 2, No. 2, p. 227.
И Рольф де Маре, и граф Этьен де Бомон тем не менее писали статьи о своих антрепризах. См.: “The Swedish Ballet and the Modern Aesthetic” and “The Soirees de Paris”, Little Review, 11, No. 2 (Winter 1926), pp. 24–28, 55, 57.
Matthew Josephson, Life Among the Surrealists: A Memoir (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1962), p. 132.
George Antheil, Bad Boy of Music (London: Hurst and Blackett, [1947]), pp. 107–111. Антейл искусно оправдывался, что не знал о цели этой «премьеры», состоявшейся за три недели до открытия сезона Маре, включавшего в себя три спектакля, назначение которого было сообщено в платных и крайне светских колонках «Фигаро». См.: “Courrier des Théâtres”, Figaro, 2 October 1923, p. 6.
Блез Сандрар, письмо Сергею Дягилеву от 16 мая 1922 г., Stravinsky-Diaghilev Foundation.
Hammett, Laughing Torso, p. 135.
Д. О. Видхопф, Тристан Тцара, M. Ларионов, письмо Сергею Дягилеву, [март 1923], Stravinsky-Diaghilev Foundation. Оформление постановки «Жирофле-жирофля» (премьера состоялась 10 марта) было подготовлено Георгием Якуловым, который в 1927 г. оформил постановку «Стального скока». Как указано в гл. 7, Таиров обратился к Дягилеву с просьбой написать письмо или статью со своим мнением по поводу его сезона.
Цит. по: Boris Kochno, Diaghilev and the Ballets Russes, trans. Adrienne Foulke (New York: Harper and Row, 1970), p. 237.
J.B.-O., “Les Theatres”, Le Gaulois, 21 June 1924.
Howard Greer, “In the Salon of a Great Parisian Coquette”, Theatre Magazine, September 1920, p. 128 et seq.
Howard Greer, “Unisons de la Mode!”, Theatre Magazine, February 1910, p. 128.
Thomson, Virgil Thomson, p. 57.
Ibid.; Hammett, Laughing Torso, p. 198; Bell, Old Friends: Personal Reminiscences, pp. 184–186; Count Harry Kessler, In the Twenties: The Diaries of Count Harry Kessler, trans. Charles Kessler, introd. Otto Friedrich (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1971), p. 209; McAlmon, Being Geniuses Together, pp. 113–125; Arthur Gold and Robert Fizdale, Misia: The Life of Misia Sert (New York: Knopf, 1980), p. 216; Francis Steegmuller, Cocteau: A Biography (Boston: little, Brown, 1970), pp. 281–283.
Цит. по: Steegmuller, Cocteau, p. 281.
Kessler, Diaries, pp. 298, 299. Оформление Судейкина к Оазису было продано на аукционе Сотбис в Нью-Йорке 6 декабря 1977 г. Лот 82.
Elsa Maxwell, R.S. V. P. Elsa Maxwell’s Own Story (Boston: Little Brown, 1954), p. 14.
Ibid. P. 8. Максвелл, по-видимому, спутала даты (или убавила несколько лет своего возраста), поскольку пианист не выезжал из Советского Союза до осени 1925 г. Это не означает, что Дягилев не устраивал такого концерта. Действительно, принимая во внимание значение мира эмигрантов в начале карьеры Горовица на Западе, отсутствие упоминаний Дягилева в биографии пианиста выглядит странным. См.: Glenn Plaskin, Horowitz: A Biography of Vladimir Horowitz (New York: Morrow, 1983), chaps. 5–6.
“Mariegold in Society”, Sketch, 19 September 1928, p. 557. Что сказала Максвелл, остается неизвестным.
“Fêtes par-ci, fêtes par-là”, Femina, August 1924, p. 14; “Courrier des Théâtres”, Figaro, 25 April 1923, p. 3.
Ninette de Valois, Come Dance With Me: A Memoir 1898–1956 (London: Dance Books, 1973), pp. 69, 70.
“Paris Notes”, Dancing Times, January 1921, pp. 343–345.
Среди танцовщиков, приглашенных на события, организованные Феминой, были Нина Пэйн, известная американская танцовщица из Фоли-Бержер, японские концертные танцовщики Сакае Асида и Тоси Комори, а также ансамбль бального танца Мисгетт и Максли. См.: “Courrier des Théâtres”, Figaro, 25 April 1923, p. 3; 19 October 1923, p. 6. В 1923 г. состав танцовщиков на трех широко разрекламированных благотворительных вечерах включал в себя весь спектр французского балета: там были Карлотта Замбелли, Альбер Авелин, Тамара Свирская, Наталия Труханова, Ранна, Гарри Пилсер, Анна, Лиза и Марго Дункан, Евгения Никитина и Жанна Ронсе. См.: “Gala à Exposition de la Musique et de la Danse”, Figaro, 16 January 1923, p. 2, cols 4–5; “Pour les Veuves et Orphelins des Associations des Jomalistes parisiens et des Nouvellistes parisiens”, Figaro, 29 May 1923, p. 2; о “Fête de l’Enfance et des Jeux” см.: “Le Monde et la Ville”, Figaro, 3 June 1923, p. 2.
Шанель, Эрте, Жанна Ланвэн, Поль Пуаре, Уорт – все они создавали костюмы для сцены. Слово «дансинг» был модной маркой для парижского танцевального истеблишмента, и само использование английского термина говорит об элитном характере большинства заведений, где танцевали «джаз». В течение 1920-х «Дансинг таймс» публиковал множество статей о парижских дансингах, которые содержали, помимо описания танцевального стиля, сведения о ценах, нарядах, манерах и стоимости напитков. См., например: George Cecil, “Paris ‘Dancings’”, Dancing Times, September 1920, pp. 955–957; “Sitter Out”, Dancing Times, May 1911, pp. 630–636; George Cecil, “Paris Open-Air Dancing”, Dancing Times. May 1911, pp. 641, 642; Len Chaloner, “Dancing m the Quartier Latin”, Dancing Times, March 1911, pp. 535–537; Jack Carlton, “Where One Dances in Paris”, Dancing Times, December 1922, pp. 275–277; George Cecil, “Parisian Partners”, Dancing Times, February 1923, pp. 507–509.
Kessler, Diaries, p. 302; “Paris Notes”, Dancing Times, January 1926, p. 463.
“‘Tomorrow’s Fashions’: Paris Prophecies at a Ball. An English Poci and Her Dress Prophecy”, Sketch, 15 April 1925, pp. 50, 51. Среди светских личностей, сфотографированных Ман Рэем были Нэнси Кунард, Тристан Тцара, супруги Пикассо, барон и баронесса де Мейер, маркиза Жокур, мадам Эрразуриц и хозяева салона. О программе и главных участниках бала в стиле барокко, устроенного Бомонтом в 1923 г., см.: “Le Monde et la Ville”, Figaro, 1 June 1923, p. 2.
Josephson, Life Among the Surrealists, pp. 141, 255.
Эти американские артисты находились с Русским балетом в одной программе Колизеума в ноябре 1925 г.
The Journals of Arnold Bennett, 1921–1928, ed. Newman Flower (London: Cassell, 1933), p. 133.
Evening Standard, 25 November 1924; цит. по: “Theatre Directory”, Times, 26 November 1924, p. 12.
Среди описанных знаменитостей были Антон Долин, Юджин Гуссенс, Стравинский и Дягилев. См.: Martin Lane, “The Irish Russian-Dancer: Anton Dolin”, Sketch, 24 December 1924, p. 657; Beverley Nichols, “Celebrities in Undress: Diaghileff”, Sketch, 30 June 1926, p. 526; “Celebrities in Undress: Eugene Goossens”, Sketch, 4 August 1926, p. 210; “Celebrities in Undress: Stravinsky”, Sketch, 6 July 1927, p. 14. Эти и другие очерки, созданные писателем-денди Беверли Николсом, воспроизведены в: Beverley Nichols, Are They the Same at Home? Being a Series of Bouquets Diffidently Distributed (London: Jonathan Cape, 1927).
“Mariegold in Society”, Sketch, 22 June 1927, p. 579.
Зоологическое название птицы.
Ibid. 23 June 1926, p. 469.
Цит. по: Raphael Samuel, “The Middle Class Between the Wars”, Part II, New Socialist, March/April 1983, p. 30.
WJ. Turner, “Mercury and The Nightingale ”, New Statesman, 23 July 1927, p. 479.
В оригинале – игра слов: Boer (бурский) и Bore (скука). – Примеч. пер.
Jessica Mitford, Hons and Rebels (London: Quartet Books, 1978), p. 33.
Harold Acton, Memoirs of an Aesthete (London: Methuen, 1948), p. 113.
Martin Green, Children of the Sun: A Narrative of “Decadence” in England After 1918 (New York: Basic Books, 1976), pp. 125, 126.
The Eton Candle, ed. Brian Howard (Eton: Saville Press, 1922), pp. 30, 31, 81, 82; Acton, Memoirs, pp. 81, 82, 108; Green, Children of the Sun, p. 140.
Цит. по: Green, Children of the Sun, p. 86.
Jacques-Emile Blanche, “Souvenirs sur Serge de Diaghilew”, L’Art Vivant, 15 September 1929, p. 714.
Green, Children of the Sun, pp. 90, 154; Acton, Memoirs, p. 127; “Undergraduates as Ballerinas”, Sketch, 15 December 1926, p. 542.
Acton, Memoirs, pp. 151, 221, 222. Египет во время этого сезона был в большой чести. Кроме «королевского» представления, прошел «роскошный прием», организованный египетской дипломатической миссией, на котором выступали Любовь Чернышева, Фелия Дубровская, Александра Данилова и Серж Лифарь. См.: “Mariegold in Society”, Sketch, 31 July 1929, p. 208.
Cecil Beaton, “Designing for the Ballet”, Dance Index, August 1946, pp. 195–196 и Diaries 1922–1939: The Wandering Years (London: Weidenfeld and Nicolson, 1961), pp. 127, 128. Zephire et Flore был первым профессиональным заказом Мессела. Летом 1925 г. некоторые из театральных масок Мессела были выставлены в галерее Кларидж вместе с рисунками Педро Прюна и его набросками к «Матросам» – предположительно тогда и произошло первое знакомство Дягилева с творчеством Мессела. См.: Cyril W. Beaumont, Bookseller at the Ballet, Incorporating the Diaghilev Ballet in London (London: C. W. Beaumont, 1975), p. 337; “Omicron”, “From Alpha to Omega”, Nation and Athenaeum, August 1925, p. 544.
Green, Children of the Sun, pp. 208, 210; Nesta Macdonald, Diaghilev Observed by Critics in England and the United States 1911–1929 (New York: Dunce Horizons, 1975), p. 352; “How One Lives From Day to Day”, Vogue, Early August 1927, p. 31.
Цит. по: Green, Children of the Sun, p. 140.
Acton, Memoirs, pp. 128–130.
“Mariegold in Society”, Sketch, 22 June 1927, p. 579.
“Mariegold in Society”, Sketch, 4 July 1928, p. 10.
“Mariegold in Society”, Sketch, 18 July 1928, p. 110; 17 July 1929, p. 107; 24 July 1929, pp. 156, 157; The Diary of Virginia Woolf, III, ed. Anne Olivier Bell (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1980), p. 27.
“Omicron”, “From Alpha to Omega”, Nation and Athenaeum, 6 December 1924, p. 361; W. J. Turner, “The Diaghileff Ballet”, New Statesman, 6 December 1924, p. 264; “The Popularity of the Ballet”, New Statesman, 24 January 1925, p. 446; “Mariegold in Society”, Sketch, 10 June 1925, p. 477; “Omicron”, “From Alpha to Omega”, Nation and Athenaeum, 30 May 1925, p. 168.
W. J. Turner, “Something for the Sightseer”, New Statesman, 17 July 1926, p. 385; Francis Birrell, “The Last Theatrical Season”, Nation and Athen aeum, 25 July 1925, p. 514.
Raymond Mortimer, “Les Matelots”, New Statesman, 4 July 1925, p. 338. В 1928 г. Мортимер вернулся к теме «воспитательного воздействия» Дягилева в обзоре сезона, прошедшего в Театре Его Величества. См.: Raymond Mortimer, “The Russian Ballet”, Nation and Athenaeum, 30 June 1928, p. 424.
Birrell, “The Last Theatrical Season”, p. 514; “Omicron”, “From Alpha to Omega”, Nation and Athenaeum, 7 November 1925, p. 209; “From Plays to Pictures”, Nation and Athenaeum, 26 June 1926, p. 444. В 1929 г. Лопухова, в поиске новых горизонтов, попробовала писать о балете. См. ее статьи: “Enrico Cecchetti”, Nation and Athenaeum, 29 June 1929, p. 438; “The Russian Ballet at Covent Garden”, Nation and Athenaeum, 6 July 1929, p. 476; “The Russian Ballet at Covent Garden”, Nation and Athenaeum, 13 July 1929, p. 507; “The Russian Ballet at Covent Garden”, Nation and Athenaeum, 20 July 1929, p. 536; “Serge Diaghileff 1872–1929”, Nation and Athenaeum, 31 August 1929, pp. 706, 707.
“Omicron”, “Plays and Pictures”, Nation and Athenaeum, 26 June 1916, p. 353.
Turner, “Something for the Sightseer”, p. 384; “Omicron”, “Plays and Pictures”, Nation and Athenaeum, 27 November 1916, p. 301.
Лидия Лопухова, письма Джону Мейнарду Кейнсу от 28 и 29 ноября 1916 г., Keynes Papers; Geoffrey Keynes, The Gates of Memory (New York: Oxford Univ. Press, 1983), pp. 198–203; Virginia Woolf, The Years (New York: Harcourt Brace Jovanovich), p. 393.
“Omicron”, “Plays and Pictures”, Nation and Athenaeum, 18 December 1926, p. 422. Мнение Во см.: Put Out More Flags (Boston: Little Brown, 1948), p. 48.
W. J. Turner, “An English Ballet”, New Statesman, 11 December 1926, p. 275. О Бернерсе см.: Nichols, “Lord Berners or A Rococo Byron”, Are They the Same at Home?, p. 59; Acton, Memoirs, p. 37; Stravinsky: Selected Cone spondence, ed. Robert Craft (New-York: Knopf, 1984), II, pp. 135–159.
“C”, “Russian Ballet”, Musical Times, 1 August 1926, p. 738; E[dwin] E[vans], “The Russian Ballet”, Musical Times, 1 August 1927, p. 744; “C”, “Russian Ballet Season”, Musical Times, 1 August 1925, p. 742.
Джоффри Кейнс, письмо Сергею Дягилеву от 29 июня 1927 г., 10–12.6, Serge Diaghilev Correspondence. Письмо Кейнса было написано по-французски. Его описание этих событий см.: The Gates of Memory, pp. 203–205.
Ibid. P. 204.
Цит. по: Macdonald, Diaghilev Observed, p. 353.
См. например: Edwin Evans, “The Russian Ballet”, Vogue, Early June 1925, p. 52; “The Truth About the Russian Ballet”, Early July 1926, p. 49; Nancy Cunard, “Paris Today As I See It”, Late May 1926, p. 75, and Early July 1926, p. 50; “Pruna and the Ballet”, Late July 1925, pp. 54, 55; Clive Bell, “A Tour of Summer Shows”, Late August 1925, p. 42, and “Round About Surrealisme”, Early July 1926, p, 54, 55; “We Nominate for the Hall of Fame”, Early June 1925, p. 62. В номере, вышедшем в начале июля 1926 г. (с. 51), в качестве дягилевских «мастеров декора» были выведены его парижские звезды: Пикассо, Брак, Дерэн, Ларионов, Гончарова, Лорансен, Матисс и Миро. О набросках Битона см.: “How One Lives From Day to Day”, Early August 1927, p. 30, “Seen At Mayfair’s Latest Parties”, Late July 1927, p. 27; “Our Lives From Day to Day”, 11 July 1928, p. 43.
Lady Ottoline Morrell, “Les Jeunes Filles de Londres”, Vogue, Late November 1924, p. 41. Кроме статьи леди Оттолин, в ноябрьских выпусках «Вог» вышли статьи Дэвида Гарнетта, Клайва Белла и Вирджинии Вулф, а также материал о декоративном творчестве Дункана Гранта и Ванессы Белл с фотографиями их настенной живописи в доме Вулфов на Тависток-сквер.
Вирджиния Вулф получала от редактора «Вог» Дороти Тодд 20 фунтов стерлингов за статью – в то время это была порядочная сумма. См.: The Diary of Virginia Woolf, III, p. 31. He все одобряли ее работу для мужского журнала «Мэйфэр». «Я сильно поспорила с одним немолодым американцем по имени [Логан] Пирсел Смит о том, насколько этично за хорошую плату писать статьи для модных журналов, таких как “Вог”, – писала она Жаку Равера в январе 1925 г. – Он говорит, что это унизительно, что нужно писать только в “Литературное приложение”, в “Нэйшн” и для Роберта Бриджа – в общем, престиж, потомки, подавать высокий пример. Я ответила, что это вздор. Женские наряды и аристократы, играющие в гольф, ничуть не портят мой стиль, хотя, если послушать его, обязательно испортят. Ох уж эти американцы! Как они все запутывают! Это ему нужен престиж; а мне нужны деньги». Вирджиния Вулф, письмо Жаку Равера от 24 января 1925 г., Letters, III, p. 154.
«Вог», конец июля 1925 г., с. 44, 54; конец июля 1936 г., с. 36; начало июля 1926 г., с. 55. В конце января 1926 г. журнал опубликовал портрет Бомона на полную страницу, а на следующей полосе – четыре «фотограммы» Ман Рэя, использованные в «новой “сюрреалистической” картине графа» – А quoi rêvent les jeunes filles? («О чем мечтают девушки?»), с. 58–59. В «Вог» было напечатано несколько фотографий Русского балета, сделанных Ман Рэем, включая портреты художников труппы (начало июня 1925 г., с. 62; начало июля 1926 г., с. 51), портрет Сержа Лифаря в «Зефире и Флоре» (конец ноября 1925 г., с. 83) и портреты Александры Даниловой, Тамары Жевы и Станислава Идзиковского в «Чертике из табакерки» (начало июля 1926 г., с. 78, начало августа 1926 г., с. 48).
“‘Zephyr and Flora,’ and ‘Betty in Mayfair’”, Sketch, 18 November 1925, p. 321; H[oward] H[annay], “‘Zephyr and Flora’”, Observer, 15 November 1925, p. 11; H[oward] H[annay], “‘Les Fâcheux’”, Observer, 26 June 1927, p. 15; “The Russian Ballet, ‘The Song of the Nightingale’”, Times, 19 July 1927, p. 12; “At the Grotto Restaurant on the Lido: Lady Abdy and Her Peke”, Sketch, 4 August 1926, p. 206; Vogue, Late December 1925, p. 57. На первой странице «Скетча» от 13 июля 1927 г. Никитина появилась в «одной из новейших шляп – изысканной шляпе из перьев… с наушниками». На следующий год она вместе с Даниловой позировала фотографу «Скетча» в элегантных лисьих шкурках. См.: Sketch, 25 April 1928, p. 160.
Fernau Hall, An Anatomy of Ballet (London: Andrew Melrose, 1953), p. 80.
“Sitter Out”, Dancing Times, January 1925, p. 400.
G. E. Fussell, “Notes on Decor. The Diaghileff Ballet”, Dancing Times, July 1925, p. 1129.
Howard Hannay, “The Fine Arts”, London Mercury, January 1925, p. 313.
“The Russian Ballet. ‘La Pastorale’ ”, Times, 29 June 1926, p. 14; “The Russian Ballet. Works by Erik Satie”, Times, 6 July 1926, p. 14; “The Russian Ballet, ‘Romeo et Juliet’ ”, Times, 22 July 1926, p. 14.
“The Russian Ballet. Production of ‘The Cat’”, Times, 15 June 1927, p. 14.
Цит. по: Oleg Kerensky, Anna Pavlova (New York: Dutton, 1973), p. 99.
Herbert Farjeon, “Seen on the Stage”, Vogue, 11 July 1928, p. 48.
Непросвещенная толпа (лат.). – Примеч. пер.
Ibid. P. 80; “Sitter Out”, Dancing Times, August 1926, p. 436; P[hilip] P[age], unidentified review, Diaghilev Scrapbook, V, p. 51, Theatre Museum (London).
Farjeon, “Seen on the Stage”, p. 80; “Dress Reform at the Ballet”, Daily Telegraph, 19 July 1929; Дуглас Макклин, письмо в редакцию «Таймс» от 25 июля 1928 г., р. 12.
“Russian Ballet in Paris. Stravinsky’s ‘Renard’”, Times, 31 May 1929, p. 10.
Дата, отмеченная звездочкой, обозначает дату генеральной репетиции, предшествовавшей премьере.
До 1911 г. Русского балета официально не существовало, но это название употребляется как краткое наименование антрепризы Дягилева.
В связи с тем что балеты Дягилева стали проходить не только в Париже, но и в Лондоне, названия премьерных спектаклей стали даваться на английском языке. – Примеч. пер.

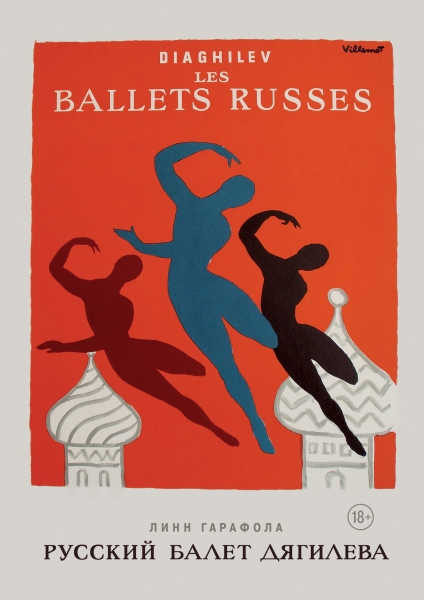


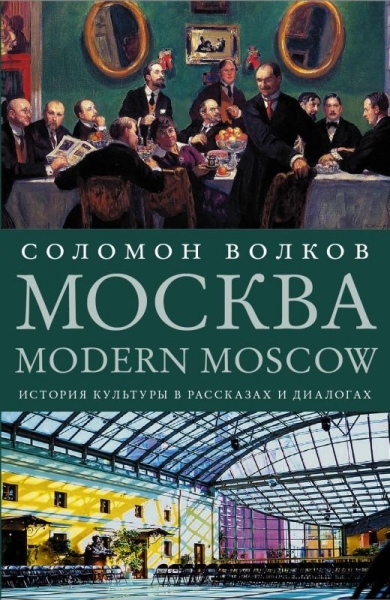


Комментарии к книге «Русский балет Дягилева», Линн Гарафола
Всего 0 комментариев