МАРКО ПОЛО
В ГОСТЯХ У ТЕТУШКИ
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
© 2019 – Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without permission in writing from both the copyright owner and the publisher.
Requests for permission to make copies of any part of this work should be e-mailed to: altaspera@gmail.com or info@altaspera.ru.
В тексте сохранены авторские орфография и пунктуация.
Published in Canada
by Altaspera Publishing & Literary Agency Inc.
Об авторе.
Старый нефтяник, проработал в добыче нефти и газа три десятилетия, в
том числе двадцать лет на Самотлоре, служил два года офицером на
Дальнем Востоке, с 1998 года живет в США, в предместьях Чикаго.
Адрес текстов в Сети ht
tp : // sa
mlib . r u / p / pol
О книге. Автор в школьные годы мечтал стать историком. Но не
сложилось. Тут несколько рассказов, написанных пенсионером-
нефтяником на исторические темы.
В гостях у тетушки Клио
Оглавление
Формула для пассионарности стр. 4
Ноябрь и Июль или Пролетарская стр. 15
революция как логистическая кривая
Взлет и падение Испанской империи стр. 32
Математическая модель исторической стр. 40
системы с конкуренцией
Свобода, добытая в бою и потерянная после боя стр. 49
Тени за экраном стр. 66
Старая история из фашистской жизни стр. 82
Случай Бессарабии стр. 90
Судеты. 1938 и 1945 годы стр. 102
Прощание с Грумантом стр. 116
Как вермахт мог воевать шесть лет стр. 122
при дефиците нефти
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
КАК Я НЕ СТАЛ ИСТОРИКОМ
Есть такое понятие - любимый учитель. Вячеслав Тихонов в пустом
актовом зале за пианино после вдохновенного урока. Плятт в гриме
Ландау и окружении верных учеников и продолжателей. Бывает такое и
по жизни. Вон у нас же в городе была некогда в одной из школ Софья
Захаровна, учительница литературы и предмет поклонения всех
старшеклассников, а все старшеклассницы, как одна, с сигаретой в зубах
и короткой стрижкой a la Marina - " под Софу". Не было у меня за жизнь
любимых учителей: ни обожаемой словесницы, ни заботливого
академика-наставника в ермолке и с бородкой клинышком, ни покрытого
орденами и сединами ветерана боевой и политической подготовки, ни
даже захудалого потомственного вальцовщика, пролетария с длинными
усами, чахоточным кашлем и воспоминаниями об Юдениче и Кирове.
То есть, жизнь, конечно, учила и меня, но пользовалась совсем другими
посредниками, менее киногеничными. Хитрый, умный и злопамятный
"красный директор" с внешностью Серафима Огурцова вовремя сообщил
мне, что: " Нам тут не нужны люди, умеющие ставить вопросы. Нам
нужны люди, умеющие давать ответы". Вольнонаемный слесарюга-
алкаш с издевкой попросил распетушившегося от невыполнения его
приказаний лейтенантика: " Так покажи, как сделать" - и тем навеки
выучил не ставить подчиненным задачу, если не представляешь
детально, как ее можно выполнить. Проверяющий, старая министерская
крыса из техуправления, от которого я услышал: " При решении любой
задачи есть два этапа: самоутвердиться - и добиться поставленной
цели. Есть смысл сразу считать, что первый этап уже выполнен, и пора
переходить ко второму". Амнистированный монтажник, проводник
поезда "Хабаровск-Москва", второй секретарь горкома, жуликоватый
киевский профессор, бывший следователь-важняк, перешедший в
бандитскую фирму зиц-президентом ... . Мало ли чьими устами может
говорить Жизнь? Дело за тобой, умей слушать ее уроки и правильно их
понимать. Но, если говорить о любимом учителе, то, может быть, ближе
всего к этому понятию – вот как раз Василий Алексеевич Якимов.
Мой учитель истории в девятом и десятом классах. А самое большое
дело, которое он для меня сделал - отговорил от профессии историка.
Я учился у него два года - девятый и десятый классы. Я и перешел в эту
школу потому, что она была одной из трех в большом городе, сохранивших десятилетний срок среди сплошных одиннадцатилеток.
Была тогда очередная рацуха Никиты Сергеевича. Память у меня об этом
времени осталась самая нежная, и о девочках наших и мальчиках, и о
маленькой двухэтажной школе с большим плодовым садом, и даже об
учителях. Я, знаете, тоже был не подарок. Одно, что драки после уроков
чуть не каждый день, другое, что избалован пацан своими мелкими
достижениями на матолимпиадах, активизмом в городском клубе
"Физики и Лирики" да публикацией детских стишков в местной
В гостях у тетушки Клио
комсомольской газете. В итоге позволял себе на уроках алгебры сочинять
комедию из пиратской жизни, а для равновесия на литературе решал под
партой математические головоломки из ягломовского задачника. Я бы
такого ученичка, наверное, просто убил бы. А они терпели почти без
репрессий.
Но все это так, развлекушки. Все-таки, жизненный путь мой вчерне уже
определен. Я буду историком. Книги по истории, да не лишь бы так, а
вузовские курсы, я начал читать лет с десяти и к шестнадцати прочитал
не меньше центнера. Конечно, это были не совсем Моммзен или
Ключевский, но, большей частью, вполне приличные тогдашние
учебники по Древнему Риму, Средним Векам или Истории СССР. При
моей ломовой памяти я, знамо дело, многое запоминал, не понимая, но
ведь, чтобы понять хоть что-то в истории, надо вообще пожить маленько
на божьем свете. А с банком данных, как теперь говорят, дело обстояло
не так плохо. Да, видно, что на самом деле мне этот предмет был по
душе. Во всяком случае, после восьмого класса я с некоторыми
препонами пролез в археологическую партию рабочим на пару недель, а
в девятом и десятом сочинил исторический кружок и почти регулярно
проводил в нем занятия для младшеклассников. Как раз было
стопятидесятилетие первой Отечественной войны и "Гусарская баллада"
несколько оживила в публике, и даже в моих малышах, сознание, что
русская история начинается не с 1917-го.
Так что, конечно, обязательная школьная программа по истории для меня
особого-то интереса не представляла. Моя учительница в предыдущей
школе это твердо понимала и старалась без особой надобности клапан не
открывать, чтобы не утопить свой урок в моих совершенно ненужных
для выполнения учебного плана рассуждениях о зверствах Ивана
Грозного и бессмысленности Ливонской войны. В новой школе
преподаватель этого предмета отличался довольно заметно. Я его, вообще-то, чуть-чуть знал и раньше, как отца моей прежней
одноклассницы Нины, уже тогда достойно представлявшей тип
вальяжной славянской красы. Но тогда как-то не врезалось.
А тут, на уроках, Василий Алексеевич, по школьной кличке Вась-Вась, блистал, как никто другой из педагогов. Я, пожалуй, для начала
предоставлю слово Диме Мирошнику, моему австралийскому
знакомому, который тоже у него учился, но лет на восемь пораньше.
Когда я признался ему, что очень хочу, но никак не решаюсь написать о
нашем общем учителе, то он прислал мне вот что:
Если будешь писать о Василии Алексеевиче, то я могу добавить тебе
несколько штрихов. Он был совершенно определённо самым ярким
преподом в нашей школе. Его глубокий баритон, которым он
пользовался очень умело, мог привлечь внимание даже глухого. Он
очень любил Шаляпина, и я помню, как однажды он пригласил
нескольких ребят из нашего класса к себе домой послушать
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
пластинки Шаляпина из его коллекции. Не помню, как он отбирал
приглашённых, но я туда попал. Это было скорее летом после 9
класса, значит, в 55-м году. Он жил в старом деревянном доме на
улице, названия которой я напрочь забыл, но она была параллельна
Цюрупе и где-то недалеко от Чернышевского. Помню, как он
подпевал Шаляпину и даже пытался подменить его...
У него была негнущаяся правая нога и очень сильные красивые
мужские руки. Сам он был жилист, смугл, тонконос, а в глазах
всегда блестела озорная искорка. Юморил он всегда очень толково, правда, не все в нашем классе могли оценить его юмор.
Он преподавал нам историю, логику и Конституцию (был в моё время
такой предмет). Его уроки были настолько нешаблонны, что все мы
слушали его очень внимательно. На его уроках почти всегда была
отличная дисциплина. Сейчас я понимаю, что в нас он находил
некоторое утешение, мы были для него неким лекарством от той
вонючей и лживой атмосферы, царившей в стране. Его нельзя было
назвать ни диссидентом, ни борцом за справедливость. Скорее он
был умным и осторожным человеком, знавшим правду. И поверял её
тем, кому доверял.
Как-то однажды, говоря об истории, как науке, он сказал, что
служит у проститутки - к тому времени уже вышло несколько
редакций "Краткого курса", пошла кампания по пересмотру роли
Сталина...
А представь себе урок логики, когда он демонстрирует нам образцы
логических конструкций:
-- Посылка: Женщины, носящие больше 20-ти пуговиц на платье -
дуры. У Марьи Ивановны 25 пуговиц на платье...
И тут весь класс радостным 40-голосым хором:
--- Марья Ивановна - дурра-а-а!
Василий смеялся вместе с нами...Взахлёб...
Вот, может быть, и у вас мелькнет слово, которое всплыло из глубин
подсознания у меня - лишний человек. Мне как-то кажется, что оно не
обязательно связано с исторической обстановкой николаевского
царствования. Просто везде, где яркий, незаурядный человек по
определению не востребован временем и местом - будет то же самое.
Секс, " наука страсти нежной", забравший под себя не только свое
законное место, но и сектор сознания, запрограммированный под
профессиональную деятельность; бухалово, " вошел - и пробка в
потолок", " безвременье вливало водку в нас"; тяга куда-то, лишь бы не
сюда, " им овладело беспокойство, охота к перемене мест", " а я еду за
туманом, за туманом ...". Ну, и так далее.
В гостях у тетушки Клио
А человек был, действительно,
незаурядный. Владеющий словом, что у
наших педагогов редкость. Юмор у
него, по правде говоря, был достаточно
сильно адаптирован к аудитории. Была в
нашем классе милая девочка Инна
Бернштейн. Разумеется, для нее и ее
подружек, как для всяких нормальных
девушек, любой повод пожужжать был
подарком. На Васиных уроках истории и
обществоведения это пресекалось
окликом, правильно Дима написал,
очень красивого и глубокого голоса:
--- Ну вы там, Бернштейн и
бернштейнианцы! Конец дискуссиям!
Надо сказать, что благодаря
обстоятельству последней десятилетки,
собравшему в школе не самых слабых старшеклассников со всего города, общий уровень у нас был повыше среднесоюзного стандарта. Дело, как
мне представляется, было не столько в способностях, сколько, как
замечательно сформулировано в одной статейке - в мотивированности.
Способности, конечно, играют свою роль. Но уж для одоления
школьного курса с запасом плавучести какие такие нужны особые
таланты? Конечно, тема о мотивированности, заинтересованности
школьника в знаниях болезненная. Возникает вопрос о неумелости либо
равнодушном воздержании родителей и учителей - гораздо для
самоуспокоения лучше, если вся фишка в генетически обусловленных
дарованиях, с которыми все одно ничего не поделаешь. В то время в
Союзе были в моде точные науки - вот вам и взрыв дарований в этой
области. История в число уж очень любимых наук не входила, поскольку
к нашему времени насчет ее продажности специально говорить не
приходилось. Так что она держалась скорей на личной популярности
Василия Алексеевича. Сколько я понимаю, на прекрасную половину
старших классов действовало еще и его обаяние с ярко выраженной
эротической струной. Доходило ли дело до конкретных романов -
сомневаюсь. А впрочем? Во всяком случае, в ночь выпуска, предшествующего нашему, куда меня привели из палатки пригородной
геодезической партии собственные контакты по этой же части, девки
липли к нему, как нынешние тинэйджерки к рок-звезде. Я даже маленько
приревновал свой собственный предмет интересов к этому, как мне
однозначно представлялось, старику.
Так-то у нас с ним были отношения взаимного доброжелательства.
Особенно нового он ничего мне на своих уроках сообщить не мог, связанный внешними ограничениями, как муха паутиной, но говорил
здорово, приятно было послушать и кое-что из лексики и формулировок
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
взять на дальнейшее вооружение. Да он себя в обиду никому не дал бы, правильно Мирошник вспомнил про порядок на уроке, так что даже я, при моей наглости, посторонними книжками под партой на его занятиях
почти не развлекался, зато с удовольствием слушал. Он про мои
археологические похождения, кажется, и не знал, а кружок был в
младших классах и в его сферу интересов не входил, хотя одобрялся.
Я же как раз в это время озадачился собиранием личного своего
представления о том, кто же такой был " басмач и
контрреволюционер Заки Валидов". Собиралось это из обмолвок
официальной литературы, красных газет Гражданской войны и
мемуарных публикаций 20-х годов, доступных в ту оттепельную пору в
областной библиотеке, которая сегодня носит его имя. В общем, получилось тогда не так уж далеко от того, что нынче стало у всех на
слуху. Но записей никаких я не вел, не по конспиративности, конечно, а
по лени в сочетании с неплохой в ту пору памятью. Толчком к
расследованию послужил рассказ отцова приятеля, Мустафы Сафича, публике более известного как Мустай Карим, об его недавней (и, конечно, санкционированной сверху) встрече со известным эмигрантом
во время писательского визита в Турцию. Вершиной рассказа были
воспоминания знаменитого политика и ученого-тюрколога о том, как
зимой сорок первого к нему в Стамбул приехали представители
рейхсминистра Розенберга уговаривать на руководство прогерманским
мусульманским движением и будущей поволжской исламской
федерацией Идель-Урал. Это, конечно, была бы фигура поприличней и
поавторитетней иерусалимского муфтия Амина эль-Хуссейни.. Будто бы, профессор сказал им:
“Я в безнадежных делах не участвую. Раз вы, как и генерал Деникин, сходу Москву не взяли - значит, Сталин вас, в конце концов, победит. Я с
ним хорошо знаком, он таких, как ваш Гитлер, может сразу десять штук
вокруг пальца обвести. Ищите для своих затей кого помоложе и
поглупее”.
Действительно, он, как глава Башревкома, был близко связан с наркомом
национальностей в период своих попыток сотрудничать с Советской
властью, и татарские большевики даже пытались накатить Ленину бочку
на Кобу за мягкость и попустительство "валидовщине". Да и с
германскими делами неплохо познакомился, когда пять лет читал лекции
по тюркологии в Бонне и Гейдельберге. Пришлось нацистам вместо
слишком умного Валиди нанимать согласного на любые условия араба.
Песок, как известно, неважная замена овсу и дело для них кончилось
плохо в полном соответствии с прогнозом. Но за их вычетом тут всем
прочим хорошо. Заки-агаю, отцу башкирской нации или, как другие
говорят, её изобретателю, приятно вспомнить, что оказался пророком и
не поддался берлинским сиренам. Мустаю, автору стиха "Не русский я, но россиянин ..." - приятно ощущать их встречу, как свидание самого
известного башкира Советского Союза с самым знаменитым башкиром
В гостях у тетушки Клио
Зарубежа. Моему отцу приятно узнать, что вот такой заматеревший
антисоветчик признал-таки ум и силу Советов и, конкретно, по-
прежнему обожаемого в глубине души генералиссимуса. Мне же
исключительно нравится слушать из уголочка беседу взрослых умных
людей на историческую тему и отчасти ощущать себя прикосновенным к
"минутам роковым" нашего мира.
Вообще-то я о взрослых к тому времени был не слишком высокого
мнения, многократно убедившись, что они, в среднем, так же склонны с
апломбом высказываться по вопросам, о коих не имеют понятия, как и
люди, не достигшие избирательного возраста. Для отца тут, пожалуй
было некоторое исключение, для деда, еще для пары знакомых, для
некоторых литературных и исторических персонажей, а так ... . Уши бы
не слушали! Да-а, тяжелый я был паренек, как теперь видится. В
учителях у меня быть - это была не синекура. А впрочем - юности идет
нахальство. Плохо, когда подростковая наглость, щеголяние, как говорил
Писарев, "отрицательными общими местами", вроде того, как на
тривиальное и бездоказательное - "Учение - свет" гордо, и так же
бездоказательно, заявляется - "Нет, ученье – тьма!", вот все это
сохраняется у вполне подросшего налогоплательщика и отца семейства.
Понятно - откуда, помогает отвернуться от сложностей реальной жизни, и вернуться душой в единственно светлое время - школу и ВУЗ, особенно, если были элитные, для юных дарований.
Вот, значит, такого нахального, ощетиненного подростка, всегда
готового дать сдачи, еще до того, как ... в общем, Вася обратил на меня
внимание. Как-то пригласил в гости, налил под недовольным взглядом
своей жены стаканчик партейного, дал почитать очень для меня
интересную "Белую книгу Венгерского рабоче-крестьянского
правительства" с горячим обличением контрреволюционных
мятежников, но и с некоторыми фактами. Потом спросил - что
запомнилось? А мне очень врезались в память две подробности: про
радио, все время передающее вальсы, что по комментарию австрийского
журналиста десятилетиями однозначно ассоциировалось с баррикадами и
революциями для всех поголовно обывателей Центральной Европы. И
про отряд нацгвардейцев под командованием, если не ошибаюсь
"дядюшки Пала", который защищает Центральный универмаг от русских
танков. Там упиралось на то, что это все уголовники. На мой же взгляд, для уголовников типично было бы грабануть магазин и смыться, а не
умирать на его защите от танковых снарядов. Так я и сказал, не особо
задумываясь.
Вася хмыкнул. Потом вдруг спросил:
-- Мария Львовна (классная) говорила, что ты собрался в МГУ на
исторический?-
-- Есть такое желание, Василий Алексеевич.
-- Вот что. Ты после школы заскочи домой и скажи, что идешь ко
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
мне в гости на вечер, чтоб не беспокоились. А приходи к семи. Я тебе
кое-что хочу показать.
Жил он тогда в своем деревянном домике с садом на улице Мингажева, название которой не мог вспомнить Дима. В те годы такие
домовладения, частный сектор, занимали почти всю историческую
часть города. Каменные дома губернского ампира ниточками прошивали
этот массив по нескольким главным улицам. Социализм более отметился
в новых промышленных районах нефтепереработчиков и
авиамоторостроителей да небольшими островками в старой части города.
А остальное - полудеревенские дома, заборы, сирень, терн, яблони, стол
под деревом в тени. По маю все это цвело лиловым, белым и розовым
цветом и для меня город моей юности в веселой фате весны помнится, как простодушный старый романс или, скорее ... помните? ... Ночной
томящий зов трубы из середины пятидесятых ... "Cherry pink ...", - О, была весна, когда это напевали все, от Акапулько до Златоуста ... " Вот
почему, когда вишневый сад ... and apple blossom white". Называлось, помнится, красивым, хотя и несколько по-кулинарному звучащим, словом "глиссандо" - но разве дело в словах? Все равно, ничего этого не
вернуть - ни мелодию, ни красотку Джейн Рассел, ни сладкоголосую
Капитолину Лазаренко, ни того трубача, ни сады, ни заборы, ни домики.
Я то как раз жил с родителями в современной пятиэтажке на главной
улице, но дорожки дружбы, любви и просто текущей жизни приводили к
таким дощатым заборам с калитками каждый день. Идти там минут
пятнадцать, ему, правда, на хромой ноге немного подольше. Никогда не
спросил, все вглядывался в себя, любимого – а ведь это, надо думать, фронтовая была рана. На этот раз ни Ниночки, ни ее мамы не оказалось, уехали гостить к родственникам. Так что без помех налита себе водочка в
граненой стопке, а мне все тот же портвейн: "Тебе еще рано". Водочку, я, по правде, уже попивал – но тут как возразишь? Дальше самовар, вполне
настоящий, на угольях от печки-голландки, не та электрическая
имитация, с помощью которой нынче гостям демонстрируется authentic Russian style. Достает Василий Алексеевич толстую пачку листов с
машинописью и дает мне: "Сиди здесь и читай". Читаю я всю жизнь
очень быстро, как раз тогда еще и дополнительно освоил технику
скорочтения по описанию в биографии нового президента Кеннеди из
случайно залетевшего номера "Америки". Но и то заняло часа два, стаканов пять чаю с молоком и еще три стаканчика "777". А хозяин
покамест до половины добил "белую головку".
Было там вот что. Для начала разбиралось около сотни архивных
судебных дел в губернаторство Перовского, то есть, в николаевское
царствование, когда знаменитый оренбургский генерал-губернатор, дядюшка известной террористки, правил нынешними Башкирской
республикой, Челябой, Оренбуржьем и Самарой. Дела все были о
земельных спорах между башкирами и русскими помещиками, башкирами и русскими крестьянами, башкирами и "припущенниками", 10
В гостях у тетушки Клио
то есть арендаторами башкирских земель, из всяких разных народов -
чувашами, татарами, немецкими колонистами, черемисами-мари.
Обычно дело обстояло так, что башкиры уступали свои права на землю в
аренду или навечно за смешную плату. Деньги, в несколько раз меньше
общерусских цен, несколько ящиков с чаем, монисто для кызымок, порох
для хозяина. Надувши дикаря, пришельцы принимались пахать жирный
степной чернозем, но тут башкир передумывал и требовал сильно
добавить или землю назад. И суд всегда, без исключений, не смотря ни на
какие обстоятельства, решал в его пользу. То есть, просто всегда
возвращал землю.
Что российский суд, да еще во времена Ляпкина-Тяпкина, никаким
правосудием сроду не интересовался, а выполнял начальственную волю, это и теперь объяснять не нужно, потому что - ничего и посейдень не
изменилось. Но чтобы такая была установка сверху, вот это для меня
было новостью. Я эти времена не шибко знал, но что-то помнилось: про
колонизаторскую политику царизма, налог на карие глаза, конфискацию
родовых земель, кровавое подавление бунтов, про рваные ноздри, карательные экспедиции Кара, Михельсона, Суворова, про
пореформенное вымирание башкирцев, так что даже такой видный
деятель, как А.А. Каренин, если верить гр. Толстому, все силы тратит на
их защиту, жертвуя семейным счастьем. Да и народники могли ли
остаться в стороне? Глеб Успенский, побывав в крае, так и предсказал:
" Пропадет башкир! Непременно пропадет этот самый башкир!" Да и в
самом деле, достаточно короткой информации о том, что перед 1917
годом самой у них распространенной болезнью была трахома, чтобы не
позавидовать этим имперским подданным. Но как же быть с явным
подсуживанием?
Дальше на страничках частично объяснялось это дело, с использованием
документов Оренбургского и Уфимского губернских архивов, а частично
дополнилось уже устным комментарием хозяина. Дело в том, что не
было у Российской империи какой-то единой и неизменной политики в
этом деле. Да, были башкирские восстания 18 века - так мало ли что
было? Вон казаки ... но о них чуть попозже. А потом национальная
иррегулярная кавалерия совсем неплохо проявила себя в наполеоновских
войнах и при начале покорения Средней Азии. О чем, кстати, остались
фольклорные мелодии и танцы, что и сейчас можно на сцене увидать :
"Северные амуры", в воспоминание о Париже и Фер-Шампенуазе, да
"Перовский", как след неудачного похода на Хиву. До цели тогда так и
не добрались через пустыню, единственно, повоевали под руку Белого
Царя земли по низовьям Сыр-Дарьи, и в том числе, покорили для него
башкирские конники навечно урочище Тюратам, впоследствии очень
известное под именем Байконур, и тамошних казахов.
И вот, особенно сам Перовский, да и царь Николай Павлович под его
влиянием, всё старались как можно укрепить инородческое Башкиро-
Мещерякское казачье войско, создать из него рядом с мужицким
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
крепостным Поволжьем и рабочим Уралом верную опору трона, наподобие Всевеликого Войска Донского. С Доном-то и Яиком удалось.
Казаки в течение почти всей своей истории были заклятыми врагами
Русского централизованного государства, так что каждое их появление
на арене, как особой политической силы - это и симптом, и одна из
главных причин смут и разрушений Руси. Так было и при Плоскине-
броднике, и при воровских атаманах Кореле и Заруцком, и при Стеньке, и при Мазепе, и при Кондрате Булавине, и при Емеле-самозванце, и при
Шкуро с Семеновым. Слава Богу, хоть сейчас этого нет и основным
казачьим промыслом на сей раз стали не вооруженные походы на Русь
"за зипунами", а хождение с чужими медалями да мелкий рэкет на
рынках, что, отчасти, и позволяет надеяться - "А, может, все-таки, пронесет?" Но вот на короткий период, примерно на сто лет, удалось эту
темную силу приручить, поставить на службу России как во внешних
войнах, так даже и внутри. И при очередной смуте в самом начале ХХ
века казаки разгоняли бунты, заслужив от либералов кличку "царских
опричников", в остальные столетия мало к ним подходившую.
Видимо, хотелось той власти проделать такую же штуку и с башкирами
да мишарами. Тем более, тут еще и национальный и религиозный барьер, что очень способствует неуклонности в усмирении бунтов. Идея-то
богатая. В том же Пятом Годе так вот примерно получилось в
Прибалтике, где, по существу, шла непрекращающаяся партизанская
война между социал-демократическими латышскими "лесными
братьями" и ингушами-секьюрити, принанятыми баронами для защиты
своих имений. Вот уж ингушу про "Пролетарии всех стран, соединяйтесь" никакой агитатор не втолкует. Впрочем, это уж все мои
нынешние рассуждения. А тогда было из этих листочков понятно, что
никто башкир не преследовал, наоборот, царская администрация всеми
силами пыталась их сохранить. Но не получалось. Просто не было у
народа сил сопротивляться новым временам, а без кнута диктатуры не
получалось под них подладиться. Не могла же сохраняться навечно
ситуация, когда на мужскую душу русского крестьянина приходится в
Центре одна десятина, на многоземельном Урале - две, даже у донских
казаков - пятнадцать десятин, а у башкир – шестьдесят(!). А если меньше, то уже на тридцати-сорока десятинах кочевое хозяйство может только
Как всегда, когда Пахарь встречается с Кочевником не в бою, а в
ежедневной хозяйственной жизни - Кочевник обречен просто потому, что Пахарю земля даст намного больше. А некочевую жизнь исконные
хозяева степей между Волгой и Тоболом тогда и представить себе не
могли. И, в конце концов, в Петербурге на это тоже махнули рукой, поняв, что дело не удается, распустили это самое войско и оставили
дальнейшую историю этого дела, как и многое другое в Империи, на
самотек. Тем более, надо Среднюю Азию с Маньчжурией покорять, не
говоря о Проливах, до обустройства ли старых завоеваний? Вот башкиры
В гостях у тетушки Клио
и стали потихоньку уступать свою землю и, хоть не совсем уж вымирать, но отставать от соседей, не имея сил для жизни. Так, а что вы хотите? У
пастуха Авеля против земледельца Каина "крыша" была покруче, чем
оренбургский губернатор, а и то не спасла.
Закончил я чтение, отложил листочки, смотрю на хозяина. А он
спрашивает:
-- Как ты думаешь, что это такое?
Ну, я уже, все-таки, кое-что себе представляю.
-- Думаю, что это Ваша кандидатская диссертация.
-- Правильно думаешь. А как ты считаешь, могу я это защищать?
-- Нет, наверное. Обком партии будет против. Они же всегда про
колониальную политику царизма. Если только в другом городе?
-- Да нет, ни в каком другом городе. Без положительного заключения
от здешнего обкома никто и не примет. Знаешь, сколько я на это
времени убил, пока понял? Пять лет. Вот, кроме как тебе показать -
больше и пользы нет.
В общем, так! Не ходи ты на исторический, не повторяй мою
ошибку. Ведь вот учителем истории с оболтусами, как я, ты не
захочешь?
У меня, вообще-то говоря, педагоги в родне есть, хоть бабушка любимая, Заслуженная Учительница. Но мне это совсем не по характеру. Да я и
мечтаю совсем о другом, мне грезится - в Тарле пробиться, на худой
конец, в Толстовы, знаменитые археологи.
-- Да я на раскопки, Василий Алексеевич ...-
-- Ну и что? Сколько, как ты думаешь, в стране нужно археологов?
Человек двести?А в год сколько новых? Пятнадцать?
Рассчитываешь в их число попасть? Да и не так там интересно, как
тебе сейчас кажется. В научные работники, в архивах копаться -
вот перед тобой твое будущее лежит. Только что я при старом
времени напуганный, вперед не лезу, а ты по молодой дурости будешь
выделываться и тебя посадят. А в лагерях не так хорошо, как плохо.
"Ивана Денисыча" читал?
-- Так это же при Сталине, Василь Алексеич.
-- Это тебе никто, кроме меня, не скажет - мы и сейчас при
Сталине живем ... . И я на уроке не скажу, только сейчас, за
стаканом. У тебя же с математикой хорошо - ну и поступай, куда
там у вас ... физтех, мехмат ... авиационный. Какая разница?
Я теперь думаю, что он что-то знал о "Деле Краснопевцева" на истфаке
МГУ и других подобных, про которые я слыхом не слыхивал, полагая, что Старый Волк после признания прошлых ошибок с Красной
Шапочкой и семерыми козлятами взаправду стал вегетарианцем. Мне он
об этом впрямую не говорил, чтобы окончательно не сбивать с
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
комсомольского энтузиазма в антисоветчину. Так только, намекал, что
Ну, допил он свою "Московскую", налил мне на прощанье еще портвейна
и отправил домой, а то уж засиделись. Не могу сказать, что я так сразу
перевербовался. Но и родители что-то подобное напевали, хоть конечно, мой шибко партийный отец использовал совсем другую терминологию, но потайной смысл был тот же - посадят без сожаления. Не те люди, чтобы жалеть. Но и расстаться с идеей не хотелось. Вот я и придумал
компромиссный вариант - поступать в нефтяной, по семейной традиции, а за первый год решить: что же дальше делать? Может быть - заберу
документы и в МГУ, либо в Тарту на исторический? А за год, по правде, понравилось. И той альтернативы, чтобы либо поясницу начальству
лизать, либо, по новому словцу, в диссиденты - в инженерии нету.
Прожил жизнь, начальникам не особо кланяясь. Но и без лесоповала.
Сейчас-то уж что? Давно с ярмарки, как Никита Сергеич говорил. Иногда
только проскальзывала мысль: ну, отсидел бы, как положено, давно бы
уж где-нибудь лекции бы читал о крестьянском вопросе в России. Ну, а
кто бы факелами да трубами занимался?
Василия Алексеевича после окончания школы я из виду потерял. Мы и
переехали, и институт у меня тоже был на другом конце города, в
двадцати километрах. Несколько раз только виделись за все годы - один
раз на школьном вечере встречи, разок в библиотеке, да пару раз в
рюмочной на улице Ленина. С Ниночкой, дочкой его, встречались все-
таки почаще, она тоже в химики подалась, работала в институте
НИИНефтехим. Всегда Васе привет передавал, а она говорила, что он
помнит. Надо было найти его в один из приездов в родной город, встретиться, посидеть, поговорить - да, как всегда, все на бегу. Сегодня
Сургут, завтра Краснодар. Так и не увиделись.
Умер он в 1994-м, я и не знал. Митя, младший мой брат, был на
похоронах, знал, что не чужой для меня человек. Венок положил. Кто-то
мне говорил, что Василий Алексеевич Якимов в Перестройку ожил, будто бы статьи его в газетах появлялись - кто, как он, знал подлинную
историю края, а не мифы? Но на самом деле всем: и русским, и татарам, и башкирам, и либералам, и демократам, и красным - правда-то ни к
чему. Именно, что мифы, каждому свои, вплоть до открытия, что древние
арийцы - это как раз башкиры из племени тамьян Абзелиловского
района, что и записано древними письменами на горе Аркаим - осталось
найти и расшифровать. Конечно, им всем реальная история не больше
нужна, чем тому обкому. Так что по-настоящему - и никому, и никогда.
Так и осталось - нереализованным потенциалом. А у Димы? А у ... да
мало ли? Только не надо время винить. Когда у нас иначе-то было?
Похоже, что никогда, если верить Ибн-Фадлану. Этот арабский
землепроходец повидал на суше не меньше, чем легендарный Синдбад в
южных морях, а самое его знаменитое путешествие было в дальние
В гостях у тетушки Клио
страны по реке Итиль-Волге. Рассказы об экзотических народах: хазарах, славянах, булгарах, буртасах, мордве и русах, их невероятных нравах и
неправдоподобных природных явлениях, вроде воды, в кристаллическом
состоянии падающей с неба, или июньских ночей длиной в полчаса, -
произвели в свое время в Багдаде фурор никак не меньший, чем
четырьмя веками позже сообщения Марко Поло в Венеции.
Вот в этих-то сообщениях, найденных, прокомментированных и
изданных нашим знакомым А.-З.Валиди, когда он оказался в эмиграции, и можно найти рассказ о странных обычаях живущих в северных странах
племен, которые " если увидят человека, обладающего подвижностью и
знанием вещей", то" берут его, кладут ему на шею веревку и вешают его
на дереве, пока он не кончится", считая, что это принесет благоволение
богов и удачу всему народу. Надо честно сказать, что обычаи в наших
края с ибн-фадлановских времен сильно усовершенствовались и в
последние века кое-кому удалось избежать такого жертвоприношения.
Будем надеяться, что дальнейший прогресс не заставит себя ждать уж
очень долго. Во всяком случае, хотелось бы.
Скоро, выходит, двадцать шесть лет, как умер Василий Алексеевич. И
семнадцать лет, как ушел его бывший ученик Дима Мирошник. Я-то
пока живой, за мной и долг - вспоминать, как уж получается, об их
жизни. Кого помнят - тот ведь еще не до конца умер. А фото Василия
Алексеевича мне бы не добыть, если бы не помогли старые школьные
друзья, одноклассники мои Жанночка и Саша. Значит - и они его
помнили, да, наверное, и не только они.
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
ФОРМУЛА ДЛЯ ПАССИОНАРНОСТИ
Я алгеброй гармонию.
А.С. Пушкин
Математика, подобно жернову, перемалывает то, что под
него засыпают, и если засыплешь дерьмо - то не жди муки-
крупчатки.
Возможно, Томас Гексли
1. ПЕРЕПИСКА С Л.Н. ГУМИЛЕВЫМ
Летом, если не ошибаюсь, 1978-го получилось мне попасть в опалу. Я
занимался измерениями расхода газа в факельных линиях Западной
Сибири и намерял с помощью нехитрого прибора, пневмометрической
трубки Пито-Прандтля, что в факелах сгорает на несколько миллиардов
кубометров газа в год больше, чем числится по главковским и
министерским отчетам. Времена были уже довольно вегетарианские, раскрыть связи скандалиста с японской разведкой или хоть с сионистами
никому и в голову не пришло. Просто непосредственный начальник, директор краснодарского института, в чьем сибирском филиале я
работал, приказом запретил без его разрешения ездить на
месторождения. То есть, по грибы или за клюквой - это не пресекалось. А
с расходомером - нельзя. Зарплату продолжали платить регулярно, а
работать запретили. Со всеми прочими делами лаборатории, к тому
времени более или менее отлаженными, вполне можно было управиться, как язвил наш ГИП Юзя Немировский, при восьмичасовой рабочей
неделе. Я заскучал. Сначала воспользовался паузой, чтобы оформить
накопившиеся материалы в несколько статей и заявок на изобретения, потом пару недель доставал наших химиков-аналитиков, воспитывая их
по поводу методики обработки результатов. Потом занялся давно
задуманной, но отложенной за недостатком времени, работой по
машинному синтезу схем размещения газоперерабатывающих заводов на
Я-то совсем не программист, дальше языка Алмир так за жизнь и не
продвинулся - но надо ж иметь что писать в программы. Там были
эквивалентирование - переложение в простые формулы технических и
экономических показателей труб, заводов и компрессорных станций, оценка достоверности прогноза количества газа на энный год и тэ дэ и тэ
пэ. Чем эта работа была хороша для начальства - это, что, против
сложившегося обыкновения, пока никак не вела к скандалам с
вышестоящими инстанциями, в отличие от запрещенных полевых
измерений на факелах и устьях скважин. Ну, а я старался словить кайф от
игр по моделированию. Вот в это самое время нанесло меня в журнале, по-моему, в популярной, но все же издания АН СССР, "Природе", на
статью Льва Николаевича Гумилева об его теории пассионарности.
В гостях у тетушки Клио
Имя Гумилева был знакомо уже довольно давно, еще в лейтенантские
годы была укуплена в станционном дальневосточном киоске брошюрка о
поисках Хазарии. Тема далекая, но автор - первое, что, судя по всему, сын обожаемой Анны Андреевны и симпатичного поэта, путешественника и фронтовика с милыми стихами о капитанах и
жирафах, второе - пишет уж очень здорово, нашим историкам, за
вычетом Тарле, так писать не полагалось. А тут, по прочтении уже новой
статьи, как будто получалось, что - историк масштаба Ключевского или
Тойнби, да как бы и не больше. Полностью в его теорию про этногенез
все-таки не поверилось, но, это уж хорошо известно и по техническим
наукам - лучше неправильная теория, чем никакой. Да еще и описана
динамика изменения пассионарности во времени так наглядно, как бы с
натурного наблюдения. И уж очень выходит похоже на то, что сделано в
нашей работе для оценки изменения во времени ресурсов на
"неоткрытых месторождениях". Это такой термин для "нефти
геофизиков". То есть, еще ни одной капли ее никто не видел, разведочных скважин пока не бурили, но по геофизическим данным есть
вот тут ловушка, в ней может быть нефть с газом, количество до стольки-
то миллионов тонн, разведка планируется на семьдесят девятый год, начало добычи на восьмьдесят первый. В задачке требуется узнать -
сколько нефтяного газа отсюда пойдет на завод в девяностом. Будете
смеяться - от начала освоения и до до середины восьмидесятых все время
было так, что в среднем жизнь раза в полтора превосходила прогнозы.
В общем, сел я и нарисовал парочку совсем простеньких уравнений, которая дает как раз такое изменение пассионарности по времени, о
каком на словах пишет историк. Написал ему длинное письмо с
изложением этой модельки и рассуждениями о том, как оно всё работает.
Надо посылать - нужен адрес. К этому моменту выяснилось, что работает
ЛНГ почему-то не на истфаке, а на географическом факультете
Ленинградского Госуниверситета имени того самого Жданова А.А. , что
так плотно влез в биографию его мамы. Да еще и не профессором
работает, а вроде СНСом - то есть, на полуптичьих правах в Научно-
Исследовательском секторе. Впрочем, все равно в том же здании
Двенадцати Коллегий. Ленинградские друзья подсказали поставить на
конверте нужную кафедру ЛГУ. Письма этого и даже его черновиков, так
же, как ответа Гумилева и следов моего второго письма не сохранилось.
Что, по прошествии времени, очень жалко. Только теперь понимаешь, что это Пастернак мог себе позволить позицию - " Не надо заводить
архива, Над Рукописями трястись". У него-то была гарантия, что все
нужные слова и поступки будут аккуратно зафиксированы в донесениях
его личных топтунов и бережно сохранены в папках соответствующей
конторы. Нашему брату, простому человеку, в этом смысле приходится
полагаться только на личный, у кого есть, архив, да еще на собственную, не очень надежную память.
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
Смысл письма был тот, что вот-де, в восхищении от Вашей статьи и
изложенного в ней хода изменения параметра пассионарности за
столетия, осмеливаюсь предложить простую модельку. Все получается
очень хорошо и именно в соответствии с Вашим описанием, если
предположить, что уровень пассионарности нации или любого подобного
ей большого коллектива (религиозная община, цивилизация, партия, научная школа и т.д.) равен произведению двух факторов, экстенсивного
и интенсивного. При этом, фактор И (интенсивный) соответствует
примерно среднему накалу пассионарности на вовлеченную в процесс
душу, максимален в стартовый момент и далее асимптотически убывает
в сторону нуля по экспоненциальному закону, то есть, скорость падения
пропорциональна значению самой величины. Фактор же Э
(экстенсивный), как и из названия следует, описывает распространение
идеи среди населения и возрастает от нуля до единицы, соответствующей
полному вовлечению всех, кто вообще может быть вовлечен, по S-
образному, логистическому закону . Закон же этот соответствует
ситуации, где скорость увеличения пропорциональна достигнутому
уровню параметра и, одновременно, тому, что еще осталось до полной
победы. То есть, сначала дело идет медленно из-за недостатка, допустим, агитаторов, к середине процесса быстро, а под конец опять медленно, теперь уже из-за недостатка агитируемых. Особенно широко такая
модель в ходу при решении задач биологов и экологов об изменении
численности популяций.
Итоговая функция - произведение двух исходных, получается горбатой
ближе к началу и медленно затухающей к концу. Так же, как и
послужившая образцом для всех этих рассуждений придуманная для
наших технико-экономических игр усредненная кривая разработки
месторождения, где фактору экстенсивности соответствовала мера
освоенности месторождения, а фактору интенсивности - отдача, например, добыча нефти на скважину, именно падающая с самого
первого момента по закону, достаточно близкому к убывающей
экспоненте. Тут, в исторических процессах овладения идеей массами, даже более основательной казалась мысль о том, что факторы друг на
друга влияют слабо. В конце концов, выдыхаются не только религии, завоевавшие миллиарды адептов, но и маленькие секты, не вышедшие за
сотни поклонников. Иначе было бы невозможным постулируемое
Гумилевым (или выводимое им как бы из опыта человечества) одинаковое время, отпущенное по максимуму на жизненный цикл
любого этноса - около полутора тысяч лет.
Далее следовали графики функций: интенсивной, экстенсивной и их
произведения, рассуждения о конкретных реализациях подобных
процессов, иллюстрированные ещё и расчетным примером по одному
широкоизвестному процессу советской истории с исходными цифровыми
данными из БСЭ. Надо сказать, что биография адресата мне тогда была
практически неизвестна. То есть, что тут не было медом намазано, как-то
В гостях у тетушки Клио
можно бы вывести a priori по аналогии с остальным населением страны, да и по анкетным данным о родителях. Но вот конкретные следствия, посадки, лагеря, фронт и возвращение воина-победителя в систему
Гулага, все, что теперь хорошо известно по его собственным интервью, официальным биографиям, воспоминаниям знакомых, учеников и одной
из довоенных подруг - этого я, конечно, не знал. Как не знал и о том, что
он - верующий христианин. Поэтому, как теперь кажется, в письме было
несколько не очень уместных рассуждений, которые могли, в принципе, лично задеть получателя. Например, тему об угасании "температуры"
интенсивного фактора я иллюстрировал, помнится, словами о
монотонном падении накала христианской веры от Учителя через
Св.Павла, отцов церкви и до современного жалкого уровня. Ей Богу, мне
тогда и в голову не могло придти, что советский доктор наук может
верить - и посещать церковь. Среди моих знакомых и родственников
были верующие: и из РПЦ, и древлеправославные, и мусульмане - но с
современной наукой я их никак не ассоциировал.
Впрочем, адресат, повидимому, воспринял это правильно, как следствие
моего слабого знакомства с вопросом, и не обиделся. В своем письме, помнится, он вежливо поблагодарил меня за интерес к его работам, очень
положительно оценил разделение факторов на интенсивные и
экстенсивные, не особенно одобрил появление посреди исторических
пассажей первой производной, с нескольких заходов предостерегая
против, как он выразился, "излишней сверхматематизации", сдержанно
похвалил упомянутого мной между прочим уфимского профессора
Р.Кузеева и его работы по происхождению башкир - и пожелал в
заключение мне и моим коллегам-нефтяникам больших успехов в
трудной работе по освоению Западной Сибири. На мой вкус, особенной
"сверхматематизацией" тут пока и не пахло, хотя нельзя же, с другой
стороны требовать от человека, чтобы он, доктор исторических и доктор
географических наук, еще и формул не боялся. Тут инженеры, выпускники технических институтов, не успеют на промысел приехать, уже норовят при виде dy/dx значки d сверху и снизу посокращать, как в
простой дроби.
В этом духе я ему и ответил, предложил, если есть нужда, свою
посильную помощь в обработке данных, хоть и сказал, что я-то лично не
математик, а просто - инженер, не до конца забывший вузовские науки. А
под конец довольно холодно отозвался об идее привязки "точек
этнических мутаций" к каким-то полосам на глобусе, намекнув, что де
эта идея уже использована стругацким персонажем д-ром Пильманом в
"Пикнике на обочине". Второго ответа я не получил, а когда
забеспокоился о судьбе адресата, то из Питера мне сообщили, что он тут
сильно заболел, чуть ли не инфаркт его хватил, как раз в то время, когда
он, по моей оценке, должен бы получить второе письмо. Post hoc, nоn est propter hoc - после этого не значит вследствие, но я решил более не
рисковать здоровьем великого ученого. Так что новых писем я ему не
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
писал, тем более, что опала моя внезапно прекратилась. Как я потом
вычислил, под влиянием того, что темой о реальном горении газа на
факелах заинтересовались Комитет Народной Контроля СССР и
Тюменский обком партии, чьи козыри были покрупнее министерских.
Снова начались обследования месторождений, валенки, проваливающиеся в снег, спирт, застывающий в приборе, гайки М-20 на
полтора и полудюймовые, встречи с геологами и промысловиками, зимники, вертолеты и рев пламени, в котором сгорает по миллиону
кубометров за сутки. Не до хобби.
2. НОВАЯ ВСТРЕЧА СО СТАРЫМИ УРАВНЕНИЯМИ
Прошло двадцать пять лет. Интерес публики ко Льву Николаевичу
Гумилеву за это время иногда зашкаливал до штормового. Вышли, начиная с первых лет Перестройки, наверное, все его книги и рукописи.
Часть населения даже пыталась его приспособить на роль
общенационального гуру типа Солженицына или хоть спекульнуть в
этом направлении. Помню, как какой-то из жёлтых журналистов, чуть ли
не популярный одно время Невзоров, вытащил старика на экран телика, чтобы тот сделал нужные заявления. Л.Н. уже был недалек от конца
своей многотрудной жизни, явно плохо соображал, чего от него хотят, и
все это вместе производило достаточно тяжелое впечатление. Мысли его, однако, живут и после смерти автора и продолжают влиять на людей. Я
так и не уверовал в Теорию полностью, как полагается правоверному
гумилисту, но продолжаю думать, что там много вызывающего доверие и
интерес. Две его книги и посейчас стоят на моей полке.
У меня же за это время было немало приключений, которые, скажем
прямо, общепланетарного интереса не представляют. В частности, однако, было и такое, что в середине восьмидесятых данные о факелах
были официально признаны до самого верха. Это повлекло за собой, среди прочего, снятие целой компании разного уровня начальства, в том
числе вышепомянутого директора нашего института, и разработку
Госпланом специальной "рыжковской" программы по строительству
химкомбинатов на Севере под этот самый газ. Ничего из этого, правда, все равно не вышло, потому, что ветры времени унесли куда-то и
Госплан, и Рыжкова, и вообще "планов громадьё", как сказал бы поэт.
Только и остался памятником громадный подготовленный под стройку,
"выторфованный", участок недалеко от Сургута.
Да и меня закрутило так, что в один прекрасный день я обнаружил себя
за рулем подержанной Хонды-Аккорд на паркинге посреди городка
Баффало Гроув, одного из предместий Чикаго, хотя ни вождение
автомобиля, ни Баффало Гроув, ни самый Чикаго, да и вообще какая бы
то ни было заграница, мне сроду не снились. Советский человек, однако, ко всему привыкает. Привык и я, стал зарабатывать на жизнь
консультациями on-line на привычные темы о газе и нефти, по вечерам
развозить внуков на их теннисные, балетные и прочие занятия, а "для
В гостях у тетушки Клио
фана", как говорит внучка, ходить в Сеть, которая отчасти заменила
недоступные для меня нынче по географическим и медицинским
причинам встречи и приключения, как для Ходжи Насретдина чайхана на
окраине Ходжента стала всем, " что осталось от большого и прекрасного
мира". Вот во время такого как бы общения вдруг и всплыла в беседе
тема клиометрии, она же квантитативная история. То есть, исследование
количественных характеристик исторических процессов, что в моей
памяти исключительно было связано с тем гумилевским эпизодом.
Тут меня завело, тем более, что в одной из наличных книг ЛНГ (Гумилев
Л.Н. - От Руси к России: очерки этнической истории. - М.: Экопрос, 1994) на 17-ой странице оказался ранее не бросавшийся в глаза график
"Изменение уровня пассионарного напряжения суперэтнической
системы". Оставим пока в стороне тему - откуда автор взял данные, мы к
этому еще вернемся. Сколько я понимаю, двадцать пять лет назад этой
картинки еще не было ни в статье, ни в гумилевском письме, иначе я бы
ее тут же обсчитал, чтобы как-то порадовать Л.Н.. Ну что ж, сделаем это
сейчас. Тем более, мы никак не будем первыми. Существует, как
оказалось, когда я пошарил по Сети, целая наука, можно сказать
– «Математическая Гумилистика». И почти вся она существует вокруг
этого самого графика, выведенного, по словам автора, как " обобщение
сорока индивидуальных кривых этногенеза, построенных нами для
различных этносов". В основном все это расположено здесь, но и в
других местах Сети
немало, не говоря о
бумажной литературе.
Я особенно возиться с
аппроксимацией не стал,
сделал всё "на коленке",
тем более, у меня и
приближениям нету, по
основной работе нынче
не нужно. Так что я по
коэффициенты
миллиметровке,
обычной, вероятностной
и полулогарифмической,
какие, оказывается легко
найти и скачать в
Интернете.
Как видите, совпадение
кривой на исходной
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
картинке и расчета по приблизительно прикинутым коэффициентам не
то, чтобы идеальное, но совсем неплохое. Никак не хуже, во всяком
случае, чем при других моделях. Оно совсем не связано с
эмоциональными текстовыми надписями - но словами, как известно, что
хочешь можно написать.
Вы, конечно, скажете - что, мол, за бред? Этого же ничего в природе не
существует - что там обрабатывать? Мало ли какие движения карандаш
делал у автора книжки?
Пусть так. Ну, конечно, нет сомнения в том, что никакого
" напряжометра" у Льва Николаевича не было, ничего он измерять не
мог и рисунок этот только отражает его представления о динамике
накала пассионарности, так же, как их отражало словесное описание в
давней статье из журнала "Природа". Не больше.
Но и не меньше. Я лично верю в интуицию и ее колоссальную роль в
процесссе познания мира. Тем более, в интуицию такого, безусловно, незаурядного человека, каким был покойный историк. Тут, знаете, есть
некоторая аналогия с тем, о чем пишет А.Н.Крылов в своих
воспоминаниях о кораблестроителе-самоучке П.А.Титове. Помните? " По
окончании расчета он открывал ящик своего письменного стола, вынимал эскиз и говорил: - Да, мичман, твои формулы верные: видишь, я
сходятся".
Если предложенная модель отражает, пусть не ход процессов Истории, а
ход мысли такого замечательного человека, как Л.Н. - так и то можно
гордиться. Если помните, как основатель и теоретик психоистории Гэри
Селдон, так и выдающийся практик Вадим Христофоров, по
прозвищу Резалтинг Форс, утверждали, что трудность такой задачи как
раз повышается при уменьшении числа людей в рассматриваемой
группе. Можно представить себе, как она сложна, если это число
уменьшается
Однако, тут есть и еще одна сторона вопроса. Посмотрим, применима ли
наша моделька к совсем реальным, оставившим записи в архивах, историческим явлениям. Пассионарность или, сказать, энтузиазм - дело
темное, но достаточно часто речь идет о надежных вещах - квадратных
километрах территории, людском поголовье и тоннах выпуска, особенно, если подакцизного товара. Врать, конечно, официальные инстанции
могут и по этим делам, но, все-таки, фискальные интересы заставляют
держаться поближе к фактам. Вот мы и посмотрим по одному примеру на
эти параметры.
Начнем, как П.И.Чичиков - с ревизских мужицких душ. В статьях БСЭ
"Коллективизация сельского хозяйства" и "Крестьянство" содержится
вполне достаточно цифрового материала, чтобы описать количественные
В гостях у тетушки Клио
превращения, случившиеся с отечественным крестьянством за время
Соввласти. У этого процесса две стороны. Одна - это раскрестьянивание
населения в результате общих для большой части планеты процессов
урбанизации, индустриализации и, конкретно, замены традиционного
хлеборобства " коло плетня" на товарное сельское хозяйство. Вторая -
более локальный процесс обобществления мужицких хозяйств, коллективизации.
Не входя в обсуждение трагичности этого дела именно в нашей стране, скажем только, что и количественно это явление у нас перекрыло все
мировые рекорды, дойдя до почти полного исчезновения "единоличных"
семейных хозяйств. Нам этот пример очень удобен тем, что тут
"экстенсивный" и "интенсивный" параметры уже сразу разделены, даже
по разным статьям энциклопедии. В качестве результирующего
параметра у нас будет доля колхозников от всего населения страны, получающаяся как произведение неуклонного убывавшей доли крестьян
от населения на степень коллективизации советского крестьянства. На
общее число душ мы пересчитывать здесь не будем, поскольку за это
время оно сильно дергалось в связи с военными и голодными потерями
да с движениями границы в 1939, 40 и 45 годах. Но, уверяю вас, такой
пересчет наших выводов тоже не изменил бы. И в этом случае, как в
остальных примерах, уточнение
коэфициентов и получение
очень хорошей сходимости не
заканчивался на уровне первого
приближения.
На картинке представлены как
раскрестьянивания
коллективизации, так и итоговая
функция: сколько же всего есть
к заданному году в стране
колхозников, мужиков и баб,
приобщенных к коллективному
сельхозтруду.
Как видно на картинке,
фактические цифры неплохо
описываются
уравнениями. Убывание доли
крестьян в населении страны
удовлетворительно ложится на
экспоненту, коллективизация
логистической кривой, имеющей
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
точку перелома-перегиба, как правильно, хоть и эмпирически, подметил
тов. Сталин, около 1930 года. А в итоге доля колхозников от всего
народонаселения дает ту самую горбатую кривую, о которой и речь.
Территория
Пойдем дальше. Для примера на территориальные процессы был соблазн
привести что-нибудь всем знакомое: Триумфальное шествие Советской
Власти либо динамику какой-нибудь знаменитой войсковой операции, скажем, зимнего контрнаступления под Москвой в 1941-ом. Но у меня
были уже под рукой материалы по итогам одиннадцати русско-
турецких войн. Границы двигались, территории переходили от
Османской империи к Российской, а изредка и наоборот, начиная с
середины 17 века и до второго десятилетия 20-го. Вот на картинке это все
и отражено. На мой взгляд, тут хорошо видно, что "лесенка" российских
территориальных приобретений от турок за два века очень прилично
аппроксимируется нашей любимой логистической кривой. Ей, в данном
случае можно бы и ограничиться, так как территориальные дела уже по
экстенсивный
На самом деле, если задуматься о дальнейшей истории российских
приобретений в этом районе, то станет ясно, что пик освоенности, вовлеченности этих земель в общерусскую жизнь давно прошел. Лично
для меня неубиенным фактом постепенного отхода Северного
Причерноморья назад оказалась невозможность попасть по воде с
Южного Берега Крыма в Цемесскую бухту уже в 1994-м году. Мы тогда
с женой отдыхали в тех краях в первый раз после 1985 года. Было
неплохо, но нам захотелось навестить под конец наших кубанских друзей
и мы бодрым шагом
отправились из гостиницы
"Ялта" через Массандру в
морской порт, чтобы купить
билеты до Новороссийска. Я
еще, помнится, рассказывал
жене, как путешествовал в
обратном направлении в одна
тысяча девятьсот далеком
году на покойном теплоходе
"Нахимов", взявши с
друзьями-студентами
палубные билеты. По
приходе в морвокзал, однако,
оказалось, что наши планы не
возможность
"Нахимова" со дна морского.
Крымско-Кавказская линия
В гостях у тетушки Клио
уже два года как прекратила свое существование. Зато из Ялты, как, оказывается, и из Новороссийска, ежедневно отходили паромы в Синоп, Трабзон, Стамбул и Измит. Кассирша так и посоветовала - взять билеты
до Синопа, а там пересесть на новороссийское плавсредство. Нам тогда
это показалось чрезмерно экзотичным и мы, пожертвовав комфортом, купили билеты на автобус Ялта-Краснодар на недальнем автовокзале. Но
если оставить в стороне наши конкретные семейные проблемы, то
транспортная связь Крыма и Северного Кавказа через Анатолию, как
будто, говорит о возврате ситуации допотемкинской, более, чем
двухсотлетней давности. Не все и не всегда удается оценить
количественно. Вот и тут, русское завоевание Северного Причерноморья
видно наглядно в цифрах и кривых, а сползание с "горба", которое так
ярко обнаруживается на примере сообщения двух регионов через
прежнюю метрополию, произошло, не отразившись пока напрямую в
статистике, незаметно, как течение подземной реки.
Миллионы тонн
В качестве примера на производство мы с вами возьмем добычу нефти.
Для каждого отдельного месторождения такие расчеты, точнее, расчеты
оптимального отбора, делаются по хорошо известным методикам с
проницаемости
пластов, вязкости
нефти и прочих
геологических
данных. На оси
абсцисс при этом -
накопленная добыча.
объекта, то либо
должны рассчитать, а
потом суммировать
добычу по всем
месторождениям, что
для нас с вами
технически
недоступно - либо
попробовать найти
приближенные
методы. Тем более,
если речь идет о
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
прогнозе, где участвуют и еще не открытые месторождения. Нам, во
всяком случае, нужна страна, у которой пик добычи позади - но из
серьезных мировых производителей эту стадию прошли только
Соединенные Штаты. Казалось, что и для России пик давно пройден - но
последние годы показали, что это не так. Падение добычи в
восьмидесятых - начале девяностых, как выяснилось, просто результат
того, что плановая экономика догола грабила отрасль-кормилицу, не
оставляя ей ничего на развитие. Сейчас тоже не рай, но, видимо, швейцарские сейфы и канарские виллы новых хозяев все же менее
прожорливы, чем "Бураны", авианосцы и солидарность с борющимися
народами Африки - что-то нынче остается и самой нефтедобыче на
жизнь. Но вот американская нефть действительно "едет с ярмарки", тут
сомнений нет. Так вот, данные по истории и прогнозу на ближайшее
двадцатилетие для нефтепромышленности США и приведены на
последней картинке. Мне так кажется, что тут комментарии излишни.
Ну и что?
Значит, посчитали мы с вами это всё. Похоже - сходится. Что из этого
следует? Любую однозначную кривую, в принципе, можно описать
многочленом - но что это дает?
Тут, все-таки, не полином, сомножители имеют определенный реальный
смысл для каждого случая, как при гумилевской пассионарности, так и в
наших примерах из жизни. Такие описания обычно находят применение.
Я, скажем так, очень далек от того, чтобы предполагать, будто мы нашли
универсальное уравнение мировой истории. Был уже однажды эпизод, когда при появлении в конце XVIII века теории вероятности она сразу
была воспринята, как объяснение всего на свете, вошла у публики в
большую моду и чуть ли не породила Романтизм, как литературное и
общественное явление. Во всяком случае, герои русской литературы от
Германна и до Роди Раскольникова очень любят делиться с читателем
своими плохо усвоенными познаниями по этому вопросу. Но, с другой
стороны, химия, до того, как она научилась измерять и рассчитывать то, что она делает, тоже была, в большой мере, гуманитарной наукой вроде
богословия, элоквенции или политологии. Если мы хотим понять, как
работает История, и, тьфу-тьфу, научиться что-то предсказывать и чем-то
управлять - не миновать освоения ее количественных законов. Придется
учиться считать.
Вот и тут, можно сказать, вдовья лепта в эту копилку. На мой
пристрастный взгляд, в тех исторических процессах, которые обходятся
без катастроф в математическом смысле, а их немало, достаточно часто
проглядывают либо логистическая кривая, либо экспоненциальное
затухание, либо их сочетание, которое дает ту самую горбатую кривую.
В отличие, скажем, от нашумевшей и памятной любому благодаря
экологистам картинки взмывающей вверх экспоненты с положительным
показателем. Вот та, честно говоря, существует только в головах
В гостях у тетушки Клио
деятелей Римского Клуба, а еще верней, в головах их доверчивых
поклонников.
В принципе это понятно. В первой половине своего развития, когда рост
всё ускоряется, логистика легко может быть принята неопытным
человеком за экспоненту - вот и прогнозы о взрывном неограниченном
росте числа докторов наук, пустых банок из-под пива или больных
СПИДом. Потом выясняется, что за точкой перегиба рассматриваемый
фактор растет всё медленнее и, наконец, выходит на новый постоянный
уровень, как в нашем примере российских аннексий в Причерноморье. А
потом очень часто начинает съезжать с горки по убывающей экспоненте, как в наших же примерах с числом колхозников и американской
нефтедобычей. Дело обычное. Ничего не будет удивительного, если и
этническая энергия по Гумилеву изменяется подобным же образом.
В конце концов, рассмотренная зависимость является всего лишь
математическим эквивалентом достаточно тривиальной мысли, что: " Все,
что рождается (по логистическому закону), должно со временем
умереть (по экспоненте)".
НОЯБРЬ И ИЮЛЬ
ПРОЛЕТАРСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ КАК ЛОГИСТИЧЕСКАЯ
Демократия - это вам не лобио кушать!
Джаба Иоселиани
Для начала вспомним, что трактаты средневековых химиков читаются
нынче как сверхпостмодернистский роман, не то запись
галлюциногенного бреда - возьми марса в новолуние и трижды взболтай
с мочой молодого единорога ... . Пользы от бесчисленного количества
человекочасов, потраченных на эти занятия, тоже, соответственно, получилось немного. Наукой - с характерным именно для позитивной
науки сравнительно высоким коэффициентом полезного действия -
химия стала тогда, когда научилась взвешивать, измерять и
рассчитывать. Произошло это, сколько теперь можно судить, не по
механизму гениального озарения, типа: спят Менделеев и Кекуле на
заседании Ученого совета, одному приснилась периодическая таблица, другому формула бензола. Просто в лабораторную практику понемногу
стали проникать методы работы и рассуждений, уже опробованные в
давно, с архимедовых времен, продвинутых в этом смысле механике и
Не исключено, что для того, чтобы историческая наука превратилась из
подвида изящных искусств с выдачей Нобелевской премии по
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
литературной номинации в надежного помощника при принятии
гражданами и организациями политических решений, надо бы тоже
потихоньку учиться считать. Пока что с этим плоховато, одного сколько-
нибудь незаурядного историка от другого можно отличить не столько по
обоснованным моделям, сколько по подвешенности языка и партийному
энтузиазму. Это все хорошо скорей для митингового оратора, чем для
эксперта, каким должен бы стать спец по истории. На популярном же
уровне книжного рынка в Олимпийском комплексе в ходу вообще
уровень "Фронтового Листка" с понятными и близкими народу
лозунгами и с раскрытием тайн мировой закулисы от Суворова, Фоменко
и Паршева. А то и от Гарри Каспарова.
Есть, конечно, исключения. Вот Роберт Фогель получил свою Нобелевку
как раз за количественные оценки экономики черного рабства и
возможных путей индустриализации США в XIX веке. Ну, так его ведь
по дороге чуть не заклевали именно за слабую ангажированность насчет
обличений плантаторов и соболезнований Дяде Тому. Еле сумел
объяснить, что он исследователь-экономист, а не Гарриет Бичер-Стоу, но
к Клу-Клукс-Клану отношения совсем уж не имеет. Вообще же
клиометрия, a.k.a. квантитативная история пока оставляет желать. И в
смысле своей популярности и понятности широким массам историков и
публики, и в своих собственных успехах. Ну, еще и не вечер. Может
быть, еще и научимся считать, моделировать и делать полезные выводы
для политической практики ДО того, как история прекратит течение
своё. Лично мне в этой самой клиометрии наиболее перспективным
кажется путь моделирования динамики исторических процессов по
образцу химической кинетики. Аналогия тут вполне ясна. Хотя число
людей, являющихся "молекулами" в исторических процессах на многие
порядки ниже, чем число молекул в любой, самой капелюшечной, реакции, оно все-таки очень велико, что и позволяет описывать ход дела
дифференциальными уравнениями.
Когда смотришь на те процессы в истории, для которых можно
восстановить изменение количественных параметров во времени, то в
глаза бросается частая встречаемость как широкоизвестной динамики, описываемой логистической кривой, так и ее комбинации с убыванием
по экспоненте. Чтобы не тратить тут место на описания этих функций, сошлюсь на одну справку по-русски об экспоненте, вторую по-русски и
третью по-английски о логистике, да еще на собственную статью о
комбинации этих зависимостей, дающей характерную "горбатую
Это всё к тому, что есть соблазн взять, да и описать таким вот образом
какое-нибудь хорошо знакомое историческое явление. И посмотреть -
есть ли вообще толк от этих математических развлечений. Или это так -
модное украшение, вроде того, как в одном знакомом мне ташкентском
институте народ, накапав себе диссертацию, обязательно приходил в
двенадцатую лабораторию: "Слушай, Феликс, я тут диссертацию
В гостях у тетушки Клио
заканчиваю, да? О влиянии алюмо-никель-молибденового катализатора
на урожайность хлопка. Надо туда для научности раздел о кинетике. Я в
долгу не останусь. Ученый Совет очень любит, понимаешь!"
Вот давайте возьмем навязшее в зубах в 10 классе и потом на занятиях по
Истории КПСС в ВУЗе ТРИУМФАЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ СОВЕТСКОЙ
ВЛАСТИ. То есть, историю того, как родившаяся в коридорах Смольного
в ночь на 7 ноября по новому стилю власть за полгода подчинила себе
почти полностью территорию и население Российской империи. Только
сразу условимся, что все эти люди давно умерли разными способами и
нам нет никакого смысла становиться фанами какой-либо из сторон, хвалить или осуждать Ленина, Савинкова или Каледина. Будем не
болельщиками - а счетчиками.
Чем, вообще-то, хорош наш пример, так тем, что на этом этапе развитие
происходит практически без конкуренции. Старые общественные
институты к тому моменту почти полностью разложились, а из новых
только и вызрел, что большевистский проект. Если не считать обширных, но зато и почти безлюдных территорий в Сибири, за первые шесть
месяцев Советскую власть не признали и не собирались признавать
только в Закавказье, где национальные проекты обустройства, связанные
с застарелой межплеменной враждой, и тогда, как и теперь, вытесняли, по сути, социальную тематику на периферию общественной жизни.
Прочие же попытки сопротивления большевикам: и крымовско-
керенское наступление на Питер сразу после переворота, и калединско-
дутовские казачьи эпизоды и даже самостийная попытка вывести
Украйну из кацапской империи были очень вялыми. Потом, когда
конкурентные проекты вызреют, второе издание Гражданской войны
будет не в пример более кровавым, энергичным и продолжительным.
Так что распространение проекта "Социальная революция" сдерживалось
попросту временным фактором, как и положено в бесконкурентной
модели. Типичным для большинства городов и весей империи являлась
пелевинско-шендеровическая схема развития с приездом в город
Почесалов товарищей Санделя, Мундинделя и Бабаясина, которые
создают органы новой власти и разгоняют старые, опираясь, в основном, на местных деповских. Естественно, что именно Тобольск и Якутск, где
железнодорожного пролетариата не было по отсутствию железной
дороги, и остались последние несоветизированными губернскими
городами Сибири и всей некавказской части империи, дожившими в этом
качестве до смены исторического этапа, когда быстрая и почти
бескровная советизация сменилась еще более быстрым, и тоже почти
бескровным, изгнанием большевиков, а потом долгой кровавой войной.
Вся необходимая информация по хронологии этого процесса содержится
в двух статьях БСЭ, одной прямо посвященной Шествию, а другой
насчет Октябрьской революции. Необходимые нам цифры по населению
и территории российских губерний очень удобно сведены в Специальном
выпуске прекрасной просветительной газеты "География. 1 Сентября".
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
Заранее обговорим, что хорошо бы, конечно, считать по городам и
уездам - но, во-первых, уточнение данных может занять остаток жизни, а, во-вторых ... .
Скажите, пожалуйста, кому подчинялись жители сибирского городка
Искитим в конце сентября 1993 года - Президенту или Парламенту? Они
и сами об этом узнали из сообщений новосибирского областного
телевидения к вечеру 4 октября. Наша страна так уж устроена с испокон
веков, что любая инициатива всегда исходит сверху. Для воеводств, губерний, областей - из столицы, Москвы или Петербурга, для городков -
из областного центра, а в сельской местности вообще всё еще ждут
наезда князя Игоря и княгини Ольги с полюдьем. Имеют основания. Так
что мы с вами будем считать, что моментом наступления власти Советов
на некой территории, является ее утверждение на губернском советском
съезде, заседании ревкома, легкой перестрелке у казарм или каком-то
подобном мероприятии в губернском центре. С этого момента все земли, воды, растительность, животный мир и обыватели региона живут при
новом режиме. Так что занятие, например, красногвардейцами и
революционными солдатами Сергея Лазо в ночь на 11 ноября
"важнейших пунктов города Красноярска и смещение ими
администрации Временного правительства" фиксируется нами, как
переход под эгиду Совета Народных комиссаров всей огромной
Енисейской губернии. Мы считаем, что с этого момента именно
правительство Ленина полностью распоряжается судьбами всех ее
территорий от китайской границы до мыса Челюскина и всех ее жителей.
А кто ещё? Конечно, такое укрупнение вносит определенные искажения.
Но, как увидим, не такие и большие. Еще одним методическим
замечанием будет то, что все даты берутся, чтоб не сбиться, строго по
новому стилю, который был введен в России декретом с 14 февраля 1918
года, то есть в середине рассматриваемого периода.
Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что речь идет именно о темпах роста
числа подданных Советской власти, а не ее сторонников. Что в той же
Енисейской и соседних с нею губерниях новая власть победила более не
по своей силе и притягательности для масс, а по практическому
отсутствию в тот момент серьезных, пассионарных, как сказал бы тот же
Л.Н.Гумилев, соперников, подтверждается тем, как легко она
рассыпалась в мае-июне того же 1918 года при виде восстания чешско-
словацких легионеров. Сорок тысяч, посмотрим правде в глаза, Балоунов
и Швейков на пространство от Пензы до Владивостока - это, знаете, будет почище, чем грачевский "один воздушно-десантный полк, который
решит чеченскую проблему".
Удача и высокие темпы "красногвардейской атаки на капитал", конечно, от полной беспомощности старых правящих классов, разобщенности тех, кто хотел бы сопротивляться, да и от плохого понимания населением -
что же, собственно, происходит. В подтверждение вспомним некогда
читанные строчки из дневника А.А.Блока, где он неожиданно для себя
В гостях у тетушки Клио
обнаруживает, что Чхеидзе и Дан не большевики, как поэт полагал
раньше, а вовсе меньшевики. Дело не в самоизоляции аполлонова
избранника от реальности a la доктор Гаспар Арнери. Александр
Александрович служил в эту пору редактором при Верховной комиссии
Временного правительства по расследованию деятельности царских
министров. И вот такой уровень информированности и понимания! Да и
после переворота публика не всегда вполне отчетливо осознавала - кто
же ее покорил. Примером может служить известная поэтесса З.Гиппиус, для которой жупелом оказался не Совнарком, а ...
Мы стали псами под заборными,
Не уползти!
Уж разобрал руками черными
Викжель - пути...
травоядный Всероссийский Исполнительный Комитет
ЖЕЛезнодорожников ничего разобрать не сумел и вообще мог
рассчитывать на решаюшую роль в стране не больше, чем сама Зинаида
Николаевна вместе со своими мужьями.
Таблица. Динамика Триумфального шествия Советской власти
Губернии, области,
признавшие власть
Совнаркома
Гор. Петроград,
Владимирская,
Московская,
Костромская,
Казанская, Псковская,
Эстляндская
Витебская, Самарская,
Ярославская, Тверская,
Енисейская,
Саратовская,
Бакинская, С-
Петербургская,
Рязанская,
Смоленская,
Акмолинская,
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
Сырдарьинская, гор.
Минская, Лифляндская
(без Риги)
Могилёвская,
Самаркандская,
Харьковская,
Орловская, Курская,
Калужская,
Черноморская,
Закаспийская
Новгородская,
Тульская, Приморская,
Пензенская,
Иркутская, Олонецкая,
Екатеринославская,
Ставропольская,
Бессарабская
Черниговская,
Киевская, Симбирская,
Таврическая,
Херсонская,
Оренбургская,
Полтавская
Волынская,
Подольская,
Астраханская,
Томская, Тамбовская
Семипалатинская,
Архангельская,
Область войска
Донского, Камчатская,
Забайкальская,
Ферганская
Семиреченская ,
Амурская, Кубанская,
Терская, Тургайская
Вологодская,
Дагестанская
В гостях у тетушки Клио
Батумская,
Елисаветпольская,
Карсская, Кутаисская,
Эриванская,
Сахалинская,
Тобольская, Якутская,
Уральская.
Всего без Финляндии и
оккупированных противником
территорий
Для большей наглядности мы еще приведем карту. В старое время этих
именно карт было - хоть ешь неестественным способом, от школьного
учебника и до выложенной из полудрагоценных уральских самоцветов на
Выставке Достижений. По месту моего нынешнего проживания
раздобыть учебник Истории КПСС не представляется возможным, так
что пришлось делать заново. За особую красоту не ручаюсь, а
соответствие табличным данным практически гарантирую.
Чтобы увидеть логику событий получше, мы еще выведем динамику на
графики. Их будет два, по населению и по территории, хотя заранее
понятно, что первый будет более адекватно отражать работу механизмов
Истории, потому что огромные, почти незаселенные территории, находящиеся на вечной мерзлоте, своей отдельной судьбы не имели и не
имеют. Они так и участвуют в истории как придатки сравнительно
небольших районов на юге Сибири и Дальнего Востока. Объектами и
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
субьектами истории все же являются человеческие популяции, объединения людей в нации, племена, классы, сословия, партии и
прочие, как сказал бы Л.Н.Гумилев, консорции. А не квадратные
километры. Иначе Гренландия была бы для истории важнее Германии и
Италии. Это вроде бы понятно изначально, но излюбленная в советских
школах меркаторская проекция как раз еще дополнительно выпячивает
бескрайние арктические просторы с плотностью населения один чукча и
полтора зэка на триста квадратных километров. Естественно, у кого что
есть, тот этим и хвалится.
Ну ладно, посмотрим, что получилось.
Как и следовало ожидать, точки на графиках группируются в
характерные S-образные, логистические кривые, которые мы встречаем
вообще почти при любых процессах перехода от одного стационарного
состояния к другому.В данном случае, это переход от власти Временного
правительства А.Ф.Керенского на всей не оккупированной немцами
территории страны к полновластию на этой же территории Совета
Народных комиссаров В.И.Ульянова-Ленина. Почти за весь
рассматриваемый период сходимость приличная, что и видно по
близости аппроксимирующих логистических кривых с ломаными, соединяющими "экспериментальные" данные. Кроме начала. Обе
расчетные кривые показывают, как на стартовую точку "Шествия", на
июль месяц, то есть, на четыре месяца раньше, чем положено.
Фактические же точки продвижения по стране Социальной Революции
расположены так, как будто их в июле чья-то рука придавила к оси
абсцисс, а в начале ноябре тугие силовые линии Истории рывком
рванулись вверх, возвращаясь к расчетной траектории, чтобы потом, 34
В гостях у тетушки Клио
умерив наклон, двигаться по ней до конца..
А ведь так и было!
Июльская демонстрация! Мой дед, Александр Дмитриевич Кузьминых, военный писарь фронтового госпиталя Юго-Западного фронта, председатель Жмеринского и член Киевского окружного Советов
солдатских депутатов, как раз в это время поехал в отпуск в свою
зауральскую деревню Жуковку. Отпуска такие предоставлялись солдатам
из крестьян раз в год, чтобы съездить на пахоту, покос или жатву. Может
быть, именно поэтому и удалось провоевать почти три года без
американской тушенки и без голодовок. Так вот, решено было
совместить удовольствия и поехать с Волыни на покос в Камышловский
уезд Пермской губернии через Петроград, благо воинский литер
позволял. Целью был не осмотр достопримечательностей столицы, с
которыми дед и так был неплохо знаком по действительной службе в
Лейб-гвардии Московском полку. Хотелось ему послушать Ленина и
Троцкого, слухи о выступлениях которых с балкона Дома Кшесинской
дошли и до Украины. Керенского дед уже слышал в Киеве и даже жал
руку после митинга, а вот большевистских вождей ... .
Вообще, по дедовым рассказам создавалось отчасти впечатление, что т.н.
" активная часть населения" поначалу восприняла русскую Революцию
1917 года более как грандиозный хэпенинг, типа парижского Красного
Мая 68-го или нашей с вами Перестройки. Естественно в такой связи
желание послушать солистов всех партий, хотя сам-то Александр
Дмитриевич был правоверным эс-эром еще с Пятого года. Однако, мечте
не суждено было сбыться. Революционная езда - час едем, два стоим. В
результате, поезд пришел на Витебский вокзал сутками позже утром 5
июля по ст. стилю, когда на Невском уже замывали следы крови после
вчерашнего. Мой дедушка так до конца жизни и хранил об этом
воспоминание, как о своем возможном спасении от шальной пули.
Естественно, что задерживаться во взбаламученном Питере он не стал и
вечером укатил за Урал.
Что же там произошло тогда, 3-4 июля по юлианскому, 16-17 по
григорианскому календарю? Не будем сейчас подробно входить в вопрос
о том, в какой степени движущими силами и Февральской, и
Октябрьской революций было полное нежелание личного состава
петроградского гарнизона и Балтийского флота принимать участие в
каких бы то ни было военных действиях текущей российской войны.
Напомним хронологию. То есть, по всей стране, на фронте и в тылу
происходили также и события, прямо не связанные с разогнанной
демонстрацией.
15 июля по н.ст. (2-го по старому) британская подводная лодка Е-9, пришедшая
на Балтику в октябре 1914-го и с тех пор действующая в составе российского
Балтийского флота, повредила торпедой германский крейсер "Принц
Адальберт", а 3500 чехо-словацких легионеров из бывших военнопленных
впервые вступили в бой в Галиции у городка Зборов, захватили 15 пушек, 35
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
пулеметы и взяли в плен 3200 австрийцев - большей частью солдат 35-ого
пехотного полка из Пльзени и 75-ого пехотного полка из Ииндржихова Градца.
Прапорщик Александр Пишванов из Новочеркасска. на своем "Ньюпоре" в этот
день сбил в воздушном бою очередного немца. В этот же день состоялось
заседание нефтяной секции Особого совещания по топливу, на котором был
рассмотрен проект постановления "О воспрещении продажи и передачи нефти
и ее продуктов без разрешения уполномоченного по топливу".
Присутствовавшие на заседании нефтепромышленники высказались, естественно, против проекта, мотивируя тем, что это "убьет коммерческую
предприимчивость". В Красноярске были проведены выборы в городскую думу
на которых 41 место из 83 гласных думы завоевали большевики и лишь 7 --
меньшевики. 27 мест получили социалисты-революционеры. Городским
головой был выбран тоже большевик Яков Дубровинский, что по тем временам
редкое исключение.
16 (3-го) июля исполнительный комитет Жиздринского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов обратился к крестьянам с призывом об
организации Советов крестьянских депутатов, земств и земельных комитетов, а
город Алексеевск (по имени наследника-цесаревича) в Амурской области по
просьбе горожан был переименован указом Временного правительства в
Свободный. Исполком Барнаульского совета рабочих и солдатских депутатов
принял решение о переходе в полную собственность совета частной газеты
"Народная правда" и ее материальной базы. В Баку в результате слияния двух
близких по духу организаций появилась новая Тюркская демократическая
партия федералистов - "Мусават".
17 (4-го) июля на общем собрании русской и татарской молодежи Казани был
образован Социалистический союз революционной молодежи и избрано бюро, а летательный аппарат известного аса подпоручика Орлова был сбит в
неравном бою с 4 противниками над Лифляндией. В Орске состоялась большая
демонстрация протеста против местных купцов, которые, по мнению
демонстрантов, решили тайно, ночами вывезти из города все запасы хлеба, прочих продуктов и фуража. Закончил, наконец, испытания и поднял флаг
эскадренный миноносец "Автроил" на ревельской верфи "Беккер и Ко".
Рядовые 12-го запасного пехотного полка в городе Карачеве Черниговской
губернии арестовали офицеров и отказались выступить на фронт. На
Московскую кафедру в этот день был избран архиепископ Виленский Тихон, будущий патриарх. В Москве же молодая поэтесса Марина Цветаева закончила
стихотворный цикл "Князь тьмы", посвященный интимной связи лирической
героини с заглавным персонажем.
Но все-таки главным в российской истории этих дней оказалось то, что
связано с петроградской демонстрацией.
Начать можно с того, что 29 мая н.ст. 1917 г. Кронштадтский Совет рабочих и
солдатских депутатов постановил большинством 210 голосов против 40 при 18
воздержавшихся взять в свои руки фактическую власть и управление
Кронштадтом и заявил, что Кронштадт не признает Временного
правительства. Небольшевистские газеты завопили тогда о "Кронштадтской
республике", что, конечно, было клеветой. Большевики из Кронштадта вовсе не
собирались отделяться от России - они хотели распространить свою власть, практически полную и бесконтрольную в тот момент на острове Котлин, на
В гостях у тетушки Клио
Далее, 16 июня н.ст. открывается Первый Всероссийский съезд Советов
рабочих и солдатских депутатов в Петрограде (285 эсеров, 248 меньшевиков и
105 большевиков из 1090 делегатов). Большинство делегатов идею о переходе
власти к Советам не приняло, поддержало Временное правительство по всем
вопросам, запретило демонстрации. На второй день заседаний лидер
меньшевиков, министр Временного правительства Церетели И.Г. заявил на
съезде: "В настоящий момент в России нет политической партии, которая
говорила бы: дайте в наши руки власть, уйдите, мы займём ваше место ...". В
ответ Ленин В.И. с места прокричал: "Есть такая партия!". Именно в этот
момент была озвучена мысль о том, что не только "надо превратить войну
народов в войну гражданскую", но и, что на анонсируемой классовой войне
предстоит однопартийное единоначалие. Судя по мемуарам, слова Ильича
были восприняты так же, как мы бы с вами приняли аналогичное заявление
Эдика Лимонова. В соответствии с ранее достигнутой договоренностью мы не
будем выставлять оценки за поведение персонажам, но все же отметим, что
смех был несколько преждевременным.
23 июня. Первый Универсал украинской Рады, которым провозглашается
независимость Украины. Не надо преувеличивать отвагу шановних панов-
депутатов. Самостийность Украины объявлялась в составе Российской
Федеративной республики. По аналогии с более поздними делами можно
понять так, что суверенность предполагалась типа современной Башкирии -
Местная Республика не бунтует против Центра, а Центр за это разрешает
Местной Республике воровать, не доводя, однако ж, до
беспредела. Действительно, 14 июля заключается соответствующее соглашение
между Временным правительством и Радой.
Далее, 1 июля (18 июня по ст.ст) начинается русское наступление в Галиции и в
этот же день в Петрограде происходит первая полумиллионная демонстрация
под большевистскими лозунгами - "Долой войну", "Вся власть советам!",
"Долой десять министров-капиталистов!" Скажем так, что их было по счету
восемь - но главное, что лозунг легко запоминался.
15 июля министры-кадеты, несогласные с распилом полномочий по
упомянутому соглашению с Радой, подают все вместе во главе с премьером
князем Львовым в отставку, как бы откликаясь на один из призывов
петроградской демонстрации. Начинается очередной, четвертый, если не
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
ошибаюсь, министерский кризис после Февральской (она же Мартовская по
н.ст) революции.
Вот в некотором хаосе министерского кризиса и открылся РСДРП(б) первый случай придти к власти. Голые факты относительно хода
событий из сообщения прокурора Петроградской Судебной Палаты "К
делу Ленина и других" , напечатанные в газете "Известия Петроградского
Совета" от 22 июля 1917, как будто, никто и не опровергает, что конечно, не относится к приведенным там же догадкам, намекам и рассуждениям
о личных связях вождей большевиков с Союзом Русского Народа и с
германским почему-то Генштабом (предполагаю, что их автор не
особенно ясно представлял себе, чем занимаются штаб и разведка в
современной
Там по ходу дела получается вот что:
"... руководителем восстания 3 июля по ст.стилю, для нас 16 июля н.ст.) и
его инициатором явился прапорщик Семашко. Он в марте месяце
окончил пулеметные курсы и в апреле должен был отправиться с
пулеметной ротой на фронт, но самовольно не исполнил этого
распоряжения и продолжал являться в полк. (Прекрасно его понимаю.
Тут любой не сомневался бы: стать, возможно, главнокомандующим
будущей Красной Армии - или получить Георгия 4-ой степени
посмертно за подвиг, совершенный при занятии австрийских окопов во
главе своего пульвзвода!)
Мне было очень интересно, какова его дальнейшая судьба и не
родственник ли он первому наркому здравоохранения? Недавно набрел я
в Сети на эту информацию. Оказалось, что: Адам Семашко наркомздраву
Николаю похоже что не родственник, социал-демократом ленинской
фракции он стал еще до войны, после Октября особой карьеры, в отличие
от прапорщика Крыленко не сделал. Он был то членом Реввоенсовета
армии, то начальником Воронежского военного округа, то командиром
бригады. После Гражданской войны старый большевик и бывший
комбриг стал красным дипломатом. И вот там после склоки с послом
подался в невозвращенцы - уехал с семьей вместо Москвы в Бразилию, где и купил себе фазенду. Пожил там, похозяйствовал, соскучился по
революционному размаху, вернулся под гарантии безопасности в
Москву, получил 10 лет, срок кончался в 1937-м. Ну тут, сами понимаете, ждала его не свобода, а стенка.
Вернемся, однако в Июль 1917-го.
Под руководством Семашко 1-ый пулеметный полк в 10 часов вечера
3 июля выступил из казармы и направился к Таврическому дворцу, где к нему с речами обратились Зиновьев и Троцкий. На другой
день, 4 (17 июля, в полк явился прапорщик Семашко с матросами и
рабочими и стал побуждать товарищей с оружием и пулеметами
отправиться требовать свержения правительства.
В гостях у тетушки Клио
3 (16) июля из Петрограда в Кронштадт прибыл мичман Ильин, именующий себя Раскольниковым (тот самый, " замкомпоморде", муж
Ларисы Рейснер, начальник Персидской советской республики, полпред в Кабуле и Софии и под конец жизни обличитель Сталина) с
некоторыми делегатами от пулеметного полка и выступил на митинге
на Якорной площади, призывая к вооруженному выступлению в
Петроград для низвержения Временного правительства и передачи
всей власти Советам рабочих и солдатских депутатов. В тот же вечер
исполнительный комитет Совета рабочих и солдатских депутатов
города Кронштадта собрался под председательством Раскольникова, который вынес резолюцию собраться в 6 часов утра всем войсковым
частям на Якорной площади с оружием в руках, а затем отправиться в
Петроград и совместно с войсками Петроградского гарнизона
провести вооруженную демонстрацию под лозунгами: "Вся власть в
руки Советам рабочих и солдатских депутатов".
Постановление это за подписью Раскольникова в ту же ночь от имени
начальника всех морских частей города Кронштадта было разослано
во все сухопутные и морские части города. По данному гудком
сигналу солдаты, матросы, рабочие, вооруженные винтовками, 4 (17) июля на утро стали собираться на Якорной площади, где на трибуне
были произнесены Раскольниковым и Рошалем речи с призывом к
вооруженному выступлению. Здесь же были розданы собравшимся
Число участвовавших в выступлении 6ыло около 5 тыс. человек.
Высадившись около 11 часов у Николаевского моста, все они
выстроились в колонну и под руководством тех же лиц двинулись к
дому Кшесинской. Там скоро на балконе появились сначала
Луначарский, а затем Ленин, которые приветствовали кронштадтцев
как "красу и гордость революции", призывали отправиться к
Таврическому дворцу и требовать свержения министров-
капиталистов (не понятно, какого еще свержения, они уж вроде
сами?) и передачи всей власти Совету рабочих и солдатских
депутатов, причем Ленин сказал, что, в случае отказа от этого, следует ждать распоряжений от Центрального Комитета.
Во время произнесения Лениным речи один из кронштадтцев крикнул
ему: "Довольно, товарищ, кормить нас одними только словами, ведите нас туда и затем, зачем нас позвали", После чего было отдано
приказание идти к Таврическому дворцу по маршруту, указанному
Раскольниковым и Рошалем. По пути на Литейном проспекте была
открыта перестрелка, продолжавшаяся около часа и повлекшая за
собой многочисленные жертвы.Эти части подошли к Таврическому
дворцу возбужденным и и пытались произвести арест некоторых из
министров, принимавших в то время участие в заседании в
Таврическом дворце, и Исполнительного Комитета Совета рабочих и
солдатских депутатов.
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
Военной Организацией при Центральном Комитете Российской
Социал-Демократической Рабочей Партии был дан письменный
приказ о присылке в Кронштадт какого-либо крейсера ... (Не Авроры"
Приношу извинения за длинную цитату, но уж очень все колоритно.
Правда, не совсем полно. Многие потом обижались, почему их имен тут
нет, скажем, известный большевик В. И. Невский. Да и покрупнее
пробелы есть. На самом деле, уже вечером 3(16) июля Московский
Гренадерский, Павловский, 180-й, 1-й запасный полки и 6-й саперный
батальон тоже вышли на улицы с оружием и с призывами свергнуть
Временное правительство. Половина петроградского гарнизона, не
меньше, чем потом в Октябрьские дни. Так что называть это дело, как
это иногда бывает, " Путчем Пулеметного полка" все-таки неверно. Тут
была хорошая дивизия, может быть, ее-то и нехватило генералу
Брусилову, чтобы сломать австрийцев в Галиции. Зиновьев вспоминал, что Ленин в тот момент был против захвата власти: "Фронтовики еще не
все наши ... фронтовик придет и перережет питерских рабочих". Но
идею, что: "А не попробовать ли нам сейчас?" - Ильич в узком кругу все-
таки высказывал. Шансы-то были. Фронт-фронтом, а если укрепиться на
первый случай в Петрограде, Кронштадте и Гельсингфорсе? И потом
постепенно овладевать страной, благо есть уже целиком сагитированные
местности в Центральном Промышленном районе, в Донбассе, в Сибири
и отдельные пробольшевистские части от Балтики до Черного моря. А
главное - Балтфлот!
Кто начал стрелять первым - дело темное. На известном фото
разбегаются от выстрелов как раз большевистские "вооруженные
демонстранты". С другой стороны, как будто, еще до этих выстрелов
семеро казаков были убиты выстрелами из манифестирующей толпы.
Нынче уж не разберешь. Важно вот что: начав стрелять сторонники
Временного правительства довели дело до своей победы, до разоружения
мятежных частей, ареста руководителей путча (кроме тех, которые ушли
в подполье). Те самые умеренные социалисты, которые непрерывно
отступают под напором бунтующих социальных низов с марта по ноябрь, да и после так и болтаются между Лениным и белыми генералами, тогда, в
В гостях у тетушки Клио
повели себя жестко, активно, в духе Носке и Эберта, остановивших
потом, в девятнадцатом, спартаковский путч в Берлине. Керенский, Чхеидзе, Церетели, Чернов как будто сменили - не убеждения, нет, но
стиль политической деятельности - запрещали, распускали, приказывали
и снимали за вялое выполнение приказа, как Керенский генерала
Половцева, отдавали под суд и брали под стражу без суда. Больше было
и некому, если помните, министры-капиталисты, включая Председателя
правительства князя Львова, в это время в отсутствии из-за конфликта с
Радой. Хватило наших соглашателей ненадолго. Уже в августе призрак
диктатуры Корнилова погнал их с просьбой о помощи к тем же самым
большевикам. Теперь они снова вернулись к своим основным в этот год
занятиям - как обозначила З.Гиппиус в уже цитированном
стихотворении, унижающе путая термины:
И только вьются согласители
В своих Це-ках.
В результате так и не подвигалось решение отложенных вопросов
Февраля: земельного, военного, национального, социального. Здесь не
место говорить об этом подробно. Заметим только, что ключевая
формулировка была вполне внятно артикулирована уже в старых
учебниках по Истoрии КПСС, где говорилось о "направляющей роли
партии". То есть - большевистская партия сравнивалась с рулем, что
вполне правильно. Мотором, движущей силой большевистской
революции была сохранившаяся после Февраля реальная социальная
напряженность, помноженная на бездарное участие в чужой для России
И так до конца, до поражения почти без сопротивления в Зимнем и на 2-
ом съезде Советов, до морального протеста против разгона матросами-
анархистами охраны Учредительного собрания в питерском декабре 17-
го и расстрела офицерами-монархистами членов этого Собрания в
омском ноябре 18-го, до беспомощных метаний Комуча, Иркутского
Политцентра и Кронштадта между белыми и красными. А тогда - как
будто кто их подменил на месяц! Вот откуда на наших графиках
четырехмесячная отсрочка с Триумфальным шествием Советской
власти - это сопротивление вождей эс-эров и социал-демократов
Июльскому путчу отклоняет вниз, к оси абсцисс почти на треть года
ленинский Путь Наверх. До момента, когда новый Ноябрьский путч
победил, почти не встретив сопротивления - и стал в истории Великой
Октябрьской (шутки нового и старого календарей) революцией.
Кажется, что мы ответили на свой вопрос. Похоже, что наше уравнение
неплохо описывает ход исторического процесса, по крайней мере, в
данном случае. Более того, модель достаточно чутко реагирует на
возмущения, как это произошло с преждевременной попыткой
большевиков захватить власть. Непосредственно для моделирования
текущей ситуации пока отсюда мало что извлечешь - ну, так и
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
химическая кинетика, верный помощник исследователя и инженера при
моделировании, тоже не вдруг родилась. Есть смысл смотреть в этом
направлении, если хочешь превратить историю в науку, как это
произошло в свое время с рождением химической науки из
алхимического хаоса.
Собственно, на этом можно бы и закончить на сей раз - но уж очень
хочется пофантазировать. Представить себе какую-нибудь безумную
причину для такого вот короткого прилива силы и жесткости у вождей
российского умеренного социализма. Хотя на самом-то деле все
объясняется, вероятно, так же, как у "кровавой собаки" Носке. Больше –
некому! Они все оказались тогда брошены на произвол судьбы своими
союзниками из прогрессивной буржуазии. Не забудьте, что как раз в
Июльские дни министры-кадеты позволяют себе немножко отдохнуть от
политических треволнений, обидевшись по случаю эфемерной
украинской незалежности. А после, в Ноябре, Керенский, если верить его
мемуарам, полностью доверился своим военным авторитетам, обещавшим ему, что новое большевистское выступление будет задавлено
не хуже, чем в июле. И надувшим своего главнокомандующего, которому
они не могли простить разгрома корниловского выступления. Очень
может быть! Вообще, к этому времени все союзники социалистов справа
уже откровенно тяготились своим союзом и не знали, как им избавиться
от всех этих Черновых, Данов, Церетели и прочих - но открыто это пока
не показывали.
Ну вот, я и пофантазировал маленько, представив себе некоего молодого
человека, самого младшего преподавателя с кафедры самой общей химии
Ленинградского
Государственного
Университета
Ф.Ф.Раскольникова в Петергофе. На дворе у нас август 1984-го и на
парня навалилось сразу всё. Факультетское начальство посылает его
конвоировать студентов на копку картошки в Приозерский район, в
колхоз имени Великой Июльской социалистической революции, до
конца сентября. Места, конечно, красивые - но не до этого сейчас! Отдел
аспирантуры назначил на первое октября экзамен по Истории ВКП(б), надо бы почитать, а то вон Эдика на этом экзамене завалили, до
специальности и не допустили. Дело, понятно, в том, что дочку
председателя партбюро в аспирантки проталкивали - а что, у другого
начальства дочек нет, что ли? Люська пугает, что у нее задержка, ну, что
делать? Не жениться же на сто рублей зарплаты? И так за джинсы долг
не может второй месяц отдать. Ну, и так далее. Парень, конечно, никак
не диссидент, но любить это всё сил нету. Чтобы начать ностальгировать
по бесконфликтной и полной справедливости доперестроечной советской
жизни надо было прожить после нее почти двадцать лет и крепко
В гостях у тетушки Клио
подзабыть тогдашнюю реальность. Ну, или получать от каждого
ностальжизма конкретно черным налом.
Вот, значит, лежит он вечером на матрасе в своей отдельной
(преподаватель же!) комнатушке в колхозном общежитии для шефов, истекает соплями, простудившись уже на третий день, и читает главу об
самой этой Великой Июльской революции - как матросы, революционные
солдаты и красногвардейцы взяли Таврический и Мариинский дворцы, арестовали ВЦИК и Временное правительство, князь Львов сбежал, переодевшись дворником, Церетели, Чхеидзе и Дан под дулами
пулеметов прапорщика Семашко подписали все нужные бумаги о
назначении Ленина Премьер-Министром, а Троцкого главкомом, как
губерния за губернией с середины июля до апреля переходили под новую
власть. И крутятся у парня в голове злые мысли, что были бы эти
Церетели да Чхеидзе настоящими мужчинами, разогнали бы всех этих
матросов и пулеметчиков за один день - никаких бы колхозов, да и в
аспирантуру бы брали по делу, а не по анкете, как сейчас. Ведь мужики-
то честные, судя по всему. Воли да решительности нехватило. А еще
кавказцы! Если б они умели так буром переть, как ихний земляк Серго
или тот, которого в Смольном убили в тридцать четвертом ... Сталин-
Джугашвили, да, который в фильме "Великий гражданин". Тоже ведь
грузин, а как он тогда в Царицыне! Его бы волю, да хоть разделить на
этих всех. Не зря же говорят,что если бы он ... так и культа личности
Кирова не было бы. Не пересажали бы зря народ в тридцать шестом.
Но вот если бы в июле те, из ВЦИКа ... всего и нужно-то собраться да
месяц продержаться, отстоять демократию ... оно бы само кончилось ... .
С этим он и засыпает, а мысли его, воспринятые Вселенской Сетью, в
результате сбоя центрального процессора Солнечной системы поступают
в линию обратной темпоральной связи как команда на выполнение.
Ровно на один месяц летом 1917 года к психикам Церетели, Чхеидзе, Дана и Керенского добавилось по четвертушке воли и
целеустремленности Иосифа Джугашвили из Гори. Нравственный
фильтр старых интеллигентов-социалистов задержал прочие черты
личности члена большевистского ЦК, поэтому Дан, Церетели и Чхеидзе с
порога отвергли идею замарать Ленина и его команду в шпионском
дерьме на манер "амальгамных процессов" парижского якобинского
ревтрибунала 1793 года. Чхеидзе ночью лично беседовал с редакторами
газет, отговаривая их от грязной клеветы на политического противника.
В результате большевики в том июле оказались разбиты - но не
уничтожены.
И наш герой проснулся в колхозе имени Великого Октября младшим
преподавателем Ленинградского государственного университета
им.А.А.Жданова.
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ ИСПАНСКОЙ ИМПЕРИИ
(математическая модель)
Чем больше какая-нибудь общественная деятельность, целый ряд
общественных процессов ускользает из-под сознательного
контроля людей, выходит из-под их власти, чем более эта
деятельность кажется предоставленной чистой случайности, тем больше с естественной необходимостью пробивают себе
дорогу в рамках этой случайности свойственные ей внутренние
Фридрих Энгельс
История быстрого возвышения и постепенного умирания испанской
колониальной империи представляет собой близкий к идеалу пример для
расчетной проверки моделей развития. Империя эта прожила больше
пяти веков, знала время близости к мировому господству, когда "солнце
не заходило" над владениями Второго и Третьего Филиппов, была одной
из немногих в истории, чье население и площадь сравнимы с данными
для всей планеты. в реликтовой форме владения Канарскими островами, Сеутой и Мелильей она продолжает существовать вблизи оси абсцисс и
по сегодня. При этом нужные количественные данные, в отличие от
В гостях у тетушки Клио
ахеменидской, римской или ханьской держав, сохраняются в приличном
состоянии в севильском архиве Дома Индий, а в отличие от Британской
империи или Советского Союза они полностью рассекречены и доступны
в открытых публикациях. При этом задачу очень облегчает то, что эта
мировая держава почти не знала никаких форм "скрытого колониализма", вроде протекторатов, ввода к соседу "ограниченного контингента войск
по его просьбе", "особых отношений" с бывшей колонией, именуемых
нередко неоколониализмом, "неограниченной свободы" и т.п.. Где доны
были в силе - там они устанавливали свое прямое правление, где нет -
там нет. Соответственно и закат империи происходил не в виде
внезапной катастрофы и завоевания конкурентом - снижение жизненной
силы империи отражалось на поверхности истории постепенным
отпадением от нее кусков владений, которые уже не хватает сил
Автор этой статьи видит в истории этой империи, как и во многих других
исторических процессах функцию, назовем ее C, получающуюся как
произведение интенсивного, харктеризующего потенциал объекта, фактора A и экстенсивного, характеризующего степень заполнения
объектом его "экологической ниши", фактора B. Первый параметр
описывается убывающей показательной (экспоненциальной) фунцией, а
второй для бинарной системы (рассматриваемый объект и остальной
пространство ниши) соответствует хорошо знакомой экологам и
демографам логистической, S-образной функции. Произведение этих
компонентов дает на графике, как мы и увидим дальше, характерную
"горбатую кривую", почему, собственно, и хочется обозначить эту
функцию латинской буквой C от Camel-верблюд. В бинарных системах
наш верблюд получется одногорбым, а в системах с несколькими
игроками горбов тоже может быть много.
C = A . B (1) d A/ d t = K .
A .A At = A0 . exp(KA t) (2) d B/ d t = K
B . B . (1-B) Bt = exp(KB t)/( 1 + exp(KB t)) (3)
Может показаться странным, почему данная система принимается
бинарной, хотя одновременно или чуть позже испанской существовали
другие, так же претендующие на мировой характер, империи - в первую
очередь, британская и французская. Можно указать на то, что
максимальный размер нашего объекта был достигнут, когда
альтернативные объекты были еще в зачатке, а рост их владений
происходил не за счет испанских. Испания не потеряла по этому
механизму ничего, кроме Гибралтара, Ямайки, западной половины
Эспаньолы и еще нескольких островов Карибии, давших богатый
материал для приключенческой литературы и кино, но практически
неважных в наших расчетах. Конечно, рост мощи конкурентов снижал
роль Испании на мировой арене - но это и отражается убывающей
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
экспонентой потенциала А, так что систему вполне можно считать
бинарной - Империя и остальной мир.
В качесте расчетного параметра была принята доля населения внешних
владений Испании от общего населения Земли на соответствующий год.
Территория, как параметр, годится не очень. Тут вполне можно
довериться здравому смыслу непосредственных участников
исторического процесса. К примеру, после неудачной для Франции
Семилетней войны всерьез обсуждался вопрос об обмене потерянной
Канады на остров Мартиника. Бескрайние пространства хороши для
пропаганды, да и то, только на одной шестой части суши, а
трезвомыслящему государству нужнее налогоплательщики и призывное
поголовье, чем любые квадратные бескрайности. В то же время для
процессов, длящихся столетиями, обязательно нужно отделить
приобретения и потери империи от демографического роста населения
наличных территорий вместе со всей планетой. Конечно, тут есть
определенные нюансы, например, быстрое снижение населенности
Испанской Америки в первые века после завоевания под влиянием, главным образом, неизвестных ранее туземцам болезней. Все-таки, смертность аборигенов Нового Света от завезенной оспы несравнима со
смертностью в Европе от ответно подаренного сифилиса. Но никаких
параметров, более адекватно соответствующих понятию мировая роль
империи, чем ее доля в населении мира, пока не проглядывается.
Возможно, в дальнейшем есть смысл проверить в этом отношении еще и
валовой продукт (GDP), но территория в любом случае не подходит -
иначе Гренландия была для истории важнее Германии.
Для составления таблицы по населению испанских владений в течение
их пятивековой истории как основа были приняты известные
мэддисоновские оценки населения континентов и основных стран
планеты [OECD, Development Centre Studies. - The World Economy: A Millennial Perspective;
ISBN: 92-64-18654-
. theworldeconomy
/ about
] с привлечением в отдельных
случаях данных национальных статистик и с необходимыми
интерполяциями к определенным годам, ключевым для процесса. В
расчет принимались только страны с непосредственным испанским
управлением как в Европе, так и за океанами. Владения австрийского
дома, хотя и связанные при Карлосе I Габсбурге формальной унией с
Испанией, а тем более Священная Римская империя, никогда ни в какой
форме испанцами не управлялись, в отличие от Нидерландов, Франш-
Контэ, испанских владений в Италии или владений португальской
короны в период ее подчинения после 1681 года. Поэтому в конечных
расчетах они не учитываются, хотя для порядка в таблице и упомянуты.
В расчет не принималось и население собственно полуостровной
Испании, поскольку тут совсем другой, сильно отличный от имперского, национальный проект. Как мы знаем по целому ряду примеров, национальные ядра империй живут своей жизнью, значительно более
В гостях у тетушки Клио
продолжительной, и, во всяком случае в послеантичное время, сравнительно легко переносят умирание имперских проектов. Испанский
национальный проект, сколько можно судить, возник около 1000 года н.э
и благополучно продолжает существовать в наше время, имперский же
проект появился уже незадолго до окончания Реконкисты, за половину
тысячелетия прожил свой цикл и к нашему времени практически сошел
Таблица. Испанская заморская империя от Изабеллы и Фернандо до
Хуана-Карлоса
Страны и территории
территорий,
в составе империи
(Уния Кастилии
и Арагона.
Образование
Испании за
(коронация
австрийск.
владениями
Исп.Италия
Габсбургов)
Нидерланды
Острова Карибии
9.4 (без них)
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
Исп. Италия
император,
(с австр.влад.
Нидерланды
Габсбургов
Сан-Доминго
и Германией)
(с австр.влад,
(без австр.
(отречение
Исп.Италия
Филипп II)
Нидерланды
Испанская Америка
Португалия
Исп. Италия
Португалии,
Республикой
Соединенных
вкл. Бразилию
провинций)
Порт.Африка
Порт.Индия с
островами,
большей части
Португалия
Индии и Вост.
Исп. Италия
Латинская Америка
вкл. Бразилию
Порт.Африка
Порт.Индия
В гостях у тетушки Клио
Исп. Италия
(потеря Португалии
и ее колоний)
Испанская Америка
Испанская Америка
(Утрехтский мир,
конец Войны за
наследство)
(Независимость
Аргентины и
Испанская Америка
кроме Аргентины
и Парагвая
(Независимость
Куба и Пуэрто Рико
Чили, Уругвая,
(Потеря Перу
и Боливии)
Куба и Пуэрто Рико
(Потеря Кубы
Сеута и Мелилья
и Филиппин)
Фернандо По
(Раздел Марокко)
Исп.Марокко
Зап.Сахара и
Исп.Гвинея
Исп.Марокко
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
деколонизацией
Зап.Сахара и
Исп.Гвинея Канары
Аппроксимация этих данных производилась по предложенной выше
модели на очень грубом уровне, до получения первой значащей цифры
коэффициентов. Результаты представлены в виде графика и формулы на
его поле. Как видим, уже на этом начальном уровне приближения
совпадение расчетной кривой и экспериментальных точек достаточно
заметно. На графике легко выделяются три характерные для этого типа
функций области: примерно сорокалетний период "раскрутки"
имперской машины, приходящийся на царствования основателей
империи Изабеллы Кастильской и Фердинанда Арагонского и их дочери
Хуаны Безумной, полвека быстрого роста до максимума при императоре
Карлосе I и его наследнике Филиппе II, хорошо знакомых русскому
читателю в первую очередь по "Повести о Тиле Уленшпигеле", и
постепенное "съезжание с горы" на протяжении последующих четырех
столетий при двух династиях, двух республиках и двух военных
диктатурах - генерала Примо де Ривера и генералиссимуса Франко.
Некоторой загадкой для автора этой статьи продолжает оставаться
нормирующий коэффициент 27. Повидимому, он должен означать
размеры "экологической ниши" для проекта.. То есть, если бы принять
фантастическую возможность, что до конца периода экстенсивного
развития проекта, то есть, примерно, в первые два века его
существования, уровень интенсивного фактора, потенциала развития
державы, оставался на начальном уровне времен Изабеллы, Колумба, Кортеса и Писарро, а конкуренты не развивались бы, то проект мог бы, в
принципе, включить в себя в зените до четверти населения Земли.
Конкретно, это означало бы, как представляется, действительную
реализацию мечты Карла I и Филиппа II об объединении под властью
Мадрида, дополнительно к состоявшейся империи, всех европейских
стран к западу от Московии, значительно бóльших, чем в реале, владений
в Индии и Малайском архипелаге, вероятно, также Японии, Бирмы и
Сиама. Как вариант, отвоевание у ислама значительных территорий в
Средиземноморье.
В гостях у тетушки Клио
.На счастье тех, кто не хотел бы жить в таком католическом парадизе, длительное сохранение потенциала на высоком уровне не только
"пассионарности", как говорил Л.Н.Гумилев, но и деловой умелости, а
также, хоть это непривычно звучит, просто удачливости первых
зачинателей чего бы то ни было, представляется не более возможным в
историческом процессе, чем построение идеального общества в отдельно
взятом Городе Солнца.
Полученный результат - удовлетворительное описание исторического
явления математической моделью вызывает естественный вопрос - а
нельзя ли использовать методику для исторических прогнозов. Ответ тут
не особенно прост и лучше всего будет, пожалуй, аналогия с химической
кинетикой. Наука о скоростях химических реакций широко используется
в инженерной практике, однако, дело обстоит не так, чтобы снимать
точки в начальный период реакции и предсказывать на их основе ее
дальнейший ход. Химик-кинетик оперирует параметрами, на основании
известных зависимостей констант скорости от температуры и других
условий он получает расчетные значения скоростей реакций и далее
рассчитывает динамику изменения состава реакционной смеси. Можно
надеяться, что дальнейшее развитие клиометрии выведет и ее на этот
Попытки же предсказывать траекторию по начальным точкам для такой
функции, как наша С(t), "горбатая" функция исторического развития, обречены на провал.
Уже беглый взгляд на диаграмму показывает, что по точкам начального
этапа нашу переменную легко проэкстраполировать, как параболу или
растущую экспоненту, это та ошибка, которую часто совершают
идеологические экологисты (последователи "Римского Клуба", к
примеру, не говоря уже о "Хранителях Радуги" и т.п.), в отличие от
профессиональных экологов слабо владеющие методиками позитивной
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
науки. В конце второго этапа уже видно, что речь идет не об
устремленной ввысь экспоненте, а об S-образной логистической кривой, и примерно можно оценить, к чему она придет в зените, но и тут еще
совершенно невозможно предсказать, как будет выглядеть последующий
период "умирания".
Хорошо уже и то, что мы знаем о существовании этих этапов, но надо
учесть, что скрытые изменения жизненных сил проекта не всегда так
наглядно выходят на поверхность, как в рассмотренном случае.
Достаточно напомнить о государственной машине СССР, которая на
наших глазах теряла силу, в этом не было сомнений ни у кого - но в
статистике, во всяком случае, в статистике, доступной широкой публике, это никак не отражалось. В результате для людей, не способных к
осознанию реальности, это выглядело как неожиданный "внезапный"
распад империи за шесть лет Перестройки, естественно, под влиянием
интриг Мировой Закулисы. Процессы, где ход исторических изменений
зафиксирован в документах, эти документы сохранились и доступны, встречаются не так часто, но все же, как видим, встречаются.
Автору статьи кажется, что показанное вполне приличное описание
длительного и непростого исторического процесса предложенной
несложной моделью заслуживает введения в круг рассмотрения
специалистов по клиометрии.
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИСТОРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ С
КОНКУРЕНЦИЕЙ
(на материале гражданской войны в России 1917-1922 г.г.) То чешской, то польской, то русской речью -
За Волгу, за Дон, за Урал, в Семиречье.
Вл.Луговской. "Песня о ветре"
На той далекой, на Гражданской ...
Б.Окуджава.
"Сентиментальный марш"
Экспериментальные данные
В качестве переменной мы возьмем долю населения России, находящуюся под властью того или иного из конкурентных проектов
обустройства России, боровшихся за власть в ходе войны. При этом, речь
идет только об общероссийских проектах, которых было всего три: большевистский - Советской России, "демократической
контрреволюции" - умеренно-социалистических партий, объединенных
вокруг КОМУЧа, Уфимской директории, Северного правительства
В гостях у тетушки Клио
Чайковского и т.п., и
"генеральской
контрреволюции"
адмирала Колчака, далее
генералов Деникина и
Врангеля со всеми
администрациями,
признававшими власть
правителей. Чтобы не
переусложнять модель,
мы выведем из
рассмотрения
многочисленные
"национальные
проекты" на окраинах, а
также территории, оккупированные на тот или иной момент
иностранными державами.
В частности, губернии Закавказья не рассматриваются на протяжении
всего периода, так же как и Бессарабия, прибалтийские губернии, Бухара
и Хива, а периодические появления на их территории армий
всероссийских правительств, главным образом, Красной, рассматриваются как внешние войны за пределами модели, в то время, как украинские губернии считаются находящимися в составе России, за
исключением территорий, оккупированных германо-австрийской
коалицией, а впоследствии поляками. Автор считает, что тут надо
положиться на мнение непосредственных участников событий: Ленина, Троцкого, Деникина, Врангеля, всегда считавших Украину частью
России, и в то же время де факто, а большевики одно время и де юре, признававших независимость Эстонии, Латвии, Грузии, Азербайджана, как и Финляндии с Польшей. Роль интервенции обычно сильно
преувеличивается, во всяком случае, автору так и не удалось за
пропагандистскими штампами найти какие-то реальные факты
крупномасштабной полевой войны между Красной армией и войсками
великих держав после нашего поспешного ухода из Пскова и Нарвы
23.02.1918. Однако надо признать, что, действительно, если в каком-то
пункте в определенный момент находятся рейхсвер или какая-нибудь из
антантовских армий - то ни Совнарком, ни какое-нибудь из белых
правительств на этот пункт не покушаются. Таким образом, процесс
рассматривается как конкуренция за власть над империей трех проектов, которые мы могли бы олицетворить в виде персонажей Даниила
Андреева, трех " жругритов", красного, бурого - то есть
"демократической контрреволюции", и белого, борющихся между собой
за превращение останков старого имперского жругра и тел конкурентов в
свое собственное тело жругрита-победителя.
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
Далее, надо оговорить, что для определения численности населения под
властью того или иного проекта использовался принцип, по которому
занятие губернского центра отдает под власть данного правительства все
население губернии. Конечно, это вносит некоторую дополнительную
погрешность, но иначе пришлось бы проводить поиск по движению
фронтов и численности населения на уровне уезда и города, что, без
сомнения, займет время большее, чем остаток жизни автора. В данной
работе даты смены власти по губернским центрам были взяты из статьи
Большой Советской энциклопедии " Гражданская война и военная
интервенция 1918--20", а населенности по губерниям использованы на
1905 год по статье С.А.Тархова " И
зменение административно-
ерриториального деления России за последние 300 лет " , спецвыпуск
газеты "География. 1 сентября".
Данные были сведены по моментам времени, которые автор, вслед за
советской историографией, считает критическими для этого процесса.
1. Конец октября 1917 го по н.ст.. Конец последнего месяца
Февральской России. Проект "Временное Правительство"
себя полностью исчерпал и перед решившимися в течение
следующей недели взять на себя власть большевиками
лежит практически неструктурированная страна, с
полностью рассыпавшимися старыми имперскими
структурами власти и неработающими новыми,
республиканскими. Проект "Советская власть" готов к
старту, а альтернативные находятся в зачатке.
Количественно мы обозначаем это как 100%
распространение "Болота" и нулевые значения для всех трех
"цветных" проектов.
2. Конец ноября. "Триумфальное шествие Советской власти".
Большевики овладели примерно четвертью страны, в том
числе столицами, Ставкой, ключевыми промышленными
губерниями. На их пути стоит только время и, в
незначительной степени, зародыши генеральско-казачьей
контрреволюции в Оренбуржье и на Дону. Демократическая
контрреволюция попыткой керенской контратаки показала,
что еще не созрела, и существует в это время только в
латентной форме заговоров Союза Спасения (Б.Савинкова) и
Автоброневой школы (В.Шкловского).
3. Конец февраля 1918. "Триумфальное шествие" близко к
завершению. "Болото" почти полностью попало под власть
Совнаркома. Исключение - Закавказье, где, как и в наше
время, национальные проекты оказались очень устойчивы.
Грубо говоря, желание зарезать армянина (тюрка, грузина, абхазца и т.д.) там было выше, чем даже желание грабануть
купца или помещика. Неприятность на Западе - немцы
В гостях у тетушки Клио
вышвырнули разложившуюся русскую армию из остатков
Прибалтики и готовятся под эфемерными предлогами
оккупировать Украину и Белоруссию. Но контролю
большевиков над неоккупированной частью России это не
4. Конец апреля. Большевики заняли последние очаги
сопротивления, обусловленного, скорей, удаленностью и
полным отсутствием на месте промышленного
пролетариата. Потеряны под воздействием force majore Центральных Держав Украина, Крым, Белоруссия и Псков,
но в остальном "красногвардейская атака на капитал"
полностью.
5. Конец августа. В результате майского восстания 45-
тысячного чехо-словацкого корпуса Советская власть пала
на протяжении от Волги до Владивостока. В Поволжье, Сибири, Архангельске, Закаспии и Дальнем Востоке к
власти пришли эс-эры в коалиции с эс-деками-
меньшевиками, эн-эсами, сибирскими автономистами и в
очень небольшой степени с буржуазией (Проект
"Демократическая Контрреволюция"). Народная Армия под
знаменем Учредительного собрания взяла Казань и
захватила золотой запас империи. На юге Добровольческая
армия и казаки (Проект "Генеральская контрреволюция") успешно изгоняют Советы с Дона, Кавказа и Яика. Тот
самый момент, который в старых учебниках обозначался, как "огненное кольцо фронтов окружило молодую
Советскую республику".
5. Конец ноября того же года. После того, как силы
"Демократической контрреволюции" не сумели удержать
Поволжья и отдали Казань, Симбирск, Уфу и Самару
красным, произошел тыловой военный переворот,
поставивший во главе антибольшевистских сил адмирала
Колчака (Проект "Генеральская контрреволюция").
Эсеровская власть осталась только как реликт в
Архангельске до января, в Закаспии и кое-где на местном
уровне под верховной властью Правителя (Иркутская губ.) Локальные генералы (Юденич, Семенов, Дутов, Деникин, Миллер) после некоторого саботажа признали главенство
Колчака. На западе после Ноябрьской революции и
капитуляции Германии начинается возвращение Красной
Армии в Прибалтику, Белоруссию и Украину.
6. Конец февраля 1919. Колчак взял Пермь, оттеснил красных с
Урала, но не смог вернуть Поволжье. Красная армия
продолжает занимать губернии на западе.
8. Апрель. Красные заняли почти всю Украину, Белоруссию, большую часть Прибалтики, Верхний Дон, готовятся к
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
наступлению за пределы империи, чтобы соединиться с
советскими республиками Венгрии и Германии. Колчак
почти достиг Волги.
7. Июнь. На востоке Колчак потерпел поражение и оттеснен к
Уральскому хребту. На западе Красной армии пришлось
оставить почти всю Прибалтику, часть Белоруссии, отказаться от похода в Европу. На юге Деникин очистил от
красных весь Северный Кавказ, Дон, занял Царицын, Донбасс, восточную часть Украины. Максимальное
продвижение Юденича к Петрограду с контролем Пскова и
большей части Ингрии.
8. Середина октября. Максимальное продвижение Деникина к
Москве до линии Киев-Чернигов-Курск-Орел-Воронеж-
Балашов. Юденич в Пулкове. На востоке Колчак
окончательно потерял Урал, отступив на линию р.Тобол.
9. Март 1920. Все территории Деникина, кроме Крыма и
последних клочков в Херсонской губ, все территории
Колчака, кроме Забайкалья, Приморья и Камчатки, Север и
Ингрия окончательно заняты Красной армией.
10. Конец 1922. После драматических, но количественно
малозаметных эпизодов польской войны и врангелиады
границы закреплены на западе, после присоединения
Закавказья, Бухары и Хивы - на юге, и после занятия
Приморья и аншлюсса ДВР также на востоке. Гражданская
война окончена. Вне сферы Советской власти временно
остаются оккупированные соседями Сев.Сахалин - до 1925 г.
и Бессарабия - до 1940 г..
Таблица 1. Динамика Гражданской войны
Месяц и год
10.17 11.17 02.18 04.18 08.18 11.18 02.19 04.19 06.19
03.20 10.22
Население России
(на 1905) без ок-
116.8 116.8 112.0 86.3 85.6 101.9 110.2 110.2 110.9 110.7 110.7 116.8
образований
Недифференциро- 116.8 78.3 9.0 1.7 0
ванные ("болото")
32.9 103.0 83.9 57.9 78.3 85.8 87.9 76.2 66.1
104.8 116.8
Демократическая 0
контрреволюция
В гостях у тетушки Клио
Генеральская
контрреволюция 0
22.8 24.1 22.4 34.7 44.6
Оккуп. + нац. обр. 0
30.5 31.1 14.8 6.5
28.1 91.9 97.2 67.6 76.9 77.8 79.7 68.7 59.7
10.3 22.3 21.9 20.3 31.3 40.3
Динамическая модель взаимодействия проектов
После того, как мы упорядочили информацию о количественных успехах
разных проектов в ходе их конкуренции, появляется возможность выбора
математической модели. Экологи и химики для похожих задач часто
используют т.н. логистическую модель, т.е. модель, в которой скорость
превращения пропорциональна и количеству превращенного материала, и количеству материала не превращенного
dX/dT = k X(1-X), (1)
где X - доля превращенного материала
Автор неоднократно убеждался, что для очень многих процессов
истории эта модель пригодна в модифицированном виде
dX/dT = P(T) X(1-X), (2)
где P(T) = e -aT - экспоненциально убывающая во времени
движущая сила процесса, разница потенциалов между субьектом
и окружающей средой.
В эту модель прекрасно укладываются такие разные
исторические процессы, как рост и падение Испанской мировой
империи, добыча нефти в США за полтора века, создание и
постепенное исчезновение сословия колхозного крестьянства в
СССР. Разумеется, это относится к тем случаям, когда
результаты исторических изменений поддаются количественной
оценке и данные доступны для анализа. Для таких процессов
характерно, что на графике они дают своеобразную "горбатую"
кривую, максимум которой соответствует максимально полному
освоению субъектом своей "экологической ниши". Надо честно
сознаться, что автору все время хочется называть этот график C-
или D-кривой, от Camel или Dromedary. Упомянем к слову, что
эта же кривая очень прилично соответствует графику истории
этногенеза, который приводит в своих книгах Л.Н.Гумилев.
Однако в данном случае эта модель явно и априорно требует
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
модификации, учитывающей, что в отличие от предыдущих
примеров, где ситуация была бинарной - субъект и окружающая
среда, тут у нас, кроме окружаюшей среды, есть по крайней мере
три борющихся за выживание субъекта. В связи с этим для
описания была построена система уравнений, учитывающая эту
особенность, но по прежнему построенная на том, что скорость
взаимодействия (пожирания) между каждыми двумя из
субъектов пропорциональна величине первого субъекта,
величине второго и разнице потенциалов между ними, а
потенциалы убывают во времени экспоненциально, каждый со
своей скоростью.
dX/dT = (Px - Pa) . X . A + (Px - Py) . X . Y + (Px-Pz) . X . Z
dY/dT = (Py - Pa) . Y . A + (Py - Px) . Y. X + (Px-Pz) . Y . Z
dZ/dT = (Pz - Pa) . Z . A + (Pz - Px) . Z . X + (Pz-Py) . Z . Y
Pa = const (3.4)
Px = 0 при T < Txo Px = Pxo . exp(Kx . T) при T > Txo (3.5)
Py = 0 при T < Tyo Px = Pyo . exp(Ky . T) при T > Tyo (3.6)
Pz = 0 при T < Tzo Px = Pzo . exp(Kz . T) при T > Tzo (3.7) где A, X, Y, Z мгновенные значения доли непревращенной
окружающей среды в нише (A) и доли занимаемой каждым из
субьектов, а Pa, Px, Py и Pz также мгновенные значения
потенциалов этих субьектов.
В нашем случае А так и есть доля недифференцированного
наследства режима Временного правительства, те губернии, которые еще не приняли сторону Совнаркома или его
противников, X - соответственно, доля, контролируемая
Советской властью, Y приходится на долю подвластную Комучу
или любому подобному правительству "демократической
контррреволюции", а Z остается генералам.
= 0, т.е. обывательский уровень потенциала,
"пассионарности" по Л.Н.Гумилеву
Ao = 0,99; Xo = 0.01; Yo = 0.01; Zo = 0.01
и, проведя на самом первом уровне приближения, при одной
В гостях у тетушки Клио
значащей цифре в коээфициентах, подбор этих коэффициентов, мы получаем для наших фактических данных
Компонент To Po K
Посмотрим на графике, похожи ли результаты наших расчетов
на то, что было в действительности на полях Гражданской
На взгляд автора, сходство не вызывает сомнений. Вторая
половина Гражданской войны по времени, сводящаяся после
эвакуации Врангеля к умиранию белых реликтов на Дальнем
Востоке, замедленному почти исключительно удаленностью от
Центра и близостью Японии, настолько близка к расчету, что тут
даже и не приводится.
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
Ну и что?
А действительно, ну и что? Мы, в конце-концов, получили
лишнее доказательство того, что все на свете можно описать
какими-нибудь уравнениями. Например, полиномом. Конечно, для нашей многогорбой кривой, соответствующей начальному
быстрому и почти бескровному распространению Советской
власти и последующей тяжелой братоубийственной войне, полиномы придется брать значительно более высокой степени, чем квадратный трехчлен, навеки связанный в нашем сознании с
одним из главных героев Гражданской. Но это, конечно, никак
не будет помехой.
Ну, по личному опыту автора, связанному отчасти с разработкой
и применением матмоделей в технике, статистические
полиномиальные модели имеют довольно ограниченное
применение для разработки алгоритмов оперативного
управления., в то время, как модели, основанные на механизмах
процессов, подобные нашему, позволяют разобраться с этими
самыми механизмами, получить содержательную информацию
для оценок и расчетов в областях за пределами эксперимента.
Посмотрим, что тут получилось у нас.
На стартовые моменты можно, в принципе, внимания не
обращать. Более или менее на поверхности. Хотя и тут есть
нюанс, связанный с тем, что стартовая точка большевистского
"Триумфального шествия" и всей Гражданской войны
оказывается в июле, а не осенью 1917 года. Но эту тему автор
уже разобрал отдельно и может сейчас только отослать к
предыдущей
Более интересны коэффициенты, определяющие изменение
потенциалов и их перепадов между проектами в ходе их
взаимодействия. Для большевистского проекта мы остановились
на том, что коэффициент в показателе экспоненты равен нулю и, стало быть, его потенциал в ходе событий не меняется. Вообще
говоря, это не так. Мы-то знаем, что советский проект, несравненно более стабильный, чем эсеровский и
белогвардейский, тоже оказался не вечным. Его хватило, как и
было предсказано Нострадамусом, на 73 с небольшим года. Но
отрицательный коэффициент Kx значительно, на полтора-два
порядка, меньше, чем аналогичные коээфициенты у его
конкурентов, что и дает нам основание при данном расчете
принять его равным нулю. Стартовая величина потенциала
("пассионарности") у советского проекта ниже, чем у двух
других, иначе они не могли бы некоторое время расти за его
счет, но зато их экспоненциальное снижение достаточно быстро
меняет направление процесса на обратное. Таким образом, величины этих коэффициентов являются мерой нестабильности
В гостях у тетушки Клио
процесса. В нашем случае самая большая стартовая величина
потенциала и самая большая нестабильность у "Комучевского"
проекта, что находит себе подтверждение в мемуарах и
худпроизведениях, рассказывающих о первоначальной
экзальтации и очень быстром разочаровании в этой идее. Как
видим, наши функции достаточно содержательно отражают
происходивших
Возникает вопрос об инструментальности наших моделей, то
есть о возможности их использования для прогноза. Ответ тут не
особенно прост и лучше всего будет, пожалуй, аналогия с
химической кинетикой. Наука о скоростях химических реакций
широко используется в инженерной практике, однако, дело
обстоит не так, чтобы снимать точки в начальный период
реакции и предсказывать на их основе ее дальнейший ход.
Химик-кинетик оперирует параметрами, на основании известных
зависимостей констант скорости от температуры и других
условий он получает расчетные значения скоростей реакций и
далее рассчитывает динамику изменения состава реакционной
смеси. Можно надеяться, что дальнейшее развитие клиометрии
выведет и ее на этот уровень. Попытки же предсказывать
траекторию по начальным точкам для таких функций, как наша
любимая С(T), "горбатая" функция исторического развития, или
примененная в данном случае система, на сегодня в большинстве
случаев обречены на провал.
СВОБОДА, ДОБЫТАЯ В БОЮ И
ПОТЕРЯННАЯ ПОСЛЕ БОЯ
Все как обычно, — сказал Арата.
Бр. Стругацкие
Все сердца горят единым чувством,
Но в котлы засыпан разный харч.
В знаменитой повести братьев Стругацких «Трудно быть богом» есть
особенно гнетущий эпизод беседы земного разведчика-коммунара Дона
Руматы с вожаком крестьянского бунта в Арканаре Аратой Горбатым.
Революционер просит землянина встать во главе его Жакерии или хотя
бы дать пулемет для истребления феодальной сволочи. А землянин
отказывает по хорошо понятным ему (и авторам) — и абсолютно
непонятным Арате соображениям.
« Ты еще не знаешь, подумал Румата. Ты еще тешишь себя мыслью, что обречен на поражение только ты сам. Ты еще не знаешь, как
безнадежно само твое дело. Ты еще не знаешь, что враг не столько
вне твоих солдат, сколько внутри них. Ты еще, может быть, 61
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
свалишь Орден, и волна крестьянского бунта забросит тебя на
Арканарский трон, ты сравняешь с землей дворянские замки, утопишь баронов в проливе, и восставший народ воздаст тебе все
почести, как великому освободителю, и ты будешь добр и мудр —
единственный добрый и мудрый человек в твоем королевстве. И по
доброте ты станешь раздавать земли своим сподвижникам, а на
что сподвижникам земли без крепостных? И завертится колесо в
обратную сторону. И хорошо еще будет, если ты успеешь умереть
своей смертью и не увидишь появления новых графов и баронов из
твоих вчерашних верных бойцов. Так уже бывало, мой славный
Арата, и на Земле, и на твоей планете».
Я это читал в довольно уже далеком 1964-м году студентом-
второкурсником и, помнится, на этом месте глаз остановился.
Действительно, выглядит убедительно. С тех пор я и сам успел принять
участие в одной не особенно удачной революции у себя на Родине, со
стороны наблюдал кучу всяких социальных пертурбаций на всех
континентах, и убедился, что печальный для угнетенных исход — это, скорее, норма, а удачный — результат исключительно благоприятного
стечения условий.
Но вот то, о чем думал Антон — Дон Румата … Насчет возрождения
феодальной вертикали. Насколько это обязательно? В дальневосточной
истории такие примеры, действительно, найти довольно легко. Восстание
Лю Бана в III веке до н.э., мятеж «краснобровых» в I веке н.э., восстание
«желтых повязок» во II веке, восстание «красных повязок», сменившее
монгольскую империю Юань на китайскую империю Мин в XIV веке, крестьянская война Ли Цзы-Чена и других в XVII веке, в большой
степени также война тайпинов в XIX веке. Вьетнамская крестьянская
династия Тайшонов в конце XVIII века. Вождь из способных
крестьянских сыновей, командование одним из отрядов восставших
против несправедливости, жестокое преследование накопившего
народную ненависть правящего класса, иногда победа и императорский
трон, всегда создание новой пышной иерархии из командиров
повстанческих отрядов и армий.
Есть примеры на арабском Востоке, когда обюрократившихся Омейядов
сменяют Аббасиды. Но вот в Европе… что-то не припоминается. Может
быть потому, что Европа не знает победоносных крестьянских бунтов. To есть, случаи, когда на место помещика приходит фермер, из дворянских
рук земля переходит в мужицкие, в Европе повсеместны. Но это уже
всегда «совсем другая история», конец феодализма и начало того, что в
советских учебниках именовалось «капиталистический период».
Примеры неудачного, задавленного бунта мужиков — да хотя бы
знаменитая Жакерия во Франции или Крестьянская война в Германии.
Российская Пугачевщина в большой мере. Пример победной революции
— та же Франция в конце XVIII века. Там красочная парижская
В гостях у тетушки Клио
революция Теруань де Мерикур, Папаши Дюшена и мэтра Сансона, наследница Этьена Марселя, Варфоломеевской ночи и Фронды слилась с
провинциальной крестьянской революцией, продолжательницей дела
Жакерии и овернских тюшенов. И тут вернуть дела назад к «старому
режиму» было не под силу не только вернувшимся в русских и
английских обозах Бурбонам, но, пожалуй, даже самому Господу Богу. В
одном французском романе Эркман-Шатриана итог перемен, произошедших в небольшой вогезской деревне за революционные
четверть века, подводится так: « если до Революции тот, у кого была
корова, считался богачом, то после всех перемен стал считаться
бедняком тот, у кого коровы не было». Вот такие изменения, действительно, остаются в Истории.
После поиска по европейской карте все-таки обнаружилась страна, где
все происходило в точности в соответствии с рассуждениями Дона
Руматы. Это — Украина, где в середине XVII века все панские права и
привилегии были «скасованы козацкою шаблею». A в 1783 году
императрица Екатерина «прикрепила украинцев к земле», то есть издала
указ о контроле и наказаниях за перемещение украинских посполитых
без ведома помещиков. Аналогия отмене Юрьева дня при Борисе
Годунове. То есть, крепостными-то эти люди были уже давно, но вот
стал применяться и к ним жесткий российский закон. Откуда ж взялись
помещики и крепостные на украинской земле всего через сто лет после
того, как польские паны бежали от сабель Хмельниччины, а своих
местных православных панов и осталось-то всего двести штук на всю
Мы будем говорить сейчас, конечно, только о Левобережной, Восточной
Украине. Украина по правому берегу Днепра осталась по конечным
итогам войны, за вычетом Киева, за Речью Посполитой, и паны туда
потихоньку вернулись из коренных польских земель, где они спасались
от казацких сабель и мужицких вил.
Кто мог — тот записывался в казаки, благо существовавшие при поляках
ограничения числом признанного реестра исчезли. Кто не мог —
оставался посполитым, пахал землю на себя и платил налоги на
содержание казацкой армии. Левобережье стало страной «без хлопа и без
Хмельниччина очень чисто убрала с освобожденной Украины всю
структуру феодализма, фольварки, барщину, оброки и другие
крестьянские повинности вместе с каштелянами, войскими, арендаторами, католическими церквями и монастырями, польским и
еврейским населением и всем, что было навязано стране властью и силой
Речи Посполитой. Даже упомянутые оставшиеся в стране православные
паны лишились полностью своих доходов от мужиков и своих земель.
Землей, как в знаменитом революционном лозунге, владел тот, кто ее
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
обрабатывал. Это признавали и официальные документы, например, универсал черниговского полковника Лизогуба. Других оснований для
владения не стало. Пригодных для пахоты полей, может быть, был и
избыток — страна еще и не была, как следует, освоена, а революция и
«людокрадство» союзных крымских татар сильно уменьшили население.
Но занять в собственность землю, не обрабатывая ее, было невозможно.
Как и практически невозможно было нанять рабочие руки в запустевшей
и охваченной военными действиями стране.
Единственным феодальным владельцем, сохранившим в огне революции
свои права, была православная церковь. Еще в 1652 году Богдан
выпустил распоряжение о том, чтобы казаки, живущие на землях
Никольского монастыря в Киеве, отбывали все повинности, согласно
листам и привилеям польских королей. В остальном феодализм на
Украине был уничтожен. Недаром же гетмана встречали в Киеве как
« Моисея, спасителя и освободителя народа от неволи ляшской» (из
стихов, которыми приветствовали Хмельницкого студенты Киево-
Могилянской академии).
Вот эта чисто крестьянско-казачья страна стала по Переяславским
статьям и Андрусовскому перемирию автономной частью Российского
царства, по итогам Смутного Времени бывшего дворянским
государством с полным, не хуже польского, господством помещиков над
мужиками и династией, поставленной над страной дворянским войском
кн. Пожарского и проводившей чистодворянскую политику. Это
противоречие было очень хорошо видно уже современникам. Уже то, что
и после Переяслава, когда Малороссия признала верховную царскую
власть, «беглые боярские люди и крестьяне собирались в глухих лесах
целыми ватагами и хотели идти к Хмельницкому, надеясь найти на
Украине и землю, и волю».
В гостях у тетушки Клио
Правда, этот внутригосударственный конфликт необязательно должен
был разрешиться полным приведением Украйны под общий знаменатель.
В конце концов, такое же противоречие было и между Московией и
казачьими областями Дона и Яика. И в итоге, после нескольких кровавых
казачьих восстаний, захлестывавших и дворянские провинции Волги и
Урала, Россия осталась крепостнической, а казачьи области обошлись без
дворянства и без крепостного права.
Хотя в 1798 году Павел I и ввел на донской земле дворянство для
генералов, обер- и штаб офицеров, а к концу крепостного режима на
Дону и завелось какое-то количество помещичьих имений и крепостных
мужиков, но это все были крестьяне, переселенные из Велико- и
Малороссии, земель и воли у своих казаков донская старшина не смогла
бы, да и не пробовала отбирать.
Но в украинском случае на стороне превращения Малороссии в
феодальный регион оказалась мощная внутренняя сила — украинская
старшина, превратившаяся в панство. Мы, в основном, представляем
себе малороссийских дворян по Гоголю: идиллические фигуры
старосветских помещиков Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны, тупые, но забавные Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, ну, на
крайний уж случай седоусый пан сотник из «Вия». В общем, все это
фигуры довольно вегетарианские. Во всяком случае, украинская тема, как будто, не дала ни лесковского жуткого графа Каменского, ни
Иудушки Головлева, ни хотя бы тургеневских ласковых Мардария
Апполоновича («Чюки-чюк!») или Аркадия Павловича Пеночкина
(помните «Отчего вино не нагрето?» и «Насчет Федора …
распорядиться»?). Да и в реальности не было, кажется, ни Салтычихи, ни
крепостных гаремов и подземных тюрем с пыточными камерами при
имении, как у рязанского предводителя Измайлова. Может быть, мягкая
украинская природа влияет на нравы? Или общее для панов и хлопов
культурное наследство, не разорванное полностью, как в Великороссии, петровской культурной реформой, несколько снижает уровень
помещичьих «художеств» над крепостными?
Но так или иначе, а к концу XVIII века крепостное право было по всей
Украине в полном объеме. С барщиной-панщиной, с оброком, с
торговлей крепостными, с крестьянскими детьми в качестве дворовых в
панской усадьбе. Да, собственно, достаточно взглянуть на судьбу
знаменитого украинского поэта Тараса Шевченко, начиная с детства, чтобы увидеть — это так.
Конечно, скажете вы, юный Тарас был крепостным Энгельгартов, а те
получили земли и крепостных в Малороссии от дядюшки — Григория
Потемкина. Известное дело, граф А.К.Толстой так и писал о
покровительнице Потемкина императрице Екатерине Второй: «И тут же
прикрепила украинцев к земле». Конечно, Империя сыграла свою роль в
закрепощении малороссов. Но Апостолы, Скоропадские, Кочубеи, 65
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
Лизогубы и другие магнаты ведь не из Петербурга завезены, а выросли
на местной почве. Все же к моменту появления указа императрицы на
малороссийских землях было уже менее двух тысяч крестьянских дворов, не находящихся пока в частном панском владении. Как же это
произошло?
Как мы уже говорили, новое панство произошло из казачьей старшины, т.е из выборных казачьих офицеров. На отложившейся от ляхов Украине
не было отдельной государственной вертикали. Все государственные
обязанности выполняли чины казачьего войска, как оно именовалось
после Переяслава — «Войско Его Царского Величества Запорожское», заступившие место польских старост. Не надо заблуждаться — полки
этого войска находились не только в Сечи, а по всей Восточной Украине
от Чернигова до Гадяча. Вот полковники тех полков, на которые была
разделена Малороссия, и осуществляли все судебные, налоговые, полицейские и прочие функции на соответствующей территории.
Соответственно, гетман и его чины — генеральный обозный, генеральный писарь, два генеральных есаула, генеральный судья и т.д. —
были верховными украинскими властями, а на уровне ниже полка, в
сотнях так же правили сотники с помощью сотенных писарей и есаулов.
Нижестоящие чины иногда назначались сверху, но гораздо чаще
выбирались.
В выборах участвовали только казаки, хотя власть выбранных чинов
распространялась на все население соответственно сотни, полка или всей
Гетманщины. Впоследствии, уже в XVIII веке о разделении на казаков и
посполитых старожилы говорили так: «Як осели люде, тогда можнейшие
пописались в козаки, а подлейшие осталися в мужиках». Тут
«можнейшие» и «подлейшие» обозначают просто уровень
состоятельности. Поскольку богатство того или другого малоросса прямо
зависело от его военного чина и удачливости при грабеже городов и
панских имений, то нет ничего удивительного, что богаче всего
оказались представители военной элиты — чины казачьего войска. А
беднее всего — те, кто вообще не ходил в казачьи походы на Польшу, а
сидел дома.
Эти «можнейшие» в своих жизненных принципах очень недалеко ушли
от своих врагов — польских шляхтичей. Подлинное богатство, в их
представлении, заключалось в землях и сидящих на них крепостных
хлопах. Это, конечно, очень резко противоречило сложившейся в тот
момент в Гетманщине ситуации вольного крестьянства на вольной земле.
И, как показала реальная история Левобережной Украины, дальнейшие
изменения произошли именно в соответствии с желаниями можнейших.
Этому очень способствовало их высокое положение в системе
украинской армии-администрации. Возможности у чинов были велики.
Они могли задерживать и держать под арестом тех, кого хотели, решать в
свою пользу судебные дела, иногда и попросту силой получать желаемое.
В гостях у тетушки Клио
Поэтому многие историки, в том числе и марксист Михаил Покровский, особо подчеркивают роль этого произвола. Такие случаи бывали. Из
одной монографии в другую переходит история казака Шкуренка, который взял в долг у одного из старшинского рода Лизогубов 10 рублей
под залог своей земли. Когда пришел срок отдавать долг, Лизогуб
«арештовал» у себя на дворе должника, чтобы тот не мог добыть деньги
для отдачи и вернуть свой залог. Землю же старшина оставил себе в
связи с опозданием выкупа.
Другое мнение поддерживает самый, пожалуй, и до сих пор
компетентный исследователь образования нового украинского панства
А.Я.Ефименко. Она показала, что подобные эксцессы были все же
редкостью. Основой создания латифундий на украинской земле были, так
же, как и в других странах, займы богачей беднякам под залог их земли.
Однако, раз уж мы упомянули это имя, надо бы поговорить об его
обладателе. Точнее — обладательнице. Она родилась как Александра
Яковлевна Ставровская в селе Варзуга на Кольском полуострове в
многодетной семье мелкого чиновника. Заметим в сторону, что когда
России понадобилась от Колы яркая женщина в XIX веке, то появилась
ученая, знаменитый историк, а в ХХI векe полуостров дал Родине
полногрудую певичку с эстрадно-патриотическим уклоном. Времена
меняются, меняются и запросы страны.
Сейчас мы оставим времена Гетманщины и перенесемся на время в XIX
и XX век. Поговорим не только об истории, но и об одном историке.
Среди ученых, занимавшихся историей Гетманской Украины, можно
назвать немало известных имен.
Взять хотя бы пана Михайла Сергийовича Грушевского, перебравшегося
в погоне за свободой науки в австровенгерский Львов, ставшего там
профессором, знаменитостью, а в бурном 1917-м году так даже
председателем Украинской Центральной Рады в Киеве, т.е. практически
главой нового государства — Украинской Народной Республики. При
этом жизнь свою он закончил вполне мирно советским профессором и
академиком в Кисловодске в 1934-м году.
Или вспомним Пантелеймона Кулиша, который вместе со своим
приятелем Тарасом Шевченко состоял в свободолюбивом Кирилло-
Мефодиевском братстве, был за это наказан казематом и ссылкой. А
потом, подобно великоруссу Достоевскому, полюбил своих тюремщиков, стал преданным адептом санкт-петербургских Православия, Самодержавия и Народности и в своих работах поругивал казацких и
хлопских бунтарей.
Но вот по этой теме, по вторичному закрепощению посполитых после
Хмельниччины, самую важную работу сделала историк-женщина. Да и
не украинка родом, а уроженка поморского села Варзуга на Кольском
полуострове. Так что в детстве у нее были не вишни с черешнями да
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
зеркальный ставок, а каменистый речной и морской берег, ягель, деревянная церковь да хвойная тайга. Отец, Яков Ставровский был
мелким чиновником, но он рано умер. Мать, младшие братья и сестры
оказались на плечах Александры, так что она одновременно и училась в
Архангелогородской женской гимназии, и работала домашней
учительницей, зарабатывая семье на жизнь. В университет пойти она не
могла — все-таки это были 60-е годы XIX века в Российской империи, университет был для мужчин.
Но она познакомилась со ссыльным киевским студентом-народником
Петром Ефименко, занималась под его руководством историей и
этнографией. А потом вышла за него замуж. Так часто бывает. Ну, вы же
помните роман Чернышевского?
Первые ее научные работы были, конечно, не о далекой Малороссии. О
том, что ее окружало: «Артели в Архангельской губернии» (1873),
«Народные юридические обычаи лопарей, корелов и самоедов
Архангельской губернии» (1878), «Крестьянское землевладение на
крайнем Севере» (1882—1883). Исследования жизни саамов-лопарей до
наших дней остались непревзойденными, и выпущенная в Хельсинки в
2003 году «Энциклопедия Саамской Культуры» отзывается о ней с
глубоким уважением.
Но наиболее известной оказалась ее работа об артелях. Как мы знаем, прогрессивная российская молодежь, распропагандированная
Чернышевским, Лавровым и Бакуниным, возлагала очень большие
надежды на артели, как особую русскую дорогу к Социализму. Но наша
героиня имела дело не с идеальными артелями из «Что делать?», а с
реальными артелями рыбаков, охотников на морского зверя и
землепашцев в реальном русском Поморье. Эти артели появлялись там, где мужикам было выгодно делать какую-то работу вместе. И никаких
элементов Социализма и Пути в светлое Будущее там не
обнаруживалось. Это было печально, но так получалось по результатам
исследования Реальности.
Эти работы дали ей очень пригодившиеся на будущее навыки — умение
понимать и изучать процессы в архаической среде кочевых инородцев и
русских мужиков-поморов, не усвоивших городской и дворянский
переход на петровский западнический образ мысли и жизни.
В 1873-м архангельская ссылка мужа закончилась, и семья переехала
сначала в Воронеж, а потом в Харьков. Александра Яковлевна вела
хозяйство, воспитывала рождавшихся деток и продолжала свои штудии
— но теперь по украинской истории. Прежде всего это была, конечно, работа в архивах.
Достаточно быстро, с 1879 года, ее исследования стали появляться в
научных и общественных журналах. Назовем некоторые из них: «Из
истории борьбы малорусского народа с поляками», «Копные суды в
В гостях у тетушки Клио
Левобережной Украине», «Архиерейский подарок», «Два наместника»,
«Двенадцать пунктов Вельяминова», «Бедствия евреев в Южной Руси
XIX века», «Турбаевская катастрофа», «Очерки истории Правобережной
Украины». Но для нас с вами, пожалуй, самой важной будет вышедшая в
1891 г. статья «Малорусское дворянство и его судьба».
Ефименко подробно разбирает механизмы накопления богатств казачьей
старшиной после изгнания польских панов. С теми же энергией и
размахом, с которыми казачьи войсковые чины вели украинцев на войну
за православную веру и народную свободу против ляхов, стали они после
Переяславля и мира собирать под себя земли и зависимых посполитых.
Недаром же Ефименко называет их «рыцарями кармана и кулака». Да и
наилучшей базой для создания новых латифундий были деньги и другие
ценности, награбленные панами гетманами, полковниками, сотниками и
асаулами в тех самых освободительных походах против Речи
Посполитой. Понятно, что их трофеи были много богаче, чем у рядовых
бойцов. Наши отцы что-то подобное видели в 1939-40-м после занятия
Красной Армией Львова, Белостока, Риги и Таллина и в 1945-м году
после возвращения армии из оккупированной Германии.
Однако, трофеев было маловато для скупки земель. Украина, как и
великорусские земли, была бедна деньгами. Новые паны, хоть и
стремились во многом подражать старым польским, были, в отличие от
польских традиций, лишены снобистского презрения к деньгам и
торговле. В то время торговля зерном не могла дать больших доходов.
Черноморский путь на европейский рынок был перекрыт турками и
крымскими татарами, а до балтийских портов было далеко. Расходы на
гужевой перевоз съедали доходы. Паны торговали пенькой (на дворе
стоял век парусного флота с его канатами), водкой (в Малороссии, в
отличие от великорусских земель, была свобода винокурения), гоняли
волов на мясо и кожу в Московию, Данциг, Силезию. Куда бы ни
посылали украинские полки судьба и московско-петербургские государи, в обозе шли возы груженые горилкой. На месте паны полковники и
сотники активно вели торговлю алкоголем и со своими воинами, и с
местным населением.
Были и специально украинские способы добывания себе маетностей.
Казаки офицерского и генеральского ранга не могли же одновременно
заниматься сельским хозяйством. Поэтому в распоряжении войска были
специальные земли, заселенные поспольством. Их и выдавали на время
службы в пользование старшине вместо жалованья. Эти посполитые
несли повинности уже не в пользу всего войска, а для конкретного
начальника. Называлось это — «ранговые маетности». Что-то вроде
знакомых нам закрепленных казенных дач для высших советских и
партийных деятелей. Ну, понятно, что предпринимались все возможные
усилия, чтобы сохранить эту землю и этих посполитых за своей семьей
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
Иногда это удавалось, иногда — нет. Определенную роль тут играла
позиция центрального имперского начальства. Она менялась, в
зависимости от политики Центра в отношении украинской старшины.
Иногда, особенно в первый, допетровский период, Москва делала
демагогические жесты в пользу «голытьбы» против козачьей старшины.
Дело доходило до грабежа с раздеванием богатеев прямо на козачьем
кругу. Чаще, однако, царские представители на Украйне ставили свою
силу, своих стрельцов в первую очередь, на сторону гетмана и чинов. А
те, понимая свою зависимость от московской поддержки, отказывались
еще от одного клочка украинской автономии. В результате, как писал
профессор Грушевский, «в конце концов борьба проиграна народом и в
восточной Украине». Сопротивление будущих хлопов сильно снижалось
тем, что они привыкли видеть своих будущих господ впереди себя, в бою
за Православную Веру и Неньку-Украину.
Старшина превратилсь в панское сословие, а на месте автономных
Гетманщины и Сечи появились точно такие же губернии, как и в
Великороссии. Как мы помним, Дщерь Петрова, наверное, по
простительной женской слабости, не давила очень уж сильно ни на
страну, ни на народ, из которых вышел её тайный муж Алексей
Разумовский. Это несколько затормозило конец остаткам украинской
автономии и последним свободам украинских посполитых и казаков.
Екатерина … великая императрица рассматривала малороссов, как и
крымских и волжских татар, чувашей, евреев, якут, да, сказать по правде, и самих, собственно, великороссов, как дикие азиатские племена, которые она должна, сколько сумеет, цивилизовать. Так, чтобы не было
стыдно перед Дидро и Вольтером. Поэтому ее политика была
последовательной и разумной. Сводилась она к тому, чтобы привести
законы, правила и обычаи Малороссии к общеимперским. То есть —
никакой автономии и странных титулов вроде гетманов, атаманов и
есаулов, крепостное право, такое же, как на Великой Руси, администрация, суд и все прочее — как в Суздале и Царевококшайске.
Сопротивления она, практически, не встретила. Из трех основных
малороссийских сословий — поспольства, казачества и панства —
первое теряло больше всех, остатки своей земли и свободы. Но мужики
вообще редко бунтуют, если у них нет наглядного примера. В
царствование той же Екатерины мы видим на Урале и в Поволжьи
настоящую крестьянскую войну с истреблением помещиков и
сожжением усадеб. Но мужики, при всей свирепости крепостного
режима в ту пору, поднялись не сами по себе. Они шли за казачьим
восстанием на Яике, которое возглавлял донской казак под именем
покойного голштинца-императора. Ужасы Колиивщины на
Правобережной Украине тоже стали возможны благодаря тайному
В гостях у тетушки Клио
приходу туда через русскую границу «куп» — отрядов запорожских
казаков. А крестьянам Гетманщины идти на бунт было не за кем.
Казаки еще недавно, во время Хмельниччины, были главной, наиболее
активной социальной силой Украины. Это они своими саблями отделили
свою страну от Речи Посполитой и «скасовали» панскую неволю. Но
теперь они стали анахронизмом. У казака две роли в жизни — бойца и
пахаря. Но в стране, покрытой помещичьими имениями, где трудятся
крепостные крестьяне, свободный мелкий земледелец такой же чужой, как фермер в современной России среди огромных аграрных
латифундий. А вольный всадник, выбирающий своих командиров, так же
анахроничен в век больших постоянных армий, таких, как та, которую
Петр I завел в России. И число казаков Гетманщины постоянно
снижалось. При Анне Иоанновне они могли вывести в поле около
тридцати тысяч воинов, а при Екатерине II — уже только десять тысяч. И
притом в империи уже были в наличии вполне великорусские казачьи
войска — Донское, Яицкое, Уральское, Сибирское. Поэтому еще при
Анне Иоанновне была попытка превращения всех казаков Гетманщины
либо в солдат, либо в крепостных своей же казацкой старшины. Тогда
это не удержалось, но в 1775 году Екатерина после ликвидации
гетманства окончательно обратила все казацкие полки Малороссии в
гусарские и драгунские. И ничего — сошло. Часть обедневших казаков
просто не могла сопротивляться панскому нажиму и безропотно
соглашалась с потерей казачьих прав и перечислением в посполитые, т.е., со своим закрепощением.
Определенной проблемой казалась Запорожская Сечь, где казаки были не
только войском, но и «политической нацией». Территория под контролем
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
Сечи в Нижнем Поднепровье была около 110 тыс кв. км, т. е. больше, чем
территория современных Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и
Кировоградской областей Украины вместе взятых. Жило на ней по
разным источникам от 250 тысяч до миллиона населения, из которых
казаками было 110 тысяч. Но реальным Запорожским войском были те 11
тысяч казаков, которые постоянно жили в крепости Сечь. В первую
половину XVIII века с Сечью произошли такие превращения, которых
раньше и представить было нельзя. После того, как запорожцы во главе
со своим кошевым атаманом Костем Гордиенко присоединились к
Мазепе, т.е, к Карлу XII Шведскому, была, как известно, Полтава. После
нее Петр I приказал взять и разорить Сечь. Что и было сделано, Сечь
была полностью сожжена. Ну, а через два года был Прутский неудачный
поход и по его итогам завоеванный Петром Азов, новопостроенный
Таганрог и, заодно, Запорожье Российская империя уступила султану.
Под турками сечевики пытались делать новую Сечь на Каменке, потом в
Алешках — то и другое вблизи нынешнего Херсона. Не очень пошло.
Последующие русско-турецкие войны вернули Нижнее Поднепровье в
Российскую империю, а потом и отодвинули границу дальше, к Днестру
и Черному морю. Крым, вековечный враг и соперник — и тот оказался
под двуглавым орлом. И Запорожье, вольная пограничная козачья страна
вдруг оказалось посреди осваиваемой империей Новороссии. Со всех
сторон была крепостная страна и козачьи вольности стали нетерпимым
архаизмом.
Тут, конечно, можно понять ситуацию. Исторически важной для Сечи
была «набеговая экономика». А теперь Крым стал российским, выхода к
турецким берегам тоже не стало, да и походы «куп» в польскую
Правобережную Украину стали невозможны. Были попытки
«промышлять» в создающейся к западу от Запорожья Новосербии, но и
они жестоко пресекались. Екатерину можно понять. Переселяющиеся из
Османской импери сербы селились «из милости» на ее землях, были
обязаны ей благодарностью. Сечевики же полагали, что тут их земля и
это императрицыны чиновники и поселенцы пришли на их территорию.
Особенной преданности и благодарности ожидать не приходилось.
Запорожцы сильно надеялись на протекцию правителя
новоприсоединенной земли Потемкина, который как-то по тогдашней
моде среди екатерининских генералов записался казаком в Кущевский
курень Сечи. Прозвище в Запорожьи он получил Грицко Нечеса, за
пышный по моде времени парик.
Надежды оказались необоснованными. Приказ от императрицы, да и
собственный опыт неприятностей от конфликтов казаков с сербскими и
греческими поселенцами Новороссии да с поляками в близкой
Правобережной Украине оказались сильней, чем романтика козачества.
В июне 1775 года Сечь была окружена 50-тысячным войском под
командой серба Текелия и получила ультиматум о сдаче. Ну, пришлось
покориться. Кошевой атаман Калнишевский был отправлен в Соловки, 72
В гостях у тетушки Клио
еще двоих начальников тоже покарали, остальную сечевую старшину
утешили тем, что даровали им права шляхетства, а рядовым казакам
выдали справку об ихнем козачестве и предложили вступать в гусарские
и драгунские полки или устраиваться самостоятельно.
Часть казаков так и сделала. Совсем самостоятельно тайно собрались и
ушли в Турцию к султану. Там им очень обрадовались, дали денег и
землю для поселения у устья Дуная. Здесь они жестоко резались с
пришедшими на полвека ранее донцами-некрасовцами, победили и
выжили некрасовцев в Анатолию, но сами прижились плохо и, в конце
концов, вернулись под двуглавого орла во время очередной русско-
турецкой войны. В национальной памяти и национальной культуре всё
это оставило след оперой «Запорожец за Дунаем». Неушедшие же за
Дунай запорожцы были, в конце концов, переселены на Кавказ, на
границу с землями непокоренных горцев. Они дали начало казакам
кубанским.
Наименьшим по численности и самым сильным по своим возможностям
сословием украинского общества было панство. Конечно, еще деды и
прадеды этих людей были простыми и часто совсем невысокими
выборными чинами казачьего войска: полковниками, сотниками, писарями. Но за прошедшие десятилетия они смогли подгрести под себя
«необозримые», как правильно указывает Пушкин, земли, сравнимые по
площади с гигантскими латифундиями московских старинных
аристократических родов и фаворитов веселых петербургских цариц
XVIII века. За собой эти панские семьи закрепили из поколения в
поколение довольно высокий уровень образования, несравнимый со
среднедворянским в Великороссии.
Это повелось еще со времен Речи Посполитой. Если помните, Остап и
Андрий Бульбы приезжают к родителям после окончания Киевской
бурсы. И далее козачья старшина поколение за поколением отправляли
сыновей в Киев, потом в польские и, наконец, петрбургские учебные
заведения. Грамотные панские дети становились сначала мелкими
чиновниками войска, а потом могли претендовать на должности своих
отцов. Это, собственно, и создавало династии козачьей старшины.
Недаром и в требованиях, и в пожеланиях украинских чинов, как и
избранных депутатов екатерининской Уложенной Комиссии заметны
просьбы о создании новых школ, включая и высшие.
В Российской империи на середину XIX века было 10 университетов.
Три из них — Тартусский, Хельсинкский и Вильнюсский
основаны ДО присоединения соответствующего региона к России, 7
основаны Российской империей. Из них 3 — Харьковский, Киевский и
Новороссийский в Одессе на украинской территории. И столько же —
три университета, Московский, С-Петербургский и Казанский на всей
громадной территории Великороссии и Сибири. Отчасти это связано с
различным уровнем тяги малороссийского и великороссийского
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
правящего класса к образованию. Это при том, что уровень и количество
школ для народа в эти годы неуклонно падало на Российской Украине.
Вообще между образовывавшимся панским сословием и хлопами
постепенно возникал культурный разрыв. Прежде всего за счет того, что
панство постепенно заграждало мужикам всякую дорогу к образованию, да попросту к грамоте. Паны тянулись за своими образцами, сначала за
польской шляхтой, потом за послепетровскими великорусскими
дворянами. Многие из украинских панычей начали строить свою карьеру
в Петербурге, в том числе, и при дворе. Вспомните хотя бы екатеринско-
павловского дипломата Безбородко, дослужившегося до звания канцлера
империи и титула светлейшего князя. Империя охотно шла им навстречу, что и неудивительно, если вспомнить их большую по сравнению с
московитами образованность. То же наблюдалось и на верхних уровнях
православного духовенства. Одно время в XVIII веке более половины
российских архиереев была малороссийского происхождения.
Одевались они не в простонародные шаровары да свитки. Первое
поколение украинской старшины подражало в одежде и вообще в быту
польским шляхтичам, следующие — той «немецкой» одежде и обычаям, которые привил русским дворянам и госчиновникам Петр
Преобразователь. Да и язык их стал отличаться. Если во времена Тараса
Бульбы прихватившие образования полковниченки и сотниченки
щеголяли польскими и латинскими словечками, то потом для них делом
самоутверждения стало использование «великорусского наречия».
Вспомните, как герой «Ночи перед Рождеством» Вакула и встреченный
им в Петербурге запорожец демонстрируют один другому умение
говорить по-русски.
То, в чем остро нуждались, чего от всей души желало украинское
панство — это признание верховной властью за ним тех прав и
вольностей, которые великорусское дворянство закрепило за собой
начиная со Смуты. Права на земли и крепостной труд посполитых в
первую очередь. В основе, это желание совпадало с дворянско-
крепостным устройством Российской империи. Но делу сильно мешало
предубеждение верховной власти и всего правящего класса Москвы и
Петербурга против украинских претендентов на одворянивание. Там
слишком хорошо помнили свою собственную Смуту, когда такие же
точно казаки с Дона, из Комаринского края и других мест тоже
претендовали на то, чтобы стать ровней дворянам. И утвердили
романовский порядок в стране победы дворянского войска князя
Пожарского не только над поляками, но и в неменьшей степени над
«воровскими казаками», прикрывавшимися тронными претензиями
Тушинского Вора и Маринки с атаманом Заруцким. В конце концов, Смута ведь не кончилась в ноябре 1612-го изгнанием поляков из
Московского Кремля и избранием Михаила Федоровича на царство. Еще
в 1618 году Москву осаждали поляки короля Владислава и запорожские
казаки гетмана Петра Сагайдачного.
В гостях у тетушки Клио
Так что казачье происхождение украинской старшины очень мешало
русским дворянам принять ее в свои ряды. Даже и ставшая императрицей
Дщерь Петрова Елизавета этого забыть не могла и при всех своих
украинских симпатиях (Алексей Разумовский!) детей старшины в
шляхетский морской корпус не принимала, на том основании, что « в
Малороссии нет дворян«. Но в итоге все-таки желанное слияние
произошло. Паны были признаны дворянами и довольно быстро после
этого потеряли свою повышенную активность и деловую сметку времен
«первоначального накопления» земель и холопов, превратившись в тех
полусонных шляхтичей, о которых пишет Гоголь. Мы для
справедливости должны сказать, что в украинском дворянстве
появлялись и совсем другие, энергичные фигуры. Имена поэта Капниста, адмирала Нахимова, народовольца Лизогуба, писателя Короленко, режиссера Немировича-Данченко, в советское уже время профессора
истории Полетики говорят сами за себя. Но в среднем… ничего
особенного.
Что же до тех, кто проиграл, посполитых, крепостных крестьян, то им
остались тяжкий труд на помещиков, глухая обида то ли на панов, то ли
на «москалей», да смутные воспоминания о временах казачества и
свободы, которыми пропитаны стихи Тараса Шевченко.
Разумеется, если мужик иногда бунтовал против пана, то это было
кровавым и жестоким, какими всегда бывают Жакерии. Ефименко в
своей статье «Турбаевская катастрофа» рассказывает о таком случае.
Турбаи были большим селом на Полтавщине, населенном исторически
свободными казаками. Почти 80 лет, начиная с 1711 года, его жители
сопротивлялись, как могли, покушениям сначала знаменитого
полковника, позже и гетмана, Даниила Апостола, потом богатой панской
из сотников семьи Базилевских на свои земли и свою свободу.
Они сумели собрать свои гроши, чтобы подавать в суд с требованием
вернуть их имена в списки казаков. Базилевские были богатыми людьми, они много получали от всевозможной торговли, содержания шинков и
ростовщичества среди мужиков, давали деньги в заем и дворянам своей
округи. Естественно, что все местные суды принимали решения в их
пользу. Но жители Турбаев, насильственно перечисленные из казаков в
крепостные, не успокаивались. Они подавали кассацию все выше и
выше. Наконец, дело дошло до Сената. Наверху отношение к вопросу
оказалось другим. Петербургу было невыгодно постоянное уменьшение
числа казаков на Украйне, и решение сената оказалось в пользу
турбаевцев. Но… улита едет, когда-то будет. Местные судебные и
административные чины, задаренные Базилевскими, всячески
саботировали исполнение сенатского решения. А пока Базилевские, сверх исполнения обычных крестьянских повинностей, отнимали у
крепостных скот, посылали на самые тяжелые работы, запирали
недовольных на ночь в холодные амбары, что уже, согласитесь, является
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
Наконец, спустя уже полгода, в Турбаи для официального объявления
сенатского решения приехали советник наместнического правления из
Киева, местный голтвянский земский суд и воинская команда. Советник
сразу остановился в помещичьем доме, историк комментирует, что он на
самом деле уже был должником Базилевских, местных судейских и
команду разместили по селу. Это сразу вызвало подозрение жителей в
подкупности судейских. Подозрения подтвердились. Глава приехавших
советник Корбе и его подручные открыто говорили, что если кто-нибудь
и получит свободу, то ненадолго. Дело в том, что в сенатском указе речь
шла о козачьих родах, а у нынешних жителей почти не было
документального подтверждения принадлежности к этим родам —
только устные. А тут уже все зависит от произвола суда и
администрации.
Атмосфера ненависти, подозрения и
грубости разрешилась именно так, как
должна была. Внезапно вспыхнувшим
погромом, при котором у воинской
команды было отобрано оружие, судейских
побили, кому-то что-то и сломали, а
возбужденная толпа кинулась к барскому
дому и забила двоих братьев Базилевских и
их незамужнюю сестру насмерть. Грабежа
при этом пока не было. Дом был заперт и
опечатан, а у судейских под побоями и
угрозой смерти получили «документ», что
все сделано правильно и претензий нет.
Разумеется, вымолившие себе на коленях
пощаду судейские слова не сдержали.
Началось дело, и императрица поручила
контроль за ним Потемкину. Но через три года «Князь Тавриды» умер, а
следствие все продолжалось и никого пока не наказали и даже не могли
найти активистов, убивших своих помещиков. Продолжалось пассивное
сопротивление всех двух тысяч жителей села. Более того, они, не
тронувшие поначалу имение Базилевских, постепенно его разграбили до
конца. А оказавшиеся все же под замком несколько человек успешно
бежали при содействии односельчан.
Только в январе 1794 года, спустя уже почти шесть лет, к смертной казни
было приговорено семь человек, к наказанию кнутом — 42, плетьми —
134, а 228 человек были освобождены от суда. Как видим, и
екатерининская юстиция в данном случае не была «быстрой и
неумолимой», тем более что смертная казнь, по тогдашнему российскому
обычаю, была заменена на каторгу. Можно считать, как кажется, что
классовая дворянская юстиция в данном случае отступила. Что же до
казачьих прав, то они были возвращены 259 турбаевцам.
В гостях у тетушки Клио
Мы можем найти у Александры Яковлевны Ефименко еще немало статей
и книг, посвященных различным вопросам украинской истории. Об
отношении украинского и всероссийского исторического сообщества к
ней и ее работам говорит тот факт, что в 1910-м году Харьковский
университет присвоил ей honoris causa ученую степень доктора истории, а Бестужевские женские курсы избрали на профессорскую должность.
Для дореволюционной России это случай уникальный. Мы можем, конечно, вспомнить химика Юлию Лермонтову и математика Софью
Ковалевскую, но их докторские степени получены в Германии, в
Геттингенском университете, где не было российских ограничений по
высшему образованию для женщин ( на самом деле, и в Германии
существовали ограничения для женщин при приеме в университет, там
отсутствовали женские гимназии, без окончания которых в
университет не принимали, ограничения были сняты лишь в ХХ веке —
прим. ред.).
Кроме работы над книгами и статьями Александра Яковлевна еще и
преподавала украинскую историю на Высших Бестужевских женских
курсах в Петербурге, активно участвовала в различных съездах и
собраниях историков, активно выступала за снятие имперских
ограничений для «мовы» в печати и школе. Ну, и никто ведь не
освобождал ее от обязанностей матери семейства. Муж тяжело болел и
кормить семью выпало целиком на ее долю. Она родила трех дочерей и
двух сыновей. Две дочери умерли молодыми, а одна, Татьяна стала
достаточно известной поэтессой Серебряного века. Сын Петр стал
впоследствии известным советским археологом, академиком АН УССР, доктором ряда зарубежных университетов.
В 1908 г. она овдовела, а в конце 1917 года она, вместе с дочерью
Татьяной, той самой — поэтессой, уехала из Петрограда назад на
Украину. Они поселились на хуторе Волчанка под Харьковом.
Александра Яковлевна, преподавала в сельской школе, писала
украинский учебник по истории для средней школы, написала статью
«Письма с хутора» о сложностях при изучении и изложении
национальной истории. Тем временем история Украины продолжалась и
шла совсем непростыми путями. Власть Рады сменилась Советами, потом пришли немцы и привезли с собой ту же Раду, на смену Раде
пришел гетман Скоропадский, потом на смену ему, как хорошо знает по
Булгакову читающая Россия, пришло петлюровское войско под
знаменами той же Рады.
Вот в это время, в ночь с 17 на 18 декабря 1918 г. напавшие на хутор
Волчанка вооруженные люди зверски убили Александру Яковлевну и её
дочь Татьяну. Об обстоятельствах ее смерти знаменитый профессор
С.Ф.Платонов пишет, ссылаясь на газетную статью некоего Б. Элькина, что:
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
« ее убили солдаты Петлюровского войска — убили за то, что она не
хотела выдать солдатам спрятавшихся в ее квартире двух дочерей
Харьковского губернского старосты (представителя гетманской
власти) Неклюдова… донос привел солдат к квартире Ефименко, где
спрятались две дочери Неклюдова; Ефименко отказалась выдать их, заявив, что у нее никто не спрятан; был произведен обыск, девушки были
обнаружены, убиты, и их участь тут же, на месте, разделила А.Я.
Ефименко».
Заодно была убита и 28-летняя дочь, поэтесса Татьяна. Документальных
подтверждений этому, кажется, нет, но и опровержений — тоже.
Есть, конечно, трагедийность в том, что женщина-ученый, отдавшая свой
талант, большую часть своей жизни и свою любовь украинской истории, была убита бандитами, носившими форму воинов армии независимой
Мы же можем сегодня только поклониться ей в землю и понадеяться, что
ее труды еще пригодятся в будущем, во времена неизбежного в будущие
времена примирения русского и украинского народов.
ТЕНИ ЗА ЭКРАНОМ
Посвящается Битве за Англию
В воскресенье мы пошли с внучкой в кино. "Return to Neverland" - новый
голливудский мультфильм все по той же истории ребенка, не
захотевшего стать взрослым. Но началось все на экране не со скал, пиратов и "потерянных деток". В темном небе прожекторы искали
груженые бомбами "Юнкерсы", сирены воздушной тревоги будили домá, девочка шла из школы с противогазом через плечо и в плоской каске на
голове, люди торопились в бомбоубежища, почтальон принес повестку
на эвакуацию детей из города, папа уходил добровольцем в армию.
Детям взрослой Венди привелось встретиться со сказкой в сентябрьском
Лондоне 1940 года, когда в небе над островом летали не столько
волшебные персонажи, сколько бомбовозы Геринга и Харрикейны
Королевских ВВС.
В гостях у тетушки Клио
Моя умная Женя-Gina кое-что слышала о " ворлд вор ту". Она сразу
спросила - не те ли это самолеты, которые были в Пёрл-Харборе и
бомбили её родную Москву? - Те же. - А те самолеты, которые на Лоу
Манхеттен? - Да в общем - те же. Те же враги у штурвалов. Или их
бывшие слуги. Как орки у Черного Повелителя. - А как это называется? -
Battle Of Britain, Битва за Англию. Все сражения были только в воздухе, немцы хотели бомбами заставить англичан сдаться. - Ну и что? -
Англичане не сдались. - А американцы помогали бритиш? - Не очень
много. Президент хотел, но ему мешали люди из Конгресса. - А русские?
- Тут мне не захотелось отвечать ребенку - зачем ей слышать плохое о
своей родной стране? Мне и самому не так уж приятно думать о
железнодорожных цистернах с нефтепродуктами, ожидающих смены
тележек на станции Брест. В содержимом этих цистерн есть и труд её
прадеда, моего отца, бакинского нефтяника, а получатель - та самая
Люфтваффе, которую мы видим на экране.
Но тем временем пираты кэптена Хука своровали Джейн через открытое
окно и их летучий корабль немедленно удрал из страшного лондонского
неба в менее опасный Неверленд, где в море, конечно, водится
гигантский осьминог, но, по крайней мере, нет "волчьей стаи" субмарин
Деница. Внучка закончила свои вопросы и начала увлеченно следить за
сказочными событиями. Для меня Питер Пэн, его Огневушка-
Поскакушка и вся компания особого интереса все-таки не представляют.
Я продолжал за цветными картинками экрана смотреть бесконечный
черно-белый
o Битве за Англию. Постепенно из вереницы
знакомых и незнакомых лиц русских,
британцев, немцев вышли и оттеснили всех
остальных, даже бульдожий взгляд Черчилля,
даже усики Гитлера и усы его кремлевского
партнера, три лица, два женских и одно
мужское. И еще - контур самолета и химическая
Первая женщина была - королева Елизавета.
Тогда ее еще никто не называл королевой-
матерью, хотя две дочки, Елизавета и Маргарет, у нее уже подрастали.
Зато фюрер Великой Германии называл её, простую, по сути, домохозяйку - "самой опасной женщиной Европы". Упрямая шотландка
не согласилась покинуть остров и уехать с детьми в Канаду. Она с
юности терпеть не могла немцев, убивших во Фландрии ее любимого
старшего брата, и не хотела уступить им ни в чем. Она осталась со
своими британцами, под бомбами в своем Букингэмском дворце.
Она осталась с рабочими Ист-Энда, женами ушедших в армию брокеров
из Сити, бездомными семьями из разрушенных бомбежкой домов, с тори
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
и либералами, лейбористами и анархистами, с капиталистической акулой
лордом Бивербруком и туберкулезным писателем-революционером
Оруэллом - со всеми, кто, единственные в те дни в Европе, ни за что не
захотели быть под властью диктаторов, поделивших континент.
Конечно, она не надела красный платочек, не засучила рукава и не встала
к станку, как американка с плаката "We can do it" - ничего подобного
девятая дочь гламисского тана сроду не умела. Она ездила в
разрушенные Люфтваффе лондонские кварталы, раздавала бездомным
одеяла, утешала их, помогала им найти новое жилье, как глава
имперского Красного Креста пробивала вечно живую британскую
бюрократию, первой поехала в уничтоженный за одну ночь Ковентри.
Главное - она показывала британцам, что она, их королева, не боится
проклятых джерри и не падает перед ними на колени. Давала пример. Так
что фюрер был прав. Для него в этой не особенно выдающейся женщине
была страшная опасность. Предвестие его будущего самоубийства в
разрушенном британскими летчиками и советскими танкистами Берлине.
И нюрнбергской петли для его соратников. А она пережила их всех и, может быть, именно за ту осень сорокового судьба послала ей долгую
жизнь и легкую смерть.
Вот она на фотографии, говорит с
людьми из сожженных вражескими
самолетами домов Южного Лондона.
Дата - 11 сентября 1940 года. Тогда
каждый день сентября был днем ужаса.
Недаром друг рейхсминистра
Риббентропа и по совместительству
американский посол в Лондоне
Джозеф Кеннеди каждый день
сообщает в Вашингтон, что англичане
вот-вот сломаются. Вот и великий
муфтий иерусалимский Амин Хусейни
уже начал собираться в Берлин, где у
него уйма дел. Надо пожаловаться
Гейдару, так на арабский переводят
Führer, на проклятых
империалистов-англичан и на евреев с их капиталистическими
хитростями и большевистскими кибуцами. Да и Гейдриху с Эйхманом
нужны советы специалиста по решению "еврейского вопроса". И
боснийским мусульманам нужна помощь муфтия по созданию своих
двух дивизий СС против коммунистов и православных сербов.
В Берлине и по всей Европе таких помощников у нацистов немало: Анте
Павелич, Видкун Квислинг, Жак Дорио, Хориа Сима, Ференц Салаши ... .
И даже в лондонской тюрьме ждет прихода немецких друзей-
освободителей лорд Освальд Мосли. Всю эту публику ожидают - кого
В гостях у тетушки Клио
пуля, кого ампула с ядом, кого петля, кого решетка. Только муфтию
удастся выжить, ускользнуть от Нюрнбергского трибунала, остаться на
воле и даже передать в конце концов семейный бизнес двум своим
молодым родичам: Фейсалу аль-Хусейни из Ориент-Хауса в Иерусалиме
и Ясиру, по кличке Арафат, из Каира.
Всю эту сволочь и их хозяев в те дни больше всего отделяют от власти
над миром упрямые островитяне. И не в последнюю очередь семейная
пара из Бакингем Палас: Эдуард и Елизавета.
Другое женское лицо не из Лондона, а с
набережной Фонтанки. Опальная русская поэтесса,
на душе которой уже не должно оставаться ни
одного живого места для того, чтобы горевать за
"Муж в могиле, сын в тюрьме". Первого мужа -
офицера и поэта, как и брата-моряка, те же, в
сущности, люди убили еще двадцать лет назад.
Любит, любит кровушку Русская Земля". Власть
время от времени отрывается от своих глобальных
занятий по разделу сфер влияния, языкознанию и
преобразованию природы, чтобы для развлечения
пнуть ее побольнее. И вот она вспоминает в своей комнатке Фонтанного
дома этой осенью о погибшем Париже и о том, другом городе, который
продолжает держаться под бомбами:
Двадцать четвертую драму Шекспира
Пишет время бесстрастной рукой.
Сами участники грозного пира,
Лучше мы Гамлета, Цезаря, Лира
Будем читать над свинцовой рекой;
Лучше сегодня голубку Джульетту
С пеньем и факелом в гроб провожать,
Лучше заглядывать в окна к Макбету,
Вместе с наемным убийцей дрожать,-
Только не эту, не эту, не эту,
Эту уже мы не в силах читать!
Эти стихи - не для публикации. За такие слова в эти дни вполне можно
отправиться куда-нибудь неподалеку от сына, в женский лагерь.
Председатель Совнаркома тов. Молотов с трибуны Верховного Совета
так и разъясняет, что их с партгеноссе Риббентропом дележ слама
"служит делу всеобщего мира". Главная тема у пропагандистов теперь -
про англо-французских поджигателей войны и миролюбивую Германию.
И как символ взаимного миролюбия и дружбы, станция Брест работает
без устали. На запад, немецким камрадам, идут миллион тонн
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
нефтепродуктов, в том числе двести тысяч тонн авиабензина, более
полутора миллионов тонн зерна, никель, марганец и хром для снарядов, фосфаты, русский лес. Каучук - хоть в Сибири пальмы не растут, но нейтральный СССР по дружбе покупает его для камрадов на Яве и в
Бразилии. Пусть потрудятся на пользу Рейха славянские унтерменши, пока не пришла их очередь. А на восток, к советским товарищам по
оружию, едут из "третьего рейха" военные самолёты, бомбардировочные
прицелы, авиабомбы, радиостанции, орудийные корабельные башни, пушки, станки и приборы и даже недостроенный крейсер "Лютцов" (ну, этот-то не по жэ дэ, дошел своим ходом до ленинградской верфи).
Выиграли ли от этого Советы? Не очень понятно, потому, что на пользу
все эти авиационные и военно-морские фенечки нам не пошли, судя по
ходу войны на море и в воздухе во второй половине следующего, 1941
года. Гитлер - выиграл без сомнения. Кроме всех этих поставок было
ведь и прямое боевое сотрудничество - плечом к плечу против
плутократов. В том же городе, где живет поэтесса, есть Арктический
Институт, который все собирается забрать себе Фонтанный дом, но
получит его только после снятия немецко-фашистской блокады
Ленинграда в 1944 году. А сейчас специалисты этого института вместе с
военными моряками и полярниками Главсевморпути помогают немецким
камрадам обустроить на арендованной советской земле возле Мурманска
"Base Nord", глубоководную базу для подлодок и крейсеров-рейдеров в
Баренцевом море. Или проводят по Северному Морскому Пути в Тихий
океан знаменитый немецкий рейдер "Комета".
Пройдет год - и Анна напишет новые стихи - "Первый дальнобойный в
Ленинграде". А потом будет эвакуация, азиатская луна в Ташкенте, разделенная пополам пайковая лепешка верной подруги Фаины и -
возвращение в Ленинград, похоронивший почти семьсот тысяч своих
жителей, в десять раз больше, чем Лондон. А потом властители в
промежутке между мировой и корейской войнами вспомнят о ней и, как
смогут, потешатся еще раз. С публикацией в печати, с изучением потехи
на школьных уроках - разве они не заботятся о воспитании молодежи? А
сына, вернувшегося с германского фронта, опять отправят в лагерь, чтоб
не казалась жизнь медом.
А потом самые рьяные из гонителей понемногу передóхнут от
многолетнего обжорства и пьянки, а других прогонят от дел соперники.
И на старости лет она чуть-чуть сможет вздохнуть спокойнее. И даже
съездить перед смертью в Таормину за своим лавровым венком, после
того, как распоясавшиеся итальянцы ответят на московское предложение
заменить в списке ее имя на имя члена КПСС Маргариты Алигер, что
" они хотели бы видеть сестру Данте, а не его однофамилицу". И даже -
побывать на том острове, о котором она писала стихи тогда, в сороковом, чтобы надеть докторскую мантию Оксфорда. Власть все равно осталась
той же. Но теперь ее внимание перенесено на одного из тех мальчишек, которые приходят к Анне в дом со своими стихами, на рыжего Осю. Как
В гостях у тетушки Клио
она говорила, " как будто специально создают ему биографию". Не носи
он в ссылке телогрейку - разве так смотрелся бы на нем фрак в день
Нобелевской лекции?
А Анне Нобелевская премия так и не досталась. Да и Бог с ней - хорошо, хоть до смерти не убили. Не уничтожили, как старшего брата, как
первого мужа, как последнего мужа, как друга Осипа - другого, не
лауреата, а зэка из Дальлага. Не затравили до смерти, как вечную
соперницу и товарища Марину, как Бориса, которому не простили его
Нобелевскую медаль. Наверное, изящная дама с трагическим взглядом, с
перчатками и вуалью, кумир Петербурга и Парижа, видевшая у своих ног
Гумилева и Модильяни, Блерио и Блока, ни за что не смогла бы
представить себе, какой будет трагедия ее жизни. Не для того она была
создана - не для смеси триллера с зощенковским фарсом, а для высокой
трагедии, которой где же место в коммуналке. Но ...
" Не так живи, как хочется, а так, как Бог велит! " - так и всегда на Руси
Истребитель
Да и везде, и всегда. Следующий мой
герой тоже поначалу не был
рассчитан на ту жизнь, которую ему
пришлось вести. Задумывали его для
светской жизни на волнах и в воздухе
над морем, для мировых рекордов и
побед в соревнованиях на Кубок
барона Шнейдера. Спортивный гидросамолет фирмы "Супермарин" из
Вулстона. А получился в конце концов, по стечению обстоятельств, заказу Министерства авиации и воле умирающего конструктора
Митчелла совсем другой самолет. Рабочая лошадь войны - истребитель
Spitfire, по-русски - " Огневержец".
Впервые Спитфайры столкнулись с немецкой авиацией еще в конце мая
сорокового. Но та битва, битва за Францию, была уже почти проиграна, французы безошибочно выбрали "жизнь на коленях". Чересчур устали и
буржуа, и увриеры от десятилетий своей классовой борьбы. Только
несколько сумасшедших фанатиков вместе с генералом Де Голлем не
согласились пойти под бошей и продолжают войну за Ламаншем. Да
коммунисты все еще в раздумье до получения инструкций от Советского
посольства в Виши - то ли бороться с фашистской гадиной, не щадя
жизни, то ли сотрудничать во имя всеобщего мира. Долго придется
франтирерам, солдатам Леклерка и летчикам авиаполка "Нормандия"
искупать эти дни позора.
Но для Спитфайра война не окончена. Она только начинается. Море
осталось за Британией - континент забрали себе диктаторы. Кто победит
- решит воздух. Чтобы сломать британцев, Германия посылает против
них Люфтваффе. Под охраной полутора тысяч Мессершмитов с
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
французских аэродромов на Англию летит тысяча триста пятьдесят
Юнкерсов, Дорнье и Хейнкелей, набитых бомбами, как кета икрой. Вот
отнерестятся они над Лондоном, Бирмингемом и Ковентри - можно
ждать Черчилля, а лучше прямо Мосли, с сообщением о капитуляции
Соединенного Королевства и всей Британской империи. В кабинах
бомберов и истребителей прикрытия - лучшие в мире немецкие летчики.
Не итальянские красавчики, годные для спортивных рекордов и
воздушной войны с эфиопами. Не полуграмотные комсомольцы, у
которых в душе искреннее желание умереть за Родину и Вождя, а за
душой - от пяти до тридцати часов налета. Не вчерашние клерки, пришедшие в Королевские ВВС только год назад после начала войны.
Летчики Люфтваффе, достойные наследники славы капитана Рихтгофена
и лейтенанта Геринга. Идеологическая закалка - от Гитлерюгенда и
"Силы через Радость", а боевое умение - от четырех выигранных
кампаний - в Испании, Польше, Норвегии и Франции. И от неустанных
тренировок - в среднем 400 часов налета до вступления в первый бой. И
от замечательных инструкторов, прошедших свою выучку еще в
веймарские времена - в Липецке, подальше от глаз Антанты. Они только
что победили французов. Через десять месяцев они практически
уничтожат за три недели самую многочисленную авиацию мира - ВВС
РККА, так что на два года, до самой Битвы над Кубанью -
" Про сталинских соколов и их подвиги только в "Красной звезде", а в неб
е одни фрицы" - как потом мне рассказывали фронтовики.
У меня не поднимается рука писать плохо об этих прекрасных летчиках.
Называть их саранчой, пауками или еще какими злобными насекомыми
кличками. У них были и рыцарство, и верность боевым товарищам. Они
верили, что несут миру порядок, а своему народу освобождение и
счастливую жизнь. На развалинах разрушенных немецких городов и в
сибирских лагерях для военнопленных начали они понимать - тот
еврейский Рабби, которому молились их деды и бабки, был прав, когда
сказал, что " взявший меч от меча и погибнет". Но сейчас, в августе-
сентябре сорокового не до их достоинств. В конце-концов, бомба, сброшенная рыцарем и идеалистом, убивает так же, а то и надежнее, чем
сброшенная наемным прохвостом. Английские летчики могли
признавать достоинства немецких пилотов в 1946-м году - в 1940-м их
надо было сбивать. БЛИТЦ пришел с неба на английскую землю.
Будь я кинорежиссером, который ставит фильм о Битве за Британию, я, разумеется, пустил бы кадры полета этой новой Великой Армады под
вагнеровскую "Der Ritt der Walkure": Hojotoho! Hojotoho! Heiaha!
Heiaha! Тут эта музыка больше на месте, чем для вертолетов над
Данангским заливом. Дикая охота Вотана. Что может ее остановить? А
вот те самые вчерашние клерки и плейбои, пролетарии и приказчики, ставшие летчиками Королевских ВВС. У Харрикейнов не хватает
скорости, чтобы сражаться с истребителями сопровождения. Они готовы
заклевать беременные смертью Ю-88, как каперы Дрейка заклевали ту
В гостях у тетушки Клио
испанскую Армаду герцога Медина-Сидониа, но лишних 50 км/час у
Мессершмитов, что ты с ними сделаешь?
Messerschmitt-109E Hawker Hurricane
Supermarine Spitfire
Скорость - 570 км/ч
Скорость - 520 км/ч
Скорость - 590 км/ч
Дальность полета - Дальность полета - 960км Дальность полета - 800км
Вооружение - 2 пушки, Вооружение - 8-12 Вооружение - 8 пулеметов
2 пулемета
пулеметов или 4 пушки
(или 2 пушки, 4 пулемета)
Но кроме четырехсот шестидесяти Харрикейнов против почти трех
тысяч самолетов Люфтваффе поднялись в воздух двести сорок семь
новых машин - Спитфайров. Скорость у них не уступает Мессерам, а
маневренность выше. А главное - за их штурвалами не обязательно
должны быть асы. Новый самолет британской авиации предъявляет
гораздо меньше требований к пилоту, чем немецкие. Идеальный
истребитель для того, кто не готовился к войне десятилетиями, и он
вынужден делать теперь летчиков из мирных граждан. "Огневержец"
летает и успешно сбивает джерри под управлением тех, кто год назад не
видел штурвала. Немцы начинают терять пилотов и машины быстрее, чем могут себе позволить, чем готовят их летные училища и авиазаводы -
по 40-50 самолетов в день. Или за ночь. К тому же, англичане, выбрасываюшиеся с парашютами из сбитых самолетов, приземляются на
своей территории и обычно возвращаются в строй. Летчики Люфтваффе
оказываются в британском лагере для военнопленных, поэтому потери
немцев в летном составе в 5 раз выше.
Вот они, пилоты Харрикейнов и Спифайров, те, о ком премьер-министр
Черчилль скажет:
" Никогда за всю историю конфликтов столько граждан не были
обязаны столь многим такой малой горстке людей". Прошло более
шестидесяти лет, но разве можно не снять шляпу, если вспомнишь
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
безногого аса Дугласа Бадера. В сорок первом его собьют над Францией, и при падении он сломает оба протеза. Пилоты Люфтваффе были
потрясены тем, что летчик с деревяшками вместо ног мог управлять
истребителем, и, связавшись (не так просто, а?) с Королевскими ВВС, организовали доставку новых протезов Бадеру в лагерь военнопленных.
Вот он в сороковом, сидит на крыле своего самолета на групповом
снимке пилотов Королевских ВВС.
Примером для лейтенанта Виктора Талалихина сержант Рэй Холмс
совершил первый таран немецкого бомбардировщика над Лондоном, сумел выпрыгнуть с парашютом и вернулся в строй. Сержант Хэрри
Ньютон сбил немецкого бомбера из горящего "Харрикейна", а уж потом
пошел на посадку. Не только люди из Соединенного Королевства. 2500
британцев, а ещё: 147 поляков, 101 новозеландец, 94 канадца, 87 чехов, бельгийцы, южноафриканцы, австралийцы, французы, ирландцы, американцы. Южноафриканец "Морячок" Малан, шесть побед за время
Битвы, всего - 32. Чех Йозеф Франтишек (17 побед, максимум за время
Битвы). После Мюнхена он улетел в Польшу, потом во Францию, а после
Дюнкерка - в Англию. Наци отнимали у него страну за страной, а он
продолжал свою личную войну. В октябре он погибнет, но это обойдется
им недешево. К национальной гордости, фамилия одного из польских
летчиков - Шапошников (8 побед). И еще - князь Эмиль Голицын, сбил
Мессер на одиннадцатикилометровой высоте, рекорд этой войны.
У них разделение труда: Спитфайры убивают Мессершмиты, а
старенькие Харрикейны - оставшиеся без прикрытия бомбардировщики.
Конечно, кроме мужества пилотов и достоинств их аэропланов, на
стороне Royal Air Force есть еще две технических новинки. Одна - радар
- про это знают все. Вторая - новая высокооктановая добавка к
авиабензину, кумол, позволяющая добавить на форсаже еще несколько
десятков километров в час. О ней чуть позже, а сейчас еще несколько
слов о Спитфайре. После того, как потерявшие над островом тысячу
шестьсот самолетов и пять тысяч убитых, раненых и пленных летчиков
немцы закончили Битву за Британию и отправились искать себе добычу
полегче на Востоке, истребители продолжали сражаться. Они
сопровождали бомберы союзников на Гамбург, Рур и Берлин, прикрывали высадку десантов в Африке, Италии и Нормандии. Вместе с
Харрикейнами и Аэрокобрами Спитфайры пришли на помощь
Лавочкиным и Якам на Восточном фронте. История любит символику.
Самое заметное участие "Огневержца" в Великой Отечественной как раз
приходится на Битву над Кубанью, где закончилось немецкое господство
в русском воздухе.
Углеводород
Вот статья из БСЭ:
Кумол, изопропилбензол, C6H5CH (CH3)2, бесцветная жидкость с приятным
запахом; tпл -96,03RС, tkип 152,39оС, плотность 0,8618 г/см3 (20RС), показатель
В гостях у тетушки Клио
преломления nD20 1,4913. К. хорошо растворяется в органических
растворителях, в воде - плохо; образует взрывоопасные паровоздушные смеси
(tвсn 38RС); при попадании внутрь вызывает острые и хронические поражения
кроветворных органов. К. получают парофазным (в присутствии фосфорной
кислоты) или жидкофазным (в присутствии AlCl3) алкилированием бензола
пропиленом. К. используют как растворитель, как высокооктановую добавку к
авиационным бензинам и в производстве фенола и ацетона.
Больше, пожалуй ничего и не добавишь. Если не считать того
малозначительного в мировом масштабе обстоятельства, что именно в
цеху синтеза изопропилбензола Уфимского завода синтетического
спирта имени 40-летия ВЛКСМ я начал тридцать девять лет назад
работать по сменам аппаратчиком и проработал полтора года - три
семестра нефтяного института.
Вот на картинке слева его структурная формула. Не знаю, как вам, а мне нравится. Изящно так. Над
шестиугольничком бензольного кольца телевизионной
антенной изопропиловый радикал. На самом-то деле, конечно, молекула выглядит совсем по другому. Скорее уж
вот так, как пониже справа. Да и то, надо бы для большей
близости к правде жизни по бокам бензольной группы пририсовать два
параллельно висящих бублика электронных пи-связей.
Разумеется, когда я работал в этом цеху,
наша продукция уже шла либо на
производство альфа-метилстирольного
каучука, либо на получение фенола и
ацетона по гидроперекисной технологии,
разработанной профессором Удрисом со
товарищи в 49-м году в Центральной
химической лаборатории органического
синтеза ГУЛАГа, зона А в Ярославле. Мы еще любили апокриф, как он
после гибели при взрыве гидроперекиси надзиравшего за профессорами-
зэками лейтенанта останавливает работы до разработки новых правил ТБ
и объясняет старшему гэбэшнику:
" Хорошо, гражданин
н ачальник, что на этот раз Ваш сотрудник погиб, а ведь мог быть и мо
й! " Высокооктановая добавка к авиабензинам - это уже уходило в
историю, потому что уходила в историю поршневая авиация.
А когда-то ... . Только за воспроизведение в дни войны по зарубежным
статьям, патентам и закрытой информации не самого лучшего, дорогого, неудобного и опасного процесса получения изопропилбензола
сернокислотным алкилированием бензола, приятель моего отца
азербайджанский химик Юсиф Мамедалиев стал орденоносцем, Президентом Азербайджанской Академии, член-корром союзной и
получил от коллег уважительное прозвище "короля алкилирования".
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
Авиация задыхалась без высокооктанового бензина - и кумол был для нее
как живая вода.
Тут придется для начала вернуться даже не в сороковой, а в декабрь
тридцать девятого года. Именно тогда Нарком топливной
промышленности Л.М.Каганович вызвал к себе троих известных в
отрасли молодых исследователей, чтобы задать им вопрос: "Где найти
дополнительные ресурсы производства авиабензина?" - Оказалось, что
авиации Красной Армии нехватает горючего на войну с Финляндией.
Финнам хватает, а ВВС РККА - нет. По "Закону о нейтралитете" США
прекратили поставки агрессору авиабензина, алюминия и ряда
технологий. Дело было не в том, что американцы добывали нефти в
шесть раз больше, чем Советы. Все-таки и мы в том году добыли в Баку, Грозном и Майкопе тридцать миллионов тонн, больше Венесуэлы, в три
с половиной раза больше Ирана, в четыре раза больше Мексики и в
шестьдесят раз больше Саудовской Аравии.
Дело в том, что авиационный двигатель требует большей степени сжатия, чем автомобильный - то есть более высокой детонационной стойкости, очень высоких октановых характеристик. От природы только очень
немногие нефти, как нефть Борнео в Голландской Индии, имеют такое
качество - поэтому Коминтерн всегда готов помочь тамошним
революционерам, если их удается раздобыть. Приходится помогать
природе - добавлять свинцовую этиловую жидкость, благо до защиты
окружающей среды еще жить и жить. Очень хорошие результаты дает
добавка изооктана и ароматических углеводородов: бензола, толуола, и, особенно, кумола.
Только где их взять? Толуола в Союзе даже на производство взрывчатки
пока не хватает. Вот нарком и советуется с наукой - нет ли еще каких
путей? Много лет спустя один из участников совещания расскажет мне о
нем и добавит, что они были удивлены техническим уровнем наркома, ведь вот - сапожник, а вполне грамотно для начальника говорил с ними
об орошении, октановом числе и т.д. То есть, вот ведь какая умница! Я
ему смог лишь возразить, что Лазарь был не только Наркомтоп, но и член
Политбюро. Значит - участвовал в принятии решения о войне против
Финляндии, в которой, между прочим, оказалось, что не на чем летать.
Так при чем тут флегмовое число? Он со своими обязанностями не
справлялся!
Отец умер, и спор этот мы с ним не закончим никогда.
Потом, когда мы стали союзниками и американский бензин стал
поступать по ленд-лизу, он очень редко шел непосредственно в моторы
самолетов. Большая часть поступала на смешение с отечественной
бензиновой фракцией, чтобы увеличить и производство, и октановые
характеристики нашего авиагорючего. И теперь, когда ветераны
вспоминают путь нашей авиации и промышленности за время Великой
войны, то с гордостью говорят, что-де - " Войну мы начали на бензине Б-
В гостях у тетушки Клио
70. А к концу войны пришли к бензину Б-78". Тут марка бензина по его
октановому числу.
Можно посмотреть - что же тут у немцев? Не лучше. Но, правда, Бог не
дал им ни Баку, ни Грозного. И у нас они забрать их так и не сумели.
Майкоп - заняли. Но молодой замнаркома Байбаков так хорошо
выполнил задание Сталина по выводу скважин из строя, что после
полугодовых усилий Рейх добился добычи всего 10 тонн в сутки. Что для
мировой войны явно недостаточно. На территории Германии и ее
союзников добывалось по максимуму (до английских бомбардировок
Плоешти) 8,6 миллиона тонн нефти. Ну, это может дать по тем
технологиям до четырех миллионов тонн разных видов
"светлого"горючего. В том числе по максимуму четыреста тысяч тонн
авиабензина в год. Прокормить Люфтваффе явно не хватит. Самолетам
Геринга на всех фронтах нужно было не менее шести тысяч тонн в сутки.
Но это же Германия, родина промышленной химии! Еще в 1931 году
Бергиус и Бош из ИГ Фарбениндустри получили Нобелевскую премию за
работы по синтезу жидкого топлива из бурого угля. Правда, некоторые
говорят, что это - чужая премия, мы к этой теме еще вернемся. Но и
вправду, промышленность Рейха, которой руководит замечательный
архитектор и организатор Альберт Шпеер, дает на своих заводах
искусственного топлива более двух миллионов тонн авиабензина в год -
чтобы иметь столько, надо было бы переработать сорок пять миллионов
тонн нефти: советскую, румынскую и иранскую добычу вместе, а кто ж
их даст? И еще триста пятьдесят тысяч тонн автобензина, шестьсот
восемьдесят тысяч тонн прекрасного дизельного топлива для субмарин
Деница и танков Гудериана, сырье для военной химии, масла и т.д..
Поменьше половины производится гидрированием - по методу Бергиуса, остальное - через "водяной газ" по технологии Фишера и Тропша. Все
равно не хватает, и фюреру лично приходится делить между между
родами войск еще не произведенное горючее. Особенно после того, как
союзная авиация в мае 44-го принялась за уничтожение этих тринадцати
заводов, начиная с самого большого, завода Лёйна под Лейпцигом.
Еще одно плохо. Авиабензин, полученный по этим технологиям, тоже, как и у Советов, не блещет антидетонационными характеристиками.
Максимум получается октановое число 74-78, это уж с этиловой
жидкостью. При этом достигается результат за счет большого
содержания непредельных углеводородов - а это снижает стабильность
бензина. Конечно, в военное время на длительное хранение бензин все
равно заложить не получается. Но хотелось бы, чтобы топливо не
портилось, пока довезешь его от Саксонии до Сталинграда или Эль-
Аламейна. Недаром, когда Иван хочет что-нибудь обидное сказать про
"Третий Рейх", так обязательно упомянет "эрзац".
А вот теперь сравните с этой информацией:
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
" В июне 1940 г. с конвейеров начала сходить новая модификация,
"Спитфайр" II.
Основным отличием от "единичек" последних серий являлся
двигатель "Мерлин" XII мощнoстью 1175 л.с. Он работал не на 87-
октановом бензине, а на 100-октановом ".
Простим не очень точную терминологию, но ... В чем разница? Именно в
том, что бензин для Спитфайров содержал много этой самой
высокооктановой добавки - кумола. К началу Битвы за Британию уже
работали в Западном полушарии три установки : одна, фирмы Луммус на
сернокислотном катализаторе, та самая, которую будет копировать
Мамедалиев в Баку, работает в Джорджии. И две побольше, фирмы UOP
на твердой фосфорной кислоте - в Батон Руже, Луизиана и на
голландском острове Кюрасао у берегов Венесуэлы. И каждая бочка
произведенного изопропилбензола на учете у правительств США и
Соединенного Королевства. Пока изоляционисты из конгресса
причитают, опасаясь, чтобы Рузвельт не
потратил деньги налогоплательщиков на
помощь Черчиллю оружием - кумол
плывет в Ливерпуль, чтобы, смешавшись
с авиабензином для Ройял Эйр Форс,
добавить роллс-ройсовским моторам
истребителей те десятки километров в
час на форсаже, которые позволяют
Мессершмиты.
Через несколько лет в сборнике
"Новейшие достижения нефтехимии и
нефтепереработки"
руководитель фирмы UOP - Union Oil
Products профессор Владимир Ипатьев
будет назван одним из творцов Победы в
Битве за Британию.
Имя академика Ипатьева мне приходилось слышать еще с детства - но
как-то странно, вроде другого имени - поэта Гумилева, расстрелянного
ЧК первого мужа Анны. Произносились эти имена со смесью уважения, даже восхищения, с определенным оттенком неодобрения, но и не с
симпатией к гонителям. То есть - к той самой Советской Власти, которой
отец был искренне предан всю жизнь, даже после её кончины. Но тут как
бы подразумевалась возможность, что с этими двумя
" получилась ошибочка", такая же, как с отцовым учителем профессором
Костриным, с любимым дядюшкой комдивом Зусмановичем, с
кристально чистыми большевиками, как вернувшаяся с Колымы седой и
изуродованной старая бакинская подруга Лена, сестра расстрелянного
казахстанского первого секретаря Левона Мирзояна. Разница была, 90
В гостях у тетушки Клио
пожалуй, в том, что эти двое - поэт и академик, явно не
были беззаветно преданы идеалам Коммунизма.
Не знать, кто такой Ипатьев, я, выросший в семье нефтехимика, не мог. В
конце концов, дядя Андрюша, на коленках у которого я по молодости лет
любил сидеть, был Андреем Владимировичем Фростом - одним из
учеников академика-невозвращенца. Когда я подрос - то пришел
пролетарием в цех N 14-15 II очереди, цех синтеза изопропилбензола.
Того самого, a.k.a. кумол. Да и основным производством на заводе было
получение синтетического спирта из этилена на знаменитом
катализаторе UOP - твердая фосфорная кислота на пористом носителе.
Курсовая у меня была по алкилированию. В Студенческом Научном
Обществе тридцать семь лет назад я делал доклад о роли кумола в победе
английской авиации над немцами - но при упоминании имени автора
процесса мой научный руководитель, человек умный и опытный, быстро
перевел обсуждение на технику определения октановых чисел. Потом, за
время работы, жизнь сводила меня довольно близко с несколькими
советскими и ненашими сотрудниками В.Н.Ипатьева. Можете смеяться -
но сейчас я живу на расстоянии примерно тридцати минут езды по
хайвею от двух последних мест работы великого химика - Ипатьефф
лэборатори в Северо-Западном Университете и штаб-квартиры UOP в
Дэс Плейнсе, Иллиной. Так, что у меня сложилось несколько личное к
нему отношение, без всякого, конечно, повода с его стороны.
В последние годы его имя уже часто поминается, даже и Российская АН
спохватилась, что как же это она так ... и восстановила его в членах.
Посмертно. О нем пишут, правда, по большей части как-то ... с розовыми
слюнями. Что все рвался назад в СССР. Сомнительно. И потом - вернись
он тогда, в тридцатых - что же, Люфтваффе победить должна? И где бы
тогда люди Берии чертежи платформинга крали? Ну, давайте по порядку.
Только вот что, хоть я эти статеечки читал, а вспоминать их мне
совершенно не хочется. Кому так надо - набирает его имя на поисковой
машине - и вперед! Исключение - статьи одного лично мне незнакомого
журналиста из нашего же Чикаго. То ли влияет место написания, близкое
к двадцатилетнему месту проживания В.Н. - но для нехимика очень
прилично написано. Мне-то вспоминается эта история в том
апокрифическом виде, в котором я ее знаю с юности и вместе со мной
многие другие не безразличные к истории нашей специальности люди.
Сейчас об Ипатьеве любимая тема - почему ему не дали Нобелевскую
премию по химии? Вообще-то, это и его самого волновало. Я думаю, всякого бы. Он еще за три года до того, как Бергиусу дали, говорил в
" Патенты Бергиуса (1911 г.) всецело основаны на моих работах, сделанн
ых еще в 1903-1904 гг., и мой метод, разработанный для различных хими
ческих соединений, был целиком применен для гидрогенизации смол и угле
й ". Французы, конечно, в экстазе, вручают медаль Бертло, тем более, 91
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
Нобеля мимо Ипатьева уже один раз проносили, в тот раз в пользу как
раз француза Сабатье. Но через три года премию за созданную русским
химию высоких давлений получают упомянутые ранее немцы Бергиус и
Бош из ИГ Фарбениндустри.
А вот подумайте сами. В Королевском институте в Стокгольме тоже ведь
люди заседают. Кто такой Ипатьев в 1931 году? Не поймешь кто.
Царский генерал-лейтенант, организатор обеспечения Российской армии
в время мировой и Красной во время Гражданской войн, главный
помощник Троцкого по Химическому Комитету, член правительства
Ленина, полубелый полуэмигрант в Чикаго (а вскоре и полный
эмигрант). Да еще, на личное счастье Владимира Николаевича, у его
брата, горного инженера Николая Николаевича был в Екатеринбурге
дом. И вот в подвале этого конфискованного Советской Властью дома
была убита семья Романовых. То есть, все понимают, что за величина, но
дать ему премию - значит, что тебя будут сжирать газеты всех
направлений. А тут все прилично, благоразумно. И работа, действительно, хорошая, хоть для ипатьевских это - частный случай. И
страна, Германия, такая приличная, законопослушная, без убийств и
концлагерей.
Так что опять пролетела мимо Владимира Николаевича высшая для
химика награда. Но ведь и Дмитрий Иванович Менделеев тоже без нее
обошелся, а уж он-то ... .
Тем более, в это время мысли Ипатьева в основном на тему
"Возвращаться или не возвращаться?" По апокрифу, академик Ипатьев во
время европейской командировки заходит в советское торгпредство в
Лондоне, отдает список подобранных им для Государственного
Института Высоких Давлений приборов и просит передать этот список в
Наркомат Внешней торговли, а комсомолец-чиновник торгпредства орет
на него, что-де:
" Вас тут, академиков, много ходит, а
у нас плановое хозяйство, заявки подают за год!
Мы народные деньги
бережем!" - На что тот пожимает плечами и говорит:
" Ну хорошо, меня Рокфеллер давно главным химиком зовет, у него, думаю, деньги на приборы найдутся ".
На самом деле не совсем так. В Штаты В.Н. попал как раз в 1930 году, но
горшки с Советской Властью он поначалу, как будто, не бил.
До тридцать шестого на зарубежную жизнь академика Соввласть
смотрела сквозь пальцы. Работает же в Кембридже молодой Капица -
почему бы старику Ипатьеву в Чикаго не жить? Тем более, за годы его
руководства ГИВДом там такой задел идей и исследователей
образовался, что химическому наркомату на тридцать лет вперед
спокойно спать не дадут. Но в 36-м малина кончилась. Капицу отозвали -
и до сих пор непонятно, почему же его не удавили, были ведь поводы?
В гостях у тетушки Клио
Ипатьев вернуться отказался. Ну, тут полный ритуал. АН ССР с позором
из рядов исключает, ВЦИК совгражданства лишает, собственный сын, Владимир Владимирович, в газете отрекается. Но, правда, многие
считали в душе, что отец и сын это заранее согласовали, чтобы В.В.
директором ГИВДа оставили, а не прислали какого-нибудь химического
Тем временем, кто смог, из больного тридцать седьмым годом Союза
перебрался за океан. Ну, взять, известный профессор Саханов, автор
главного учебника по химии нефти. Оказалось - Саханен, финн он, оказывается, пришлось выпустить. В Хельсинки ему, конечно, делать
нечего. Выплыл в Дэс Плэйнсе, Иллиной. Еще другие из советского рая.
Кое-кто из давних эмигрантов, мыкавших горе в Париже, Праге или
Харбине, тоже - к Ипатьеву под крыло. Так что собралась в UOP
уникальная команда химиков. Новички подходящие пришли. Есть такая
байка, что Ипатьев открывает совещание, оглядывает свои кадры и
говорит: "Ну всё! Теперь у большевиков остался только Зелинский. Так
им и надо!" Рокфеллер денег на работу не жалел - и список сделанных в
те годы процессов занял бы не одну страницу. В том числе, технология
синтеза кумола на твердом фосфорнокислом катализаторе. Та самая.
Вот - Нобелевская премия, Нобелевская премия! Да не в ней сила. Сила, как один тут говорил, в правде. А правда в том, что английские самолеты
с ипатьевским кумолом в баках победили нацистскую авиацию, в баках
которой - бергиусовский гидрогенизат. Спасли Британию. И - вместе с
Родиной профессора Ипатьева и страной, где он работал во время войны, спасли мир.
Прошли под музыку заключительные титры, публика пошла из зала.
Вышли и мы. Настала моя очередь задать вопрос внучке: "Я вот не
понял, кэптена Хука ведь в прошлой серии крокодил слопал? А тут он
опять живой и на свободе, и опять его осьминог съедает. Как же это?" - "
Ну, дед, как ты не понимаешь?! Кэптен Хук же это - э-вил. Сказочное зло.
Его всегда побеждают, и он всегда снова возвращается. Понял?" - Да, пожалуй, что это так. И не только в сказке.
СТАРАЯ ИСТОРИЯ ИЗ ФАШИСТСКОЙ ЖИЗНИ
Нынче все полюбили произносить слово "фашизм". Коли кто с тобой в
чем не согласен — значит фашист. Мне, однако ж, кажется, что фашисты
— это те, кто носит черные рубашки, поет "Джовинеццу" и проживал или
проживает в Италии. В Германии же - нацисты, во Франции ... к примеру, дарнановцы, в Венгрии - салашисты, в России ... ну, посмотрим, пока еще
не до конца определилось.
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
Так попробуем, взглянем: как оно у тех, итальянских было на самом
деле? Я не профессиональный историк, ну, так дело было не так давно, раскопки проводить не надо, материалов в близком доступе море. Тут и
Вики часто достаточно, на самом деле.
Италия вышла из Первой Мировой войны не с таким большим хабаром, как надеялась, влезая туда. Но, правда, и больших ратных подвигов она
там не совершила. Не русским, конечно, упрекать страну, которая все же
перед странами австро-германской коалиции на коленки не упала, позорного мира не подписала, додержалась до конца. Но таких, упавших
и подписавших и было всего двое: Совнарком в Бресте и румынское
королевское правительство в Бухаресте.
Но вот посмотрите, румыны тоже воевали очень плохо, даже еще хуже, а
по итогам войны ихняя территория и население увеличились ровно
вдвое. Сербский король стал владыкой большой страны от Каринтийских
Альп до Родоп. А Италия всего-то и получила, что Триенте и Триест.
Даже Корфу и Фиуме ей не дали. Естественно, что король и династия
чувствовали себя ущемленными, обижены были и миланские и
туринские миллионеры, настроившиеся на расширение своих империй за
Адриатику. И, что необъяснимо, но вполне понятно, большинство
прочих итальянцев, от тосканских лавочников до неаполитанских
лаццарони, которые всяко ничего бы не получили от покорения
Далмации и Эпира, тоже были недовольны. Собственно, это ведь и
называют часто патриотизмом.
А тут еще после войны социалистические пролетарии, зараженные
московским примером, стали поднимать красные флаги над
захваченными фабриками. Это еще тогда, когда до Красной Венгрии, а
тем более до Красной России многие сотни километров. А ну как кони
Буденного пройдут это расстояние? Что тогда?
Вот тут и рождается фашизм. Из тех самых бывших итальянских
солдатиков, которые, конечно, от австрийской артиллерии бежали, подобно своим прадедам в 1848-м, бежавшим от Радецкого. Но сами-то
себя считали, разумеется, героями-фронтовиками, у которых "украли
победу". По первому времени вождь у них определился, а с идеологией
вышла некоторая заминка.
В вождях оказался Бенито Муссолини, тридцатишестилетний говорун и
забияка с бычьей шеей, отчасти по понятной женской слабости
Анжелики Балабановой сделавший хорошую карьеру в
Социалистической партии и оказавшийся под конец главным редактором
"Аванти". Из этого кресла и вообще из партии он вылетел, выступая за
участие Италии в войне. Ну, вот он и решил создать новый бренд
"фашизм" и новую фирму из упомянутых демобилизованных воинов.
Сначала они, как будто, собирались попастись на левом участке луга.
Заключили соглашение с Соцпартией как бы "о ненападении". Но потом
Муссолини и прочие вожди поняли, что есть более перспективнoe поле.
В гостях у тетушки Клио
Они практически полностью приняли идеологию суперагрессивной
внешней политики и жесткой внутренней, слизав это все у давно
существовавшей Националистической партии. И - дело пошло.
А что ж оно не пошло у тех же националистов? Методы другие.
Фашисты хорошо усвоили у социалистов-коммунистов новые методы
агитации, пропаганды и при случае силового давления вплоть до
создания партийных вооруженных отрядов. Их "сквадра" по стечению
обстоятельств имела все, что нужно для таких отрядов: кадры из
демобилизованных, но не навоевавшихся всласть солдат, деньги от
напуганных пролетарским занятием заводов буржуазии и
землевладельцев и только что появившееся средство транспорта для
срочной переброски боевой силы - грузовики. Все это, конечно, не умели
старые партии из XIX века.
Но вот Муссолини пришел к власти. Вожди социалистов, коммунистов и
старых либеральных партий частью в Париже, частью насильно
накормлены касторкой и теперь боятся выйти на улицу. Последний
всплеск против фашизма был после убийства Маттеотти, когда пришлось
даже посадить ненадолго кое-кого из рядовых исполнителей, но и он
затих. Муссолини активно строит свою "фашистскую и пролетарскую
Италию". В это время он в большой моде в Европе. Кто только его не
хвалит от Мережковского до Черчилля, от Ганди до Бернарда Шоу и
Зигмунта Фрейда.
Самое большое впечатление на иностранцев производило то, что " В
Италии! Поезда! Стали ходить по расписанию!!! " Известное всем
итальянское разгильдяйство делало это, действительно, большим
достижением. Я и сам хорошо помню, как сидел году в 95-м ночью на
скамейке станции Пиза в ожидании, когда закончится очередная
железнодорожная забастовка и появится, наконец, мой поезд до Турина.
Профсоюзы с ихними забастовками дуче заменил отраслевыми
корпорациями, в которых состояли и хозяева, и рабочие. Большое
впечатление на всех производили работы по осушению болот, замене их
пшеничными полями и сооружению новых агрогородов. Надо сказать, что дуче охотно принимал участие в уборке урожая и фотографировался
там, демонстрируя миру свой обнаженный торс.
Разумеется, как всякий приличный диктатор ХХ века, дуче очень
покровительствовал спорту. Строились стадионы, которых до фашизма
не бывало, тратились деньги, проводились местные и национальные
соревнования, посылались команды на Олимпиады, в 1934-м в Италии
был проведен чемпионат мира по футболу и "Скуадра Адзурра" стали
чемпионами. Страна явно выходила на ведущие мировые позиции по
Конечно, доверить никакого дело никому было невозможно. Временами
Вождю приходилось кроме поста премьер-министра занимать еще семь
министерских должностей. Иностранные дела, внутренние дела, 95
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
военные, корпорации, колонии, общественные работы и - на сладкое -
министерство авиации. Ни на кого ж нельзя надеяться! Хотя авиация и
вправду была его любимым ребенком. Он и сам сдал на пилотскую
лицензию и водил иногда аэроплан, действительно водил, а не только
фотографировался у штурвала, и щедро поощрял авиаконструкторов и
пилотов. Впервые итальянские имена оказались в таблице авиарекордов.
Ну, и про знаменитого строителя и водителя дирижаблей Умберто
Нобиле тоже все знают.
Среди прочего, Муссолини разрешил восьмидесятилетний конфликт
между итальянским государством и папой, выделил главе католиков
сорок четыре гектара и возможность любоваться парадами собственной
швейцарской гвардии. Смех-смехом, но ведь этот конфликт серьезно
подрывал устойчивость Савойской династии.
Кровью и пытками фашизм задавил сицилийскую мафию. По
воспоминаниям, в ту пору люди на острове ложились спать, не запирая
входных дверей. Потому, что от муссолиниевской охранки ОВРА двери
все равно не защищали, а больше тогда бояться было некого.
В общем, народ был доволен. То есть, конечно, недовольные были, но
большей частью в эмиграции, а тех, кто внутри границ, помянутая
охранка и послушный суд отправляли на острова в ссылку. Но
Освенцимом или хоть Дахау там не пахло. По воспоминаниям
побывавших несколько напоминало царскую ссылку в места "не столь
отдаленные" в спокойное время с поправкой на отличие
средиземноморского климата от сибирского.
Разумеется, Италии, как и других стран коснулась мировая депрессия 30-
х. Но и с ней более менее справлялись. Не хуже, чем другие, во всяком
случае. Дуче говорил в середине 30-х, что три четверти национальной
промышленности находятся под государственным контролем, его
контролем. В любом случае капиталисты возносили молитвы за дуче, избавившего их как от призрака большевистской национализации, так и
от постоянных забастовок. Ну, а пролетарии помнили, что он установил в
стране 8-часовый рабочий день, пособия по болезни и безработице и что
на совсем уж наглый произвол хозяев всегда можно пожаловаться
местному фашистскому секретарю.
Мне думается, что более эффективного установителя "социального
баланса" между трудом и капиталом мир не видел со времен императора
Наполеона III. Этот режим мог бы существовать вечно, одурманивая
публику патриотической пропагандой и совсем не опасаясь недовольства
кучки интеллигентов.
Погиб он, как и обычно гибнут такие режимы, именно от своей
пропаганды. Нельзя же все время рассказывать нации, какая он великая
на фоне окружающих недолюдей, какая у нее древняя культура супротив
дикарей в других странах, какие против нее плетут коварные замыслы, 96
В гостях у тетушки Клио
какая она обиженная французским и югославским империализмами - и
никогда не пойти ни на кого войной. Когда-то надо демонстрировать
свою агрессивность и боевую мощь практически. В первый раз
фашистская Италия сделала это, захватив на месяц греческий остров
Корфу в 23-м. Но тогда все было заранее согласовано с англичанами и
итальянцы удалились, сорвав с Греции откуп за убийство на ее
территории своих офицеров.
Конечно, газеты и радио фашистов при любом удобном случае трубили, что: "Ницца наша, Савойя наша и Тунис тоже наш", но никто на это
особого внимания не обращал, а никаких реальных дерзостей Италия
себе не позволяла. Конечно, Франция, победитель рейхсвера в 18-м, была
ей сильно не по зубам. Значит - западное направление отпадает.
Вторым аппетитным направлением был другой берег Адриатики, тема о
"итальянской Далмации" и "югославском империализме", но и тут
полной уверенности, что сдачи не дадут, не было и решили пока не
рисковать. Так что и о востоке пока разговора нет.
Как ни странно кажется после Второй Мировой, но существовала одно
время, пусть более в фантазиях, возможность батальных приключений
итальянской армии в северном направлении. Как мы помним, у
Муссолини много нашлось подражателей в Европе от британских
мослистов до румынских железногвардейцев. Идея избавиться от
коммунистической опасности принаняв и вооружив молодых, активных и
патриотически настроенных люмпенов, не более, чем большевики, уважающих закон, была достаточно интересной. Все эти локальные
вожди чередой потянулись в Рим, как локальные коммунистические
предводители в Москву. За указаниями, советами, оружием и деньгами.
Денег на разжигание мирового пожара в Риме, в отличие от Москвы, жалели, но советы и благосклонные пожелания давали охотно.
Единственный, к кому там относились с большим подозрением, был
фюрер германских национал-социалистов. Ну, итальянский национализм
со времен Кола ди Риенци и до Гарибальди всегда был направлен, в
основном, против немцев. Так что любовь Гитлера к Муссолини была не
взаимной. Когда уже нацисты пришли к власти, в сентябре 1934-го дуче в
своей речи в Бари разъяснил: " Тридцать столетий существования
позволяют итальянцам взирать с жалостью на некоторые доктрины, проповедуемые по ту сторону Альп теми, кто были дикарями, когда мы
имели Цезаря, Вергилия и Августа".
Летом 34-го в Австрии правил католик канцлер Дольфус, успешно
победивший в феврале социалистов-шуцбундовцев и причесывавший
страну на итальянско-фашистский образец. Против него кроме
побежденных социал-демократов были и австрийские нацисты - местный
филиал германской правящей партии. В один прекрасный июльский день
они пришли, переодетые в австрийскую военную форму, в федеральную
канцелярию, всадили пулю в горло Дольфуса и оставили его истекать
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
кровью. Власть им захватить, однако, не удалось. Заместитель покойного
канцлера фон Шушнинг собрал верные войска и задавил путчистов.
Ну, а партгеноссе по ту сторону германской границы сидели смирно и
помочь не попытались. Муссолини, у которого с Австрией был договор о
союзе и покровительстве, послал четыре дивизии на перевал Бреннер и
объявил, что готов идти на Мюнхен. Вермахт еще только-только
вылуплялся из яйца и Гитлеру пришлось поджать хвост. Война на севере
тоже вышла из повестки дня.
Но нельзя же было быть совсем без войны? Дуче так много говорил о
возрождении под его руководством Римской империи, а там ведь
полагалось, что для получения триумфа императору обязательно нужно
покорить какую-нибудь страну - если не Галлию, так хоть Дакию. В
поисках повода для триумфа фашистская Италия устремилась на юг.
Там, за Суэцем между двумя итальянскими колониями Эритреей и
Сомали жила в горах последняя независимая африканская монархия -
Эфиопская империя императора Хайле Селассие. Да еще у итальянцев
оставалась обидная память о том, как они уже один раз пытались в конце
XIX века завоевать Эфиопию, были побиты в битве при Адуа, подписали
мир и заплатили контрибуцию.
При всем при том серьезного сопротивления от эфиопов, вооруженных в
век авиации и танков копьями и кремневыми ружьями, можно было не
ожидать. Минусом, и на мой взгляд очень заметным, было то, что искать
в эфиопских горах было нечего. Эта страна, как показала ее дальнейшая
история, никому ни для чего не нужна. Даже и самим эфиопам. Ни
нефти, ни других полезных ископаемых, ни особо плодородных земель
для европейских колонистов, ни приличных городов. Горы, отвратительные дороги, кустарники, нищие деревни и изобилие
разбойников. Время от времени засуха и миллионы жертв от голодовки.
Понимал ли это Муссолини? Думаю, что понимал. Он и вообще не был
дураком, да еще в пору своей социалистической деятельности прочитал
немало умных книг. Так зачем же он полез в эту безнадежную дыру? Ну, я же говорил о том, что триумф без завоеваний не бывает. А без триумфа
ему было нельзя. Он, как уже сказано, был весьма популярным лидером.
Но я бы еще сказал, что и популистским в словарном значении этого
термина - "политическая позиция, апеллирующая к широким народным
массам". Для этого, для популярности среди массы громкие выступления
с уверениями итальянцев, что они - те самые знаменитые римляне, создатели Империи. Для этого фото Вождя с обнаженным торсом и
лопатой в руках. Для этого полеты за штурвалом биплана. Для этого
демонстративные романы с поклонницами - Вождь должен быть
сексуальным гигантом. И наконец, хочешь или не хочешь, надо было
продемонстрировать толпе посланные Вождем танки, входящие в чужие
города, и итальянский флаг на новых рубежах. Ну, а что новая эфиопская
В гостях у тетушки Клио
колония Италии совсем не нужна - это слишком сложные материи для
лавочников или лаццарони.
Вождь сказал - вождь сделал. Осенью 1935 года итальянские войска (7
тысяч офицеров, 200 тысяч рядовых, 6 тысяч пулеметов, 700 орудий, 150
танков и 150 самолетов) начали наступление. У эфиопов на тот момент
было 3 исправных самолета, 5 танкеток и 200 старых пушек. Эфиопский
император Хайле Селассие, по титулу " Лев-Завоеватель из Колена
Иудова", начал, конечно, жаловаться в Лиге Наций и вообще, где только
мог. Но безрезультатно. Соединенные Штаты, Британия и Франция
объявили эмбарго на поставки оружия обеим сторонам. Это значило, что
указанное соотношение вооруженности должно остаться тем же до конца
войны. Кое-какие санкции все же ввели. Запрещена была поставка в
Италию оружия, каучука, свинца, олова, хрома, алюминия, железного
лома, рекомендовано ограничить импорт итальянских товаров и не
предоставлять Италии кредитов и займов. Запрет на поставку нефти и
нефтепродуктов обсуждали, но не ввели. Суэцкий канал для итальянских
кораблей не закрыли. Но даже и к таким слабеньким санкциям не
присоединились ни США, ни Германия.
Эфиопы подергались, посопротивлялись сколько могли, но то, что
противник применил боевые газы, их доконало. Ихние воины просто не
понимали - что с ними происходит. 2-го мая 1936 года Хайле Селассие
покинул страну и уехал сначала в Женеву, укорять Лигу Наций за
бездействие, а потом на постоянную эмиграцию в Англию. 5-го мая
итальянские войска под звуки гимна и фашистских патриотических песен
вошли в Аддис-Абебу. Муссолини мог торжествовать свой триумф.
Итальянский король был объявлен императором Эфиопии, а страна
вместе с Эритреей и Сомали была переименована в Итальянскую
Восточную Африку. Далось это ценой не очень больших потерь - всего
примерно шесть тысяч итальянских солдат. Конечно, эфиопов и
итальянских помощников из Эритреи и Сомали погибло гораздо больше -
но кто их считал? Восторг был неописуемый, в нем слился весь
итальянский народ за вычетом ничтожной кучки отщепенцев, пророчивших беду.
Надо отметить, однако, полными хозяевами Эфиопии итальянцы так и не
стали. После завоевания они пять лет имели дело с партизанской войной, держали в стране больше ста тысяч солдат, танки, пушки, самолеты. А в
1941-м в страну пришли англичане, которым, конечно, помогали
эфиопские партизаны, быстро расколотили воинов дуче и вернули на
трон Хайле Селассие.
Надо, по правде, добавить еще вот что. Хоть санкции и были до
смешного умеренными, они ударили по экономике фашистской Италии.
Италия все же не Германия. Если той во II Мировой войне не хватало
нефти, которую не могли заменить до конца заводы искусственного
бензина и дизтоплива, то итальянцам не хватало всего. Ни по одному
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
важнейшему для войны компоненту, от стали до пшеницы страна не
могла обеспечить себя полностью. Уже ублюдочные санкции 1935 года
оказались тяжелым испытанием. Я в свое время с большим интересом
читал воспоминания Джорджо Амендолы, коммунистического лидера, который во время эфиопской войны как раз был в фашистской ссылке на
островах Тирренского моря. Он пишет, что стоимость жизни сильно
возросла, а уровень ее упал за восемь месяцев действия санкций. Видимо, фашистское процветание стояло все-таки на достаточно зыбкой основе.
Ну, с чем сравнивать, конечно. Помните "Подсолнухи" Де Сика? Тот
эпизод, где уходящий на фронт новобрачный Марчелло Мастроянни
съедает яичницу-болтушку из двух дюжин яиц. Показать в кино
симметричный эпизод с уходящим на войну юным красноармейцем и
яичницей таких размеров не решился бы даже Пырьев.
Особого повышения боевых качеств итальянской армии тоже не было
заметно. Ну, мы-то можем это сказать уверенно после Второй Мировой
войны, но и тогда победа итальянцев над феодальными племенами со
старыми ружьями никого на свете особенно не впечатлила. В том же году
началась Гражданская война в Испании, где на стороне Франко воевали
не только итальянские пилоты, но и направленные дуче сухопутные
войска. После того, как они встретились под Гвадалахарой с
Интербригадами стало ясно, что это воинство умеет бегать и сдаваться не
хуже своих прадедов под Кустоццей и своих отцов у Капоретто.
Роли в альянсе Гитлер-Муссолини поменялись. Формально
Антикоминтерновский пакт 1936 года и Стальной пакт 1939 года - это
договоры равноправных союзников, в которых Италия ничуть не хуже и
не слабее III Рейха. На самом деле, Италия становилсь гитлеровской
пристяжной, несколько важнее Словакии или Румынии, но все же
неравной. Переход в младшие партнеры сказался и на внутренней
политике. Исходно фашизм не был антисемитским, в стране и после
прихода Муссолини к власти оставались евреи-адмиралы и генералы, высшие чиновники и профессора. Ну, что говорить, если подругой
главного фашистского интеллектуала Габриеле Д’Аннунцио была Ида
Рубинштейн, а многолетней подругой и отчасти руководительницей
самого дуче - тоже еврейка Маргерита Сарфатти.
Но - "Чей хлеб жрешь, того и песню поешь". С переходом в подручные
нацистской Германии пришлось Италии усовершенствовать свою
политику и законы, записать евреев во "враги нации", чистить ряды
фашистской партии и госслужащих, а иудейскую любовницу вождя
срочно отослать в Южную Америку. Хотя до германского безумия
трезвомыслящие итальянцы все же не доходили.
Что дальше? Дальше оккупация Албании - с Эфиопией сошло, отчего бы
не продолжить? Участие на стороне фюрера в мировой войне, где опять
итальянская армия не достигла особенно хороших результатов. Это в
очередной раз подтверждает, что истерическая любовь народа к своему
В гостях у тетушки Клио
вождю действовала, пока не потребовала реальных усилий и страданий.
Комментарий БиБиСи: " при занятии острова Пантеллерия пострадал
только один солдат, да и то от укуса мула". Высадка англо-
американцев в Италии, свержение Дуче всегда послушным Большим
Фашистским Советом, его арест, перемирие и переход Италии на
антигитлеровскую сторону. Тибр, в одно прекрасное утро вдруг
почерневший от выброшенных партийных рубашек.
Потом было фантастическое освобождение Муссолини десантниками
Отто Скорцени, руководство кровавой порнушкой Итальянской
Социальной республики в Сало, расстрел партизанами и трупы дуче и
его последней подруги Клары, висящие вниз головой на бензоколонке в
Милане. На самом деле, это все уже была загробная деятельность, жизнь
его окончилась 24 июля 1943-го, когда раболепный Большой
Фашистский Совет вдруг взбунтовался. И нет ни малейшего сомнения, что на этот путь он вступил 3 октября 1935 года, когда, не тратя времени
на объявление войны, послал свои дивизии на Эфиопию. Конечно, плохо
стало не одному Дуче. Тот самый рядовой неаполитанец или римлянин, который торжествовал, пел "Джовинеццу" и кричал "Браво!" танкам, входящим в Аддис-Абебу, тот, ради чьих аплодисментов была разыграна
кровавая трагикомедия на Абиссинском нагорье, девять лет спустя мог
только проклинать фашистов и мечтать о продаже своей сестры
американскому или бразильскому солдату на пару часов.
Старая формула, что "Мельницы Божьи мелют медленно, но верно", может быть и приелась. Но она верна.
СЛУЧАЙ БЕССАРАБИИ
Ну, нынче все поминают Судеты, Австрию и присоединение ГДР к ФРГ.
На самом деле, есть, как мне кажется, очень близкий аналог из советской
истории. Это - Бессарабия, точнее, история 22-летней румынской
оккупации этого края, так и не признанной Москвой и в июне 40-го года
закончившейся тихим и беспрекословным уходом королевских армии и
полиции назад за Прут.
Исторически это земля последние лет шестьсот-семьсот, скажем честно, по большей части румынская. Ну, точней, молдавская, потому что страна
Румыния существует всего полтора века, а до того были Валашское и
Молдавское княжества плюс бесправное румынское население
Трансильвании. Молдавия и Валахия были зависимы от султана в
Царьграде, платили дань, давали вспомогательные войска, утверждали у
султана своих господарей. А самую южную часть междуречья Прута и
Днестра турки вообще отняли у молдаван и поселили там ногайцев, ушедших с Кавказа под давлением русских и переселившихся туда из
Китая калмыков. Так что Молдавия теряла земли, потому, что Турция
была непомерно сильна.
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
Но потом время турецкой силы кончилось, османы стали уступать
Австрийской и новорожденной Российской империям в войнах, которые
велись как раз на молдавских, валашских и болгарских землях. И теперь
Молдавия стала терять свои уезды, потому, что Турция была слаба, проигрывала войны, а расплачивалась кусками молдавской территории.
В 1775-м году Буковина попала в руки Марии-Терезии Австрийской, а в
1812-м, как раз за месяц до Наполеонова нашествия на Россию, турки по
Бухарестскому миру отдали царю Александру земли между Днестром и
Прутом, ту самую Бессарабию. Молдаван, разумеется, тут никто и не
спрашивал.
На юге Бессарабии, в Буджаке никакого местного населения, по
существу, и не было. В городках Измаиле, Аккермане, Килии жили
турки, больше военные и околовоенные, а в степи кочевали ногайцы. И
те, и другие с приходом русской армии быстро убрались за Дунай, во
владения султана. На их место под российскую власть переселялись
русские, малоросы-украинцы, немецкие колонисты, гагаузы и болгары, бежавшие из османских владений, отчасти и молдаване. Земля
плодородная, климат теплый, хоть и несколько засушливый. Снимали
там хорошие урожаи яровой пшеницы и винограда. Люди моего
поколения еще помнят дешевое и крепкое, хоть и без больших претензий,
"Буджакское" вино.
Что же до той части новой губернии, которая была отрезана от
Молдавского княжества вместе с главным бессарабским городом
Кишиневом, то там после Бухарестского мира поменялось не так много.
Молдавских "бояр" официально признали русскими дворянами, мужики
же остались попрежнему свободными, но с земельной недохваткой -
состояние, до которого в самой России им еще нужно было бы ждать до
Манифеста 17 февраля. Крепостное право в княжествах было - но не для
молдаван и валахов, а для свободолюбивых цыган. Они - все до одного -
были боярскими крепостными, одни служили хозяевам, как дворовые, другие кочевали в таборах, но не забывали своих хозяев и платили им из
своей цыганской добычи оброк.
Но это, конечно, так говорится - " признали русскими дворянами". Сами-
то российские дворяне своих новых собратьев за равных считали не
очень. Вспомните милые рассказы о развлечениях юного Александра
Пушкина, сосланного в Кишинев, его проделки над молдавскими
боярами. Конечно, смешно - длинные бороды, долгополая и
долгорукавная одежда, наподобие русской боярской одежды
допетровских времен, очень слабое представление о европейских или
хоть европеизированных нормах жизни, круто вбитых в русское
дворянство за столетие развития после Петра Великого. Насмешка тут, собственно, была не над чужой расой и языком, а именно над стариной, над традициями.
В гостях у тетушки Клио
Рассказчики, будь то современники или пишущие об основателе русской
литературы потомки всегда тут на стороне поэта. А коли посмотреть с
другой стороны - то и картина получится другая. Юный шалопай после
окончания элитарной школы набаловался в столице, его отправили в
инонациональный уголок империи и он там вволю потешается, часто
оскорбительно, над представителями местной аристократии. Симпатии у
тех, над кем шутят, это, наверное, не вызовет.
Но, однако, никаких антиимперских боярских заговоров в Кишиневе не
появилось, в отличие, скажем, от Грузии. Вообще никаких особых
событий в этом имперском захолустье не происходило. Ну, разве что по
итогам Крымской войны полосу, отделяющую Бессарабию от Дуная, отдали Молдавскому княжеству, а дельту Дуная - Турции. Судя по этому
можно так понять, что популярная нынче среди московских интернет-
патриотов идея о том, что Крымскую войну выиграла Россия, показалась
бы несколько странной участникам Парижской мирной конференции. Но
через пару десятилетий русские воевали с турками снова, на этот раз -
без особого участия европейцев. Получившаяся при объединении
Молдовы и Валахии Румыния воевала на русской стороне. По итогам
румыны отдали эту южнобессарабскую полосу земли назад русским, а от
турок получили взамен Устье Дуная и Добруджу. Больше, кажется, никаких особых происшествий, кроме действительно масштабного
Кишиневского еврейского погрома в 1903 году, тут не наблюдается до
Первой русской революции. В Пятом году обнаружилось, что в губернии
есть свой местный Робин Гуд, совмещающий привычки крупного
бандита с некоторым социалистическим уклоном, по имени Григорий
Котовский.
Но вот пришла Мировая война. Шла долгая румынская торговля с
обеими коалициями. Центральные державы предлагали Бухаресту
русскую Бессарабию, а Антанта, соответственно, австро-венгерскую
Трансильванию. В конце концов, было решено, что у Антанты козыри
выше и румынские Гогенцоллерны вступили в войну на стороне
Романовых и Виндзоров против германских Гогенцоллернов и
Габсбургов. Обида в Берлине была так велика, что было созвано общее
фамильное собрание всех Гогенцоллернов и румынский король
Фердинанд был торжественно исключен из семейства. Особых лавров
румынскому оружию эта война не принесла. Начавши войну в августе
1916-го, румыны к Рождеству потеряли треть своей армии пленными и
почти всю свою страну, отступив почти к российской границе. Русский
союзник сначала помогать не торопился, но когда дело дошло до того, что немцы, австрийцы и болгары оказались в трех переходах от
Кишинева и в пяти от Одессы, послали на Румынский фронт почти
четверть своей армии. Особых успехов, правда, не было и у нее. Очень
уж быстро разлагались русские войска, особенно начиная с марта 1917-
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
Официально командующим Румфронтом числился король Фердинанд, но
по факту это был русский генерал Щербачев. К июню 17-го во главе
российской армии и государства оказался новый крупный стратег -
Александр Федорович Керенский. Он дал приказ наступать в Румынии.
Были там сражения в местностях с почти непроизносимыми для русского
человека названиями Мэрэшти и Мэрэшешти, кончилось, практически, ничем, только зря людей поубивали.
Румынские солдаты, да и офицеры, правду сказать, во всех военных
конфликтах всегда обнаруживали гораздо больше желания остаться в
живых, чем хотелось бы ихнему начальству. А тут и русские солдаты
стали явно предпочитать из всех видов военных действий братание с
противником. В общем, понятно, что о Трансильвании в Яссах, ставших
теперь временной столицей Румынского королевства, пришлось пока
забыть. Но зато появилась надежда прибрать Бессарабию.
Вот в этих обстоятельствах русско-румынские отношения стали быстро
портиться. Уже в декабре 17-го румынские войска появились на
российской стороне Прута, ссылаясь на необходимость защиты тыловых
складов и коммуникаций и на договоренность с тем самым Щербачевым.
Из Петрограда немедленно Наркоминдел грозно потребовал прекратить.
Но румыны тут же объяснили, что делается это чисто временно и для
сохранности ихнего военного имущества. А как только - так сразу. В
Бессарабии и на Румфронте, действительно, была тогда полная анархия и
Совнарком вынужден был обещаниям поверить. Тем временем, румынская вольность в обращении с формально все еще союзной
державой продолжала увеличиваться. 31 декабря по старому стилю в
Питер пришла телеграмма от том, что 194-й Троицко-Сергиевский полк
был окружён румынами, разоружён и отведён в тыл и что румынские
власти арестовали комитет 195-го полка.
Без сомнения, это было хамством просто непредставимым в отношениях
между державами, числящимися в союзниках, но, конечно, союз этот
был уже к тому моменту совершенно испарившимся. Однако, румынское
хамство наехало в данном случае никак не на девочку-гимназистку.
Совнарком в ответ попросту арестовал румынского посланника
Диаманди и весь состав посольства и румынской военной миссии. В
объяснение было напечатано: "Обычные дипломатические формальности
должно было принести в жертву интересам трудящихся классов обеих
Этот пролетарский размах произвел большое впечатление на дипкорпус
Петрограда. Во всяком случае, все до одного послы и посланники на
следующий день появились в кабинете Ленина с протестом. Ильич, коли
верить воспоминаниям, очень развеселился, увидав этот набор визиток, фраков и мундиров. Впрочем, уступил. Обещал отпустить румын под
встречное обещание американского посла сразу после освобождения
выразить румынскому королю протест против задержки русских солдат.
В гостях у тетушки Клио
Этот эпизод, в общем-то, разрешился, но отношения между Совнаркомом
и ясским правительством не наладились. Дело в том, что в Кишиневе, как
на других национальных окраинах, после Февраля завелся свой
молдавский как бы национальный центр под названием Сфатул Церий. В
советской литературе по теме делался большой упор на то, что никаких
особых выборов тут не было - просто завелись сами, как и Рада в Киеве, либо Временный Национальный Совет мусульман Закавказья в Тифлисе.
Но нужно честно сказать, что и сам совнарком в Петрограде, как будто, никто особенно не выбирал. У всех была примерно одинаковая
легитимность, по позднейшей формуле Председателя Мао "Винтовка
рождает власть".
Вот этот самый Сфатул Церий после октябрьского переворота в Питере
провозгласил Молдавскую Демократическую Республику в составе
России, а 23 января 18-го и вовсе объявил независимость. Общий язык с
румынами они нашли быстро, тем более что никто, кроме специально
обученных советских ученых, никогда никакой разницы между
румынским и молдавским языками обнаружить не мог. Попавшие по
недосмотру в состав Сфатул Церия нелюбители румынской королевской
власти невдолге были пристрелены или приколоты штыками румынских
жандармов и к марту такой очищенный совет принял решение о
самороспуске и вхождении Бессарабии в состав Королевства Румынии.
Но еще задолго до этого Совнарком в ответ на продолжающиеся
переходы румынских войск через госграницу постановил 26 января 1918
г. по новому стилю:
"1. Все дипломатические сношения с Румынией прерываются.
Румынское посольство и все вообще агенты румынской власти
высылаются за границу кратчайшим путём.
2. Хранящийся в Москве золотой фонд Румынии объявляется
неприкосновенным для румынской олигархии. Советская власть берёт
на себя ответственность за сохранность этого фонда и передаст его в
руки румынского народа".
Начались военные действия. Румын побили и они с горя начали мирные
переговоры. Закончились они 5 марта подписанием договора в Яссах.
Румыния обязалась очистить Бессарабию в течение двух месяцев и не
предпринимать никаких военных или других действий, ни сама, ни с
какой-либо державой, против Советской России. Со своей стороны
представители Ленина обещали предоставить Румынии излишек хлеба в
Бессарабии.
Но реализации этого договора помешали окружающие обстоятельства.
Это легко сказать - " 5 марта 1918 года". А если вспомнить, что перед
этим - 23 февраля того же года, День Рождения Красной Армии, отпор
немецким захватчикам под Псковом и Нарвой, а по правде сказать, день, когда немцы попрежнему, почти не встречая сопротивления со стороны
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
разложившейся российской армии и слабеньких красногвардейских
отрядов, продолжали двигаться вперед. 25 февраля пал Псков, 3 марта
Нарва и не видно было никаких возможностей не пустить армию кайзера
в Петроград. 3-го же марта пришлось, наконец, подписать Брестский мир
на условиях победителя. На бессарабские дела больше всего влияло то, что немцы договорились с недавно побежденной московскими
большевиками Радой и начали свой марш по Украине. Так что Кишинев
и вся губерния были теперь отделены от Москвы оккупированной
германцами территорией.
Это-то и давало румынским властям возможность откровенно хамить
Советам. Впрочем, ихнее хамство не имело строго классового характера.
Так, к примеру, они попытались обходиться и с белогвардейским
отрядом полковника Дроздовского, собравшимся на Румфронте и
готовившимся прорываться на Дон, к Каледину. Впрочем, Дроздовский
из себя румынскую жертву изображать не пожелал. На попытку
разоружить его отряд, он велел передать лично королю Фердинанду, что
русские трехдюймовки нацелены на королевский дворец в Яссах и
готовы открыть огонь прямо сейчас. Естественно, что собеседники тут
же извинились и пожелали отряду доброго пути.
Румыния тоже подписала такой же, как Брестский, позорный мир в
Бухаресте 7 мая. Нефть и пшеница по этому миру были запроданы
победителям на многие годы вперед, были серьезные территориальные
потери на венгерской границе и в Добрудже. Но зато центральные
державы не возражали против румынской экспансии в Бессарабии.
Впрочем, надо сказать, что проворные румыны успели уже получить
согласие на это и от Франции. Россию и противники, и союзники уже
считали покойником - так не пропадать же интересной и полезной
территории!
Дальше у нас четыре года Гражданской войны в России. В ходе этих лет
красные знамена несколько раз появлялись с восточной стороны
Днестра. Один раз в Москве даже собрались идти походом на румын. Это
было в мае 1919-го года, когда известному атаману Григорьеву было
приказано наркомвоенмором Украинской ССР Антоновым-Овсеенко
наступать на Румынию " для освобождения угнетенной Бессарабии и
помощи Венгерской революции". Атаман, как известно, взбунтовался, походу против мировой буржуазии предпочел кампанию еврейских
погромов в своих тылах, был разбит регулярной Красной Армией и, наконец, застрелен батькой Махно, погромов не одобрявшим. Но с
походом за Днестр ничего не получилось, да и Бела Кун додержался
только до августа. В августе в красный Будапешт вошли румынские
войска, а за ними в обозе въехало реставрационное правительство
адмирала Хорти.
Вообще в результате победы Антанты над Центральными державами
Румыния приобрела так много, как никто. Если Россия за свой
В гостях у тетушки Клио
сепаратный Брестский мир, за свое предательство союзников заплатила в
конечном счете потерей Финляндии, Прибалтики, Польши, Западных
Белоруссии и Украины, то румынам их сепаратный Бухарестский мир
никто не вспоминал, они получили в итоге от болгар Южную Добруджу, от австрийцев Буковину, от венгров Трансильванию, Банат, Марамуреш, от русских, как уже понятно, Бессарабию. Население страны с новыми
областями увеличилось ровно вдвое по сравнению с довоенным с 7.8
млн. душ до 15.6. И теперь у Бухареста был надежный покровитель -
Франция, которая, кроме прочего, официально признала за ним
Бессарабию.
Конечно, именно французское покровительство позволяло румынам
чувствовать себя дома в Кишиневе, Хотине, Измаиле. Спустя двадцать
два года в ноте Молотова было сказано: "В 1918 году Румыния, пользуясь военной слабостью России, насильственно отторгла от
Советского Союза ...
Теперь, когда военная слабость СССР отошла в область прошлого..."
Скажем прямо - нарком несколько покривил душой насчет "военной
слабости". Уж на румын-то Красной Армии хватило бы и в 1918-м, и в
1921-м, и в любом году. Но "поход на Вислу" наглядно показал, что
Европа намерена охранять свой "санитарный кордон", снабдит его своим
самым новым вооружением, если попробовать пощупать саблей
Буденного. Выяснилось, что европейцы считают поляков своими и
помогут им с высоты своей военной техники. Ни зуавы, ни шотландские
стрелки не появились перед войсками Тухачевского, но на этот раз на
призыв краковского хейнала ответили заводские гудки оружейных
заводов Шнейдера и Виккерса. Понятно было, что при попытке
советских войск пересечь Днестр будет то же самое.
Все-таки попытки повоевать с королевской армией случались. Но тут
была не Красная Армия, а как бы народные восстания. В Хотине, в
Бендерах и самое большое в 1924-м в Татарбунарах. Стилистика у этих
восстаний была, правду сказать, смешанная. Смесь пролетарской
революции с созданием советов и комитетов и традиционного
крестьянского бунта с поджогами имений, ритуальными убийством
помещика и изнасилованием его жены. Но, надо сказать, что и противник
у этих восстаний был совершенно средневековый, только что с
современной артиллерией, из которой румынская армия сжигала
непокорные села. Я бы добавил про эти бунты, что происходили они все
на немолдавских северных, южных и восточных окраинах Бессарабии.
Против румын бунтовались по большей части крестьяне из славян. Ну, а
коммунистическое подпольное движение в Кишиневе и других городах, не прекращавшееся до 1940-го года - это почти исключительно евреи.
Я лично навсегда запомнил маленькую книжечку вопросов и ответов по
истории Молдавской ССР, попавшуюся мне в руки в 1968-м, во время
первого посещения республики. Там были замечательные вопрос и ответ: 107
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
"Кто была героиня молдавского народа, поднявшая в таком-то году
красный флаг над Кишиневом? - и ответ - Хая Лифшиц.
Однако ж основная борьба с румынскими оккупантами происходила в
дипломатических сферах. Ни Советская Россия, ни Советская Украина, ни Советский Союз после его образования никогда румынской аннексии
Бессарабии не признавали. В составе Украины в городе Балте была
образована Молдавская как бы Автономная Советская Республика, которая теоретически имела столицей Кишинев и включала в себя по
своей конституции всю Бессарабию, а практически состояла из
нескольких уездов Одесской и Подольской губерний, где имелось хоть
какое-то молдавское население. У этой АССР был влиятельный
противник - наркоминдел Чичерин, который опасался, что наличие этого
фиктивного гособразования даст румынам основание претендовать и на
левобережье Днестра. Какой-то резон в этом, может быть, и был. Во
всяком случае, когда в 1941-м Красная Армия отступила на восток, немцы отдали область между Бугом и Днестром румынам и она три года
именовалась Транснистрией.
Молдавская АССР примерно совпадает по территории с нынешним
непризнанным Приднестровьем, только что приднестровцам удалось
удержать город Бендеры на правом берегу, а в АССР для солидности
включали несколько районов, удаленных от Днестра, где молдаване и
вовсе не жили. Республика вытянулась вдоль Днестра. Так что когда
посетивший Бессарабию с концертами Александр Вертинский пел в
своей песне про ветер в степи Молдаванской: " А когда зацветают
березы У Днестра на зеленом лугу, То так сладко, так больно сквозь
слезы Слышать песню на том берегу", - то песня эта слышалась с
территории Молдавской АССР. И верней всего - по-украински, поскольку молдаван в АССР было не так уж много.
Молдавская АССР жила обычной жизнью советской автономии. Там в
свое время были проведены коллективизация с раскулачиванием и
высылкой наиболее умелых и хозяйственных крестьян в болота Западной
Сибири, индустриализация с постройкой теплоэлектростанции и
нескольких консервных заводов - сады же вокруг. Прошли голодные
годы в начале 30-х. Придумали специальный молдавский язык с тем
отличием от румынского, что вместо латинских букв - славянские, кирилличные. Потом кириллицу отменили, ввели опять латиницу, потом
снова ввели азбуку вместо алфавита. Для детей в школах, надо
полагать, это было большим развлечением. Вокруг этого создавались
сторонники, кружки вроде партий. И увлеченно писали друг на друга
доносы в НКВД - советские же люди!
На самом деле, эти низовые склоки "самобытников" и "латинизаторов"
отражали, думается, некоторую неясность наверху о цели существования
Молдавской АССР. То ли это база для будущей Советской Румынии, то
ли скромнее - база для советизации со временем Бессарабии. Но игрушки
В гостях у тетушки Клио
игрушками, а получившиеся в результате срока и смертные приговоры
для неудавшихся "латинизаторов" были вполне реальными, а не
игрушечными. Впрочем, через Тридцать Седьмой вообще мало кому из
начальства удалось пройти невредимыми. Как и везде.
Право Румынии на Бессарабию было признано в 1920-м году в Париже
т.н. "Бессарабским протоколом", под которым подписались
Великобритания, Франция, Италия и Япония. Японцы в это время тоже
оккупировали русский Северный Сахалин, но по не совсем для меня
понятным причинам в 1925 году вернули его Советскому Союзу в обмен
на концессию по добыче нефти на этом самом Сахалине. А
"Бессарабский протокол" ратифицировать они не стали и он формально
так и повис. Так что за Румынией было, на самом деле, только
"фактическое обладание". Ну, может, бояре и нашли пару " Науру", которые считали край за ними. США, скажем, аннексию так и не
признали, край румынским не считали. Но на самом деле важным было
только французское покровительство Бухаресту, которое и решало дело.
Несколько раз СССР и Румынское королевство начинали переговоры о
"спорных вопросах", которых было ровно два. Советы требовали
возвращения Бессарабии - румыны не соглашались. Румыния требовала
возвращения своего застрявшего в Москве золотого запаса - большевики
не соглашались. Основной идеей Наркоминдела насчет Бессарабии было
требование проведения плебисцита. Видимо, большевики были уверены, что бояре так достали население за время оккупации, что оно будет
согласно и к ним. Был, как будто, намек из Москвы, что даром она от
Бессарабии не откажется, но вот если бы румыны забыли про золото ... .
Но ответа эта идея не получила.
Вот так дело и шло целых 22 года. Но к этому году в Европе стала очень
популярной идея ликвидации Версальской системы и нового передела.
Кому-кому, а Румынии такой передел ничего хорошего не сулил. Версаль
дал ей так много, что теперь у нее можно было только отнимать. С юга
Болгария ожидала возвращения своей части Добруджи, с северо-запада
Венгрия адмирала Хорти облизывалась после своего участия в
расчленении Чехословакии и жадно глядела на Трансильванию и
Марамуреш, где на самом деле жили под румынской властью полтора
миллиона венгров. Ну, а о востоке нечего и говорить!
В Румынии за это время сменился король. Теперь правил Кароль II, который в мае 1940 года гордо заявил в Кишиневе: "Я оградил страну
огневым, железным и бетонным барьером, через который невозможно
пройти". На самом деле ничего подобного Линии Мажино или хотя бы
Линии Маннергейма, на которую бережливые финны отрывали деньги от
своих семейных и государственных потребностей, румыны не
выстроили. Они продолжали надеяться на французское покровительство.
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
23 августа 1939 года подписан договор о ненападении между Германией
и Советским Союзом.
1 сентября германские войска вторгаются в Польшу.
3 сентября Франция и Великобритания с доминионами объявляют войну
17 сентября советские войска входят в Восточную Польшу, войны, однако ж, никто не объявляет.
Того же 17 сентября польское правительство и верховное командование
покинули страну и удалились в Румынию.
28 сентября немцы занимают Варшаву. В этот же день в Москве
подписан Договор о дружбе и границе между СССР и Германией, разделивший польскую территорию (а как выяснилось впоследствии и
всю Восточную Европу) между новыми хозяевами.
Это бы еще ничего. Конечно, румынскому начальству было не совсем
приятно увидеть к северу от себя вместо дружественных и изысканных
польских панов тех же неприятных комиссаров, что и к востоку от
Днестра, но великая латинская сестра Франция продолжала существовать
и проявлять большую заинтересованность в делах Восточной Европы. Во
всяком случае, она вместе с Британией собиралась, как будто, несмотря
на занятость "странной войной" на Рейне, направлять экспедиционный
корпус на выручку Финляндии от большевиков. Но ...
10 мая 1940 года 135 дивизий вермахта через Бельгию, Голландию и
Люксембург начинают наступление на Западе. Через месяц французское
правительство покидает Париж, а 17 июня новое правительство маршала
Петена просит Гитлера о пощаде. Великой военной державы Франции
больше нет. Румыния осталась без союзников и покровителей.
И вот теперь выяснилось, что большевики недаром все двадцать два года
не признавали аннексию и обозначали Бессарабию на картах розовым
советским цветом, окаймленным желтой полосой румынской оккупации.
26 июня 1940 года Наркоминдел Молотов к 10 вечера вызвал к себе
румынского посланника Давидеску и вручил ему ноту, где был написано, что:
"В 1918 году Румыния, пользуясь военной слабостью России, насильственно отторгла от Советского Союза (Россия) часть его
территории - Бессарабию - и тем нарушила вековое единство
Бессарабии, населенной главным образом украинцами, с Украинской
Советской Республикой. Советский Союз никогда не мирился с
фактом насильственного отторжения Бессарабии, о чем
Правительство СССР неоднократно и открыто заявляло перед всем
В гостях у тетушки Клио
Теперь, когда военная слабость СССР отошла в область прошлого, а
создавшаяся международная обстановка требует быстрейшего
разрешения полученных в наследство от прошлого нерешенных
вопросов для того, чтобы заложить, наконец, основы прочного мира
между странами, Советский Союз считает необходимым и
своевременным в интересах восстановления справедливости
приступить совместно с Румынией к немедленному решению вопроса
о возвращении Бессарабии Советскому Союзу.
Правительство СССР считает, что вопрос о возвращении Бессарабии
органически связан с вопросом о передаче Советскому Союзу той
части Буковины, население которой в своем громадном большинстве
связано с Советской Украиной, как общностью исторической судьбы, так и общностью языка и национального состава. Такой акт был бы
тем более справедливым, что передача северной части Буковины
Советскому Союзу могла бы представить, правда, лишь в
незначительной степени, средство возмещения того громадного
ущерба, который был нанесен Советскому Союзу и населению
Бессарабии 22-летним господством Румынии в Бессарабии.
Правительство СССР предлагает Королевскому правительству
1. Возвратить Бессарабию Советскому Союзу.
2. Передать Советскому Союзу северную часть Буковины в границах
согласно приложенной карте.
Правительство СССР выражает надежду, что Королевское
правительство Румынии примет настоящие предложения СССР и тем
даст возможность мирным путем разрешить затянувшийся конфликт
между СССР и Румынией.
Правительство СССР ожидает ответа Королевского правительства
Румынии в течение 27 июня с.г."
Буковина, как объясняли в Наркоминделе, отбиралась у Румынии, как
плата за 22-летнее пользование чужой Бессарабией. Заодно, за это же
Советский Союз окончательно забирал себе тот самый золотой запас.
На попытку румына выпросить отсрочку было отвечено, что " ждали уже
22 года". В Бухаресте попытались быстро сменить покровителя, обратились в Рейх, но Риббентроп ответил: "можем лишь посоветовать
румынскому правительству уступить требованиям советского
правительства". Вопрос-то уже обсуждался между Москвой и Берлином, без этого, вероятно, и ноты бы такой не было. Кроме того, на ушко из
Берлина румынам намекнули, что новая граница по Пруту будет "не
навсегда".
В Бухаресте догадывались, что в бессарабском вопросе СССР на этот раз
собирается применить не только дипломатические методы.
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
Действительно, вдоль Днестра был развернут специально для этого
случая Южный фронт под командованием Г.Жукова при начальнике
штаба Ватутине, в составе которого были 32 стрелковые, 2
мотострелковые, 6 кавалерийских дивизий, 11 танковых и 3 воздушно-
десантные бригады, 14 корпусных артполков, 16 артполков РГК и 4
артдивизиона большой мощности. Общая численность группировки
составила до 460 тыс. человек, до 12 тыс. орудий и минометов, около 3
тыс. танков (больше, чем общее число танков у вермахта). Группировка
объединяла
истребительный,
среднебомбардировочных,
дальнебомбардировочных,
легкобомбардировочных, 4 тяжелобомбардировочных авиаполка и
насчитывала 2 160 самолетов. Конечно, как всегда были проблемы с
разведкой, со снабжением, со слабой подготовкой пилотов, танкистов, парашютистов, штабистов и командиров. Против вермахта, как оказалось
позднее, у такой армии подготовка была слабовата. Но уж на румын ее в
любом случае хватило бы. Это понимали все: и в Москве, и в Берлине, и
в Бухаресте.
Поэтому, на следующий за советской нотой день, 27 июня к вечеру
румынский Коронный Совет большинством голосов решил не валять
дурака и сдаваться. На то, чтобы полностью убраться из Бессарабии и
Буковины румынам дали четыре дня. Разумеется, при таком паническом
отходе они многое роняли и позабывали. Красная Армия посчитала это
все своими законными трофеями. Был составлен список этих трофеев, который выглядит достаточно интересно:
52 796 винтовок и карабинов, 4480 пистолетов, 1 автомат, 1 071 ручных
пулеметов, 326 станковых пулеметов, 149 малокалиберных винтовок, 1
080 охотничьих ружей, 40 минометов, 6 зенитных пулеметов, 258
орудий, 14 296 183 патрона, 54 309 гранат, 1 512 противотанковых мин, 16 907 минометных мин, 79 320 снарядов, 15 грузовых автомашин, 38
легковых, 2 автобуса, 3 трактора, 4 мотоцикла с коляской, 17
велосипедов, 125 телефонных аппаратов, 1 радиоустановка, 117,5 км
телефонного кабеля, 21 064 противогаза, 545,2 тонны ГСМ, санитарное, инженерное, обозно-вещевое имущество, 141 паровоз, 1 866 крытых
вагонов, 325 полувагонов, 45 платформ, 19 цистерн, 31 классный вагон, 2 багажных вагона, 10 137,8 тонны продфуража, 36 бочек масла, 98 600
банок и 40. ящиков консервов, 3,5 вагона вина, 103 вагона сена, 1 176
лошадей, 60 голов крупного рогатого скота, 220 овец, 70 поросят.
Видно, что винтовку или даже орудие забыть для уходящего воинства
было намного легче, чем поросенка. Но главное, что досталось Советам, это территория площадью 50 762 км² и проживающие на ней 3 776 000
человек. Большая часть Бессарабии вошла в Молдавскую АССР, которая
очень быстро повысилась в ранге, став в начале августа союзной
республикой. Северная и южная оконечности страны, где жило совсем
немного молдаван, вошли в новосозданные Черновицкую и
Аккерманскую области Украины. Новые территории стали догонять весь
В гостях у тетушки Клио
Советский Союз: национализация промышленности, депортация
классово чуждых жителей в Сибирь, Республику Коми и Казахстан, коллективизация деревни.
А для Румынии на этом неприятности не закончились. Своей доли
потребовали Венгрия и Болгария. В конце августа по Второму Венскому
арбитражу решением министров иностранных дел Германии (Иоахим
фон Риббентроп) и Италии (Галеаццо Чиано) Северная Трансильвания
была возвращена Венгрии, а в сентябре Южная Добруджа была передана
Болгарии. К этому моменту король Кароль II (тот самый, который
" оградил страну огневым, железным и бетонным барьером") под гул
недовольства всей страны отрекся от престола, передав корону своему
19-летнему сыну Михаю, а власть над страной генералу Антонеску.
Всего за 1940 год вместе с Бессарабией и Северной Буковиной Румыния
потеряла 6.3 млн душ или 32% своего населения и 102 тыс. кв. км или
35% своей территории. На карте вместо большого круглого пятна у
Черного моря она опять стала походить на "рыбку", как до Первой
Мировой войны. Румыния теперь вместо французского оруженосца на
Балканах стала верным вассалом Германии, присоединилась к
Тройственному пакту и быстрым шагом пошла к своему участию во
Второй Мировой войне, чудовищным людским потерям, разрушению
страны и новому вассалитету - теперь уже у Сталина. Как видим, тактика
Советского правительства - не признавать аннексию Бессарабии, но и не
предпринимать до времени попыток ее военного возвращения - оказалась
достаточно эффективной. На Востоке говорят: " Сядь на берегу реки, и со
временем ты увидишь, как мимо тебя проплывает труп твоего врага".
СУДЕТЫ. 1938 И 1945 ГОДЫ
В раннем Средневековье границы между варварскими государствами, разделившими между собой земли Западной Римской империи, часто
выглядели так, что между заселенными землями были горы или глухие
необитаемые леса, так что прямого контакта между племенами почти не
было. Так обстояло дело и с западнославянскими племенами, предками
нынешних чехов и мораван. От германских и других славянских племен
их отделяли горные леса: Чешский лес и Шумава от баварцев, Рудные
горы от саксов и полабских славян, Лужицкие горы от лужичан, Кркноше от племен ляхов, Западные Карпаты от словаков. Славяне
поселились в этой стране в VI веке после ухода германцев лангобардов
на завоевание Италии. Еще раньше там жили кельтские племена бойев, от которых страна получила свое имя Богемия. Постепенно племена
чехов, литомержичей, дудлебов, зличан сближались, начали сливаться в
один народ. Тем временем земля эта входила в первое славянское
государство Само, потом в Великоморавское княжество.
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
После гибели Великой Моравии в результате вторжения мадьяр чешские
и собственно моравские земли оказались под властью династии
Пржемысловичей, тогда же княжеская чета Борживоя и Людмилы
(впоследствии Святой) приняла крещение от знаменитого Святого
Мефодия. Однако, их княжество далее оказалось под сильным влиянием
Германии (Восточно-Франкского королевства), а не Византии. С
середины Х века оно считается частью Германии и далее Священной
Римской империи. С 1198 года это Чешское королевство в составе
Немцы в Чехию на свободные земли вдоль границ начали понемногу
переселяться еще с Х века, более широкое переселение начинается с XII века при Пржемысле Оттокаре I. Сын немки Юты Тюрингской, он
поощрял приезд немецких купцов, крестьян и особенно горняков, начавших добычу и переработку серебряной руды в Кутной Горе (треть
общеевропейской добычи серебра).
При короле Карле IV, по совместительству римском короле-императоре, Прага стала не только столицей Чешского королевства, но и столицей
всей Священной Римской империи от Балтики до Тосканы и от Одера до
Мааса. Конечно, это тоже способствовало тому, что неславяне, в первую
очередь немцы, но также и евреи-ашкенази, переселялись в Богемию и
Моравию. С этого времени Прага надолго становится столицей трех
культур: еврейско-ашкеназской (от Льва бен Бецалеля до Кафки и Макса
Брода), немецкой (вспомним хотя Райнера Марию Рильке) и, конечно, аборигенной чешской (Сметана, Гашек, Чапек).
Как можно судить, особых трений между славянами и мигрантами-
немцами в раннем Средневековье не было. Собственно, национализм и
национальные конфликты всегда появляются на пороге Нового Времени
одновременно с нациями, т.е с единым рынком и национальным
самосознанием. Конечно, такой процесс не может идти совсем без
конфликтов, но немецкие колонисты и территориально, и в сфере
ремесел и торговли занимали те ниши, где чехов еще не было. Была, конечно, как и по всей Европе, дискриминация евреев, доходящая до
погромов, но этим в то время никого удивить нельзя. Действительно
реальным противостояние славян и германцев стало при Яне Гусе, резко
выступившем против папского Рима и в защиту чешского языка. В
основном, немцы продолжали быть католиками, а очень многие чехи
стали гуситами, от фанатичных коммунистов-пикартов до умеренных
чашников. Католическая Европа направила в Чехию пять крестовых
походов, а гуситы-табориты под предводительством гениального
полководца Яна Жижки и второго великого гетмана Прокопа Голого
совершали ответные карательные экспедиции в Польшу вплоть до
Данцига, Саксонию, Моравию и Австрию.
Совсем испортила отношения битва при Белой Горе, полностью
покончившая с чешской независимостью, но надо помнить, что на
В гостях у тетушки Клио
чешской, она же протестантская, стороне было немало немцев, а на
католической стороне было не так мало чехов. После этого Габсбурги
довольно плотно прикрыли всякий более или менее свободный голос по-
чешски. Понятно, что «дружбы народов» это не добавляло.
К началу
«Чешскому Возрождению»
все пограничные территории
вдоль рубежей с Австрией,
Саксонией,
Силезией были практически
германцами. Богемию как
будто окружил воротник из
немецкоязычных районов.
При этом цивилизованные
городские немцы из Праги и Брюнна себя с жителями пограничья не
отожествляли. Конечно, кашперские полуграмотные горцы, крестьяне и
шахтеры с их диалектом, имеющим мало общего с языком Шиллера и
Гёте, не могли равняться с интеллигентами, купцами и ремесленниками
из региональных столиц.
У чешских славянофилов-австрославистов в ту пору не было далеко
идущих политических требований. Все, чего они хотели, это некоторого
уравнения прав для их языка в судопроизводстве и администрации плюс
богемско-моравская автономия. Были, конечно, гордые призывы к
уничтожению немцев и слиянию « славянских ручьев в русском море». Но
из Москвы, а не из Праги. Это понятно, состарившаяся монархия
Габсбургов выглядела как сравнительный национальный рай по
сравнению с соседними молодыми хищниками в Берлине, Турине, Белграде или Санкт-Петербурге. Собственно, наследник престола тот
самый эрцгерцог Фердинанд, убийство которого в Сараеве было
сигналом к мировому пожару, тоже был сторонником именно мирной
автономизации областей империи.
Но вот таким образом Австро-Венгрия подошла к своей последней войне.
Если для Франции, Германии, Великобритании, России, Японии это была
война за передел мира, за колонии, спорные территории, экономические
преимущества, то для Австро-Венгрии это была война за выживание.
Мало у кого были сомнения, что эту схватку двуединая монархия может
не пережить. Нельзя забывать, что для нее это была в первую очередь
война против славянской Сербии. Ну, в большой мере спровоцированная, но все же агрессия против Белграда. Тем не менее, подавляющее
большинство чешских и словацких политиков были лойяльны к
Шенбруну и престарелому императору. Если помните, даже у
совершенно отвязанного Гашека в написанном уже после войны романе в
качестве претензии к Габсбургам выставлено главным образом то, что
« Король не короновался». В переводе на простой язык это означает, что
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
Чешское королевство не стало равноправной частью империи наряду с
Австрией и королевством Венгерским. Такое впечатление, что
превращение монархии в триединую вполне бы всех устроило.
Только несколько совсем уж, говоря современным языком, экстремистских чешских и словацких политиков во главе с депутатом
рейхсрата Томашем Масариком перебрались на территорию противника, в Париж и начало агитацию за революцию и независимую Чехословакию.
В эту же сторону работало и поведение чешских и отчасти словацких
полков, которые часто с удовольствием сдавались войскам Антанты и
более того – в лагерях военнопленных создавали добровольческие чехо-
словацкие части, готовые воевать против Центральных держав. Более
того, когда после Русской революции большевики подписали с
Германией и Австро-Венгрией Брестский мир, чехословацкий легион
стал им ненужен и его отправили малой скоростью через Сибирь и
Владивосток во Францию, то недовольные этим легионеры
взбунтовались, легко свергли Советскую власть на большей части
территории России и чуть было не переиграли назад последний год
русской истории.
Так или иначе, а Антанта победила, попытка нового императора Карла
соскочить из вильгельмовской повозки не удалась и в октябре-ноябре
1918-го древняя монархия рассыпалась на части. Тут оказалось, что
практически все чешские и словацкие политики поддерживают Масарика
и хотят независимой и объединенной Чехо-Словакии. Кроме этого
нового государства на карте появились также Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев от Штирии до Родоп, независимая Венгрия, быстро превратившаяся в Венгерскую Советскую республику, Польша, соединившая в себе польские земли трех империй, Западно-Украинская
Народная республика во Львове и Республика Немецкая Австрия со
столицей в Вене.
В момент возникновения Немецкой Австрии 14 пунктов Вудро Вильсона
и вообще принцип национального самоопределения были приняты
дословно и в состав нового государства было объявлено включение
населенных немцами Южного Тироля а также немецких областей
Богемии и Моравии. Сама республика была заранее объявлена частью
Германии. Однако победители быстро разъяснили неправоту венских
политиков. Объединяться с остальной Германией ей было запрещено, южные районы Тироля прибрали себе итальянцы, а Судеты и другие
районы Чехии, населенные немцами, должны были стать частью нового
славянского государства. Возразить было нечем, былая императорско-
королевская армия разбежалась по домам, а новообразованная чешская
милиция быстро вышла к границам былого королевства, заняв по дороге
Карлсбад, Райхенберг и другие населенные немцами города.
Немцы, конечно, были недовольны. Кстати, это характерная общая черта
при распаде империй. Господствующая нация, превративщаяся в
В гостях у тетушки Клио
отделившихся окраинах в нацменьшинство, обычно бывает очень
удивлена проявлением гегемонистских притязаний со стороны новых
государствообразующих народов, бывших нацменов. Предполагается, очевидно, что на следующий день после отделения всякое национальное
неравноправие должно исчезнуть навсегда, а не сменить адресата. На
самом деле, обычно происходит «перегибание
палки» и бывшая
жертва с удовольствием становится угнетателем. Видимо, это все-таки
лежит в природе человека.
Немцы устраивали демонстрации протеста, а чехословацкая полиция их
разгоняла. 4 марта 1919 года во всех немецких городах Судет началась
всеобщая забастовка и повсеместные демонстрации. Чехословацкие
солдаты открыли огонь. Получилось 54 трупа и сотни раненных. С этого
момента немецкое национальное меньшинство оказалось в постоянном
противостоянии пражским властям. Да как сказать - нацменьшинство ...
По переписи 1921 года общее население Чехословацкой республики
было равно 13,4 млн чел. В том числе примерно 6,8 млн чехов, 3,1 млн
немцев, 2 млн словаков, 0,7 млн венгров, почти полмиллиона русинов и
180 тыс евреев. Как видим, немцев в республике было много больше, чем
одной из титульных наций словаков. Официальная власть выразила свое
отношение к германцам словами первого президента Масарика, сказанными 22 декабря 1918 года в Праге: «Мы создали наше
государство, тем определено и положение наших немцев, которые
изначально пришли в страну как эмигранты и колонисты. Я искренне
хотел бы, чтобы мы как можно скорее договорились».
Надо ли было уже при создании нового славянского государства
напоминать немцам, составлявшим четверть его населения, что они тут
чужие, «мигранты» на земле, где их предки жили восемь столетий? Но
дела уже обстояли именно так и пограничные районы Чехии и Моравии
стали оплотом оппозиции. На первых выборах больше всего жителей
этих зон отдавали голоса Немецкой социал-демократической рабочей
партии, за ней по числу голосов шла партия со странно звучащим
сегодня названием Немецкая национал-социалистическая рабочая
партия Чехословакии. Эти деятели запатентовали свое название на год
раньше, чем их однофамильцы в Мюнхене – в 1919 году.
Достаточно быстро примерно половина немецких соци ушла налево во
главе со своим вождем, создав Немецкое отделение Коммунистической
партии Чехословакии. Под давлением Коминтерна они объединились с
чешскими и словацкими единомышленниками, создав единую партию.
Вообще немецкоязычные районы стали на десятилетие двадцатых одним
из главных бастионов коммунистов. Дела в стране в ту пору шли более
или менее хорошо, читайте рассказы К.Чапека, и особых вспышек
национальных конфликтов не было.
Но республика существовала на свете не в одиночку. Два внешних
события очень обострили обстановку в этих районах. Сначала в 1929-м
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
рухнула биржа в США и начался великий экономический кризис, особенно сильно поразивший именно немецкие районы страны. Удар
пришелся по экспортным отраслям производства бижутерии, стеклянной
посуды, текстильной, бумажной и производству игрушек. Из общего
числа безработных в Чехословакии 800.000 человек, около 500.000
составляли судетские немцы. А потом к власти в Берлине пришли в
январе 1933-го Адольф Гитлер и его команда. Достаточно быстро, всего
за пять лет промышленное производство в Германии удвоилось, а
безработица снизилась в шесть раз. Это вызывало определенную зависть
у этнических немцев по чехословацкую сторону границы и желание
присоединиться к Рейху.
На этом фоне и протекала карьера нового политического лидера
судетских немцев Конрада Генлейна. Он начинал как руководитель
национальной Немецкой гимнастической ассоциации, в 1933 году стал во
главе партии Судетонемецкий патриотический фронт и агитировал тогда
за создание немецкой автономии в Чехословацкой республике. В ту пору
он громко заявлял о своем уважении к президенту Масарику. На выборах
1935 года они назывались уже Судетской немецкой партией и набрали
более 15% голосов. Это было больше, чем у любой партии во всей
стране. У немецких социал-демократов и коммунистов вместе в
Судетской области было в четыре раза меньше голосов. Это сделало
Генлейна и его партию реальными представителями немцев в
республике. Были ли Генлейн и его избиратели большими сторонниками
фюрера Гитлера и нацистов? Сомнительно. Похоже, что их в ту пору
больше всего устроило бы возвращение к прошлому, к порядкам времен
императора Франца-Иосифа.
Естественно, что в Берлине обратили на них внимание. В 1938-м, после
аншлюсса Австрии, когда Гитлер начал планировать захват
Чехословакии, он встретился в марте с Генлейном и тот вместе со своей
партией и большинством своего народа взял курс на нацизм. В мае по
всей области прошли волнения, генлейновцы требовали проведения
референдума и воссоединения с Рейхом. Такие требования уже очень
отличались от старого лозунга автономии. Все-таки это никого в Европе
не обмануло. За требованиями судетского населения очень заметно
торчали уши Берлина. И Советский Союз, и Британия с Францией, и
даже Италия Муссолини судетонемецкие требования не поддержали.
Вермахт было стал подтягиваться к границе, но и чехословацкие войска
заняли укрепления, «чехословацкую линию Мажино». Дело кончилось
В августе шли переговоры между правительством в Праге и
судетонемецким движением при участии британского представителя
лорда Ренсимена. Он, в общем, встал на немецкую сторону и сообщал
своему правительству что: « Большое число чешских чиновников и
полицейских, которые плохо говорят на немецком или совсем его не
знают, были назначены в чисто немецкие районы. Чешским
В гостях у тетушки Клио
сельскохозяйственным колонистам предложили селиться на
конфискованных в ходе земельной реформы землях, расположенных
посреди заселённых немцами территорий. Для детей этих чешских
захватчиков в большом количестве были построены чешские школы.
Есть общее мнение, что чешским подрядчикам оказывается
преимущество при размещении государственных заказов, и что
государство с большей готовностью предоставляет работу и помощь
чехам, нежели немцам. Я считаю эти жалобы в основном
оправданными. Даже в период своей миссии, я не нашёл со стороны
чехословацкого правительства готовности устранить эти претензии в
достаточном объёме».
Повидимому, это было правдой. Чехословацкая республика была в
большой мере республикой чехов. Даже словаков было очень немного в
госаппарате, не говоря уже о немцах, мадьярах, русинах. В Рутении -
Карпатской Руси это сказалось тем, что каждый четвертый избиратель в
1935 году проголосовал за коммунистов, ну, а для словаков, венгров, немцев это очень усиливало националистические партии. Тем не менее, некоторое неполноправие национальных меньшинств не было слишком
уж сильным, при желании и понимании опасности раздоров тут все
можно было бы урегулировать вовремя. Но этого сделано не было.
Лорд Ренсимен давил на Прагу и та вынуждена была согласиться на план
создания немецких и венгерских автономных районов на территории
республики. Но генлейновцам этого было уже мало. Лозунгом стало:
« Домой, в Рейх! » В сентябре дело дошло до вооруженных столкновений
судетских немцев с полицией и войсками. В пограничной зоне было
объявлено военное положение, туда были введены войска. Советский
Союз громко объявил о своей готовности помочь чехословакам, но при
отсутствии общей границы и категорическом отказе Польши и Румынии
на пропуск Красной Армии это имело, скорей, символический характер.
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
Западные же державы, Франция и Великобритания заявили о своем
сочувствии республике, но очень(!) советовали ей договариваться миром.
Вот в этих условиях французский премьер Даладье, великобританский
Чемберлен, итальянский Муссолини и германский рейхсканцлер Гитлер
в ночь на 30 сентября подписали в Мюнхене знаменитое соглашение, по
которому все спорные районы передавались Рейху. Чехословакам об
этом было сообщено, как о принятом решении без права апелляции. В
одиночку или с сомнительной помощью Сталина Прага сопротивляться
не решилась. Президент Бенеш склонился перед решением великих
держав. Вермахт вошел в Судеты, встреченный бурными восторгами
населения. Такой восторг не снился даже российским войскам в Крыму
2014 года. Девушки бросали цветы и целовали воинов, хозяйки выносили
им вкусненькие блюда, изготовленные к празднику. Старики плакали от
счастья. Куда-то исчезли и немногочисленные евреи, и сторонники
Коминтерна, и беженцы из Рейха.
Лично Конрад Генлейн теперь вступил в НСДАП и был назначен
рейхскомиссаром Судетской области. Потом он был назначен
гауляйтером и штатгальтером новой немецкой гау Судеты. В СС он
получил генеральское звание обергруппенфюрера. На уровне
Кальтенбруннера и Карла Вольфа.
После Мюнхенского соглашения были подписаны отдельные декларации
о взаимном ненападении между Рейхом и Британией с Францией.
Жители западных стран вздохнули
спокойно, поняв, что опасность
новой Мировой войны отпала.
Чемберлен так и сказал на
лондонском
возвращении: « Я привез мир для
нашего поколения! » Ну, а в Берлине
были настроены не так
расслабляюще. Хотя фюрер и
сказал, что у него более не осталось
претензий с соседям, но в генштабе
уже были подготовлены планы
вхождения в « Остаток Чехии».
Вообще, население Рейха мысль о
том, что « Судетынаши» очень
вдохновила и подняла авторитет
Гитлера до небес.
Надо сказать, что все соседи
Чехословакии не пожелали остаться
в стороне от раздела трупа. Польша
потребовала, еще в сентябре,
Заользья, пограничного района с
В гостях у тетушки Клио
городом Тешином, где жили и чехи, и поляки. Сразу после Мюнхена
польская армия заняла этот район. Братская Словакия захотела
избавиться от Праги и под давлением Берлина она получила автономию, так же, как Подкарпатская Русь. Бенеша в Граде уже не было, немцы
заставили его подать в отставку и уехать в Лондон.
В ноябре по решению Первого Венского Арбитража (чтобы не было
сомнений – арбитрами были министры иностранных дел Германии и
Италии) Венгрия адмирала Хорти получила южные районы Словакии и
Карпатской Руси. В северной, горной части Закарпатья униатский
священник Августин Волошин пытался какое-то время организовать
государство Карпатскую Украину, но в марте 1939 года венгерские
войска закончили эту игру, оккупировав все до польской границы.
Уже с начала 1939-го немцы стали провоцировать остатки Чехословакии, активно используя своих клиентов в Братиславе. 14 марта премьер-
министр Словацкой автономии, католический священник и лидер
Народной партии Йозеф Тисо объявил о независимости страны, в этот же
день к вечеру президент того, что оставалось от Чехословацкой
республики, Эмиль Гаха, вызванный фюрером в Берлин под угрозой
бомбежки Праги подписал написанный Риббентропом договор, в
котором он « он с уверенностью вручил судьбу чешского народа и страны
в руки фюрера Германии». Вместе с Прагой в руки Гитлера попали
мощные оборонные заводы Остравы и на них готовое вооружение на 9
пехотных и 5 танковых дивизий, не говоря уже о вооружении наличной
чехословацкой армии.
Наглое нарушение Рейхом недавно подписанных соглашений и
обещаний Гитлера произвело впечатление даже в оптимистически
настроенных Лондоне и Париже. Пробило даже Чемберлена. 31 марта он
выступил в палате общин и дал Польше официальные гарантии против
германской агрессии. Дело покатилось к сентябрю 1939-го и Второй
Мировой войне. Еще недавно генералы вермахта сильно сомневались в
политике Гитлера, считая ее авантюристической. Теперь они поверили в
его звезду и стали готовиться к близкой войне не только с Польшей, но и
с Францией и Великобританией. Соглашение Молотова-Риббентропа в
августе успокоило их в невозможности в ближайшее время Восточного
В первые дни сентября началось. Как всё шло дальше знают все. Нельзя
сказать, чтобы чехи всерьез сопротивлялись оккупантам, хотя леса в
стране есть и партизанская борьба, как, к примеру, в Югославии, Греции, Польше была, в принципе, возможна. Да, действительно, парашютисты, посланные чехословацким правительством в изгнании Бенеша, убили в
1942 году имперского протектора Богемии и Моравии Рейнхардта
Гейдриха, после чего прошла волна нацистского террора. Но оборонные
заводы Остравы и Праги продолжали работать на вермахт, тем более что
их рабочих по приказу Гейдриха кормили в заводских столовых сверх
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
всяких карточек. Никаких лесных партизанских баз не появлялось.
Чехословацкие летчики воевали в составе британской авиации, в том
числе во время Битвы за Англию, но их было только 4 эскадрильи. В
Советском Союзе, когда Гитлер напал и на него, были созданы сначала
батальон, потом чехословацкая бригада, а в 1944-м и целый корпус, который успешно воевал в составе 1-го Украинского фронта.
Словакия с момента своего создания в 1939-м, была под протекторатом
Рейха. Ее армия участвовала вместе с вермахтом в военных действиях
против Польши в сентябре 39-го, и во вторжении в Советский Союз.
Надо признать честно, что большой помощи Германии от нее не
получилось. Словаки воевали против Красной Армии примерно так же, как их отцы воевали в составе австро-венгерской армии в 1-ой Мировой
войне – без большого энтузиазма. А при возможности просто переходили
на советскую сторону.
Когда фронт подошел к Карпатам, Словацкая армия вместе с
заброшенными из Красной Армии и местными партизанами начала
антигерманское восстание. Получилось не очень. Советские войска не
смогли прорваться в Словакию через Дукельский перевал, части СС и
вермахта задавили повстанцев. Разумеется, и тут пролилось немало
крови, в том числе крови вполне мирных поселян.
Ну, и все знают, что когда американцы из армии Паттона подошли на 60
км, а советские войска были в 100-120 км, в Праге началось восстание. С
детства помнится из какого-то отечественного романа крик дикторши
пражского радио: « Руда армада! На помоц! » На самом деле нашим
войскам было далековато, да у них и попросту не было бензина на такой
бросок. А американцам не позволял Сталин. Прага-то была по
межсоюзнической договоренности в нашей зоне. Солдаты Паттона
оказались в Карлсбаде и Пльзени только с согласия маршала Конева. В
итоге эсэсовцы генерала фон Пюклера могли бы разнести старинный
город, но на счастье власовцы из 1-ой дивизии РОА решили под конец
войны сделать хоть это доброе дело и выгнали немецкие войска из
города. Их личные судьбы это не изменило, но город был спасен и 16 мая
домюнхенский президент Бенеш вернулся домой из Лондона. 28 октября
временный парламент подтвердил его президентские полномочия.
Премьер-министрами у него были сначала левый социал-демократ
(впоследствии стал коммунистом) Фирлингер, потом коммунист
Готвальд. Но Чехословакия никак не была до февраля 1948 года страной
пролетарской диктатуры, в правительстве были и министры-
коммунисты, и министры от различных умеренно-социалистических
партий. И советские войска в тот раз были выведены из страны уже в
декабре 1945-го, одновременно с американскими. Так что тут была
ситуация, несравнимая с Польшей, Венгрией или Румынией, где
находящиеся на территории страны советские войска были важным
фактором в захвате коммунистами власти.
В гостях у тетушки Клио
Чем же занимались президент Бенеш и коалиционное правительство?
Прежде всего послевоенным восстановлением промышленности и
городского хозяйства, очисткой аппарата от колаборационистов, национализацией в первую очередь всей имевшейся собственности
Рейха, а затем и другой крупной промышленности. Но нас сейчас
интересует та сторона их деятельности, которую историки именуют
«декретами Бенеша». Тут совсем не было подталкивания со стороны
коммунистов, инициатива была лично за президентом возрожденной
республики.
Но надо сказать, что вопрос был уже, в принципе, согласован Наверху.
Верхом в данном случае была Потсдамская конференция в июле 1945
года. Большая Тройка дала добро на выселение немцев из Судет, оговорив, правда, что при этом не должно быть ни жестокостей, ни
несправедливостей. Так что санкция была. Да и странно было бы
союзникам, уже давшим общую санкцию на выселение немцев из
Кенигсберга, Бреслау, Штедтина, Мариенбурга, ограничивать
чехословаков.
Юридическую форму этому процессу дали знаменитые Декреты Бенеша:
- от 19 мая 1945 г. — о недействительности передачи прав
собственности за время оккупации немцам, венграм, предателям
чешского и словацкого народов;
- от 21 июня 1945 г.— о конфискации и ускоренном разделе
сельскохозяйственной собственности указанных категорий;
- от 19 июня 1945 г. — о наказании нацистских преступников и
предателей через чрезвычайные народные суды
- от 20 июля 1945 г. — о заселении славянских земледельцев на ранее
конфискованные земли;
- от 2 августа 1945 г.— о лишении немцев и венгров гражданства;
- от 25 октября 1945 г. — о конфискации вражеской собственности.
Для начала для немцев были введены ограничения. Юристы Бенеша
недолго ломали над ними голову, они просто взяли ограничения для
евреев по нацистским Нюрнбергским законам и везде заменили евреев на
немцев. Находящиеся в республике немцы должны были: как ссыльные
регулярно отмечаться в полиции; носить повязку с буквой “N” (немец); посещать магазины только в разрешенное для них время; у немцев были
отобраны не только автомобили и мотоциклы, но и велосипеды, ездить
на вело им было нельзя; запрещалось пользование общественным
транспортом – только пешком и не по тротуарам; запрещалось иметь
радио и телефоны; нельзя было говорить по-немецки в общественных
местах, например, на улицах.
Но и на этих условиях они могли жить в Чехословакии только до
момента, когда до них дойдет выселение. К середине 1946 года все эти
три с лишним миллиона чехословацких немцев были выселены в
Германию. Лозунг «Домой, в Рейх!» получил новый смысл. Некоторое, 123
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
очень ограниченное количество немцев, пара десятков тысяч осталась в
Словакии, почти все официально приняв словацкую этничность. В Чехии
и Моравии остался, кажется, один только член Политбюро компартии
Чехословакии Карл Крейбих, бывший вождь судетских коммунистов.
К вопросу о справедливости при выселении можно сказать, что во
многих случаях по инерции выселялись вернувшиеся в Судеты
немецкоязычные евреи и бывшие узники концлагерей. Кто бы с ними
разбирался?! Заметим также, что активные нацисты, эсэсовцы и прочие
кандидаты в военные преступники в основном уже скрылись из мест, где
их знали, ещё при приближении союзных войск.
Ну, а о гуманности выселения осталось очень много свидетельств. По
официальным данным за
время депортации погибло
18816 немцев, в том числе
5596 было убито, 3411
покончили с собой, 6615
умерло в концлагерях,
1481 погибло при
транспортировке,
умерло сразу по прибытии
в Германию и 379 умерли
неизвестным
чехословацким властям
причинам. Выселяемых
отправляли
иногда просто буквально,
В гостях у тетушки Клио
как тех немок, которых в этом виде гнали через Рудные горы в советскую
зону оккупации Германии. Советские офицеры, вообще говоря мало
склонные к покровительству жителям Рейха, позаботились их одеть в
трофейные вермахтовские мундиры. В любом случае у
экспатриированных немцев была заранее отнята вся их собственность от
домов и земель до шуб и домашнего имущества.
Не только в памяти, но и в документах остался Брюннский марш смерти, когда изгоняемые из Брно около 30 тысяч немцев пешком и на
грузовиках были отправлены за 55 километров на австрийскую границу.
Свидетели говорят, что по обочинам лежали трупы умерших стариков и
детей. Всего при этом умерло, как теперь считают, около пяти тысяч
человек, в том числе 890 душ в концлагере, куда их определила в конце
перехода советская военная администрация в Австрии. Эти последние
умерли по большей части от дизентерии.
Сотнями числятся убитые при каждом из таких эпизодов, как массовые
убийства в Постолопрты, Домажлице, Устице, Пршерове, Хомутове. Это, конечно, не результат распоряжений из Града об уничтожении. Но
накаленная антинемецкая пропаганда, в какой-то степени связанная с
небольшим желанием говорить о поведении самих чехов во время войны, дала свои плоды. Люди, семь лет не поднимавшие оружия против Рейха, должны же были где-то дать выход своей антинацистской ненависти, тем
более, если они служили в армии или полиции и имели оружие.
Можно и нужно ли пожалеть этих убиваемых и изгоняемых с Родины
стариков, женщин, детей? Да что ж мы не люди, что ли? Конечно, их
очень жалко, особенно если вспомнить, что они-то лично в подавляющем
большинстве не участвовали в еврейских и чешских погромах, не сажали
в гестапо, не жгли деревни. Но скажем честно, что на этот крестный путь, пусть тогда еще в далекой перспективе, они отправились в тот день, когда со слезами счастья на глазах встречали солдат вермахта, входивших в их города и села. Как говорил один широкоизвестный
немецкий философ и экономист из Трира: «Нации, как и женщине, не
прощается минута оплошности ...». Конечно, если бы кто-нибудь сказал
им заранее ... . Но ведь в 38-м они думали, что пусть будут хоть камни с
неба, но они уже в Рейхе.
Конечно, тут могли быть варианты. Скажем, австрийцы годом раньше
так же восторженно приветствовали входящий вермахт и любимого
фюрера. А между тем послевоенная судьба их сложилась намного лучше.
Союзники, все – и западные, и Сталин очень хотели навеки оторвать их
от Германии. Поэтому быстрая гримировка австрийцев в «жертвы
гитлеровской агрессии» удалась. Их тоже оккупировали и разделили на
зоны, тоже были репарации и конфискация союзными державами
некоторых производственных объектов. Но особую народно-
демократическую республику в восточной зоне им никто не навязывал, без многолетнего разделения на два государства они обошлись, не говоря
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
уже о выселениях по судетскому или прусскому вариантам. Пронесло.
Но тут просто счастливая комбинация карт. А у судетских немцев ее не
сложилось, как и у силезских или данцигских. Но ведь и не всякий
перебегающий улицу на красный свет светофора непременно попадает
под грузовик. Однако, это не значит, что нужно себя подставлять в такое
положение.
Прошли десятилетия. Многое произошло: коммунистический переворот, экспроприация буржуев, террор 40-х – 50-х, Варшавский пакт, Пражская
весна, вторжение советских и других союзных войск в августе 68-го.
Кстати, все помнят, что наиболее жестким был режим в «гэдээровской»
зоне оккупации. Как знать, может быть и потому, что молодые солдаты
и офицеры Национальной Народной армии что-то слышали от отцов о
событиях 1945-46 годов. Потом была Бархатная революция с уходом
коммунистов, восстановление отношений с Западом. Новые власти уже
не могли делать вид, что с изгнанием немцев все в порядке. В 1990 году
президент Чехословакии Вацлав Гавел публично выразил сожаление в
связи с событиями 1945-46 годов. Но как только начинает звучать, хотя
бы чуть-чуть слово « реституция», то есть какое-то возмещение за
отнятую у изгнанных немцев собственность, чешские деятели сразу
вспоминают послевоенную лексику. Весной 1999 года, к примеру, премьер-министр Чехии Милош Земан назвал судетских немцев
« предателями Родины» и « гитлеровским легионом». Понятно, что в
Германии это совсем не понравилось. Но организация судетских немцев
Австрии, например, требует возвращения конфискованного по декретам
Бенеша имущества, которое оценивают в 260 миллиардов евро
нынешними деньгами. Для сравнения доход госбюджета Чехии на 2007
год равен 40 миллиардам евро. Конечно, тут заговоришь о предателях
Добавим только, что изгнанные из Судет немцы не пропали. Это были
все-таки немцы, жизнь в лагерях для беженцев на нищенское пособие их
не устраивала. Они не сразу, но влились в общую жизнь фатерланда, стали работать по первому времени на тяжелых и грязных работах, но
потом общий подъем экономики, «послевоенное экономическое чудо»
позволили им занять вполне достойные места в обществе. В советской
пропаганде судетонемецкий и другие союзы изгнанных были одним из
трех западногерманских жупелов наряду с Францем-Йозефом Штраусом
и генералом Шпейделем. Между тем, уже в 1950 году была принята
"Хартия изгнанных немцев", где говорилось об отказе от мести и
возмездия и подчеркивалась готовность изгнанных немцев принять
участие в восстановлении Германии и всей послевоенной Европы.
Сегодня, спустя 73 года после изгнания их и их потомков невозможно
выделить из германского общества.
Это, конечно, служит некоторым контрастом к судьбе палестинских
беженцев 1948 и 1967 годов, которые в большой части и сегодня, спустя
70-50 лет продолжают жить на подачки в лагерях. Частью тут причиной
В гостях у тетушки Клио
не слишком большое желание арабских правительств и народов
ассимилировать своих дорогих братьев по языку, но в большой мере тут, повидимому, и нежелание палестинцев покидать свои лагеря и свои
халявные денежные поступления от ООН и богатых нефтяных стран
Арабского залива, да даже и от Израиля.
Ну, и что отсюда следует? Если уж очень хотеть извлечь из любого
эпизода мировой истории мораль, то отсюда, пожалуй следует, что
- Никогда не следует говорить «Навсегда вместе!» История – она
длинная, многое может и перемениться.
- Даже вполне обоснованные желания – например, быть вместе с
Матерью-Родиной – не надо реализовывать вместе с каким-нибудь
людоедом или прохвостом. Его еще настигнет его судьба, а может и
тебя вместе с ним.
- Не стоит очень уж уверенно ссылаться на историю, она, как уже
сказано, длинная, может оказаться, что вершком глубже уже совсем
другой пласт и он может обернуться против тебя. К примеру – можно
сказать, что Крым русский. И сегодня это правда. А вершком глубже
он оказывается татарским, оказывается, что почти все русское
население завезли сюда после 1946 года. Чуть глубже мы увидим
караимов. А еще вершком глубже выяснится, что из всех народов
Крыма дольше всего (с I тысячелетия до н.э.) там жили греки. Но вот
сегодня их там уже нет.
- Ну, и последнее. Не радуйся чужой беде. Может оказаться, что и ты
будешь ровно в той же ситуации.
ПРОЩАНИЕ С ГРУМАНТОМ
Этот старинный поморский рассказ
В детстве слыхал я не раз.
Но туда выносят волны
Только сильного душой ..
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
Открылось это все еще в прошлом году. Даже уже и публикация
девушки из "Информнауки" по фамилии Пичугина прошла в
"Независимой" в начале декабря. Но я как-то проглядел. Увидел я
сообщение этого же автора уже в феврале в "Литературке", купленной
для тестя в ближнем овощном магазине. И не могу о нем забыть. Чтобы
назвать тему - речь в публикациях идет о Русском Груманте. Наши туда
начали ходить еще с 16-го, не то даже 15-го века, сменив викингов. При
этом норманнские визиты, видать, были больше на туристском уровне, а
поморы и двиняне, практически, оказались там полуоседлыми жильцами.
То есть, норманнского ничего археологи покуда из мерзлой
шпицбергенской земли не выкопали - а нашего навалом. Рубленные
дома, бани, амбары, салотопни. Вплоть до скотных дворов - ездили на
зверовой арктический промысел со своими баранами, да даже и с
коровами. В основном, конечно, били моржей. Клык повыше ценился, чем слоновый. Ну, и моржовую ворвань топили вместе с тюленьей. Дело-
то в те времена, когда воска уже на всех не хватит, слишком у многих на
свете привычка образовалась - по вечерам жечь свет. Вот, в лампы
перетопленный китовый, тюлений либо моржовый жир и наливали. Так
ведь и перебили бы всего морского зверя на планете, кабы не научились
бурить скважины и перегонять нефть на керосин.
В Новой Англии этот ворванный бизнес вызвал к жизни Нью-Бедфорд, Нантакет и Марта'с Винъярд, откуда выходили Капитаны Ахавы в
погоню за китами всех четырех полушарий: Западного, Восточного, Северного и Южного. Знаменитыми охотниками на китов были и
голландцы. На том же Груманте-Свальбарде-Шпицбергене у них было
привычное причальное место, с площадкой для береговой перетопки
ворвани, за устоявшийся в течение столетия запах справедливо
В гостях у тетушки Клио
прозванное Смееренбургом. Но к середине 17-го века голландцы, в связи
с возросшим благостоянием переключились на более ароматные
тропические кофе и пряности, а Шпицберген забросили. А наши, как раз, только тогда и начали как следует эту дорогу осваивать. Грумантом эту
землю прозвали, поскольку от норвегов да тех же голландцев что-то про
Гренландию слыхали, народ-то на Севере пограмотнее да понаслышнее, чем в Московии. Ну, по первости и решили, что - оно и есть, а там уж
прозвище зацепилось за гористой землей в Полярном океане.
С детства Грумант на слуху. Юрий Герман, капитан Бадигин, Шергин, Максимов, фильм студии Горького "Море студеное" с юной красавицей
Эльзой Леждей. Особенно, конечно, именно эта самая история
шестилетнего робинзонства архангелогородского кормщика Алексея
Хилкова со товарищи в избушке из плавника. Без попугаев, но зато с
белыми медведями. Вот это так люди - есть кем восхищаться! Называли
их, кто ходил за Студеное море, "груманланами", как ходившего на
заработки в С.-Петербург назовут "питерщиком". Ну, а к концу 18-го -
началу 19-го века, там, судя по старым записям в семейных
молитвенниках, да и по раскопкам, жили уже настоящие русские
вахтовые поселки-становища. По лету, конечно, намного больше, но
оставались и зимовщики. Били, как сказано, морского зверя, песцов, чернобурых лис, тех же медведей, оленей, рыбку ловили. Ну, что вообще
промышленники делают на Мурмане, Канином Носу, Новой Земле - то и
здесь. Подростки-зуйки куховарили, как Шергин описывает, собирали
яйца и гагачий пух на птичьих базарах. Единственно - женщин туда не
брали, вроде того, как на моей памяти было с нашими станциями
Антарктиды. Ну, может, которая, скрывая пол ... Тут не убережешься, не
то, что в гусарский полк или мужской монастырь - а на папёж однажды, сказывали, папиха Иоанна пробралась в городе Риме.
После детских книжек, кино и мечтаний об Арктике еще раз дальний
этот архипелаг за Студеным морем тенью коснулся моей жизни уже в
начале девяностых. Появился у меня знакомый - из ряда вон. Хенрик
Хафстад, норвежский подданный, хотел он, бедняга, что-то такое на
наши промысла поставлять, но никак не смог свыкнуться с обычаем
российских чиновников брать хабара, не приступая к делу. Кончилось
тем, что завязал он с бизнесом и женился на своей русской переводчице
могучей красотке Рите, оставив дом в Тронхейме и счет в Норск Банке
предыдущей супруге. Живут они теперь в Петербурге, а больше на
маргаритиной даче на Карельском перешейке, она и не нарадуется, как
он здорово все плотничные да садовые работы делает. Бедствовать никак
не бедствуют, поскольку Хенрик получает в Питере обломную
норвежскую пенсию участника Второй Мировой войны.
Вы бы его видели! Я так и рот открыл при знакомстве, особо когда
уточнилось, что он ровесник моей мамы. Двухметровый
короткостриженный седой и загорелый красавец в джинсе, ходит только
бегом и очень не дурак насчет водки с тоником. А в семнадцать лет
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
пошел он добровольцем в королевскую армию и воевал вместе с
англичанами и французами в Нарвике против горных егерей Дитля.
Попал в плен, увезен в Германию. Там за высокую кондиционность
арийских статей его в лагерь определять не стали, а поселили на вольном
содержании где-то в Голштейне. Рассчитывали, стало быть, использовать
пацана для улучшения породы. Но он на немецких телок не шибко
клюнул, а через недолгое время украл рыбачью лодку и ночью
отвалил через Северное море в Англию. И ведь добрался! Гитлермедхен, стало быть, остаются яловыми, а Хенрик вступает в части Свободной
Норвегии, обучается в канадском учебном лагере на диверсанта и потом
действует в Финмарке в группе известного Торстейна Робю, взрывает
мосты и наводит по рации торпедоносцы Ройал Эйр Форс на "Тирпиц" в
Альтен-фиорде. Имя Робю меня, конечно, сразу навело на тему о "Кон-
Тики", где тот был, если помните, радистом. Но на имя Тура Хейердала
мой новый знакомый реагировал крайне холодно. Что-то пробурчал
нелестное о своем прославленном земляке, что даже Рита и не стала как
следует переводить, что-то такое насчет "пацифиста" с сильно
неодобрительным оттенком. Ну, не мои разборки. Может, привязанность
какой-нибудь давно уж покойной канадки не поделили в том самом
учебном лагере.
О Хенрике можно, конечно, рассказывать - отсюда и до Полярного круга, но я о нем почему вспомнил? В сорок втором, в девятнадцать лет он
вместе со своим батальоном высаживался с английского эсминца на
Шпицбергене - выгонять немцев, занявших эвакуированный Советами
шахтерский поселок Баренцбург. Одним из самых его ярких
воспоминаний было то, что после изгнания нацистов в руки Свободных
Норвежцев попали, как переходящий трофей, брошенные русские
склады. И вот были там такие специальные русские сигареты с
картонными пустыми мундштуками и картой Северной Европы сверху
на пачке. Он и тогда, как и во всю свою жизнь, не курил, зато менял свою
долю "Беломора" с английскими матросами на шоколад. Вспоминал он
это дело, как исключительно удачную операцию, расхваливая высокие
вкусовые качества того, полувековой давности, шоколада.
Советские появились в Баренцбурге с 1932 года, когда "Арктикуголь"
получил концессию от королевского правительства. Живут там до сих
пор, рубают уголек, единственно, с перерывом на Великую
Отечественную. Не знаю, как сейчас, а в социалистические времена
работа там очень ценилась, потому, что платили не деревянными, а
специальными бонами. Ну, ничего тут плохого нету, как наш строитель
Юра Лесс говорил: " Мы тут не за поцелуи работаем". Где-то полярный
коффициент суммой прописью людей стимулирует, где-то выделяют на
распределение автомашины и ковры, где-то можно стройматериалы
спокойно воровать либо за рубеж путевки поиметь. Вон, моего приятеля
жена работала в НПО "Астрофизика" и часто генерального в поездках по
закрытым городкам сопровождала - так у них колбасы из
В гостях у тетушки Клио
общедоступного "Гастронома" на столе не увидишь - все в доме только
то, что Надюша привезла, от цветного телевизора до булгаковского
однотомника. И по крайне умеренным ценам. А где-то этого ничего нету
- зато библиотечный день, работа на дому, да и вообще появление на
службе - повод с Людочкой из отдела изъявительного наклонения пару
часиков в пустом кабинете совместно Кама Сутру почитать.
Но, поскольку уголек и сейчас рубают - значит, есть резон и при
гайдарочубайсах этим заниматься. В отличие от, скажем, Мосбасса или
того же НПО "Астрофизика". Начали это дело еще при Романовых, в
начале ХХ века, но был для России перерыв, в связи со случившейся с
нами в тысяча девятьсот семнадцатом неожиданностью. А вообще этот
этап освоения Шпицбергена-Свальбарда-Груманта начался на рубеже 19-
го и 20-го столетий. Была там как раз в 1899-1901 гг. русско-шведская
экспедиция, составили первую подробную карту, наименовали главное
плато архипелага Ломоносовфонна, обнаружили полезные ископаемые.
Конкретно - десять миллиардов тонн того самого уголька. Спервоначала
многие приплыли поучаствовать: американцы, бритиши, немцы, шведы, голландцы по старой памяти, но постепенно все отпали и нынче там
уголь добывают только привычные к климату Россия да хозяйка
островов - Норвегия, установившая там свой флаг в 1920-м, когда нам, согласитесь, было совсем не до этого. Много уже лет ищут на островах и
вокруг нефть и газ. Перпективы неплохие - но что-то всё остаются
перспективами. Нынче там постоянно живут полторы тысячи норвежцев, больше тысячи наших и девять душ поляков-научников с
исследовательской станция Хорнсунд. Плюс больше ста тысяч туристов, побывавших на островах за последний год. Вот столько за столетие
освоения набралось.
А как же с "вахтовками" наших поморских груманланов, про которые мы
говорили? Их к приходу той экспедиции 1899 года не было уже больше
полувека. Еще в Крымскую войну проходом к Коле и Соловкам подошла
к Шпицбергену английская эскадра. Дай, думают, разорим это русское
гнездо, чтоб знали! А там - никого. Только чайки кричат. Одно
расстройство, так пострелять и не случилось, кроме как в глупую птицу.
Так куда ж они, в самом деле, подевались? Жили ведь. Промышляли, по
лету многие сотни наезжих прибывали, да и на зимовку оставались. Уж
не хуже, чем в ту же пору на Фольклендах. И - тишина.
Бывает, конечно, и так. Вот те же викинги на настоящей Гренландии, той, что у американских берегов, обосновываются в 11-м веке и
полностью исчезают к 15-му. Но тут как раз более или менее понятно, в
чем дело. В 13 веке начинается "малый ледниковый период" в Северном
полушарии. На Кавказе снег заносит былые горные убежища аланов, погибает их держава. В Альпах перевалы становятся на столетия
непроходимыми и габсбургские наместники начинают помыкать
ослабевшими горцами, не ожидая, что не за горами потепление и
Вильгельм Телль. Замерзает Чудское озеро на горе тем, кто будет
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
проверять толщину льда не снявши брони. Соответственно, льды не
каждый год позволяют плавать из Бремена или Шотландии в Норвегию, а
сообщение с Гренландией прекращается совсем. Прекращается всякая
связь заокеанских анклавов с Европой и Исландией, подпитка кадрами, новыми идеями, техническими средствами, да просто привоз железа и
строительного дерева, которых в Гренландии взять неоткуда. И как раз в
эту пору до района викинговских поселений в юго-западной Гренландии
добрались, наконец, эскимосы, расселявшиеся с Аляски через полярную
Канаду и Северную Гренландию. Они, как кажется, и добили ослабевшие
норвежские поселения, сами поселившись на освободившихся местах.
Вот, к слову, хороший вопрос для современного борца с
империалистами: европейцы заселили эту землю первыми, неевропейцы
пришли потом и уничтожили европейскую колонию - чья это исконная
земля и кому она должна принадлежать согласно принципам
мультикультурализма и антиглобализма? Интересно бы послушать ответ.
Но к Груманту это все не имеет отношения. Никакого "малого
ледникового периода" между 1820-м и 1899-м годом не наблюдалось.
Климат все это время был примерно тот же, что и в годы расцвета
груманского промыслa, что и теперь, когда наши шахтерские поселки
неплохо живут под норвежской эгидой. В чем же дело с нашими
груманланами? Вот те раскопки, с которых мы начали, на этот вопрос и
ответили. Раньше об этих делах только доходило через устную традицию
да записи, хранившиеся в старых, а по большей части старообрядческих, поморских и двинских семьях, там, где до них не добрались
комсомольские энтузиасты при раскулачивании. А вот теперь откопали
археологи черепа, привлекли к делу Институт Судебно-медицинской
Экспертизы: одному зимовщику голову проломили обухом топора, у
другого - глубокая колото-резаная рана, у третьего срублена часть лица, четвертого зарубили во сне. Делается также глубокий вывод, что раны
оказались смертельными. Ну, тут, кажется, доктор медицинских наук не
так и нужен. Знамо дело - смертельные, коли на Груманте и померли, и в
мерзлоту легли. Вот, значит, девушка из "Информнауки" и пишет, что
бывало - " хозяева артелей нанимали случайных людей, часто
ссыльнокаторжных, коих на Севере было немало. Как рассказывали
местные жители, были группы людей, которые специально ехали на
Шпицберген заниматься грабежом промысловиков. На острове
процветал разбой, работать стало опасно, и в середине XIX столетия
это традиционное занятие поморов прекратилось".
Понять, конечно, можно и тех, и тех. Идиотов, чтобы специально ехали
на Грумант с целью под обух попасть - таких на Севере найти нелегко.
Там народ все же посмышленей, чем в Центрально-Нечерноземной зоне.
Но и эти, с топором - подумайте сами: ты тут должен на морозе
корячиться, чтобы хозяину артели прибавочную стоимость добывать! По
академику С.Максимову, а он знает, специально провел год на Севере по
гранту от Генерал-Адмирала Константина Николаевича, выясняя, что да
В гостях у тетушки Клио
как, хозяин артели за то, что дает коч-лодью, да снаряд, ружья, порох, капканы, невода для рыбы и отдельно для дельфина-белухи, да бахилы и
меховой совик, да припас на полгода мучной, соляной и прочий -
забирает, дармоед, себе половину добычи, не считая того, что свой пай
вместе с другими промышленниками имеет. Ну, это, может, и правильно, на льду-то все вместе - а та половина за что? Убить мироеда! Тем более: чем - на промысле всегда найдется, в раскопках становищ и кремни
ружейные найдены, и гарпуны, и охотничьи копья . А тут ведь важно
начать ... . А остальные ... да не привыкли к таким ситуациям, не знают, как себя вести. Вот же пишет журналистка: " Жизнь в промысловых
поселках текла размеренно, по заведенному издревле порядку, люди
вокруг были надежные, родственные, ревностно блюли православные
Ну, а заведется пара таких бойцов - становищу конец. Кто жив остался -
больше уж на Грумант не вернется. Тем более, коч за свои деньги
снаряжать не станет. Дело вполне понятное. Тем более - власти никакой
нету. В Архангельске либо Кеми градоначальник, конечно, должен
разрешение дать, билет выписать на груманский промысел и подать
забрать - но и только. Тут, за Студеным морем, его власти нету, да и
император Николай Павлович тут, вообще-то, никто. Послать фрегат из
Архангельского Города, да прибрать место, где русские люди
промышляют, под российский закон, какой ни есть - а кому это надо? У
империи без этого дел по горло: греков защищать, аварцев усмирять, болгар освобождать, австрияков от венгров спасать, с французами
выяснять - где чьи ключи. От Аляски-то не знают как избавиться. Так что
- на российскую власть лучше не рассчитывать. Она среди льдов
толкаться не собирается, тем более: так вот плавают Бог знает куда - не
уплывут ли однажды и вовсе? Не будет такого промысла - казна намного
не обеднеет, а головной боли сильно поубавится.
Но послушайте! Это же классическая ситуация. Полиции нет, бандиты
разгулялись, жители по своим хижинам жмутся, боятся голову поднять
— значит в поселок сейчас должен въехать Клинт Иствуд на своем
гнедом. Дешевая кинопропаганда? Да как сказать ... Дальний Запад-то, действительно, навел у себя порядок своими силами, ОМОН из Бостона
никто не присылал. С индейцами, да, армия Соединенных Штатов
повоевала. А разгул бандитизма в новорожденных поселках горняков и
фермеров к западу от Миссури был укрощен домашними средствами -
комитетами виджилянтов, судом Линча и, будете смеяться, местными
шерифами, иногда, на самом деле, из бывших бандитов, решивших
поменять профессию и начать новую жизнь. То же самое в Австралии -
по определению в Ботани-бэй не комсомольцев-добровольцев везли, а
воров и грабителей, это уж в лучшем случае, если мошенников. И вот -
жить-то надо, сами и навели порядок, практически без участия
метрополии. Сейчас не жалуются.
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
Почему же у нас ... Что ж в самом деле, кормщики Студеного моря, охотники на белуху и полярного медведя, суровые жители Беломорья и
Подвинья пожиже будут, чем ихние золотоискатели из вчерашних
клерков и фермеров? Очень сомневаюсь. Нет привычки к
самодеятельности, к самоуправлению, к самозащите? Соборность
знаменитая мешает, привычка первым не соваться? А, может быть, дело
как раз в том, что поселки Груманта были чисто мужские? Не было
женщин и детей, которых защищают, не щадя себя, забывши народную
мудрость насчет хаты с краю. Вот, значит, для чего нужна в фильме
блондинка в лапах негодяя! Чтобы герой, наконец, бросив покер, промывку песка и прочие текущие дела, вышел на бой со Злом. Выходит, под маской дешевых страстей "вестерн" тут говорит о достаточно
серьезных вещах. А мужчины без женщин не могут, как следует, дать
отпор ни уркам на Груманте, ни той же самой разгулявшейся
государственной власти в Запорожской Сечи. Ни самим же себе, только
годом старше, в доедаемой дедовщиной и землячествами современной
Не знаю. И спросить не у кого. Русь? Она и не таких, как я, оставляла без
Напечатано в журнале ''Химия и
жизнь' , 2018, номер 4, стр. 30-33
КАК ВЕРМАХТ СМОГ ВОЕВАТЬ ШЕСТЬ
ЛЕТ ПРИ ДЕФИЦИТЕ НЕФТИ
Капитану первого ранга профессору Андрею Витальевичу
Платонову с неизменными уважением и симпатией
Мне, собственно, уже довольно давно задал этот вопрос петербургский
приятель: "Как же, все-таки, Вермахт смог выдержать почти
шестилетнюю мировую войну с его ограниченными ресурсами моторных
топлив?" Но вот все руки не доходили. Сейчас попробую ответить.
Многие свидетели начала Второй Мировой войны во Франции
вспоминают развешенный повсюду лозунг французского министра Поля
Рейно: "Мы победим, потому, что мы сильнее!". В конечном итоге этот
слоган оказался правдой, но на пути к этому было поражение и
оккупация Франции, многие миллионы смертей и разрушения по всей
Европе. Основана же была эта уверенность в победе на том, что на
стороне союзников и, во всяком случае, вне доступности Гитлера были
почти все ресурсы земного шара. Конечно, союзники превосходили
германо-итальянский блок в 2,7 раза по населению и в 7.5 раз по
территории. И британский флот, без сомнения, отрезал агрессора от
большей части земного шара.
В гостях у тетушки Клио
Единственный из основных стратегических ресурсов, который был у
немцев в избытке — это каменный уголь. Своя добыча нефти покрывала
менее 9% потребности. Без шведской железной руды, финского никеля, французских бокситов, никарагуанского каучука, карибской и
американской нефти, балканского зерна и много другого Германия
садилась на голодный паек. Американский журнал "Ойл энд Гэз" в своей
статье от 7 сентября 1939 года подчеркивал, что только 11%
импортируемой нефти поступает в III Рейх из доступной по суше
Румынии да еще 1,7% из СССР, вся остальное идет из-за моря. Еще через
неделю в том же журнале появилась статья под названием "Нацистская
военная машина перед лицом нехватки нефти". Автор статьи Стэнли
Норман предсказывал , что германская нехватка жидких топлив начнется
к середине 1940 года, хотя он особо упоминает о наличии в Рейхе
больших резервов нефти и нефтепродуктов и о значительном
производстве синтетического бензина и дизтоплива из угля, а также
этилового спирта из картофеля.
Собственно, это и делало для вермахта обязательным блицкриг. Долгой
войны на собственных ресурсах он не мог выдержать. Но за сентябрь
1939 года под немецким контролем оказались ресурсы западной
половины Польши, в апреле 40-го ресурсы Норвегии и путь к шведской
руде Кируны, а в июне сломалась Франция и в распоряжении Рейха
оказались лотарингская железная руда и многие ресурсы французских
колоний. Оказалось, что союзники не столько сильнее Германии, сколько
богаче. Нефть и нефтепродукты в определенных объемах поступали в
Германию из сталинского Советского Союза, а также из полностью
попавших под немецкое влияние Румынии и Венгрии. Но, конечно, из-за
океанов ничего легально привезти было нельзя. Контрабандой кое-что
поступало даже из самой Британии (через Испанию), но это были крохи.
Кроме того, на иждивении у Берлина оказалась союзная Италия. Если
немцам нехватало нефти и некоторых металлов, то итальянскую
ситуацию можно охарактеризовать коротко - им не хватало Всего.
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
Военное производство у Муссолини было развито неплохо - и авиация, и
военное судостроение. Но базовые отрасли индустрии - металлургия, химия, станкостроение - сильно отставали или зависели от импорта
сырья. В Риме это понимали и разработали план "автаркии", направленный на преодоление зависимости от импорта стратегического
сырья и топлива, увеличения собственной добычи руды и др. Но дело
поддавалось заклинаниям плохо. Уже во время итало-эфиопской войны
достаточно было бы британского закрытия Суэцкого канала для танкеров
с муссолиниевскими нефтепродуктами, чтобы фашистская армия в
Восточной Африке застыла на месте.. На счастье дуче правительство
Болдуина этого не сделало. Но зависимость страны от импорта была
несомненной. Гитлеру пришлось со вступлением Италии во Вторую
Мировую войну практически взять на германский баланс и поставки
союзнику нефтепродуктов, и железную руду с углем для
металлургических заводов, и многое другое.
Расходы на Италию были сравнимы с собственным потреблением Рейха.
Так, в 1942 году, последнем перед выходом итальянцев из игры, потребление моторного топлива в Германии (без вермахта) было равно
357 тыс. тонн, а экспорт в Италию - 285 тыс. тонн, поставки топлива для
военно-морского флота дуче были 280 тыс. тонн, для германской
Кригсмарине досталось всего 140 тыс. тонн.
При этом, по опыту предыдущей мировой войны все заранее знали, что
потребность в нефтепродуктах в военное время возрастает примерно в 3
раза по сравнению с мирной. Известный германский экономист
Ф.Фрейденсбург уже в 1937 году определил германскую потребность в
импорте нефти в случае войны в 20 млн тонн. И это еще был самый
оптимистический прогноз. Другие предсказывали в два раза больше.
Реально германское потребление нефтепродуктов оказалось таким: 136
В гостях у тетушки Клио
При этом собственная добыча нефти в Рейхе (включая аннексированные
Австрию, Чехословакию и французский Эльзас) выросла с 1940 года до
1944 (по 1-му кварталу в пересчете на год) с 1465 тыс. тонн до 1963 тыс
тонн. То есть, как видим, своя добыча росла почти до самого конца, но
ее, конечно, было маловато.
А импорт нефти и нефтепродуктов (из СССР, Румынии, Венгрии) все
годы был ниже трех миллионов тонн. Как же, все-таки, сумела Германия
продержаться почти шесть лет войны? Тут несколько причин. Каждой из
них в отдельности было бы недостаточно. Но все вместе они позволили
нацистскому Рейху протянуть до мая 1945-го. Да и тогда нехватки
бензина и прочего было бы недостаточно для краха вермахта.
Понадобились советские танки и союзные бомбардировщики, Жуков, Рокоссовский и Паттон.
Ну, давайте по отдельности рассмотрим те факторы, которые позволили
держаться Германии в условиях острого дефицита нефти.
1. Нефть. Собственная добыча + импорт, доступный после начала войны.
По поводу румынского и венгерского экспорта в Германию много не
скажешь. Венгрия Хорти, получив из рук Гитлера Южную Словакию, и
Закарпатье в 1938 году, и по Венскому арбитражу Северную
Трансильванию, стала верным вассалом фюрера и отдавала Германии
все, что могла. Румыния пыталась сначала традиционно ориентироваться
на Францию, но после ее падения пала на колени, отдала по указке
Берлина Бессарабию Советскому Союзу, Северную Трансильванию
венграм, Добруджу болгарам. С приходом к власти в Бухаресте
кондукатора маршала Йона Антонеску Румыния пошла целиком в русле
германской политики. За это ей было разрешено расправиться с
равшимися к власти собственными нацистами Хория Симу и Кодряну, были обещаны на будущее после победы над Сталиным возврат
Бессарабии и новые земли за Днестром. Так что и румыны были готовы
отдать фюреру все, что можно. До весны 1944 тут проблем почти не
было. Только в мае 44-го два бомбовых налета американской авиации на
Плоешти снизили выпуск горючего наполовину. Ну, а после августа того
же года румыны перешли на сторону союзной коалиции и вывоз топлива
в Германию прекратился.
Но тут были чисто технические трудности. До войны основной
румынский экспорт нефти (80% из 4,5 млн тонн) шел через порт
Констанцу в Германию, Великобританию, Италию, Францию и другие
страны Средиземноморья и Европы. Война сделала этот маршрут
невозможным. Трубопроводов в европейские страны почти не было и
оставался вывоз небольшими танкерами по Дунаю. До войны это было
только 20% экспорта и быстро увеличить количество этих танкеров было
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
Плохо помнится, но подобная же проблема существовала и для СССР.
Весь советский экспорт шел через порты Черного моря. При этом наша
страна была единственной в мире, для которой реальный вывоз был
много меньше потенциала. "Ойл энд Гэз" оценивала советский избыток
нефти и нефтепродуктов, возможный для продажи, в 7 339 тыс тонн, в то
время, как реальный экспорт за первые 7 месяцев 1939-го года был всего
430,7 тыс тонн. Отчасти тут сказывался бойкот советской нефти, организованный президентом "Ройал Датч Шелл" Генри Детердингом с
20-х годов.
Главными покупателями нашей нефти были Великобритания, Италия и
Турция. Но путь через проливы в Средиземное море был закрыт с
началом войны и для нее. Поэтому Рейх, как покупатель нефти и
нефтепродуктов был, в определенной мере заменой заморских клиентов
и когда мы говорим о спасительности для Германии этой торговли, надо
учесть и ее выгодность для нас самих. Тут был и довольно странный
вариант танкерного транспорта из Батуми в Констанцу и далее вместе с
румынским по Дунаю.
В Германию вывозили не нефть, а нефтепродукты, но надо сказать, что
вывоз сырой нефти и так к началу войны упал до нуля. Собственно, начиная с 1930 года советский экспорт и нефти и нефтепродуктов
непрерывно падал. А в 1939 году оказалось, что отношения с
Великобританией и Францией испортились из-за советско-финской
войны. Так что экспорт в Рейх развернулся довольно широко. Всего до
В гостях у тетушки Клио
22 июня 1941-го, прекратившего эту торговлю, было вывезено 942 тыс
тонн бензина, газойля, мазута, смазочных масел и т.д..
По поводу оккупированных территорий Советского Союза можно
сказать, что в 1941 году немцам достались в целости промысла и
нефтезаводы Западной Украины. Но вот в 1942 году, когда вермахт
рвался на Кавказ, Сталин поручил молодому замнаркома Н.Байбакову
вывести из строя промыслы Майкопа. Тот блестяще справился с задачей.
Все скважины были выведены из строя, так что, несмотря на все попытки
немцев возобновить добычу, им не удалось получить более 11
тонн/сутки, что в пересчете на год равно всего 3,5 тыс тонн, при том, что
довоенная добыча "Майкопнефти" была 2333 тыс тонн. Надо сказать, что
Байбаков еще и сумел после войны восстановить все эти скважины.
2. Разовые ресурсы. Предвоенные запасы и трофеи.
Запасы Германии на август 1939 были равны 2176 тыс тонн, в т.ч. -
авиабензин, автобензин и дизтопливо - 1366 тыс тонн. Надо сказать, что
немцы всю войну старались поддерживать достаточные запасы нефти и
нефтепродуктов и только к весне 1944 года, когда все месторождения
были захвачены Красной Армией и союзниками, а заводы по
производству
искусственного
нефтеперерабатывающие заводы были разрушены авиацией, эти запасы
истощились.
Что касается трофеев: в результате кампании на Западе в 1940 году
немцами было захвачено 745.000 тонн топлива, по результатам кампании
1941 года (это преимущественно СССР) 112.000 тонн. И в результате
экспроприации итальянского топлива после выхода Италии из войны
немцам досталось 140.000 тонн. Нашим дизельным топливом вермахт
практически не мог воспользоваться на месте, так как их танки работали
на бензине. Что могли - вывозили в фатерланд, где оно было нужно
подводным лодкам Деница и надводным судам и тракторам экономики.
Но все равно - "война себя окупала", хотя бы частично. Но так было, разумеется, только до тогo, как фронты покатились назад в пределы
Фатерланда.
3. Синтетические жидкие топлива.
Ну, один из наших с вами ответов знают все. Это производство
нефтепродуктов из угля гидрированием или по методу Фишера-Тропша.
Первая такая установка заработала в 1928 году в саксонской Лёйне. Но
бензин получался примерно в 10 дороже импортного американского. Но
когда наци пришли к власти, они всячески стимулировали такое
"автаркичное" производство. По Четырехлетнему плану Геринга и потом
по дополнительным программам уже во время войны в Рейхе было
построено 26 различной производительности установок гидрирования и
Фишера-Тропша.
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
Кроме того, использовались этиловый спирт, полученный из картофеля, бензол из коксохимии и сланцевая нефть. В отличие от нынешней ее
извлекали из сланцев на специальных установках. Такие установки еще
до войны работали в Эстонии, Латвии, Франции, и со временем они
оказались под контролем вермахта.
Строительство заводов синтетического топлива продолжалось и во время
войны, так что его производство возрастало до весны 1944 года, когда
после успешных бомбардировок союзной авиации, разрушивших ряд
заводов, оно покатилось вниз. Рейсминистр вооружений Шпеер описал
В гостях у тетушки Клио
это в своих мемуарах так: " ... с налетом девятисот тридцати пяти
дневных бомбардировщиков 8-й американской воздушной армии на
несколько заводов по производству горючего в Центральной и
Восточной Германии в воздушной войне началась новая эра - крах
немецкой военной промышленности".
К августу "... было произведено 10 процентов от прежних объемов, в
сентябре - 5,5 процента, в октябре - снова 10. В ноябре 1944 года, к
нашему великому удивлению, выпуск составил 28 процентов (тысяча
тридцать три тонны ежедневно)". Ну, и далее с продвижением советских
и союзных войск по территории Рейха заводы один за другим
прекращали давать топливо вермахту и Люфтваффе уже без
бомбардировок.
Основное производство приходилось на долю гидрогенизации угля. Этот
процесс и появился пораньше, и установки стали строиться еще по
Четырехлетнему плану. Кроме того, только этим процессом
производился почти весь германский авиабензин. Установки Фишера-
Тропша давали только сравнительно хорошее дизтопливо и автобензин.
Определенный вклад в производство моторных топлив давали разгонка
каменноугольной смолы, а также производство этилового спирта из
несортового картофеля.
4. Газогенераторные автомобили.
Суммарное количество работающих автомобилей на 1935 год в Германии
было равно 1054 тыс., в Австрии - 45,2 тыс. и в Чехословакии 62,6 тыс..
Суммарно - 1161 тыс автомобилей. В 1940 году в Германии, включившей
в себя Австрию и Чехию, числилось 1656 тыс авто. В т.ч. 1272 тыс.
легковых автомобилей и 384 тыс. грузовиков.
Годовой выпуск автомобилей в Рейхе (включая, конечно, Австрию и
Чехию) колебался в период войны между 100 и 150 тысячами в год. При
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
этом, доля автотехники, поступающей в Вермахт с 1939 до до 1944 года
увеличилась с 15 до 90%.
В этих условиях 500 тыс авто, оборудованных газогенераторами, обозначают, что практически почти все невоенные немецкие автомобили
заправлялись не автобензином, а дровами и бурым углем. Более того, известны случаи, когда газогенераторы ставили на танки. Ну, конечно, не
в бою, а на учебные. Между прочим, это упоминается в известном
гэдээровском романе "Приключения Вернера Хольта", очень популярном
в СССР в 60-х годах.
Мне, конечно, могут возразить, что Штирлиц в известном фильме ездил
без такого "самовара". Все, что я могу сказать, это то, что мы с вами
видели в кино - "Мерседес" (кстати, по роману-то - "Хорьх") - машина не.
В гостях у тетушки Клио
Штирлица и не народного артиста В.В. Тихонова. Это был специально
купленный для съемок Мосфильмом автомобиль и странно было бы
увидеть на нем газогенератор в 1973 году. Режиссер Татьяна Лиознова, конечно, специально этим очень специальным вопросом не занималась
5. Гужевой транспорт. Овес и сено, как замена нефтепродуктов.
Про Вторую Мировую войну уже заранее, еще со времен Версальского
мира, было известно, что это будет "война моторов". Все помнили слова
Керзона о Первой Мировой "Союзники приплыли к победе на волне
нефти", а также формулу "Победа союзников над Германией - это победа
грузовика над локомотивом". Однако практически степень моторизации
войск таких важных участников ВМВ, как СССР, Германия и Япония
оказалась далекой от 100%.
Относительно Третьего Рейха это и теперь многие не понимают.
Помнится, в старых советских фильмах и романах о начале войны
красноармейцы всегда в лучшем случае с трехлинейками и пешком, а
немцы всегда со "Шмайсерами" и на мотоциклах с колясками или
автомобилях. На самом деле, в штате германской пехотной дивизии
образца 1940 года предполагалось наличие 12609 винтовок и карабинов и
всего 312 пистолет-пулеметов (автоматов). В 40 раз меньше.
Рейхсминистр вооружений Шпеер вспоминал впоследствии о своей
поездке на фронт в декабре 1943 года: " ... и солдаты, и офицеры
жаловались на недостаток легкого пехотного оружия, особенно -
эффективных автоматов. Солдатам приходилось довольствоваться
трофейным советским оружием этого типа. Гитлер нес прямую
ответственность за сложившуюся ситуацию. Пехотинец Первой мировой
войны, он до сих пор хранил верность хорошо знакомому карабину".
То же было и с моторизацией. По штату пехотной дивизии вермахта на
16860 чел. личного состава полагалось 1743 верховых лошадей, 3632
тягловых лошадей, 895 повозок, 31 прицепов, 500 велосипедов, 530
мотоциклов ( из них 190 с колясками), 394 легковых автомобилей, 536
грузовиков ( из них 67 с прицепами). Таких дивизий было 100 из общего
числа 127 дивизий, начавших войну против СССР. Кроме того, были еще
9 моторизованных, 17 танковых и 1 кавалерийская дивизия. Ну, и
союзники: румыны, венгры, финны, словаки, со временем - итальянцы и
В то же время в стрелковой дивизии РККА по штатам 1940 года
числилось 10240 винтовок, 1204 пистолета-пулемета Шпагина, 827
автомашин всех видов, 88 арттягачей и тракторов, 4218 лошадей.
В германской стрелковой роте на 201 человек личного состава
полагалось 16 пистолетов-пулеметов, 12 ручных пулеметов, 44
пистолета, 130 карабинов, три противотанковых ружья , три 50-мм
миномета. Кроме того, рота располагала одной лошадью под седлом, 12-18 тягловыми лошадьми, тремя конными повозками, 8 велосипедами, 143
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
одним мотоциклом, одним мотоциклом с коляской. Всего же в вермахте
в разгар войны, в 1943 году было примерно 1,4 млн лошадей.
Конечно, они требовали фуража, как минимум 10-12 кг каждая
ежедневно. Всего у нас с вами получается более 6 млн тонн в год. Но
овес и сено были все же более доступны для вермахта, чем нефть. Частью
их поставляло собственное сельское хозяйство, часть доставляли
союзники и оккупированные территории. Вообще надо сказать, что
продовольственная служба Рейха работала достаточно эффективно. И
фураж доставлялся в достаточном размере, и продовольствие для
населения империи, в отличие от Первой Мировой войны с ее страшной
"брюквенной зимой" 1917 года, почти до самого конца, до 1945 года
поступало в Германию исправно, не меньше биологических норм. Тут
можно добавить, что когда фронт покатился назад на Запад, какое-то
количество вермахтовских лошадей стало попадать в трофеи Красной
Армии. И фронтовики вспоминали, что переведенные на советский
режим кормежки, "разом густо, разом пусто" немецкие лошадки болели и
часто выходили из строя. У своих их кормили более регулярно.
Конечно, это перевести в тысячи тонн нефтепродуктов крайне сложно.
Но попробуем хотя бы приближенно оценить эту величину. Если
посмотреть количество лошадей и автомобилей в пехоте и артиллерии, можно допустить, что без гужевого транспорта количество автомобилей
пришлось бы увеличить наполовину. Ну, и соответственно, расход
автобензина в вермахте - примерно на треть. Тогда для середины войны, для 1943 года получаем около 400 тыс. тонн.
Ну, что ж, попробуем подвести итоги. На самый разгар войны, на 1943
год по разным данным получается потребление моторных топлив и их
заменителей от 9,5 до 11,3 млн тонн. Примем меньшую величину 9538
В гостях у тетушки Клио
тыс тонн. Тут суммарно и Вермахт с Люфтваффе и Кригсмарине
(примерно 84% потребления), и гражданские потребители, включая
"Хорьх" штандартенфюрера Штирлица (оставшиеся 16%). Конечно, это
сильно уступает американским ресурсам. Но с Красной Армией уже
можно сравнивать. Мы в 1943 году добыли около 18 млн тонн нефти, но
надо учесть, что примерно половина ее потреблялась в виде мазута и
только другая половина превращалась в моторные топлива и масла.
Посмотрим немецкие ресурсы по источникам.
Как видим, крупнейшим было получение жидких топлив из угля методом
гидрогенизации. Затем идет импорт нефтепродуктов, главным образом, из Румынии. Вот по этим двум ресурсам были нанесены удары
американской авиации 12-го и 28,29-го мая 1944 года. После этих
налетов рейхсминистр вооружений Шпеер и сделал вывод, что "началась
новая эра - крах немецкой военной промышленности".
Ну, а после того, как Красная Армия в августе 1944-го заняла Плоешти, а
союзники вырвались со своего нормандского плацдарма на просторы
Франции, можно уже говорить о постепенном коллапсе системы
обеспечения топливом, как и вообще Вермахта и всего Рейха. Но надо
честно признать, что ценой мобилизации всех своих возможностей
Германия сумела обеспечивать жидким топливом свои вооруженные
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
силы и народное хозяйство почти шесть лет Второй Мировой войны, что
многими до того считалось невозможным.
Напечатано в журнале «Знание-Сила» NNo 1 и 2 за 2020 г.
ДВЕ ПЕРВЫЕ КОЛОНИАЛЬНЫЕ ИМПЕРИИ
XVI век, который обычно называют веком Великих Географических
Открытий, можно еще назвать веком создания мировых колониальных
империй. До этого времени Европа, особенно после падения Рима, ничем
особенным не выделялась в остальном мире. Во главе технического
прогресса, скорей, был Китай, создавший и компас, и порох, и
книгопечатание. Правда, порох китайцы применяли, в основном, для
фейерверков, а компасы использовали для правильной ориентации своих
кроватей по сторонам света. Но, все же, знаменитый евнух Чжэнь Хэ, друг императора, совершил флотом огромных джонок задолго до
Колумба и Васко де Гамы семь плаваний в Юго-Восточную Азию, Индию, Аравию, Африку и Мадагаскар. И ... нулевой конечный
результат. После смерти императора флот сожгли, все упоминания об
этом из летописей вычеркнули, заморские плавания запретили. А
европейские Великие Открытия так изменили судьбу планеты как до
этого, да и после этого она не менялась.
И в авангарде этих открытий и изменений оказались две пиринейские, сравнительно молодые, не очень большие и совсем не богатые страны: Испания, точнее, Кастилия и Португалия. Причем обе страны-
открывательницы даже не считались особенно морскими. Их порты, Лиссабон, Кадис, Палос служили до этого только для рыболовства и
небольшой каботажной торговли. По сравнению с Константинополем, Венецией, Нантом, Генуей или Александрией тут была глушь.
Единственным действительно международным портом на полуострове
была Барселона, которая в XIV веке была центром империи, простиравшейся от Эбро до Малой Азии. Но в XV веке она была
вынуждена уступить первенство итальянским республикам Венеции и
Почему же именно Испания и Португалия? Ну, во-первых, это, все-таки, страны не просто морские, но именно океанические, атлантические.
Длина португальского побережья равна 830 км, а атлантическое
побережье Испании – 970. Испанские и португальские рыбаки в погоне
за треской и тунцом рисковали уходить довольно далеко в океан, несмотря на ужасные рассказы о жутком водопаде морской воды на краю
Земли и о морских чудовищах. Затем, в обеих иберийских странах было
многочисленное (более 10% населения) дворянство, закаленное в
сражениях Реконкисты. Мы с вами знаем идальго по великой
философской пародии Сервантеса, а ведь это были умелые, фанатичные
В гостях у тетушки Клио
и жестокие воины, закаленные в сражениях с маврами, сменившие
швейцарцев в качестве лучших солдат Европы своего времени. Это были
кадры, очень пригодные для завоевания заморских земель. Всего
Португалия могла выставить в строй не меньше 25-30 тысяч фидалгу, ну, а Испания располагала примерно 200 тысячами идальго. Если учесть, что
к дворянам для переселения за море присоединялись и простолюдины –
этого хватило для создания Испанской Америки от Техаса до Огненной
Земли и Португальской Америки – Бразилии. Для значительных
поселений в Индии, Индонезии и Африке колонистов все-таки не
хватало, что и привело к потере этих территорий с конца XVI по XX век.
Если посмотреть на то, как делались Великие Географические открытия
и создавались империи, то сразу бросается в глаза разница методов и
организации у кастильянос и португезес. Отчасти оно напоминает
разницу в организации и принципах отечественных нефтяной и газовой
отрасли в 90-х годах. Если в нефтедобыче во главе предприятий были
нефтяные бароны, то Газпроме делами ворочали газовые генералы.
Отличие понятно. «У каждого барона своя фантазия», а генералы, хотят
или не хотят, но должны уметь делать «под козырек» и говорить
вышестоящему начальству: «Так точно!»
Так же и с открытиями и завоеваниями XVI века. У испанцев дело
обстояло примерно так же, как и с русским покорением Сибири. Каждый
новый землепроходец и конкистадор сам придумывал себе задачу, уговаривал Власть помочь или хотя бы не мешать, часто уходил в поход
«из-под страха оков», а после своего успеха посылал родственников или
ближайших сподвижников к королевскому двору с золотым грузом
трофеев, чтобы получить согласие престола на уже состоявшееся
завоевание Мексики или Перу. Так Колумб выпросил, наконец, у
Фернана и Изабеллы согласие на путешествие в открытый океан, долго
уговаривал их, что добрался-таки до Индий, изведал в благодарность
монаршие немилость и оковы. Часто в итоге оказывался не лучший конец
для Покорителя. Так завоеватель Перу Франсиско Писарро погиб от руки
сына своего соперника Альмагро.
Не то в Португалии. После конца реконкисты в XIV веке примерно
столетний перерыв, занятый войнами как раз с Кастилией, потом захват
Сеуты в Африке войском под командованием короля Жуана I и его сына, известного далее как Энрике Навигатор. Португальцы знали, что именно
этот город был конечным пунктом для транссахарских караванов с
золотом из Черной Африки и надеялись стать теперь конечными
получателями этого золота. Оказалось, что это не так, верблюды стали
приходить в Танжер, а инфант Энрике, только что ставший главой
Ордена Христа, уцелевшего португальского филиала тамплиеров, удалился в Сагреш, крайний юго-западный выступ его страны в океан и
создал там морскую школу, для обучения навигации, кораблестроению, обращению с парусами и прочим наукам для мореплавателей. И далее
сначала он, а потом его племянник король Афонсу V посылают
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
экспедицию за экспедицией все дальше и дальше вдоль сначала западных
берегов Африки, а потом в Индию. Главы экспедиций послушно
выполняли задания и не протестовали, если следующая экспедиция
поручалась другому.
Конечно, и тот, и другой иберийский народ оставались в рамках
полуостровных национальных характеров и своего времени. И у
португальцев, и у испанцев глава экспедиции не раз сталкивались с
бунтом матросов и офицеров своих кораблей, требующих повернуть
назад в страхе перед Неизвестностью. Была даже попытка вице-короля
Индии Д’Алмейды не допустить к власти своего преемника
Д’Албукерки, но, как принято в Португалии, он сразу смирился после
прибытия посланца короля Коутиньо.
Шло, конечно, определенное соревнование морских держав за
первенство в открытиях, за то, кто быстрее доберется до островов
гвоздики и перца, во многом подобное советско-американскому
соперничеству в освоении Космоса. Первой, как это представляется из
XXI века, шла Португалия. Ее мореходы по заранее продуманному пути
добрались непосредственно до Индии, а вскоре и до Малайи и
Молуккских островов. Испанцы же оказались на островах пряностей
только в результате кругосветной экспедиции Магеллана, на полвека
позже. Но, правда, зато они получили для себя золотые и серебряные
рудники Нового Света и большие территории для колонизации.
Заметим, кстати, что доступность перца, гвоздики, корицы и других
пряностей резко снизила интерес к ним европейцев. Дозировки
пряностей в рецептах после XVI века заметно снижаются. Это, вместе с
увеличением поступления при прямых контактах привело к заметному
(раза в четыре) падению цены. Но, собственно, и интерес к космическим
путешествиям резко снизился в 1990-х годах, когда стало ясно – кто
выиграл эту гонку.
Кажется, есть теперь смысл рассмотреть по отдельности историй
создания обеих заморских империй.
Испанская началась чуть раньше с высадкой в 1402 году французского
рыцаря Жана де Бетанкура на Канарских островах. Римские папы уже
числили этот архипелаг за Кастилией, но европейских колонистов там
пока не было, хотя известно о Канарах было еще с предыдущего века, да, собственно, еще финикийцы туда заплывали. Там обитали гуанчи, последний народ белой расы, живший в каменном веке. Бетанкур
покорил пару островов, построил крепостцу и объявил себя канарским
королем, но встретился с сопротивлением аборигенов и обратился за
покровительством в Толедо, признав верховенство короля Kастилии.
Войны за завоевание продолжались еще до 1495 года, то есть, потребовали больше времени, чем потребует завоевание практически
всей Испанской Америки.
В гостях у тетушки Клио
Тем временем на Иберийском полуострове продолжаются португальско-
кастильские войны. То кастилец пытается усесться на престол в
Лиссабоне, то португальский король пробует стать заодно и кастильским.
Этим войнам очень способствовали династические браки между двумя
дворами и путаница с законными наследниками. В конце концов каждая
страна осталась при своем. На суше преобладание было, скорее, за
кастильцами, но их попытки утвердиться в португальских завоеваниях в
Африке и поживиться тамошним золотом закончились полной победой
Португалии, капитуляцией у берегов Гвинеи кастильского флота и миром
в Алкосоваше (1479 год), признавшим за Лиссабоном все острова
Атлантики кроме Канар и права на дальнейшее продвижение вдоль
африканского побережья.
Таким образом, дорога в Индию в обход Африки была закрыта для
кастильцев. Но тут при дворе первых королей объединенной Испании
арагонца Фернана и кастильянки Изабеллы появился итальянец родом из
Генуи Кристобаль Колон, в России известный как Христофор Колумб.
Он уже давно носился с идеей поиска пути в Индии в западном
направлении, через океан, более всего потому, что поверил словам
астронома Тосканелли, сильно занижавшего диаметр Земли и морское
расстояние между Европой и Азией. Он даже написал на полях своего
экземпляра книги Пьера д’Айи «Imago Mundi»: «Нет смысла верить, что
океан покрывает половину Земли». На самом деле дуга от Португалии
до Японии равна примерно 230°, т.е почти двум третям планеты. Он
ошибался, но это была «полезная ошибка», сделавшая его в итоге
открывателем Нового Света.
Колумб предлагал такое путешествие и Сенату своей родной Генуи, и
португальскому королю Жуану II, и английскому Генриху VII, и
французскому Карлу VIII. Нигде реальной поддержки он получил.
Собственно, и Фернан с Изабеллой ему ответили: «Ввиду огромных
затрат и усилий, необходимых для ведения войны, начало нового
предприятия не представляется возможным». Ну, действительно, главным делом для Кастилии и Арагона было добивание последнего
оплота мавров на полуострове – Гранадского эмирата.
Но вот в январе 1492 года Гранада пала. Прямо скажем, что это было
очень вовремя, потому, что уже в 1520 году, всего через одно поколение, североафриканский Алжир стали частью Османской империи. Нет
сомнения, что уцелей мусульманская Гранада, она последовала бы за ним
и испанцам пришлось бы иметь дело на своем полуострове не с
изнеженными гранадцами и не с пиратами из Алжира и Туниса. А с
янычарами, лучшим по тем временам войском на свете. И еще
неизвестно – чей флот открыл бы Америку.
За год после падения Гранады Католические короли Фернан и Изабелла
приняли два решения с далеко идущими последствиями. Первое –
исключительно, как мне кажется, неудачное: по Альгамбрскому
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
декрету евреям, жившим на полуострове с римских времен, было дано
четыре месяца на то, чтобы либо перейти в христанство, либо покинуть
страну. Таким образом страна сама лишила себя важнейшей части своего
торгового класса и интеллигенции. Эти же люди, оказавшись в изгнании
в Нидерландах, очень способствовали возникновению новых способа
ведения экономики и образа жизни. Недаром спустя пять веков Второй
Ватиканский собор католической церкви снял обвинения с евреев и
попросил прощения за преследования инквизиции, а испанский король
Хуан-Карлос признал изгнание исторической ошибкой и принес
извинения за него.
Второе – это решение удовлетворить требования Колумба и
финансировать его экспедицию через океан. А требования сразу
предполагали, что после открытия нового пути он будет назначен вице-
королем новых земель и получит титул «главного адмирала моря-
океана». Денег, однако, дали недостаточно и будущему главному
адмиралу пришлось искать недостающие средства среди купцов. Ему
удалось привлечь судостроителя из Палоса Мартина Алонсо Пинсона и в
результате капитанами двух из трех каравелл экспедиции стали братья
Третьего августа корабли вышли из гавани Палоса на реке Рио-Тинто в
Андалузии недалеко от португальской границы. По эту сторону
Атлантики последняя остановка была на острове Гомера, одном из
Канарских. Адмирал объяснял эту задержку ремонтом одной из каравелл,
«Пинты» и двухнедельным штилем, но злые языки еще и намекают на
его бурный роман с местной феодальной дамой, вдовой убитого
гуанчами губернатора Беатрис де Бобадилья. Ну, так или иначе, отправились дальше. Как часто бывало и после этого, команды боялись
открытого океана и их предводитель чуть ли не силой укрощал их и
уговаривал двигаться дальше. Обрыв земного диска и океанский водопад
вниз к слонам им все же не встретились, а к концу месяца в волнах стали
попадаться плывущие ветви, на над волнами птицы. На тридцать третий
день, точнее, ночью они вышли к берегам одного из Багамских островов.
Подробности плавания от острова к острову, знакомства с индейцами, получение от них небольшого количества золота в обмен на европейские
безделушки – вещи хорошо известные, них можно не останавливаться.
Интересно только, что оставшиеся после аварии «Санта-Марии» две
каравеллы вышли в обратный путь порознь. Алонсо Пинсон на «Пинте»
откровенно удрал, повидимому, надеясь первым сообщить королевской
чете об открытиях и снять весь урожай почестей и наград. Пришлось и
Адмиралу на «Нинье» возвращаться. 16 января 1493 года они ушли на
северо-восток, потом повернули на восток, оказались на португальских
Азорских островах, откуда, после неудачной попытки местных властей
задержать кастильское судно, направились к Лиссабону.
В гостях у тетушки Клио
Уже перед Лиссабоном состоялась историческая встреча. Командир
большого вооруженного португальского корабля тоже попытался
задержать их, полагая, что «Нинья» незаконно ходила к владениям
Португалии в Гвинее, закрытым по соглашениям для остальных
европейцев. Колумб и тут отговорился, но интересно не это, а то – что
имя португальского капитана – Бартоломеу Диаш. Да, тот самый, который нашел Капский мыс и назвал его Мысом Бурь. То есть, это
именно он обогнул южное окончание Африки и нашел открытую дорогу
в Индию. Но, под влиянием того, что его команда упиралась и требовала
возвращения, а сам он не имел королевского приказа идти к конечной
цели в Индостан, повернул и вернулся домой, где не получил, повидимому, никаких особых поощрений за свое открытие, а был сразу
назначен комендантом крепости Сан-Жоржи-да-Мина на Золотом берегу
(ныне Гана). И вот через четыре года встретился с другим великим
мореплавателем. Это была встреча двух человеческих типов: послушного
исполнителя королевской воли и энтузиаста-«инициативника», придумавшего самолично свой маршрут, уговорившего после многих
мытарств Власть дать ему волю и средства и ныне возвращающегося с
Победой за заслуженными почестями и наградами.
Одним из главных следствий открытия было согласование после долгих
споров в 1494 году Тордесильясского соглашения о разделе земного
шара между Испанией и Португалией по меридиану около 49° западной
Фернан и Изабелла охотно утвердили за открывателем красивое звание
Главного Адмирала моря-океана, но, повидимому, были сильно
разочарованы малым количеством привезенного золота. Но Колумб
обещал им, что из следующей экспедиции привезет
столько золота, сколько им
рабов, сколько будет угодно». Ему опять дали денег и в сентябре того же
1493 года он отправился снова, уже на семнадцати судах. На этот раз
корабли пошли южнее, вышли к Гваделупе. За полтора года было
открыто много островов – Доминика, Ямайка, Пуэрто-Рико, обследовано
южное побережье Кубы до Пиноса (стивенсоновский Остров Сокровищ), совершен военный поход в погоне за золотом вглубь острова Гаити.
Видимо, при зрелище голых людей, живущих в хижинах, у многих
возникали сомнения – точно ли это та самая богатая Индия? Адмирал
даже заставил членов своего экипажа подписать протокол, что тут
действительно континент Азии. Золота, однако ж, добыли опять немного.
Ну, не было на островах больших месторождений!
Обещания, однако, продолжались. Это совсем отвратило сердца
королевской четы от Адмирала. В итоге во время третьей экспедиции
Фернан и Изабелла послали на Гаити как ревизора своего доверенного
Франсиско де Бобадилью, однофамильца той самой канарской
очаровательницы, с которой мореплаватель провел последние недели
перед отплытием в Новый Свет. Доверенный посмотрел, остался
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
недоволен, отстранил Колумба от губернаторства, заковал в кандалы и
отправил в Испанию, а сам занял его должность. Впрочем, правил он
недолго и через год был снят за полное неумение и бездарность, а на
обратном пути попросту утонул вместе с кораблем.
Когда Первооткрывателя привезли к королевскому двору, то тут же
освободили, ссылаясь на недоразумение, Все-таки, всеевропейская к
тому времени слава Адмирала умеряла даже королевские капризы. Что
было потом? После того, как Васко да Гама добрался в 1498-м до
настоящей Индии, все постепенно стали понимать, что колумбовские
плавания происходили в какое-то другое место. Но имя новая часть света
получила не от своего первооткрывателя, а от Америго Веспуччи, итальянца из Флоренции на кастильской и португальской службе, который сначала заведовал пару лет снабжением заокеанских плаваний, а
потом и сам три раза сплавал в составе экспедиций в нынешние
Венесуэлу и Бразилию. Так что с его именем для заатлантической земли
ему просто повезло. Стечение обстоятельств.
Колумб же сходил через Атлантику в четвертый раз, открыл остров
Мартиника, континентальное побережье от Гондураса до Панамы, Каймановы острова, потерпел кораблекрушение на Ямайке и убедился, что новый губернатор Эспаньолы-Гаити не хочет ему помогать и вообще
очень враждебен. Потом вернулся в Европу и, больной и обнищавший, добрался до Вальядолида, где и умер, не дожив до 55 лет. Requiescat in pace.
Исследования Америки продолжались. К примеру, Васко Нуньес де
Бальбоа, поселенец Эспаньолы, разорившись, сбежал в новое испанское
поселение у Дарьенского залива возле нынешней панамско-
колумбийской границы. Там до него дошли слухи о наличии моря на
западе. Он собрал сто девяносто желающих, как и он соблазненных
призраком Золотой Страны Эльдорадо, перешел через горы и, первым из
европейцев, увидел волны Тихого океана в 1513 году. Тут от пленных
индейцев он услышал крохи информации о богатой империи инков где-
то южнее. Бальбоа вернулся на карибскую сторону, чтобы готовить
новый завоевательный поход. Тем временем король Фернан получил его
письмо, в котором землепроходец описывал открытые земли как второй
рай, в котором текут «реки золота». Фернан обрадовался и снарядил
экспедицию, первую на казенный счет после плавания Колумба в 1492-м
году во главе со старым воякой Педрариасом. Для Бальбоа, однако, тут
оказалось в итоге мало радости. Прибывший из Центра наместник
испанских поселений в тех местах через какое-то время обвинил его в
госизмене и отправил на плаху.
Таким же образом развивалось испанское покорение Америк и дальше.
Достаточно вспомнить Эрнана Кортеса, который нелегально сбежал со
своими кораблями и конкистадорами от губернатора Кубы Веласкеса, чтобы завоевать великую империю ацтеков в Мексике, а потом сражался
В гостях у тетушки Клио
с карательной экспедицией Нарваэса, посланной этим самым
губернатором. Или тоже инициативный поход Франсиско Писарро и
Диего Альмагро на покорение еще более грандиозной империи инков в
Андах. Кончилось это смертельной схваткой предводителей за власть над
Перу, которая стоила в конечном счете жизни и тому, и другому.
Вспомним также бунты отдельных конкистадорских предводителей, начиная с восстания Гонсало Писарро против присланного из Испании
вице-короля Нуньеса Велы, продолжавшиеся почти вплоть до времени
войн стран Испанской Америки за Независимость.
Надо сказать, что конфликтам между различными группами
конкистадоров очень способствовало незнание заранее географии
покоряемых земель. Тут прекрасной иллюстрацией служит ситуация
вокруг нынешней Боготы в Колумбии, где в 1538 году, чуть не
столкнулись три таких войска: Федермана из Венесуэлы, Хименеса де
Кесада, вышедшего из колумбийской Санта-Марты и Беналькасара, подошедшего из Кито. В этом случае у всех троих каудильо хватило ума
договориться и разойтись мирно. Но бывали и боевые столкновения
между испанцами.
Почему испанское покорение Нового Света протекало так анархически и
конфликтно? Возможно, правильный ответ дает Маркс, определивший
страну категорично: «Испания, подобно Турции, осталась скоплением
дурно управляемых республик с номинальным сувереном во главе». Да
еще в эти годы внимание и силы Испанской короны были более
привлечены к Средиземному морю, где началось противостояние с
Османской империей, и к Западной Европе – Германии, Нидерландам, Англии, где разворачивались Реформация и восстания против папы и
Габсбургов. Но будет честным признать, что несмотря на это в состав
Испанской империи в ее зените вошли территории, на которых ныне
располагаются 18 испаноговорящих стран Латинской Америки, добрая
треть нынешних США, а также тихоокеанские Филиппины, Маршалловы
острова и Федеративные Штаты Микронезии. Это большой размах.
Собственно, и Португальская империя в полном составе находилась под
властью испанского короля в 1580-го по 1640-й годы. Но за эти годы
кастильцы не наложили руки на португальские колонии, те остались под
прежним управлением из Лиссабона. Разве что на троне в то время сидел
тот же король, что и в Мадриде.
Португалия вступила на путь атлантических и заокеанских исследований
и завоеваний чуть позже, чем ее соседка. Но выглядело это совсем по-
иному. В 1418 году, через три года после своего участия в захвате Сеуты, инфант Энрике, третий сын короля Жуана I, удалился от двора в южную
провинцию Алгарве в крошечный городок Сагреш вблизи крайней юго-
западной точки Европы мыса Сан-Винсенте, где основал первую в своей
стране обсерваторию и, говоря языком времен российского Петра-
Преобразователя, «навигацкую школу».
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
В этой школе готовили капитанов, картографов, штурманов и моряков
для океанских плаваний. Для этого инфант собрал лучших специалистов
из Барселоны, Генуи и с Майорки, чему очень способствовало
увеличение антиеврейских и антиарабских гонений в христианских
странах, поскольку многие из этих учителей были мусульманами, евреями или «конверсо»-выкрестами. Энрике прикрывал их своим
авторитетом Великого Магистра ордена Христа, которым он стал в 1420
году в двадцать шесть лет. Надо сказать, что орден Христа – это было
закамуфлированное португальское отделение ордена Тамплиеров после
гонений, казней и ликвидации того в остальных странах Европы. Так что
не исключено, что в Португалию, в орден Христа ушли какие-то тайны и
сокровища этого опального ордена.
Но в Сагреше не ограничивались только теоретической подготовкой.
Уже на второй год существования школы, в 1419-м была организована
экспедиция, открывшая в океане остров Мадейра и основавшая там
колонию. Потом были открыты и так же заселены Азорские острова. И в
дальнейшем, до самой смерти Энрике, получившего прозвище
Мореплаватель, из Сагреша продолжали выходить не только новые
карты и подготовленные мореходы, но и экспедиции все дальше и
дальше на юг вдоль побережья Африки, далеко за мыс Бохадор в
нынешней Западной Сахаре, который ранее считался непреодолимым.
Сегодня от этой школы осталась только «Роза Ветров» диаметром более
40 метров – учебное пособие времен работы школы, уцелевшее после
разорения крепости английским корсаром Френсисом Дрейком.
Не надо, конечно, путать инфанта Энрике с Гарриет Бичер-Стоу. Он был
очень рад, что появилась возможность окупать его экспедиции за счет
вывоза в Европу черных рабов из Гвинеи. Ну, так он был целиком
человеком своего века, считал это нормой. Да и черные рабы были
хорошо известны европейцам, знакомым с мусульманским миром. Ведь
вывоз черных рабов в арабские страны начался еще с VII века, а
закончился только в XX. Да и сегодня мусульманские страны Африки –
Мавритания, Чад, Нигер и Судан находятся под большим подозрением в
сохранении рабства.
Надо сказать, что в 1505 году по приказу короля Фернана и в
кастильской Севилье была учреждена должность главного лоцмана
королевства, которую занял известный Америго Веспуччи. В его
обязанности входили обучение и экзаменование на должности лоцманов, без которых нельзя было плавать в «Индии», а также составление
географических карт этих стран и их уточнения по результатам новых
открытий. Можно сказать, что это было дублирование деятельности
португальского принца Генриха Мореплавателя в его морской школе в
Сагреше. С одним уточнением, португалец начал свою деятельность в
1415 году, до начала экспансии в Южную Атлантику, которая с этого и
началась. А учреждение в Севилье основано спустя тринадцать лет после
В гостях у тетушки Клио
первого путешествия Колумба. Это очень сильно показывает разницу
кастильских и португальских методов морепроходства и экспансии.
К моменту смерти инфанта в 1460-м году португальцы добрались до
нынешнего Сьерра-Леоне в Западной Африке и открыли острова
Зеленого Мыса. Отсюда еще очень далеко до Индии и островов
пряностей, куда они стремились. Зато они вошли в контакт с хозяевами
золотых рудников и золотых россыпей Гвинеи, которые раньше знали
только арабских торговцев и завоевателей из-за Сахары. После смерти
Энрике дирижерская палочка перешла к его племяннику королю Афонсу
V. Тот продолжал посылать экспедиции вдоль африканского берега и к
моменту его смерти в 1481 году португальцы уже перебрались через
экватор., В следующем году была построена их крепость Эль-Мина в
нынешней Гане, а экспедиция Диогу Кано достигла устья Конго, а затем
нынешних Анголы и даже Намибии. Но от дальнейшего продвижения в
Африке очень отвлекали силы продолжающиеся попытки захвата новых
городов в Марокко и война с инфантой Изабеллой за право на
кастильский престол, закончившаяся не очень удачным сражением при
Торо. Но, успехи португальского флота позволили заключить
компромиссный Алькосовашский мир, оставивший Кастилию за
Изабеллой, а всю южную Атлантику за Лиссабоном.
Королю Афонсо Пятому наследовал его сын Жуан II. В 1487 году он
совершил два предпоследних шага на пути в Индию. В мае он отправил
своих шпионов Перу да Ковильяна и Афонсу да Паиву разведывать
традиционную дорогу до Индостана через Египет и Красное море плюс
искать контактов с легендарным Пресвитером Иоанном, сказочным
главой могучего христианского царства на Востоке, который, как
предполагалось, мог стать союзником против мусульман. А в августе
отправил капитана Бартоломеу Диаша продолжать поиски южной
оконечности Африки и дороги к странам пряностей.
Шпионы передали через присланных им в Египет курьеров из числа
португальских евреев в Лиссабон информацию об Индии и ее торговле и
о реальном существовании христианского царства в Эфиопии. А капитан
Диаш первым из европейских мореходов прошел в Индийский океан за
мыс, названный им мысом Бурь, а королем потом переименованный в
Мыс Доброй Надежды. Он прошел бы и дальше, может быть, что и до
Индии, но его матросы и офицеры очень бунтовали, требуя возвращения
домой. Все же такие бунты пока были типичным явлением при
пионерских экспедициях в Неизвестное и у кастильцев, и у португальцев.
Да и королевского приказа идти прямо до конечной цели у него не было.
После плавания Диаша естественным шагом было продолжение пути
непосредственно в Индию. Но некому было дать команду, поскольку
политические и семейные проблемы сильно отвлекали короля Жуана.
Когда он умер в 1495 году, к власти пришел его племянник Мануэл I, недаром впоследствии прозванный Счастливым. Он приказал снаряжать
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
новую экспедицию. В Португалии не было принято поручать удачливым
землепроходцам дальнейшего развития их исследований – чтобы не
возомнили о себе и не стали неуправляемыми. Поэтому следующая
экспедиция была возглавлена не Бартоломеу Диашем, а Васко да Гамой –
удачливым исполнителем королевской воли, но до того никак не
связанным с поисками пути к Пряностям.
Флотилия была подготовлена значительно лучше, чем корабли Диаша
или Колумба. Тут были построены две нау, т.е более крупные суда, чем
каравеллы с водоизмещением порядка 150 тонн с прямыми парусами, одна легкая каравелла с косым латинским вооружением и еще
транспортное судно с припасами для плавания. Главным штурманом был
назначен очень опытный моряк Аленкер. Нечего и говорить, что
вооружение солдат и офицеров, уходящих в поход, было вполне
совершенным, а артиллерия не имела себе равных. Во всяком случае в
Индийском океане.
Диаш проводил корабли да Гамы до Гвинеи и подсказал наиболее
удобный маршрут для перехода вокруг Южной Африки. В феврале 1498
года корабли достигли той части побережья Восточной Африки, куда
заходили арабские купцы и где уже понимали по-арабски. Что было
потом – хорошо известно. Где-то португальцев встречали без энтузиазма, а предлагаемые ими для обмена товары откровенно хаяли, где-то даже
пытались напасть на них, а где-то – там, где правили султаны, враждовавшие с недоброжелателями экспедиции – встречали, как друзей
и союзников. В полном соответствии с королевскими инструкциями
корабли да Гамы обстреливали первых и заключали союзы с последними.
Новый для португальцев океан был уже хорошо известен и в Индии, и в
Аравии. Не первый век с попутными муссонами суда доставляли
пряности с далеких Зондских островов сначала в Индию, а потом в
Аравию и Египет, откуда они, собственно, и продавались за непомерные
деньги европейцам. Главными мореходами в этих морях были арабы.
Это было одно из отличий Нового Света от той части Земли, куда теперь
попали корабли Васко да Гамы. В отличие от Индийского океана и его
морей моря Америки были, в общем, пусты, если не считать рыбачьих
лодочек и плотов, а также длинных лодок людоедов-карибов, пересекавших море в погоне за свежим мясом и рабами-пленными.
Достаточно сказать о том, что две великие империи ацтеков и инков, разделенные морем, до такой степени ничего не знали друг о друге, и в
итоге картофель из Перу в Мексику попал только благодаря
конкистадорам.
Вторым важным отличием было то, что по берегам Индийского океана
существовали страны с очень древними цивилизациями в Индии, на
Малайском полуострове, в Аравии, в Иране, в Эфиопии. Даже в
сравнительно отстававшей Юго-Восточной Африке давно пришел
Железный век и знакомство с изысками культур Ближнего Востока и
В гостях у тетушки Клио
Южной Азии. Вести себя так, как вели конкистадоры в Новом Свете, делавшие аборигенов и их земли своими крепостными, было просто
невозможно, да и страна за спиной мореплавателей была гораздо
меньшей и менее населенной, чем Испания. Португальцы сделали ставку
на владение морем, то, что называется талассократия. Вот тут они
безжалостно уничтожали все, что могло бы составить конкуренцию, в
первую очередь – арабское мореплавание. Опорой новой империи были
немногие крепости-порты в Гоа, Каликуте, Малакке, Ормузе, на
Цейлоне, в Макао, Занзибаре, Малинди и Маскате. Идея пойти походом
и завоевать Дели или Исфахан была бы слишком безумной даже для
обуянных манией величия голов португальских конкистадоров.
Что произошло в ходе экспедиции да Гамы и после нее хорошо известно.
Уже первооткрыватель не замедлил «показать зубы» обстреляв из пушек
берег в Мозамбике и Момбасе, где не очень сложились отношения с
аборигенами, обстреливая и сжигая мусульманские и индусские корабли
у берегов Индостана. Потом король Мануэл посылал новые флотилии
Кабрала, Жуана да Нова, снова Васко да Гамы. Появлялись
португальские торговые фактории, сжигались корабли арабских
конкурентов, попутно была открыта Бразилия. Надо отметить, что
методы экспансии в Новом Свете у португальцев мало отличались от
испанских. Тот же захват земель, порабощение индейцев, создание
планатаций и ввоз черных рабов из Африки.
Но настоящими создателями португальской колониальной империи в
Азии и Восточной Африке были посланные королем уже после этого
дом Франсишку ди Алмейда и затем Афонсу де Албукерки. Оба они один
за другим носили уже титул вице-короля. И вот между ними был
единственный за время экспансии конфликт, напоминающий, хотя и в
сильно ослабленном виде, описанные нами ранее конфликты между
кастильскими конкистадорами в Америке.
К этому времени стало совершенно ясно, что своими товарами, привезенными из Европы, потругальцы не могут победить конкуренцию
мусульманских купцов. Над их предложением просто смеялись и
индийцы, и сами купцы из Аравии и Египта. Отвлекаясь несколько в
сторону можно сказать, что тут была примерно такая же ситуация, как с
конкуренцией советских товаров с тем, что предлагали фарцовщики Ян
Рокотов и другие. Наш глава Никита Сергеевич Хрущев понимал, что
качеством советских товаров он фарцу не победит. Поэтому он просто
приказал расстрелять удачливых конкурентов совторговли не особенно
заморачиваясь юриспруденцией, чем на какое-то время решил проблему.
Так и тут португальцы, понимая, что качеством товаров они арабов не
победят, попросту начали уничтожать конкурентов, сжигая их корабли и
убивая их самих.
Оба наместника пытались также осуществить мечту короля Мануэла о
том, чтобы после установления своего господства в Индийском океане
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
победить арабов на Красном море, покорить Мекку и высадить десант в
направлении Иерусалима с юга. Далее мечталось, что этот десант
соединится с армией, пришедшей с северо-запада, прогонит навсегда
мусульман из Святой Земли и сделает португальского короля королем
Иерусалимским и главой всей христианской Европы. Мечтать, конечно, не вредно, но согласитесь, что шансов на реализацию этого плана было
не слишком много.
В 1505 году ди Алмейда отправился на Восток во главе флотилии уже из
21 корабля, для начала сжег африканский город Килва и заложил там
форт. Он строил форты также в индийских портах и на Цейлоне, провел
несколько морских сражений с объединенным флотом Египта, Гуджарата
и Каликута. В общем-то поле соперничества от Африки и Аравии до
Индии осталось за ним. Тем временем Мануэл решил его заменить на
еще одного своего придворного и проверенного в сражениях крестоносца
Афонсу де Албукерки. Тот возглавил новую флотилию и в 1506 году
отплыл на Восток. Здесь Албукерки строил форты на Сокотре и в
иранском Ормузе, пытался захватить Аден. Но когда он показал
королевскую грамоту о своем назначении Алмейде, тот заявил, что у
него срок правления еще не закончился. После чего посадил под стражу
некоторых друзей Албукерки, а потом и самого своего преемника.
Но такое своевольство длилось недолго. Через полгода в гавань Кочина
пришла новая флотилия из Лиссабона. На ней находился маршал
Португалии Фернандиш Коутиньо, он привез письма короля, адресованные вице-королю Албукерки. Пришлось смириться, сдать дела, сесть на корабль и отправиться на родину. Но до Лиссабона Алмейда не
доехал. Недалеко от Мыса Доброй Надежды он ввязался с стычку с
готтентотами из-за скота и был убит стрелой. Албукерки же был самым, наверное, прославленным «строителем империи». Он, правда, не смог
взять Адена и запереть выход из Красного моря, но форты в Ормузе, Малакке, строительство колониальной столицы Гоа, экспедиция на
Молукки – Острова Пряностей, откуда, собственно, и привозили перец и
гвоздику в транзитные порты Малакки и Каликута, создали цепь
португальских колоний на всем Пути Пряностей.
Но вот после него колониальная империя пошла к закату. Новые
хищники – Голландия, Англия, Франция стали выкусывать из ее короны
самые ценные бриллианты. Этому способствовало то, что на
лиссабонском престоле на 60 лет с 1580-го по 1640-й сели испанские
короли из династии Габсбургов. Это давало основания пиратам и
государственным военным кораблям из Амстердама, Бристоля и Нанта
нападать на португальские корабли так же, как на испанские.
И та, и другая первые колониальные империи дожили, правда в сильно
сокращенном виде, до второй половины ХХ века. У Испании оставались
небольшие владения в Марокко, Испанская Сахара (Рио-де-Оро) чуть
южнее, а также Испанская Гвинея – остров Фернандо-По и кусок
В гостях у тетушки Клио
африканского материка около него. Почти все это она передала без
колебаний королю Марокко и местным племенным вождям. Еще и
сегодня за ней числятся Сеута и другой клочок земли поблизости, город
Мелилья. Португальцы же владели островами Зеленого Мыса, маленькой
Португальской Гвинеей около них, двумя довольно большими
колониями на юге Африки в Мозамбике и Анголе, последними
индийскими плацдармами в Гоа и Диу, островком Макао в Южном Китае
и огрызком когдатошних огромных молуккских владений на острове
Тимор. Почти везде ей приходилось вести утомительную колониальную
войну против марксистских партизан, поддерживаемых СССР и Кубой.
После «революции гвоздик» в 1974 году она ушла из всех этих
территорий.
Так что сегодня обе империи остались только в истории. Но, правда, португальский язык остался как национальный язык в огромной
Бразилии, сохраняется в бывших африканских и азиатских колониях. А
об испанском нечего и говорить. Он кроме Иберийского полуострова
служит главным литературным и официальным языком в 21 стране
Испанской Америки, на Филиппинах, в Пуэрто-Рико, является вторым
официальным языком в США, одним из главных языков ООН и
ЮНЕСКО. Всего на свете по-португальски говорит около 230 млн
человек, в том числе 190 млн в Бразилии и 11 млн в Португалии. А по-
испански – 470 миллионов, в том числе 106 млн в Мексике, 46 млн в
Испании, 41 млн в США.
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
УДИВИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ РУССКИХ ГАВАЙЕВ
За островами, за большой водою…»
Будете на Гавайях, точнее, на острове Кауаи, не поленитесь съездить
посмотреть развалины Елизаветинской крепости. Там не так много
осталось, но дух Истории витает над этим местом. Имя крепость
получила в честь российской императрицы Елизаветы, жены императора
Александра I Благословенного. Был в свое время такой популярный
полонез «Александр, Елизавета, восхищаете вы нас». Ну, помните еще и
у Пушкина «плешивый щеголь, враг труда». Тот самый, победитель
Наполеона. Там на Кауаи построили тогда, в 1815 году сразу три
крепости: в честь Александра, в честь Елизаветы и в честь фельдмаршала
Барклая де Толли. От двух даже следов нет, а тут что-то осталось.
Начинается эта история в конце января 1815-го с того, что судно
Российско-Американской Компании «Беринг» потерпело некоторое
кораблекрушение у берега Кауаи. Крушение не смертельное, но надо
немного починиться, ну, и добыть еды и пресной воды. Гавайские канаки
и их островной вождь Каумулали слов «береговое право», наверное, не
слыхали, но дошли до этого своим умом и бойко захватили корабль и его
груз на сумму сто тысяч рублей, то есть, сравнимую с годовой прибылью
компании. Надо полагать, судя по стоимости, что «Беринг» вез в Шанхай
шкуры котиков и каланов — основную продукцию Компании.
Товарооборот был построен так, что нанятые русскими алеуты били
котиков и морских бобров каланов, шкуры после первичной обработки
везли в Китай, там продавали китайцам, покупали чай и через Кяхту и
всю Сибирь везли его на Макарьевскую ярмарку в Нижний Новгород.
Вот там при продаже чая и образовывался весь доход компании.
Петербургское правительство тут же отчисляло себе ровно половину
прибыли, но все же пайщикам доставались очень неплохие дивиденды.
Конечно, такой грабеж терпеть было нельзя и из Новоархангельска, столицы Русской Америки была отправлена на Сандвичевы острова
вооруженная трехмачтовая шхуна «Открытие». Ответственным за
операцию был назначен врач на службе Компании Георг Антон Алоиз
фон Шеффер, которого в Новоархангельске именовали Егором
Николаевичем. Совершенно незаурядная фигура. Родился он во
Франконии, выучился в Геттингенском университете на доктора
медицины и к 1812 году отправился с женой в Россию. Тут он случайно
встретил на улице своего приятеля Леппиха, может быть, знакомого вам
по «Войне и Миру» Л. Толстого. Помните, тот немец, который под
покровительством московского тоже не совсем нормального генерал-
В гостях у тетушки Клио
губернатора Ростопчина строит воздушный шар с веслами и экипажем в
50 человек, долженствующий с небес поразить наполеоновскую армию и
обратить ее в бегство от священной старой русской столицы сбросом
ящиков с порохом.
Леппих очень обрадовался старому знакомому и тут же назначил его
своим замом по физическим и химическим принадлежностям к своему
«дирижабелю». Строили они, строили, но вот взлететь оно никак не
могло, мешали проклятые законы аэростатики. А тут, кстати, и Наполеон
подошел к Москве. Кутузов, конечно, отрапортовал императору, что
победил при Бородино, но из столицы пришлось срочно уходить на
восток. Оказалось нужно и несостоявшимся создателям Российских ВВС
грузить детали в сотни телег и срочно эвакуировать все это сначала в
Нижний Новгород, а потом в Ораниенбаум. Но и тут шар надувался, надувался, да и лопнул. Обошлась казне эта история в 148 тысяч
серебряных рублей, по тем временам сумасшедшие деньги. Но тем не
менее, наш Егор Николаич сумел как-то получить за свои заслуги титул
барона. Леппих уехал назад в Германию, где занялся изобретениями по
маникюрной обработке ногтей, а Шеффер сел в военный шлюп
«Суворов», направлявшийся в Русскую Америку.
По пути он насмерть разругался с капитаном и по приходу в
Новоархангельск его списали за склочность на берег. Ну, бывает. Вот вы, если помните нашумевшую «Юнону и Авось», то запомнили и имя
камергера Резанова, того самого, который обещал жениться на Кончите.
Так вот, вся дорога от Санкт-Петербурга до Новоархангельска была
непрерывной склокой между Резановым и капитаном Крузенштерном на
тему кто главней, только однажды прерванной в Нагасаки скандалом
между тем же Резановым и японскими властями.
Так или иначе, а на Аляске Шеффера приняли на службу Компании и вот
— послали с заданием на Кауаи. Время на Гавайских островах было
такое, что могла состояться любая авантюра. Вождь самого большого
острова Камеамеа проводил реформы и обьединял архипелаг в Гавайское
королевство. Как все такие «Петры Великие» он начал с освоения
европейского оружия и сколько-то современной военной тактики.
Местные вожди сопротивлялись как могли, но безуспешно. Какую-то
автономию смог сохранить только как раз кауайский вождь Каумулали.
Наш доктор начал с того, что появился при дворе Камеамеа на острове
Оаху и вылечил какую-то из его многочисленных жен. Но потом его
интриги не сладились, и он отправился прямо на Кауаи. Там все пошло
неожиданно хорошо. Каумулали не только без слова вернул
компанейский корабль с его грузом, но и проявил желание встать под
российский протекторат. Его можно понять. Конечно, приятней иметь
над собой биг-боссом Александра Первого в Санкт-Петербурге за шесть
тысяч морских миль или даже Баранова в Новоархангельске за две с
половиной тысячи морских миль, чем Камеамеа всего в ста милях. Да и
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
то, что российский император человечины не ест, а гаваец за
неповиновение может и того …
В Новоархангельске идея эта, в общем, понравилась. Не очень было
понятно, какой с тех Гавайев можно получить доход, но, по крайней
мере, будет порт для захода компанейских и казенных парусников. Тут та
же история, что с Крымом. Пользы особой от Крыма, после того, как
туда перестала идти днепровская вода, нет и сегодня. Пшеничные поля, ранее покрывавшие весь степной Крым, исчезли, курорты могут
полноценно работать только четыре месяца в году, вина … ну, хороши
для тех, кто не пробовал испанских, химическая промышленность без
воды может только отравлять население, но не давать продукцию. Но
Севастополь! Военно-морская крепость! Правда, уже Крымская война
показала, что при любом противнике посильнее турок эта крепость
обречена на сдачу, но до российских начальников, по-видимому, это до
сих пор не дошло.
Также, в общем, и на Гавайях. Никаких ценных объектов для охоты или
горной добычи там нет, ананасами и сахарным тростником, как
показывает опыт Кубы, да и самих Гавайев во время Второй Мировой
войны, не прокормишься, снабжение из Штатов идет за тысячи миль. Но
Перл-Харбор! Главная военно-морская база США на Тихом океане! Вот
такие стратегические преимущества, важные только при определенных
уровнях военной техники, и придают ценность и Крыму, и острову Оаху.
Пока что Шеффер развил бурную деятельность на Кауаи. Были в
кратчайшие сроки выстроены земляные Александровская крепость и
такое же сооружение имени фельдмаршала Барклая де Толли, а также
каменная крепость Елизаветы, куда и прибыли в качестве гарнизонов с
Аляски вооруженные русскими ружьями алеуты. Каумулали уже
чувствовал себя под защитой Компании и всемирной державы
Российской империи, тем более что никакой дани, кроме труда канакских
землекопов, с него не требовали. Лично Шефферу вождь подарил долину
Ханалеи, которую тот немедленно переименовал в Шефферсталь.
Русским была обещана также монополия на вывоз ценного сандалового
Но вот идея принятия Гавайев под российский скипетр докатилась до
Санкт-Петербурга. Тут с ней произошел облом. Для начала просто не
было никакого ответа. Тем временем на острове появились уже
американские авантюристы, которые перекупили Каумулали на свою
сторону. Просто предложили более высокие цены, чем Шеффер.
Началась осада новых русских крепостей. Алеуты стреляли метко, но
смышленые гавайцы применили военную хитрость, которая не могла
прийти в голову не только уроженцам Аляски, но и их начальнику.
Канаки разбегались у стен русских крепостей и, опираясь на свои
длинные копья, как при прыжках с шестом, перескакивали через стену и
оказывались в крепостях за спиной у воинов Компании. Все российские
В гостях у тетушки Клио
подданные, попавшие в гавайский плен, были усажены на парусник и
отправлены с острова.
Шеффер направился в Санкт-Петербург, рассчитывая получить помощь
императорских флота и армии. Конечно, против Преображенского полка
не устоял бы не только Каумулали, но и все воинство Камеамеа. В
имперской столице он поддержки не встретил. Дело было не только в
том, что свою гавайскую авантюру он начал без серьезной столичной
«крыши». По поручению царя министр иностранных дел Несссельроде
сообщил правлению Компании, что: « Государь император изволит
полагать, что приобретение сих островов и добровольное их
поступление в его покровительство не только не может принесть
России никакой существенной пользы, но, напротив, во многих
отношениях сопряжено с весьма важными неудобствами». Надо
сказать, что в ту пору это соответствовало общей политике империи.
Несссельроде вообще считал, что приобретение новых территорий
России не нужно, только влечет дополнительные расходы, требует остро
нехватающих для уже приобретенных владений кадров и без толку
ссорит Петербург с Великобританией, США и другими державами. Вот
так же он не поддерживал инициатив, направленных на установление
контактов с Афганистаном и вообще продвижение в сторону Средней
Азии. Знаменитая неудачная Хивинская экспедиция Перовского была
предпринята, несмотря на возражения мининдела. И тут дело совсем не
том, что граф Карл Васильевич Нессельроде-Эресховен был-де скрытым
русофобом, как любят говорить патриоты. Куда уж русский человек —
Малюта Скуратов! Самый приближенный к Ивану Грозному персонаж, лично задушил Святого митрополита Филиппа Колычева. А ведь тоже
погиб не на берегу Сыр-Дарьи или там Иртыша, а при осаде ливонской
крепости Вейсенштейн. Конечно, грабануть баронскую мызу в
Эстляндии куда привлекательнее, чем мотаться по сибирским лесам или
казахским степям, собирая ясак с инородцев. С другой стороны, нынче
граница проходит у Оренбурга и Омска, как будто российской, а потом
советской Средней Азии и не было никогда.
Российско-Американской Компании вся эта гавайская история обошлась
примерно в 200 тысяч серебряных рублей, то есть, в два раза дороже, чем
стоимость первоначально захваченного канаками судна и его груза.
В общем, ничего у Шеффера не вышло. Хорошо, что не оказался за свои
инициативы в Нерчинске в кандалах. Он, правда, не унывал, отправился
в Бразилию, где вошел в фавор уже к тамошнему императору Педру I и
занялся организацией эмиграции немцев в Южную Бразилию. Получал
там награды, пытался получить себе в добавок к титулу российского
барона, еще и титул бразильского виконта и умер, как кажется, в 1836
году в основанном им в нынешнем штате Баия городке Франкенталь.
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
Российские чиновники еще раз обратили внимание на те же острова
зимой с 1819-го на 1820-й год. Там проездом из Петропавловска-
Камчатского в Манилу оказался назначенный консулом на Филиппины
некто Добелл. Фамилия нельзя сказать, чтобы особенно православная, но
в ведомстве Карла Нессельроде чего не бывало. Вот этот Добелл углядел, что после смерти железного короля-реформатора Камеамеа I против его
сына Камеамеа II бунтуются местные островные вожди и вождики.
Подал он идею новому королю отдать весь архипелаг под российское
покровительство и защиту. Но в Питере и эта идея понимания не
встретила. Так ничем и закончилось.
Что было дальше всем известно. К середине XIX века морских бобров-
каланов перебили, да и морских котиков стало много меньше. А расходы
на поддержание Русской Америки только увеличивались. А тут еще
восточносибирский генерал-губернатор Муравьев, а потом специальный
посол Игнатьев удачно шантажнули маньчжурское правительство Китая
возможностью присоединения России к той войне, Опиумной, которую
победоносно вели против китайцев британцы, и без единого выстрела
присоединили к России Амурскую область и Приморье, всего около
полутора миллионов километров. Климат там был, без сомнения, много
лучше, чем на Аляске, но вот осваивать было некем и нечем. Русского, как и китайского, населения там не было вообще, а таежные племена: нанайцы, удэге, эвенки … ну, их плотность была меньше одного
человека на сотню квадратных километров.
Тут и возникла идея продать Русскую Америку Соединенным Штатам, которую в Вашингтоне с энтузиазмом поддержал государственный
секретарь Уильям Сьюард. Газеты по большей части были против, называя эту территорию « сьюардовским холодильником». Но в конце
концов сговорились на сумме в 7.2 миллиона долларов. Некоторую часть
из них, правда, российскому послу барону Стёклю пришось раздать на
взятки членам американского конгресса, чтобы они
проголосовали ЗА покупку. Все же остальное пошло на закупку в Европе
и США оборудования для строящихся в России железных дорог. Ну, а
русские чиновники, военные и промышленники с Аляски, которых там
было к тому времени ровно 812 человек на шестидесятитысячное
местное население из алеутов, эскимосов и индейцев, выехали частично
на новые земли Дальнего Востока, частично в Европейскую Россию
через Кронштадт.
Далее русские осваивают дальневосточные земли, американцы торгуют
на Аляске с аборигенами, а после открытия золота на Юконе потихоньку
заселяют новую территорию. К 1959 году ее население превысило 200
тысяч жителей, и территория стала штатом.
Русские «патриоты» любят повспоминать об аляскинском золоте. Но
надо сказать, что знаменитая «Золотая лихорадка», о которой писал Джек
В гостях у тетушки Клио
Лондон и снял фильм Чарли Чаплин, происходила не там, а в соседней
канадской провинции Юкон. Добыто тогда и там было примерно 360
тонн. Дорога туда из Калифорнии, действительно, шла через
американские владения. На самой территории, а потом в штате Аляска за
всю историю добыто несколько более тысячи тонн, в два раза меньше
того, что за последние тридцать пять лет добыли Советский Союз, а
потом его наследница Республика Узбекистан в кзыл-кумском карьере
Мурунтау. Помните из всех репродукторов: « Уч-Куду-ук, три
колодца …»? Это примерно там. Настоящей драгоценностью бывшей
Русской Америки оказалась нефть, которую на северном склоне Аляски к
Ледовитому океану добывают с конца 60-х.
Объединенное Гавайское королевство прожило до 1893 года, когда
последнюю королеву Лидию Лилиукалани отправили на пенсию писать
стихи и играть на национальной гитаре укулеле. Была объявлена
Гавайская республика, которую еще через пять лет присоединили к
Соединенным Штатам в статусе территории. В связи с тем, что на
территории архипелага стали разводить сахарный тростник, туда
иммигрировало большое количество японцев, китайцев, филиппинцев.
Ну, и из континентальных штатов приехало немало. На острове Оаху, неподалеку от местной столицы Гонолулу возникла очень крупная
военно-морская база Пёрл-Харбор. О японском внезапном нападении на
флот в этой базе знают все — это заставило США вступить во Вторую
мировую войну. Чем это закончилось для Японии — тоже известно
Российские земляные валы крепостей Александра и Барклая де Толли
после пары хороших ливней начали расплываться и на сегодня от них не
осталось и следов, а сооруженная из камня крепость Елизаветы тоже, конечно, разрушилась, но какие-то следы остались и нынче туда водят
туристические экскурсии. Ну, а в столице штата Гонолулу, как и
положено американскому довольно большому городу (примерно 400
тысяч душ): стотридцатиметровый небоскреб, штатный Капитолий, Чайнатаун, банки, отели, ночные клубы, музеи, торговые центры. Есть и
то, чего больше ни у кого в США нет — королевский дворец, ныне, конечно, музей. Население архипелага ныне около полутора миллионов
жителей, из которых гавайцев-канаков 10%, японцев и филиппинцев по
15%, белых американцев 25%. При этом два официальных языка —
английский и местное наречие полинезийского.
Я туда ездил с женой как-то раз на неделю. Понравилось. Даже
поднимались на вулкан Халеакала, самое дождливое место в мире. Но не
поднялись, доехали по серпантину до середины высоты, а дальше был
такой густой туман, что можно было есть его ложками. Пришлось
развернуться. Посмотрели еше Лахайину, во времена Шеффера столицу
Гавайского королевства Камеамеа Первого. Выкупались в бухте
Лаперуза рядом с потоками застывшей лавы от последнего извержения в
1750 году, походили по лесу, посмотрели мемориальный парк в честь
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
наций населяющих острова от полинезийцев-канаков до филиппинцев и
корейцев, сходили в национальный театр, где было представление на
тему местной истории от древнего Акульего бога, до прибытия
европейцев, которых представляли актеры с лицами, покрытыми серой
штукатуркой, в Морской музей. Ну, и так далее, как положено на
Но вот что я думаю… все это ровно потому, что у Егора Николаевича
Шеффера не сложилось в Санкт-Петербурге. Я уже говорил — не было
«крыши». А если представить себе, что он женат на племяннице
министра Карла Нессельроде или кого еще подобного уровня? Было бы
кому походатайствовать за него и его проект перед императором. Мало
ли… если вдуматься, так и Гурия или Ленкорань тоже империи были
нужны не очень. А вот прибрали их и потом они благоденствовали под
российским скипетром почти два века. Или возьмите бывшую
французскую колонию Чад. За все время одни убытки.
Пошлет Александр Благословенный эскадру Лазарева, на борту которой
будет… ну, пусть не Преображенский, так хоть какой-нибудь Вятский
пехотный полк с энергичным командиром. Возьмем, к примеру, Павла
Ивановича Пестеля. Какой Камеамеа, пусть хоть его поддерживают
британцы или североамериканцы, устоит? И всё! Сел на гавайский
престол князь Каумулали, как вассал Императора Всероссийского, Царя
Польского, Великого князя Финляндского и тэдэ и тэпэ.
В тропики все же петербургская рука тянулась временами. Взять хоть
начало XVIII века, когда пиратская социалистическая республика
Либерталия (правда социалистическая, на основе принципов Томазо
Кампанеллы) на острове Мадагаскар, теснимая британскими, французскими, голландскими эскадрами и конвойными судами, решила
себе искать покровителя в Европе, чтобы считаться далее легальными
каперами и уменьшить шансы на пеньковую веревку. Какой монарх был
тогда в Европе самым популярным? Конечно, шведский Карл XII. Они и
послали к нему депутацию с просьбой о протекторате. Но с Карлом как
раз в это время случилась неожиданная неприятность под городом
Полтавой и ему самому пришлось отсиживаться в Бендерах под защитой
турецкого султана.
Но об этом проведал московитский, а ныне санкт-петербургский
государь Петр Алексеевич и решил перевести дело на себя. Снарядил
даже два наиболее надежных корабля из своего молодого Балтийского
флота и отправил в Индийский океан. И быть бы Мадагаскару исконной
русской землей, не хуже Прибалтики и Крыма, кабы эти два
плавсредства не развалились, дойдя всего лишь до Ревеля-Таллинна.
Сами знаете, строили эти кораблики с энтузиазмом, но из сырого леса. А
пиратов невдолге прикончили французы.
В гостях у тетушки Клио
Ну, а у нас тут правит Сандвичевыми, они же Гавайские, острова князь
Каумулали при первом министре бароне Шеффере, за неимением ценных
морских зверей вывозят они сандаловое дерево и время от времени
заводят разговор, что хорошо бы посадить сахарный тростник и пить чай
со своим сахаром. Через некоторое время гавайский князь помирает, думаю, что верней всего от неумеренного употребления напитков, и
вводится прямое управление из Санкт-Петербурга через назначенного
губернатора. Живут они, как все российские губернии, ото дня на день.
Опасаются прихода парусника с «ревизором из столицы с секретными
предписаниями». Во время Крымской войны избегают англо-
французского захвата по произошедшим в ту пору ураганам, разбросавшим союзников по всему Тихому океану. Строят в Гонолулу
собор Святой Фотинии-Островитянки, московский купец Морозов
сооружает фабрику по производству тросов и морских канатов из
текстильного банана-абаки, а Рябушинские завод по производству
рыболовных крючков в Лахайина. Заводятся стачки, появляются социал-
демократы, сначала русские, а потом и местные, из полинезийцев. Так
вот и доживают до Мировой войны.
По итогам этой войны высаживаются на острова японские оккупанты, а
местные большевики из отряда командира Левинсона уходят от них по
лесам и скалам, описанным Джеком Лондоном в рассказе «Кулау-
прокаженный». Вот с Лазо тут бы не получилось — на островах нет
железной дороги, нет и паровозов. Потом Вашингтонский договор, а
точнее — давление Соединенных Штатов заставляет самураев все-таки
уйти с соблазнительной чужой земли.
Когда стали переделывать применительно к обстоятельствам «Марш
сибирских стрелков» В. Гиляровского, то тут получилось так: Разгромили атаманов, разогнали воевод
И на острове Хавайи свой закончили поход.
Под властью Дальневосточной республики архипелаг пробыл недолго.
Уже через месяц после ухода японцев Гавайские острова вместе со всем
Дальним Востоком вошли в состав РСФСР. Какое-то время тут был
Гавайский (Канакский) автономный национальный округ
Дальневосточного края, стояли части Особой Краснознаменной
Дальневосточной армии тов. Блюхера. В свое время была разработана
гавайская азбука на основе кириллицы, провели ликбез, в свое время
прошла коллективизация с высылкой кулаков и подкулачников на
Командоры, в свое время прошел массовый отлов польских шпионов, в
свое время был создан «Островлаг», где зэки искупали свою вину перед
Родиной валкой сандалового дерева и строительством стен из лавы.
После Великой Отечественной войны округ вошел в состав Сахалинской
области, на тех же основаниях, на каких Корякский округ вошел в состав
Камчатской области. Ребятишки посмышленее из нацменов отправлялись
в Ленинградский Институт народов Севера им. А.И. Герцена, где рядом с
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
чукчами и эвенками обучались на педагогов по преподаванию русского и
полинезийского языков и литературы, истории и географии. Вместе со
всем советским народом полинезийцы к своему удивлению узнавали о
необоснованных репрессиях в период культа, о необходимости
повсеместного выращивания кукурузы и кормовой свеклы, о нужности
твердой борьбы с модернизьмом и абстракционизьмом, потом о
волюнтаристских нарушениях и переходе к коллективному руководству.
Вместе со всеми они познакомились с талонами-заказами на полтора
килограмма мяса и мясопродуктов, с рейдами по отлову тунеядцев, посещающих в рабочее время баню.
Всем запомнились заголовки газеты «Сахалинская правда»:
«В Кауайском районе Гавайского округа опять не выполняется план по
сбору ананасов»… «Усилить борьбу с отдельными проявлениями
самогоноварения в колхозах Мауинского района»… «Выше уровень
политического просвещения трудящихся на предприятиях и в колхозах
острова Оаху»…
Я, конечно, мог бы рассказать о том, как в архипелаг пришла
Перестройка, как побеждала, побеждала и никак не могла победить
Демократия, как присланный пароходом из Питера отставной Старший
Надзиратель из лагерной вохры организовал «вставание с колен» и
подъем Патриотизьма, но ведь вы и сами все это знаете, если не лично, то по рассказам проживающих в РФ родственников. Поэтому на этой
ноте наш рассказ о Русских Гавайях можно и закончить.
КОРОЛЕВСТВО АМЕРИКА
Альтернативная история
14 октября 2019 года все Соединенные Штаты и особенно американцы
итальянского происхождения отметили День Колумба в честь
открывателя Америки. А 9 октября, на пять дней раньше, штат
Висконсин и американцы со скандинавскими корнями отмечали день
Лейфа Эриксона, норманна, который ступил на землю Нового Света на
пять веков раньше, примерно в 1000 году. При этом, Лейф не только
увидел и ступил на берег, но и построил два поселения, которые
просуществовали несколько лет. Ну, так и вирджинский Джеймстаун, который все знают по мультфильму «Покахонтас», первое английское
поселение в Америке тоже ведь был в итоге заброшен.
Назвал он эту страну Винландом, хотя сомнительно, чтобы его корабль
добрался до берегов, где можно найти дикорастущий виноград. Верней
всего, что викинги, знакомые с вином, но не с лозой, приняли за виноград
голубику, которой, действительно, в Северной Америке навалом.
В гостях у тетушки Клио
Ничего необычного для скандинавов в таком походе нет. Их корабли, которые часто называют «драккарами» из-за изображений драконовых
голов на носу, не были особенно удобными для дальних морских
походов. Жилых помещений на них не было, только трюм, в крайнем
случае устанавливалась палатка, прямоугольный парус почти не
позволял ходить галсами, т.е. против ветра. Но умение и отвага моряков
позволили достигать уж очень удаленных мест. Мы видим норманнов и в
Биармии на берегах Белого моря (поход Оттара), и в Сицилии и Южной
Италии, норманны освоили берега Ирландии и островов Атлантики —
Шетландских, Оркнейских, Гебридских, Фарерских, вплоть до Исландии, Франции на южном берегу Ла-Манша, даны покорили пол-Англии, свеи
и варяги добирались по Балтике и восточноевропейским рекам до
Константинополя («путь из варяг в греки»).
Признаемся честно, что на атлантических островах они всюду заставали
уже поселившихся до них ирландских монахов, но вот в 985 году Эрик
Рыжий, изгнанный сначала из Норвегии за убийство, а потом и из
Исландии за то же самое, высадился в Гренландии, где совсем никаких
обитателей не было. Время было сравнительно теплое, до начала «малого
ледникового периода», но его рассказы о «зеленом острове» с лугами и
лесами были, правду сказать, бессовестной рекламой. Все же несколько
сот человек ему поверили и переселились на новую землю. Коров там, конечно, не разведешь и ячмень не посеешь, но рыбы и тюленей было
много, поселения эти существовали до XIV века, когда похолодание, да
еще и занесенная из Европы чума сильно по ним ударили. А тут пришли
на остров добравшиеся с Аляски эскимосы и это норманнское население
добили. Вот, к слову, интересный вопрос — кого нам считать в
Гренландии добрыми аборигенами, а кого злыми геноцидчиками-
колонизаторами — эскимосов или скандинавов? А потом сравнить ответ
хотя бы с Гавайями или Новой Каледонией. Или Сахалином с Курилами.
Сам Эрик сохранил веру в Одина и Тора, но жена его и дети были уже
христианами. Из этих детей более всего известен Лейф Эрикссон —
открыватель Америки. Вы же знаете, что у исландцев нет фамилий, они
живут только с именем и отчеством. Но по тем же сагам, а их, собственно, две — «Сага об Эрике Рыжем» и «Сага о гренландцах», у
Эрика была еще и очень незаурядная дочь — Фрейдис Эриксдоттир.
Упоминается и ее муж, но как-то вскользь, понятно, что сила была не в
нем. В «Саге об Эрике Рыжем» сказано, что когда в бою с
превосходящим числом туземцев викинги не устояли и побежали, то
Фрейдис громко пристыдила их, обнажила свои груди из-под платья и с
мечом в руке ринулась в бой. Туземцы-скрелинги испугались такой
воительницы-валькирии, бросились к своим лодка и ушли на них.
Некоторую пикантность этому эпизоду придает то, что героиня была уже
заметно беременной.
В этой же саге говорится и о том, что на третий год жизни норманнского
поселения, когда уже начали рождаться дети, была большая вражда
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
между мужчинами из-за женщин, что и понятно, так как женщин было
много меньше, чем викингов.
В «Саге о гренландцах» о внутренних сварах в поселении говорится
подробнее и там очень заметна роль Фрейдис Эриксдоттир, как сильной
и не особенно порядочной личности. Будто бы у поселения началась уже
не только война, но и некоторая пушная торговля со скрелингами
(вероятно, это индейцы, но не исключено, что эскимосы). Если помните-
то именно этим, меховой торговлей полтора века жила Французская
Так вот, Фрейдис договорилась ту пору популярности Винланда с двумя
братьями Хельги и Финнбоги о создании чего-то вроде акционерного
общества по освоению новой земли. С ее стороны основным вкладом
должны были стать дома, построенные там ее братом Лейфом. Но уже с
первых шагов выяснилось, что она нарушала условия этого союза. В
частности, в лейфовы строения она их не пустила. А потом, возвела
своему мужу Торварду на них напраслину, обвинив в том, что ее, бедняжку, избили.
В результате Торвард и его дружинники убили Финнбоги, Хельги и всех
мужчин в их доме, а пятерых женщин после этого зарубила секирой
лично Фрейдис. Она догадывалась, что этот подвиг не придаст ей
дополнительной привлекательности и пригрозила своим спутникам
смертью за разглашение. Однако слухи дошли до ее брата Лейфа, а ее
люди под пыткой подтвердили эту историю. Лейф сказал: «Мне не
хочется поступить с моей сестрой Фрейдис так, как она заслуживает. Но
я предсказываю, что их потомству не будет благополучия».
Ну, да Бог с ним, с потомством Фрейдис и Торварда, но понятно, что
известия об этой истории сильно уменьшили привлекательность новой
земли для переселения. В значительной степени из-за этого винландский
поселок не был долговечным. Все-таки, в ледовой Гренландии, где не
было ни лесов, ни источников железа, норманнские поселения
просуществовали три с половиной века, там были тысячи жителей, сотни
хуторов, десятки церквей, одно время там жили свои епископы, для
гибели всего этого понадобилось совместное действие «малого
ледникового периода», Великой чумы и агрессии эскимосов. А в
значительно более благоприятном климате североамериканского
побережья колония викингов прожила всего несколько лет.
Ну, и в итоге от этих поселений остались две саги — «Сага об Эрике
Рыжем» и «Сага о гренландцах», упоминания в летописи Адама
Бременского, развалины поселка викингов около L’Anse aux Meadows в
канадском Ньюфаундленде, да, возможно, еще гены кого-то из
исландцев, привезенные на остров около 1000 года индианкой с
Лабрадора. Есть, правда, еще и Миннесотский камень с рунами о погоне
посланцев норвежской короны за бежавшими от христианства
В гостях у тетушки Клио
поклонниками язычества из Винланда до середины континента, но тут
есть большие сомнения в подлинности.
А Америку пришлось открывать Колумбу в 1492 году, отправившись не
из Исландии, а с Канарских островов.
Но вот представьте себе, что у Эрика Торвальдсона Рыжего не было бы
дочки, одни сыновья. Ну, или он бы воспитал дочь не такой
предприимчивой и агрессивной. Эмиграция в Винланд была бы намного
большей, хотя бы до уровня эмиграции в Гренландию на первый случай, то есть, до тысяч человек, которые там занимались бы земледелием, разведением коров и овец, рыболовством. Ну, и набегами дальше на юг
— это же викинги. Нет сомнения, что никакой Гайавата не смог бы их
остановить. Несколько сот вооруженных викингов в ту пору могли взять
Йорк, Лондон, Неаполь или Париж, а что говорить об индейских
вигвамах! Переход южнее открывал бы все больше возможностей для
сельского хозяйства, а это вызывало бы все усиливающееся переселение
норманнов, а с ними, вероятно, и какого-то количества других
североевропейцев за океан. В конце концов, довольно активная миграция
испанцев и португальцев в будущую Латинскую Америку, была связана
как с охотой за золотом, так и с наличием в тропиках больших площадей, пригодных для земледелия. У норманнов в плюсе была бы еще и
торговля мехами.
Можно предположить, что рано или поздно новые норманнские
поселения оторвались бы от короля в Норвегии просто под действием
своего веса и центробежной силы. В нашей действительности
Гренландия и Исландия продали норвежскому королю свою
независимость в обмен на поставку каждый год определенного
количества зерна, древесины и металлов. Но для Винланда в случае его
расширения на юг, все это было бы доступно на месте. Так что думается, винландцы смогли бы сманить к себе кого-нибудь из королевского
скандинавского рода Инглингов и стать независимым государством, еще
одной скандинавской страной наряду с Данией, Швецией, Норвегией и
Русью. Назовем их « Королевством Америка».
Рано или поздно их продвижение дошло бы до Карибского моря, и они
встретились бы с манящим золотом. Но вот тут не исключено, что им бы
встретился совершенно неожиданный соперник. Переместим наше
внимание опять на восточный берег Атлантики, но намного южнее
Скандинавии. В начале XIV века главной страной Западной Африки
была мусульманская империя Мали. Она к тому времени под
главенством племени Малинке сменила предыдущего гегемона империю
Ганы. Считается, что под ее властью было 50-60 миллионов человек (то
есть, в в три раза больше, чем было тогда во Франции). По европейским
меркам страна была баснословно богата благодаря золотоносным
месторождениям Бамбук и Буре, ну и еще торговле солью. Во всяком
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
случае, один из верховных повелителей — Манса Муса отправляясь в
хадж в Мекку взял с собой, если верить арабским хроникам от 60 до 80
тысяч охраны, придворных и слуг, верблюды каравана несли по
современным подсчетам как минимум 12750 тонн золота. Такое
количество драгметалла надолго обвалило цену золота по всему
Средиземноморью. Считается, что Манса Муса был самым богатым
человеком за всю мировую историю, намного богаче Ротшильдов и
Билла Гэйтса.
А его предшественник Абу Бакр II остался в истории тем, что снарядил
флот из тысяч кораблей с десятками тысяч экипажа и многими тысячами
тонн припасов. Сам он стал во главе этого флота и отправился на запад, оставив свою империю на визиря, того самого Мусу. Все это мы знаем от
арабского историка Аль-Омари.
Никаких следов появления этой экспедиции на американском берегу не
найдено. Ну что ж, западноафриканцы не очень знамениты как хорошие
мореходы, а не всем так везет с погодой, как Колумбу в Атлантике или
Магеллану в Тихом океане. Что до ольмекских статуй с негроидными
губами в Мексике, то, во-первых, они на много столетий старше
плаваний Абу Бакра Малийского, а во-вторых, специалисты, вроде бы, объясняют их технологией изготовления.
Но вот представим себе, что Мансе Абу Бакру II и его флоту удалось бы
добраться до Южной Америки. Конечно, они могли бы там сразу создать
новую империю. Сомнительно, чтобы им удалось поддерживать
постоянные контакты с африканским берегом. Я же говорю — не
мореходы! Но! В Новом Свете некому было бы им сопротивляться, поскольку африканцы давно жили в Железном Веке и никаким инкам или
ацтекам против них было бы не устоять. И вот на берегах Карибского
моря происходит столкновение двух экспансий: европейской
христианской из норманнского Винланда и африканской мусульманской
из Нового Мали в Америке. Как хотите, а это было бы забавно!
Лично я, во всяком случае, поставил бы на викингов. Все же они не
должны были забыть, что такое воинский строй, боевые умения и
дисциплина. Вон шведам достаточно было заполучить на троне
Северного Льва Густава-Адольфа, чтобы снова стать грозой всей Европы
во время Тридцатилетней войны.
В гостях у тетушки Клио
ОБ АХМЕДЗАКИ ВАЛИДИ, ЕГО ЖИЗНИ И
ЖИЗНЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
Я вырос в Уфе. Это довольно большой многонациональный
промышленный город на Южном Урале. Промышленным его, как и
большинство городов Урала и Поволжья сделали два события: пятилетки
и эвакуация. Еще и то, что вокруг было найдено немало нефтяных
месторождений. Можно, наверное, назвать его отчасти и культурным
центром. Все же были там театры – башкирский драматический, русский
драматический (ну, этот, сказать по правде, в мои времена был никак не
выше среднепровинциального общесоюзного уровня), потом еще
появился неплохой кукольный театр. Был театр оперы и балета, размещавшийся в старом здании Аксаковского народного дома. С этим
театром связаны имена Рудольфа Нуреева (до переезда в Ленинградский
Кировский театр, а потом … ну, вы же знаете) и Григоровича (когда
сплотившаяся труппа выжила его из Большого). ВУЗы, в том числе
неплохие авиационный и нефтяной, Башгосуниверситет, срочно
переименованный в 1957-м году из республиканского пединститута, еще
кое-какие.
Ну, конечно, еще и Республиканская библиотека имени Н.К.Крупской.
Той самой, что поедом ела Корнея Чуковского за «Крокодила». Почему
Крупской? А она получила срок ссылки побольше, чем ее Володя, пробыла с ним его три года в ссылке в Шушенском, а потом он уехал в
Псков, где ему разрешили жить, а она отправилась отбывать еще один
год в указанную лично ей Уфу. Лукич туда даже к ней приезжал, встретившись уж заодно с местными социал-демократами. В 30-х
появился музей, сама Надежда Константиновна надзирала за тем, что и
как. От моего дома на улице Ленина и от моей школы это совсем рядом, симпатичный двухэтажный деревянный домик в густом саду, за которым
по вечеру было очень удобно обниматься в темноте с подружками.
Вообще тогда столица Башкирской автономной республики в старой, исторической своей части еще сохраняла в большой мере облик
губернского города конца XIX века. Я-то, действительно, жил в
пятиэтажном современном доме, построенном в 50-х, но очень многие
мои одноклассники, да и учителя жили в деревянных домах иногда всего
в одном квартале от главной улицы. Кто-то в двухэтажных полубарачных
домах, строившихся уже тогда, «до исторического материализма» для
сдачи в наем, а кто-то в одноэтажных домиках «частного сектора» с
большими яблоневыми, терновыми и сиреневыми садами. Помню, как я
однажды нарезал у своего приятеля Вадика целую охапку ветвей сирени, покрытых цветами, и потом шел домой, раздавая по дороге сирень
встречным девицам.
А теперь этот дом-музей еще остался, а библиотеку переименовали, хотя
и оставили в старом здании. Теперь она имени Ахмедзаки Валиди.
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
Почему и как это произошло – вот об этом и данный текст. Но еще
хотелось бы сказать пару слов об уже упомянутой многонациональности.
Именно башкир в Уфе было не так много. Они больше жили восточнее и
южнее в горных лесах и в степях. Считается, что город основан в 1574
году московским воеводой Иваном Нагим вскоре после завоевания
Казанского ханства. Ну и, естественно, последующие столетия, роль Уфы
как губернского центра, строительство в 30-х годах моторостроительного
и нефтеперерабатывающего заводов, приезд в эвакуацию десятков тысяч
людей с Запада страны привели к тому, что более всего тут жило
русских. А следующими за ними были татары, которых вообще много
жило и живет в западной половине республики. Все знали, что такое
Старая Уфа вдоль речушки Сутолоки и что там живут по большей части
татары. Земли у башкир было действительно много, и они сдавали ее за
гроши в аренду «припущенникам» из русских, казанских татар, чувашей, мордвы, марийцев, украинцев, даже и латышей. Были в том числе и
немцы, да еще к ним добавились высланные в 1941 году с Украины, Кавказа и Поволжья. Ссылали еще и греков, и крымских татар уже в 1944
году. Освоение башкирской нефти и строительство самого крупного в
СССР центра ее переработки привело армян и азербайджанцев из Баку.
Ну, евреи, конечно, как без них в пору пятилеток и послевоенного
строительства химического комплекса.
Жили, в общем, более или менее дружно. Я по детству помню
колоссальные драки, толпами, но не по национальному делению, а, скорей, кто откуда приехал и где живет – «рыбинские» из поселка
моторостроительного завода против «южан» из общежитий
нефтепереработчиков. Но, конечно, к идеалу времен II Интернационала
было не близко. Я по детству хорошо запомнил, как где-то в
общественном месте двое татар или башкир беседуют по-своему, а к ним
подходит дама из числа приезжих «жен руководящего состава» и делает
выговор, что-де: «в обществе надо говорить на языке, понятном всему
обществу». Ну, или то, что после смерти Вождя лопнуло «дело врачей-
убийц» и его руководитель известный Игнатьев был снят из министров
государственной безопасности и отправлен в Башкирскую АССР первым
секретарем обкома. Почти сразу после этого моего отца, как и остальных
евреев-руководителей из нашего рабочего пригорода Черниковска, вызвали в горком партии и велели подать заявление «по собственному
желанию». Дескать, это – «их партийный долг». Почти все так и сделали
и продолжали работать собственными заместителями. А мой отец, искренне веривший в Партию и ее пропаганду, не захотел, чтобы так.
Заявление подал и полгода зарабатывал на жизнь переводами из
американского журнала «Ойл энд Гэз», помню толстенькие номера этого
журнала на его столе. Ну, надолго этот самый Игнатьев в Уфе не
задержался. Потом его перевели на ту же должность в Казань, а там
быстро отправили в 56 лет на пенсию «в связи с пошатнувшимся
здоровьем». Ну, а мой отец, как и другие «инвалиды пятого пункта», вернулся на свою должность.
В гостях у тетушки Клио
Но по сравнению с другими местами, с жуткой национальной враждой в
послевоенном Азербайджане или на Украине, наш город был
«национальным раем». А мой папа еще за время работы в Баку освоил
азербайджанский и с грехом пополам мог беседовать с башкирами и
татарами – он единственный из всех приезжих работников. Тюркские
языки ведь очень похожи один на другой. Ну, а наше поколение вообще
не знало этой темы, никогда о ней не задумывалось. К примеру, у меня
первая постоянная девушка была башкирка, а одним из самых близких
друзей был и остается до сих пор уфимский татарин, который теперь
живет в Турции, на берегу Эгейского моря. Когда я в 16 лет впервые
приехал с родителями в Кисловодск, то был поражен общим интересом к
теме «какой вы нации?». Вот уж что меня дома не сильно волновало! А
уж когда я узнал в стройотряде на строительстве газопровода Бухара-
Урал, что шофер-казах никогда не подвезет встреченного на дороге
русского, а русский шофер казаха, то был просто шокирован.
Вот эта самая моя
первая девушка и
привела меня в
построенную
Республиканскую
библиотеку. Ей
совершенно
незаурядные
лингвистические
способности. Уже
тогда, в школе он
свободно владела
родным башкирским, русским и английским языками. Ну, еще могла
объясняться и читать по-татарски, по-арабски и по-французски. Ни у
кого не было сомнений, что ее ждет будущее великой переводчицы. Сама
она была из довольно традиционной семьи. Я у нее бывал дома, видел
лежащие раскрытые книги на арабице, в том числе, как мне показалось, Коран. Отец ее был преподавателем в национальной школе, учил деток
башкирской грамматике. В городе было несколько таких школ-
семилеток. Десятилетки не было. В то время средняя школа всеми
рассматривалась исключительно как необходимая ступень для
поступления в ВУЗ. А там везде преподавание по-русски. Ну, были, правда, в местном университете и в новом пединституте специальности, связанные с башкирской филологией, но там строго учились приезжие из
национальных деревень. Их потом, кому не удалось увернуться и
зацепиться в городе, и посылали учителями в сельские школы.
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
Она, назовем ее здесь Z., и предложила мне научить меня английскому.
Я-то в школе учил немецкий и он давался мне довольно легко, но чем
плохо знать еще один язык? Вот с этой целью мы и встречались с ней
после уроков в библиотеке. Благо недалеко. От моего дома и от школы
шесть кварталов, от ее – четыре. До сих пор в памяти осталось, как она
меня учит говорить «зе тэйбл», «э кар», «эн эппл». Кстати, с мучащими
русскоговорящих при освоении языка англосаксов звуками «ð» и «ө» у
нее, как и вообще у всех башкир, никаких проблем не было. В их языке
тоже есть эти звуки. Должен честно признаться, что уроки эти
продолжались недолго. Мы довольно быстро сообразили, что вместо
произношения и правописания гораздо интересней целоваться, обниматься и так далее. И не обязательно между книжных полок.
Но привычка ходить в эту библиотеку у меня осталась. Я понял, что тут
можно в читальном зале без проблем получить на несколько часов
дореволюционные издания Киплинга, Сенкевича и других авторов, которых в остальных библиотеках города нет. Так что «Кима» или
«Огнем и мечем» я прочитал еще в 8-9 классах, лет на тридцать раньше, чем подавляющее большинство тех, кто их вообще прочитал. Оказались
там и почему-то не были закрыты для публики и советские довоенные
газеты. Вот где-то тут в библиотеке я и встретил первые это имя из
заголовка, правда в несколько обобщенной форме – «валидовщина». Что
такое? Понятно, что хотят об этом сказать без симпатии, по аналогии с
«колчаковщиной», «махновщиной», «петлюровщиной» и т.д., но кто ж
это такой?
Полез я в газеты времен Гражданской войны. Тут было не все – или не
все выдавалось. Но Валидов все-таки обнаружился. Но странным
образом не в виде белого атамана, а как раз наоборот – в должности
председателя Башкирского военно-революционного комитета. Что-то он
там докладывает Предсовнаркома В.И.Ленину (Ульянову). Ну, это я уже
знал к девятому классу – что «Иудушка Троцкий» служил председателем
Реввоенсовета у того же Ленина (Ульянова), создавал Красную Армию.
Познакомился я с этим фактом никак не на школьном уроке Истории
СССР, а со слов своего деда Александра Дмитриевича. Он был членом
партии социалистов-революционеров с Пятого года и к большевикам
вообще относился с прохладцей. Хотя громко вслух об этом не говорил.
Но имя Валидова ему было незнакомо, он-то провел эти годы в Киеве и
на Среднем Урале, о башкирских вождях не слыхал.
Ни в каких учебниках или популярных книжках о Гражданской войне
нельзя было найти упоминания этого человека. Разве иногда сквозь зубы
– «валидовщина». Был татарский большевик Султан-Галеев, на которого
лил дерьмо тов. Сталин в каком-то из томов своего собрания сочинений.
Можно было по аналогии догадаться о его дальнейшей судьбе, но на мой
вопрос ответа не было. В редких упоминаниях Валидов появлялся то как
В гостях у тетушки Клио
белогвардеец, то как народный комиссар, а в одном месте был назван
басмачом. Ну какие басмачи в Башкирии?! Басмачи – это там, где
барханы, верблюды и саксаул. Там-то и водятся эти курбаши в длинных
чалмах и с английскими пулеметами во вьюках на верблюжьем горбу. В
общем, все это одновременно, конечно, невозможно. Но постепенно
выяснилось, что неодновременно – возможно. А потом еще оказалось, что это знаменитый востоковед, что уже его первые работы получили
благословение академика Бартольда и Арминия Вамбери (!). Тут уж я
открыл рот. Имя Арминия Вамбери, еврейского мальчика из Венгрии, добравшегося до закрытых в ту пору для европейцев Герата, Кандагара, Бухары и Самарканда я знал с детства по знаменитой повести Тихонова.
Почему это все меня вообще интересовало? Я в ту пору занимался в
химическом и радиокружке городского Дворца Пионеров, ходил в
университет в матшколу на лекции по теории чисел, ездил на
математические олимпиады и даже занимал какие-то места, с
удовольствием играл в школьном театральном кружке. Но стать по
жизни я хотел историком, читал неподъёмные вузовские учебники по
истории Древнего Рима и Средних веков, даже ездил после 8-го класса
летом рабочим в археологическую партию, где мы копали эпоху бронзы.
Ничего, правда, особенного мы не выкопали, но мне понравилась жизнь в
палатке, песни у костра вечером и крайне доброжелательные студентки-
третьекурсницы и местные селянки, познакомившие меня с ранее
неизвестными сторонами жизни.
А тут такая историческая загадка! Неожиданно я узнал о ее герое то, что
вообще мало кто знал. Дело в том, что мой отец, благодаря своем
азербайджанскому языку завел себе много знакомых и приятелей в среде
татар и башкир. Одним из его близких друзей был полковник милиции
Анас Галимов – как я теперь для себя определяю, « последний честный
милиционер в Советском Союзе». Меня, как и моего младшего брата
оставляли иногда в их доме у его мамы Мавжуды-aпы на время, когда
мои родители ездили в Кисловодск. Я именно с того времени полюбил
татарскую кухню с ее блинами-кыстыбый, чаем со сметаной, печеными
пирогами – балишами, медовым чак-чаком и фаршированной омлетом
праздничной курицей тутырган-тавык.
Были у отца хорошие знакомые в местной литературной среде, например, башкирский прозаик Анвер Бикчентаев. Ну, в том числе и местная
знаменитость – Мустафа Сафич Каримов, известный по всему Союзу как
Мустай Карим. Вот он и пришел однажды к нам в гости на папин
«Ереванский» коньяк и мамины пирожки. Они-то выпили и беседуют, а я
из соседней комнаты внимательнейшим образом слушаю, хотя обычно к
отцовским гостям равнодушен. Оказалось, что не зря.
Хорошо закусивший Мустай стал рассказывать про свою недавнюю
поездку в Стамбул. Лично мне спустя полвека Стамбул более всего
бросился в глаза своим сходством с тюркскими столицами Союза –
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
Ташкентом, Казанью, Уфой, схожими лицами и выражением на них, статуями или хотя бы портретами Ататюрка на каждом перекрестке, с
тиражом даже чаще, чем наш вечно живой Ленин. Ну, а башкирский поэт
упирал на древние мечети и памятники византийских времен. А потом
вдруг сказал, что встречался там с Валидовым, при этом именуя его
Валиди. Даже у школьника не могло быть сомнения, что такая встреча
может быть только при «санкции сверху». Да, я, сказать по чести, и не
знал, что он все еще жив. Мне тогда бы в голову не пришло, что и
А.Ф.Керенский вполне еще был жив.
Отец-то член обкома, при нем, может быть и можно. А о моем
существовании они забыли. Как я понимаю, оба участника стамбульской
встречи были в понимании, что Мустай Карим – самый известный
башкир в Советском Союзе, а профессор Валиди – самый известный
башкир за рубежом. Поговорили, судя по словам Мустафы Сафича, хорошо, но, как можно было понять – без особых результатов. Какие уж
тут ожидались результаты – понять трудно, но вообще-то Степанида
Власьевна в ту пору, да и до, и после с удовольствием сманивала к себе
известных в мире эмигрантов – от генерала Слащева в 20-х до писателя
Куприна в 30-х и малоизвестной в России поэтессы Одоевцевой в 80-х.
Несколько позже этого разговора сюда присоединилась еще и скупка у
родственников трупов русских знаменитостей для перезахоронения в
Москве – Шаляпина, великого князя Николая Николаевича, генералов
Деникина и Каппеля, философа Ильина, писателя Шмелева и других.
Может, и тут? Но, чего не знаю, того не знаю.
Среди прочего Валидов рассказывал Кариму о том, как в начале Великой
Отечественной войны немцы пригласили его встретиться с башкирскими
и татарскими военнопленными в своих лагерях. Как будто, они хотели
сделать знаменитого деятеля времен Гражданской войны своим
«главным мусульманином», вдохновителем и организатором татаро-
башкирских и вообще мусульманских войск, воюющих на их стороне. Он
съездил, поговорил с кое с кем из пленных, потом встретился с кем-то из
нацистских боссов, кажется, что с Розенбергом и сказал ему примерно
так: «Москву с ходу вы уже не взяли. Ну, а дальше Сталин вас обманет, проведет за нос. Я с ним работал, я его хорошо знаю. А идти на сторону, которой предстоит проиграть, я не хочу». И уехал обратно в Стамбул.
Пришлось им брать «главным мусульманином» иерусалимского муфтия, уже очень известного своим антисемитизмом и нелюбовью к британцам.
Дальше беседа отца и Мустая ушла в другую сторону, но мне было
достаточно. У меня уже, с учетом того, что я вычитал, порой против воли
авторов, в старых книгах и газетах, сложился какой-то образ Валидова, не так уж сильно отличаюшийся от моего сегодняшнего представления, хотя, конечно, гораздо менее подробный. Мне, конечно, очень хотелось
поделиться с кем-нибудь, но с кем? С отцом? Но у нас уже в ту пору
было явное расхождение по поводу Сталина, отец не спорил вслух с
«линией ХХ сьезда», но продолжал в душе глубоко почитать Отца
В гостях у тетушки Клио
Народов. С дедом? Но ему здешние башкирские деятели были
неинтересны, он глубоко увлекался темой о политической жизни в Киеве
в 1917-18 годах, когда он был там членом Окружного совета солдатских
депутатов. В школе? Но я уже имел опыт тройки за четверть по
поведению по поводу защиты обожаемой Анны Ахматовой от Жданова и
учительницы литературы Маргариты Николаевны.
Оставалась моя подруга З.. Она же башкирка! Но когда я попробовал с
ней об этом поговорить, то оказалось, что эта тематика ей совсем
неинтересна, но зато она интенсивно потащила меня в областную
филармонию на концерт восходящей звезды скрипача Олега Крысы. Это
у нас было взаимным. Я чуть не силой затаскивал ее на концерты, когда в
нашем городе появлялись джазовые оркестры Лундстрема или Эдди
Рознера, а она всеми силами приучала меня к классической музыке. Ни с
кем больше я на эту тему не заговаривал, так это все и осталось в
глубинах моей души.
Конечно, когда башкиры, как и все народы СССР, неожиданно
обнаружили во второй половине 80-х, что у них есть история, не совсем
совпадающая с «Кратким курсом», о Валиди стали много говорить и
писать. Уфимскую улицу Фрунзе и, как уже сказано, Республиканскую
библиотеку переименовали в его честь, почти официально его объявили
«отцом башкирской нации», он стал предметом бесконечных башкиро-
татарских склок на сетевых форумах. Но, сказать по правде, за пределами
Башкортостана и Татарстана о нем и теперь почти никто и не знает, да и
в пределах … не сказать, чтобы очень много. Вот я здесь попробую
коротко рассказать об его удивительной жизни тем, кто им никогда не
интересовался.
Родился наш герой в 1890 году в селе Кузян. Это километрах в сорока от
Стерлитамака. Я там никогда не был, но, в общем, представляю себе
такое не очень большое село в предгорьях Южного Урала со смешанным
башкиро-татаро-чувашским населением. С родителями ему повезло. И
отец, и мать были мало того, что грамотными, но знали языки – отец
арабский, а мать персидский. И его учили сызмальства. А для обучения
русскому наняли в соседнем селе человека, умеющего и говорить, и
читать-писать на имперском языке. Башкирские и татарские языки и
обычаи были во многом похожи, но характерно то, что в родном ауле его
называли «татарчонком», а в ауле у дядюшки, где он часто гостил, кликали «башкирёнком». В будущем ему придется делать выбор.
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
Отец его был имамом
медресе при этой
мечети, учил детей
основам ислама, мать в
этой же медресе обучала
девочек. Так что вроде
бы и профессионалы-
интеллигенты. А с
другой стороны, только
этим было невозможно
прокормиться, так что
лошадей, овец, бросали
зерна проса в кое-как
вспаханную землю, собирали мед диких пчел по бортям. В общем, жили
как другие. По данным земской статистики среди русских крестьян
Стерлитамацкого уезда зажиточных было 28 %, бедняков 38%, а среди
башкир зажиточных многолошадных крестьян 7%, а бедноты 74%.
Валидовы были, пожалуй, из средних по уровню жизни. Эта же судьба, повидимому, ждала и юного Ахмет-Заки. Был бы он, как и его отец, и
многие из предков наполовину муллой и учителем, наполовину рядовым
скотоводом. Но в десять лет он очутился в ХХ веке, когда судьбы людей
стали сильно меняться.
Его родители не были
совсем уж людьми из
Средневековья. Когда
Ахметша собрался взять
себе вторую жену, что
допускается
шариатом, его жена
Уммульхаят была очень
недовольна и написала по
этому поводу обиженные
стихи. И имам передумал,
остался при одной
супруге. Он и его друзья
внимательно следили за ходом русско-японской войны и, сказать по
правде, не особенно болели за царские армию и флот. Ну, понятно, они
же воспринимали Российское государство как колониальную империю, подмявшую под себя мусульманские страны и народы. Но и особыми
врагами царизма не были. Да ведь, собственно, из подвластных
Петербургской империи народов бациллой Революции были сильно
В гостях у тетушки Клио
заражены евреи, поляки, латыши, грузины, ну, и финны. Да и тех
заталкивали в протест сами же российские власти.
Для любимого сына Ахметша Валидов предполагал ту же судьбу, что и
для себя. Медресе в Бухаре, Казани или Уфе, должность имама
деревенской мечети, занятия крестьянскими делами. В 18 лет его
собрались женить. Но он выбрал день, когда родители уехали к
родственникам в другое село, уложил в мешок краюху хлеба, щепотку
чая, конскую колбасу-казы, головку сушеного сыра-курута , оставил на
столе записку «Не хочу жениться, а хочу учиться» и ушел по дороге пока
что в сторону Оренбургского тракта.
Его маршрут немного напоминает известные публике странствия юного
Алексея Пешкова, с той только разницей, что общения с асоциальными
элементами вроде Челкаша или Мальвы он избегал. Ну, он ведь и вырос
не в звериной стае, какую по книжке сильно напоминает дом
горьковского деда, а в степенной патриархальной семье имама Ахметши.
Где пешком, где пароходом он через Оренбург и Астрахань добрался до
Казани. Знакомился с молодыми и с почтенными людьми, влюблялся, завязывал дружбу и полезные знакомства в кругах не чуждых
просвещению мусульман. Где-то работал на временных местах, где-то
ему оказывали посильную помощь деньгами люди, у которых что-то
было. Не очень много, конечно, он же бродил не среди Ротшильдов и
Ага-ханов, но несколько рублей перепадало. Он, по-видимому, производил очень благоприятное впечатление. Молодой, симпатичный, скромный и уважительный парень с достаточно широкими познаниями
по части истории и исламского богословия. При этом одет он мало
сказать, что без шика. Выглядел он типичным деревенским пареньком из
башкирской глухомани в тюбетейке, малахае, в сапогах-ичигах с
кожаными калошами, бешмете, домотканых рубахе и штанах с
завязками-тесемками вместо пуговиц.
В Казани он начал учиться в медресе «Касимия», сверх того брал
частные уроки арабского и русского языков, общался с татарскими
учеными и русскими востоковедами. Отец его простил за самовольный
уход из дома и стал отдавать для учебы деньги, заработанные на сборе и
продаже дикого бортевого меда, а это был заметный доход в Горной
Башкирии. Ахмет-Заки купил себе одежду европейского покроя, стал сам
писать и печатать статьи в местных татарских газетах. Однажды наш
герой решил «раскрепоститься». На газетный гонорар он купил круг
свиной колбасы и бутылку водки, предполагая именно так приобщиться
к европейской культуре. Пришедший сосед увидел его спящим. Но
результат эксперимента Валидову не понравился, на оставшуюся жизнь
он по возможности держался правил халяля.
Значит, попытка приобщиться к «русскому миру» была провальной.
Выбор – быть татарином или башкиром пока не возникал. Да это в
большой мере было тогда деление не столько национальное, сколько
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
сословное. Башкиры – кочевые или полукочевые скотоводы, собиратели
лесного меда. Татары – с давних, добатыевских времен, когда их
называли булгарами, оседлые земледельцы или торговцы. Собственно, ведь литературный язык со времен Золотой Орды у всех ее племен был
общий – тюрки£, на нем писали и татары, и узбеки, и каракалпаки, и
грамотные башкиры с казахами. Национальные литературные языки еще
только рождались. Появлялись и первые национальные писатели –
татары Галимджан Ибрагимов и Габдулла Тукай, башкир Мажит Гафури, казах Мухтар Ауэзов и другие.
После окончания он стал преподавать в той же медресе, а одновременно
писал учебник. Назвал его «История тюрок и татар». В основу книги
легла концепция экономического материализма, с которой Валидов
познакомился по работам Плеханова. Ну, и время от времени появлялись
его статьи в газетах на ту же тему. В том числе серия этнографических
статей о своих земляках, бурзянских башкирах, которых он считал
хранителями национальной культуры. Но он занимался и рукописями, найденными в Туркестане, киргизским эпосом «Манас». Эти работы и
привлекли внимание знаменитых востоковедов Бартольда и Вамбери, других ученых.
Вообще он понемногу становился очень популярным как в среде
интеллигентов из татар, башкир и других
российских тюрков, так и в среде ученых-
востоковедов. Наконец, «Археологическое и
историческое
Казанского
университета» дало ему деньги на поездку в
Российский Туркестан для поиска старинных
рукописей. В 1913-14 годах он искал и
находил древние сочинения я Ташкенте,
Фергане, Самарканде и Бухаре, завел
множество знакомых, с некоторыми из
которых ему еще придется встречаться после
1917 года, в том числе даже в дворце эмира.
Планы его в ту пору сводились к намерению
сдать экстерном за курс русской гимназии и,
дополнительно,
преподавателя русского языка для нерусских
школ. Но в июле 1914 года в городе Сараево сербский националист
гимназист Гаврила Принцип застрелил наследника австро-венгерского
престола Франца Фердинанда, и Европа постепенно свалилась в
самоубийственную Мировую войну. В конце концов призвали на
военную службу и Валидова. Но покровительство академика Бартольда
позволило ему уклониться от шинели и остаться преподавателем
русского в татарской школе.
В гостях у тетушки Клио
В это же примерно время Ахмет-Заки несколько неожиданно для себя
начинает принимать участие в политической жизни. По своим взглядам
он был неопределенно левым, что позже привело его на какое-то время в
члены партии социалистов-революционеров. Ну, и, конечно, сторонником автономии тюркских и вообще мусульманских народов в
составе России. Но тут он понадобился просто как грамотный помощник
для Мусульманской фракции IV Государственной Думы. В ней было
шесть депутатов: пять татар и один кавказский тюрк-азербайджанец.
Политически все они примыкали к «октябристам». Работа «при Думе»
привела к переезду в Санкт-Петербург и еще большему расширению
контактов, например, с депутатом Керенским, писателем М.Горьким, профессором Ковалевским. Много сделать не удалось, не для того Дума
существовала, чтобы управлять империей, но что мог Валидов – то он
И тут произошли известные события конца февраля-начала марта 1917-
го. Формально к Думе перешла верховная власть, а по факту она стала
«полуживой реликвией». В стране настало то, что обычно именуют
«двоевластием» Временного Правительства и Советов рабочих и
солдатских депутатов. Мы часто забываем, что любая революция – это, кроме всего, набор в ряды новых политических деятелей, дантонов и
маратов. Потом между ними происходит дарвиновская конкуренция, кто-
то побеждает. Совсем не обязательно тот, кто был самым ярким маратом
в момент переворота. По итогам революции 1917-го победил кавказский
абрек, у нас в итоге наверху оказался петербургский Акакий Акакиевич.
Когда как.
Мусульмане занялись организацией Туркестанского съезда в Ташкенте и
Всероссийского мусульманского съезда в Москве. Ахмед-Заки Валидов
очень активно работал и там, и тут, агитируя за превращение России в
федерацию. На этом он рассорился с многими своими знакомыми из
татарского и среднеазиатского истеблишмента. На какое-то время он
вступил в партию эсеров, куда тогда вступило пол-России. Но он
поссорился и с туркестанскими эсерами, когда прибывшая в Ташкент из
Центра продовольственная помощь была распределена, в основном, среди русского населения.
Дело постепенно дошло до Октябрьского переворота в Петрограде и
выборов в Учредительное собрание. К этому времени наш герой принял
участие в создание Башкирского и Туркестанского шуро (национальных
советов). Он, по-видимому, в это самое время решал для себя – от кого
он будет выступать. Многие татары с удовольствием приняли бы его как
татарского активиста, но у волжских татар было уже много вождей-
дантонов, среди них он мог только затеряться. Он склонялся, кажется, к
тому, чтобы выступать от имени общетуркестанского движения, но все
же корни его были не в Средней Азии, а на Урале. Ну, а башкир такого
масштаба явно было немного. Валидов приехал в Оренбург, который был
тогда основным центром и башкирской, и казахской политической
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
жизни, оттуда он поехал в Петроград и добился от Временного
правительства решения о возвращении башкирам оренбургских Караван-
сарая и мечети, построенных в XIX веке на собранные в общине деньги, пообщался с министрами-эсерами Черновым и Авксентьевым, а также с
Плехановым.
По-видимому, он окончательно решил, что будет бороться за
территориальную автономию башкир. Его выдвинули и выбрали
депутатом Учредительного собрания от Уфимской губернии. После 25
октября через пару недель Башкирское шуро объявило автономию
«Башкурдистана», как это тогда называлось.
Тут надо бы сказать немного о том, что Валидов оказался нестандартным
националистом. Сами знаете, что когда речь идет об автономии или
независимости какой-то национальной окраины, то национальные силы
пытаются расширить границы своей территории. Например, Украинская
Рада поссорилась с Временным правительством на том, что требовала
распространения своей власти на Херсонскую, Крымскую, Екатеринославскую губернии, а Центр признавал за ней только
Житомирскую, Киевскую, Полтавскую и Волынскую. Точно так же в
1991 году Украина захотела оставить за собой и Донбасс, и Крым, хотя
уже тогда было ясно, что они принесут Киеву в основном головную боль.
Татары в 1917 году хотели иметь центром своей, пока национально-
культурной автономии Уфу, то есть довольно сильно расшириться на
восток. Да и у меня в школьные годы был приятель-татарин с русским
именем Витя, который пропагандировал среди меня идею присоединения
Татарстану
Казахстана, части
Западной Сибири и
севера Ульяновской
созданием союзной
республики.
Азербайджанцы
всегда хотели свою
страну с Карабахом
и, по возможности,
с Ереваном.
А вот наш
персонаж понимал,
что в Башкирской автономии в границах исторического Башкортстана от
Волги до Тобола его народ окажется меньшинством и управлять будут
другие, русские и татары. Он выдвинул идею создания автономной
Малой Башкирии в пределах восточной половины нынешней
Башкирской республики, на землях, где его народ был в большинстве, и
В гостях у тетушки Клио
отстаивал ее всеми силами. С большинством татарских активистов он
поссорился, но с многими сохранил дружеские отношения. Он полагал, что Башкирская и Казахская автономии будут связывать Волгу со
Средней Азией.
С большевиками у
него не сложилось.
Еще по своим
Туркестане
составил о них
отрицательное
мнение, считая
способными на
обман и насилие.
Учредительного
собрания он не
поехал, полагая, что эта игрушка долго не протянет. На Южном Урале
шла затяжная «малая война» сторонников Совнаркома с атаманом
Дутовым, который был принужден уйти из города в степи в середине
января, башкиры в этом противостоянии никак не участвовали. В начале
января 18-го в Оренбурге было создано башкирское правительство, в
котором Валидов заведовал военными и внутренними делами. С
руководителем оренбургских большевиков Цвиллингом у них поначалу
сложились мирные отношения, тот знал и не возражал, что в Баймаке
создается первый полк Башкирского войска. Но в начале февраля
Ахметзаки и других башкирских лидеров арестовали. Как считал сам
Валиди – по наводке местных татарских конкурентов. Как раз в ту пору
их казанские лидеры вели переговоры с Лениным о создании автономной
Татаро-Башкирии, ну, а двух Башкортостанов быть явно не могло. Во
всяком случае, в местной газете «Известия» было опубликовано
сообщение: «Разрешено заключить в советскую тюрьму башкир, арестованных Оренбургским мусульманским военным комитетом».
За решеткой они провели два месяца до начала апреля. В ночь на 4-е
башкиры совместно с казаками совершили налет на Оренбург.
Освобожденный из уз Ахмет-Заки сначала укрылся в доме приятеля, известного татарского писателя, своего однофамильца Ямалетдина
Валиди, потом стал пробираться в Уфу, где 13-14 апреля должно было
состояться совещание его единомышленников. Далее Валидов активно
создает свое Башкирское войско, посылает своего представителя в
Японию на одолженные одним купцом-башкиром деньги. Тем временем, Ленин с Троцким решают разоружить эшелоны эвакуирующихся из
Советской России после Брестского мира чехословаков. Что дальше
было – хорошо известно. Чехословаки при некоторой поддержке
Народной армии сторонников разогнанного Учредительного Собрания
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
свергли Советскую власть на территории от Самары и Казани до
Владивостока. У Валидова и других башкирских автономистов были
напряженные отношения с дутовцами и вообще ультраправыми
сторонниками военной диктатуры и хорошие отношения с умеренными
социалистами: эсерами и социалдемократами-меньшевиками, которые
оказались по факту правительственной властью на большей части
Дальнего Востока, Сибири, Урала и Среднего Поволжья. Им удалось
быстро наладить контакты с руководством Чехословацкого корпуса и
Комитетом Членов Учредительного собрания (КОМУЧ), которые не
возражали против Башкирской автономии, Башкирского войска и даже
дали ему немного оружия.
Башкиры вместе с чехословаками начали наступление на Екатеринбург.
Наступление было успешным, но, скажем к слову, было еще и
дополнительным стимулом для екатеринбургского руководства к
срочному убийству Николая, Александры и всей семьи Романовых.
Создание Башкирского войска продолжалось, была объявлена
мобилизация по аулам. Хотя башкиры, вообще говоря, народ военный, что проявилось и в XIX веке в наполеоновских войнах («северные
амуры») и в российских походах в Среднюю Азию, но
профессиональных офицеров этой национальности не хватало.
Собственно, ведь и сам начальник войска военной подготовки не имел.
На выручку в создающуюся армию пришли офицеры – татары, русские и
даже поляки. Всего в Башкирском войске, начальником которого был
Валидов, было вместе более десяти тысяч шашек и штыков. При этом
башкиры подтвердили свою репутацию хороших воинов.
Через некоторое время правительство «Башкурдистана» достигло
соглашения с Сибирским правительством и сменившей его Директорией
в Омске о вхождении своих отрядов под наименованием «Особого
Башкирского корпуса», в составе 4 пехотных и одного кавалерийского
полка общей численностью более 10 тысяч бойцов в Сибирскую армию.
Войска пошли на фронт против красных, но тем временем в Омске
произошли заметные изменения. В Сибирь приехал из своей
американской командировки известный исследователь Арктики и
бывший командующий Черноморским флотом вице-адмирал А.В.Колчак.
Директория с восторгом сделала его своим военным министром. Но ему, как вскоре выяснилось, этого было мало.
Через месяц после приезда Колчака члены Омского правительства-эсеры
были арестованы, оставшиеся министры проголосовали за единоличную
диктатуру приехавшего, он был произведен в полные адмиралы и
объявлен Верховным Правителем России Верховным
Главнокомандующим он назначил себя самолично. В результате
чехословацкие легионеры, которые, собственно, и свергли Советскую
власть в Сибири, на Урале и в Поволжье, а также правившие до
переворота «правые» эсеры и социалдемократы-меньшевики из
Учредительного собрания оказались против колчаковской диктатуры.
В гостях у тетушки Клио
Относительно чехословаков адмирал позволил себе презрительно
отозваться, как о солдатах, изменивших присяге. Имелся, очевидно, в
виду их переход с австрийской на российскую сторону (?). А эсеров и
меньшевиков просто посадили за решетку, а после попытки
большевистского путча в Омске без суда убили после пыток на берегу
Иртыша. В белогвардейских кругах это остроумно называлось
«отправить в иртышскую республику». Сделано это было без санкции
Правителя. Более того, говорят, что узнав об этом убийстве он зарыдал.
Возможно, конечно, и говорит это о его тонкой душе, но вряд ли о
способности управлять страной. Поскольку никто за эти казни наказан не
Через некоторое время адмирал отменил без обсуждения признанные
КОМУЧем Башкирскую и Казахскую автономии, а вместе с ними
объявил несуществующими сражающиеся против красных Башкирское и
Казахское войска. Находящиеся под ружьем башкиры и казахи
становились обыкновенными солдатами армии омского правительства, им должны были прислать начальство из числа скопившихся в Сибири
генералов и офицеров. Это было в общем стиле возвращения к царским
порядкам. Ну, а руководство автономий и войск было определено к
арестованию.
Но оказалось, что это
был расчет без
хозяина. Убедившись
в агрессивных планах
Омска против себя
руководители
башкирских
автономистов
направили своих
делегатов в Москву
для переговоров о
переходе на сторону
Красной Армии. Там
их, конечно, приняли
с восторгом и дали любые обещания. Ведь башкирское войско
удерживало 400 км фронта от Уфы до Оренбурга. Адмирал, узнав о
переходе башкир на советскую сторону, как будто, снова зарыдал. По-
видимому, это была у него стандартная реакция на неожиданные
неприятности. Мало вяжется, конечно, с репутацией смелого покорителя
Арктики и победителя «Гебена», но чего не бывает … .
Естественно, что такой переход приводит по пути к непредвиденным
случайностям. Так, на Зилаирском заводе красноармейцами были
зарублены член Башкирского правительства поэт и пропагандист
Шайхзада Бабич и еще один молодой поэт Абдулхай Иркабаев. Но если
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
призванным в Красную Армию молодым деревенским парням откуда-
нибудь из Курской губернии полгода твердить, что все башкиры или там
белополяки – враги, то развернуть их мозги комиссарам сразу по
прибытию новых указаний даже при желании не так легко.
Понадобились ликвидация безграмотности, распространение
радиовещания и два десятилетия тренировок, чтобы советские люди
выучились менять свои убеждения со скоростью прочтения статьи в
В данном случае один из башкирских кавалерийских полков под
командованием Мусы Муртазина получив известия об убийстве Бабича и
Иркабаева, да и других развлечениях красноармейцев в башкирских
аулах перешел обратно на сторону белых и воевал на их стороне до
августа. В августе они все-таки убедились, что белый шайтан еще похуже
красного и вернулись на советскую сторону. Муртазин дослужился до
комбрига, ну, а в 1937-ом его, конечно, расстреляли.
Переговоры башкир с
красными начались в декабре
1918-го и закончились 18
февраля 1919-го реальным
переходом Башкирского войска
и союзных ему казахов на
сторону Москвы. Ахметзаки
Валидов сначала отправился в
Оренбург, где встретился с
командармом 1-ой армии Гаем,
а затем в столицу на встречу с
Предсовнаркома Лениным и
наркомом национальностей
Сталиным. Тут интересно то,
что переговоры, начатые с
командованием 5-ой армии и
уфимским руководством были
завершены на 340 километров
южнее. Дело в том, что
уфимскому руководству совсем
не нравились условия
автономии Башкурдистана.
Отчасти это связана с тем, что
в Уфе башкир почти и не было, это город татарский. Но Уфимский обком
был и против создания анонсированной еще в марте 1918-го Татаро-
Башкирской автономии. Спорить с Предсовнаркома в Уфе не решались, но саботировали присланные из Центра указания как могли.
В Москве Валидов много общался с Лениным, Троцким, Сталиным, Пятаковым, Луначарским и другими видными большевиками.
В гостях у тетушки Клио
Одновременно он вел работу по созданию своей национальной
Башкирской Социалистической партии, программа которой, по общему
мнению, была еще левее, чем у РКП(б). Дома, в Башкортстане, было
создано правительство автономии-Башревком, во главе которого
фактически стал наш герой Ахметзаки. Башкирское войско послало два
полка на Украинский фронт, продолжалась работа по созданию и
обучению новых полков. Сами башкиры предлагали Реввоенсовету
использовать свои части на Туркестанском фронте, полагаю, что им
будет проще найти общий язык с местным населением, чем
Красноармейцу Сухову.
В своих воспоминаниях Валиди не очень лестно отзывается об
искренности Сталина, но возможно, что тут повлияли прошедшие
десятилетия. Но главной проблемой для Башревкома было то, что
колчаковцы и дутовцы перешли в контрнаступление, заняли Уфу и
Оренбург, шли к Самаре и к Волге. Пришлось правительству
Башкирской автономии по указанию из Центра срочно эвакуироваться
далеко на запад в Саранск, нынешнюю столицу Мордовии. Там они
продолжали формировать новые полки.
Тем временем Колчак начал отступать. Как это все происходило –
советские люди знали в основном по фильму «Чапаев». Но, видимо, очень большую роль в крахе Верховного Правителя сыграла его
внутренняя политика. Мы уже видели к чему привел его отказ в
автономии башкирам и казахам. Но прорвался и нарыв, связанный со
свержением «комучевской» власти и белым террором против «розовых»
эсеров и социалдемократов. После взятия Уфы 25-ой дивизией часть
членов эсеровского ЦК осталась в городе и образовала Уфимскую
делегацию во главе с бывшим председателем Комуч Вольским. Они
начали переговоры с местными ревкомовцами и московским
Совнаркомом. В результате в составе Красной Армии появилась еще
одна часть, «эсеровская». Не могу сказать точно, рыдал ли адмирал и в
этом случае, но подарком для него это не стало.
Добавим к этому, что «тыловые» колчаковские военачальники вроде
атаманов Семенова и
населения,
избаловавшегося при
правительстве
сопротивляться
насильственному
призыву в армию и
«белой продразверстке»,
отбиранию зерна и
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
других продуктов. Они охотно устраивали массовые порки целых
селений. Может быть, в Курской или Полтавской губерниях это и сошло
бы. Но тут же Сибирь! Сибирь, где у каждого второго мужика есть
нарезной ствол на таежной заимке. Те же самые крестьяне, которые год
назад вместе с чехословаками свергали власть комиссаров, теперь
уходили в «заячьи шапки», в партизанские отряды, с тыла
воспламенявшие катившийся на восток колчаковский фронт.
Но башкирских частей к тому времени на Восточном фронте уже не
было, хотя они-то хотели воевать именно там. Реввоенсовет к тому
моменту отправлял все части из башкир в Петроград против Юденича.
Думается, тут было не без психологии. Для эстонцев и Северо-Западной
юденичской армии башкирская конница выглядела Чингисхановым
воинством, что, конечно, ослабляло сопротивление. Добавим, однако, что
не менее важным для большевистской власти было то, что эстонская
граница далеко от башкирского Южного Урала.
Дело в том, что Валидов и другие вожди автономии безусловно
разделяли взгляды Ленина и его ЦК на необходимость полной
национализации всей промышленности и больших земельных
латифундий. В любом случае эта крупная собственность принадлежала
не башкирам, да ее и было на территории Малой Башкирии совсем
немного, разве что рудники за Уралом. Но вот крестьянскую
собственность в автономии считали неприкасаемой, соответственно, там
не было продразверстки. А чем же кормить Башкирское войско и
немногих чиновников республики? Так башкиры достаточно охотно
жертвовали что могли для своей «Малой Родины». Это, добровольный
сбор пожертвований, началось сразу при ее рождении, еще под властью
Временного правительства, а потом комиссара Цвиллинга, атамана
Дутова и адмирала Колчака.
Совнарком на такую самоотверженность своих подданных рассчитывать
не мог, поэтому и рассылал вооруженные продотряды по селам и
деревням, чтобы отнять у мужика хлеб. А что ж вы думаете, почему
Ильич, принимая ходоков из деревни, всегда пил морковный чай? Нам и
до сих пор об этом рассказывают. Это при том, что все склады
привозимого из Китая чая оказались на территории, контролируемой
РСФСР и продукта хватило до конца Гражданской войны и
возобновления торговли. Хотел, видимо, продемонстрировать мужикам, да и самого себя убедить, что дела у Республики тяжелые и надо
жертвовать. Но действовало это плохо, приходилось надеяться на силу.
Поэтому жители как могли стремились оказаться под властью
Автономии, а партийно-советские органы Уфимской, Оренбургской и
Пермской губернии всячески этому препятствовали. Вот вам уже
источник конфликтов и проблем при определении границ Малой
Башкирии. Для их решения Совнарком создал Башкиропомощь.
Формально основанием для этого были жалобы автономного
В гостях у тетушки Клио
правительства на грабежи красноармейцами башкирских аулов. Деньги
были выделены через Народный комиссариат социального обеспечения, во главе организации большую часть времени стоял Тов. Артем(Сергеев), фигура известная, до этого – один из основателей Коммунистической
партии в Австралии, потом председатель Совнаркома Донецко-
Криворожской советской республики, пытавшийся уже после Бреста
воевать с кайзеровским рейхсвером, после Башкирии он руководил
профсоюзом горнорабочих, пытался создать всемирный Шахтерский
Интернационал, дружил со Сталиным и погиб в 1921 году при
испытаниях на подмосковной железной дороге аэровагона(?!). Заодно тот
же Товарищ Артем был и уполномоченным ВЧК по той же
Башреспублике.
Сколько он там руководил, столько же
Башреспублика жаловалась, что он ведет работу
против Башкирии, вместо оказания помощи
засылает своих шпионов, всеми силами создает
в аулах комитеты бедноты, раскалывающие
население, искусственно возбуждающие
классовую борьбу, что у него в комитете нет ни
одного башкира, а выделяемые Москвой деньги
расходуются на что угодно, но не на
возмещение пострадавшим от красноармейцев
и по другим причинам башкирам. Валидов
лично обращался с жалобами к наркому по
делам национальностей Сталину, к
председателю Реввоенсовета Троцкому. Те ему
сочувствовали, обещали помочь, но, как видно,
ничего против упрямого «осси» Артема поделать не могли.
К слову, где-то в то время наш герой вступил в РКП(б). Никакого
игрушечного «кандидатского стажа» он, конечно, не проходил и, по
слухам, партбилет ему вручал лично вождь Мировой революции
В.И.Ульянов (Ленин). Однако, никаких документов до нашего времени
не сохранилось. Ну, так и чистка в архивах проводилась многократно.
Думается, что он был искренним, когда вступал в ряды. Конечно, у него
были явные идейные отличия от большевизма – в первую очередь, он не
мог согласиться с обязательным марксистским атеизмом, его
приверженность исламу была очень мягкой, терпимой, но несомненной.
Ну, и большевистское твердое доверие к насильственным методам
изменения жизни ему вряд ли была очень близко. Однако вера в
социалистический идеал, неприязнь с старому миру невежества и
несправедливости их объединяла.
Скажем и о том, что в начале сентября 1919-го у нашего героя
состоялась, наконец, долго откладываемая свадьба. В ауле Абзелилово он
женился на дочери имама местной мечети Нафисе. Правильно говорят, что жениться все же лучше внутри своего общественного и культурного
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
слоя. Конечно, бывает любовь, ломающая социальные рамки, вспомним, хотя бы, карамзинских дворянина Эраста и крестьянку Лизу. Но
вспомним и то, чем эта история закончилась. А вот в Венеции, говорят, дочь сенатора Брабанцио вышла замуж вообще за черного, за мавра
Отелло. Но, кажется, тоже кончилось не очень хорошо. Но в среднем …
все же спокойней брак «в своем кругу». А тут о браке родители
сговорились еще в 1904 году, когда ему было 14 лет, а ей 5.
Но отметим, что брачную ночь Ахмет-Заки провел на коне. Ему
пришлось срочно скакать в Магнитогорск, куда его вызывал к телеграфу
Троцкий. Предреввоенсовета требовал срочно отправить башкирские
войска в Петроград, где наступал генерал Юденич. Поэтому на
следующую ночь молодые уехали в аул подальше, где их не могли найти
ни Троцкий, ни Ленин.
Еще в Саранске Ленин подарил Валидову автомобиль «Фиат», очень
роскошный, но сильно потрепанный. Было большой проблемой его
чинить и заправлять бензином. Когда Башревком вернулся в республику, то местные жители, глядя, как машина выпускает клубы дыма и кое-как
едет, говорили хозяину: «Плохо работает твоя автономия». Простые
крестьяне не совсем понимали разницу между автомашиной и
автономной республикой.
Башреспублика вполне лойяльно выполняла условия соглашения, даже
не пробовала вести какую-то агитацию за своими пределами. Но, как уже
было сказано выше, продразверстки там не было, был не чрезмерный
налог на скотоводов и земледельцев. Получалось, что посреди Советской
России с военным коммунизмом, «с Лениным в башке и наганом в руке»
и с супом из воблы да пшенной кашей на машинном масле существует
остров НЭПа с продналогом и крестьянской свободой. Это при том, что
на соседнюю
продразвестке
примерно одной
количества по
всей РСФСР с
Кубанью, Украиной, Центрально-Черноземным краем и так далее. То
есть, контраст был уж очень сильным и надеяться на то, что его не
заметят, было нельзя.
В гостях у тетушки Клио
В августе 1919-го после отступления колчаковцев Башревком вернулся
из Саранска на свою территорию и начал управлять республикой, а уже
20-го сентября в Оренбурге было организовано закрытое заседание
Оренбургского губисполкома, губкома РКП(б) военного командования
Востфронта и 1-ой армии. В нем принимал участие сам «дедушка
Калинин», недавно ставший председателем ВЦИК вместо умершего от
туберкулеза Свердлова. Ну, Артем, конечно, куда без него? Целью
совещания была разработка стратегии установления в Башреспублике
«действительной советской власти». В смысле – с супом из воблы, с
продотрядами и подвалами ЧК.
Было придумано следующее: Башкирское войско отправить подальше от
республики, чтобы оставить Башревком без военной защиты, создать
Башкирский обком РКП(б) и включить в его состав противников
нацавтономии из числа русских и татарских большевиков, дезорганизовать работу Башревкома с помощью Башобкома, БашЧК, Башсовнархоза и других советских контор, всеми силами переманивать
на свою сторону башкирских военных, находящихся на фронтах.
Войско было, действительно, направлено под Петроград против
Юденича, воевало оно там хорошо. Видимо, полковые муллы у башкир
лучше поддерживали боевой дух, чем полковые комиссары в остальной
Красной Армии. Башобком был создан. Во главе его формально стал
сторонник Валидова Юмагулов, но вошли также враги автономистов, 193
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
такие, как Галий Шамигулов – один из тех, кто арестовывал
правительство Башкурдистана в Оренбурге в феврали 18-го. За ними
стоял Товарищ Артем, который использовал для борьбы против
Башревкома средства, присланные из Москвы для помощи башкирам.
Бащревкомовцы считали и писали это Ленину, что ««Башкиропомощь»
превратилась в настоящую национальную организацию русских
шовинистов, которая вместо обозначенной в постановлении помощи
пострадавшему башкирскому населению, стала органом защиты
интересов только русского населения»
В январе 1920-гго Башревком и Башобком сцепились в борьбе за
должность начальника Башкирской Чрезвычайной Комиссии, так сказать,
«местного Дзержинского», и из-за создания при Башревкоме Отдела
внешних сношений. Отдел этот должен был заниматься контактами с
теми регионами Советской России, с которыми есть экономические связи
у Башкирии, Артем и Башобком заявили, что это «первый шаг к
полному отделению».
С 14 по 16-е января произошел кризис. Башревком арестовал своих
противников Измайлова, Шамигулова, Мустафина и Муценека, известил
об этом Москву и выпустил «Воззвание» в духе французского Конвента о
раскрытии заговора. Скажем сразу, что нашего героя Ахмет-Заки при
этом не было. Он был тогда в Москве, сочинял с тамошними
специалистами конституцию будущей Башкирии. Совнарком стал на
сторону своего представителя Артема. В столицу автономии
Стерлитамак по приказу командующего Туркфронтом Фрунзе выслан
конный отряд, а от Ленина пришел телеграфный приказ председателю
Башревкома Юмагулову «немедленно сдать дела и выехать в Москву для
объяснений». Арестованных, конечно, освободили, причем Галий
Шамигулов, не успев еще вдохнуть воздух свободы, сразу посоветовал
Центру немедленно расстрелять Валидова, даром, что тот формально
был не руководителем Башревкома, а замом, да и в те дни был в Москве
и в этих делах не участвовал. Артем, со своей стороны, тоже хотел
расстрелять кое-кого из своих противников, в общем, жизнь шла яркая и
не сонливая. Общая идея у противников Башревкома была в том, что
башкиры – народ отсталый, дикие кочевники, у них есть «только группа
полуинтеллигентных людей, которые приспосабливаются то к
колчаковскому, то к советскому режиму». Предлагалось заменить их в
руководстве Башреспублики надежными людьми из приезжих.
24 января 1920 года председатель Башревкома Юмагулов встретился с
Председателем Совнаркома Ульяновым (Лениным). Лукич выразил
надежду, что «никаких осложнений не произойдет» и дал телеграмму в
Стрелитамак, где требовал «исполнить указания ВЦИК по поводу
январского конфликта» и указывал, что Артему дана директива о
необходимости «самого лойяльного соблюдения Башконституции».
Юмагулов ушел от вождя довольный и, наверное, напившийся
В гостях у тетушки Клио
морковного чая. Впрочем, сразу же вслед за этим его отдали под
партийный суд и исключили из РКП(б).
В конце февраля в Стерлитамак вернулся наш основной персонаж
Ахметзаки Валидов. Первого марта его уже официально избрали
председателем Башревкома. Артемовская сторона возлагала на него
большие надежды, считая «самым умным среди башкирских вождей».
Впрочем, вскоре они убедились, что ум Ахметзаки оценили, пожалуй, верно, но вот его национальные чувства сильно недооценили.
Сейчас нам придется из прокуренных махоркой кабинетов перенестись в
поля. Впрочем, не Башреспублики, а соседней Уфимской губернии. Надо
сказать, что эта губерния и ее руководство были на очень хорошем счету
в Наркомпроде и вообще у Начальства. В 1919—1920 годах
продотрядами в Уфимской губернии было собрано 14 миллионов 323
тысяч пудов зерна, что составляло 9,5 % от всего хлеба, заготовленного
Наркомпродом по всей РСФСР.
Но, как вы понимаете, кому-то это могло и не так понравиться. В
частности, тем самым крестьянам, у которых отбиралось зерно, и ничего
не оставалось для посевов и для того, чтобы кормить детей. Вот в
русском селе Новая Елань продотряд, который пытался забрать у
мужиков пять с половиной тысяч пудов зерна, то есть, все, что у них
было, был перебит начисто. Восстание заполыхало по многим уездам.
Безоружными русскими, башкирскими татарскими, чувашскими
мужиками был взят уездный городок Белебей, что вызвало телеграмму
Троцкого в Реввоенсовет Туркестанского фронта: «Сдача Белебея почти
невооруженным бандам представляет собой факт неслыханного
Толпы крестьян без различия национальности достигли 26 тысяч душ.
Вооружены они были вилами, ну, еще и отобранной у продотрядов
тысячей винтовок. Историки называют этот бунт «восстанием Черного
Орла» и говорят, что такого объединения мужиков разных
национальностей не было со времен Емели Пугачева. Что еще очень не
понравилось Начальникам – то что мужики разных племен хотели быть
«под властью Заки Валидова». Уфимские власти скопом называли всех
восставших «ордами диких башкир», хотя на самом деле в их числе были
даже латышские и немецкие колонисты. Кое-где мятежникам удавалось
побеждать посланные против них красноармейские отряды. Но в итоге
возглавивший подавление бунта наш знакомый Артем залил уфимскую
губернию кровью и ее потоками затушил пламя восстания. Всего в
карательных силах было более 7 тысяч штыков и 350 сабель при 50
пулеметах и 4 орудиях. Ну, куда против этого с вилами?
Исполнив свой партийный и классовый долг в Уфимской губернии
Артем снова вернулся к своим основным делам в Башреспублике. 10
марта он открыл в Стерлитамаке Всебашкирский съезд комитетов
бедноты. По странной случайности той же ночью неизвестные, однако ж
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
вооруженные, лица напали на дом председателя Башревкома. Охране
удалось отбиться, но это, конечно, придало дополнительную остроту
перебранке на съезде, где представители Башреспублики обвиняли
Башкиропомощь и лично Артема в натравливании бедняков против
руководства республики. Возражать тут трудно. Он, собственно, для
этого и приехал на Южный Урал.
14 марта в Уфе прошло совещание по башкирским делам с участием от
ЦК Троцкого, от Башревкома – Валидова, Тухватуллина и Дудника, от
Башобкома – Самойлова, Рахматуллина и Каспранского, уполномоченных Башкиропомощи – Артема и Преображенского и от
Уфимского Губисполкома – Эльцина. В общем, были все.
Лев Давыдович высказал свое руководящее мнение, что в январе
Башревком был неправ, но и Башобком тоже нехорошо себя ведет. Что
называть Башревком «контрреволюционным учреждением нельзя, а уж
тем более пытаться захватить власть в кантонах республики. Предложил
конфликт в январе «считать окончательно ликвидированным» и
«вычеркнуть из истории Башреспублики». Ну, с Председателем
Реввоенсовета спорить не стали, на том и порешили.
Тем временем в Москве прошло заседание пленума ЦК РКП(б) на ту же
тему, где доклад делал Сталин.
Дзержинский предложил по-
простому бывшего председателя
Башревкома Юмагулова и
некоторых других отдать под суд,
а нынешнего главу ревкома
Валидова отозвать в Москву.
Сталинская Комиссия по
башкирским
рекомендовала
Соглашение между Центром и
Башкирией некоторые небольшие
дополнения.
выяснилось они сводились к
тому, чтобы отнять у автономии
финансовые
экономические дела, зато
безоговорочно оставить при ней
название и разрешить нарисовать
В Стерлитамаке об этом не знали,
но и сами лихорадочно сочиняли
новую Конституцию республики. Трудились они зря, но не их тут была
вина. Дело и не в том, что Ленин и его ЦК стали хуже относиться к
Валидову и башкирским автономистам по сравнению с зимой с 1918 на
В гостях у тетушки Клио
1919 год, Просто в начале февраля 1920-го в Иркутске был расстрелян
адмирал Колчак, заканчивался Восточный фронт; 24−25 февраля 1920
года капитулировали остатки Северной армии белых в Архангельске; в
конце марта красные взяли Новороссийск, а Деникин уехал в
Великобританию, от Южного фронта остался только врангелевский
Крым; 2 февраля в Тарту был подписан мирный договор с Эстонией, юденичская опасность тоже растаяла в воздухе. Гражданская война еще
не закончилась, предстояли еще поход на Варшаву и Чудо на Висле, взятие Перекопа и длинная тягомотина с уходом японцев, а потом и
остатков белых с Дальнего Востока. Но необходимость в Башкирском
войске сильно снизилась, а раз так – зачем было дальше играть в
демократию и уважение к национальным чувствам?
28 апреля Валидов был вызван в Москву «посоветоваться по нескольким
важным вопросам, касающимся башкирских войск». Скажем сразу, что
на родину он больше не вернулся. Не пускали. В некоторое утешение
башкирам в мае из республики отозвали, наконец, Артема и Самойлова, которые их так достали. Но вообще дело быстро пошло к превращению
автономии в фикцию. 15 мая 1920 года Башревком направил в Москву
обращение о недопустимости нарушения Соглашения от 20 марта 1919
года и осудил отзыв Валидова Юмагулова из республики. Как бы в ответ
на это 19 мая 1920 года ВЦИК и СНК РСФСР подписали декрет «Об
отношениях Автономной Советской Башкирской Республики к
Российской Советской Республике», по которому деятельность всех
народных комиссариатов Башкирии подчинялась московским, а военные, иностранные и внешнеторговые дела были полностью изъяты из ведения
автономии.
Валидов в Москве в знак протеста подал в отставку. Он попытался
высказать свои претензии лично Ленину, на что Ильич откровенно сказал
ему: «На каком основании Вы поднимаете такие нравственные
проблемы? Какой Вы революционер? Чего ради цепляетесь за эти
соглашения? Наше с вами соглашение — лишь клочок бумаги, который
никого ни к чему не обязывает». Больше у Ахмет-Заки иллюзий не
оставалось. Он всерьез занялся идеей ухода с советской сцены и переезда
в Туркестан.
Один из большевистских деятелей на Южном Урале формулировал
политику для Башкортостана так: «Особенно усиленно выдвигать
башкир на посты, имеющие декоративный характер, по Президиуму Баш
ЦИК (отделить пост его председателя от поста Предсовнаркома).
Выбирать башкир на всякие Пленумы, которые самостоятельно ничего
не выполняют. Более или менее подходящих коммунистов из них ставить
на ответственные посты, а прежних дельных, выдержанных русских
коммунистов — как заместителей».
Как бы в насмешку, дома провели долго откладываемый Башкирский
съезд Советов. Странным образом башкиры на нем оказались в
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
меньшинстве, хотя на территории Малой Башкирии их было больше
половины населения. Сьезд избрал Центральный исполнительный
комитет республики, а уж тот назначил Совнарком. Во главе того и
другого оказался Галий Шамигулов. Да-да, тот самый член РСДРП(б) с
1910 года, страстный противник автономии, участник ареста
Башкирского правительства в феврале 1918-го в Оренбурге и Январского
конфликта 1920-го в Стерлитамаке. Ну, это уже, кажется, просто для
глумления, для показа, что «кончилось ваше время». Пробыл Шамигулов
в этих креслах недолго, до осени. Потом его перевели на Украину. Он
прожил большую жизнь, был на многих должностях, однажды даже
вернулся в республику и заведовал там Башпотребсоюзом. Наверное, хорошо заведовал, это как раз был его уровень. Однажды он даже
получил в 1944 году орден Трудового Красного Знамени. Умер он в
Киеве в 1959 году.
В автономии тоже хватало недовольных. В июле-октябре 1920 года в
зауральских кантонах Башкирии полыхало восстание против политики
«военного коммунизма» и замены валидовцев в Башревкоме на
марионеток центра. Повстанцы создали Башкирскую Красную Армию и
довольно успешно сражались до подписания соглашения, по которому
известные каратели, наиболее замаранные участием в грабежах, пытках и
расстрелах, должны быть отданы под суд. Ну, потом мятежников, конечно, надули, советский суд карателей оправдал «за
недоказанностью», а вождей повстанцев потихоньку переарестовали
Но продразверстка и другие прелести военного коммунизма были
введены на территории автономии. Ободрали ее в итоге не меньше, чем
соседние губернии. Если вы помните, жуткий голод 1921 года в
Поволжье, тот самый, что на картине-триллере Моора, то Башкирия
оказывается одним из районов бедствия. Но там же не было знаменитой
засухи? Да, авторами голодного ужаса в Башкирии и присоединенной к
ней к тому времени Уфимской губернии был не сказочный суховей, а
совершенно конкретные товариши Артем, Самойлов, Эльцин, Шамигулов и другие.
Можно, конечно, укорить Валиди и его товарищей в том, что полтора
года назад они поверили большевикам и отдали им в руки судьбу своего
народа. Но ведь они не одиноки. Мы уже упоминали Уфимскую
делегацию эсера Вольского, назовем еще имена анархистов Махно и
Железняка, да уж сразу целую партию Левых социалистов-
революционеров с Марией Спиридоновой и Колегаевым. Не будем уж
говорить о том, что впереди, о бухарских джадидах, о чеченских красно-
шариатских полках, о различных союзниках коммунистов в Европе и
Азии, которые шли в одном строю, а потом вдруг обнаруживали себя в
тюремных камерах. Да ведь и сам Председатель Реввоенсовета Лев
Троцкий, въехавший в большевистское руководство на белом коне летом
1917-го, через десять лет увидел, что его оттесняет от власти в подполье
В гостях у тетушки Клио
и в эмиграцию группа старых приближенных Ильича, сложившаяся еще
до революции вокруг Лонжюмо и Цюриха.
Пока что Ахмет-Заки остался при комиссариате по делам
национальностей, т.е. при Сталине. Его стали использовать при
контактах с приезжающими в Москву турецкими деятелями. Еще в 1919
году Ахмет-Заки помог возвращавшимся из Сибири турецким
военнопленным, застрявшим на Урале, добыл для них два эшелона, которые и увезли бедолаг на Кавказ и в Среднюю Азию, откуда им уже
проще было вернуться на родину. Тогда на него обрушились обвинения в
пантюркизме и сговоре с турецкими империалистами. Но теперь РКП(б) искала хоть каких-нибудь союзников, которыми могли стать турки, сильно задавленные Севрским миром. Теперь тюркские контакты
Валидова стали нужны.
Приезжали такие люди, как известный со времен младотурецкой
революции Джемаль-паша, уже приговоренный судом союзников в
Константинополе к виселице за армянский геноцид и некоторое время
спустя убитый в Тифлисе мстителем-дашнаком. Роман с турками был
вызван в большой степени поражением Красной Армии на Висле.
Завоевание Европы не удалось, и теперь большевистские стратеги
нацелились на Индию. Предполагалось создание в Средней Азии
большого войска одновременно под красным и зеленым знаменами, союз
с воинственными афганскими кочевникам и удар по Британии империи в
ее слабом месте – Индийской империи, где поднимается
антиколониальное движение Ганди. В северо-западных районах вдоль
афганской границы оно было дополнено «халифатистами», возмущенными британскими ограничениями власти турецкого халифа-
султана. По факту, сколько не пробовали из Москвы как-то внедриться в
Афганистан и Индостан, так ничего и не получалось с 1919 по 1989 годы.
Пользы от Валиди эти планы не получили. По его собственным
мемуарам он честно рассказывал туркам и индийцам о то, как его
облапошили с Башкирской АССР, а Ленину и его окружению усиленно
сообщал, что из этого проекта ничего хорошего не выйдет. Но именно
тут родилась идея проведения в Баку «Съезда трудящихся Востока».
Потом его отправили на Украину, где в то время распоряжался Сталин.
Валидов должен был заняться теми мусульманскими частями, которые
там находились. Коба пытался сделать из него своего мюрида, но без
большого результата. Почти сразу Ахмет-Заки заболел и начал
отпрашиваться в отпуск. Понимая, что на Урал его не пустят, он хотел
бы отправиться в Астраханскую губернию. Сталин был недоволен, но
силой его не задержал. Приехавший в столицу Валиди был привлечен
Лениным к подготовке его «Тезисов по национальному и колониальному
вопросам». Однако предложенные им поправки никак не использовал.
Все это окончательно подталкивало Ахмет-Заки к расставанию с
большевизмом, тем более, что он узнал, что и в Туркестанской АССР в
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
Ташкенте тоже «национал-уклонистов» заменяют на московских
марионеток.
На этом можно уже закончить описание жизни нашего героя в России.
Дальше будет, на первый случай, Средняя Азия, а потом Иран, Турция, Германия. Есть интересный вопрос – стал ли после всего этого он, как
теперь говорят, «русофобом»? Если говорить об отношении к
Российской империи, как бы она себя не именовала – пожалуй, да. Он
больше не верил в искреннее желание каких бы то ни было российских
правителей дать подвластным народам возможность самим решать свою
судьбу. А это, пожалуй, правда. Личного же отталкивания от людей, говорящих по-русски, у не него не было. К примеру, он и в дальнейшем
поддерживал вполне уважительные отношения с А.Ф.Керенским и с
Виктором Черновым.
Но ведь Русская земля, русский народ и Империя – не одно и то же. Если
посмотреть историю, то мы увидим, что Империя возникает где-то
между Иваном Грозным и Алексеем Тишайшим. Сначала лапки
потянулись к Балтике. Конечный результат известен – Смута, разорение
Русской земли. Потом Алексей Романов потянулся на юго-запад, от Орла
и Брянска в Киев и, в конечном итоге, в Константинополь. На его удачу, кровь и слезы проливались там, в основном, не великорусские, а
украинские, еврейские и польские. Но чтобы закрепить свои успехи с
Украиной и потянуться дальше на Балканы, Тишайший государь провел
раскол. Его унификация обряда с украинскими и балканскими
православными вызвала откол от государственной церкви заметной части
и попов, и простых верующих. Запылали костры самосожжения и казни
«уклонистов», на столетия самая грамотная и энергичная доля русского
народа ушла под запрет.
А потом, когда после революции Ленин, а после него Сталин
восстановили Империю под красным знаменем – кто из народов получил
самые большие страдания? Досталось всем: украинцы могут вспомнить
Голодомор, евреи антисемитскую кампанию 40-50-х годов, греки ссылку
в Казахстан, калмыки неожиданное для себя выселение в Сибирь в 44-м.
Но больше всего жертв, голода, расстрелов и Гулага все-таки пришлось
на долю великоруссов. Их кровью, потом и слезами в первую очередь
строилась упавшая в 1991-м Вавилонская башня. Так что ненависть к
Империи и ненависть к русским – все же разные вещи.
29 июня 1920 года Валидов, одетый в красноармейскую форму, покинул
свою гостиницу. Все было обдумано. Некоторому, не очень большому
количеству друзей и соратников было назначено рандеву в Туркестане, золотой запас Республики он оставил в казне, что потом вызвало
искреннее удивление победителей, но какие-то бумажные деньги на
жизнь он взял с собой, заодно прихватив и большой бриллиант, конфискованный у одного знатного русского помещика. Жене Нафисе
В гостях у тетушки Клио
было предписано ехать на пароходе из Самары в Царицын до встречи с
мужем. Потом ее отправили в Самарканд, где ей предстояли роды.
Третьим классом он доехал до Астрахани, а оттуда в Баку, где уже к тому
времени тоже была Советская власть. Жили они нелегально в доме
турецкого эмигранта, создателя Компартии Турции Мустафы Субхи. У
того, к этому времени уже накопились разногласия с Кремлем. Тем не
менее, он создавал из бывших турецких военнопленных в России
Красный Турецкий полк, которому еще предстоит сыграть важную роль
в войне кемалистов против армянских дашнаков и против греков.
Через неделю на пароходе Ахмет-Заки переправился через Каспий в
Красноводск, оттуда уехал в Ашхабад. Там сообщили, что Нафиса
родила ему первенца, сына, которого он назвал Ырысмухаммедом в честь
одного из предводителей башкирских восстаний XVIII века.
Некоторое время он провел в Туркмении, создал подпольную газету
«Туркменистан», помогал местным деятелям в организационных
вопросах. В ту пору в Тукмении и Хиве шла «малая война» между
большевиками и хивинцем Джунаид-ханом. Домой, в Башкортстан он
писал письма старым друзьям с советами не пробовать вооруженную
борьбу с Москвой, а стараться занять важные места в республике, чтобы
корректировать местную политику. Получается, что он стал сторонником
«ненасильственного сопротивления» a la Ганди.
Тем временем в Баку должен был открыться Съезд Народов Востока.
Видимо, Ахмет-Заки продолжал ощущать себя «на левом фланге», так
что он решил тоже туда поехать. Но, конечно, нелегально. Чека тоже
ожидала его на этом форуме, были посланы специальные агенты для
выслеживания. Тем не менее, он в одежде деревенского туркмена
палубным пассажиром переправился через море.
Русскоязычный читатель, думаю, помнит этот Съезд Народов Востока по
эренбурговскому «Хулио Хуренито». Помните?
« В большом зале сидели кавказцы в черкесках, афганцы с чалмами, в
клеенчатых халатах, бухарцы и ярких тюбетейках, персы в фесках и
многие иные. У всех были приколоты на груди портреты Карла Маркса, с его патриархальной бородой. В середине восседал товарищ просто в
пиджаке и читал резолюции. Делегаты кивали головами, прикладывали
руку к сердцу и всячески одобряли мудрые тезисы. Я слыхал, как, один
перс, сидевший в заднем ряду, выслушав доклад о последствиях
экономического кризиса, любезно сказал молодому индийцу: «Очень
приятно англичан резать», — на что тот, приложив руку к губам, шепнул: «Очень».»
Валидов по протекции Субхи находился все время съезда в помещении
«Центра партии тюркских коммунистов» под прикрытием
азербайджанских советских деятелей. На самом съезде он, конечно, появиться не мог, опасаясь чекистов, но за ходом следил по рассказам
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
участников, писал резолюции, которые получали и от своего имени
предлагали башкир Халиков и киргиз Джуназаков. Зиновьев, Радек и
другие начальники чувствовали наличие какого-то постороннего
влияния, но ничего поделать не могли.
На сьезде были и такие известные младотурки, как Джемаль-паша и
Энвер-паша. Ахмет-заки знал, что они осуждают его разрыв с Советской
властью. Они-то в ту пору еще сильно надеялись на ее помощь.
Дальнейшие события показали, что обе стороны – и коммунисты, и
младотурки сильно преувеличивали и возможности, и, особенно, надежность партнеров.
Тем временем Башкирская АССР заметно увеличилась в размерах и
населении. К ней присоединили Уфимскую губернию. Соответственно, столица республики переехала в Уфу. Ахмет-Заки, который тем
временем перебрался в дагестанский Петровск (теперь это называется
Махач-Кала). Там он написал письмо, адресовав его Ленину, Сталину, Троцкому и Рыкову. В письме он высказал свое мнение о положении
республики. «Из начатой ЦК РКП(б) политики становится ясно, что и
Вы, как и Артем с товарищами, в политике по отношению к восточным
нациям хотите принять за основу идеи настоящих русских
шовинистов ...». Далее он подробно обличал вождей в интригах против
национальных руководителей, в стремлении разжечь на ровном месте
классовую борьбу на окраинах. Он предсказал, что и новые «левые»
руководители автономий с течением времени пойдут под топор. Если
вспомнить, то это и в самом деле произошло в конце тридцатых годов.
Кроме этого, он написал еще письма видным большевикам Крестинскому
и Преображенскому, в котором всячески обличал Сталина, писал, что «…
появляется коварный, лицемерный диктатор, бесчестно играющий
человеческими судьбами, попирающий чужую волю. … внутри партии
зарождается страшный террор. Я опасаюсь, что может наступить день, когда и ваши головы полетят с плеч». Как известно, сбылось и это.
Нужно, однако, честно заметить, что об этом письме мы знаем только из
мемуаров самого Валидова, написанных уже в 50-х годах.
Казалось бы, после отправки этих писем мосты были сожжены. Однако, и Ленин, и наркомнац, затем генсек Сталин еще предпринимали после
этого бесплодные попытки вернуть Валидова. Он же через Каспий и
Устюрт добрался до хивинского поселка Кунград. Тепeрь он был в
Туркестане, к нему начали присоединяться добравшиеся до Средней
Азии башкирские соратники. Пока что он в дни вынужденного безделья
стал, как раньше, знакомиться с кара-калпакскими древностями и
фольклором.
Тут надо, наверное, напомнить о том, как проходила Гражданская война
в Туркестане. Еще до Февральской революции в 1916 году Туркестанское
генерал-губернаторство и Казахстан были охвачены восстаниями
местного населения. Вызваны они были тем, что местных жителей, по
В гостях у тетушки Клио
российским законам освобожденных от воинского призыва стали
«реквизировать» для отбывания трудовой повинности на Германском
фронте. В основном, тут было желание использовать их для
строительства новой железной дороги до порта Романов-на-Мурмане
(теперь Мурманск). Это было воспринято как нарушение старых
обычаев. Отношения и так уже были накалены конфискацией земли у
аборигенов и ее передачей «столыпинским переселенцам». Ну, и вообще
– «неверные»! Казахи, узбеки, таджики, киргизы стали бунтовать.
Началось в Ходженте в июле 1916 года и быстро распространилось от
бухарской границы аж до Иртыша. Мятежники вырезали русские села, казаки в ответ убивали мусульман тысячами. По некоторым данным в
ходе бунта и на перевалах при уходе в Китай было убито до
полумиллиона казахов, киргиз и уйгуров. Многие десятки тысяч бежали
в Синцзян. Восстание было задавлено, но память оставалась свежей. По
крайней мере, один из предводителей восставших Амангельды Иманов
играл потом заметную роль в ходе Гражданской войны и стал в итоге
одной из советских икон.
После Февральской революции во главе Туркестанского комитета
Временного правительства оказался В.П.Наливкин, в прошлом офицер
потом этнограф, исследователь Средней Азии, знаток узбекского и
таджикского языков, по убеждениям левый социал-демократ. Валидов
считал, что он чрезмерно верит большевикам, способным на любые
интриги и насилия. Но в октябре он столкнулся с местными
большевиками, в итоге Советская власть установилась в Ташкенте через
неделю после взятия Зимнего, а вскоре распространилась по всем
городам, русским поселкам и по железной дороге.
Большевики безусловно правили в городах. Но в национальных
кишлаках и аулах о них почти не знали. Скажем, все попытки
распространить туда продразверстку кончались ничем. Пока что
революция отозвалась только в том, что резко сократились посевы
хлопчатника. Туземцы вернулись к традиционным пшенице и люцерне.
Заметим в сторону, что то же самое произошло и после 1991 года и
объявления независимости стран Центральной Азии. Все же хлопок в
основном навязывался Центром.
Российский протекторат над Бухарой и Хивой был отменен Временным
правительством. В Хиве все время шла война между ее ханом
Асфандияром, туркменским разбойником Джунаид-ханом и
младохивинцами, за которыми стояли большевики. А Бухара более или
менее благополучно существовала как остров Средневековья с
подземными тюрьмами-зинданами, кварталами рабов, медресе, где
студенты-домулло нараспев вслух учат азбуку по методикам XI столетия, а прогрессисты-джадиды в глубоком подполье мечтают о возможности
вслух сказать, что Земля – шар. Эмир категорически отказывался принять
участие в какой-нибудь активной деятельности против Советов, которых
он боялся до мокрых подштанников.
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
30 апреля 1918 года была провозглашена Туркестанская АССР. Так что, когда башкиры говорят о том, что их автономия – первая, тут есть
некоторая ошибка. Во главе автономии были, конечно, коммунисты-
большевики, в союзе с ними левые эсеры, довольно широко с ними
сотрудничали и дашнаки из числа живших в крае армян. Кого там явно
не хватало – так это туземцев: узбеков, таджиков, казахов и т.д.. Это
безусловно было правительство европейского меньшинства.
Параллельно с ташкентской советской властью возникло в Коканде
правительство Туркестанской автономии. Вот это было строго из
националов. Но эту власть раздирали противоречия между совершенно
отпетыми кадимистами, которые хотели возврашения ко временам
Хромого Тимура и джадидами, все же желавшими некоторой
модернизации. Через три месяца Кокандская автономия была легко
разогнана прибывшими из Москвы русскими частями. Но сторонники ее
не исчезли, с этого времени начинается басмаческое движение в
Ферганской области. Басмач — по-узбекски значит приблизительно
«налетчик». Так что тут были, в некотором роде, коллеги Мишки
Япончика, устанавливавшие справедливость в той форме, в которой ее
проповедовали муллы.
Летом 1918 года, когда начались восстания чехословацкого корпуса
вдоль сибирской магистрали и сторонников Учредительного собрания в
Поволжье, на Урале и в Сибири, Гражданская война пришла и в
Туркестан. На западе, в Туркмении пришло к власти Закаспийское
Временное правительство эсеров и меньшевиков, созданное
восставшими русскими железнодорожными рабочими. Туркменские
племена признали его власть. В Семиречье шла жестокая война между
русскими крестьянами-новоселами и русскими же казаками за
плодородные земли, засеянные пшеницей и опийным маком, имевшим
хороший сбыт в Китай. Но самым главным было то, что Туркестанская
АССР была отрезана от Советской России после взятия Оренбурга
казаками атамана Дутова.
За ближайшие годы этот разрыв («Актюбинская пробка» на
Среднеазиатской Ж.Д.) будет исчезать и появляться вновь. Если вы
помните, то Ахмет-Заки Валидов предлагал Троцкому послать
Башкирское войско именно сюда для прорыва в Среднюю Азию. Такое
отсутствие связи с Центром, конечно, было страшной язвой для
Советского Туркестана.
Да тут еще в январе 1919-го в Ташкенте произошел мятеж, во главе
которого был Наркомвоен, член РКП(б) Осипов. В начале путча к нему
под защиту приехали председатель местного ЦИК, председатель ЧК и
глава Ташкентского совета. Он их ласково принял и немедленно
расстрелял. В эти дни были уничтожены все туркестанские наркомы и
все большевистское руководство. На неудачу путчистов комендант
городской крепости левый эсер Белов во главе отряда мадьяр – бывших
В гостях у тетушки Клио
военнопленных подавил мятеж, обстреляв шестидюймовыми снарядами
казармы и штаб заговорщиков. Это положило начало его карьере, которая привела его в 30-х к званию командарма 1-го ранга и
должностям командующего Московским и Белорусским военными
округами, а в 1938 году к расстрелу.
Предводитель мятежа Осипов прихватил золотой запас республики и
через горы ушел на территорию Бухарского эмирата. Эмир выдал его
сподвижников, но сам Осипов, как и золото, исчезли в неизвестном
направлении. Как мы видим, это по-прежнему война между европейцами.
Новое правительство АССР было сформировано, в основном, из левых
эсеров, за неимением живых большевистских лидеров. Впрочем, вскоре
обе партии объединились. Препятствий тут не было, поскольку
туркестанские левые эсеры московский «антибрестский» путч 6 июля
1918-го не поддержали.
После ликвидации «актюбинской пробки» в сентябре 1919 года во главе
советских сил стал командующий Туркестанским фронтом Михаил
Фрунзе. В апреле 1920-го на его штыках была создана Хорезмская
народная советская республика, да уж кстати и местная
коммунистическая партия, куда записалось 600 человек. В августе
кончился «худой мир» с бухарским эмиром. На Благородную Бухару
пошли 7000 штыков, 2500 сабель, 35 легких и 5 тяжелых орудий, 8
бронеавтомобилей, 5 бронепоездов и 11 самолетов Туркестанского
фронта. Армия эмира насчитывала примерно тридцать пять тысяч
воинов, собранных из как бы регулярного войска и бекских ополчений, но против сил Фрунзе она имела не больше успеха, чем в XIX веке
против Скобелева.
Эмир бежал в Восточную (горную) часть своей страны, сделал своей
временной столицей кишлак Душанбе и пытался там как-то воевать
против красных. Но не преуспел и ему пришлось удирать и оттуда в
Афганистан. В Бухаре была создана Бухарская народная советская
республика, народными вазирами которой были сделаны
немногочисленные бухарские коммунисты, вернувшиеся из Ташкента, и
сильно полевевшие под действием эмирских казней младобухарцы-
джадиды. Все было хорошо, но теперь в новой республике тоже началось
басмаческое движение.
Вот в эту-то кашу приехал 31 декабря 1920 года наш знакомый Ахмет-
Заки Валидов с молодой женой Нафисой и крошечным сыном. Здесь он
активно встречался почти со всеми из бухарских народных вазиров, которые, конечно, хотели прогресса, но отказываться от национальности
все же не собирались. Предполагалось создать свою национальную
армию, которая, конечно, будет союзницей Красной армии, но
равноправной. В этом должны были принять активное участие
башкирские и татарские офицеры Башкирского войска, заранее
посланные Валидовым в Туркестан.
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
Он потерял в Бухаре своего первенца, умершего во время малярийной
эпидемии. Горе было велико, но он все время был занят, пытаясь
организовать в Бухаре, а далее и во всем Туркестане две партии –
социалистическую и либеральную, в надежде, что им удастся в
сотрудничестве избавиться от давления Москвы и создать независимый
федеративный Туркестан. Но ничего не получалось.
И договориться между собой не могли, и никто не хотел становиться во
главе партий, поскольку это было связано с переходом на нелегальное
положение. В конце концов 1 августа 1921 года сам Ахмет-Заки был
избран председателем Туркестанского национального объединения. То
есть, как бы главным предводителем всех басмачей Средней Азии.
Курбаши над курбашами. Осталось, чтобы это узнали и признали все
многочисленные басмачские командиры. Были разосланы представители
по всему Туркестану, проведены за два месяца два нелегальных сьезда
объединения. Реального контроля за действиями многочисленных
курбаши у Валидова, конечно, не было. Какой-нибудь «Абдулла»
действовал на свой страх и риск. Но при возникновении конфликтов
между отрядами посредничество нашего персонажа было эффективным.
Ну, и то, что приехавшие по его призыву башкирские и татарские
офицеры заметно повышали боеспособность басмачей, обучали их
каким-то элементам современного военного дела.
В ту пору в Туркестан стали приезжать видные турецкие военные.
Джамаль-паша, Энвер-паша, представители Кемаль-паши, будущего
Ататюрка из Анкары. Джамаль и Энвер приезжали по приглашениям из
Москвы. У Троцкого и Ленина после неудачного похода на Варшаву
появилась устойчивая идея похода через Гиндукуш на Индию. Для этого
предполагалось создать в Туркестане специальное войско, вдохновляемое идеями Карла Маркса и Пророка Мухаммеда, привлечь к
себе афганцев и обрушиться на слабое индийское подбрюшье
Британской империи. Идея, в принципе, старая. С ней носились еще
Наполеон Бонапарт и Павел I, отправляя на Индию казачье войско
атамана Орлова. Если бы не «апоплексический удар» у российского
императора от табакерки графа Зубова, то собранные донские казаки от
Волги через Оренбург двинулись бы на Устюрт и далее в сторону Аму-
Дарьи и Гиндукуша. Весной и летом они, вероятно, не замерзли бы в
пустыне. Остановить там их было некому. Не сарбазам же хивинского
хана и бухарского эмира. Добрались бы до перевалов Гиндукуша и
перемерзли бы там. Ну, а афганцы того времени славно прибарахлились
бы их ружьями, шашками и одеждой.
В гостях у тетушки Клио
Ну, ни Ленин, ни Троцкий, ни
Сталин с Зиновьевым военному
делу были не обучены.
Тухачевский не сумел взять
Варшаву, уровень Буденного был,
все-таки, понятен и в ЦК. Для
предводительства этой «красно-
зеленой» армией они и
планировали кого-то из турок. Но
Джемаль-паша
отправлен в Афганистан, где он в
качестве советника помогал
эмиру Аманнуле в реформе
войска. Да он, говоря по правде, и
не был особенно известен своими
военными победами. А вот Энвер
Валидов и его соратники были
против приезда турецких лидеров
в Туркестан, ожидая, что
Джамаль и Энвер, хорошо известные по Мировой войне как враги
России, вызовут объединение против басмачей и красных, и белых
русских. Он говорил об этом тому и другому еще в Баку, но убедить не
В ноябре 1921 года Энвер-паша был отправлен Москвой в Бухару в
качестве советника Красной армии по формированию национальных
частей в её составе и взаимодействию с басмачами против эмира.
Приехав на место и осмотревшись, он решил, что идти через Гиндукуш
слишком трудно. Вместо этого он решил создать свой халифат от Волги
пока до Афганистана, а потом, действительно и до Инда. Он тайно
посоветовался на эту тему с Валидовым, который очень предостерегал
его от прямой конфронтации с большевиками.
Тем не менее, паша принял решение и под предлогом охоты выехал из
Бухары и сдался встреченным басмачам. Он, наверное, рассчитывал на
гипнотическое действие своих титулов: вице-генералиссимус и зять
султана (на самом деле, это была в некоторой степени хлестаковщина, он
был женат не на дочери, а на племяннице турецкого султана Мехмеда V).
Но письмо, отправленное им бухарскому эмиру Сеид Алим-хану в его
афганское изгнание, принесло благоприятный ответ только через три
месяца. Первое же время Энвер и его спутники были под подозрением, как прогрессисты и бывшие союзники большевиков. Эмир же назначил
его главнокомандующим всеми басмаческими отрядами Бухары, Хивы и
Туркестана. К глубокому сожалению паши это совсем не означало
реального подчинения всех отрядов. Для таких замшелых феодалов-
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
кадимистов, как Ибрагим-бек, его первоначальный хозяин, Энвер-паша и
его спутники оставались, как все младотурки, полугяуром.
Однажды он спросил Валидова – почему здешние курбаши неохотно
принимают и слушают его турецких офицеров. Тот подумал и ответил, что: «Дело, вероятно в том, что ваши офицеры не скрывая предпочитают
средиземноморское вино туркестанскому кумысу». На самом деле, это
было приговором пантюркизму. Очень уж велик культурный разрыв
между турками и народами Средней Азии.
Тем не менее полномочия, полученные от Сеид Алим-хана, позволили
Энвер-паше захватить всю Восточную Бухару и двигаться дальше на
запад. Однако, на дворе был 1922 год. Советская власть после
подписания в марте 1921 года Рижского мира с Польшей могла
перебрасывать освободившиеся войска на восточные окраины. Эти части
смогли победить воинство паши. К тому же, Ибрагим-бек так и не
признал его главенства и нападал на его тылы. В итоге, Энвера загнали в
горы у Бальджуана, разбили остатки его воинства, а самого его застрелил
красный командир Акоп Мелкумянц (вот вам и эхо армянского
геноцида).
Заки Валидов в это время продолжал переезжать из одного отряда в
другой, пытаясь воодушевить басмачей на продолжение их войны.
Участвовал в боях, попадал под артобстрел. Он даже провел в Ташкенте
в сентябре подпольный съезд своего Туркестанского национального
объединения. Это, кстати, дало ему возможность еще раз встретиться с
женой, которая предыдущие месяцы без шума жила в трехстах
километрах от столицы Средней Азии. Съезд принял решения о будущей
федеративной структуре Туркестана, но это, если разобраться, не имело
большого значения, потому что басмаческое и вообще национальное
движение в Средней Азии были уже обречены.
На чем мы задержимся – так это на решении о том, что лично Ахмет-
Заки Валидов должен ехать за границу, чтобы довести до мирового
общественного мнения информацию о советском угнетении
среднеазиатов. С моей личной точки зрения это прежде всего говорило о
том, что сам наш герой все уже понял и на успех в Туркестане больше не
надеется. Действительно, дело шло к тому, что на политической арене
Курбаши Абдуллу очень надолго сменит Товарищ Саахов.
Планировалось, что он поедет вместе с женой через Ашхабад и
персидскую границу. 12 февраля уже в Туркмении он получил письмо от
советского наместника Туркестана Рудзутака о том, что: «Валидов
прощен Центральным Комитетом партии. Если желает, пусть
незамедлительно встретится с Рудзутаком». Там говорилось также, что
«Если не хотите вернуться на родину, я мог бы взять на себя заботы по
Вашему выезду за рубеж в желаемую Вами страну». Странная переписка
между подпольным вождем басмачей и официальным руководителем
всей Средней Азии.
В гостях у тетушки Клио
Надежду на примирение Валидова с Советской властью питал и его
старый приятель татарский коммунист Мирсаид Султангалиев, который
в 1923 году, находясь в тюрьме ГПУ, писал: «Кто же такой 3. Валидов и
какое отношение я имею к нему? Я перебрал в голове все факты и
пришел к следующему выводу: 3. Валидов — один из тех «самородков», которые создаются лишь веками, человек без цельного воспитания и
законченного образования, он все же сумел во время революции встать
во главе национально-освободительного движения целой народности. Я
думал, в случае выражения 3. Валидовым согласия перейти на сторону
Советской власти (в это время он примкнул к басмаческому движению) и
искренне раскаяться, пойти к тов. Сталину и выпросить у него прощения
этому заблудшему не по своей вине человеку. Вот те психологические
моменты, которые заставили меня в одну из моих бессонных ночей
встать с постели и написать дрожащей рукой: «... установить связь с 3.
Валидовым ... только осторожно»». Но Султангалиеву не поверили, отправили в тюрьму и, в конце концов, расстреляли в 1937-м.
Ахмет-Заки отнесся с сомнением к желанию Советов все простить и
забыть. Очевидно, он просто боялся, что его заманят, чтобы прикончить.
Рудзутаку он ответил старой поговоркой: ««Мусульманин не будет
повторно совать палец в дыру, где однажды его ужалила змея». А Ленину
написал большое письмо с упреками, где вспоминал ленинские слова о
договоре Башреспублики с Центром: «Наше с вами соглашение — лишь
клочок бумаги». По поводу присоединения Уфимской губернии к
автономии он написал: «… вы «Уфимскую губернию присоединили к
Башкортостану», на деле эта лукавая мера означает не что иное, как
присоединение Башкортостана к Уфимской губернии». Заканчивалось
это письмо просьбой: «У меня есть к Вам единственная просьба: прошу
разрешить выехать в Германию моей супруге Нафисе, так как она по
беременности завтра не сможет следовать со мной в Иран».
Надо сказать, что из этого ничего не вышло. У Ленина, в принципе, были
какие-то человеческие черты. Вспомним, хотя бы, его личную помощь
Юлию Мартову в отъезде из Советской России. Но, во-первых, тут на
дворе был февраль 1923 года. Ильич тяжело болеет, уже в мае он уедет в
Горки постепенно умирать. Видел ли он валидовское письмо вообще? А
во-вторых, Юлий был его старым приятелем, они вместе работали еще в
Петербурге во времена Союза борьбы за освобождение рабочего класса.
А тут речь идет о жене какого-то башкирского местного вождя. Ну, а
Сталин, разумеется, не обсуждал и вопрос о том, чтобы отпустить
находящуюся в его руках жену человека, написавшего ему такое
обличительное письмо, как Валидов из Петровска. Это уже с тех времен
был тот властитель, который со временем создаст АЛЖИР –
Акмолинский лагерь жен изменников родины, куда отправит многих
своих старых знакомых и приятельниц.
Ахмет-Заки написал также большое письмо своим единомышленникам, остающимся в Советской России, где признался: «Нынешний уровень
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
нашего движения, то есть борьба на уровне областей за достижение
уступок со стороны Советов, не дали желаемых результатов. Сейчас
нация напоминает овцу, попавшую в волчьи зубы». Он отговаривал
остающихся от продолжения вооруженной борьбы, но настаивал на
ненасильственном сопротивлении, когда Власть покушается на
нравственные и национальные ценности, обнадеживал, что когда-нибудь
«Последующие великие события дадут нам новые возможности для
возобновления борьбы». Общим резюме его письма можно считать
слова: «Ныне так же, как евреи в Израиле верят в возрождение своего
государства, наши люди должны жить с подобной же верой и разъяснять
это подрастающему поколению». Заканчивалось оно так: «Через два дня
мы выезжаем за границу. Пусть Аллах предопределит если не нашу
встречу, так встречу наших детей».
Через два дня он простился с Нафисой (как потом оказалось – навсегда) и
в одежде дервиша перешел персидскую границу. Следующие два месяца
он пробыл в Хорасане, недалеко от советской границы. Сначала он
ожидал разрешения на въезд от местных пограничников. В Мешхеде он
встретился с советским консулом Хакимовым. Встреча была довольно
мирной. В дальнейшем этот человек станет советским полпредом в
Джидде, т.е. при дворе саудовского короля Абдель Азиза и заведет с ним
личную дружбу. Ну, в 1937-ом вызов в Москву и, как было тогда
принято, расстрел. На этом полпредство закрылось, больше ни с кем из
Советов король иметь дело не захотел. Одно время в Уфе, в Башкирском
драмтеатре шла о нем пьеса «Красный паша». Валидову консул помог
установить связи с прославленными мешхедскими библиотеками. Как мы
увидим дальше, это сыграло большую роль в судьбе нашего персонажа.
Но пока он был занят написанием и рассылкой писем правительствам
Турции, Ирана и Афганистана, в
которых очень нелестно отзывался о
политике Москвы в Туркестане,
предупреждал о грозящей российской
угрозе, советовал создать что-то
вроде будущего Багдадского пакта
для защиты от Москвы. Но этот пакт
в 50-х годах создавался при
поддержке и по инициативе
Великобритании и США, а беглый
предводитель басмачей, конечно, мог
только предлагать идеи и не имел за
собой силы.
Валидов очень опасался – не нарвется
ли он на вооруженных советских
агентов в своем будущем пути в
В гостях у тетушки Клио
Афганистан. Он вел очень интенсивную деятельность по спасению себя
от этой опасности. Как далее выяснилось – практически никто на него не
покусился. Но, кроме этого, он действительно вел поиски среди
средневековых рукописей в библиотеке. И тут его ждала удача. Он нашел
труд знаменитого арабского географа IX века Ибн аль-Факиха, к
которому были подшиты путевые заметки арабских путешественников
Абу Дулафа и Ибн Фадлана. О существовании заметок Ибн Фадлана
было уже известно из более поздних географических сводов, но никто
пока этой рукописи не видел. Это первое путешествие араба вверх по
Волге-Итилю до Булгара, о котором нам известно. И это первые арабские
сведения о русах и славянах. Можно сказать, что тут была первая встреча
Арабского Востока с Восточной Европой. Заодно тут был и рассказ о
знакомстве арабов с башкирами. Русскоязычная публика, в основном, знает об Ибн Фадлане и его путешествии по фильму «Тринадцатый
воин», где эту роль играет Антонио Бандерас. Но там, конечно, от
арабской рукописи осталось немного.
Сегодня мы с вами сразу отнесли бы рукопись на ксерокс, тогда было
фотокопирование. Но у Ахмет-Заки фотоаппарата не было, так что ему
пришлось эти заметки переписывать от руки. Через год он расскажет о
находке во французском «Азиатском обществе», то есть, введет ее в
научный круг, а через двенадцать лет защитит в Венском университете
докторскую диссертацию именно по этой книге.
Он получил от военного министра Ирана (а через год шахиншаха) Резы-
хана приглашение приехать для встречи в Тегеран, но ответил, что
обязательно приедет после Афганистана. В апреле он действительно
отправился в Кабул, но по дороге застрял на пять недель в древнем
Герате, где ему, среди прочего, удалось разыскать забытую могилу
великого узбекского и персидского поэта Средневековья Алишера
Навои. Кроме того, он нашел несколько древних рукописей на забытом
хорезмийском тюркском языке.
В Кабуле он встречался с министрами, с турецким послом. На писал
несколько записок для эмирского правительства по отношениям с
Россией, по развитию системы образования и т.д.., советы он любил
давать всю жизнь. Но, в общем, понятно было, что тут ему делать нечего.
Афганский эмир Аманулла не хотел ссориться с Москвой, оказывать
серьезную помощь басмачам. Ну, немного помог деньгами, чтобы
доехать до Европы. Да, собственно, и басмаческое движение уже угасало
после гибели Энвер-паши. Они оформил себе полулиповые документы, как бухарцам, хотя Бухарская республика уже доживала последние
Наши башкиры отправились через Хайберский перевал в Индию. Для
начала Валидов поругался с английским губернатором в Пешаваре, требуя к себе уважительного отношения. Для британца же он был, наверное, просто среднеазиатским бандитом, создающим
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
дополнительную головную боль, особенно в дни, когда лейбористское
правительство Макдональда в Лондоне ведет переговоры о признании
Советов. Характерно, однако, что разговаривали они на фарси-
персидском-таджикском. Вряд ли Ахмет-Заки мог бы так поговорить с
Рудзутаком или любым другим из русских управителей Средней Азии.
Из Симлы, летней столицы Индийской империи прислали самолетом(!) инструкции. Башкиры должны были ехать прямо, без задержки, в
Бомбей, откуда пароходом уедут в Европу. Они хотели бы посетить по
дороге в Лахоре знаменитого индийско-мусульманского поэта Икбала, но
не получили разрешения. Британцев можно понять, они и так не могли
навести порядок в Индии, охваченной после Мировой войны бунтами и
«движением ненасильственного сопротивления». А тут еще человек, недавно бывший коммунистом и народным комиссаром, да и теперь не
оставивший своих социалистических идей.
В Бомбее перед пароходом Валидов накупил редких, малодоступных в
Европе книг на персидском, арабском и индийском-урду, сложил их в
сундуки и повез с собой. Через Суэц они добрались до Бейрута. Путь в
Стамбул, все еще оккупированный англичанами для них был закрыт, да и
в Бейруте, где французы все еще наводили порядок в полученных ими по
мандату Лиги Наций Сирии и Ливане, им были сильно не рады.
Пришлось плыть дальше, в Марсель.
Франция произвела на нашего героя очень большое впечатление. При
этом надо учесть, что это была для него первая европейская страна в
жизни. Все же Уфу и Казань, да даже и Санкт-Петербург трудно
именовать европейскими городами. Он приоделся, получил
«нансеновский паспорт» от Лиги Наций, встретился со старыми
знакомыми еще по России. Завел знакомства в среде французских и
вообще парижских ученых востоковедов, сделал тот самый первый
доклад о найденных в Мешхеде рукописях в здешнем Азиатском
обществе. В общем, вошел в круг ученых востоковедов, в котором ему
придется вращаться остаток жизни.
Была у него еще и встреча со старым знакомым Черновым и другими
эсеровскими вождями. Но из нее он вынес вывод, что тут никакой
серьезной деятельности против Кремля не предвидится. Из переговоров с
наличными в эмиграции казахскими и туркестанскими деятелями было
ясно, что тут общей работы не будет. Он решил перебраться в Берлин.
Время в Германии было голодное – самый разгар инфляции, 3 миллиона
процентов в месяц. Он встречался уже с немецкими востоковедами, было
ясно, что перспективы большие, но в настоящем … .
В Берлине он получил письмо от своей Нафисы. В ответном он сообщал
ей, что подал просьбу в советское полпредство о разрешении для нее
выезда в Германию. Но опять ответа не было. Всевозможные встречи с
туркестанским и русскими деятелями эмиграции время убивали, но толку
от все это не было видно. Он, среди прочего, принял участие в Конгрессе
В гостях у тетушки Клио
социалистических партий, где познакомился с Ненни, Анжеликой
Балабановой и другими левыми социалистами, которые искали свое
место между социал-демократами и Коминтерном.
Среди прочего, он протестовал и против политики Кремля и российских
тюркологов по созданию для тюркских языков латинских алфавитов.
Конечно, арабский алфавит, без гласных букв, не очень хорошо подходил
для тюркских языков. Недаром и турки перешли на латиницу. Однако в
тюркских языках много звуков, не передаваемых латинскими буквами.
Естественным тут было создание новых букв «с закорючками» для
передачи таких звуков. Но тут была возможность создания единого
тюрко-латинского алфавита, в котором татары использовали бы одни
дополнительные буквы, башкиры другие, узбеки третьи. Такая азбука
имела бы много букв, но зато была бы возможность для одних тюркских
народов читать книги на других родственных языках, как это было во
времена единого литераурного языка «тюрки».
СССР пошел по другому пути. Было создано два десятка латинских
алфавитов, так что туркмен уже не мог читать татарскую книгу по
незнанию букв. Отчасти тут, как мне кажется, было и желание многих
ученых стать «создателями местной письменности», что еще и дает
дополнительный заработок. Но отчасти тут и нежелание Кремля, чтобы
наладилось межнациональное общение помимо русского языка. Та же
история повторилась через 10-15 лет с переходом тюркских языков на
кириллицу.
Валидов пытался найти поддержку себе и своему движению сначала в
западных странах, потом в Польше и Чехословакии. Но каждый раз
оказывалось, что европейцам от Каутского и Бенеша до генерала
Шлейхера и Пилсудского ссориться лишний раз с Кремлем из-за мало
кому известных башкир, татар и узбеков совсем не хочется, что до
социализма, то начавшаяся стабилизация капитализма, «эпоха джаза» по
известному определению Скотта Фитцжеральда, оставила эту тему для
маргиналов.
В общем, в Европе делать было практически нечего. И Заки-Ахмет в
возрасте 33 года после своих многочисленных приключений в России, Туркестане, Афганистане, Индии и Европе сел в поезд и уехал из
Берлина в Стамбул через Прагу, Будапешт, Бухарест и Констанцу. В
Стамбул он прибыл в конце мая 1925 года. Начиналась новая глава его
Турция, куда он приехал, переживала революционный период своей
истории. Это не столько походило на российские 20-е годы или
французское время после 14-го июля, сколько на царствование
российского Петра Преобразователя или гавайского короля Камеамеа.
30 октября 1918 года было подписано Мудросское перемирие, означающее поражение Турции в Мировой войне и, фактически, конец
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
некогда великой тюркской державы Османской империи. Победители
совершенно не были заинтересованы в сохранении сколько-то значимых
ее остатков. Еще в 1916 году по соглашению Сайкс-Пико было решено, что Месопотамия перейдет к британцам, Сирия к французам, России
достанутся Западная Армения и Константинополь с проливами, что-то на
западе Малой Азии достанется итальянцам и грекам, что будут созданы
арабские как бы государства в уплату за переход арабов на сторону
Антанты. По факту к моменту раздела Российской империи уже не было, так что Стамбул был занят британской оккупационной армией.
Но неожиданно оказалось, что сами турки были не готовы к прощанию
со своим государством. Собственно, именно в это время и
сформировалась современная турецкая нация. По всей сране стали
возникать «общества защиты прав» и партизанские отряды. Во главе
движения оказался генерал Мустафа Кемаль, прославивший себя при
обороне Галлиполи от британских и новозеландско-австралийских войск.
Ну, правда, есть версия, что он там действовал, следуя советам
германского генерала Отто Сандерса. Теперь Кемаль встал во главе
Национальных сил, воевавших на западе Анатолии против греков и на
востоке против армянских дашнаков.
С 1920 года столица Новой Турции обосновалась в провинциальной
анатолийской Анкаре, а Константинополь-Истанбул был занят
англичанами и там происходило действие булгаковского «Бега», толстовских «Похождений Невзорова», рассказов Аверченко и прочей
литературы о русской эмиграции. Анкарское Великое Национальное
Собрание лишило Османскую динстию сперва султаната, а затем и
халифата. У турок появился совсем неожиданный союзник. Московский
Совнарком передал туркам пушки, 6 тысяч винтовок, 5 миллионов
патронов, 18 тысяч снарядов, золотые слитки и послал военным
советником к Кемалю-паше победителя Врангеля Михаила Фрунзе.
Турецкие коммунисты создали из бывших военнопленных Красный
турецкий полк под командованием коммунистического вождя Мустафы
Субхи, который воевал под Карсом против дашнаков.
В результате турецкие войска Кязыма Карабекира встретились с 11-ой
Красной армией возле Карса. По договору Ленин отдал Турции Карс и
Ардаган, бывшие уже более 40 лет российской губернией. Советская
помощь помогла Кемалю и его войску остановить и греческую армию, уже подходившую к Анкаре. В 1921 году Москва передала туркам еще
золото, 33 тысячи винтовок, 58 миллионов патронов, орудия, пулеметы, 130 тысяч снарядов, самолеты и даже два эсминца, чудом оставшихся от
Черноморского флота.
Греческая армия пыталась еще наступать, но была разбита, потеряла все
в Малой Азии, где произошла жуткая резня христиан в Смирне, Стамбул
и Восточную Фракию. Королю Константину это поражение стоило
В гостях у тетушки Клио
престола, а премьер-министр и главнокомандующий греческой армии
получили смертные приговоры.
Победитель
Кемаль-паша
подписал в июле 1923 года новый
Лозаннский мирный договор. С
арабскими землями все равно
пришлось проститься, но
Киликия, Стамбул, Смирна,
Восточная Фракия остались
турецкими. Ну, и о независимости
Курдистана пришлось забыть.
Далее в Турции курдов стали
именовать «дикими горными
турками», даром что курды жили
на этой земле еще во времена
Дария и Ксеркса, когда тюрки
были мало кому известным
племенем у подножья Саян.
Выборы 1923 года дали Народной
партии Мустафы Кемаля
абсолютное большинство в
Великом Национальном собрании,
Турция стала республикой, а он –
ее президентом. Начались кемалистские реформы. Собственно, необходимость таких реформ понимали и пропагандировали уже
младотурки в начале 10-х годов, но оказалось, что невозможно сочетать
глубокие структурные реформы, переход Турции в ХХ век и сохранение
остатков старой Османской империи. Теперь, освободившись от
имперского бремени, страна начала быстро меняться.
Внешним проявлением этого была уже замена традиционной фески на
европейские шляпы и кепки. Носить феску стало уголовным
преступлением. Согласитесь, что это несколько напоминает петровскую
войну с бородой. Забавно, что ведь и феска была введена вместо
традиционной чалмы в начале XIX века по указу султана-западника и
реформатора Махмуда.
К моменту приезда Валиди в страну Турцию уже стала республикой, простилась с султанатом и халифатом, заменила унизительный Севрский
договор на приемлемый Лозаннский, были закрыты все дервишские
ордена, запрещено многоженство. Была установлена 5-дневная рабочая
неделя с выходными днями в субботу и воскресенье, начали создаваться
по всей стране образцовые фермы для распространения современных
сельскохозяйственных технологий, было запрещено традиционное
многоженство, создано министерство просвещения и началась кампания
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
по ликвидации безграмотности, велась подготовка по образцу советских
тюркских республик к переходу на латинский алфавит.
В одном из пунктов кемалистские реформы зашли дальше ленинских.
Совнарком привел в действие реформу орфографии, подготовленную
еще при Романовых, но не решился на переход к латинице. Так русский
язык и остался при кириллице, еще одном, хотя и небольшом барьере, отделяющем Россию от Европы. Ну, так же и Мао не набрался смелости, чтобы перейти от иероглифов к буквенному алфавиту.
Цель была ясна – стать современной европейской страной. Ахмет-заки с
жаром присоединился к работе. Ему было не привыкать – он уже
составлял проекты перехода к современной жизни для своего
Автономного Башкортостана, Бухарской народной Советской
республики, Афганистана. Он и тут подготовил и передал по начальству
в министерство просвещения подготовленные им уставы Академии наук, Турецкого археологического общества, Турецкого географического
общества, Турецкого института истории и Турецкого института языка, которые должны были существовать в системе Академии наук Турции.
Валиди приехал в новую столицу Анкару, где официально получил
турецкое гражданство и был зачислен членом Комиссии Министерства
просвещения по делам сочинений и переводов. Теперь у него была
постоянная работа и жалованье. Он воспользовался своей нынешней
популярностью, чтобы попросить министерство иностранных дел оказать
ему помощь в выезде из России его жены Нафисы. Такое ходатайство
было, но Кремль не смягчился.
Впереди предстояло еще многое. Турции еще пришлось отказаться от
старого шариатского права, перевести на свой язык итальянский
уголовный и швейцарский гражданский кодексы и принять их как свои
законы, перейти на европейский Григорианский календарь, метрическую
систему мер, ввести фамилии, причем Кемаль стал Ататюрком, т.е.
Отцом турок, ввести латинский алфавит, превратить Стамбульскую
медресе в современный университет, предоставить первыми на всем
Востоке право голоса женщинам, по советскому примеру начать свой
пятилетний план.
Кемаль, по-видимому, искренне хотел создания многопартийной
демократии. Но это должна была быть «управляемая демократия» типа
той, которую создали индонезийский Сукарно или российский Путин: с
несколькими конкурирующими партиями, которые одинаково
повинуются первому движению его бровей, не дожидаясь команды. Как
известно, в Индонезии это закончилось кровавым 1965 годом, в России
… ну, еще увидим. У Ататюрка партии появлялись, но, как только к ним
собирались недовольные режимом, на этом партия и заканчивалась, ее
разгоняли.
В гостях у тетушки Клио
Главным гарантом кемалевских реформ и режима была и оставалась до
конца ХХ века турецкая армия. После смерти вождя несколько раз
проводили свободные выборы. Каждый раз побеждали исламисты и
после сформирования своего правительства начинали отменять
кемалевские реформы. Армия выходила из казарм и свергала
правительство. После нескольких лет военного правления снова
проводились выборы и все начиналось сначала. Только в XXI веке
Эрдоган сообразил в начале своего правления раскрыть пару военных
заговоров и под этим предлогом убрать из вооруженных сил своих
потенциальных противников.
Но до этого пока далеко. Для реформ нужны были исполнители и наш
герой активно включился в работу. Он познакомился с Кемаль-пашой и
одно время тот очень покровительствовал валидовским начинаниям.
Пока что Ахмет-Заки стал профессором Стамбульского университета.
Все было хорошо, пока он не навлек на себя и тут высочайшую опалу.
Дело было так, что проводилась очень пышная научная конференция на
тему о том, что древние насельники Анатолии хетты, были, дескать, тюрками, переселившимися из Средней Азии в результате наступления
пустыни. То есть, именно турки, являются аборигенами этих земель. Под
такое дело на балконе присутствует сам Кемаль Ататюрк. Все
выступления, разумеется, только За. И один-единственный Валиди
говорит о том, что языка хеттов пока никто не знает, да и насчет
опустынивания в XV веке до н.э. ничего не известно. Можете
представить себе уровень гнева местных научных светил. Тут же
выяснилось, что наш персонаж преподает в университете, сам не имея
высшего образования. Честно скажем, что у него не было и среднего.
Некогда было. К слову сказать, сегодня о хеттском языке кое-что стало
известно. Оказался он как раз индоевропейским, родственным кельтским, германским и греческому.
После того, как Валиди отстранили от кафедры, он не стал дожидаться
дальнейших неприятностей. Прямо скажем, что великий вождь Турции
не был особенно уравновешенным человеком, довольно часто
накладывал опалу на своих чересчур самостоятельных соратников, возможно, что отчасти от того, что он очень активно лично внедрял в
жизнь отмену старого исламского запрещения спиртных напитков.
Достаточно почитать рассказ великого британского историка Тойнби о
его беседе с Кемалем, в ходе которой тот выпил все стаканчики с виски, уставленные на большой поднос.
Короче говоря, в 1932 году наш персонаж уехал из Турции в Австрию, он
сдал, наконец, экстерном за гимназию и поступил в Венский
университет. Через три года он окончил курс и защитил докторскую
диссертацию по теме «Путешествие Ибн Фадлана к северным болгарам, тюркам и хазарам». Он тут же получил предложение преподавать в
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
германском Боннском университете. В Вене он, среди прочего, познакомился со своим соседом по дому, основателем психоанализа
Зигмундом Фрейдом. Надо сказать, что Ахмет-Заки не особенно
смутился при беседе с великим психологом, а разъяснил ему, что
фрейдовские комплексы не подходят к высокоморальным
мусульманским и тюркским народам, их «скромности и целомудрию».
Не будем обсуждать справедливость его утверждений, но уверенность в
своей правоте у него проявилась и тут.
В Бонне он оказался не в лучшее время. Нацистские расовые теории, которые он никак не разделял, свели с ума великую страну. Валидов еще
в 20-е годы осуждал немецкий национал-социализм за антисемитизм и
русский большевизм за империалистическую руссификацию
нацменьшинств. Но тюркологию, слава Богу, нацистские активисты не
трогали. У них там, наверху, еще не были определены будущие
отношения с Турцией и, соответственно, не было решено, являются ли
турки арийцами или недочеловеками. К тому же статьи Валиди о связях с
Востоком великого немецкого поэта Гете не давали возможности
придраться. Скажем к слову, что в эту пору наш герой сменил фамилию в
соответствии с новыми турецкими правилами. Арабское Валиди, что
означает приблизительно «Новорожденный», стало частью его имени
Ахметзаки Валиди, а фамилией стало Тоган (туган), что по-русски
переводится как «семь». Так и было в его новом турецком паспорте –
Ахметзаки Валиди Тоган.
Жизнь продолжалась. 10 ноября 1938 года в бывшем султанском дворце
Долмабахче в Стамбуле от цирроза печени (сказалось многолетнее
пьянство) умер вождь и президент Турции Кемаль. Новый президент
Иненю пока ничего против нашего героя не имел. И тот попросился
назад в Турцию, уже имея за собой степень доктора. Его переезд совпал с
началом Второй Мировой войны. Ему тогда было уже 48 лет. Он стал
профессором кафедры всеобщей истории
тюрков, что, конечно, соответствовало
основному направлению его научной
В это время до него дошла информация,
что его Нафиса, уехавшая за сосланными
родителями в Кузбасс, вышла там замуж.
Ну, кто кинет камень – она жила
оторванной от мужа уже более полутора
десятков лет. Но вскоре сменилось
семейное положение и у Ахмет-заки. Он
женился на молодой ногайке из
приехавшей в Стамбул для подготовки
докторской диссертации. Брак был
счастливым, Назмия была с ним до
В гостях у тетушки Клио
смерти, родила ему сына Субидая, в будущем известного экономиста, и
дочь Исенбике, в будущем тоже ученого-историка.
Кроме чисто научной деятельности наш персонаж создал студенческое
общество «пантуранистов». Оно занималось, на самом деле, довольно
безобидной пропагандой братства тюркских народов и теоретической
подготовкой кадров для будущего «Свободного Туркестана». Помните –
«как евреи в Израиле верят в возрождение своего государства …»? Но в
итоге это обернулось для Валиди Тогана крупными неприятностями.
Пока что он решился поехать в Рейх, официально без ведома турецких
властей, а как на самом деле – неизвестно. По-видимому, у него были
некоторые предварительные переговоры с германским начальством. Не с
Гитлером, конечно. Фюрер такими мелочами не занимался. Он и
создание власовской армии принял с большим трудом после долгих
уговоров. Максимально тут мог быть Альфред Розенберг. Теоретик по
расовой тематике, автор «Мифа ХХ века», да и человек с собственным, хоть и небольшим, русским и даже советским опытом.
Когда он поехал – не очень понятно. Он говорил, что в 1943, но по
данным турецкой полиции – в 1942-м. Ну, поверим властям. Во всяком
случае, кроме какой-то научной конференции он еще и побывал в
лагерях военнопленных, встречался со своими башкирскими, татарскими
и среднеазиатскими единоверцами. Может быть, действительно, передавал им какую-то еду. Слышали, конечно, как тяжело было
советским военнопленным в немецких лагерях. Вот после этого и
состоялась его беседа с немецким руководством, о которой он
рассказывал Мустаю Кариму. Во всяком случае, никаких его
выступлений в пользу Рейха после возвращения домой не известно.
Тем не менее, поражения вермахта во второй половине войны довольно
сильно ударили по нему лично. Дело в том, что Турция как союзник
представляла интерес и для Союзников, и для стран Оси. Главным
образом из-за своего контроля над Проливами. Турки никак не могли
выбрать – на чью сторону стать. Они хорошо помнили ошибку, сделанную младотурецким правительством в ноябре 1914 года, когда
Османская империя выступила на стороне будущих побежденных.
Так правительство Исмета Иненю и проколебалось до 1945 года, уверяя
обе стороны, что оно вот-вот … . Война Германии была объявлена 23
февраля 1945 года, когда времахт пытался сопротивляться 3-му
Украинскому фронту Малиновского и Народно-Освободительной армии
Тито уже более, чем в тысяче километров от турецкой границы. Конечно, никакого турецкого участия в военных действиях уже не было. Так, чистая формальность, чтобы после войны взяли в Организацию
Объединённых Наций.
А Генералиссимус не мог простить туркам своего страха в 1942-м, страха
того, что миллион (!) турецких аскеров ударит в тыл войскам Берия, 219
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
защищавшим Кавказ. Он начал ставить перед западными союзниками
вопрос об «исправлении» советско-турецкой границы у Батуми и
Арарата и предоставлению Советскому флоту баз в черноморских
проливах. Понятно, что у начальников в Анкаре стучали зубы от страха.
И не с 9 Мая 1945-го, а значительно раньше. Иненю не знал – как уж ему
угодить Сталину. И вот разкрыт страшный заговор, Ахметзаки Валиди
Тогана отдают под суд за его «пантуранистское общество». Со страху
военный суд влепил ему десять лет(!) при, в общем-то, отсутствии какой-
то серьезной деятельности.
Но тем временем оказалось, что дружба западных союзников с Кремлем
не так уж нерушима, начались склоки из-за Польши, Греции, Ирана и
Китая. В конце концов летом 1947-го американцы начали оказывать
финансовую и военную помощь правительствам Греции и Турции против
«советской угрозы». Ну, и Валиди Тоган, отсидев семнадцать месяцев, вышел, а потом и вовсе был реабилитирован.
На этом приключения в его жизни, вообще говоря, закончились. Кафедра
в Стамбульском университете, созданный и возглавленный им Институт
исламских исследований, мировое признание, участие в конференциях по
всему миру. Дети росли, сами стали известными учеными. Так он дожил
до 80 лет.
Единственное, что его омрачало – старческий простатит, который его
очень мучил. В конце концов, это его и убило в 1970-м, когда он, приговоренный врачами после операции к постельному режиму, все же
встал, чтобы дойти до туалета. Потом Назмия говорила: «Позже нашлись
люди, которые упрекали меня в том, что я позволила ему подняться. На
что я отвечала: он никогда никого не слушался. Сталина не слушался, Ататюрка не слушался, с какой стати меня будет слушаться?»
Время продолжало идти и после его смерти.
И дошло в итоге до 1991 года, когда вдруг
оказалось, что Валидов не басмач и
гитлеровский агент, а, наоборот, «отец
башкирской нации», великий ученый
тюрколог и создатель Башкирской АССР. Ну,
тогда многое «оказалось вдруг». К
сегодняшнему дню открыт его музей на
родине в селе Кузяново, уфимская улица
Фрунзе переименована в его честь, выпущены
его труды по-башкирски и в переводе на
русский, переименована Республиканская
библиотека. Активным его пропагандистом
стал мой хороший знакомый по оттепельным
временам поэт Газим Шафиков.
В гостях у тетушки Клио
Памятники ему стоят в Стамбуле, Санкт-Петербурге, башкирском
райцентре Сибае. В Уфе нет. Против этого очень резко выступает
местная организация КПРФ, именуя его басмачом и гитлеровцем.
Проводит митинги, на которых один из главных ораторов – мой старый
знакомый тоже по временам оттепельного клуба «Физики и лирики»
журналист, а ныне пенсионер Мадриль Гафуров. Надо еще добавить, что
как только имя Валидова появляется в Сети, то тут же на форуме
начинается склока вокруг него – кто за, кто против.
Я думаю, что в этом ничего плохого для него нет. Значит – Ахмет-Заки
еще жив, его яркая и противоречивая фигура продолжает активно
участвовать в жизни своей республики.
ПРИЛОЖЕНИЕ.
Письмо А. -3. Валидова В. И. Ленину от 20 февраля 1923 г..
Отправлено перед переходом иранской границы
Глубокоуважаемый Владимир Ильич!
Возможно, из-за вашей болезни вам не прочитают это письмо, может быть, даже
не сообщат, что оно есть, но, поскольку оно написано, разослано в копиях
некоторым товарищам и отправлено вам, оно уже является историческим
документом. Товарищ Сталин через товарища Рудзутака сообщает, что я могу
вернуться в партию, т. е. делает вид, что ничего не знает о моих антимосковских
инициативах и моем присоединении к повстанческому движению, о чем я
известил ЦК письмом в 1920 г. из Баку. Как можно верить вам и вернуться после
того, как 19 мая 1920 г. вы со Сталиным вдвоем подписали постановление, отменяющее через 14 месяцев договор от 20 марта 1919 г., который был подписан
вами обоими, мной и другими товарищами. Когда я лично выразил вам протест
по поводу этого одностороннего постановления, вы определили наш договор
как клочок бумаги. А ведь этот договор объявил создание самостоятельной
башкирской армии с прямым подчинением Верховному командованию.
Постановлением от 19 мая 1920 г. вы лишили башкирскую армию этого права, подчинили полностью армейскому корпусу за Волгой. Все произошло так, как вы
хотели, и сегодня башкирской армии фактически не существует.
Сформулированная вами в том же постановлении обманная фраза: Уфимская
губерния присоединяется к Башкирии, на самом деле означает, что Башкирия
присоединяется к Уфимской губернии. В обращении Советского правительства к
российским мусульманам от 20 ноября 1917 г. сказано о праве на независимость
вплоть "до отделения от России"; вашим постановлением 20 мая 1920 г. это право
уничтожено под корень. Поражение башкир, казахов и туркестанцев на юго-
востоке России и мой завтрашний отъезд из Советской России открывают новый
период в истории мусульман Юго-Восточной России: борьба мусульман за свои
права перестает быть внутрироссийской и выплескивается на международную
арену. Моя задача - познакомить мир с историей и сутью этой борьбы. Нет
надобности обсуждать другие статьи нашего попранного договора.
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
Великорусская нация не только в общественной и экономической областях, но и
в области культуры устанавливает жесткие пути развития находящихся в ее
плену наций и народов. Проводником этой политики является Восточный
университет, который вы организовали в прошлом году. В ЦК появились
специалисты по восточным вопросам из великорусов. Для подготовки
материалов, необходимых так называемым специалистам по Востоку при ЦК, в
Москву были завезены советские граждане восточных национальностей. Они
опубликовали некоторые книги и брошюры, но темы этих публикаций были
определены исключительно великорусами; что касается интеллигентов-
инородцев, их порой даже не приглашали на обсуждение вопросов, непосредственно касающихся их народов.
Специалисты Восточного университета и Восточного отдела ЦК ведут сегодня
большую работу - они пытаются создать алфавиты и литературные языки разных
народов с учетом фонетических различий в местных наречиях. В установлении
принципов этой работы нерусские коммунисты играют лишь консультативную
роль. В последнем номере журнала "Кзыл Шарк" , выпускаемого сотрудниками
Восточного университета, в статье дагестанца Умара Алиева говорится, что, если
для тюркских языков Северного Кавказа будет взят русский алфавит
(кириллица), то это приведет в конце концов к внедрению христианства, поэтому
северокавказцы должны использовать латинский алфавит, как это планируется в
Азербайджане; вообще, проблемами алфавита и литературного языка должны
заниматься не русские, а местные ученые при помощи независимых правительств
автономных государств, созданных на принципах национальной и политической
свободы. Подобные статьи и стремления азербайджанцев собрать интеллигентов-
коммунистов тюрко-мусульманских народов вокруг "Кзыл Шарк" и единого
литературного тюркского языка нервировали великорусских ученых. На одном из
совещаний, где присутствовали узбекские и казахские интеллигенты, профессор
Поливанов и другие русские, полемизируя с азербайджанцами Шахтахтинским и
Джалалом Кулиевым, которые защищали тезис единого алфавита на основе
латиницы, заявили, что, если сейчас и будет принят латинский алфавит, все равно
со временем он уступит место кириллице, а каждый из более сорока тюркских
диалектов будет иметь свой алфавит. Шахтахтинский на это заметил, что
неизменная цель русских - не допустить существования литературного тюркского
языка. Совершенно ясно, что раз уж вы, великорусские товарищи, беретесь за
язык и орфографию какого-то народа, вы не оставите его в покое, пока он совсем
не обрусеет. Невозможно не поразиться различию между вашими взглядами, высказанными в работе "Против течения" и других про-изведениях о праве
народов на решение собственной судьбы, и политикой, которую вы проводите
сегодня. Летом 1919 г., когда мы в Саранске занимались реформой нашего
войска, ваш представитель, товарищ Зарецкий, в течение месяца на лекциях
рассказывал о будущем угнетенных прежде народов, об образовании
национальных правительств и армий, о том, что впервые в истории все эти
вопросы положительным образом разрешает Советское правительство. А я
опубликовал в "Правде" статью, созвучную этим нравоучениям. Но не прошло и
четырех лет, а ваша политика развивается и осуществляется в совершенно
противоположном направлении. Так что РКП лучше говорить о спасении народов
в далеких от России странах Азии и Африки. Истина состоит в том, что
великорусы нервничают, когда видят свидетельствующие о продолжении в
Туркестане царской колониальной политики публикации, наподобие материала
правдолюбца Георгия Сафарова, побывавшего здесь, и радуются, когда местные
коммунисты определяют малые народы, как мелких рыбешек, являющихся
В гостях у тетушки Клио
кормом для китов, выдавая это за собственные убеждения. Товарищ Артем
говорил в Башкирии некоторым нашим коммунистам, что верит в их будущую
независимую жизнь и что во всех странах Азии, кроме Китая и Индии, будет
безраздельно господствовать советская (русская) культура; по его словам, не
стоило даже обращать внимания на местные языки и культуры, которые хотели
бы воспрепятствовать этому; эти языки можно использовать лишь для
распространения идей коммунизма. Эти и подобные слова он повторял и в других
местах. Они были услышаны и за пределами России. Нет никаких сомнений в
том, что эта политика будет продолжаться и дальше, а в результате Советская
Россия станет врагом номер один каждого народа, который пожелает жить по
собственной воле, но останется у вас в плену.
Я немного говорил вам об этом, когда мы вместе просматривали ваши тезисы к
выступлению по национальному и колониальному вопросам. Потом я перечитал
эти тезисы в "Коммунистическом интернационале" №11. Вы выдвинули идею, что после установления мировой диктатуры пролетариата "передовые
нации" непременно будут оказывать активную помощь отсталым народам при
строительстве социалистического режима в их странах. Это означает, что в
Индии, Туркестане и Африке колониальную политику будут проводить
соответственно английские, русские, французские и бельгийские рабочие
организации. Когда в 1915 г. я разговаривал с вашими товарищами в Уфе, не
было речи о том, что социалистический режим, который мы установим, породит
террор, уничтожающий волю людей. Что произошло сейчас? Неужели это было
целью революции? Прав был Пятаков, задавая вам этот вопрос на дискуссии
о профсоюзах Тогда говорили не отнимайте волю у рабочих организаций, которые делали эту революцию своим потом и кровью Даже Роза Люксембург
считала, что не будет добра от социализма, если он встанет на путь служения
прихотям больших народов, находящихся в плену у империалистических
традиций Если бы в России социализм не опустился до уровня пленника
империалистических традиций, какая могла бы быть возня по вопросам
выдумывания алфавитов и создания новых литературных языков на основе
разговорных диалектов подвластных России народов?
Если вы выздоровеете, может быть, вы лично исправите сделанные ошибки. У
меня к вам единственная просьба прошу разрешить выезд в Германию моей жене
Нафисе, которая по беременности не сможет завтра отбыть со мной в Иран.
Письмо А.-З. Валидова И.В. Сталину. 24 декабря 1925 г.
Отправлено из Анкары (Турция)
Глубокоуважаемый товар. Сталин.
В Берлине, после моего обращения к тов. Крестинскому, получил было
возможность иметь регулярную переписку с семьей и с некоторыми русскими
учеными, получать необходимые книги и рукописи; по прибытии в Ангору все
это сразу прекратилось, было отменено уже обещанное через башкирское
правительство разрешение моей жене выехать ко мне за границу, было грубо
отклонено ходатайство турецкого посланника в Москве Зекаи-бей, что доведено
до моего сведения через ангорское министерство иностранных дел; произведен
обыск у моего брата Абдуррауфа и у отца, погнанных потом в Авзяно-
Петровское ГПУ и дорогой изрядно избитых чекистами; было задержано шесть
заказных пакетов с моими рукописями по истории, этнографии и статистике и
Сергей Эйгенсон (Марко Поло)
т.д., отправленных из Петровской почтовой конторы. Репрессии по отношению
ко мне и моим родителям и семье, конфискации, обыски и избиения показывают, какова была бы моя участь, если бы я остался в России, доверившись Вашим
амнистиям. Вы тот же тов. Сталин, который писал статью в Правде и читал
доклад о «валидовщине», давал инструкции Фейзулле Ходже, ГПУ и Особому
отделу Туркфронта и Турккомиссии по борьбе с «валидовской эрушой», Энвер-
пашой и турецкими офицерами, следил за моей политической деятельностью в
Туркестане не только через Турккомиссию и Туркфронт, но и по запискам
Центрального комитета общетуркестанского национального объединения, подписанным мною как председателем этого же-Центр. комитета и
отправленным к Вам в ЦК РКП совершенно открыто по почте и нарочными или
переданным через Самаркандский исполком и главаря самаркандских басмачей
Ачил-бека, при котором я тогда находился, и Вы тот же тов. Сталин, который
писал в своей официальной амнистии, объявленной в официальном органе ЦК
РКП, что «бывший председатель правительства Башкирской Советской
Республики товар. Валидов, находившийся довольно долгое время в
неведении…» и т. д.; разве при таких условиях я мог пользоваться Вашей
«амнистией»? И когда я в Кабуле читал в заграничной печати, что мой помощник
по военной части Аухади Ишмурзин, попавший к Вам в плен на басмаческом
фронте, расстрелян в Москве по приговору Верховного военного трибунала, я, конечно, увидел, как правильно поступил, не доверившись Вашей «амнистии» и
выехавши за границу, несмотря на настойчивый уговор моих ближайших друзей
из коммунистов-мусульман. Я еще ничего же после этого не сделал за границей
такого, что могло вызвать репрессии по отношению моей семье и родителям
лица, уже амнистированного советской властью; то, что я читал на съезде левых
социалистов группы Ледибурга-Балабановой, то, что я писал в берлинском
Klassen Kampf о социализме и большевизме в Туркестане, является лишь
повторением того, что я писал Вам и товарищу Рудзутаку в 1921—1923 гг. из
Ташкента, Самарканда и Асхабада; отзывы Вашей партийной печати о моих
выступлениях за границей свидетельствуют лишь о фанатичной нетерпимости
русских коммунистов ко всему, что делается за границей. Чем же вызвана Ваша
новая репрессия[?]; зачем же Вы бьете прикладом по груди моей матери и по
голове моего отца старика? Зачем же Вы конфискуете рукописи моих научных
трудов, написанных тогда, когда я еще ничего не слыхал, что такое советы и
большевизм, рукописи — результат всей моей дореволюционной жизни? Я
боролся за права Башкирии, Туркестана, но, к сожалению, не мог выиграть на
этот раз — и все; причем же тут мои родители и мои исторические рукописи?
Я желаю закончить некоторые мои труды по истории и этнографии Туркестана и
юго-востока России и, пользуясь досужим временем, печатать их здесь и в
России (одна из таковых работ уже появилась в трудах Российской Академии
наук); убедительнейше прошу Вас вернуть мне отобранные на уфимской почте
шесть пакетов рукописей и конфискованную Вами же у моего брата Абдуррауфа
мою библиотеку; прошу разрешить мне по-прежнему получать из российских
ученых учреждений неполитические книги и от частных лиц — рукописи по
моей специальности; прошу не преследовать перечисленных в моей записке на
имя берлинского полпреда товарища Крестинского русских и туземных ученых
за переписку со мною; пусть не думают руководители советской среднеазиатской
политики, что Валидов может использовать этих лиц для политических целей; в
политике я не нуждаюсь в услугах лиц, имена которых перечислены в моем же
письме советскому посланнику; можете полагаться, что я совершенно ясно
отличаю НАУКУ от политики.
В гостях у тетушки Клио
С совершеннейшим почтением бывший предревком башкирской советской
республики
Ахмед-Заки Валидов.
24 декабря 1925 года.
Копии этого письма посылаются также товарищам Фрунзе, Луначарскому и
председателю Исполкома советов Башкирской Советской Республики товарищу
Это не диссертация и не статья для научного журнала. Поэтому ссылок в тексте я
не давал. Но на случай, если у кого-то появится интерес, я привожу несколько
сетевых источников по теме. .
Прежде всего, конечно, статья в Википедии «Валидов, Ахмет-Заки»
А.З.Валиди Тоган. Воспоминания. Книга 1 http
padabum
/ d . php
450083 .
А.З.Валиди
Воспоминания
emia . edu
/41620169/
. calam
/003530939
С. Исхаков. А.З. Валидов. Пребывание у власти http
z _ validi
. pygmywars
/ barendspages
/ steppehosts
/ bashkirs
/ bashkirs
Document Outline
Свобода, добытая в бою и потерянная после боя стр. 49
ПОТЕРЯННАЯ ПОСЛЕ БОЯ
УДИВИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ РУССКИХ ГАВАЙЕВ
КОРОЛЕВСТВО АМЕРИКА
Альтернативная история
2. Письмо А.-З. Валидова И.В. Сталину. 24 декабря 1925 г.
Отправлено из Анкары (Турция)

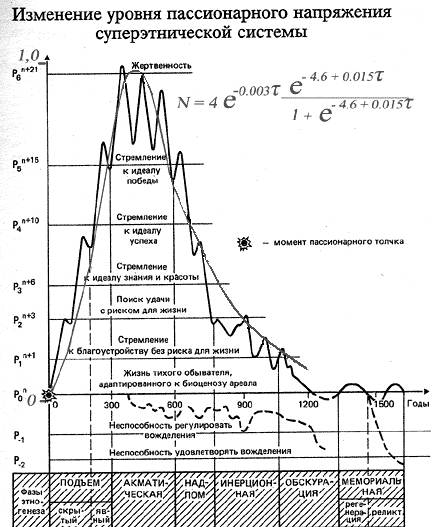


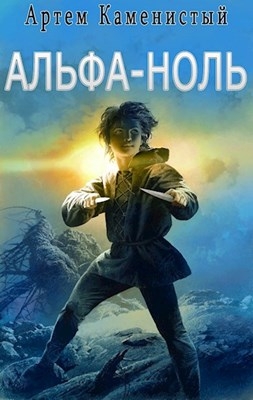
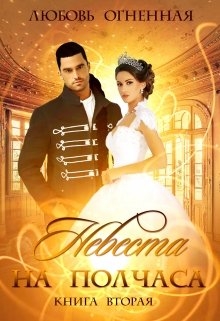
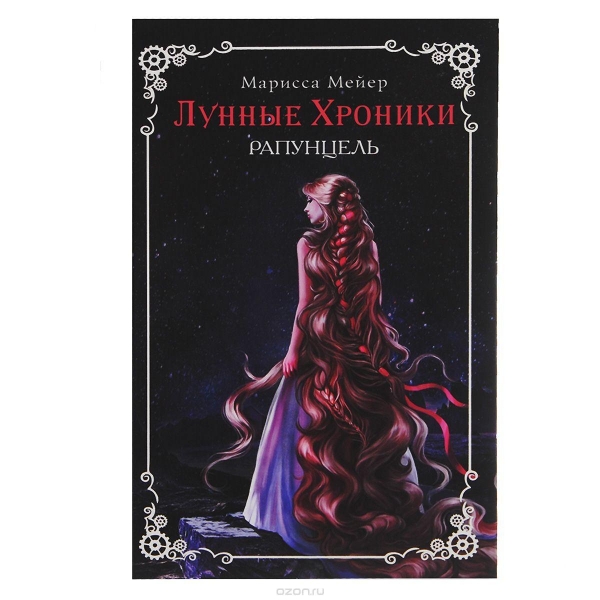

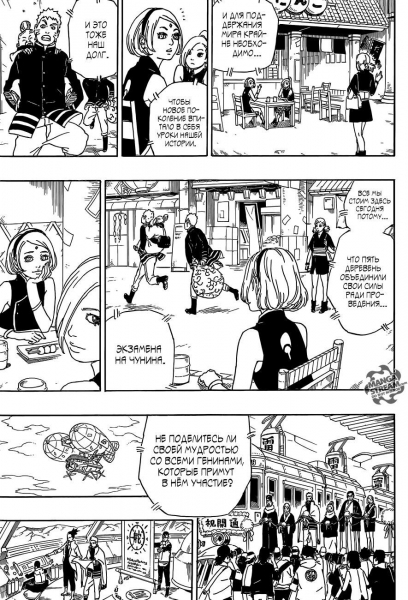

Комментарии к книге «В гостях у тетушки Клио», Сергей Александрович Эйгенсон
Всего 0 комментариев