Квинт Гораций Флакк Сочинения
ПОЭЗИЯ ГОРАЦИЯ
Имя Горация — одно из самых популярных среди имен писателей древности. Даже те, кто никогда не читал ни одной его строчки, обычно знакомы с этим именем. Хотя бы по русской классической поэзии, где Гораций был частым гостем. Недаром Пушкин в одном из своих стихотворений перечисляет его среди своих любимых поэтов: «Питомцы юных Граций, с Державиным потом чувствительный Гораций является вдвоем…» — а в одном из последних стихотворений ставит его слова — начальные слова оды III, 30 — эпиграфом к собственным строкам на знаменитую горациевскую тему: «Exegi monumentum. Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»
Но если читатель, плененный тем образом «питомца юных Граций», какой рисуется в русской поэзии, возьмет в руки стихи самого Горация в русских переводах, его ждет неожиданность, а может быть, и разочарование.
Неровные строчки, без рифм, с трудно уловимым переменчивым ритмом. Длинные фразы, перекидывающиеся из строчки в строчку, начинающиеся второстепенными словами и лишь медленно и с трудом добирающиеся до подлежащего и сказуемого. Странная расстановка слов, естественный порядок которых, словно нарочно, сбит и перемешан. Великое множество имен и названий, звучных, но малопонятных и, главное, совсем, по-видимому, не идущих к теме. Странный ход мысли, при котором сплошь и рядом к концу стихотворения поэт словно забывает то, что было вначале, и говорит совсем о другом. А когда сквозь все эти препятствия читателю удается уловить главную идею того или другого стихотворения, то идея эта оказывается разочаровывающе банальной: «Наслаждайся жизнью и не гадай о будущем», «Душевный покой дороже богатства» и т. п. Вот в каком виде раскрывается поэзия Горация перед неопытным читателем.
Если после этого удивленный читатель, стараясь понять, почему же Гораций пользуется славой великого поэта, попытается заглянуть в толстые книги по истории древней римской литературы, то и здесь он вряд ли найдет ответ на свои сомнения. Здесь он прочитает, что Гораций родился в 65 году до н. э. и умер в 8 году до н. э.; что это время его жизни совпадает с важнейшим переломом в истории Рима — падением республики и установлением империи; что в молодости Гораций был республиканцем и сражался в войсках Брута, последнего поборника республики, но после поражения Брута перешел на сторону Октавиана Августа, первого римского императора, стал близким другом пресловутого Мецената — руководителя «идеологической политики» Августа, получил в подарок от Мецената маленькое имение среди Апеннин и с тех пор до конца дней прославлял мир и счастье римского государства под благодетельной властью Августа: в таких-то одах прославлял так-то, а в таких-то одах так-то. Все это — сведения очень важные, но ничуть не объясняющие, почему Гораций был великим поэтом. Скорее, наоборот, они складываются в малопривлекательный образ поэта-ренегата и царского льстеца.
И все-таки Гораций был гениальным поэтом, и лучшие писатели Европы не ошибались, прославляя его в течение двух тысяч лет как величайшего лирика Европы. Однако «гениальный» — не значит: простой и легкий для всех. Гениальность Горация — в безошибочном, совершенном мастерстве, с которым он владеет сложнейшей, изощреннейшей поэтической техникой античного искусства — такой сложной, такой изощренной, от которой современный читатель давно отвык. Поэтому, чтобы по-должному понять и оценить Горация, читатель должен прежде всего освоиться с приемами его поэтической техники, с тем, что античность называла «наука поэзии». Только тогда перестанут нас смущать трудные ритмы, необычные расстановки слов, звучные имена, прихотливые изгибы мысли. Они станут не препятствиями на пути к смыслу поэзии Горация, а подспорьями на этом пути.
Вот почему это краткое введение в поэзию Горация мы начали не с эпохи, не с тем и идей, а с противоположного конца — с метрики, стиля, образного строя, композиции стихотворений поэта, чтобы от них потом взойти и к темам, и к идеям, и к эпохе.
Стих Горация действительно звучит непривычно. Не потому, что в нем нет рифмы (античность вообще не знала рифмы; она появилась в европейской поэзии лишь в средние века), — рифмы нет и в «Гамлете», и в «Борисе Годунове», и наш слух с этим легко мирится. Стих Горация труден потому, что строфы в нем составляются из стихов разного ритма (вернее сказать, даже разного метра): повторяющейся метрической единицей в них является не строка, а строфа. Такие разнометрические строфы могут быть очень разноообразны, и Гораций пользуется их разнообразием очень широко: в его одах и эподах употребляется двадцать различных видов строф. Восхищенные современники называли поэта: «обильный размерами Гораций».
Полный перечень всех двадцати строф, какими пользовался Гораций, со схемами и образцами, обычно прилагается в конце всякого издания стихов Горация. Читатель найдет такой перечень и в нашем издании. Но все эти схемы и примеры будут для него бесполезны, если он не уловит в них за сеткой долгих и кратких, ударных и безударных слогов того живого движения голоса, той гармонической уравновешенности восходящего и нисходящего ритма, которая определяет мелодический облик каждого размера. Конечно, при передаче на русском языке, не знающем долгих и кратких слогов, горациевский ритм становится гораздо беднее и проще, чем в латинском подлиннике. Но и в русском переложении главные признаки ритма отдельных строф можно почувствовать непосредственно, на слух.
Вот «первая асклепиадова строфа» — размер, выбранный Горацием для первого и последнего стихотворений своего сборника од (I, 1 и III, 30):
В первом полустишии каждого стиха здесь — восходящий ритм, движение голоса от безударных слогов к ударным:
Затем — цезура, мгновенная остановка голоса на стыке двух полустиший; а затем — второе полустишие, и в нем — нисходящий ритм, движение голоса от ударных слогов к безударным:
Каждый стих строго симметричен, ударные и безударные слоги располагаются с зеркальным тождеством по обе стороны цезуры, восходящий ритм уравновешивается нисходящим ритмом, за приливом следует отлив.
Вот «алкеева строфа» — любимый размер Горация:
Здесь тоже восходящий ритм уравновешивается нисходящим, но уже более сложным образом. Первые два стиха звучат одинаково. В первом полустишии — восходящий ритм:
во втором — нисходящий:
Третий стих целиком выдержан в восходящем ритме:
А четвертый — целиком в нисходящем ритме:
Таким образом, здесь на протяжении строфы прокатываются три ритмические волны: две — слабые (полустишие — прилив, полустишие — отлив) и одна — сильная (стих — прилив, стих — отлив). Строфа звучит менее мерно и величественно, чем «асклепиадова», но более напряженно и гибко.
Вот «сапфическая строфа», следующая, после алкеевой, по частоте употребления у Горация:
И здесь восходящий и нисходящий ритмы чередуются, но в обратном порядке: в первом полустишии ритм нисходящий («Вдосталь снега слал…»), во втором — восходящий («…и зловещим градом»). Так — в первых трех стихах; а четвертый стих — короткий, заключительный, и ритм в нем — только нисходящий («Огненной дланью»). Таким образом, здесь строгого равновесия ритма уже нет, нисходящий ритм преобладает над восходящим, и строфа звучит спокойно и важно.
А вот противоположный случай: восходящий ритм преобладает над нисходящим. Это «третья асклепиадова строфа»:
Первые два стиха повторяют ритм уже знакомых нам строк «Славный муж, Меценат…»: полустишие восходящее, полустишие нисходящее. А затем следуют два коротких стиха, оба — с восходящим ритмом; ими заканчивается строфа, и звучит она взволнованно и живо.
Нет надобности разбирать подобным образом все горациевские строфы: каждый читатель, хоть немного обладающий чувством ритма, сам расслышит их гармоническое звучание и сам привыкнет улавливать его в читаемых стихах. И тогда перед ним раскроются многие черточки искусства Горация, незаметные с первого взгляда. Он поймет, почему Гораций разделил свои стихотворения на «оды», написанные четверостишными строфами, и «эподы», написанные двустишными строфами (само слова «ода» означает по-гречески «песня», а «эподы» — «припевки»). Он оценит умение, с каким Гораций чередует стихотворения разных размеров, чтобы не прискучивал ритм одних и тех же строф. Он заметит, что первая книга од открывается своеобразным «парадом размеров», — девять стихотворений девятью разными размерами! — а третья книга, наоборот, монолитным циклом шести «римских од», единых не только по содержанию, но и по ритму — все они написаны алкеевой строфой. Он почувствует, что не случайно Гораций, издавая отдельным сборником три первые книги од, объединил общим размером первую оду первой книги (посвящение Меценату) и последнюю оду последней книги (обращение к Музе — знаменитый «Памятник»), а когда через десять лет ему пришлось добавить к этим трем книгам еще четвертую, то новую оду, написанную этим размером, он поместил в ней в самой середине. А если при этом вспомнить, что до Горация все эти сложные размеры, изобретенные греческими лириками, были в Риме почти неизвестны — дальше грубых проб дело не шло, — то не придется удивляться, что именно здесь видит Гораций свою высшую заслугу перед римской поэзией и именно об этом говорит в своем «Памятнике»:
Ритм горациевских строф — это как бы музыкальный фон поэзии Горация. А на этом фоне развертывается чеканный узор горациевских фраз.
Язык и стиль — та область поэзии, о которой менее всего возможно судить по переводу. А сказать о них необходимо, и особенно необходимо, когда речь идет о стихах Горация.
Есть выражение: «Поэзия — это гимнастика языка». Это значит: как гимнастика служит для гармонического развития всей мускулатуры тела, а не только для тех немногих мускулов, которые нужны нам для нашей повседневной работы, так и поэзия дает народному языку возможность развить и использовать все заложенные в нем выразительные средства, а не ограничиваться простейшими, разговорными, первыми попавшимися. Разные литературные языки, направления, стили — это разные системы гимнастики языка. И система Горация среди них может быть безоговорочно признана совершеннейшей, совершеннейшей по полноте охвата языкового организма. Один старый московский профессор-латинист говорил, что он мог бы изучать со студентами всю латинскую грамматику по одному Горацию: нет таких тонкостей в латинском языке, на которые у Горация бы не нашлось великолепного примера.
Именно эта особенность языка и стиля Горация доставляет больше всего мучений переводчикам. Ведь не у всех языков одинаковая мускулатура, не ко всем применима полностью горациевская система гимнастики. Как быть, если весь художественный эффект горациевского отрывка заключен в таких грамматических оборотах, которых в русском языке нет? Например, по-латыни можно сказать не только «дети, которые хуже, чем отцы», но и «дети, худшие, чем отцы»; по-русски это звучит очень тяжело. По-латыни можно сказать не только «породивший» или «порождающий», но и в будущем времени: «породящий»; по-русски это вовсе невозможно. У Горация цикл «римских од» кончается знаменитой фразой о вырождении римского народа; вот его дословный перевод: «Поколение отцов, худшее дедовского, породило порочнейших нас, породящих стократ негодное потомство». По-латыни это великолепная по сжатости и силе фраза, по-русски — безграмотное косноязычие. Конечно, переводчики умеют обходить эти трудности; в этой книге, в концовке оды III, 6, читатель увидит, как передал эту фразу русский стихотворец: смысл тот же, нарастание впечатления то же, но величавая плавность оригинала безвозвратно потеряна. Переводчик не виноват: этого требовал русский язык.
К счастью, есть, по крайней мере, некоторые средства, которыми русский язык позволяет переводу достичь большей близости к латинскому оригиналу, чем другие языки. И прежде всего это — расстановка слов, та самая, которая так смущала неопытного читателя. В латинском языке расстановка слов в предложении — свободная, в английском или французском — строго определенная, поэтому при переводе на эти языки все горациевские фразы перестраиваются по единому образцу и теряют всякое сходство с подлинником. А в русском языке расстановка слов тоже свободная, и русские поэты умели блестяще этим пользоваться, как у Пушкина в «Цыганах» кончается рассказ старика об Овидии:
Это значит: «его кости — гости сей чуждой земли, не успокоенные и смертью». Расстановка слов — необычная и не сразу понятная, но слуха она не раздражает, потому что в русском языке она все же допустима. Конечно, употребляется такой прием редко. Но не случайно, что у Пушкина эта вольность в расположении слов появляется как раз в рассказе о латинском поэте. Потому что в латинской поэзии такое прихотливое переплетение слов — не редкость, а обычное явление, не исключение, а правило. Представьте себе не две строчки, а целое стихотворение, целое собрание сочинений, написанное такими изощренными фразами, как «И смертью чуждой сей земли не успокоенные гости», — и вы представите себе поэзию Горация.
Что же дает поэтическому языку такая затрудненная расстановка слов? На этот вопрос можно ответить одним словом: напряженность. Как воспринимает наш слух пушкинскую фразу? Услышав, что после слова «кости» фраза не кончена, мы напряженно ждем того слова, которое свяжет предыдущие слова с дальнейшими, и не успокаиваемся, пока не услышим слов «не успокоенные». И пока в нас живо это ожидание, это напряжение, мы с особенным, обостренным вниманием вслушиваемся в каждое промежуточное слово: не оно ли наконец замкнет оборванное словосочетание и утолит наше чувство языковой гармонии? А как раз такое обостренное внимание и нужно от нас поэту, который хочет, чтобы каждое его слово не просто воспринималось, а жадно ловилось и глубоко переживалось. И Гораций умеет поддержать в нас это напряжение от начала до конца стихотворения: не успеет замкнуться одно словосочетание, как читателя уже держат в плену другие. А когда замкнутое словосочетание слишком коротко и напряжению, казалось бы, неоткуда возникнуть, Гораций разрубает словосочетание паузой между двумя стихами, и читатель опять в ожидании: стих окончен, а фраза не окончена, что же дальше?
Вот почему так важна в стихах Горация вольная расстановка слов; вот почему русские переводчики не могут отказаться от нее с такой же легкостью, как отказываются от причастий «пройдущий», «породящий» (среди них старательнее всех сохранял ее Брюсов); вот почему то и дело русский Гораций дразнит слух своего читателя такими напряженными фразами, как, например, в оде к Вакху (II, 19):
Но если напряженность фразы нужна поэту для того, чтобы добиться обостренного внимания читателя к слову, то обостренное внимание к слову нужно читателю для того, чтобы ярче и ощутимее представить себе образы читаемого произведения. Ибо слово лепит образ, а из образов складывается внутренний мир поэзии. В этот мир образов поэзии Горация мы и должны сейчас вступить.
Первое, что привлекает внимание при взгляде на образы стихов Горация, — это их удивительная вещественность, конкретность, наглядность.
Вот перед нами опять самая первая ода Горация — «Славный внук, Меценат…». Поэт быстро перебирает вереницу людских увлечений — спорт, политика, земледелие, торговля, безделье, война, охота, — чтобы назвать наконец свое собственное: поэзию. Как представляет он нам первое из этих увлечений? «Есть такие, кому высшее счастие — пыль арены взметать в беге увертливом раскаленных колес…». Три образа, три кадра: пыль арены (в подлиннике точнее: «олимпийской арены»), увертливый бег, раскаленные колеса. Каждый — предельно содержателен и точен: олимпийская пыль — потому, что не было победы славней для античного человека, чем победа на Олимпийских играх; увертливый бег — потому, что главным моментом скачек было огибание «меты», поворотного столба, вокруг которого надо было пройти вплотную, но не задев; раскаленные колеса — потому, что от стремительной скачки разогревается и дымится ось. Каждый новый кадр — более крупным планом: сперва весь стадион в клубах пыли, потом поворотный столб, у которого выносится вперед победитель, потом — бешено вращающиеся колеса его колесницы. И так вся картина скачек прошла перед нами — только в семи словах и полутора строчках.
Из таких мгновенных кадров, зримых и слышимых, слагает Гораций свои стихи. Он хочет показать войну — и вот перед нами рев рогов перед боем, отклик труб, блеск оружия, колеблющийся строй коней, ослепленные лица всадников, и все это — в четырех строчках (II, 1). «Жуткая вещественность», — сказал о горациевской образности Гете. Поэт хочет показать гордую простоту патриархального быта — и пишет, как в доме «блестит на столе солонка отчая одна» (II, 16). Он хочет сказать, что стихи его будут жить, пока стоит Рим, — и пишет: «Пока на Капитолий всходит верховный жрец с безмолвной девой-весталкой» (III, 30) — картина, которую каждый год видели его читатели, теснясь толпой вокруг праздничной молитвенной процессии. Гораций не скажет «вино», — он непременно назовет фалернское, или цекубское, или массикское, или хиосское; не скажет «поля», а добавит: ливийские, калабрские, форентийские, эфуланские или мало ли еще какие. А когда непосредственный предмет оды не дает ему материала для таких образцов, он черпает этот материал в сравнениях и метафорах. Так появляются образы резвящейся телки и наливающихся пурпуром гроздьев в оде о девушке-подростке (II, 5); так в оде о золотой середине сменяются образы моря, дома, леса, башен, гор, снова моря, Аполлоновых лука и стрел и опять моря (II, 10); так в оде, где республика представлена в виде гибнущего корабля, у этого корабля есть и весла, и мачта, и снасти, и днище, и фигуры богов на корме, и каждая вещь по-особенному страдает под напором бури (I, 14).
Это — в лирических «Одах»; а в разговорных «Сатирах» и «Посланиях» эта конкретность образного языка достигает еще большей степени. Здесь поэт не скажет «от начала до конца обеда», а скажет «от яиц и до яблок» («Сатиры», I, 3, 6); не скажет «быть богачом», а скажет «Из первых рядов смотреть на слезливые драмы» («Послание», I, 1, 67: сословию богачей, «всадников», в Риме отводились первые ряды в театре). Он не скажет «скряга», «расточитель», «распутник», «силач», «ростовщик», «сумасшедший», а непременно назовет имя: «скряга Уммидий», «мот Номентан», «распутник Требоний», «силач Гликон», «ростовщик Фуфидий», «сумасшедший Лабеон» и так далее. В одной лишь сатире I, 2 промелькнут, ни много ни мало, девятнадцать таких имен. Современному читателю эти имена не говорят ничего и только понапрасну пестрят в глазах, но первые читатели Горация легко угадывали за ними живых людей, хорошо известных в Риме, и читали насмешки Горация с удвоенным удовольствием.
Однако ткань, сотканная из этих собственных имен и вещественных образов, — не сплошная. Гораций хочет, чтобы каждый образ воспринимался в полную силу, а для этого нужно, чтобы он выступал на контрастном, внеобразном фоне отвлеченных понятий и рассуждений. И действительно, вслед за яркой картиной скачек, которую мы видели в оде I, 1, следуют безликие слова о втором людском увлечении — политике («Есть другие, кому любо избранником быть квиритов толпы, пылкой и ветреной…»); после строк об отцовской солонке идут отвлеченные размышления о человеческой суетности («Что ж стремимся мы в быстротечной жизни к многому? Зачем мы меняем страны? Разве от себя убежать возможно, родину бросив?..»). А в сатирах и посланиях все кивки на живых и выдуманных конкретных лиц щедро перемежаются сентенциями самого общего содержания: «Если глупец избегает порока — впадает в противный»; «Тот ведь не беден еще, у кого все есть на потребу»; «Вилой природу гони, а она все равно возвратится» и т.д. — неисчерпаемый кладезь этих крылатых слов на любой случай жизни. Все это — внеобразные фразы, они что-то говорят уму и сердцу, но ничего не говорят ни глазу, ни слуху; они-то и нужны Горацию для оттенения его конкретных образов.
Иногда предельная отвлеченность и предельная конкретность сливаются, и тогда возникает, например, аллегорический образ неизбежности, вбивающей железные гвозди в кровлю обреченного дома (III, 24). Но чаще отвлеченность и конкретность, внеобразность и образность чередуются; и тогда перед читателем возникает такая картина: предельно конкретный, ощутимый, вещественный образ на первом плане, а за ним — бесконечная даль философских обобщений, и взгляд все время движется от первого плана к фону и от фона к первому плану. Это требует от читателя большой напряженности (опять!), большой дисциплинированности внимания. Но поэт часто сам приходит на помощь читателю, вдвигая между первым планом и фоном, между единичным и общечеловеческим промежуточные опоры для его взгляда. Эту роль промежуточных опор, уводящих взгляд вдаль, от частности к обобщению, принимают на себя географические и мифологические образы лирики Горация.
Географические образы раздвигают поле зрения читателя вширь, мифологические образы ведут взгляд вглубь. Мы уже замечали, что Гораций любит географические эпитеты: вино называет по винограднику, имение — по округу, панцирь у него — испанский, пашни — фригийские, богатства — пергамские; в оде I, 31 он подряд перечисляет, что ему не нужно ни сардинских нив, ни калабрийских лугов, ни индийских драгоценностей, ни кампанских садов, ни каленских виноградников, ни атлантических торговых путей. Так за узким кругом предметов первого плана распахивается перспектива на широкий круг земного мира, далекого и в то же время близко касающегося поэта. И Горацию доставляет удовольствие вновь и вновь облетать мыслью этот мир, прежде чем остановиться взглядом на нужном месте: желая сказать в оде I, 7 о Тибуре, он сперва вспомнит и Родос, и Коринф, и Эфес, и Темпейскую долину, и еще восемь других мест; а желая в послании I, 11 спросить у адресата о греческом острове Лебедосе, он сперва спросит и о Хиосе, и о Лесбосе, и о Самосе. Особенно часто он уносится воображением к самым дальним границам своего круга земель — к странам испанских кантабров, заморских бриттов, скифов на севере, парфян и мидийцев на востоке. Именно этот мир в знаменитой оде о лебеде (II, 20) поэт гордо надеется заполнить своей бессмертной славой.
Как географические образы придают горациевскому миру перспективу в пространстве, так мифологические образы придают ему перспективу во времени. В оде II, 6 он называет два места, где он хотел бы найти успокоение, — Тибур, основанный аргосским изгнанником Тибурном, и Тарент, «где было царство Фаланта», другого изгнанника, спартанского; и эти бегло брошенные взгляды в легендарное прошлое лучше всяких слов раскрывают нам изгнанническое самочувствие самого Горация. Любое чувство, любое действие самого поэта или его современников может найти подобный прообраз в неисчерпаемой сокровищнице мифов и легенд. Приятель Горация влюбился в рабыню — и за его спиной тотчас встают величавые тени Ахилла, Аякса, Агамемнона, которые изведали такую же страсть (II, 4). Император Август одержал победу над врагами — и в оде Горация за этой победой тотчас рисуется великая древняя победа римлян над карфагенянами, а за нею — еще более великая и еще более древняя победа олимпийских богов над Гигантами, сынами Земли (II, 12). При этом Гораций избегает называть мифологических героев прямо: Агамемнон у него — «сын Атрея», Амфиарай — «аргосский пророк», Венера — «царица Книда и Пафоса», Аполлон — «бог, покаравший детей Ниобы», и от этого взгляд читателя каждый раз скользит еще дальше в глубь мифологической перспективы. Для нас горациевские ассоциации, и географические и мифологические, кажутся искусственными и надуманными, но для Горация и его современников они были единственным и самым естественным средством ориентироваться в пространстве и во времени.
Таков мир образов поэзии Горация, мир широкий и сложный. Каждое стихотворение Горация — это прогулка по этому миру. Маршрут такой прогулки называется композицией стихотворения.
Когда мы читаем стихи поэтов нового времени — XVIII, XIX, XX веков, — мы мало задумываемся над их композицией: мы к ней привыкли. И если мы попробуем отдать себе в ней отчет, то в самых грубых чертах выглядеть она будет так: стихотворение начинается на сравнительно спокойной ноте, постепенно напряжение нарастает все больше и больше, и в наиболее напряженном месте обрывается. Самое ответственное место в стихотворении — концовка; и признания поэтов говорят, что нередко последние строки стихотворения слагаются первыми, и все стихотворение строится как подступ, разбег для этих «ударных» строк.
В стихах Горация — все по-другому. Концовка в них скромна и неприметна настолько, что порой стихотворение кажется оборванным на совершенно случайном месте. Напряжение от начала к концу не нарастает, а падает. Самое энергичное, самое запоминающееся место в стихотворении — начало. И когда читаешь оды Горация, то трудно отделаться от впечатления, что в уме поэта эти великолепные зачины слагались раньше всех других строк: «Противна чернь мне, таинствам чуждая…», «Ладони к небу, к месяцу юному…», «О дочь, красою мать превзошедшая…», «Создал памятник я, бронзы литой прочней…».
Как же строятся такие стихотворения?
Вот одно из них — ода к красавице Пирре (I, 5):
Первая строфа, первая фраза — картина идиллического счастья: объятья, цветы, ароматы. Вторая строфа — контраст: будущее горе, будущие бури. Затем — ловкий изгиб придаточного предложения («Он, кто полон тобой…») — и опять идиллия любви и верности, но уже только как мечта. А за нею опять контраст: переменчивый ветер, обманчивый свет. И, наконец, концовка, для понимания которой нужно немного знать античные религиозные обычаи: как спасшийся от кораблекрушения пловец благодарно приносит свою одежду на алтарь спасшему его морскому богу, так Гораций, уже простившийся с любовными треволнениями, издали сочувственно смотрит на участь влюбленных. Мысль поэта движется, как качающийся маятник, от картины счастья к картине несчастья и обратно, и качания эти понемногу затихают, движение успокаивается: начинается стихотворение ревнивой заинтересованностью, кончается оно умиротворенной отрешенностью.
До сих пор нам приходилось говорить главным образом о напряженности в стихах Горация; теперь придется говорить о том, как эта напряженность находит в них свое разрешение, затихает, гармонизируется. Зигзагообразное движение мысли, затухающее колебание маятника между двумя лирическими противоположностями — излюбленный прием, к которому Гораций обращается для этой цели. Вот пример движения мысли между двумя контрастными чувствами — знаменитая ода-дуэт Горации и Лидии (III, 9): «Я любил тебя и был счастлив» — «Я любила тебя и была знаменита». «А теперь я люблю другую и готов умереть за нее» — «А теперь я люблю другого, и хоть дважды умру за него». «А что, если снова повелит любовь возвратиться к тебе?» — « А тогда, хоть ты того и не стоишь, и я не расстанусь с тобой». Вот пример движения мысли между двумя контрастными предметами — ода к полководцу Агриппе (I, 6): «Пусть твои победы, Агриппа, прославит другой поэт — для меня же петь о тебе так же трудно, как о Троянской войне или о судьбах Одиссея. — Я скромен, я велик лишь в малом — мне ли воспевать Ареса, Мериона, Диомеда? — Нет, мои песни — только о пирах и любви».
Гораций обладал парадоксальным искусством развивать одну тему, говоря, казалось бы, о другой. Так, в оде к Агриппе он, казалось бы, хочет сказать: «Мое дело — писать не о твоих подвигах, а о пирах и забавах»; но, говоря это, он успевает так упомянуть о войнах Агриппы, так сопоставить их с подвигами мифических времен, что Агриппа, читая эту оду, мог быть вполне удовлетворен. Так, в оде I, 31 он, казалось бы, просит у Аполлона блаженной бедности в тихом уголке Италии, но, говоря о ней, он успевает пленить читателя картиной ненужного его богатства во всем огромном беспокойном мире. Сквозь любую тему у Горация просвечивает противоположная, оттеняя и дополняя ее. Даже такие патетические и торжественные стихотворения, как ода к Азинию Поллиону о гражданской войне (II, 1) и ода к Августу о великой судьбе римского народа (III, 3), он неожиданно обрывает напоминанием о том, что пора его лире вернуться от высоких тем к скромным и шутливым. Даже лирический гимн природе и сельской жизни в эподе 2 неожиданно оборачивается в финале собственной противоположностью: оказывается, что все эти излияния — казалось бы, такие искренние! — принадлежат не самому поэту, другу натуры, а лицемерному ростовщику. Современному читателю такие концовки кажутся досадным диссонансом, а Горацию они были необходимы, чтобы картина мира, отображенная в произведении, была полнее и богаче.
Не всегда связь двух контрастных тем ясна с первого взгляда: иногда колебания маятника бывают так широки, что за ними трудно уследить. Так, ода I, 4 рисует картину весны: «Злая сдается зима, сменяяся вешней лаской ветра…», рисует оживающую природу, зовет к весенним праздничным жертвоприношениям; и вдруг эту тему обрывает тема смерти, ожидающей всех и каждого: «Бледная ломится Смерть одною и тою же ногою в лачуги бедных и в царей чертоги…» Где логика, где связь? Чтобы найти ее, нужно заглянуть в другое стихотворение Горация о весне — в оду IV, 7: «С гор сбежали снега, зеленеют луга муравою…» Она тоже начинается картиной оживающей природы, но за этим следует та мысль, которая является связующим звеном между двумя темами и которая была опущена в первой оде: весна природы проходит и приходит вновь, а весна человеческой жизни пройдет и не вернется.
И после этого перехода тема смерти и загробного мира становится естественной и понятной.
Так, колеблясь между двумя противоположными темами, лирическое движение в стихах Горация постепенно замирает от начала к концу: максимум динамики в первых строках, максимум статики в последних. И когда это движение прекращается совсем, стихотворение обрывается само собой на какой-нибудь спокойной, неподвижной картине. У Горация есть несколько излюбленных мотивов для таких картин. Чаще всего это чей-нибудь красивый портрет, на котором приятно остановиться взглядом: Неарха (III, 20), Гебра (II, 12), Гига (II, 5), Дамалиды (I, 36) или даже жертвенного теленка (IV, 2). Реже это какой-нибудь миф: о Гипермнестре (III, 11), о Европе (III, 27). А когда стихотворение заканчивается мифологическим мотивом, то чаще всего это мотив Аида, подземного царства: так кончается ода о рухнувшем дереве с ее патетическим зачином (II, 33), не менее бурная ода к Вакху (II, 19), ода об алчности (II, 18), только что рассмотренная ода о весне (IV, 7). В самом деле, какой мотив подходит для замирающего лирического движения лучше, чем мотив всеуспокаивающего царства теней?
Так строятся оды; а в сатирах и посланиях Гораций применяет другой прием всестороннего охвата картины мира: не последовательную смену контрастов, а вольную прихотливость живого разговора, который легко перескакивает с темы на тему и в любой момент может коснуться любого предмета. Этим он и держит в напряжении читателя, вынужденного все время быть готовым к любому повороту мысли и к любой смене тем. Так, сатира I, 1 начинается темой «каждый недоволен своей долей», а потом неожиданно переходит к теме алчности; сатира I, 3 начинается рассуждением о непостоянстве характера, и вдруг соскальзывает в разговор о дружбе и снисходительности. А разрешается это напряжение уже не композиционными средствами, а стилистическими: легким шутливым разговорным слогом, как бы снимающим вес и серьезность затрагиваемых этических проблем.
Итак, мало сказать, что основа поэзии Горация — это предельно конкретный образ на первом плане, а за ним — дальняя перспектива отвлеченных обобщений. Нужно добавить, что Гораций не ограничивается одним образом и одной перспективой, а старается тут же охватить взглядом и другую сторону, старается вместить в одно стихотворение все бесконечную широту и противоречивость мира. И нужно подчеркнуть, что Гораций не обрывает стихотворение на самом напряженном месте, предоставляя читателю долго ходить под впечатлением этого эффекта и постепенно угашать и разрешать эту напряженность в своем сознании — он старается разрешить эту напряженность в пределах самого стихотворения и затягивает стихотворение до тех пор, пока маятник лирического движения, колебавшийся между этими двумя крайностями, не успокоится на золотой середине.
Золотая середина — наконец-то произнесены эти слова, самые необходимые для понимания Горация. Золотая середина — это уже не только художественный прием, это жизненный принцип. Из мира горациевских образов мы вступаем в мир горациевских идей.
Золотая середина — выражение, принадлежащее самому Горацию. Это он написал, обращаясь к Лицинию Мурене, свойственнику Мецената, такие слова (II, 10):
Здесь, в оде, Гораций влагает свою мысль в поэтические образы; а в одной из сатир он провозглашает ее в форме отвлеченной, но от этого не менее решительной (I, 1, 106-107):
Лициния Мурену, по-видимому, такие наставления не убедили: не прошло и нескольких лет, как он был казнен за участие в заговоре против Августа. Но для самого Горация мысль о золотой середине, о мере и умеренности была принципом, определявшим его поведение решительно во всех областях жизни.
Вино? Вот, казалось бы, традиционная поэтическая тема, исключающая всякую заботу о мере и умеренности. Да, — у всех, только не у Горация. Он пишет «вакхические», пиршественные оды охотно и часто, но ни разу не позволяет в них человеку забыться и потерять власть над собой. «Но для каждого есть мера в питье: Либер блюдет предел» (I, 18). А если кто и нарушает эту меру — поэт тотчас разгоняет винные пары своим трезвым голосом:
и вслед за этим решительным началом такими же энергичными короткими фразами быстро и умело отвлекает буйных застольников на разговор о любви — тему, гораздо более мирную и успокоительную. Правда, есть у Горация оды, где он, на первый взгляд, призывает забыться и неистовствовать — например, знаменитая ода на победу над Клеопатрой (I, 37): «Теперь — пируем! Вольной ногой теперь ударим оземь!» Но будем читать дальше, и все встанет на свои места: до сих пор, говорит Гораций, нам грешно было касаться вина, ибо твердыни Рима были под угрозой; а теперь пьянство в день победы будет для нас лишь законным вознаграждением за трезвость в месяцы войны. И, наоборот, Клеопатра, которая шла на войну, опьяненная «вином Египта», искупает теперь это опьянение вынужденным протрезвлением после разгрома — протрезвлением, которое заставляет ее в ясном сознании принять добровольную смерть. Так, даже временная неумеренность входит в систему всеобщей размеренности и равновесия, столь дорогую сердцу Горация.
Любовь? Вот другая тема, в которой поэты обычно стараются дать волю своей страсти, а не умерять и не укрощать ее. Да, — все, только не Гораций. Любовных од у него еще больше, чем вакхических, но чувство, которое в них воспевается, — это не любовь, а влюбленность, не всепоглощающая страсть, а легкое увлечение: не любовь властвует над человеком, а человек властвует над любовью. Любовь, способная заставить человека делать глупости, для Горация непонятна и смешна, и он осмеивает ее в циничной сатире I, 2. Самое большее, на что способен влюбленный в стихах Горация, — это провести ночь на холоде перед дверью неприступной возлюбленной (III, 10); да и это эта ода заканчивается иронической нотой: «Сжалься же, пока я не продрог вконец и не ушел восвояси!» В какую бы Лику, Лиду или Хлою ни был влюблен Гораций, он влюблен лишь настолько, чтобы всегда было можно «уйти восвояси». Когда поэт счастлив и уже готов умереть за свою новую подругу, он тотчас останавливает себя: а что, если вернется страсть к прежней подруге? (III, 9). А когда поэт несчастен и очередная красавица отвергла его, он тотчас находит себе утешение — например, так, как в эподе 15:
Итак, если Горация отвергла Неэра, он найдет утешение с Гликерой, а когда отвергнет Гликера — то с Лидией, а когда отвергнет Лидия — то с Хлоей, и так далее; и если Горацию пришлось страдать от равнодушия Неэры, то Неэре скоро придется страдать от равнодушия какого-нибудь Телефа, а тому — от равнодушия Ликориды, и так далее. Так радости и горести любви идеально уравновешиваются в сплетении человеческих взаимоотношений, и певцом этой уравновешенности выступает Гораций.
Быт? Здесь Гораций особенно подробно и усердно развивает свою проповедь золотой середины. Здесь для него ключевое слово — мир, душевный покой; трижды повторенным словом «мир» начинает он одну из самых знаменитых своих од, к Помпею Гросфу (II, 16). Единственный источник душевного покоя — это довольство своим скромным уделом и свобода от всяких дальнейших желаний:
Наоборот, тот, кто обольщается мечтой о совершенном, полном счастье, кто «от добра добра ищет», тот попадает во власть вечной Заботы (Гораций любит олицетворять это понятие: «И на корабль взойдет Забота, и за седлом примостится конским…»). Ибо у человеческих желаний есть только нижняя граница — «столько, сколько достаточно для утоления насущных нужд»; а верхней границы у них нет, и сколько бы ни накопил золота человек алчный, он будет тосковать по лишнему грошу, и сколько бы ни стяжал почестей человек тщеславный, он будет томиться по новым и новым отличиям. Гораций не жалеет красок, чтобы изобразить душевные муки тех, кто обуян алчностью или тщеславием, кто сгоняет с земли бедняков (II, 18) и строит виллы в море, словно мало места на суше. В своем патетическом негодовании он даже предлагает римлянам выбросить все золото в море и зажить как скифы, без домов и без имущества (III, 24). Но это — в мечтах, а в действительности он вполне доволен скромным маленьким поместьем, где есть все, что нужно для скромной жизни, где не слышно кипенье страстей большого города, где сознание независимости навевает на душу желанный покой, а вслед за покоем приходит Муза, и слагаются стихи (I, 17; II, 16). Как раз такое поместье в Сабинских горах подарил Горацию Меценат, и Гораций благодарит его за эту возможность почувствовать себя свободным человеком:
Конечно, не надо преувеличивать скромность Горация: из его сатир и посланий мы узнаем, что в его сабинском поместье (кстати сказать, сравнительно недавно раскопанного археологами) хватало хозяйства для восьми рабов и пяти арендаторов с семьями. Но по римским масштабам это было не так уж много, и любой из знатных римлян, которым Гораций посвящал свои оды и послания, мог похвастаться гораздо большими имениями.
Философия? Гораций говорит о философии много и охотно; по существу, все его сатиры и послания представляют собой не что иное, как беседы на философские темы. Но если так, то какой философской школе следует Гораций? Из философских школ в его пору наибольшим влиянием пользовались две: эпикурейцы и стоики. Эпикурейцы учили, что высшее благо — наслаждение, а цель человеческой жизни — достичь «бестревожности», то есть защитить свое душевное наслаждение от всех внешних помех. Стоики учили, что высшее благо — добродетель, а цель человеческой жизни — достичь «бесстрастия», то есть защитить ясность своей души от всех смущающих ее страстей — внутренних помех добродетели. А Гораций? Он ни с теми, ни с другими, или, вернее, и с теми и с другими. Конечно, опытному взгляду легко заметить, что молодой Гораций в «Сатирах» ближе держится эпикурейских положений, а пожилой Гораций в «Посланиях» — стоических; но это не мешает ему включать в «Сатиры» стоическую проповедь раба-обличителя Дава (II, 7), а в одном из «Посланий» отрекомендоваться «поросенком Эпикурова стада» (I, 4). В самом деле, и у стоиков и у эпикурейцев он подмечает и берет только то, что ему ближе всего: культ душевного покоя, равновесия, независимости. В этом выводе обе школы сходятся, и поэтому Гораций свободно черпает свои рассуждения и доводы из арсеналов обеих; если же в каких-то других, пусть даже очень важных, вопросах, они расходятся, то что ему за дело? Если его упрекнут в эклектизме, он ответит словами послания I, 1:
Независимость духовная для него так же дорога, как независимость материальная, и поэтому он всегда сохраняет за собой свободу мнения, ни за каким философом слепо не следует. А когда желает в своих нравственных рассуждениях сослаться на авторитет, то ссылается не на Эпикура и не на Хрисиппа, а на Гомера («Послания», I, 2).
Искусство? Мы уже видели, как Гораций осуществляет драгоценный принцип золотой середины, равновесия и меры в выверенной гармонии своих од. Это на практике; а теорию своих взглядов он излагает в самом длинном из своих сочинений, в «Науке поэзии». И все это большое и сложное сочинение, своеобразно сочетающее черты дружеского послания и ученого трактата, насквозь пронизано единой мыслью: мера, соразмерность, соответствие. Образы должны соответствовать образам, замысел — силам, слова — предмету, стих — жанру, реплики — характеру, сюжет — традиции, поведение лиц — природе, и так далее; крайности недопустимы, а нужна умеренность, не то краткость обернется темнотой, мягкость — вялостью, возвышенность — надутостью и проч.; и если Гораций, к удивлению читателей и исследователей, подробнее всего говорит в «Науке поэзии» не о близкой ему лирике, а о старинном, полузабытом жанре сатировской драмы, то это потому, что здесь он видел золотую середину между трагедией и комедией. На вопрос: «Пользе или наслаждению служит поэзия?» — Гораций отвечает: «И пользе и наслаждению»; на вопрос: «Талант или учение полезней для поэта?» — он отвечает: «И талант и учение». И как за вином, в любви, в быту Гораций учит не поддаваться страстям, так и в поэзии Гораций учит не полагаться на вдохновение, а терпеливо и вдумчиво отделывать стихи по правилам науки. Стихотворец, ничего не знающий, кроме вдохновения, — смешной безумец; его карикатурным портретом заканчивается «Наука поэзии».
Если попытаться подвести итог этому обзору идейного репертуара горациевской поэзии и если задуматься, чему же служит у Горация этот принцип золотой середины, с такой последовательностью проводимый во всех областях жизни, то ответом будет то слово, которое уже не раз проскальзывало в нашем разборе: независимость. Трезвость за вином обеспечивает человеку независимость от хмельного безумия друзей. Сдержанность в любви дает человеку независимость от переменчивых прихотей подруги. Довольство малым в частной жизни дает человеку независимость от толпы работников, добывающих богатства для алчных. Довольство малым в общественной жизни дает человеку независимость от всего народа, утверждающего почести и отличия для тщеславных. «Ничему не удивляться» («Послания», I, 6), ничего не принимать близко к сердцу, — и человек будет независим от всего, что происходит на свете. Независимость для Горация превыше всего: при всей своей дружбе с Меценатом, он готов отказаться и от этой дружбы, и от подаренного Меценатом имения, едва он замечает, что Меценат за это в чем-то стесняет его свободу («Послания», I, 7). В огромном волнующемся мире, где все люди и все события связаны друг с другом тысячей связей, Гораций словно старается выгородить себе кусочек бытия, где он был бы ни с кем или почти ни с кем не связан. Даже такой жанр, как сатира, у него становится не связью с обществом, а отталкиванием от общества: это не оружие критики, а средство самосовершенствования (программа, развертываемая в сатирах I, 4 и II, 1). Гораций сторонится мира, ибо там царит всевластная Фортуна, воспетая им самим в оде I, 35; пути ее неисповедимы, под ее ударами рушится то одно, то другое человеческое счастье, и нужно быть очень осторожным, чтобы обломки этих крушений не задели и тебя. Маленький мирок, выгороженный Горацием, где все зримо, вещественно, просто и понятно, служит для него убежищем среди огромного мира, бескрайнего и непонятного.
Есть лишь одна сила, от которой нельзя быть независимым, от которой нет убежища. Это — смерть. Именно поэтому мысль о смерти тревожит Горация так часто и так неотступно. Она примешивается к каждой из его излюбленных лирических тем. Приглашая друга выпить вина на лоне природы, он обращается к нему: «Ты, Деллий, также ожидающий смерти…». Несговорчивым подругам он рисует черную картину старости, настигающей неуемную Лидию или Лику. Обличая алчного, он напоминает ему, что одна и та же могила ждет в конце концов и ненасытного богача, и ограбленного им бедняка. Зрелище весеннего расцвета навевает ему мысль о вечности природы и о краткости человеческой жизни. Даже в «Науке поэзии», обсуждая такой специальный вопрос, как старые и новые слова в языке, он не может удержаться от лирического излияния: «Смерти подвластны и мы, и недолгие наши созданья…» И это — не говоря о стихах на смерть друзей, не говоря о прославленной оде к Постуму о невозвратно убегающем времени, не говоря об оде, посвященной тому дереву в сабинском поместье, которое однажды едва не убило поэта, обрушившись на тропу рядом с ним (II, 13). Чтобы уберечься от давящих мыслей о смерти, есть лишь один выход: жить сегодняшним днем, не задумываться о будущем, ничего не откладывать на завтра, чтобы внезапная смерть не отняла у человека отложенное. Это и есть принцип «пользуйся днем» (carpe diem), попытка Горация отгородиться от беспокойного будущего так же, как принципом независимости он отгородился от беспокойной современности. Ода к Талиарху и ода к Левконое (I, 9 и 11), где он провозглашает этот принцип, принадлежат к самым популярным его стихотворениям; но, может быть, еще более выразительно высказался он в оде III, 29:
Чтобы преодолеть смерть, победить ее, человеку дано одно-единственное средство: поэзия. Человек умирает, а вдохновенные песни, созданные им, остаются. В них — бессмертие и того, кто их сложил, и тех, о ком он их слагал. Не случайно только что упомянутая ода о рухнувшем дереве заканчивается картиной царства теней, где продолжают петь свои песни Алкей и Сапфо, и где от звуков их лир замирает мир подземных чудовищ и унимаются адские муки. Не случайно Гораций всюду говорит о поэзии торжественно и благоговейно: ведь она делает поэта равным богам, даруя ему бессмертие и позволяя обессмертить в песнях друзей и современников. И неслучайно свой первый сборник од из трех книг он завершает гордым утверждением собственного бессмертия — знаменитым «Памятником»:
Итак, облик лирического героя Горация дорисован. Это маленький человек среди большого мира, из конца в конец волнуемого непостижимыми силами судьбы. В этом мире поэт выгораживает для себя кусочек бытия, смягчает власть судьбы над собою отказом от всего, что делает его зависимым от других людей и от завтрашнего дня, и начинает спорить с миром, подчинять его себе, укладывать его бескрайний противоречивый хаос в гармоническую размеренность и уравновешенность своих од. Из этой борьбы за ясность, покой и гармонию он выходит победителем, и эта победа дает ему право на бессмертие.
Такой образ мира и образ человека мог сложиться в поэзии лишь в обстановке сложной, своеобразной и неповторимой эпохи. Об этой эпохе мы и должны сказать теперь несколько слов.
Неверно представлять себе античность единым и цельным куском мировой истории. Она распадается, по крайней мере, на два периода, больших и непохожих друг на друга: период полисов и период великих держав. Полисы — это маленькие города-государства, каждое величиной с какой-нибудь район Московской области, каждое с населением по нескольку десятков тысяч полноправных граждан, независимых, замкнутых, где все, можно сказать, знают друг друга и сами решают общие дела, а обо всем, что лежит за пределами их полиса и близко его не касается, заботятся мало; все общественные отношения, все причины и следствия событий в общественной и личной жизни каждого здесь ясны как на ладони. Такими полисами были Афины, Спарта и другие греческие города в VI — IV веках до н. э., в пору жизни Архилоха и Алкея, Софокла и Еврипида, Платона и Аристотеля; таким полисом был Рим в древние времена крестьянской простоты, о которых не устает тосковать Гораций. Но рабовладельческое хозяйство развивалось, ему становилось тесно в узких рамках полиса, оно взламывало эти рамки и создавало над их обломками огромные державы с единой монархической властью, централизованным управлением, сложной экономикой и политикой. Таковы были греко-македонские царства, возникшие из мировой державы Александра Македонского к концу IV века до н. э. и постепенно поглощенные новой мировой державой, Римом, к концу I века до н. э. — как раз ко времени жизни и творчества Горация.
В новых великих державах человеку жилось богаче, сытней и уютней, чем в скудной простоте полиса. Однако это материальное довольство было куплено ценой душевных тревог, неведомых жителю полиса. Теперь он не был гражданином, а подданным, его политическая жизнь определялась не его волей, а неведомыми замыслами монарха и его советников, его хозяйственное благосостояние определялось таинственными колебаниями мировой экономики. Нити судьбы ускользали из его рук и терялись в неуследимой дали. Человек чувствовал себя одиноким и потерянным в этом бесконечно раскинувшемся мире, где больше ни на что нельзя было положиться, и он тосковал по былым временам полисного быта, когда жизнь была беднее и скуднее, но зато понятней и проще. Не это ли горькое чувство подсказало Горацию его оду, особенно странно звучащую для нынешнего читателя: ту, в которой он проклинает людскую пытливость, рвущуюся вдаль и вдаль сквозь преграды земли, моря и неба, проклинает Прометея и Дедала, внушивших людям эту роковую дерзость (I, 3):
Этот болезненный перелом от старого мироощущения к новому был особенно болезнен в Риме в I веке до н. э. — в то самое время, когда там жил и писал свои стихи Гораций. Ибо в Риме идеологический переворот сопровождался политическим переворотом — тем, что нынешние историки называют «переходом от республики к империи».
На этих словах приходится остановиться. Дело в том, что мы привыкли безоговорочно считать, что всякая республика — благо, а всякая монархия — зло. Это наивно и часто неверно. В особенности это неверно применительно к Риму I века до н. э. Чем была здесь республика? Господством нескольких десятков аристократических семей, прибравших к рукам все лучшие земли в Италии и все места в правящем сенате. Это была форма полисного строя: Рим давно уже владел половиной Средиземноморья, но в глазах сенатской олигархии все эти территории были не частью мировой державы, а военной добычей римского полиса, и единственной формой управления ими был организованный грабеж. Что дала Риму империя? Наделение землею сравнительно широкого слоя безземельного крестьянства, обновление сената за счет выходцев из непривилегированных сословий, допуск провинциалов к управлению державой. Пересмотрим имена адресатов од и посланий Горация: все это — новые люди, которые при олигархической республике и мечтать не могли об участии в государственных делах. Таков и безродный Агриппа, второй после Августа человек в Риме, таков и безродный Меценат (хотя он и притворяется, что род его восходит к неведомым этрусским царям), таков и сам Гораций, сын вольноотпущенного раба, который никогда не мог бы пользоваться при республике таким вниманием и уважением, как при Августе. Переход от республики к империи в Риме был событием исторически прогрессивным, — единогласно говорят историки. У империи было множество и темных сторон, но раскрылись они лишь позднее.
А современники? Для них дело обстояло еще проще. Это могло бы показаться странным и нелепым, но это так: современники вовсе не заметили этого перехода от республики к империи. Для них еще при Августе продолжалась республика. И их можно понять. Будущего Римской державы они не знали, не знали, что история ее отныне пойдет по совсем другому пути, чем шла до сих пор; они знали только прошлое и настоящее и не замечали между ними никакой существенной разницы. По-прежнему в Риме правил сенат, по-прежнему каждый год избирались консулы, а в провинции посылались наместники; а если рядом с этими привычными республиканскими учреждениями теперь всюду замечалось присутствие человека по имени Цезарь Октавиан Август, то это не потому, что он занимал какой-то особый новый государственный пост, — этого и не было, — а просто потому, что он лично, независимо от занимаемых им постов и должностей, пользовался всеобщим уважением и высоким авторитетом за свои заслуги перед отечеством. Кто, как не он, восстановил в Риме твердую власть и сената и консулов, положив конец тем попыткам заменить их неприкрытой царской властью, какие предпринимал сперва его приемный отец Гай Юлий Цезарь, а потом его недолгий соправитель Марк Антоний? Кто, как не он, восстановил в Риме мир и порядок, положив конец тому столетию кровавых междуусобиц, которое вошло в историю как «гражданские войны в Риме»? Нет, современники — и первым среди них Гораций — были вполне искренни, когда прославляли Августа как восстановителя республики.
Жестокие междуусобицы гражданский войн были очень хорошо памятны поколению Горация. Поэт родился в 65 году до н .э. В детстве, в тихом южноиталийском городке Венузии, он мог слышать от отца, сколько крови пролилось в Италии, когда сенатский вождь Сулла воевал с плебейским вождем Марием, и сколько страху нагнал на окрестных помещиков мятежный Спартак, с армией восставших рабов два года грозивший Риму. Подростком в шумном Риме, в школе строгого грамматика Орбилия, Гораций со сверстниками жадно ловил вести из-за моря, где в битвах решался исход борьбы между дерзко захватившим власть Гаем Юлием Цезарем и сенатским вождем Гнеем Помпеем. Юношей Гораций учился философии в Афинах, когда вдруг разнеслась весть о том, что Юлий Цезарь убит Брутом и его друзьями-республиканцами, что мстить за убитого поднялись его полководец Антоний и его приемный сын Цезарь Октавиан, что по Италии бушуют резня и конфискации, а Брут едет в Грецию собирать новое войско для борьбы за республику. Гораций был на распутье: социальное положение толкало его к цезарианцам, усвоенное в школе преклонение перед республикой — к Бруту. Он примкнул к Бруту, получил пост войскового трибуна в его армии, — высокая честь для 23-летнего безродного юноши! — а затем наступила катастрофа. В двухдневном бою при Филиппах в 42 году до н. э. республиканцы были разгромлены. Брут бросился на меч, Гораций спасся бегством, тайком, едва не погибнув при кораблекрушении, вернулся в Италию; отца уже не было в живых, отцовская усадьба была конфискована, Гораций с трудом устроился на мелкую должность в казначействе и стал жить в Риме в кругу таких же бездольных и бездомных молодых литераторов, как и он, с ужасом глядя на то, что происходит вокруг. А вокруг бушевала гражданская война: на суше восстал город Перузия и был потоплен в крови, на море восстал Секст Помпей, сын Гнея, и с армией беглых рабов опустошал берега Италии. Казалось, что весь огромный мир потерял всякую опору и рушится в безумном светопреставлении. Среди этих впечатлений Гораций пишет свои самые отчаянные произведения — седьмой эпод:
и шестнадцатый эпод — скорбные слова о том, что Рим обречен на самоубийственную гибель, и все, что можно сделать, — это бежать, чтобы найти где-нибудь на краю света сказочные Счастливые острова, до которых еще не достигло общее крушение:
Но Счастливые острова были мечтой, а жить приходилось в Риме, где власть крепко держал в руках Цезарь Октавиан (после битвы при Филиппах он поделил власть с Антонием: Антоний отправился «наводить порядок» на Востоке, Октавиан — в Риме). Гораций начинает присматриваться к этому человеку, и с удивлением открывает за его разрушительной деятельностью созидательное начало. Осторожный, умный, расчетливый и гибкий, Октавиан именно в эти годы закладывал основу своего будущего могущества: на следующий год после Филиппов он был ужасом всего Рима, а десять лет спустя уже казался его спасителем и единственной надеждой. Разделив конфискованные земли богачей между армейской беднотой, он сплотил вокруг себя среднее сословие. Организовав отпор беглым рабам — пиратам Секста Помпея, он сплотил вокруг себя все слои рабовладельческого класса. Выступив против своего бывшего соправителя Антония, шедшего на Италию в союзе с египетской царицей Клеопатрой, он сплотил вокруг себя все свободное население Италии и западных провинций. Победа над Антонием в 31 году до н. э. была представлена как победа Запада над Востоком, порядка над хаосом, римской республики над восточным деспотизмом. Гораций прославил эту победу в эподе 9 и в оде I, 37. Гораций уже несколько лет как познакомился, а потом подружился с Меценатом, советником Октавиана по дипломатическим и идеологическим вопросам, собравшим вокруг себя талантливейших из молодых римских поэтов во главе в Вергилием и Варием; Гораций уже получил от Мецената в подарок «сабинскую усадьбу», и она принесла ему материальный достаток и душевный покой; Гораций уже стал известным писателем, выпустив в 35 году до н.э. первую книгу сатир, а около 30 г. — вторую книгу сатир и книгу эподов. Как и для всех его друзей, как и для большинства римского народа Октавиан был для него спасителем отечества: в его лице для Горация не империя противостояла республике, а республика — анархии. Когда в 29 году до н. э. Октавиан с торжеством возвращается с Востока в Рим, Гораций встречает его одой I, 2 — одой, которая начинается грозной картиной того, как гибнет римский народ, отвечая местью на месть за былые преступления, от времен Ромула до времен Цезаря, а кончается светлой надеждой на то, что теперь эта цепь самоистребительных возмездий наконец кончилась и мир и покой нисходит к римлянам в образе бога благоденствия Меркурия, воплотившегося в Октавиане.
С этих пор образ Октавиана (принявшего два года спустя почетное прозвище Августа) занимает прочное место в мировоззрении Горация. Как человек должен заботиться о золотой середине и равновесии в своей душе, так Август заботится о равновесии и порядке в Римском государстве, а бог Юпитер — во всем мироздании; «вторым после Юпитера» назван Август в оде I, 12, и победа его над хаосом гражданских войн уподобляется победе Юпитера над хаосом бунтующих Гигантов (III, 4). И как Ромул, основатель римского величия, после смерти стал богом, так и Август, восстановитель этого величия, будет причтен потомками к богам (III, 5). Возрождение римского величия — это, прежде всего, восстановление древней здоровой простоты и нравственности в самом римском обществе, а затем — восстановление могущества римского оружия, после стольких междуусобиц вновь двинутого для распространения римской славы до краев света. В первой идее находит завершение горациевская проповедь довольства малым, горациевское осуждение алчности и тщеславия; теперь оно иллюстрируется могучими образами древних пахарей-воинов (III, 6; II, 15), с которых призвано брать пример римское юношество (III, 2). Во второй идее находит выражение тревожное чувство пространства, звучащее в вечном горациевском нагромождении географических имен: огромный мир уже не пугает поэта, если до самых пределов он покорен римскому народу. Обе эти идеи роднят Горация с официальной идеологической пропагандой августовской эпохи: Август тоже провозглашал возврат к древним республиканским доблестям, издавал законы против роскоши и разврата, обещал войны (так и не предпринятые) против парфян на Востоке и против британцев на Севере. Но было бы неправильно думать, что эти идеи были прямо подсказаны поэту августовской пропагандой: мы видели, как они естественно вытекали из всей системы мироощущения Горация. В этом и была особенность поэзии краткого литературного расцвета при Августе: ее творили поэты, выросшие в эпоху гражданских войн, идеи нарождающейся империи были не навязаны им, а выстраданы ими, и они воспевали монархические идеалы с республиканской искренностью и страстностью. Таков был и Гораций.
Три книги «Од», этот гимн торжеству порядка и равновесия в мироздании, в обществе и в человеческой душе, были изданы в 23 году до н. э. Горацию было сорок два года. Он понимал, что это — вершина его творчества. Через три года он выпустил сборник посланий (нынешняя книга I), решив на этом проститься с поэзией. Сборник был задуман как последняя книга, с отречением от писательства в первых строках и с любовным поэтическим автопортретом — в последних. Это было неожиданно, но логично. Ведь если цель поэзии — упорядочение мира и установление душевного равновесия, то теперь, когда мир упорядочен и душевное равновесие достигнуто, зачем нужна поэзия? Страсть к сочинительству — такая же опасная страсть, как и другие, и она тоже должна быть исторгнута из души. А кроме того, ведь всякий поэт имеет право (хотя и не всякий имеет решимость), написав свое лучшее, больше ничего не писать: лучше молчание, чем самоповторение. Гораций хотел доживать жизнь спокойно и бестревожно, прогуливаясь по сабинской усадьбе, погруженный в философские раздумья.
Но здесь и подстерегала его самая большая неожиданность. Стройная, с таким трудом созданная система взглядов вдруг оказалась несостоятельной в самом главном пункте. Гораций хотел с помощью Августа достигнуть независимости от мира и судьбы; и он достиг ее, но эта независимость от мира теперь обернулась зависимостью от Августа. Дело в том, что Август вовсе не был доволен тем, что лучший поэт его времени собирается в расцвете сил уйти на покой. Он твердо считал, что стихи пишутся не для таких малопонятных целей, как душевное равновесие, а для таких простых и ясных, как восхваление его, Августа, его политики и его времени. И он потребовал, чтобы Гораций продолжал заниматься своим делом, — потребовал деликатно, но настойчиво. Он предложил Горацию стать своим личным секретарем — Гораций отказался. Тогда он поручил Горацию написать гимн богам для величайшего празднества — «юбилейных игр» 17 года до н. э.; и от этого поручения Гораций отказаться не мог. А потом он потребовал от Горация од в честь побед своих пасынков Тиберия и Друза над альпийскими народами, а потом потребовал послания к самому себе: «Знай, я недоволен, что в стольких произведениях такого рода ты не беседуешь прежде всего со мной. Или ты боишься, что потомки, увидев твою к нам близость, сочтут ее позором для тебя?» Империя начинала накладывать свою тяжелую руку на поэзию. Уход Горация в философию так и не состоялся.
Тяжела участь поэта, который хочет писать и лишен этой возможности; но тяжела и участь поэта, который не хочет писать и должен писать против воли. И юбилейный гимн, и оды 17-13 годов до н. э., составившие отдельно изданную IV книгу од, написаны с прежним совершенным мастерством, язык и стих по-прежнему послушны каждому движению мысли поэта, но содержание их однообразно, построение прямолинейно, и пышность холодна. Как будто для того, чтобы смягчить эту необходимость писать о предмете чужом и далеком, Гораций все чаще пишет о том, что ему всего дороже и ближе, — пишет стихи о стихах, стихи о поэзии. В IV книге этой теме посвящено больше од, чем в первых трех; в том послании, которое Гораций был вынужден адресовать Августу (II, 1), он говорит не о политике, как этого, вероятно, хотелось бы адресату, а о поэзии, как этого хочется ему самому; и в эти же последние годы своего творчества он пишет «Науку поэзии», свое поэтическое завещание, обращенное к младшим поэтам.
Слава Горация гремела. Когда он приезжал из своего сабинского поместья в шумный, немилый Рим, на улицах показывали пальцами на этого невысокого, толстенького, седого, подслеповатого и вспыльчивого человека. Но Гораций все более чувствовал себя одиноким. Вергилий и Варий были в могиле, кругом шумело новое литературное поколение — молодые люди, не видавшие гражданских войн и республики, считавшие всевластие Августа чем-то само собой разумеющимся. Меценат, давно отстраненный Августом от дел, доживал жизнь в своих эсквилинских садах; измученный нервной болезнью, он терзался бессонницей и забывался недолгой дремотой лишь под плеск садовых фонтанов. Когда-то Гораций обещал мнительному другу умереть вместе с ним (II, 17): «Выступим, выступим в тобою вместе в путь последний, вместе, когда б ты его ни начал!» Меценат умер в сентябре 8 года до н. э.; последними его словами Августу были: «О Горации Флакке помни, как обо мне!» Помнить пришлось недолго: через три месяца умер и Гораций. Его похоронили на Эсквилине рядом с Меценатом.
КНИГА ПЕРВАЯ
1 К Меценату[1]
2 К Августу-Меркурию[5]
3 К кораблю Вергилия[8]
4 К Сестию[11]
5 К Пирре[12]
6 К Агриппе[13]
7 К Мунацию Планку[15]
8 К Лидии[17]
9 К виночерпию Талиарху[18]
10 К Меркурию[20]
11 К Левконое[22]
12 К Клио[24]
13 К Лидии[29]
14 К Республике[30]
15 К Парису[32]
16 Палинодия[34]
17 К Тиндариде[35]
18 Квинтилию Вару[38]
19 К прислужникам. О Гликере[41]
20 К Меценату[44]
21 К хору юношей и девушек[46]
22 Аристию Фуску[47]
23 К Хлое[50]
24 К Вергилию, на смерть Квинтилия Вара[51]
25 К Лидии[52]
26 К Музам. Об Элии Ламии[53]
27 К пирующим[55]
28 К Архиту Тарентскому[59]
29 К Икцию[61]
30 К Венере[64]
31 К Аполлону[66]
32 К лире[68]
33 К Альбию Тибуллу[70]
34 К самому себе[71]
35 К Фортуне[74]
36 К Плотию Нумиде[78]
37 К пирующим[80]
38 К прислужнику[82]
КНИГА ВТОРАЯ
1 К Азинию Поллиону[83]
2 К Саллюстию Криспу[90]
3 К Деллию[94]
4 К Ксанфию[96]
5 К Лалаге[98]
6 К Септимию[99]
7 К Помпею Вару[104]
8 К Бари́не[106]
9 К Вальгию Руфу[107]
10 К Лицинию Мурене[111]
11 К Квинтию Гирпину[112]
12 К Меценату[114]
13 К рухнувшему дереву[117]
14 К Постуму[121]
15 О римской роскоши[124]
16 К Помпею Гросфу[128]
17 К Меценату[132]
18 К алчному[136]
19 К Вакху[139]
20 К Меценату[145]
КНИГА ТРЕТЬЯ
1 К хору юношей и девушек[147]
2 К римскому юношеству
3 К Августу
4 К Каллиопе
5 К Августу
6 К римскому народу
7 К Астериде[167]
8 К Меценату[172]
9 К Лидии[175]
10 К Лике[176]
11 К Меркурию и лире[177]
12 К Необуле[178]
13 К источнику Бандузии[179]
14 К римскому народу[180]
15 К Хлориде[183]
16 К Меценату[184]
17 К Элию Ламии[189]
18 К Фавну[190]
19 К Телефу[191]
20 К Пирру[196]
21 К амфоре[199]
22 К Диане[203]
23 К Фидиле[205]
24 К богачу[207]
25 К Вакху[209]
26 К Венере[212]
27 К Галатее[213]
28 К Лиде[217]
29 К Меценату[222]
30 К Мельпомене[227]
КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ
1 К Венере[231]
2 К Юлу Антонию[232]
3 К Мельпомене[237]
4 К Риму[238]
5 К Августу[241]
6 К Аполлону[244]
7 К Манлию Торквату[249]
8 К Цензорину[250]
9 К Лоллию[254]
10 К Лигурину[257]
11 К Филлиде[258]
12 К Вергилию-торговцу[259]
13 К Лике[263]
14 К Августу[264]
15 К Августу[265]
Юбилейный гимн[268]
1 К Меценату[269]
2 На Альфия
3 К Меценату[271]
4 К вольноотпущеннику[274]
5 Против Канидии[278]
6 К клеветнику
7 К римскому народу[286]
9 К Меценату[294]
10 К Мевию[298]
11 К Петтию[299]
13 К друзьям[310]
14 К Меценату[314]
15 К Неэре[316]
16 К римскому народу[318]
17 К Канидии[326]
Книга первая
Книга вторая
Книга первая
1 К Меценату[453]
2 К Лоллию[460]
3 К Флору[464]
4 К Альбию Тибуллу[469]
5 К Манлию Торквату[472]
6 К Нумицию[475]
7 К Меценату[482]
8 К Цельсу Альбиновану[487]
9 К Тиберию Клавдию Нерону[488]
10 К Аристиду Фуску[489]
11 К Буллатию[493]
12 К Икцию[495]
13 К Винию Азине[499]
14 К старосте[501]
15 К Нумонию Вале[503]
16 К Квинтию[506]
17 К Сцеве[510]
18 К Лоллию[515]
19 К Меценату[522]
20 К своей книге[527]
Книга вторая
1 К Августу[530]
2 К Флору[548]
Наука поэзии[559]
Приложение
Оды Горация в переводах русских поэтов
М. В. ЛОМОНОСОВ (1711-1765)
Г. Р. ДЕРЖАВИН (1743-1816)
В.В. КАПНИСТ (1757-1823)
И. И. ДМИТРИЕВ (1760-1837)
В. А. ЖУКОВСКИЙ (1783-1852)
А. С. ПУШКИН (1799-1837)
И. П. КРЕШЕВ (1824-1859)
А.А. ФЕТ (1820-1892)
П. Ф. ПОРФИРОВ (1870-1903)
ВЕКОВОЙ ГИМН
И.Ф. АННЕНСКИЙ (1856-1909)
А.А. БЛОК (1880-1921)
СТИХОТВОРНЫЕ РАЗМЕРЫ ГОРАЦИЯ
Античное стихосложение не было похоже на русское. В русском стихе ритм образуется правильным чередованием ударных и безударных слогов. В античном стихе ритм образовался правильным чередованием долгих и кратких слогов: в греческом и латинском языке слоги могли быть долгими и краткими независимо от ударения. Считалось, что долгий слог звучит вдвое дольше краткого. Повторяющаяся группа долгих и кратких слогов называлась стопой.
Стихотворные строки, употреблявшиеся в античной поэзии, были более простые и более сложные. Более простые стихи образовались повторением одной и той же стопы. Таков дактилический гексаметр (шестистопный дактиль) или ямбический триметр (шестистопный ямб). Такие стихи обычно не объединялись в строфы. Более сложные стихи образовались сочетанием разных стоп. Таков, например, сапфический стих (последовательность двух хореев, дактиля и еще двух хореев), алкеев стих, асклепиадов стих и большинство других стихов, используемых Горацием. Такие стихи обычно объединялись в строфы двустишные (в эподах) или четверостишные (в одах). Стихи и строфы носили названия по имени греческих поэтов, впервые их применивших.
Точное звучание античного стиха не может быть передано по-русски, так как долгих и кратких слогов, независимых от ударения, в русском языке нет. Поэтому русские переводчики передают античные ритмы условно, заменяя чередование долгих и кратких слогов чередованием ударных и безударных слогов. Принципы этой замены ясны из нижеследующего перечня, в котором схемы размеров даны античные, а примеры звучания — русские.
В схемах размеров приняты следующие условные обозначения. Долгий слог обозначается знаком ─, краткий — знаком U, слог, который может быть безразлично и долгим и кратким, — ~, долгий слог, который может заменяться двумя краткими (в гексаметре), — uu. Знаком ┴ обозначены те долгие слоги, на которые (в традиционном чтении) падает усиленное ритмическое ударение. Знаком || обозначается цезура — обязательный междусловесный перерыв с приостановкой голоса в чтении.
написаны четверостишными строфами тринадцати видов.
1. Первая асклепиадова строфа. Состоит из четыре раза повторяющегося «асклепиадова стиха»:
─ ─ ┴UU┴||┴UU┴U~
Встречается: I, 1; III, 80 и IV, 8, причем в последнем случае четверостишное строение строф нарушено.
2. Вторая асклепиадова строфа. Состоит из трех «асклепиадовых стихов» и одного «гликонея»:
─ ─ ┴UU┴||┴UU┴U~
─ ─ ┴UU┴||┴UU┴U~
─ ─ ┴UU┴||┴UU┴U~
─ ─ ┴UU┴U~
Встречается: I, 6, 15, 24, 33; II, 12; III, 10, 16; IV, 5, 12.
3. Третья асклепиадова строфа (по другому счету — четвертая). Состоит из двух «асклепиадовых стихов», одного «ферекратея» и одного «гликонея»:
─ ─ ┴UU┴||┴UU┴U~
─ ─ ┴UU┴||┴UU┴U~
─ ─ ┴UU┴U~
Встречается: I, 5, 14, 21, 23; III, 7, 13; IV, 13.
4. Четвертая асклепиадова строфа (по другому счету — третья). Состоит из дважды повторяющихся «гликонея» и «асклепиадова стиха»:
─ ─ ┴UU┴U~
─ ─ ┴UU┴||┴UU┴U~
─ ─ ┴UU┴U~
─ ─ ┴UU┴||┴UU┴U~
Встречается: I, 3, 13, 19, 36; III, 9, 15, 19, 24, 26, 28; IV, 1, 8.
5. Пятая асклепиадова строфа. Состоит из четыре раза повторяющегося «большого асклепиадова стиха»:
─ ─ ┴UU┴||┴UU┴||┴UU┴U~
6. Сапфическая строфа. Состоит из трех «сапфических стихов» и одного «адония»:
┴U┴─ ┴||UU┴U┴~
┴U┴─ ┴||UU┴U┴~
┴U┴─ ┴||UU┴U┴~
Встречается: I, 2, 10, 12, 20, 22, 25, 30, 32, 38; II, 2, 4, б, 8, 10, 16; III, 8, 11, 14, 18, 20, 22, 27; IV, 2, 6, 11, Юбилейный гимн.
7. Большая сапфическая строфа. Состоит из дважды повторенных «аристофанова стиха» и «большого сапфического»:
┴U┴─┴||UU┴||┴UU┴U┴~
┴U┴─┴||UU┴||┴UU┴U┴~
Встречается: I, 8.
8. Алкеева строфа. Состоит из двух «алкеевых одиннадцатисложников», одного «алкеева девятисложника» и одного «алкеева десятисложника»:
~┴U┴─||┴UU┴U~
~┴U┴─||┴UU┴U~
┴UU┴UU┴U┴~
Встречается: I, 9, 16, 17, 26, 27, 29, 31, 34, 35, 37; II, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20; III, 1-6, 17, 21, 23, 26, 29; IV, 4, 9, 14, 15.
9. Архилохова первая строфа (по другой терминологии — алкманова). Состоит из дактилических гексаметра и тетраметра:
┴uu┴uu┴||uu┴uu┴UU┴~
┴uu┴uu┴UU┴~
┴uu┴uu┴||uu┴uu┴UU┴~
┴uu┴uu┴UU┴~
Встречается: I, 7, 28,
10. Архилохова вторая строфа (по другому счету — первая). Состоит из дактилического гексаметра и дактилического диметра:
┴uu┴uu┴||uu┴uu┴UU┴~
┴uu┴uu┴||uu┴uu┴UU┴~
Встречается: IV, 7.
11. Архилохова третья строфа (по другому счету — вторая). Состоит из «архилохова стиха» и усеченного ямбического триметра:
┴uu┴uu┴||uu┴UU||┴U┴U┴~
─┴U┴U||┴U┴U┴~
┴uu┴uu┴||uu┴UU||┴U┴U┴~
─┴U┴U||┴U┴U┴~
Встречается: I, 4.
12. Гиппонактова строфа. Состоит из дважды повторенных усеченного трохаического диметра и усеченного ямбического триметра:
~─U─~||┴U┴U┴~
~─U─~||┴U┴U┴~
Встречается: II, 18.
13. Ионический декаметр: на русском языке обычно передается хореем:
UU──UU──UU── UU──
UU──UU──UU── UU──
Встречается: III, 12.
за исключением последнего, написанного ямбическим триметром, все написаны двустишными строфами следующего состава.
1. Ямбические эподы — ямбический триметр с диметром:
~┴U┴~||┴U┴~┴U~
Встречается: I, 10.
2. Элегиямбические эподы — ямбический триметр с «элегиямбом»:
~┴U┴~||┴U┴~┴U~
┴uu┴uu┴||~┴U┴~┴U~
Встречается: 11.
3. Дактилические эподы — дактилический гексаметр с дактилическим тетраметром:
┴uu┴uu┴||uu┴uu ┴UU ┴~
┴UU┴UU|┴UU┴~
Встречается: 12.
4. Ямбэлегические эподы — дактилический гексаметр с «ямбэлегом»:
┴uu┴uu┴||uu┴uu ┴UU ┴~
~┴U┴~┴U ┴||┴UU ┴UU~
Встречается: 13.
5. Пифиямбические эподы (I) — дактилический гексаметр с ямбическим диметром:
┴uu┴uu┴||uu┴uu ┴UU ┴~
~┴U┴~||┴U ┴~ ┴U~
Встречается: 16.
САТИРЫ, ПОСЛАНИЯ И «НАУКА ПОЭЗИИ»
написаны дактилическим гексаметром.
Примечания
Размер — I асклепиадова строфа.
Квириты — официальное название римских граждан.
…пергамских царей… — Пергам — богатое царство в Малой Азии.
…лиру лесбийскую… — Лира названа так в память о лесбосских поэтах Алкее и Сапфо.
Размер — сапфическая строфа. Вначале описываются последовавшие за убийством Цезаря грозы и разлив Тибра, напоминающий поэту мифический потоп Девкалиона и Пирры.
Илия — супруга Тибра, Рея Сильвия, мать Ромула и Рема.
Майя — мать Меркурия, земным воплощением которого, по мысли стихотворения, является Август.
На отъезд поэта Вергилия в Афины. Размер — IV асклепиадова строфа.
Льющих ливни Гиад… — Восход Гиад означал наступление дождливой зимы.
Акрокеравний — скалистый мыс при входе в Адриатическое море.
Размер — III архилохова строфа.
Размер — III асклепиадова строфа. Гораций сравнивает Пирру с неверным морем, а себя — с пловцом, который, спасшись из бури, по обычаю, приносит свою одежду в храм Нептуна, надписью благодаря бога за спасение.
Размер — II асклепиадова строфа. Агриппа — лучший полководец Августа.
Ст. 2. Меония — область Малой Азии, считавшаяся родиной Гомера, с которым сравнивается эпик Варий, друг Горация.
Размер — I архилохова строфа. Мунаций Планк — полководец и политик, последовательно служивший и изменявший Помпею, Цезарю, Октавиану, Антонию и вновь Октавиану.
Тибур — основанный легендарным Тибурном, с рекою Анио и ручьем Альбунеей — модное дачное место в 25 километрах от Рима.
Размер — большая сапфическая строфа.
Размер — алкеева строфа.
Соракт — гора в Средней Италии.
Размер — сапфическая строфа. Поэт обращается к Меркурию как к просветителю людей, учредителю гимнастических игр, вестнику богов, изобретателю лиры и проводнику душ и Аид.
Ты Приама вел… — Имеется в виду XXII книга «Илиады».
Размер — V асклепиадова строфа.
Вавилонские таблицы служили для гадания.
Размер — сапфическая строфа. Клио — муза истории, дающая славу в веках. Перечисляются боги, затем герои, затем вожди Древнего Рима, наконец, Август, «второй после Юпитера», с его предполагаемым наследником Марцеллом.
Отец — Юпитер.
Дева — Диана.
Близнецы — Кастор и Поллукс.
Приска — гордые пучки — фасции (фаски) — пучки розог со вставленными в них секирами, знак верховной власти, введенный царем Тарквинием Приском.
Размер — IV асклепиадова строфа.
Размер — алкеева строфа. Республика аллегорически изображена в виде гибнущего корабля.
Циклады — каменистые острова Эгейского моря.
Размер — II асклепиадова строфа. Античные комментаторы видели в образах Париса и Елены намек на Антония и Клеопатру.
Нерей — прорицающий о Троянской войне и гибели Трои морской бог, отец Фетиды и дед Ахилла.
Размер — алкеева строфа. Палинодия — покаянное стихотворение; написано в честь неизвестной женщины, которую Гораций бичевал когда-то в не дошедших до нас ямбах (по домыслу античных комментаторов — в честь колдуньи Канидии, ср. эпод 19, 42-44).
Размер — алкеева строфа.
Лукретил, как и Устика (ст. 10) — гора и холмы близ сабинской виллы Горация.
Теосский лад — анакреонтический (Анакреонт был уроженцем Теоса).
Размер — V асклепиадова строфа.
Катил — один из легендарных основателей Тибура.
Тимпан и рог — музыкальные инструменты вакхического культа.
Размер — IV асклепиадова строфа.
Мать Страстей — Венера.
Дерна свежего… — Из дерна складывались простые алтари.
Размер — сапфическая строфа. Воспоминание о том, как в 30 году до н. э., когда Меценат впервые после тяжкой болезни появился в театре, народ встретил его рукоплесканиями.
Цекуб, Кален, Фалерн, Формий — места, где выделывались дорогие вина.
Размер — III асклепиадова строфа.
Размер — сапфическая строфа.
Гидасп — приток Инда.
Давния — Апулия.
Размер — III асклепиадова строфа.
Размер — II асклепиадова строфа. Квинтилий Вар — критик, друг Вергилия и Горация, умерший в 24 году до н. э.
Размер — сапфическая строфа.
Размер — алкеева строфа.
Пиерия — область во Фракии, родина Муз.
Размер — алкеева строфа.
Фракийским обычаем было пить до потери сознания, мидийским — не снимать кинжала даже на пиру.
…ведьма Фессалии… — Фессалия славилась колдуньями.
Химера — трехтелое чудовище, с которым герой Беллерофонт бился верхом на Пегасе.
Размер — I архилохова строфа. Ода написана от лица моряка, погибшего в буре и выброшенного на берег близ древней гробницы тарентского математика Архита (IV в. до н. э.): в ст. 1-20 он обращается к Архиту, в ст. 21-36 — к проезжим морякам с просьбой похоронить его тело.
Пантоид — имя троянца; Пифагор, последователем которого был Архит, утверждал, будто в него переселилась душа Пантоида, и в доказательство угадал щит Пантоида среди многих щитов, прибитых к храмовой стене.
Размер — алкеева строфа.
…войной грозишь царям… Савы… — Римский поход на Савское царство в Счастливой Аравии (Йемен) был предпринят в 24 году до н. э.; до Ирана (страны мидян, ст. 4) и Китая (страны серов — ст. 9) он, конечно, не достиг.
Панэтий — философ-стоик II века до н. э.
Размер — сапфическая строфа.
Книд в Малой Азии и Паф (Пафос) на Кипре — главные места почитания Венеры.
Размер — алкеева строфа.
Лирис — река в Кампании, самой плодородной области Италии.
Размер — сапфическая строфа.
Лесбосский… гражданин — поэт Алкей.
Размер — II асклепиадова строфа. Альбий Тибулл — поэт-элегик, младший современник Горация; однако имя Гликеры в сохранившихся его стихах не упоминается.
Размер — алкеева строфа.
Безумная мудрость — учение эпикурейцев, считавших, что боги не заботятся о людских делах. Удар грома с ясного неба заставляет поэта думать иначе.
Диеспитер — торжественное имя Юпитера.
Размер — алкеева строфа.
Антий — город в Лации с известным храмом Фортуны.
В войне британской… — Британский поход Цезаря (т. е. Октавиана) замышлялся в 26 году до н. э.
Массагеты — скифское племя.
Размер — IV асклепиадова строфа. Испанский поход Августа был предпринят в 27-24 годах до н. э.
Салии — жрецы, совершавшие ритуальную пляску в честь Марса.
Размер — алкеева строфа. Описывается поход Клеопатры с Ангонием против Цезаря (Октавиана), их бегство после битвы при Акции и самоубийство Клеопатры.
Угощения ставились перед статуями богов при благодарственных молебствиях.
Размер — сапфическая строфа.
Размер — алкеева строфа. Азиний Поллион — полководец (ст. 15-16), сенатор (ст. 13-14), автор трагедий; ода написана в связи с тем, что Азиний взялся писать историю гражданских войн с 60 года до н. э., когда в консульство Метелла был заключен первый союз вождей — триумвират — против республики.
…котурн Кекропа… — Кекроп — царь Афин, родины трагедии.
Самоубийство Катона Младшего, не пожелавшего пережить поражения республики и подчиниться Цезарю, было одним из самых драматических моментов гражданских войн.
Афры — африканцы, т. е. карфагеняне и нумидийцы (их царем был Югурта, ст. 28), самые упорные враги Рима; их покровительницей считалась Юнона.
Гесперия — Италия.
Кеосский плач — скорбные песнопения в духе поэта Симонида Кеосского (V в. до н. э.).
Плектр — смычок для игры на лире. Диона — Венера.
Размер — сапфическая строфа. Саллюстий Крисп — приемный сын знаменитого историка, известный богач.
Прокулей — шурин Мецената, поделившийся своим состоянием с братьями, разоренными в гражданской войне.
Два Карфагена в Африке (Ливии) и Испании (Гады — ныне Кадис).
Фраат — парфянский царь с 30 года до н. э.
Размер — алкеева строфа.
Инах — по мифам, первый царь богатого Аргоса.
Размер — сапфическая строфа.
Атрид — Агамемнон, взявший в наложницы Кассандру; вождь фессалийцев — Ахилл.
Размер — алкеева строфа. Сравнение молодых людей с бычками и телками было в античной поэзии обычным.
Размер — сапфическая строфа.
Кантабры — только что покоренное племя в Испании.
Сирт — мелководный залив в Африке с вечно прогретой водой.
…тот край… — окрестности Тарента в южной Италии (основанного спартанцем Фалантом, ст. 12), с рекой Галезом и холмом Авлоном.
Гиметт в Аттике славился медом, а Венафр и Фалерн в Кампании — маслом и вином.
Размер — алкеева строфа. Помпей Вар — товарищ Горация по войску Брута, по-видимому вернувшийся в Рим после амнистии 29 года до н. э.
Массик — одно из лучших италийских вин.
Размер — сапфическая строфа.
Размер — алкеева строфа. Вальгий Руф — поэт и ритор; ода написана на смерть любимого им юноши Миста.
Гарган — гора в Апулии.
Старец — Нестор, отец Антилоха.
Нифат — гора в Армении, вблизи которой течет пограничная с Парфией река мидийцев — Евфрат.
Размер — сапфическая строфа. Лициний Мурена — шурин Мецената, впоследствии казненный за участие в заговоре против Августа.
Размер — алкеева строфа.
Эвий — одно из имен Вакха.
Размер — II асклепиадова строфа. Гораций отклоняет предложение воспевать события исторические (Нумантийская война II в. до н. э., две Пунические войны III в. до н. э.) и мифологические (Гилей — один из кентавров, сыновья Земли — гиганты, восставшие на Сатурнов дом олимпийцев); подвиги Августа лучше опишет в прозе (речью обычною, ст. 9) сам Меценат, а Гораций будет воспевать (под именем Ликимнии) его красавицу жену Теренцию.
Ахемениды — цари древней Персии.
Мигдония — область в Малой Азии.
Размер — алкеева строфа. Об этом случае с рухнувшим деревом Гораций упоминает еще в одах II, 17; III, 4; III, 8.
Отрава названа колхийской в память о Медее.
Босфор — название многих узких и потому опасных проливов.
Отбег вспять — притворное отступление, любимый боевой прием парфян.
Размер — алкеева строфа.
Кипарис — посвященный подземным богам, сажали на могилах.
Понтифики — одна из высших жреческих коллегий в Риме.
Размер — алкеева строфа.
Лукринские воды — воды озера в Кампании.
…платан безбрачный… — т. е. непригодный для поддержки виноградных лоз.
Портики, обращенные к северу, не освещались солнцем и доставляли прохладу среди лета.
Размер — сапфическая строфа.
Гет — фракиец.
Турмы — конные отряды.
Квадрига — колесница четверкой (обычно для скачек).
Размер — алкеева строфа. О болезненности и мнительности Мецената упоминают многие античные писатели. Он умер в 8 году до н. э., и Гораций действительно пережил его лишь на несколько месяцев.
Гиант — великан, сын Земли.
Весы и Юпитер считались у астрологов счастливыми светилами, Сатурн, Скорпион и Козерог (знак декабря, самого бурного средиземноморского месяца) — несчастливыми.
Меркурий назван покровителем поэтов как изобретатель лиры (ср. оду I, 10).
Размер — гиппонактова строфа.
Клиенты — граждане, лично свободные, но зависимые от знатных покровителей.
Байи — модное место отдыха близ Неаполя.
Размер — алкеева строфа.
Тирс — жезл Вакха: палка с шишкой на конце.
Блаженная жена — Ариадна, супруга Вакха, чей венец стал созвездием.
Бистониды — фракийские вакханки.
Рет — имя одного из Гигантов (ср. оду III, 4, 55).
Безвредный Цербер… — Мимо Цербера Вакх проходил, чтобы найти в Аиде свою мать Семелу.
Размер — алкеева строфа. Лебедь был символом поэта как птица, посвященная Аполлону; считалось, что перед смертью он поет от радости, что душа его уходит к своему богу.
Гиперборейцы, гелоны — племена далекого Севера; иберами назывались на Западе испанцы, а на Востоке — грузины.
Эта ода, как и пять последующих («римские оды»), написана алкеевой строфой.
Уста сомкните! — возглас жреца перед важными обрядами.
Поле — Марсово поле, где избирались должностные лица в Риме.
намек на известный рассказ о дамокловом мече.
Геда восход иль закат Арктура… — Восход Геда (в созвездии Возничего) и заход Арктура совпадал с осенними равноденственными бурями.
перевод сентенции греческого поэта Симонида, которую любил повторять Август.
Церерины святые тайны — учение элевсинскик мистерий, доступное лишь посвященным.
Геркулес, Поллукс, Вакх и Ромул стали богами, хотя и были рождены от смертных женщин.
Юнона… рекла… — Речь Юноны, предостерегающая римлян от восстановления Трои, — по-видимому, намек на проект Антония перенести столицу из Рима на Восток. В речи она упоминает, не называя, Париса с Еленой (ст. 19-20) и Ромула (ст. 32), сына весталки Реи Сильвии (ст. 32-33) и Марса.
Гора Вольтур и селения Ахерунтия и другие были невдалеке от апулийского имения отца Горация.
Пренеста — город в Лации близ Тибура.
Палинур — опасный для мореплавателей мыс в Тирренском море.
Конканы — испанское, а гелоны — скифское племя.
Два брата — богоборцы От и Эфиальт.
Аполлон Патарский. — В Патаре на берегу Касталийского ручья в малоазиатской Ликии был храм с оракулом Аполлона.
Быстрый огонь не пронижет Этну. — Извержения Этны миф объяснял тем, что под этой горой были заточены побежденные Титаны.
…воин Красса… — Солдаты Красса, разбитого парфянами при Каррах в 53 году до н. э., находились в плену у парфян уже около двадцати пяти лет.
Регул — римский полководец III века до н. э.; взятый в плен карфагенянами (пунами), он был послан в Рим с предложением мира, но вместо этого призвал римлян к войне до победы, а сам, по условию, вернулся в Карфаген на верную смерть.
Монез и Пакор командовали парфянами в войнах с Римом в 40 и 36 годах до н. э.
…грозили дак и египтянин… — Задунайские даки и подвластные Клеопатре египтяне выступали против Октавиана в союзе с Антонием.
Размер — III асклепиадова строфа.
Коза — другое название Геда (см. прим. к оде III, 1).
Орик — гавань в нынешней Албании.
Беллерофонт и Пелей были жертвами женщин, чью любовь они отвергли.
Тусская (этрусская) река — Тибр.
Размер — сапфическая строфа.
Календы марта — 1 марта; в этот день праздновался женский праздник Матроналий, Гораций же отмечал годовщину своего спасения от упавшего дерева (см. оду II, 13). Оба языка — греческий и латинский.
Консульство Тулла — 66 год до н. э., за год до рождения Горация.
Размер — IV асклепиадова строфа. Ода представляет собой диалог между Горацием и Лидией: партнеры обмениваются симметрично построенными репликами.
Размер — II асклепиадова строфа.
Размер — сапфическая строфа. Говоря о лире, Гораций вспоминает нисхождение Орфея в Аид (ст. 13-24), а затем — мужеубийство Данаид и благородство Гипермнестры, пощадившей мужа (ст. 25-52).
Размер — ионики (в переводе — хореи).
Размер — III асклепиадова строфа. Источник Бандузии, по преданию, находился недалеко от Венузии, родины Горация, или от его сабинского поместья.
Размер — сапфическая строфа. Ода на возвращение Августа из испанского похода в 24 году. Описывается благодарственное молебствие богам, возглавляемое женой Августа Ливией и сестрой Октавией.
Мятеж марсийский — восстание италиков в 90 году до н. э.
В консульство Планка! — 42 год, год битвы при Филиппах, — Горацию было двадцать три года.
Размер — IV асклепиадова строфа.
Размер — II асклепиадова строфа.
Пророк аргивский — Амфиарай, посланный подкупленной женою в гибельный поход.
Муж-македонянин — царь Филипп, отец Александра Великого, знаменитый мастер подкупа.
Морской вождь — Менодор, флотоводец Секста Помпея, несколько раз переходивший в гражданской войне от него к Октавиану и обратно.
Лестригония — Формии, винодельческий город, основанный, по преданию, Ламом, царем легендарных лестригонов.
Размер — алкеева строфа. О Ламе и Формиях см. прим. к предыдущей оде.
Размер — сапфическая строфа. Речь идет о празднике в честь Фавна, справлявшемся в селах 5 декабря («ноны декабря»).
Размер — IV асклепиадова строфа.
Пелигния — суровая область в Апеннинских горах.
Мурена. — См. прим. к оде II, 10.
Девять чаш или три с теплой смешав водой. — Древние пили вино, смешанное с водой: отношение вина к воде 9:3 считалось крепким, отношение 3:9 — слабым.
Берекинтские флейты употреблялись в экстатических обрядах культа Кибелы.
Размер — сапфическая строфа. Ода обращена к Пирру, отвлекающему прекрасного Неарха от его возлюбленной.
Нирей — красивейший из греческих героев под Троей.
…с… Иды на небо взятый… — Ганимед.
Размер — алкеева строфа.
Мой друг амфора… — Амфора с массикским вином (см. прим. к оде II, 7) была запечатана в год рождения Горация (консульство Манлия, 65 г. до н. э.).
Валерий Мессала Корвин, хозяин пира, политический деятель и оратор, покровитель искусств, бился когда-то вместе с Горацием при Филиппах.
Лиэй и Либер — имена Вакха.
Размер — сапфическая строфа.
Ликом тройная. — Диана отождествлялась с двумя другими богинями: Селеной и Гекатой.
Размер — алкеева строфа.
Алгид, Альба — здесь находились храмовые земли, где пасся скот для жертвоприношений.
Размер — IV асклепиадова строфа.
«Отец городов». — Титулы такого рода часто подносились подданными популярным правителям.
Размер — IV асклепиадова строфа.
Фракия с рекой Гебром и горой Родопом была древнейшим местом почитания Вакха (Леней в ст. 19 — одно из имен этого бога).
Наяды упоминаются как кормилицы, а потом спутницы Вакха.
Размер — алкеева строфа. Поэт посвящает Венере оружие для овладения крепостью возлюбленной.
Размер — сапфическая строфа.
Ворон считался добрым презнаменованием; вестница дождей — ворона: ее крик, как и остальные упоминаемые приметы, считался недобрым.
Гораций излагает ту версию мифа о Европе, по которой бык был не самим Юпитером, а только послан им.
Вылетевший в дверь из слоновой кости… — Через эту дверь к людям вылетали не вещие, а лживые сны («Одиссея», XIX, 562-565).
Размер — IV асклепиадова строфа.
Нептунов день справлялся 23 июля.
Бибул — консул 59 года до н. э.; этимологически это имя значит «пьяница».
Стреловержица — Диана, дочь Латоны,
Речь идет о Венере.
Размер — алкеева строфа.
Царей тирренских отпрыск! — Меценат возводил свой род к этрусским (тирренским) царям.
Чертог достигший… туч. — Дом Мецената на Эсквилинском холме был одним из самых высоких зданий Рима; оттуда были видны и Тибур и Тускул, основанный, по мифу, Телегоном, невольным убийцей своего отца Одиссея.
Андромеды… отец — Цефей и другие созвездья восходят в июле.
Бактры названы вместо парфян.
Размер — I асклепиадова строфа.
Верховный жрец и старшая весталка ежегодно совершали на Капитолии молебствие о благе Рима.
Давн — легендарный царь Апулии, родины Горация; Авфид — река в Апулии.
Песня Эолии — ритмы эолийских поэтов Алкея и Сапфо.
Размер — II асклепиадова строфа.
Размер — сапфическая строфа.
Элидские игры — олимпийские.
Диркея — источник в Фивах, на родине Пиндара.
Матин — гора в Апулии, на родине Горация.
Священный Холм в Риме, на пути триумфальных процессий; сигамбры — германское племя.
Размер — IV асклепиадова строфа.
Размер — алкеева строфа.
Молодые Нероны — пасынки Августа, Тиберий (будущий император) и Друз, победа которого над заальпийскими племенами винделиков (ст. 17) воспевается в этой оде.
Чем Рим обязан роду Неронову… — Дальним предком Тиберия и Друза был Клавдий Нерон, разбивший в 207 году до н. э. при Метавре (ст. 38) Гасдрубала, брата Ганнибала («пунийца», ст. 43).
Размер — II асклепиадова строфа. Обращена к Августу, при его поездке в Галлию в 16-13 годах.
Карпафское море — южная часть Эгейского моря.
Лары — божества домашнего очага, которым молились за едой, чтобы они хранили мир и покой в доме; при Августе пирующие рядом со своими ларами стали упоминать в молитве ларов Августа, хранящего мир и покой во всем государстве.
Размер — сапфическая строфа.
В матери чреве — слова Агамемнона в «Илиаде» (VIII, 57).
Ксанф — река в ликийских Патарах (см. прим. к оде III, 4).
Агиэй — «охранитель улиц», эпитет Аполлона.
В заключении оды Гораций обращается к хору, исполняющему его «Юбилейный гимн».
Размер — II архилохова строфа.
Размер — I асклепиадова строфа, но строфичность не соблюдена.
Скопас — скульптор, Пракситель — ваятель IV века до н. э.
Карфаген был сожжен не Сципионом Африканским Старшим (победителем Ганнибала), о котором говорится в этих стихах, а его внуком Сципионом Африканским Младшим; поэтому этот стих (как и стих 33) считается неподлинным.
Муза Калабрии — калабрийский поэт Энний, друг и певец Сципиона Старшего.
Размер — алкеева строфа. Лоллий — полководец Августа, разбитый германцами в 16 году до н. э. Гораций утешает его тем, что служба кратковременна, а добродетель вечна (ст. 39-44).
Кеосец — см. прим. к оде II, 1.
Ты чужд корысти… — Интересно, что Лоллий прославился именно корыстолюбием и впоследствии из-за этого и погиб.
Размер — V асклепиадова строфа.
Размер — сапфическая строфа. Ода является приглашением на день рождения Мецената (13 апреля).
Размер — II асклепиадова строфа. Вергилий-торговец (тезка поэта), ближе не известен.
Фракийский ветр. — Имеется в виду западный ветер Зефир; Фракия считалась родиной ветров («Илиада», XXIII, 229).
Касатка — намек на миф об афинской царевне Прокне и ее муже — фракийце Терее.
Нарда малый оникс… — Из оникса выдалбливались сосудики для нарда и других благовоний, которыми торговал Вергилий.
Размер — III асклепиадова строфа.
Размер — алкеева строфа. Воспевается победа Друза и Тиберия (старшего Нерона, ст. 16) над винделиками и их альпийскими союзниками генавнами и бревнами (ст. 11), которая была одержана в 15 году до н. э., через пятнадцать лет после взятия Александрии в войне с Антонием (30 г. до н. э.).
Размер — алкеева строфа.
Приют Квирина — храм Януса, открывавшийся во время войны и закрытый во время мира.
Анхиз и его сын от Венеры Эней считались прародителями рода Юлиев, к которому принадлежал Август.
Гимн был написан Горацием для трехдневных юбилейных празднеств 17 года до н. э., которые по указанию оракулов Сивиллы (ст. 5) справлялись в Риме каждые 110 лет (ст. 21) под наблюдением пятнадцати жрецов (ст. 70), хранивших и толковавших книги Сивиллы. Первоначально посвященные подземным богам, при Августе эти празднества были посвящены прежде всего Аполлону (он же — Солнце, ст. 9) и его сестре Диане (она же — Луна в ст. 35, Илифия — Луцина — Гениталия в ст. 14; Алгид и Авентин в ст. 69 — места ее почитания); главное жертвоприношение совершал сам Август («Анхиза, Венеры отпрыск», ст. 50). Гимн был пропет на третий день празднеств хором из двадцати семи юношей и двадцати семи девушек (распределение строф между двумя полухориями неясно) перед храмом Аполлона на Палатине (ст. 65) и потом на Капитолии. Упоминание о нем имеется в большой надписи с отчетом о празднествах, найденной при раскопках в Риме в 1890 году: «Песнь сочинил Квинт Гораций Флакк».
Написан перед актийской кампанией 31 года, в которой Октавиан с легкими либурнийскими кораблями выступал против тяжелых египетских кораблей Антония (ст. 1-2). Размер (как и в девяти последующих эподах) — чередование ямбического триметра и ямбического диметра.
Иды — середина, Календы — начало месяца — обычные сроки ростовщических операций.
Обращен к Меценату, в шутку окормившему Горация чесноком, который считался мужицкой пищей.
Цикута — яд, служивший в Афинах для смертной казни.
Канидия — отравительница, героиня 5 и 17 эподов.
Обращен к выскочке-вольноотпущеннику (по мнению античных комментаторов, к Менодору, о котором см. прим. к оде III, 16).
Плетьми… триумвирскими… — Триумвиры по уголовным делам распоряжались наказаниями провинившихся рабов.
С Отоном не считаяся… — По закону Отона первые ряды в театре отводились только для всаднического сословия.
Шайки беглых — войска Секста Помпея, с которым воевал Октавиан.
Колдуньи Канидия, Сагана, Вейя и Фолия собираются убить мальчика, чтобы из его печени и костного мозга сварить любовное зелье, которым Канидия хочет приворожить старика Вара.
Ничтожной этой оторочкой пурпурной… — Отороченную пурпуром тогу носили несовершеннолетние.
Иберия, т. е. Грузия, и Иолк упомянуты в связи с мифом о Медее.
Авернская вода. — Авернское озеро считалось входом в подземный мир.
Фессалийцы в Греции, марсы в Италии считались колдунами.
Субура — улица в Риме, где находились кабаки и публичные дома.
Эсквилин — холм, где находилось дешевое кладбище.
Зять Ликамба — Архилох, враг Бупала — Гиппонакт, самые известные из греческих ямбографов (VII-VI вв. до н. э.).
Эпод написан около 38 года, во время войны Октавиана с Секстом Помпеем.
Братоубийства день… — Преступление Ромула считалось прообразом и истоком гражданских войн в Риме.
В книге отсутствует. Взят с
У Горация есть два «непристойных» эпода, о которых известно меньше, чем об остальных пятнадцати. В этом следует «винить» переводчиков и издателей. Первые их не переводили, вторые (если первые все-таки переводили) их не публиковали. Это — эподы VIII и XII, которые последние два века выпускались даже из латинских собраний.
По многим комментариям представляется, что и переводчиков и издателей смущало не содержание текстов — в большей степени вопрос как такой кристальный возвышенный классик мог до подобного «опуститься». (Возможно, когда Квинтилиан замечал, что некоторые тексты Горация комментировать бы не хотел, то имел в виду именно два этих Эпода.) В этом отношении уместно привести известный анекдот из жизни Диогена Синопского. Однажды Диоген в ответ на упреки, что слоняется по злачным местам, отозвался: «Солнце тоже светит в помойные ямы, но от этого не оскверняется». То, каким образом Гораций обращается к подобному материалу, только подчеркивает его кристальность и возвышенность.
У Горация каждый образ имеет минимум две интерпретации: одна — персонально-инвективная, вторая социально-психологическая. (В текстах, имеющих конкретного адресата, присутствует третья — историческая в контексте современных Горацию событий.)
Начало второй части (ст. 11—14) содержит ясные намеки на происхождение и социальное положение старухи, на богатство, на количество незаконных связей, на образование и положение в «образованном» обществе.
Картинки триумфальные. Речь идет об imagines, восковых масках предков. Эти маски либо проносились на похоронах за умершим, либо надевались на лица родственниками, идущими в похоронной процессии за умершим. Чем больше было предков, тем знатнее считался род и, соответственно, умерший. (Ср. поговорку «imagines non habere», не иметь изображений предков, т.е. быть незнатного рода, простого происхождения.) У Горация эти imagines — triumphales, т.е. какие-то предки старухи были триумфаторами; это характеризует род как прославленный. Этой и дальнейшими деталями Гораций намекает на вполне определенное лицо. Для его круга приведенных намеков для идентификации адресата, очевидно, было достаточно. Античные комментаторы много спорят, кем именно могла быть старуха. Однако чтобы ее «размаскировать», об окружении молодого Горация (Эподы — его ранние произведения) нужно знать гораздо больше.
Гулять... в таких вокруг жемчужинах. Baca помимо «жемчужина» значит также «ягода», «всякий круглый плод». Смысл образа: мало какая матрона сможет похвастаться: 1) стольким жемчугом вокруг шеи (т.е. стольким богатством); 2) столькими изменами (где «ягодка» — как символ удачной любовной связи; в каком-то смысле аналог совр. русского «клубничка»).
И стоиков книжонки. Намек на образованность старухи (в большей степени, очевидно, на претензию на образованность). Греческий стоицизм (Древняя и Средняя стоя) во время Горация был очень модным; старуха, как представитель высшего класса, должна была в нем разбираться.
Иссякнет... ртом. Логическое и логичное завершение образа. Твои знатность, богатство и образованность могут быть сколько угодно высокими; однако в том положении, в которое ты себя поставила своей жизнью, от тебя более ничего не требуется и не ожидается. Заключительное замечание имеет по меньшей мере троякий смысл: 1) подлинная сущность человека не может быть скрыта никакой внешней ученостью; 2) за большие претензии необходимо уплачивать большую цену; 3) от человека всегда требуется и ожидается то, что соответствует его истинной сущности. Порфирион в комментарии к ст. 17 добавляет также: «Какой смысл тебе выставлять напоказ свою образованность, когда она не поможет тебе поддержать в эрекции мой член, который букв не знает и науками не занимается».
На победу над Антонием и Клеопатрой при Акции в 31 году.
Нептуна сын. — Так называл себя Секст Помпей, войско которого в значительной части состояло из беглых рабов.
Две тысячи тут галлов. — Малоазийские галлы изменили Антонию незадолго до битвы.
Ст. 19-20, 29-32 показывают, что во время написания стихотворения в Риме еще было неизвестным направление бегства Антония.
Мевий — бездарный поэт, критиковавший Вергилия. Стихотворение представляет собой как бы традиционное поэтическое «напутствие» (ср. оду 1, 3), вывернутое наизнанку.
Размер — чередование ямбических триметров с элегиямбами.
В книге отсутствует. Взят с
Второй эпод, XII, представляет больший интерес как собственно стихотворение, чем как возможный образец Горациевой «непристойности». Эподы являются началом поэтического эксперимента Горация по созданию латинской силлабометрики. Силлабо-метрические стихи возникли в VII—VI вв. до н.э. на о. Лесбос. Их разработали поэты, писавшие на эолийском диалекте и опиравшиеся на традицию народного песенного стиха. Гораций понимал невозможность полноценной адаптации стихотворной системы, зародившейся в недрах языка с чуждой морфонологией. Тем не менее он стремится адаптировать ее в своем языке насколько возможно.
В оде III XXX Гораций подчеркивает, что своей главной заслугой считает адаптацию эолийской силлабометрики в латинской поэзии. Гордость Горация легко понять представляя, насколько сложно это было сделать — в частности с таким непревзойденным метрическим мастерством, которым отличается силлабометрика Горация. Эолийские лирики (Алкей и Сапфо) являлись для Горация неизменным содержательным и техническим образцом. И («увы!» — как постоянно подчеркивает поэт) недостижимым идеалом. Как представляется, уже в «Эподах», на раннем этапе эксперимента, поэт столкнулся с серьезными ограничениями. Эти ограничения накладывает морфонология латинского языка на применение такой системы стихосложения.
Гораций (который знал греческий так хорошо, что писал на нем стихи) ставит родную латынь в самое невыгодное положение. По текстам Горация разбросаны референции на превосходство греческого языка как языка поэзии над латинским. (Превознесение греческих поэтов над латинскими у Горация явно и программно). По его мнению (с которым, очевидно, сегодня следует согласиться) латынь непригодна для полноценной, «настоящей» поэзии. В ней нет для этого средств naturā — по природе. Подобные референции, как правило, проводятся посредством сравнения двух образов, один из которых представляет поэзию греческую, другой — латинскую. Сравнение, разумеется, всегда в уничтожающую пользу первого.
Эпод XII, единственный в сборнике, написан не ямбическим, но дактилическим размером — Алкмановой строфой. Тем самым отступает от формы традиционной Архилоховой ямбической инвективы. Этот факт и собственно образное содержание ставят Эпод в ряд программных аллегорий. Это аллегории, которыми Гораций выражает убеждение о непригодности латинского языка для «настоящей» поэзии — обреченности его на бесперспективное подражание высоким греческим образцам.
В Эподе речь идет о некой старухе, которая преследует молодого поэта любовными посланиями, укоряет в бессилии и упрекает за холодность. При этом укоряет одним из своих любовников-греков, намного превосходящим поэта в мужской силе. Образ старухи интерпретируется как образ латинского языка, в отношении которого Гораций не испытывает «возбуждения» и от которого бежит прочь. (Воплощение языка в старухе очень образно, т.к. в латинском слово «язык» — женского рода, lingua). Он не в состоянии создать подлинный поэтический образ его средствами.
Образ Инахии, с которой у поэта «все получается», интерпретируется как образ греческого языка. (Инахия, девушка с греческим именем, — возможно та самая, о которой идет речь в Эподе XI, 6.) По мнению поэта это единственный язык, способный быть подлинным поэтическим инструментом. Образ любовника-грека, без затруднений овладевающего старухой, — как образ греческого поэта; в сравнении с ним поэт-латинянин (автор) терпит безнадежное поражение. Гораций рисует картину поэтической беспомощности своего языка; при этом он отмечает, что эта беспомощность исходит из его природных свойств, которые преодолеть невозможно.
В начале с грубой откровенностью (в которой читается отвращение к самому себе) перечисляются физиологические подробности встреч (4—13). Затем следует отчаянный монолог старухи, бессильной привлечь к себе молодого поэта (14—26). В заключительных строках (20—24) утверждается, что никакой «заморский пурпур» не в состоянии снабдить латинского поэта инструментами подлинной поэтической красоты (какой ее понимает Гораций).
Я не мальчишка крутой. Акрон: «Потому что мальчики часто сходятся с отвратительными старухами, когда пыл молодости становится непереносим».
Πολύπους — кожное заболевание, мокнущая опухоль (откуда второе значение слова — мокрица).
Белая глина. Creta. Мел; обработанная белая глина. Использовалась для изготовления косметических белил. Аналог современной пудры; описывается «текущая пудра».
Крокодиловым калом. Stercus crocodili. Мазь из крокодилового кала использовалась для изготовления косметических белил.
Ἰνᾰχίη, см. «Эподы» XI, 6.
Кос — остров в Эгейском море, у побережья Карии. С островом ассоциируются два знаменитейших произведения искусства древнего мира: 1) Афродита Косская (статуя Праксителя); 2) Венера Косская (картина Апеллеса, изображавшая Венеру, выходящую из морской воды). Эпитет «косский», «с Коса» значит «самый греческий, самый по-гречески лучший».
Ἀμύντας, распространенное греческое имя, у сведущего человека вызывающее героические ассоциации (так звали несколько греческих царей и полководцев).
Покрашена в тирийский пурпур // дважды. Пурпурная шерстяная ткань, «одежда царей и полководцев», ценившаяся очень дорого. Настоящий тирийский пурпур не давал такой сочности цвета и не держался так долго, как его более дешевые минеральные аналоги. Поэтому ткань самых дорогих и ценных одежд окрашивалась дважды и трижды, что соответственно сказывалось на цене и престиже.
Будто избранник тебя превосходней. Аллюзия на сколии, «разодетые» неподражаемые застольные песни Алкея, которым тем не менее Гораций в одах пытается подражать.
Размер — чередование гексаметра с ямбэлегическими стихами.
Манлий Торкват — консул 65 года, года рождения Горация.
Киллена — гора, где Меркурий, по мифу, изобрел лиру.
Кентавр — Хирон, воспитатель Ахилла.
Размер — чередование гексаметров с ямбическими диметрами.
В стихах необработанных. — Необработанными названы стихи Анакреонта с точки зрения позднейших, александрийских требований к поэзии.
Размер тот же.
…Пифагора воскресшего. — См. прим. к оде I, 28.
Размер — чередование гексаметров с ямбическими триметрами.
Два поколенья — со времени войн Мария и Суллы.
Перечисляются (в последовательности удаления от Рима) войны римлян с италиками (90 г.), этрусками (V в. до н. э), Капуей (III в. до н. э), Спартаком (73-71 гг.), галлами-аллоброгами (63 г.), кимврами (101 г.), Карфагеном (III в. до н. э.).
Варвар. — Имеются в виду конники-парфяне.
Кости Квирина… — Гробница Ромула-Квирина находилась на форуме.
Фокейцы… город… кинули… — Жители малоазийской Фокеи покинули родину в 534 году до н. э., чтобы не стать рабами персов.
Над — река По.
…землю блаженных… — Острова блаженных в представлении древних лежали далеко на Западе, в Атлантическом океане; к ним даже предпринимались экспедиции.
Начало эпода — воззвание Горация, далее (со ст. 53) ответ Канидии. Размер — ямбические триметры.
Нереев внук — Ахилл, ранивший Телефа, а потом исцеливший его ржавчиной своего копья.
Сабеллы, марсы, как и пелигны (ст. 60) — апеннинские племена, считавшиеся колдунами.
Имеется в виду легенда о том, как поэт Стесихор нелестно отозвался о Елене в своих стихах; Диоскуры наказали его слепотой, но когда он написал палинодию (см. прим. к оде I, 16), вернули ему зрение.
Эсквилинский чародей… — Эсквилинское кладбище как место колдовства Канидии изображено и в сатире I, 8.
О скупости и алчности. Мотив этой сатиры (ст. 24) «С улыбкою истину молвить…» повторен Державиным в его известном переложении Горациева «Памятника».
Водолей — созвездие, в котором Солнце находится с середины января.
Асс — мелкая медная монета, около двух копеек на наши деньги.
Невий, Номентан. — Скряга Невий и мот Номентан, не раз упоминаемые и в следующих сатирах, сравниваются с кастратом Тапаисом и страдавшим грыжею тестем оратора Визеллия (105 ст.).
О разврате. Считается самым ранним дошедшим до нас произведением Горация. Ст. 28-134 — в переводе Н. С. Гинцбурга.
Тигеллий-певец. — Хлебосол Тигеллий из Сардинии был модным певцом, которому покровительствовали Юлий Цезарь и Клеопатра, а потом Октавиан.
…пять процентов на месяц… — т. е. впятеро против обычного.
Вирильная тога — знак совершеннолетия: белая одежда, вместо окаймленной красным отроческой одежды.
…у Теренция… — Имеется в виду комедия «Самоистязатель».
Стола — длинная одежда замужних женщин.
Гальба — имя многих известных знатоков-правоведов.
Саллюстий — будущий адресат оды II, 2.
Вилий Аннал был мужем Фавсты, дочери Суллы, а Лонгарен — ее любовником: комическая перемена ролей.
Линкей — самый зоркий из участников похода аргонавтов.
парафраз стихов из эпиграммы Каллимаха («Палатинская антология», XII, 102).
Ромб — камбала.
Филодем — эпикурейский философ и поэт-эпиграмматист, старший современник Горация; его эпиграмма, которая здесь имеется в виду, не сохранилась.
За ноги эта страшась… — Переламывание ног — наказание рабов.
Цезарь — Октавиан, отец его (приемный) — Гай Юлий Цезарь.
…с яиц и до яблок — т. е. от начала до конца обеда.
Тетрархи, «четверовластники» — правители некоторых областей на эллинистическом Востоке.
…змей эпидаврский… — Змеи были священными животными бога врачевания Эскулапа, главное святилище которого находилось в Эпидавре.
Сизиф — карлик Марка Антония.
…должник убегает Рузона. — Ростовщик Октавий Рузон, по свидетельству древних комментаторов, был историком-любителем.
Длинное отступление о происхождении справедливости из пользы выдержано в духе философии эпикуреизма.
Тигеллий Гермоген — плохой певец, быть может, вольноотпущенник Тигеллия Сардинского (сат. I, 2).
Квадрант — мелкая медная монета, четверть асса.
О сатирической поэзии.
Древняя комедия — аттическая комедия V века до н. э.
Луцилий — римский поэт II века до н. э., первый начавший писать сатиры гексаметром; Гораций во многом ему подражал в своих сатирах.
Речь идет о книжных лавках, где выставлялись книги с портретами авторов, и о публичных декламациях, модных в ту пору в Риме.
Сено… на рогах. — Сено на рога привязывали бодливым быкам.
Цитата из «Летописи» Энния, национального римского эпоса.
На каждом четыре гостя. — В хорошем обществе на ложе за столом возлежали только по трое.
цитата из сатиры I, 2, 27.
Петиллий — чиновник, назначенный блюстителем Капитолийского храма и уличенный в краже храмового золота незадолго до написания 4 сатиры.
Описание поездки Горация в свите Мецената в Брундизий в 37 году до н. э., по Аппиевой дороге из Рима. Спутниками его были юрист Кокцей Нерва (легат Марка Антония), Фонтей, поэты Вергилий, Варий и их друг Тукка. Перечисляются все места, которые миновали путники за пятнадцать дней пути.
Четвертый час — от рассвета, т. е. около 9-10 часов утра.
Скриб — писец: Горации осмеивает тщеславную пышность чиновника из маленького городка.
В состязании шутов (характерно прозвище Мессия «Кикирр», означающее «петух») Сармент попрекает Мессия уродством, делающим его похожим на циклопа Полифема, Мессий Сармента — рабским положением: старый хозяин Сармента был казнен во время проскрипций, а новый хозяин отпустил его на волю, но вдова старого хозяина была еще жива.
Диомед — герой Троянской войны, по преданию, изгнанный из Аргоса в Италию, где ему приписывалось основание многих городов.
Нету дела богам до людей… — «Боги не заботятся о земных делах» — основное положение эпикуреизма.
О богатстве и знатности.
…этрусков, лидийских потомков… — Меценат был из Этрусского рода, а этруски считались потомками малоазийских лидийцев.
Туллий — Сервий Туллий, сын рабыни, ставший шестым римским царем.
Левин — был потомком Валерия Попликолы, одного из первых римских консулов после свержения царей, но сам был настолько ничтожен, что даже в Риме, преклоняющемся перед знатью, не смог сделать политической карьеры.
Тиллий — изгнанный Юлием Цезарем из сената, после его гибели вновь начал политическую карьеру: пурпурная полоса на тоге была знаком сенаторского достоинства.
Сенатор, сын вольноотпущенника, оправдывается тем, что другой сенатор — сам вольноотпущенник.
Сатурий — местность близ Тарента, среди поместий римской знати.
Центурионы — отставные унтер-офицеры римского войска, составляли «высшее общество» в городках, вроде Горациевой Венузии.
Ликторов связки и кресла курульные — знаки достоинства высших должностных лиц.
Марсий — статуя сатира на римском форуме.
Описание тяжбы, свидетелем которой Гораций был в 43 году до н. э. на службе у Брута в Малой Азии; Марк Брут был убийцей Юлия Цезаря, его предок Луций Брут Старший, по преданию, в VI веке до н. э. изгнал царей из Рима; отсюда — шутка Персия (ст. 32). Двое сутяг комически сравниваются то с гладиаторами Бифом и Бакхием, то с героями «Илиады» Ахиллом и Гектором (песнь 22), Диомедом и Главком (песнь 6).
Пренестинец — уроженец Пренесте, — города в Лации.
Описание колдовства Канидии (см. эподы 5 и 17) от лица деревянной статуи бога Приапа на Эсквилинском кладбище.
Разговор с болтуном, пытающимся втереться в доверие к Меценату.
Священная дорога — центральная улица в Риме.
Храм Весты — на Священной улице располагался недалеко от форума, где заседал суд (ст. 36).
Тридцатая суббота. — По толкованию античных комментаторов, суббота, совпадающая с новолунием; однако, несмотря на это объяснение, смысл слов Фуска не вполне ясен.
Я скорей протянул уже ухо. — Прикосновение к уху было знаком приглашения в свидетели на суд.
О сатирической поэзии. Первые восемь стихов обращены против Валерия Катона (поэта и грамматика, друга Катулла), готовившего новое издание сатир Луцилия, и другого, безымянного грамматика (Орбилия?); эти стихи сохранились лишь в некоторых рукописях и, по-видимому, представляют собой остаток более ранней редакции. В сатире упоминаются поэты старшего поколения, сверстники знаменитого лирика Катулла — Лициний Кальв (ст. 19), Варрон Атацинский (ст. 47), Кассий Этрусский (ст. 61), Фурий Альпин (ст. 36; может быть, условное имя поэта Фурия Бибакула, см. сатиру II, 5, 41), с которыми, вероятно, был близок враг Горация — певец Тигеллий Гермоген (ст. 18, 80; в ст. 91 речь идет о мимических актрисах, котррых он учил пению) со своими приятелями, перечисленными в ст. 78-80. Им противопоставляются (ст. 40-49) поэты кружка Мецената — комедиограф Фунданий, трагик (потом историк, см. оду II, 1) Азиний Поллион, эпик (потом трагик) Барий, идиллик (потом эпик) Вергилий, а в ст. 81-87 — их друзья и покровители из высшего общества. Меций Тарпа (ст. 38) был, по-видимому, председателем «коллегии поэтов», собиравшейся в III веке до н. э. в храме Муз.
Да, я, конечно, сказал… — в сатире I, 4.
Мим — низший, площадной жанр комедии; мимический поэт Лаберий был известен враждой с Юлием Цезарем.
Пифолеонт Родосец — греческий поэт, чьи двуязычные эпиграммы (между прочим, на Юлия Цезаря) не сохранились.
Канузий — римская колония на юге Италии (близ родных мест Горация), где было много и греческих поселенцев.
Стиль — палочка, острым концом которой писали по воску, а тупым концом стирали написанное: «поворачивай стиль» значит «исправляй написанное».
О сатирической поэзии: разговор с Требатием Тестой, известным юристом, сторонником Октавиана (Цезаря, ст. 11) и, по свидетельству Цицерона, любителем плавания (ст. 9).
Ст. 22 повторяет ст. 1, 8, 11.
Луканец, апулиец, венузиец. — Венузия — родина Горация, лежит в Апулии, но недалеко от соседней области — Лукании.
Герой, получивший прозвание от стен Карфагена — Сципион Африканский Младший, завоеватель Карфагена, и его друг Лелий Мудрый были покровителями Луцилия.
Метелл, Луп. — Квинт Метелл, завоеватель Македонии, и Корнелий Луп, консул 156 года до н. э. были противниками Луцилия.
…песню дурную. — Под «дурной песней» древнейшие римские законы разумели колдовские заговоры и заклинания, но современники Горация этого уже не понимали.
Об умеренности.
Павлин считался роскошным кушаньем еще в середине I века до н. э.
…где поймана эта вот щука… — Морская щука (ст. 32) ценилась лишь, когда бывала поймана в реке, и чем выше по течению, тем дороже.
Мулл, или краснобородка, крупных размеров редок, и потому за него платили бешеные деньги.
Австр! Налети! — От горячего Австра — сирокко быстро портилось мясо; впрочем, и это считалось деликатесом (ст. 89).
Осетры были модным кушаньем во II веке до н. э. (Галлоний упоминается в сатирах Луцилия), но затем их вытеснил ромб.
Офелл — При конфискации земель в 41 году до н. э. (когда сам Гораций лишился имущества) Офелл оказался арендатором собственной земли, отобранной у него и доставшейся ветерану Умбрену.
О людском безумии. Этот парадокс — «все люди безумны, один мудрец разумен» — развивает перед Горацием Дамасипп, пересказывая ему свою беседу с уличным философом-стоиком Стертинием и последовательно рассматривая четыре вида безумия: скупость (ст. 82-157), тщеславие (ст. 158-223), роскошь (ст. 224-280), суеверие (ст. 281-295).
Сатурналии. — См. прим. к сатире II, 7.
Евполид, Платон (не путать с философом!) и Менандр — комедиографы, представляющие здесь последовательно «древнюю» (V в. до н. э.)» «среднюю» и «новую» (IV в. до н. э.) аттическую комедию.
Да пошлют тебе боги… брадобрея! — Борода — непременный признак бродячего философа.
Хрисипп — классик стоической философии (III в. до н. э.).
Фуфий — актер; в трагедии Пакувия «Илиона», играя роль спящей Илионы, которой является тень ее сына Деипила, он и вправду заснул на сцене.
…поможет ли им и вся Антикира! — В Антикире росло много чемерицы, которой лечили душевнобольных.
Аристипп. — См. прим. к посланию I, 17.
Горох, бобы, лупин — дешевое угощение, которым кандидаты на должность подкупали выборщиков.
Тускская улица близ форума — торговый центр Рима.
Эзоп — знаменитый трагический актер первой половины I века до н. э.
Полемон, в молодости пришедший прямо с пира в ученики к философу Ксенократу (начало III в. до н. э.), сам стал потом знаменитым философом-академиком.
пересказ первой сцены из «Евнуха» Теренция.
Менений — известный в свое время римский юродивый.
Турбон — гладиатор.
О застольной роскоши: предписания эпикурейца Катия относительно закуски (ст. 12-34), главных блюд (ст. 35-46), десерта с выпивкой (ст. 51-75) и внешней сервировки (ст. 76-87).
Анитова жертва — Сократ, обвинителем которого в суде был кожевник Анит.
…латук… Плавает сверху… — вместо того, чтобы впитываться в желудок.
О погоне за наследством: диалог Улисса-Одиссея с тенью прорицателя Тиресия перед возвратом на Итаку (ср. «Одиссея», кн. XI).
Лары — боги домашнего очага, получали в жертву початки всякого урожая.
Фурий — поэт Фурий Бибакул; Гораций пародирует его стихи о переходе Цезаря через Альпы.
В строчке второй… — В завещании в первой строке писалось имя завещателя, во второй — имя наследника.
Юный герой — Октавиан.
О сельской жизни. Начальные слова ст. 60 — О rus (quando ego te aspiciam…) — Пушкин взял эпиграфом ко II главе «Евгения Онегина».
Алкид — Геркулес, бог-покровитель тружеников.
Либитина — богиня похорон.
Колодец Либона — место судебных заседаний на форуме.
Скрибы — писцы казначейства, сослуживцы Горация.
…осьмой уже год… — Гораций познакомился с Меценатом в конце 38 года до н. э. (см. сатиру I, 6), а настоящая сатира написана в конце 31 года, когда после победы над Антонием Октавиан готовился к войне с его союзниками даками (ст. 53) и награждал своих воинов земельными наделами (ст. 55).
Боб, Пифагору родной… — Пифагор запрещал своим ученикам есть бобы.
О рабстве людей перед пороками. Этот стоический парадокс — «все люди рабы, один мудрец свободен» — развивает перед Горацием его раб Дав, пользуясь традиционной вольностью декабрьского праздника сатурналий (ст. 5), когда рабы и господа словно менялись местами; и как в сатире 3 Дамасипп перенял свои мысли у философа Стертиния, так здесь раб Дав — у раба-привратника философа Криспина (ст. 45).
Вертумн — бог превращений и времен года.
«На смерть от огня…» — формула присяги наемных гладиаторов.
…претор ударом… неволи не снимет… — Удары преторского жезла — один из актов при отпущении раба на волю.
Раб, подвластный рабу… — Раб, накопивший денег, мог нанимать себе рабов-заместителей, исполнявших его работы.
Павсий — греческий художник IV века до н. э., товарищ Апеллеса. Уличные рисунки с изображениями модных гладиаторов, вроде Рутубы и других (ст. 98), сохранились в Помпеях.
…попадешь ты девятым в сабинское поле! — Удаление городского раба в сабинское поместье (где у Горация было занято восемь рабов) было тяжелым наказанием.
О застольной безвкусице. На пиру обычно гости располагались вокруг стола по трое на трех ложах (ст. 20-23), причем хозяин лежал на нижнем, а почетный гость (здесь — Меценат) — на среднем.
Гидаспец — раб из Индии; Гидасп — приток Инда.
…хиосским… чистым от влаги морской. — Хиосское вино было в обычае смешивать с морской водой — Насидиен же поступает наоборот.
Мурена — лакомая рыба, вроде исполинского угря.
…голубей без задков… — Еще одна нелепость: у диких голубей самыми вкусными считались задки.
К МЕЦЕНАТУ. О важности философских занятий.
Мечом деревянным // Я награжден. — Деревянным мечом награждались уходящие на покой гладиаторы, вроде Вейяния.
Ст. 55 повторяет ст. 74 из сатиры I, 6.
Четыреста тысяч сестерциев — всаднический ценз.
Закон Росция Отона выделял всадникам первые ряды в театре (ст. 66).
Теан — город в Кампании, в стороне от моря.
Попечитель назначался претором к душевнобольным.
К ЛОЛЛИЮ. О Гомере как наставнике в философии (тема, излюбленная философами-стоиками). Адресат послания — родственник (может быть, сын) полководца, адресата оды IV, 9.
Хрисипп, Крантор — философы III века до н. э., первый — стоической, второй — академической школы.
пересказ начальных стихов «Одиссеи».
Сицилийские тираны — Фаларид (VI в.), Дионисий (IV в.) и другие славились своей жестокостью.
К ФЛОРУ, молодому поэту, сопровождавшему в 21 году до н. э. Тиберия, пасынка Августа и будущего императора, в его походе на Восток.
Пролив — Геллеспонт.
Когорта ученых — группа писателей-дилетантов из знатной молодежи, сопровождавшей Тиберия; к ней принадлежали упоминаемые далее Титий, Цельс и другие.
…испил из источника Пиндара… — О подражании Пиндару (ср. «фиванские лады» в ст. 13) ср. оду IV, 2.
Аполлон Палатинский в хранилище принял… — В храме Аполлона Палатинского Августом была открыта публичная библиотека.
К АЛЬБИЮ ТИБУЛЛУ, известному поэту элегику, жившему на вилле в Педе (ст. 2) близ Тибура.
Кассий Пармский — поэт, погибший в гражданской войне; его сочинения нам не известны.
…Эпикурова стада // Я поросенок… — Сравнение эпикурейцев со свиньями было таким же ходячим, как сравнение киников с собаками.
К МАНЛИЮ ТОРКВАТУ, адресату оды IV, 7. Приглашение на день рождения Августа (23 сентября).
Вина, предлагаемые Горацием, — не старые (консульство Тавра — 26 г. до н. э., за шесть лет до выхода «Посланий») и не из лучших мест Италии.
Брось даже Мосха процесс… — Торкват выступал защитником в громком процессе ритора Мосха, обвиненного в отравлении.
К НУМИЦИЮ. О принципе «ничему не удивляться».
Дорога Аппия, колоннада Агриппы — модные места прогулок.
Нума и Анк — ср. оду IV, 7, 15.
Каппадоки — небольшой народ в Малой Азии.
Лукулл — полководец I века до н. э., славившийся богатством и роскошью (лукулловы пиры).
Триба — избирательный округ в Риме.
Мимнерм — греческий поэт-элегик VI века до н. э.
К МЕЦЕНАТУ, в ответ на приглашение в Рим в нездоровую пору позднего лета (ст. 6-9).
Лисичка, питающаяся зерном — неудачная контаминация мотивов Эзоповых басен.
пересказ «Одиссеи», IV, 601 и след.
Стойкий Филипп — Марций Филипп — консул 91 года до н. э.; Варрон упоминает его как гастронома рядом с Лукуллом.
Карины — аристократическая улица на Эсквилине.
К ЦЕЛЬСУ АЛЬБИНОВАНУ, спутнику Тиберия (Нерон — одно из имен Тиберия), упоминаемому в послании I, 3.
К ТИБЕРИЮ КЛАВДИЮ НЕРОНУ, во время того же похода. Рекомендуемый Горацием Септимий ближе неизвестен.
К АРИСТИЮ ФУСКУ, адресату оды I, 22. Похвала деревне и простой жизни.
Сдобные хлебы получали жрецы для жертвоприношений богам и закармливали ими своих рабов.
Ливийские камушки — мозаика.
Вакуна — малоизвестная сабинская богиня.
К БУЛЛАТИЮ, ездившему по греческим островам и городам у берегов Малой Азии.
Лебед — по-видимому, был известен Горацию со времен походов Брута; он сравнивается с глухими городишками неподалеку от Рима (ст. 7, 8, 30).
К ИКЦИЮ (адресату оды I, 29), управляющему сицилийскими имениями Агриппы, стоику.
Демокрит, Эмпедокл — греческие философы V века до н. э.
Помпей Гросф — сицилийский помещик (см. оду II, 16).
Перечисляемые события — усмирение восстания кантабров, римский протекторат над Арменией и (номинально) над Парфией — относятся к 20 году до н. э.
К ВИНИЮ АЗИНЕ (имя это буквально значит «ослица» — ст. 8), везущему в Рим к Августу три книги «Од» Горация.
Пиррия — персонаж неизвестной комедии.
К СТАРОСТЕ сабинского имения. О жизни в деревне и в Риме.
Пять хозяев — арендаторы, обрабатывавшие часть Горациева имения.
К НУМОНИЮ ВАЛЕ: расспросы, где лучше провести зиму у моря (ср. послание 1, 7, 10-12).
Антоний Муза — современный врач, введший в моду лечение холодными купаньями; мода эта, конечно, была невыгодна для Байского курорта с его горячими источниками (ст. 5-7); дорога Горация в Велию и Салерн лежала налево от них (ст. 11-12).
Мот Мений и судья Бестий — персонажи сатир Луцилия.
К КВИНТИЮ. О мнимом и истинном благе.
цитата из панегирика Августу, написанного Варием, другом Горация.
Лаверна — богиня, покровительница воров.
парафраза реплик из трагедии Еврипида «Вакханки».
К СЦЕВЕ. Об обращении со знатными покровителями.
Ферентин — городок в Лации.
Ст. 13-15 передают диалог между философами IV века — гедонистом Аристиппом (ему и сочувствует поэт) и киником Диогеном.
Двойной плащ — одежда киников.
Достигнуть Коринфа — греческая пословица.
К ЛОЛЛИЮ, адресату послания 1, 2. Об обращении со знатными покровителями.
Кастор и Долих — актеры или гладиаторы.
Евтрапел — ростовщик в Риме времен молодости Горация.
Этолийские сети. — Сети названы этолийскими в память о калидонской охоте Мелеагра.
Тот был вождем… — Имеется в виду Август.
Феон — известный клеветник.
Дигенция — ручей, протекавший через поместье Горация и деревню Манделу (ст. 105).
К МЕЦЕНАТУ. О поэтах-подражателях.
цитата из несохранившегося стихотворения.
Тимаген — греческий ритор, живший в Риме; Иарбит ближе не известен.
Ликамб — по преданию, обманул Архилоха (уроженца Пароса, ст. 23), обещав выдать за него дочь, а тот отомстил язвительными стихами, доведя обоих до самоубийства.
Юпитер. — Имеется в виду Август.
К СВОЕЙ КНИГЕ.
Утика и Илерда — города в Африке и Испании, наиболее романизованных римских провинциях.
В год, когда Лоллий себе в товарищи Лепида выбрал. — Консульство Лоллия и Лепида — 21 год до н. э.
К АВГУСТУ. О старой и новой поэзии. Написано по настоянию самого Августа, обиженного тем, что в первой книге не было ни одного обращения к нему.
Десять мужей — децемвиры, авторы законов XII таблиц (V в. до н. э.).
Альбанская гора в Лации противополагается здесь Парнасу и Геликону.
Перечисляются виднейшие римские поэты III-II веков до н. э. — эпики Энний и Невий (которого Энний тщетно надеялся затмить), трагики Пакувий и Акций, авторы комедий из римской жизни Афраний и Атта (ст. 79), авторы комедий из греческой жизни Плавт, Цецилий, Теренций и их греческие образцы — комики Эпихарм (V в. до н. э.) и Менандр (IV в. до н. э.).
Ливий Андроник — первый римский поэт (середина III в. до н. э.)
Эзоп — трагический, а Росций — комический актер первой половины I века до н. э.
Песнь Салиев — религиозный гимн, написанный на устарелом до непонятности языке.
Кончивши войны… — Имеется в виду расцвет греческой культуры V века до н. э. после греко-персидских войн.
Стихов никаких не пишу я. — Имеется в виду отречение Горация от поэзии в посланиях I, 1 или II, 2.
Абротон — чемерица, которой лечили душевнобольных.
Фесценнины — обрядовая перебранка, одна из форм латинской народной поэзии.
Сатурнийский стих — тяжеловесный стих, которым пользовались в Риме до усвоения греческих размеров.
Доссен — маска злодея в примитивной италийской комедии («ателлане»).
…награды лишен… — Получать плату за литературную работу (как делали драматурги) считалось унизительным.
…помесь пантеры с верблюдом… — так в Риме называли жирафа.
Херил — греческий поэт, бездарность которого стала нарицательной.
…он из… Беотии родом. — Жители Беотии считались тупицами.
Вылит из воска… — Бюсты поэтов из воска украшали книжные лавки в Риме.
К ФЛОРУ, адресату послания I, 3. Об отказе от поэзии.
Лукулл воевал в Малой Азии в 70-60-х годах до н. э.
пересказ начала «Илиады», первого школьного чтения.
…среди рощ Академа… — В роще Академа собирались философы платоновской школы («академики»).
Бион — философ-киник III века до н. э., автор едких проповедей-диатриб.
Гай Гракх и Муций Сцевола — крупнейший оратор и крупнейший юрист II века до н. э.
Храм… поэтов — храм Аполлона Палатинского (см. прим. к посланию I, 3).
Каллимах — александрийский ученый-поэт III века до н. э.; на прозвище «римского Каллимаха» притязал современник Горация, элегик Проперций.
…в капище Весты. — В древнем культе Весты сохранялась архаическая жреческая терминология.
Тирренские куклы — этрусские металлические статуэтки, ценившиеся коллекционерами.
Пятидневка Минервы — весенний школьный праздник.
Послание обращено к Луцию Кальпурнию Пизону, другу Тиберия, и его двум сыновьям. Название «Наука поэзии» принадлежит позднейшим грамматикам. Это — самое большое и сложно построенное произведение Горация. Лишь с некоторой условностью можно выделить в нем три части: «о поэзии» (ст. 1-152), «о драме» (ст. 153-294), «о поэте» (ст. 295-476).
Намек на анекдот о живописце, умевшем писать только кипарисы — деревья, посвященные мертвым; когда кто-то, спасшись от кораблекрушения, попросил его изобразить это спасение на картине, художник спросил, не написать ли тут же и кипарис.
Эмильева школа — гладиаторская школа в Риме.
Цетег — консул 204 года до н. э.; Цицерон считал его первым римским оратором.
Перечисляются мелиоративные мероприятия, осуществленные Августом в Италии.
Дал нам Гомер образец… — Размер Гомера — гексаметр.
В строчках неравной длины… — в элегических двустишиях (ст. 77), сочетающих длинный гексаметр с более коротким пентаметром.
Котурн — высокая обувь трагических актеров, сокк — плоская обувь комических.
Хремет — персонаж комедий, так же как далее — Пифия и Симон (ст. 237-238).
Телеф и Пелей — трогательные образы царей в несчастье.
Киклический автор. — Киклическими назывались поэмы продолжателей Гомера, старавшихся охватить как можно более широкий круг («кикл») мифологических событий.
сокращенный перевод первых стихов «Одиссеи».
«Хлопайте!» — возглас, которым обычно кончались латинские комедии.
В рассказе «вестников» излагались обычно убийства, чудеса и прочие «несценические» эпизоды.
Бог… для развязки… — известный прием «deus ex machina».
И в разговоре троим обойтись без четвертого можно. — Правило о трех собеседниках объясняется тем, что в аттической трагедии могли играть только три актера.
Флейта — точнее, дудка — сопровождала песни хора.
Здесь описывается (с большими неточностями) развитие драматических представлений в Греции в VI-V веках до н. э.
…за козла состязаясь… — народная этимология слова «трагедия» (буквально: «козлиная песнь»).
Сатиры составляли хор в так называемой сатировской драме, появившейся в V веке; Гораций предлагает ввести этот жанр и в латинскую драму, заменив сатиров фавнами (ст. 244).
Ямбический триметр состоял из шести ямбических стоп, расчлененных на три «двустопия» — отсюда название.
Спондей — стопа из двух долгих слогов; ее употребление в ямбе определялось особыми правилами (ст. 258), которых Энний, Акций и Плавт не соблюдали.
Претексты и тогаты — трагедии и комедии из римской жизни.
Вы, о Помпилия кровь… — Царь Нума Помпилий считался предком рода Пизонов.
Кедровым маслом натирались и в кипарисных ларцах хранились дорогие книги.
Ламия — чудовище-людоед в италийских народных комедиях («ателланах»).
Сардинский мед отличался горьким привкусом.
Меций. — О Меции Тарпе см. прим. к сатире 1, 10.
Квинтилий Вар — критик, на смерть которого написана ода I, 24.
Молнии ль место попрал… — Место удара молнии считалось священным.

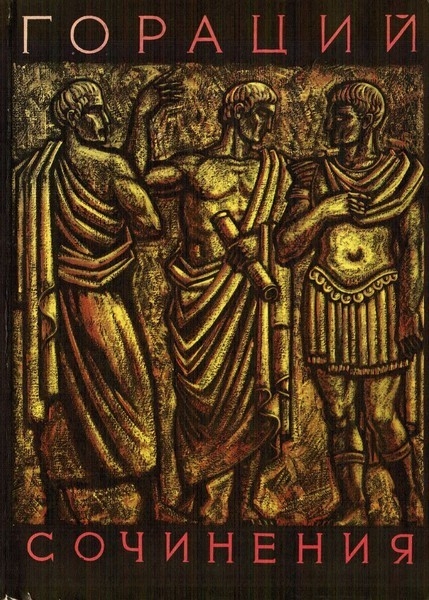

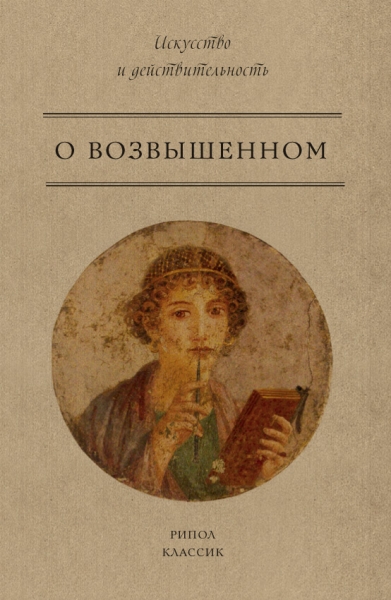
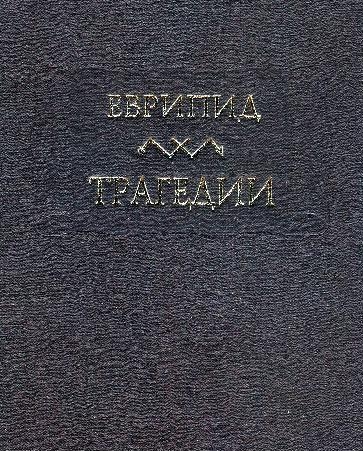
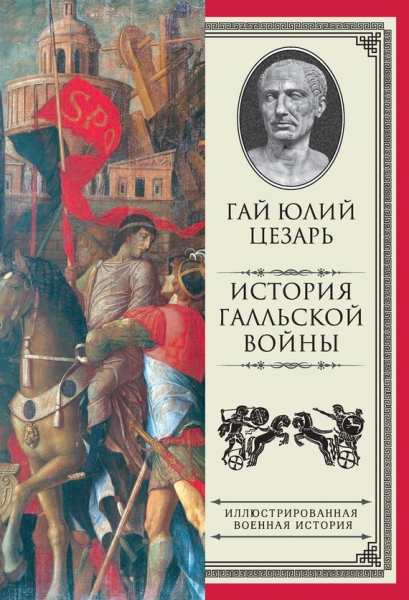
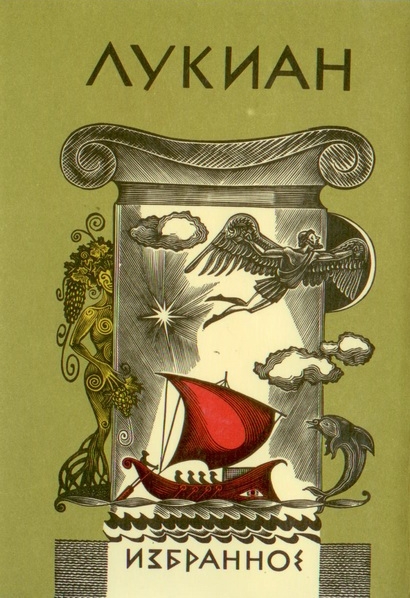
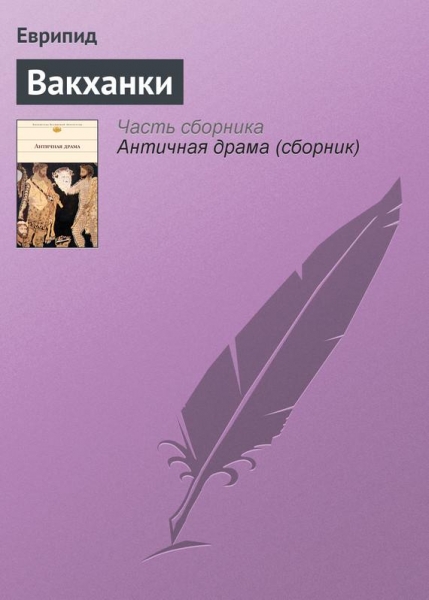
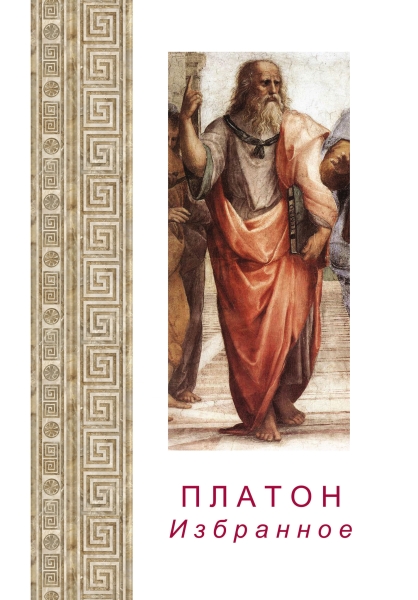
Комментарии к книге «Сочинения», Квинт Гораций Флакк
Всего 0 комментариев